Михаил Щукин Покров заступницы
© Щукин М.Н., 2014
© ООО «Издательство «Вече», 2014
Покров заступницы
Глава первая
1
Стоял он у порога, привалившись плечом к косяку, и красовался. Новенький полушубок – нараспашку, а под ним – алая, как молодая кровь, рубаха, перехваченная тонким наборным пояском зеленого цвета. Конец этого пояска держал в правой руке, игрался с ним, покручивая то в одну, то в другую сторону, и большие, карие глаза смотрели прямо и безбоязненно. Из-под шапки, лихо сдвинутой на затылок, вывалился на волю завитый в колечки чернявый чуб, а на губах, ярких и пухлых, как у девки, лениво шевелилась наглая усмешка, которая больше всего и взбеленила парней.
Да и как им было не взбелениться…
Пришли на вечерку, чин чинарем, частушки под гармошку пели, девок на колени к себе усаживали, угощая их семечками и пряниками, кто половчее и кто подальше от керосиновой лампы сидел, тот и руки успевал совать своим зазнобам в разные места, куда не следует, и царило в просторной избе безудержное веселье – широкие крашеные половицы только покряхтывали, когда топтали их в пляске проворные молодые ноги.
И вдруг – полюбуйтесь на меня!
В самый разгар вечерки настежь распахивается дверь и появляется на пороге красавчик, симпатичное личико у которого давно уже по крепкому кулаку скучает. Давно… Предупреждали парни Гриню Черепанова, по-хорошему говорили ему: не шастай к нам, на Пашенный выселок, в своей деревне веселись, в Покровке, там и подружку себе высматривай – нет, не слушается. Прищурит упрямые глаза, скривит губы, будто незрелой калины откушал, и опять на вечерку заявится. А в этот раз, в сегодняшний вечер, и вовсе края потерял, окончательно на чужие угодья перелез. Прихлопнул за собой дверь, постоял молчком, дождался, когда гармонист притомится, а пляска закончится, и в наступившей тишине властно, по-хозяйски потребовал:
– Дарья, выйди, слово тебе сказать хочу…
Будто законную и послушную жену позвал, заведомо зная, что она не сможет ослушаться.
Дарья Устрялова возле гармониста стояла, платочком ему потное лицо обмахивала. Медленно обернулась к порогу, глянула на Гриню и, не торопясь с ответом, слегка передернула плечами. Крупные желтые бусы шевельнулись на крутой груди и стрельнули яркими отблесками. Дарья прижала их ладонью, склонилась в низком поклоне, уронив до самого пола богатую каштановую косу, и, рывком выпрямившись, ответила:
– Благодарствуем вам за почтение, добрый человек! Да только я не собачка, которой свистнули, она и побежала. У меня от общества секретов нет, говори при всех, если нужда имеется.
– Наедине сказать хочу. Выйди! Ну!
– Не запряг, а понужаешь!
– Ты не ершись, Дарья… Поразмысли, я подожду…
И Гриня прислонился плечом к косяку, заиграл концом наборного пояска, показывая всем своим видом, что от задумки своей не отступится, ждать будет столько, сколько понадобится. Дарья, ни слова больше не обронив, повернулась к нему спиной и снова принялась заботливо обмахивать цветастым платочком гармониста, который глядел на нее, изумленно вытаращив глаза, – нашла время платочком своим трясти! Сейчас тут такое случится – все вспотеют! И никаких платочков не хватит, чтобы красные сопли вытирать.
Нехорошая, на короткое время, снова установилась тишина. И обломилась, как хрупкий ледок под каблуком:
– Нарвался ты, парниша!
– У нас терпелка не железная!
– Так разукрасим, дорогу забудешь!
– Вышибай его на крыльцо, нечего рассусоливать!
Крики все громче, злее, а Гриня, будто оглох и ничего не слышит, подпирает по-прежнему косяк плечом, ухмыляется и только глаза чуть прищурил. Кинулись к нему сразу двое парней, которые ближе других оказались, ухватить хотели за отвороты расстегнутого полушубка, но не успели – в один неуловимый миг преобразился Гриня: пригнулся, набычив голову, словно меньше ростом стал, и крепко сжатые кулаки вымахнулись навстречу парням, да так ловко и сильно, что парни, обгоняя друг друга, полетели через всю избу, рухнули на пол, и звонкий девчачий визг, режущий уши, ударил в стены. Лампа мигнула, выбросив черный плевочек, и погасла.
В темноте, шарахаясь на ощупь, пашенские парни ломанулись к дверям, но двери оказались заперты. Бились в них плечами, ногами стучали – без всякой пользы. Кто-то догадался и чиркнул спичку, зажег лампу. Ровный яркий свет наполнил избу, и все увидели, что Грини здесь нет – как корова языком слизнула.
Парни продолжали долбиться в двери, сопели, ругались, девки визжали, а Дарья Устрялова, спокойная, словно вокруг ничего не происходило, старательно обмахивала гармониста платочком и загадочно улыбалась.
2
Крепкий сосновый кол, которым были подперты двери, Гриня припас заранее. Теперь, недолго постояв на крыльце и послушав шум и ругань, он весело свистнул, похвалив себя за догадливость, и легко спрыгнул через пять ступенек на землю, которую заботливо и надолго укрывал тихий, ровный снег, начавший падать еще с утра. В этот час, ближе к полуночи, он поредел, крупные хлопья кружились уже не так густо, и небо прояснилось, обозначив темные, рваные тучи, из-за которых выныривала время от времени, как поплавок, половинка блеклой луны.
Вот и ладно. Какой-никакой, а свет есть, чтобы не сбиться с дороги и не блукать в сплошной темноте. Гриня еще раз свистнул, громко и длинно, от полного своего удовольствия, и скорым, летящим шагом выскользнул за околицу Пашенного выселка, направляясь к Покровке, до которой было ровно пять верст.
Шел, поскрипывая новыми сапогами, и захлестывала его отчаянная лихость, а силы в молодом теле играли такие безудержные, что в одиночку мог сразиться со всей ватагой пашенских парней, которые надумали его стращать, чтобы не появлялся он в выселке на вечерках. Не на того наскочили… Правда, и ему не удалось выманить Дарью на улицу, поговорить с ней наедине, но эта беда поправимая: на следующей неделе, в воскресенье, вместе с отцом и матерью красавица сама пожалует в Покровку к родной тетке на именины, а уж он, Гриня, своего не упустит, придумает, как улучить момент и сказать нужные слова.
Вольно, весело шагалось ему по свежему и неглубокому снегу, сладкая истома обволакивала, когда вспоминал и видел, как наяву, Дарью – лицо ее с ямочками на щеках, богатую каштановую косу и высокую грудь, которая буйно оттопыривала голубенькую кофточку с беленькими цветочками. Погоди, дай срок, дотянется он, расстегнет яркие, костяные пуговки и распахнет эту самую кофточку…
Немало уже отмахал Гриня от выселка, когда запоздало подумал о том, что пашенские парни, выбравшись из избы, со злости могут и в погоню удариться. И хотя страха перед ними не было, он все-таки благоразумно свернул с дороги, круто взял вправо, пересекая небольшое поле, и скоро вышел к пологому берегу Оби, по которому тянулась широкая, натоптанная тропинка – она легко угадывалась даже под снегом. От реки, еще не покрытой льдом, ощутимо тянуло влагой и холодом. Гриня плотнее натянул шапку и прибавил ходу.
Ни разу не остановился, не передохнул, единым махом одолел пять верст и вот уже различил редкий собачий лай, обозначивший деревню. А скоро замаячили мутно и крайние дома Покровки – рукой подать. Перед домами, по обе стороны от дороги, лежала большая поляна, украшенная по краям старыми, толстенными ветлами. И едва Гриня поравнялся с этими ветлами, как мелькнули навстречу ему стремительные тени, тяжелая палка, фыркнув в полете, ахнула по ногам, высекая нестерпимую боль, и он, не устояв, сунулся лицом прямо в снег. Подняться уже не смог. Навалились гурьбой и принялись молотить без всякой жалости. Молча били, деловито, только тяжело хэкали, будто дрова кололи. Попытался Гриня вскочить на ушибленные ноги, да куда там – прижулькнули к земле и еще яростней, стервенея от злости, расхлестывали большое, но беспомощное теперь тело. Только и смог, что лицо закрыл ладонями, ощутив, как они становятся теплыми от крови, которая брызнула из разбитого носа.
– Хватит, не до смерти, – раздался хриплый голос, и удары прекратились.
Гриня, будто растоптанный, лежал пластом, не поднимая головы, и слышал, одолевая тяжелый гул в ушах, как всхрапнули кони, и дробный стук копыт откатился от поляны, а вскоре затих. Полежал еще, подождал и лишь после этого отнял от лица ладони, огляделся – никого, пусто. Будто приснилось. Со стоном встал на карачки и таким манером, на карачках, передвигая колени и переставляя подламывающиеся руки, выбрался на дорогу и снова лег, перевернувшись на спину. Наскреб снега, запечатал им кровящий нос и торопливо стал хватать воздух широко раскрытым ртом, приходя в себя и понимая, что перехитрили его пашенские парни. Не стали разыскивать, куда он побежит, в какую сторону, а прыгнули на коней и махнули сразу до Покровки, где и сели в засаду, укрывшись за ветлами. Дорога здесь одна, мимо не проскочишь. Вот и получилось, что Гриня сам к ним в руки явился – берите меня, тепленького.
Его и взяли. В такой оборот взяли, что не знает теперь, как до дома добраться…
Разгоряченное, избитое тело остывало, холодом пронизывало спину от снега, на котором лежал. Подниматься надо, не будешь ведь до утра валяться. Гриня поднатужился, перевернулся на бок и встал на колени. Да так и замер, упираясь руками в землю и вздернув голову, – прямо на него скакал белый конь. Белый от копыт до взвихренной гривы, только во лбу маячило маленькое темное пятнышко, похожее на звездочку. Поднял глаза выше и обомлел – на коне сидела девушка, одетая во все белое. Трепетал у нее за спиной белый шарф, взвихривалось длинное белое платье, и казалось, что струится от коня и от девушки яркий, режущий темноту свет. Гриня даже глаза закрыл – испугался. Когда их снова открыл, увидел – конь, остановив свой беззвучный бег, стоит рядом, а девушка, наклонившись с седла, тянет к нему, Грине, длинную, тонкую ладонь. Вот дотянулась, взъерошила его чуб и заливисто, в полный голос, рассмеялась – будто серебряный звон рассыпала. «Чур меня, чур!» – запоздало вспомнил Гриня и даже правую руку оторвал от земли, чтобы перекреститься, но не успел – конь с места взял крупной рысью и пошел отмахивать в сторону от деревни. В полной тишине скакал, даже малого звука не слышалось. Девушка, выпрямившись в седле, оборачивалась, взмахивала рукой, словно звала последовать за собой, и все рассыпала звонкий смех – будто невидимый след оставляла на снегу.
Оборвался ее голос внезапно, как только конь достиг высокой стены густого бора. Вошел белым пятном вместе со своей всадницей в темный ряд сплошных сосен и – сгинул.
Перекрестился Гриня, помотал тяжелой ноющей головой, чтобы в глазах прояснило, и даже чуб потрогал, проверяя самого себя – умом не тронулся? И тут различил тусклое позвякивание недалекого колокольчика. Сначала подумал, что поблазнилось, – нет, наяву позвякивает, хоть и реденько, негромко, как обычно бывает при неторопкой езде, когда уставшая лошадка идет шагом. Прислушался и уловил: еще колокольцы голоса подают, видно, не одна лошадка тянется в сторону деревни.
Так и оказалось. Шел по дороге, направляясь в Покровку, небольшой обоз из шести подвод, на передней из которых сидел родной дядька Грини, развеселый и острый на язык Василий Матвеевич Черепанов. Он сразу распознал своего растерзанного племянника, затащил на телегу, даже шапку разыскал, отря хнул ее от снега и заботливо натянул на неразумную молодую голову, приговаривая:
– Это еще ладно, что они тебе башку не оторвали, будет на чем шапку таскать. Крепко отлупили-то?
Гриня отмолчался.
– А я смотрю, стороной пролетели, верхами, как черти, кто, думаю, такие… А это пашенские. Дали взбучки моему племянничку и домой подались. Из-за Дашки бока-то намяли?
Гриня снова отмолчался.
– Ох, на грех девка вызрела. Уж такое у нее обличье скоромное, что глядишь и губы облизываешь. Ладно, ты не горюй. Синяки заживут, и Дашка, глядишь, никуда не денется… Одна закавыка – как перед дедом оправдываться станешь?
– Дядь Вась, а ты коня белого не видел? Не попадался по дороге? Девка на нем скакала в белом платье…
– Это они в дурной голове у тебя, Гриня, скачут. Случается такое от ушиба. Ты моргай почаще, оно и пройдет. Деду-то чего скажешь?
Гриня вздохнул и потрогал пальцами разбитый нос, разбухший, как хлебный мякиш в воде. Такой нос не укроешь и не спрячешь, поэтому и ответ придется держать по всей строгости, а деда своего, Матвея Петровича Черепанова, внук крепко побаивался. Поэтому и затосковал заранее, предчувствуя, что сурового внушения, а может случиться, что и бича, избежать не удастся.
– Ладно, ты не отчаивайся, – успокаивал его Василий Матвеевич, – с нами из Никольска учительница едет, и письмо у нее к тяте, чтобы, значит, помогал школу ставить. Я ее первой в избу заведу, пока туда-сюда, может, и прошмыгнешь…
– Ага, – безнадежно отозвался Гриня, – мимо него прошмыгнешь, дед все видит, хоть и старый.
– Ты раньше смерти не помирай, племянничек. Вот приедем сейчас, и все ясным станет. Но-о-о, болезная! Шевели копытами, немного осталось!
И он шлепнул вожжами уставшую лошадку, которая послушно перешла на мелкую рысь.
3
День этот не заладился у Матвея Петровича Черепанова еще с утра, когда случилось с ним досадное огорчение: полез он на печку, чтобы достать валенки, и оборвался. Поставил ногу на приступку, а выпрямить ее не смог, задрожала она, как у немощного, колено щелкнуло, будто сухой сучок, и, не удержавшись за край печки, он загремел на пол, больно ударившись о скамейку. Поднялся и долго, удивленно смотрел на печку, которую сам когда-то сложил и на которой любил греться в последние годы. Никак не мог понять – по какой такой причине оборвался?
Сел на лавку, сложил руки на коленях, еще раз полюбовался на печку и ответил самому себе: нет никаких особых причин, кроме одной – старость одолевает. Да и то сказать, восьмой десяток давно разменял, на девятый пошел, вот ноги-то и поизносились, подрагивать стали, в коленках щелкать.
Во второй раз забираться на печку Матвей Петрович не рискнул, побоялся, что получится еще одно огорчение. Взял ухват, дотянулся им и скинул на пол белые катанки – теплые, нагретые. Сунул в них ноги, притопнул по половице и повеселел: а ничего еще, скрипа не слышно…
Валенки ему понадобились по погоде – за окном густо валил снег. Как и положено по всем старым приметам – Покров наступал. Матвей Петрович оделся потеплее, нахлобучил шапку, вышел на крыльцо и замер, будто в белую стену уперся, – снег стеной стоял, от земли и до неба. Без просвета. И дух веял, особый, будто спелый арбуз разрезали. Матвей Петрович вздохнул на полную грудь, повеселел еще больше и бодренько спустился с крыльца, собираясь пройтись вдоль улицы, которая вела на невысокий взгорок, где вздымалась острой макушкой в небо маленькая деревенская часовенка. Помолиться там собирался.
И надо же было – поскользнулся. Правда, успел ухватиться за перила. Упасть не упал, а спину пересекло, будто железный гвоздь вколотили чуть повыше заднего места. Стоял, согнувшись, и чуял, что без опоры даже одного шага сделать не сможет. Ни взад, ни вперед, ни вбок – вот как прихватило! Видно, пошевелил старые кости, брякнувшись с печки, вот они и зауросили.
Выручила его сноха Анфиса, которая давала коровам сено. Увидела со стога согнувшегося свекра, бросила вилы и, поспешая на помощь, заполошно заголосила:
– Тятя, ты чего согнулся?! Худо тебе?!
– Ты шибко-то не ори, – урезонил ее Матвей Петрович, – народ сбежится. Пособи-ка лучше на крыльцо взобраться.
Анфиса бабой была могучей, в кости широкой, и долго не раздумывала: чуть согнула крепкие ноги, уложила свекра на плечо и таким манером, в один мах, доставила его в избу. Уложила на кровать в горнице, разула, раздела, метнулась в погреб, достала редьку и, мелко нарубив ее сечкой в корыте, приложила на больную поясницу тестя, крепко перемотав чистой тряпицей.
Редька попалась злая, щипала, но Матвей Петрович даже не морщился – терпел, чувствуя, как саднящий гвоздь понемногу уходит из больного места. К вечеру совсем полегчало. Он даже поднялся с кровати, присел к столу и поужинал. А вот ночью, после недолгого сна, спина разболелась снова. Матвей Петрович лежал, перемогая боль, смотрел, не смыкая глаз, в темный потолок, и на душе у него было тоскливо.
В это время и раздался громкий стук в ворота, долетели с улицы голоса, и он сразу догадался, что сын Василий вернулся из Никольска, куда его отправляли три недели назад на плотах. По осени с недавних пор снаряжали в город плоты, там железная дорога недавно построилась, и лесу требовалось много. Вот жители Покровки и приноровились сплавлять плоты, а попутно, на продажу, грузили на них облепиху, бруснику, вяленую рыбу, арбузы – Никольск разрастался быстро и все съедал подчистую.
Матвей Петрович хотел подняться, чтобы встретить сына, но едва пошевелился, как поясница заныла еще сильнее, и он передумал. Слышал, как Анфиса открывала ворота, что-то говорила мужу, торопливо и неразборчиво, а затем испуганно ахала и снова говорила. Подосадовал: «До чего баба громогласная! Тараторит, как сорока…» А вот и сама Анфиса, легка на помине, вошла в горницу с лампой в руках, известила:
– Тятя, Василий приехал, а с ним учительница пожаловала, у нее письмо к тебе имеется. Как сделать-то? Сюда ее провести или спать уложить?
– Пусть все спать ложатся, – решил Матвей Петрович, – утром разговаривать станем, нечего зря керосин палить. И ты лампу по избе не таскай, уронишь ненароком, пожар сделаешь…
Анфиса послушно вышла из горницы, и скоро в избе все стихло.
Прикрыл глаза Матвей Петрович, хотел задремать, но сон отбегал от него, и дело было не в больной пояснице, а в том, что в последнее время спал он совсем мало – вздремнет, как птичка на ветке, и снова в темный потолок любуется, прошедшую жизнь вспоминает. Теперь она все чаще возвращалась к нему, и давнее прошлое вставало перед ним ярче и острее, чем прожитый накануне день…
…Сгрудились телеги с нагруженным на них скарбом, кричали бабы, ревели ребятишки, но громче всех причитала и завывала старуха Никандрова; стащив с головы платок, распатлав седые волосы, вздергивала вверх длинные худые руки и голосила:
– Ты куда нас завел, лиходей?! Здесь и луна на небе в другу сторону повернута! Заворачивай обратно, домой нас веди!
И так она причитала, будто на похоронах, срываясь на визг, что никто слова не мог вставить. Как с ума сошла старуха, все ей чудилось, что в сибирской земле молодой месяц повернут рогами в другую сторону. Не выдержал тогда Матвей Петрович, осерчал крепко и, выдернув платок из рук старухи Никандровой, сунул этот платок ей прямо в раскрытый рот – как запечатал. Рявкнул на баб, чтобы они тоже замолкли и ребятишек успокоили, а затем уже, подняв голос до сердитого звона, тоже закричал:
– Какого лешего вы вразброд потянулись, как дурные коровы из стада! Силком вас сюда никто не тащил! Осталось-то – пережевать да выплюнуть! Потерпеть надо – не помрете!
И много еще чего выкрикивал Матвей Петрович, убеждая односельчан, что обратной дороги в Тамбовскую губернию нет, что надо идти дальше и что совсем скоро откроются перед ними благодатные места. Выкрикивал, а сам чувствовал, что плохо доходят его горячие слова. Устали люди, изверились, выветрилась из голов сладкая мечта за длинную и трудную дорогу. А как все мечтали, снимаясь с насиженного места, что придут в Сибирь и ждет их там вольная земля – бери сколько пожелается, живи как твоей душе угодно, катайся как сыр в масле.
Не вышло с сыром и с маслом… Без хлеба, на просяной каше, да и той не досыта, перебивались в последние дни. А лето в сибирских краях выдалось дождливое, дороги закисли непролазной грязью, телеги тонули по самые ступицы, кони измаялись, и ребра торчали у них под кожей, как палки. Вот и зароптал народ – где обещанная благодать? И, зароптав, призвал к ответу Матвея Петровича, который ходил в Сибирь ходоком и место для будущего житья выбирал, а после, вернувшись в тамбовскую деревню, рассказывал: и лес там богатый, и луг, и две речки, которые, слившись, в большую реку Обь впадают, и земли для будущей пашни немерено имеется… Слушали его разинув рты, верили каждому слову, а по весне, отслужив в деревенской церкви молебен, погрузили на телеги пожитки и тронулись в путь – на новое место жительства, в благодатный край.
А теперь – шиворот-навыворот. Одни возвращаться желают, другие предлагают здесь остановиться, куда добрались, а третьи и вовсе отчаялись, руки опустили и только кричали, высказывая в сердцах Матвею Петровичу, как главному виновнику, обидные слова.
Вот и не стерпел он, заткнул рот старухе Никандровой, сам пошумел, а после, успокоившись, стал уговаривать мужиков, приводя свои резоны: лето кончается, если возвращаться – померзнут зимой в дороге, здесь, где остановились, – степь голая, ни речки нет, ни озерка, и земля – сплошной суглинок, на котором лишь дурная трава растет… Долго уговаривал, упорно и вдруг осекся на полуслове, выругался черным ругательством и под ноги себе плюнул. Осенило его внезапно: а чего он, спрашивается, разоряется-убивается? Не желают? Ну и не надо! Насильно мил не будешь, хоть голову расколоти! Подозвал к себе сыновей, их у него четверо было, и велел им запрягать коней – дальше поедем! Кто желает, пусть следом пристраивается, а кто не желает… Вольному – воля!
Следом за Черепановыми пристроились всего лишь четыре семьи: Никандровы, вместе со своей старухой, которую силком усадили в телегу, Ореховы, Зубовы и Топоровы. Остальные с места не тронулись. Иные еще и ругались, посылая в спину обидные слова. Особенно старался Игнат Пашенный, мужик злой и никого, кроме себя, не почитавший. Уж такими речами он провожал отъезжавших, что у лошадей уши торчком вставали. Но Матвей Петрович все вытерпел, даже не оглянулся и ни слова в ответ не высказал. Понимал: не следует теперь в перепалку ввязываться, если уж разлетелся горшок, грохнувшись об пол, склеивать его – дело безнадежное. Иное теперь у него на уме было, более важное, – поскорее вывести всех, кто ему доверился, на благодатное и вольное место, которое он сам облюбовал и выбрал.
И Матвей Петрович вывел.
Когда небольшой обоз поднялся на взгорок, где теперь стоит часовенка, когда распахнулась перед глазами вся округа, с сосновым бором, с речками, с Обью, с широким лугом, украшенным озерками, все замолчали и притихли – не ожидали такого увидеть. Вот уж верно – вся обещанная благодать в одном месте сомкнулась. А день стоял тихий, теплый, солнце еще по-летнему светило, и все казалось ласковым и добрым, как в сказке.
К первым заморозкам переселенцы успели срубить на скорую руку неказистые избушки, стайки из жердей для живности; огляделись в окрестностях и еще раз уверились – благодатное место. Даже предстоящая зима этой уверенности не поколебала.
Незадолго до Покрова призвал Матвей Петрович своих сыновей, всех четверых, поставил их перед собой и неторопливо оглядел. Хорошие сыновья, ладные. Стоят по старшинству, все погодки: Александр, Алексей, Иван и самый младший – Василий, ему совсем недавно семнадцать стукнуло. Помолчал, разглядывая, и объявил свою отцовскую волю:
– На Покров, ребята, я всех вас женить буду, на всех одну свадьбу справим. А пока время есть, невест себе выбирайте. Что у Никандровых, что у Ореховых, что у Топоровых, что у Зубовых девок в избытке имеется. Любых выбирайте.
Никто из сыновей не ослушался, и на Покров все они стали женатыми.
Решение свое Матвей Петрович пояснял по-житейски просто:
– Так-то оно лучше, когда все родственники, крепче друг за дружку держаться станем.
Как в воду глядел.
На первых порах только родственная скрепа и помогла. Зима выпала морозная, снежная, избушки, из сырого леса срубленные, грели плохо, с едой было тоже худо, но выручила охота – птицы и зверя в округе имелось в избытке, только не ленись. И до весеннего солнца, до первой зеленой травки, выдюжили. А дальше – только рубахи успевай скидывать, которые от едучего пота сами собой на ремки разваливались.
Через три года крепкая, ладная, работящая, а потому и сытая деревня стояла в благодатном месте. Назвали ее Покровкой.
И через три года появились односельчане из тамбовской деревни, которых привел Игнат Пашенный. Стали проситься в общество, каялись, что не послушались в свое время Матвея Петровича, остались на суглинках и досыта нахлебались горькой жизни. Матвей Петрович, избранный бессменным старостой, собрал своих родственников, и вынесли они решение: на готовое не пустим, а вот в чистом месте, где пожелаете, можете и обосноваться. Так появился Пашенный выселок, хотя, если разобраться, никто никуда не выселялся. Но название прилепилось, как кличка, и особо над ним не задумывались. Со временем встал на ноги и выселок. Только вот мира и лада между покровскими и пашенскими до сих пор нет. Уже несколько десятков лет прошло, многих первых переселенцев сибирская земля в себя приняла, а скрытая вражда невидимо тлеет, как уголек под толстым слоем пепла…
– Ох, грехи наши тяжкие, – вздохнул Матвей Петрович, пошевелился, прислушиваясь к больной пояснице, и посмотрел в окно, завешенное ситцевой занавеской, – светать начинало. Вот и еще одна ночь прошла, а сна как не бывало.
И все-таки рано утром он накоротке уснул – зыбко, чутко. И увиделось ему странное видение: стоит он за околицей Покровки в густом тумане, белые волны плывут, клубятся; и вдруг невесомо, земли не касаясь, выходит из этих волн седая женщина с длинными, распущенными волосами и прямиком направляется к нему. В поводу она вела белого коня, а на коне сидела маленькая девчушка в белом платьице, смеялась, запрокидывая голову, и всплескивала в ладошки. И женщина, и конь, и девчушка проплыли-проскользили мимо него, не останавливаясь, и он различил лишь тихий голос: «Помнишь наш уговор? Не забыл? Мне помощь твоя понадобится… Не отказывай… Сын твой Василий газетку привез из города, прибери ее, чтобы не потерялась, пригодится скоро… Я сама тебя позову, когда срок наступит. Услышишь».
И – канули.
Обернулся Матвей Петрович, а за спиной – никого. Только туман клубится. «Да как же так? – тревожно думал он во сне. – По какой причине она снова объявилась?»
Хотел крикнуть вослед, но краткий сон оборвался, как нитка, и увиделось, что горницу заливает солнечный свет.
Матвей Петрович тихонько приподнялся на кровати, сел, поставив на пол широкие ступни босых ног и низко опустил голову.
4
Гриня с малых лет выламывался из большой черепановской родовы, как колючий, с шишками, репейный куст, нечаянно попавший в стог отменного сена. Вроде всем хорош парень – и руки растут откуда надо, и за словом в карман не полезет, и работать может до седьмого пота, но лишь до тех пор, пока ему вожжа под хвост не угодит. А как угодит – сразу и выпрягся. Хоть кол ему на голове теши. Набычится, глаза прищурит и стоять будет на своем до посинения. Ничем не свернешь.
Даже Матвей Петрович поразился, когда в первый раз попытался призвать внука к порядку. Доложили ему досужие бабы, что Елена, жена третьего, по возрасту, сына Ивана, до сих пор своего первенца кормит грудью, а парнишка уже на своих ногах и разговаривает, как мужик, – порою зло и матерно. Пошел проверить, хотя и не охотник он был появляться в избах своих сыновей без явной причины, потому что уважительно понимал – хозяин в семье должен быть один. Но тут не удержался – поднялся на крыльцо сыновней избы без приглашения. Открыл дверь, перешагнул через порог и остолбенел: Елена перед лавкой стоит, титьки на волю из кофтенки выпустила, а на лавке, крепко сбитый, как крутое тесто, Гриня ногами перебирает от удовольствия и во всю моченьку мамку сосет. Матвей Петрович от увиденного растерялся и ничего лучшего не придумал, как спросить:
– Ты чего, паршивец, делаешь?
Гриня нехотя оторвался от важной своей работы, деловито сплюнул на сторону, губы ладошкой вытер и сообщил:
– Титьку сосу…
– Тебе сколь годов-то?
– Сестой…
И дальше, как ни в чем не бывало, приник к мамкиной груди.
Сообща парнишку от титьки отвадили, для чего Елене пришлось мазать соски горчицей. Гриня неделю поорал, но, видя, что на уступки ему не идут, известил, как о деле решенном:
– Хрен с вами, теперь касу варите.
И закидывал в рот кашу, и все, что на стол ставили, будто после долгой голодухи – мгновенно и чисто, ни крошки не оставлял.
Но скоро наелся, жадничать перестал и пошел в рост – как на дрожжах поднимался. В четырнадцать лет его уже за взрослого парня принимали. На сенокосе наравне с мужиками по целой копне на стог забрасывал и лишь ругался, когда навильник, не выдержав тяжести, ломался, а сухое сено рушилось на землю.
Это было по лету, а по зиме Гриня остался без отца и без матери. Иван с Еленой поехали за Обь, за сеном, и с тех пор их больше никто не видел. Провалились они в промоину вместе с санями и с конем. Ушли под лед, и кроме санного следа ничего от них не осталось. Супруга Матвея Петровича, тихая и бессловесная Анна Федоровна, внезапного несчастья не пережила, скончалась той же зимой, и пришлось деду с внуком перебраться к Василию Матвеевичу, под крышей у которого они и живут по сей день.
Гриня после потери родителей не плакал, не убивался, даже слезинки не уронил, только угрюмо смотрел себе под ноги и на щеках, под молодой румяной кожей, тяжело ходили желваки. А вскоре появилась у него привычка – усмехаться нагло, если ему что-то не нравилось; глядит тебе прямо в глаза и усмехается. Матвей Петрович, чтобы дурь эту из внука выбить, и за бич хватался, и ругался, но мозги вправить парню так и не смог.
Сам же Гриня, терпеливо снося ругань и порку, на деда никогда не обижался, побаивался его, однако усмехаться продолжал по-прежнему, и упрямство его с годами только крепло.
Вот и в это утро, рано проснувшись, он сразу же вспомнил, как били его пашенские парни, и, вспомнив, твердо решил: «Ладно, подождите, я вам сопатки еще начищу, переловлю по одному и начищу!» Но тут же и позабыл об этой угрозе, потому что совсем иное встало перед глазами – белый конь, девушка на этом коне и вьющийся за ней белый шарф, а еще послышался, как наяву, громкий, серебряный смех, будто она рядом стояла. Гриня даже голову повернул – нет, никого рядом с топчаном не было. Лишь на полу шевелились блеклые отсветы – это Анфиса, поднявшись раньше всех, затопила печку. Гриня вскочил, подергал плечами, разгоняя боль, – крепко его все-таки отмолотили! – и быстренько оделся. Анфиса, увидев его уже в шапке, вздернула руки:
– Ты куда в такую рань собрался?
– Пробегусь с утра, может, зайчишек добуду, по снежку-то, – торопливо отвечал Гриня, доставая свою старенькую берданку.
– Погоди, я хоть молока тебе налью, там картошка с ужина осталась…
– Да я не надолго, тетя Анфиса, скоро вернусь.
И быстренько, чтобы время на лишние разговоры не тратить, прошмыгнул в двери, а скоро уже выводил из конюшни каурого жеребчика, накидывал на него седло. По пустой улице, обозначенной в редеющих сумерках только дымами из печных труб, выехал за деревню, на поляну. Разглядел истоптанный ночью снег, бурые кровяные пятна и от этого памятного теперь места взял напрямик в сторону бора, куда ускакал белый конь со своей всадницей.
Ехал не торопясь, придерживая жеребчика, внимательно приглядывался, пытаясь отыскать хоть какие-то следы, но их не было. Ровный, чистый снег лежал нетронутым. На востоке уже начинало синеть, виделось все яснее и поле до самой стены темного бора лежало как на ладони. И никто здесь вчерашней ночью не проезжал и не проскакивал. Но Гриня упрямо ехал дальше, уверенный в том, что должен остаться хоть какой-то знак. Ведь не может такого быть, что ему все привиделось. Бить его, конечно, били, но память-то при нем оставалась, не тронулся же он умом, в конце концов! И Гриня забирал повод то вправо, то влево, направляя жеребчика челноком по полю, но напрасно – чисто. Доехал до бора, до крайних сосен, и остановился. Спрыгнул с седла, пошел медленным шагом, ведя за собой жеребчика в поводу.
Но и здесь, среди высоких сосен и молодого подроста, ничего ему отыскать не удалось, кроме путаной вязи от заячьих лап, – резвились здесь лопоухие, совсем недавно. Но даже охотничий азарт не взыграл у Грини, берданка так за спиной и осталась. Поднялся на увал, вскинул глаза, оглядываясь вокруг, и замер – прямо перед ним, в двух шагах, висел на нижней сосновой ветке длинный белый шарф, доставая одним концом до самой земли. В полном безветрии он даже не шевелился. Гриня стащил рукавицу, протянул руку и осторожно снял шарф. Мягкая, гладкая материя была прохладной. Шарф легко струился между пальцев, словно вода. Гриня бережно сложил его и сунул за пазуху. Еще раз огляделся – нет, никаких следов вокруг даже не маячило. Прошел дальше по макушке увала, ничего больше не нашел и направился домой, пребывая в полной растерянности, потому что никакого объяснения увиденному ночью и своей сегодняшней находке у Грини не было, только одно удивление – разве могут такие чудеса случаться?!
За спиной у него, просекая первыми лучами макушки сосен, вставало круглое солнце.
5
Учительница, которую попутно доставил Василий Матвеевич, возвращаясь из Никольска, была еще совсем молоденькая; розовая после сна и умывания. По-детски смущалась, опуская глаза, и теребила тонкими пальцами края легкого вязаного платка, накинутого на плечи. Иногда она поднимала глаза, смотрела на всех, сидящих за столом, и улыбалась растерянно, словно просила прощения, что доставила так много хлопот.
Матвей Петрович только что прочитал письмо, которое она привезла с собой, аккуратно сложил по сгибам большой бумажный лист, исписанный красивым почерком никольского владыки Софрония, снял очки с носа и сказал:
– Вот и ладно, голубушка, что приехала. Как тебя звать-величать-то будем?
– Варвара Александровна, Варя…
– Ну, Варя – это для домашнего обихода, а на людях – Варвара Александровна. Теперь слушай, Варвара Александровна, чего я говорить буду. Предлагали нам в Покровке министерскую[1] школу открыть, а мы подумали и решили, что нам приходская[2] нужна, церковная. Церкви у нас пока нет, но часовенку сподобились, поставили, и церковь тоже поставим. Вот я и поехал в город к владыке нашему, Софронию, просьбу изложил, и обещал он помочь. Не забыл, значит, исполнил обещание. Школы у нас раньше никакой не имелось, все больше странствующих учителей[3] на год нанимали. Когда хороший попадется, а когда – так себе… В прошлом годе совсем никудышный оказался. Не про ученье с утра у ребятишек спрашивает, а допытывается, у кого в семье какую еду на день готовят. Мы его по очереди кормили. Вот и начинает узнавать – где посытнее и послаще, узнает и говорит – передай матери, сегодня к вам питаться приду. Прямо беда с ним была… А теперь у нас и школка своя будет, и учительница тоже своя. На житье мы тебя пока здесь определим, у нас боковушка имеется свободная, чистенькая… Там и будешь. Анфиса все покажет. Теперь ты рассказывай – откуда, какого роду-племени и какими-такими путями в наших краях оказалась…
За столом, кроме Матвея Петровича и Варвары Александровны, сидели Василий Матвеевич и Анфиса, с любопытством разглядывали гостью, а сама гостья под их взглядами смущалась еще больше, и даже голосок у нее подрагивал:
– Я в Москве епархиальное училище закончила и… вот сюда приехала.
– Из Москвы?! – ахнули все в один голос.
– Да, из Москвы, – кивнула Варвара Александровна.
И дальше рассказала, что в Сибирь надумала ехать по собственной воле и охоте, а знакомый батюшка, отец ее духовный, посоветовал добираться до Никольска, где служит владыка Софроний, и рекомендательным письмом снабдил, потому что они с владыкой давно, еще с семинарии, знакомы и дружны. Доехала она до Никольска благополучно, пришла в епархию, и владыка принял ее очень душевно, как родную. Написал письмо для Матвея Петровича и поручил своим помощникам разыскать попутную оказию до Покровки, чтобы ехала она с людьми надежными и без всякой опаски. А тут, как раз к случаю, в городе оказался Василий Матвеевич, вместе с которым она и приехала без всяких происшествий в Покровку, и очень довольна, что ее здесь так хорошо встретили.
Продолжая удивляться, Матвей Петрович покачал головой, но больше Варвару Александровну расспрашивать ни о чем не стал, рассудив, что времени впереди много и будет еще возможность побеседовать обстоятельней.
После чая Анфиса увела гостью в маленькую боковую комнатку; отец с сыном остались вдвоем, и Василий Матвеевич принялся подробно рассказывать о том, что плоты нынче пришлось гнать с большими трудами, потому что Обь к осени сильно обмелела, но все обошлось, доплыли без задержек и лес продали в тот же день, как причалили. Также удачно сбыли ягоды, арбузы и рыбу, даже на базар ехать не понадобилось – все на берегу разобрали. Еще хотел Василий Матвеевич поведать, что на обратном пути, у самой деревни, подобрали крепко побитого Гриню, но передумал – вот вернется тот с охоты, тогда и разбирательство начнется. А раньше времени, пожалуй, торопить это разбирательство и не стоит, пусть своим ходом катится.
Рассказом сына Матвей Петрович остался доволен. Да и как не быть довольным, если такое большое дело – сплав плотов в город – удалось исполнить без всяких проволочек и без огорчений.
– Молодцы, ребята, – скупо похвалил он и сразу перевел разговор: – Ты, Василий, к вечеру мужиков кликни к сборне, надо будет про школу все порешать – какое жалованье положим, как дрова запасать станем, ну и кто ребятишек своих нынче в ученье отдаст… Все обговорить требуется. Ты там газетку, видел, из города привез, дай мне, полюбопытствую. А я пока пойду, полежу, спина у меня расхворалась. Скажи Анфисе, пусть еще редьки достанет…
Матвей Петрович поднялся из-за стола, пошел в горницу, но остановился и спросил:
– А Гриня где у нас нынче?
– До света еще поднялся, сказал, что на зайцев собрался, и ружье взял. Анфиса говорит, что и есть не стал.
– Ну ладно… Как вернется, пусть ко мне заглянет.
В горнице Матвей Петрович лег на кровать, поерзал, устраиваясь удобней, и собирался уже задремать, но тут подоспела Анфиса с редькой и, перематывая тестю больную поясницу, принялась сообщать:
– Гостья-то наша до того стыдливая, слово скажет и краснеет, не знаю, как она с ребятишками справляться будет. Вещички даже не разложила, сразу за стол села, тетрадку достала и пишет чего-то… Я заглянула, а личико у нее горькое-горькое, будто заплакать собирается. Оно, конешно, без отца, без матери да в чужих людях – как тут не загорюешь…
– Ты поменьше к ней заглядывай, своими делами занимайся, – строго оборвал Матвей Петрович, помолчал и добавил: – Обживется, привыкнет и горевать перестанет.
6
Маленькое оконце в комнатке выходило на широкий и длинный огород, который полого спускался к речке. На краю огорода чернела приземистая баня. Крыша ее была увенчана скворечником на длинном шесте, а на скворечнике сидела ворона и чистила клювом оттопыренное крыло. Дальше, за речкой, виднелся луг, а еще дальше, за лугом, тянулся темной полосой лес и подпирал острыми макушками небо.
И все в этой картине было необычным, все казалось чужим и неведомым, и даже яркое солнце, озарявшее округу, не развеивало грустного чувства. Варя долго смотрела в окно, и чем дольше она смотрела, тем печальнее становились ее глаза. С эти печальным чувством она и вывела в раскрытой тетрадке первые строчки:
«Здравствуй, мой дорогой, навечно любимый Владимир!
Теперь, когда тебя нет на белом свете, я, не таясь, пишу эти слова, и душа моя наполняется тихим светом – так горько и так сладко беседовать с тобой и рассказывать обо всем, что происходит в моей жизни. Больше мне рассказывать некому, а ты, я уверена, всегда бы выслушал меня и понял. После того дня, когда я прочитала в газете о твоей гибели на войне, весь мир, который меня окружал, будто подернулся черной тенью. А я запоздало раскаиваюсь, что была с тобой холодна и скрывала свои чувства. Одно лишь меня оправдывает, что я не могла предвидеть, что случится со мною… А случилось многое. Прости, ради Бога, но я ловлю себя на мысли, что пишу совсем не о том, что хочется тебе сказать. Мне хочется сказать слова благодарности. Спасибо, родной, что ты встретился в тот памятный и бесконечно счастливый день, и я сразу же полюбила тебя – на всю жизнь, какая мне будет отпущена. Если бы этого не случилось, я бы, наверное, не смогла устоять перед людской злобой, которая обступала меня совсем недавно. Но я даже помыслом не согрешила против нашей любви, я неожиданно почувствовала себя очень сильной. Когда-нибудь я расскажу об этом подробно, а сейчас лишь сообщаю, что я начинаю свою жизнь заново, с чистого листа.
Вскоре после окончания курса в епархиальном училище я уехала из Москвы, а можно сказать, что и сбежала, как можно дальше. Письмо это, дорогой Владимир, я пишу из сибирской деревни с милым и хорошим названием Покровка, пишу как раз накануне Покрова, а за окном лежит белый, чистый снег. Здесь, в Покровке, я буду учительницей церковно-приходской школы, и здесь, вполне может так сложиться, я и останусь навсегда, потому что возвращаться мне некуда и не к кому. Тем более что ты со мной рядом, в моем сердце, и я беседую с тобой в любую минуту, когда вспоминаю, и пишу тебе письма, после которых мне становится легче. И совсем неважно, что ты никогда этих писем не прочитаешь и что они никуда не будут отправлены, а будут лежать на дне моего сундучка. Главное, что ты со мной. Я вижу тебя, слышу твой голос, твой смех, и этого мне вполне достаточно, чтобы проживаемые дни не казались напрасно прожитыми. А иногда я очень жалею, что не была с тобой рядом там, на войне, где я смогла бы перевязать твои раны, успокоить твою боль. Понимаю, что это глупость и несуразность, но все равно жалею…
На этом пока я закончу сегодняшнее письмо, потому что более подробно и обстоятельно напишу в следующий раз, а сегодня слишком много чувств переживаю и никак не могу успокоиться, чтобы мысли свои изложить по порядку. Знай, что я всегда буду тебя любить, и пусть твоей душе будет легко и светло там, где она сейчас пребывает.
Твоя Варя».
7
– Держись! Держи…
И оборвался хриплый, надсадный крик, будто острым ножом срезанный, канул и растворился в густой, беспорядочной пальбе, которая грохотала со всех сторон, туго забивая уши тупой и давящей болью. Но Владимир Гиацинтов успел этот крик услышать и даже голос узнал – кричал Белобородов, кричал, похоже, в последний раз, пытаясь ободрить своего командира и подать знак: я здесь, иду на помощь…
Не дошел.
И никто уже не дойдет.
Нет отныне команды охотников[4] Забайкальского полка, соскользнула она, как в ночной поиск, без возврата, и остался под градом пуль безудержно наседающих японцев лишь командир, с одной-единственной, предназначенной ему теперь участью – последовать без задержки за своими подчиненными.
Но он, уже не надеясь выжить, все-таки продолжал воевать. Отстреливался, сколько мог, а затем кубарем, через голову, рискуя разбить ее о камни, скатился с узкой горной тропы в заросли высокого, непролазного кустарника, перезарядил свой винчестер и замер, не обнаруживая себя, пытаясь получить хотя бы несколько минут передышки, чтобы понять и уяснить: что произошло, как так получилось, что в спину им совершенно неожиданно ударили японцы? Зло, напористо, накатываясь тремя цепями и ведя такой плотный огонь, что сбитые пулями ветки кустарника сыпались без перерыва на землю, словно состригали их гигантские ножницы.
Под ноги ему вдруг выкатился серый комок. Гиацинтов вскинул винчестер, готовый выстрелить, но комок замер, прижимаясь к редкой траве, и прорезались круглые от ужаса глаза молодого зайца. Ошалевший от грохота, потерявший всякую осторожность, заяц бросился к живому существу, надеясь найти у него защиту. Гиацинтов не удержался, протянул руку и тронул зайца за плотно прижатые уши. Тот вскинулся над землей, развернулся в воздухе, упал на все четыре лапы и нырнул дальше в кусты, между тонкими стволами которых зияло небольшое свободное пространство. Гиацинтов, не раздумывая, рухнул плашмя и заполз в узкий и тесный лаз. Обдирая колени и локти, по-змеиному извиваясь, щекой бороздя землю, он продвигался вперед, и лаз, словно уступая его упорству, становился шире.
Через недолгое время, ориентируясь по звукам пальбы, Гиацинтов догадался, что все три японские цепи ушли вперед, а он остался у них позади. Кустарник перед ним поредел, и он настороженно приподнялся на четвереньки. Огляделся через просветы между листьев, и по спине, мокрой от пота, проскочил острый, пугающий холодок.
Гиацинтов ничего не понимал.
В просветах перед ним змеились траншеи, которые еще утром занимала рота поручика Речицкого. Они были пусты. И никаких следов боя: ни трупов убитых, ни брошенного оружия, ни воронок от взрывов – ничего, что он ожидал увидеть. Траншеи были просто пусты. Гиацинтов выполз из кустарника, добрался до края одной из них. Заглянул вниз. Пусто. Лишь сиротливо валялся на дне закопченный солдатский котелок, видимо, забытый в спешке каким-то растеряхой.
Значит, рота ушла, даже не известив командира охотников, что уходит. Оставила позиции и открыла японцам свободный проход к горному хребту, у подножия которого охотники готовились к подъему. Именно по хребту, по самой его макушке, Гиацинтов задумывал уйти на вылазку в японский тыл, да только получилось наоборот – ему ударили в спину. На голом месте, прижатые к горному склону, охотники продержались недолго, хотя и за малый срок успели хорошо проредить первую цепь. Но выше головы не прыгнешь… Гиацинтов видел, как гибнет его родная команда, и ничего не мог сделать, чтобы ее спасти.
Теперь, отползая от пустой траншеи и снова целясь к спасительному кустарнику, он испытывал только одно жгучее желание – выжить. Выжить лишь для того, чтобы встать перед поручиком Речицким и посмотреть ему в глаза…
8
До этого дня военная судьба Владимира Гиацинтова складывалась, как беспроигрышная игра в карты.
Он пошел на войну вольноопределяющимся, бросив университет и выхлопотав направление в Забайкальский полк, которым командовал его хороший знакомый – полковник Абросимов. С полковником в свое время они участвовали в конных скачках, соревновались в стрельбе и знали друг друга как хороших спортсменов. Поэтому неудивительно, что командир полка сразу же предложил Гиацинтову командовать охотниками, сопроводив свое предложение короткой речью:
– Дело, конечно, рисковое, но зато отважное. А вы, Владимир Игнатьевич, как я знаю, человек отважный. Вот и беритесь за это дело. Набирать в команду охотников будем сибирских таежников и тунгусов, потому как они стрелки и следопыты – дай Бог. А что для парадного строя не годны – невелика печаль, нам тут не до парадов… Только у меня просьба, Владимир Игнатьевич, со своим винчестером в общий строй не вставайте, сами понимаете, не по уставу.
– А воевать с ним разрешается? – вежливо-ехидно поинтересовался Гиацинтов.
– Воевать разрешается, – будто не заметив ехидности, улыбнулся Абросимов, а затем со вздохом добавил: – Эх, веселые были времена!
Да, времена, и совсем недавно, действительно, были не скучные. Молодые офицеры и друживший с ними студент университета Гиацинтов в летнем саду, в ресторане, завели спор с иностранцами, как позже оказалось, англичанами, о разных способах стрельбы. И англичане стали убеждать, что самый эффективный – у американских ковбоев. И еще сообщили, что один из присутствующих англичан таким способом владеет. Дальше – больше. Головы молодые, горячие… Закончилось тем, что прямо из летнего сада две компании, русская и английская, отправились за город, где и устроены были самые настоящие соревнования. Особо отличился Владимир Гиацинтов, показав такой уровень, что англичанин, учившийся стрелять у американских ковбоев, честно признал свое полное поражение, хотя и огорчился неимоверно. А по возвращении в ресторан в летнем саду, видимо от этого самого огорчения, напился до полного изумления и пообещал своему победившему сопернику прислать в подарок скорострельный винчестер.
Как ни странно, обещание свое англичанин не заспал – выполнил.
Вот с этим винчестером Гиацинтов и прибыл в Забайкальский полк.
Впрочем, через неделю-другую никто уже не обращал внимания ни на винчестер вольноопределяющегося, ни на его внешний вид: папаха, гимнастерка с наплечными ремнями, широкий кожаный пояс, на котором висел трофейный японский кинжал, а на ногах вместо сапог – поршни[5].
Столь же необычно была экипирована и вся остальная команда охотников, представлявшая из себя зрелище очень живописное: одна часть состояла из сибирских охотников и являла собой вид внушительный, крепкий – все бородатые, кряжистые; а другая часть, состоявшая из тунгусов, казалась хрупкой и ранимой – невысокого роста, узкоплечие, лица у всех безбородые. Но знающим, воевавшим людям было хорошо ведомо, что никакой разницы между охотниками нет и что каждый из них в бою стоит десятерых.
Охотники ходили в японский тыл, устраивали засады, вели разведку, выслеживали и уничтожали хунхузов[6], иначе говоря, воевали без передыха, и военное счастье от них не отворачивалось.
Гиацинтову, несмотря на молодость, хватило ума полностью доверяться опыту и смекалке своих подчиненных, а они, в свою очередь, ценили его за беспредельную храбрость и за то, что он никогда не укрывался за их спинами.
Слава о команде охотников Забайкальского полка разнеслась быстро и широко. О ней писали в газетах, где печатали фотографические снимки бойцов и их командира. Но охотники газет не читали и о славе своей в далекой отсюда России даже не догадывались. Гиацинтов тоже газет на войне не читал, а к славе своей относился равнодушно, потому как терзали его ежедневно совсем иные заботы: провиант, патроны, очередной приказ и вечная головная боль – как этот приказ выполнить и не потерять своих охотников. Вылазки команды отличались особой лихостью, иногда казалось, что даже безрассудством, но всегда заканчивались успехом и почти без потерь. Гиацинтов полагался на своих бойцов, ставших для него родными, как на самого себя.
И вот теперь этих родных нет…
…Он огляделся, поднялся на ноги и двинулся вперед, чутко покоя в руках свой винчестер, в котором оставался всего один патрон.
9
Через трое суток Гиацинтов вышел в расположение Забайкальского полка. Оборванный, грязный, с разодранной щекой, кровь с которой тонкой цевкой сочилась на шею, он шарахался из стороны в сторону, едва держась на ногах, но упрямо отталкивал солдат, пытавшихся его поддержать, и сиплым, срывающимся голосом твердил:
– К командиру полка… К Абросимову… Срочно…
Маленькая китайская деревушка, тесно улепленная низкими, грязными фанзами, кишела, как муравьиная куча, – всю ее, до отказа, заполнил отступающий полк. В сумерках горели костры, опасно сыпали искрами на крыши, покрытые сухим гаоляном[7], пахло разваренной кашей и конским навозом; где-то неподалеку безудержно голосил петух, видимо, одуревший от столь обильного людского нашествия и спутавший утро с вечером.
Штаб полка располагался в большой палатке, разбитой на окраине деревни. У входа в нее стоял часовой. Он не узнал Гиацинтова и грозно выставил винтовку:
– Стой! Кто такие? По какой надобности?
– Борисов, доложи – командир охотников Гиацинтов.
– Владимир Игнатьевич… Я вас не признал, – часовой растерянно опустил винтовку.
– Я сам себя не признаю, – просипел Гиацинтов, – доложи, Борисов, быстро, пока я тут не свалился.
Но докладывать не потребовалось. Полковник Абросимов, услышавший голоса, сам выбежал из палатки, замер, будто споткнулся, затем крепко ухватил шатающегося Гиацинтова за плечи, повел в палатку и на ходу приговаривал:
– Живой! Живой! Живой!
А когда усадил командира охотников на раскладной стул, растерянно добавил:
– Мы ведь вас похоронили, Владимир Игнатьевич… Батюшка наш даже заупокойную отслужил…
– Позовите поручика Речицкого.
– Зачем он вам? Петренко! Чего стоишь! Чаю, галеты, коньяк достань! Умыться приготовь!
Денщик Абросимова сорвался с места, расторопно засуетился, но Гиацинтов его остановил:
– Погоди, воды дай…
Двумя руками ухватил железную кружку. Руки тряслись, и вода расплескивалась на колени, тогда он рывком вздернул кружку к потрескавшимся губам, долго пил судорожными глотками, и острый кадык на шее, темной от пота, пыли и крови, сновал вверх-вниз, как челнок. Отнял от губ пустую кружку, перевел дух и голосом, уже не столь сиплым, повторил:
– Позовите поручика Речицкого.
– Да помилуй Бог, зачем он вам, Владимир Игнатьевич?! И не могу я его сейчас позвать, он боевое охранение проверяет.
– Все равно позовите, я дождусь. Хочу в глаза посмотреть. Из-за него всю мою команду положили. Как траву косой… Сбежал, сволочь, вместе с ротой и даже не предупредил! Японцы через пустые траншеи, как по проспекту, проскочили! Прижали нас на голом месте и… И кончили! Нет больше у вас охотников, господин полковник! Позовите Речицкого! Или я сам пойду его искать!
Круглое, щекастое лицо Абросимова посуровело, глаза сузились, и он резко наклонился, положил руку на плечо Гиацинтова, строго спросил:
– Вы даете себе отчет – о чем говорите?
– В здравом уме и твердой памяти.
– Я лично отдавал приказ об общем отступлении полка. Вы должны были отходить вместе с ротой Речицкого. Вы что, не получили этого приказа? Мы ведь решили, что вы попали в засаду, из арьергарда доложили, что слышали сильную перестрелку.
– Да не было никакой засады, господин полковник! – навзрыд закричал Гиацинтов. – Не было! Нас просто бросили подыхать! Не предупредили, не подождали, оставили траншеи и убежали, как крысы!
Абросимов выпрямился, отошел в сторону и сурово выговорил:
– Только давайте без нервов, Владимир Игнатьевич. Умывайтесь, пейте чай, приводите себя в порядок – во всех смыслах. Я сейчас вернусь.
Он стремительно вышел из палатки, резко откинув полог, слышно было, как позвал ординарца и негромко отдал приказ:
– Заседлай коня…
Еще что-то говорил, но Гиацинтов уже не различал слов – последние силы оставляли его измученное тело, и он, безвольно уронив голову, медленно сползал с раскладного стула, и когда стул под ним подвернулся и упал набок, он ничего не почувствовал. С наслаждением вытянул ноги и мгновенно провалился в мертвый сон.
Денщик Петренко растерянно стоял над ним с чайником в руке и не знал, что ему делать. Наконец сообразил: поставил чайник, раскатил попону и, ухватив Гиацинтова под мышки, дотащил его до этой попоны и уложил. Гиацинтов даже не шевельнулся, только всхрапнул и промычал что-то невнятное.
Не сразу очнулся он даже тогда, когда загрохотали по всей деревушке оглушительные взрывы шимозы[8], разрывая вечерние сумерки зловещими сполохами блескучего пламени, не сразу услышал истошные людские крики и испуганное ржание лошадей, не увидел паники, которая охватила внезапно атакованный полк. А когда очнулся, было уже поздно: две шимозы, одна за другой, легли неподалеку от штабной палатки, снесли ее и спалили, как тряпку, а самого Гиацинтова отбросило взрывной волной далеко в сторону, и он, теперь уже контуженный, валялся возле стены фанзы, по крыше которой весело плясал огонь, освещая жуткую картину мощного артиллерийского налета.
Сознание возвращалось к нему медленно, урывками. Сначала он ощутил под собой холодную землю и снова уплыл в забытье, очнулся от ноющей боли, которая раскалывала голову, и лишь после этого различил чужую речь. «Японцы? Плен?» Не успел ответить самому себе на эти вопросы, как уши заложило, будто их заткнули ватой, и тугой, горячий туман унес в неизвестность. В третий раз, вынырнув из этого тумана, он испуганно открыл глаза и увидел над собой темное небо и мигающие звезды. Одолевая боль, пошевелил головой, и сразу же щеку ему обдало горячим дыханием, послышался торопливый шепот:
– Володя, а Володя, слушай меня…
Господи!
Так говорить, чуть нараспев и настойчиво, мог только один человек, его охотник, тунгус Федор Немтушин… Сколько раз он объяснял ему, что к командиру нельзя обращаться с такими словами, сколько раз грозился, что будет наказывать, а когда появлялось начальство, он всегда запихивал Федора во вторую шеренгу и велел молчать намертво, как немому. Федор виновато улыбался, прищуривая и без того узкие глаза, покаянно вздыхал, как нашаливший ребенок, но, когда возникала надобность, по-прежнему нараспев и настойчиво произносил:
– Володя, а Володя, слушай меня…
Солдатом он был превосходным, и Гиацинтов всегда его внимательно слушал, потому что знал: чутье бывалого охотника и следопыта не подведет. И не раз случалось так, что именно чутье Федора спасало жизнь многим из команды охотников, в том числе и самому командиру.
Но как он здесь оказался? Гиацинтов напрягся, попытался приподнять голову, хотел спросить, но с ужасом понял, что язык ему не подчиняется и вместо слов вываливается изо рта, как непрожеванная каша, один лишь мучительный, тягучий звук: а-а-а…
Но Федор обрадовался и этому, зашептал еще торопливее:
– Володя, а Володя, слушай меня, живой ты, а я боялся, что мертвый. У японов мы, меня пуля стукнула, валялся там, подняли, тащили… Тебя тоже тащили, я увидел, подошел, говорить стал… Говорю, говорю – Володя, слушай меня… Думал, мертвый, а ты живой… Теперь нас двое, теперь Федору не страшно…
«Пожалуй, ты прав. После всего, что случилось, уже ничего не страшно. Жаль только, что Вареньку не увижу…» – Гиацинтов пошевелился, но тут же зажмурился – нестерпимая боль в голове полохнула так, что сами собой навернулись слезы, и он почувствовал, как они, теплые, выскальзывают из-под сомкнутых век и медленно скатываются по щекам.
10
В редакции петербургской газеты «Русская беседа», в угловом кабинете, заваленном гранками, рукописными листами, книгами и журналами, разбросанными в беспорядке не только на столах и на подоконнике, но и на полу, ерзал на широком деревянном стуле известный репортер Алексей Москвин-Волгин и быстро, не отрываясь и не поднимая головы, писал, время от времени громко стукая стальным пером о днище чернильницы. Стремительный, словно летящий почерк быстро покрывал бумажный лист:
«Срочная новость!
Возвращение из небытия.
Герой прошедшей войны, командир команды охотников Забайкальского полка Владимир Гиацинтов, о гибели которого в свое время сообщала наша газета, – жив! Сейчас, когда я пишу эти строки, он сидит передо мной в редакции “Русской беседы”, и я чувствую на себе его внимательный, чуть насмешливый взгляд. Невозможно словами передать несказанную радость, какую я испытал, когда увидел его перед собой – изможденного страданиями, но не сломленного духом. Настоящие круги ада пришлось пройти нашему герою, и это не красивая метафора, а суровая реальность. Контуженный, он попал в плен к японцам, из плена бежал, а затем с огромными трудностями вернулся на родную землю, потратив на этот длинный и тернистый путь, пролегший через чужие государства, без малого два года. И обо всем этом, подробно и обстоятельно, мы расскажем в следующих номерах нашей газеты.
Нам можно и должно гордиться такими героями!
Алексей Москвин-Волгин».
Поставив точку, он перечитал написанное, хотел еще что-то поправить и даже обмакнул перо в чернильницу, но взмахнул рукой и вздохнул:
– Некогда – метранпаж ждет. На первую полосу дадим – это же такое событие! Подожди, я мигом…
Гиацинтов, действительно, сидел напротив, в старом, продавленном кресле, постукивал пальцами по подлокотникам и на давнего своего друга, однокашника по университету, поглядывал, как на беспокойного ребенка: ну что тут скажешь – чудит дитя, по малости лет и по неразумности ему простительно. Вид у Гиацинтова был красочный: растоптанные башмаки с отваливающимися подошвами, потрепанные мятые брюки, рубашка с оторванным воротником и кургузый пиджак с обремкавшимися лацканами, явно с чужого плеча. Исхудалое лицо, неровно обросшее темной клочковатой бородкой, покрывал нездешний, почти коричневый загар – ничего не осталось от прежнего щеголя, каким Гиацинтов всегда выглядел. Но жесты были прежними – уверенные, порывистые. Рывком поднялся из кресла, ловко выдернул бумажный лист из рук Москвина-Волгина, прошелся по кабинету, громко стукая башмаками по рассохшемуся паркету, прочитал срочную новость, которая должна была появиться на первой полосе в завтрашнем номере «Русской беседы», и нарочито громко зевнул:
– Слишком выспренний у вас псевдоним, Алексей Харитонович. Только вслушайся – Москвин да еще Волгин! Попроще бы, поскромнее. Ну, например, Александр Сергеевич Пушкин. Или, в крайнем уж случае, Гусев Алексей. Чем плоха родовая фамилия? Га, га… И птица достойная, и русским духом от нее веет: гуси-лебеди, унесите меня за синие моря… Да и стиль у тебя аховый… Бульварщиной отдает. Честное слово, раньше ты лучше писал!
– Ладно, не насмешничай. Я же не обсуждаю твою цветочную фамилию.
– Свою фамилию, как тебе известно, я от родителей получил, а ты свой псевдоним от собственной гордыни сочинил.
– Хватит, хватит, не ерничай. Давай сюда рукопись, я быстренько побегу в набор отдам и сразу же вернусь, а дальше будем… – Москвин-Волгин не успел договорить и осекся, когда увидел, что Гиацинтов сложил пополам бумажный лист, разорвал его, половинки еще раз перегнул и еще раз разорвал; разжал пальцы, и бумажные клочки густо посыпались на его разбитые башмаки.
– Экая жалость. – Гиацинтов глянул себе под ноги, снова зевнул и добавил: – Выйдет завтра твоя газета без срочной новости.
– Ты что делаешь?! – Москвин-Волгин вскочил со стула, словно драчливый петух спорхнул с насеста, подбежал к своему другу, вздернул голову, отчего рыжие, до огнистого отлива, волосы разметались во все стороны и встопорщились. – Ты что, с ума сошел?!
– Ничего дурного, Алексей Харитонович, я не совершаю, просто-напросто порвал бумажку. А теперь давай сядем, каждый на свое место, и серьезно поговорим. Уселся? И я присяду. Подробный и обстоятельный рассказ о моих злоключениях, как ты изволил написать, отложим до лучших времен, а теперь пойми и уясни – меня в Российской империи на сегодняшний день не существует. Нет меня здесь! Погиб я. И во всех надлежащих бумагах об этом написано. Любой городовой может взять меня за шкирку и доставить в участок. Пока станут разбираться, а казенное разбирательство у нас долгое, буду я жевать тюремную кашу и давить клопов на стене узилища. Такое положение мне совсем нежелательно.
– Но мы же твою фотографию печатали! Ты герой!
– И был на той фотографии запечатлен боевой и красивый командир команды охотников с винчестером. А теперь глянь на меня… И самое главное – я не хочу, не желаю пока, чтобы один человек знал о том, что я выжил. Так что извещать читающую публику о моем прибытии явно преждевременно.
– Я не пойму, Владимир, о чем ты говоришь?! И чего ты хочешь?!
– Алексей Харитонович… Вы все такой же нетерпеливый и пылкий, как юноша… Хорошо, буду краток. Мне нужны деньги, приличная одежда и приличный номер в гостинице, главное, чтобы клопов не было, все остальное готов стерпеть. Номер на двоих. На меня и на моего товарища.
– Подожди, какой еще товарищ?
– Очень хороший. Мы и воевали с ним вместе, и из плена вместе бежали, и сюда вместе прибыли. Как говорится, неразлучные друзья. Да он здесь, в коридорчике дожидается, я тебя представлю. А сейчас жду – что ответишь на мою просьбу?
– Со средствами у меня туговато. Но через два часа, если ты подождешь, деньги постараюсь добыть. Заодно, по дороге, я и номер сниму в гостинице.
– Мне сегодня в таком виде, – Гиацинтов приподнял истрепанные штанины, показывая, что башмаки у него надеты на босые ноги, – торопиться абсолютно некуда. Конечно, подожду. Заодно и газеты почитаю, отвык от русских газет. Знаешь, пока до тебя добирались, даже вывески на лавках читал – такое, оказывается, наслаждение! Да, пойдем, с товарищем моим познакомлю. Прошу!
Он открыл половинку высокой двустворчатой двери, пропустил Алексея и сам, следом за ним, вышагнул в узкий коридорчик, где на длинном кожаном диване, скрючившись, тихо-мирно спал Федор. Но спал чутко – услышал шаги, направленные к нему, и сразу же встрепенулся, упруго вскочил на ноги, и его узкие черные глаза, совсем не заспанные, настороженно стрельнули на незнакомого человека и в конец коридора, где был выход из редакции.
– Не бойся, Федор, убегать не придется, – успокоил его Гиацинтов, – вот, познакомься – это товарищ мой, который в газетах пишет. Если врать ему красиво будешь, он и про тебя напишет.
– Здрас-сьте, здрас-сьте, – двумя грязными ладонями Федор осторожно взял протянутую руку Москвина-Волгина, долго тряс ее и приговаривал: – Федор никогда не врет, Федор правду говорит, Подя и Никола видят, когда шибко врешь – накажут…
– Никола, как я понимаю, Николай-угодник, а Подя – кто такой? – улыбаясь, спросил Москвин-Волгин.
– Бог наш, всех тунгусов, – Федор оттопырил палец и осторожно, боязливо показал им вверх, в потолок.
– Выходит, что ты под двойной защитой находишься, теперь понимаю, почему вы живые остались, – Москвин-Волгин рассмеялся, продолжая с любопытством разглядывать необычного здесь, в стенах редакции, человека, с которым только что познакомился.
Вид у него был еще красочней, чем у Гиацинтова. Непонятного цвета и покроя одежина с неровно вырезанными дырами для рук укрывала его от плеч до коленей, дальше из-под одежины виднелись толстые шерстяные носки грубой вязки, плотно натянутые на ноги, обутые в кожаные тапки. Густые жесткие волосы, давно не стриженные, спутались и торчали во все стороны. Плоское безбородое лицо, покрытое мелкими морщинками, излучало добродушие и неподдельную радость.
– Да, братцы, в люди вас выпускать в таком виде, конечно, не следует. Сидите у меня в кабинете и ждите, я постараюсь не задерживаться, – Москвин-Волгин скорым шагом, почти бегом, миновал редакционный коридор и скрылся за зелеными дверями, выйдя на улицу.
Гиацинтов и Федор направились в его кабинет.
Ждать им пришлось недолго. Часа через два Москвин-Волгин вернулся. По улыбающемуся лицу, густо усеянному, как у мальчишки, крупными веснушками, нетрудно было догадаться, что вернулся он не с пустыми руками.
Так и оказалось.
У редакционного подъезда ждал извозчик, который мигом доставил их в галантерейный магазин, где встретил сам хозяин, хорошо знавший репортера Москвина-Волгина. В долг ему, без всякой расписки, были выданы деньги, спутники его снабжены одеждой, бельем, обувью и даже носовыми платками. Так же быстро решилось и устройство в гостиницу: светлый, просторный номер с высокими окнами, стекла которых были чисты и не засижены мухами, с отдельной ванной, с большим китайским ковром темно-синего цвета, лежавшим на полу, – все было уютным, даже нарядным. Гиацинтов, остановившись посреди ковра, первым делом скинул башмаки, затем пиджак, брюки и, раздевшись догола, направился в спальню. Уже оттуда, перекрывая шум льющейся воды, крикнул:
– Алексей, низкий поклон за такую благодать! Вечером жду в гости, на званый ужин. Обязательно приходи, иначе обижусь и ничего не расскажу.
Впрочем, и вечером он ничего не рассказал своему давнему другу о том, что ему довелось испытать за последнее время, только вздохнул, нахмурился и, притушив в пепельнице дорогую сигару, попросил:
– Спрячь свой блокнот подальше и больше не доставай. Придет время, сам попрошу, чтобы ты выслушал. А сейчас – извини… Давай лучше, как в былые годы, споем нашу, застольную…
И он затянул сильным красивым голосом старинную песню, которую они любили когда-то распевать на шумных, а порою и буйных студенческих вечеринках:
Нелюдимо наше море…Алексей по-бабьи подпер веснушчатую щеку ладонью и поддержал его:
День и ночь шумит оно…Хорошо, душевно пели бывшие студенты славного Московского университета. Даже Федор выглянул из спальни, белея в темном проеме кальсонами и нижней рубахой; стоял, склонив к плечу голову, слушал. А когда песня закончилась, тихо, почему-то на цыпочках, отошел от двери.
– Может, его к столу позвать… – предложил Москвин-Волгин.
– Нельзя, – строго ответил Гиацинтов, – ему пить нельзя. У него так организм устроен от природы, что от малой капли голову теряет. Пусть отдыхает – сытый теперь, в тепле, в мягкой постели… Золотой человек, душа как у ребенка – безгрешная и как у старца – мудрая. Не будь рядом Федора, я, пожалуй, не выжил бы. Вот о ком писать надо, Алексей. Ладно, напишешь еще, какие твои годы…
– Не надо про мои годы… Если не желаешь рассказывать о прошлом, тогда поведай о будущем. Что ты намерен делать дальше?
– Дальше? Дальше мы будем пить вино и петь песни. А еще я буду наслаждаться вот этой шелковой рубашкой, которая сейчас на мне, и предвкушать, как я лягу спать на чистую, хорошо выглаженную простыню.
– И как долго ты намерен это проделывать?
– Пока не надоест. А надоест, поверь мне, еще не скоро.
– Владимир, я не первый день тебя знаю. Давай без этого шутовского тона. О чем ты еще хочешь меня попросить?
Гиацинтов рывком поднялся из-за стола, прошелся по номеру, остановился напротив окна и стал вглядываться в ночную темень, разорванную желтыми пятнами фонарей, словно хотел там что-то увидеть. Долго молчал. Затем, не оборачиваясь, резко и громко заговорил:
– Попросить я тебя хочу только об одном, самом главном. И заключается это главное в том, что я должен в самое ближайшее время непременно разыскать поручика Речицкого, с которым служил в Забайкальском полку.
– Зачем? Для чего?
– Все подробности, причины и следствия я поведаю отдельно. Главное – нужно его найти. Родом, насколько мне известно, он отсюда, из Петербурга. Ты же был военным корреспондентом «Русской беседы», у тебя должны остаться связи, возобнови их, узнай. Если его нет в Петербурге, то где он может находиться… Сам я сделать этого сейчас не могу. А ты – сможешь. Найдешь – я твой вечный должник. Поверь, ничего более важного на сегодняшний день в моей жизни нет, – Гиацинтов пристукнул крепко сжатым кулаком по подоконнику, обернулся и прошептал: – Понимаешь, я этого момента, чтобы встать перед ним и в глаза посмотреть, несколько лет жду. Иногда ночами снится… Поэтому и объявляться не хочу раньше времени, чтобы он не узнал.
– Хорошо, я все сделаю. Только все-таки поясни – почему ты не желаешь рассказать подробно? Одни полунамеки и недомолвки…
– А потому, дорогой Алексей Харитонович, что вот здесь, – Гиацинтов постучал по груди ладонью, – столько всего накопилось, что я боюсь раскрывать рот и боюсь что-либо рассказывать – захлебнусь! После, когда-нибудь… А теперь наливай вина, будем песни петь…
Москвин-Волгин недоуменно покачал головой, сморщился всем своим веснушчатым лицом, изображая полное разочарование, и послушно протянул руку к графину с вином.
11
Репортер «Русской беседы» Москвин-Волгин был человеком слова, что довольно редко встречалось среди людей его профессии, которые, как правило, были многоречивы и говорливы и, наверное, именно по этой причине многое из сказанного сразу же забывали. Он отличался среди пишущих собратьев одним несомненным достоинством: если его о чем-то просили и он говорил «да», можно было не сомневаться – в лепешку расшибется, но сделает. Однако, если на просьбу отвечал «нет», это значило, что ответ окончательный и переубедить его невозможно – хоть на коленях ползай, не уговоришь.
Все это Гиацинтов прекрасно знал, очень ценил эти качества старого друга и поэтому, не выходя из гостиницы вот уже четвертый день, терпеливо ждал, коротая время за чтением газет и за разговорами с Федором, который никак не мог привыкнуть к гостиничному номеру и все ручки дверей открывал с великой осторожностью: подкрадывался, словно на охоте, боязливо протягивал руку, шептал что-то непонятное и лишь после этого неслышно входил в спальню или в ванную. Гиацинтов посмеивался, наблюдая за ним, но Федору, видно, было не до смеха, и он шепотом говорил:
– Володя, а Володя, слушай меня, шибко богато здесь… Пойдем в другое место. Где богато – там худо.
– Ты настоящего богатства не видел, Федор. А это – так, скромная бедность. Не нищета, конечно, но – бедность. Так что ходи свободно, вольно и не осторожничай.
Федор вслух не возражал, но по номеру продолжал передвигаться с прежней боязливостью.
На четвертый день, уже поздно вечером, появился Москвин-Волгин. Одной рукой он приглаживал растрепанные рыжие волосы, а другую вздымал вверх, словно страстный оратор, собирающийся обрушить на своих слушателей горячую речь. Но речь произносить не стал, безвольно и безнадежно уронил поднятую руку, вздохнул:
– Чем дальше в лес, тем гуще заросли, и даже просвета не видать. Я уже ничего не понимаю, дорогой мой друг Владимир. Зачем тебе этот поручик, тем более что он по ранению оставил военную службу и трудится сейчас скромной серой мышкой – не то делопроизводитель, не то регистратор в Скобелевском комитете.
– Не слышал про такой комитет, поясни…
– Поясняю. Создан во время войны благодаря хлопотам княгини Белосельской-Белозерской, которая является сестрой покойного Михаила Дмитриевича Скобелева. Надеюсь, кто такой Скобелев, тебе рассказывать не надо?
– Спасибо, знаю.
– Не стоит благодарить, я бескорыстный. Итак, занимается сей комитет имени генерал-адъютанта Скобелева делом благородным и нужным – собирает пожертвования и выдает пособия увечным воинам. Да, забыл главное. – Москвин-Волгин, как хороший актер, выдержал долгую паузу и закончил: – Завтра у Речицкого состоится свадьба, венчание намечено в Андреевском соборе, что на Васильевском острове, в два часа пополудни. Кто является его счастливой избранницей, я выяснить не успел. И все-таки – зачем он тебе так срочно понадобился? Может, расскажешь…
– Обязательно расскажу, придет время – все расскажу, как на исповеди. Алексей, тебе секундантом на дуэли быть не приходилось?
– Бог миловал.
– Ну, тогда считай, что на сей раз эта милость отменяется. Будешь моим секундантом.
Москвин-Волгин взъерошил свои рыжие волосы, потянул их вверх двумя руками, словно хотел приподнять себя над полом, и сердитым голосом, в котором уже не слышалось никакой насмешки, закричал:
– Да ты с ума сошел! На войне не настрелялся?! Мало японцев положил, теперь давай по своим палить?!
– Не кричи, тебе это совсем не к лицу. Ты же не истеричная девица. Значит, завтра в два часа пополудни… Замечательно! Времени, чтобы подготовиться, у меня достаточно. А тебя, Алексей, я жду тоже завтра, вечером, часов в семь. И никаких вопросов сейчас, умерь на время свое любопытство.
– Завтра так завтра, – вздохнул Москвин-Волгин, постоял посреди номера, словно пытался что-то вспомнить, посмотрел на Гиацинтова с искренним состраданием, как смотрят на безнадежно больных, и молча вышел.
На следующий день, ровно в два часа пополудни, Владимир Гиацинтов стоял у входа в Андреевский собор, чуть в отдалении от остальных гостей, и мило улыбался, оглядываясь вокруг, словно радовался от всей души предстоящему венчанию молодых. В одной руке он держал пышный букет белых роз, а в другой – маленькую деревянную шкатулку, украшенную витиеватой резьбой. Во фраке, в белой накрахмаленной манишке, в сияющих, зеркально начищенных ботинках, Гиацинтов смотрелся настоящим красавцем – высокий, широкоплечий, уверенный. Загорелое, резко очерченное лицо придавало ему необычность, и он ловил на себе любопытные взгляды молодых дам, но вида, что он эти взгляды замечает, не подавал и продолжал мило улыбаться, посматривая на открытые двери храма, откуда должны были скоро появиться молодые.
Улыбаться он перестал, когда отставной поручик Речицкий вышел со своей избранницей из собора. Губы сжались, глаза потемнели и прищурились. Не отрываясь, он смотрел на Речицкого. А тот, смущенный всем происходящим, растерянно и, видно, невпопад что-то отвечал гостям, которые его поздравляли, и все отводил за спину правую руку, словно стеснялся, что из рукава праздничного костюма виднеется черный протез. Совсем юная невеста тонкими пальцами, затянутыми в кружевную перчатку, пыталась придержать фату, но резкий ветерок вырывал ее, и фата, закрывая лицо, весело порхала в воздухе.
«Умилительная картинка, слеза пробивает…» – со злостью подумал Гиацинтов и стал подниматься по ступеням к молодым. Подошел он к ним с прежней милой улыбкой. Поклонился, вручил невесте букет и, выпрямившись, взглянул, прямо в глаза, Речицкому. Тот взгляда не отвел. Смущенную растерянность с лица будто смыло, и оно стало суровым. Гиацинтов смотрел и молчал. Вот и сбылось его неистовое желание, выношенное за долгое время, он смотрел в глаза ненавистному человеку и был уверен, что теперь этот человек в полной его власти и от наказания не уйдет. Только бы не сорваться…
– Поздравляю, господин поручик. Искренне рад, что вы приобрели столь прекрасное сокровище. – Гиацинтов восхищенно взглянул на невесту и протянул Речицкому шкатулку. – Это вам, на долгую и счастливую семейную жизнь.
– Благодарю. – Речицкий принял левой рукой шкатулку, даже не взглянув на нее, и хрипло, на вздохе, произнес: – А я верил, что вы не погибли, Владимир Игнатьевич, всегда верил, что вы остались в живых.
– А я всегда верил, что мы с вами обязательно встретимся, господин поручик. Еще раз поздравляю, и не забудьте сегодня в шкатулку заглянуть, – Гиацинтов поклонился невесте и быстро, не оглядываясь, спустился по ступеням и скорым шагом пошел по мостовой, у края которой стояли нарядные экипажи и ветер бойко трепал на дугах разноцветные ленты.
Мимо экипажей, мимо нарядных гостей, мимо нищих, рассевшихся в ожидании щедрого подаяния, мимо цветочницы, у которой недавно покупал белые розы, Гиацинтов просквозил, словно стрела. Не шел – бежал. Потому что боялся – не сдержит сейчас себя, развернется, кинется по ступеням и… Сжимал кулаки с такой силой, что побелели казанки.
Сзади, догоняя его, раздался цокот конских копыт и громкий, знакомый голос окликнул:
– Владимир Игнатьевич, не бегите так быстро, лошадь за вами не поспевает!
Оглянулся – ну конечно! Кто еще мог его окликать, кроме Москвина-Волгина. Не дожидаясь приглашения, Гиацинтов ловко запрыгнул в коляску, уселся и сердито спросил:
– Следил?
– Никак нет – любопытствовал. А любопытство, позвольте вам доложить, является составной частью моего репортерского ремесла. Кстати, хочу спросить – а что находится в той шкатулочке, которую вы преподнесли жениху?
– В шкатулочке, – передразнил Гиацинтов своего друга, – находится коротенькая записочка. И сообщается в ней, что Речицкий – трус и подлец и что завтра мы с ним будем стреляться. А еще написан адрес, где я нахожусь, и время, когда он должен явиться. Так что предстоит тебе завтра исполнять роль секунданта. Вечером хотел сообщить, но ты, как всегда, впереди, будто скаковая лошадь…
– Такова моя участь – не бежать следом за событиями, а предугадывать и опережать их! – Москвин-Волгин неожиданно сбился с шутейного тона и заговорил совсем по-иному: – Ты же отличный стрелок, а ему придется стрелять с левой руки. Это убийство, а не дуэль! И на следующий день после свадьбы… Ты что, не мог подождать?
– Не мог. А стрелять ему с правой руки надо было в другом месте. И все! Хватит! Вези меня до гостиницы, завтра, в десять часов, жду без опозданий!
12
Но утром, гораздо раньше назначенного часа, первым в дверь номера постучал Речицкий – громко и требовательно. Гиацинтов только что вышел из ванной, на плечи у него было наброшено широкое махровое полотенце, и он, не снимая его, направился открывать, подумав, что это пришел по какой-то причине коридорный. Увидев перед собой Речицкого, удивился, но вида не показал, пригласил пройти.
Из спальни, разбуженный стуком, выглянул Федор, да так и замер, ухватив руками кальсоны, которые собирался поддернуть. Он, конечно, узнал Речицкого и поэтому растерялся, не понимая, что ему делать: то ли обратно отшагнуть в спальню, чтобы ничего не видеть, то ли, наоборот, выйти и внимательней поглядеть на поручика, по вине которого погибла команда охотников. Ничего не придумав, он продолжал стоять в нелепой позе, и лицо у него, всегда добродушное, становилось все более угрюмым.
– Федор, ступай, оденься и выходи, – Гиацинтов сдернул полотенце, кинул его на диван, быстро натянул рубашку и, отойдя к окну, насмешливо сказал: – Простите, господин поручик, что мы одеты не по форме, слишком уж рано вы появились. Не ожидал я…
– Сейчас вы поймете, Владимир Игнатьевич, что ничего странного в моем раннем появлении нет. Я ваш вызов принял, не беспокойтесь, не убегу. Мой секундант ждет в коляске. Но у нас есть время, чтобы вы меня выслушали. Давайте присядем, в ногах, говорят, правды нет.
– А стоит ли нам о чем-то разговаривать? Мне лично все предельно ясно. Федор, ты всех помнишь, кто у нас в команде был?
Федор, появившийся из спальни, одернул рубаху, вытянулся, будто в строй встал, и с готовностью ответил:
– Володя, я всех знаю. – Начал загибать пальцы: – Белобородов, Воронов…
Он старательно перечислял фамилии, произнося их четко и правильно, будто вел перекличку, а когда перечислил всех, никого не забыв, опустил руки и вздохнул.
– Вот, господин поручик, сколько хороших людей из-за вашей трусости отошли в иной мир. Только нам двоим повезло в живых остаться. И вы предлагаете теперь еще разговаривать… О чем?
– О вас, Владимир Игнатьевич. Давайте все-таки присядем. И, если можно, наедине.
Поведение Речицкого сбивало с толку. Ожидал Гиацинтов, уверен был, что отставной поручик испугается, по крайней мере станет оправдываться, но тот смотрел прямо, говорил ровным спокойным голосом, и видно было, что никакого испуга у него нет. Гиацинтов попросил Федора, чтобы тот подождал в спальне, сам же присел к столу; все-таки разбирало любопытство – о чем желает поведать этот человек, которого он так ненавидел, что готов был убить прямо сейчас, без раздумий и без колебаний.
Речицкий несуетливо и основательно сел напротив, оперся на столешницу, закрыв левой рукой черный протез, и заговорил, не сбиваясь, словно читал заранее написанный и заученный текст:
– Вы, конечно, помните вольноопределяющегося Забелина. Он прибыл в полк вместе с вами, и вы, насколько я знаю, были с ним в приятельских отношениях. Так вот, полковник Абросимов, отдав приказ об отступлении полка, отправил Забелина в мою роту и в команду охотников, то есть к вам. Когда я получил приказ, я спросил у Забелина: а как же охотники? И получил ответ: охотники уже поднялись на горный хребет и ушли в тыл к японцам. Тогда я со спокойной душой вывел роту из траншей и повел ее в эту проклятую китайскую деревушку, из которой нас так лихо вышибли японцы. После, когда отошли на новые позиции и привели себя в порядок, Абросимов назначил расследование, обвинив меня в том, что я не дождался охотников и не отступил вместе с ними. Стали разбираться. И когда выяснилось, что Забелин до охотников не дошел, а меня просто-напросто обманул, полковник приказал его арестовать. Тут снова бои, меня ранило в руку. Рана была пустяковая, кость не задело, думал, что заживет, но рука стала гноиться. Отправляют меня в госпиталь, и в это время я узнаю, что Забелин, находясь под арестом, сошел с ума. В госпиталь меня отправили вместе с ним. Дали санитара с повозкой, поехали. Зрелище жалкое: изо рта у Забелина слюна течет, глаза дикие, бормочет что-то несвязное, понять невозможно. Я такое в первый раз видел, даже не по себе стало. Смотрю на него, а самого то в жар, то в холод бросает, никак понять не могу – что со мной? Потом догадался, что температура поднялась. Попросил санитара, чтобы воды принес. Тот лошадь остановил, пошел с котелком воду искать, а мы с Забелиным в повозке остались. И вдруг он в один миг преображается: слюна не течет, смотрит осмысленно и смеется. Радостно смеется. Я начинаю понимать, что передо мной нормальный человек сидит, никакой он не сумасшедший. А Забелин, видя мое удивление, подтверждает: не думайте, поручик, что я тронулся, нет, я свое давнее и тайное желание выполнил – отправил на тот свет выскочку Гиацинтова… И дальше, будто на исповеди, взял и выложил, что он всегда вам завидовал, всегда вас ненавидел, и еще говорил, что между вами встала женщина… Много говорил, в подробностях, ему, видно, очень хотелось выговориться, так хотелось, что он даже потерял осторожность. Может, еще и потому, что видел мое состояние: я уже почти не слышал его, сознание терял, потому что гангрена, оказывается, началась. Как добрались до госпиталя – не помню. Очнулся уже в палате и без руки. После я пытался найти Забелина, наводил справки. Его отправили в скорбный дом, но он оттуда быстро исчез. Куда – неизвестно до сих пор. Вот это я и хотел сказать вам, Владимир Игнатьевич. Посчитал своим долгом. Дуэль непредсказуема, мало ли что… А теперь – я к вашим услугам. Мой секундант, как я говорил, ждет.
Речицкий поднялся, одернул левой рукой полу пиджака, расправил плечи и вскинул голову.
Гиацинтов продолжал сидеть за столом и был в полном недоумении. Спросил:
– Вы считаете, что я вам должен поверить?
– Я ничего не считаю, – последовал четкий ответ, – все, что хотел сказать, я сказал.
– А невеста знает, что вы на дуэль отправились?
– Знает.
– И, наверное, плачет?
– Нет, она не плачет, она молится за меня.
В это время дверь спальни открылась, и Федор, высунув в проем голову, подал голос:
– Володя, а Володя, слушай меня – он правду говорит!
– А почему ты так решил? – удивился Гиацинтов и даже поднялся из-за стола.
– Мне сердце подсказывает. Сердце меня не обманывает. Правду человек говорит, ему верить надо. – И, сказав это твердым голосом, Федор осторожно прикрыл дверь, видно, посчитал, что больше слов тратить не нужно.
Гиацинтов мало знал поручика Речицкого, с которым они прослужили в Забайкальском полку не больше полутора месяцев, да и за этот короткий срок охотники несколько раз уходили на задания. Получается, что виделись лишь считаные дни: козырнули друг другу, перекинулись несколькими ничего не значащими фразами – вот и все. И хотя говорят, что на войне человека можно узнать за один день, им такого испытать не довелось. А вот вольноопределяющегося Забелина, с которым были знакомы еще со студенчества и с которым вместе отправились на дальневосточный фронт, Гиацинтов знал хорошо… И еще эта фраза, «что между вами встала женщина…» Ее мог в запале выкрикнуть только Забелин, она никак не могла быть известной поручику. Выходит, что Речицкий говорит правду? А он, Гиацинтов, все это время напрасно лелеял и взращивал свою злобу? И еще Федор… Ему Гиацинтов верил, как самому себе, и ни капли не сомневался в том, что чистое и безгрешное сердце тунгуса не обманывает. Но оставалось ощущение чего-то не до конца ясного и уверенного, топорщилось и противилось смутное, неосознанное чувство, как бывало на войне, когда возникала посреди тишины и покоя ничем, казалось бы, не оправданная тревога, грызла неотступно, а позже, когда рушились внезапно тишина и покой, оказывалось, что тревога эта возникла совсем не напрасно.
Стоял Гиацинтов над столом, уперев кулаки в столешницу, молчал и не знал, что сказать. Не мог он сразу признать свою неправоту, не мог с миром отпустить Речицкого – слишком все просто и примитивно получалось, как будто лопнул мыльный пузырь.
– Да вы не мучайтесь, Владимир Игнатьевич, – словно прочитав его мысли, Речицкий пришел на помощь, – даже если вы мне поверите, это ровным счетом ничего не изменит. Вашу записку, в которой вы назвали меня подлецом и трусом, прочитала моя жена и ужаснулась. А слово «честь» для меня не пустой звук. Мы все равно будем стреляться. Я жду вас внизу.
Он четко повернулся, будто на строевых занятиях на плацу, направился к выходу из номера и уже протянул левую руку, чтобы открыть дверь, как дверь перед ним неожиданно распахнулась и на пороге появился растрепанный и тяжело дышавший Москвин-Волгин. Быстрым, веселым взглядом окинул Речицкого, Гиацинтова и облегченно выдохнул:
– Вот и славно, что все в наличности и в полном сборе. Я вам, господа, доставил срочную телеграмму, – из оттопыренного нагрудного кармана пиджака он ловко выдернул телеграфный бланк, развернул его и близоруко поднес к глазам: – Разрешите зачитать… Итак, дословно: «ВЛАДИМИРУ ГИАЦИНТОВУ ВЯЧЕСЛАВУ РЕЧИЦКОМУ ПРИКАЗЫВАЮ ГЛУПУЮ ДУЭЛЬ ОТСТАВИТЬ ЖДУ МОСКВЕ ЕСТЬ ВАЖНОЕ СООБЩЕНИЕ ПОЛКОВНИК АБРОСИМОВ».
Прочитав, Москвин-Волгин осторожно положил телеграфный бланк на стол, разгладил его двумя ладонями и радушно пригласил:
– Можете подойти и убедиться в подлинности.
Глава вторая
1
Снег, выпавший накануне Покрова, не таял, и ясно было, что лег он накрепко – на всю долгую зиму. Два дня стоял легкий морозец, а после него, будто передохнув, со щедрого неба снова повалил снегопад. Коней запрягали в сани и на санях подвозили хлебные снопы на молотьбу; в избах наводили чистоту, вставляли вторые рамы, а кто не успел посуху, срочно засыпали завалинки и затыкали отдушины – до тепла теперь далеко и надо было готовиться к морозам. Рубили капусту, и ребятишки весело грызли сахарные кочерыжки, которые казались слаще пряников.
Но все эти труды, по завершению летней и осенней страды, были легкими, исполнялись играючи, без надсады, и даже сама жизнь в деревне, казалось, замедлилась, неторопливо затекая в новое русло.
Над избами, где готовились к свадьбам, по-особому ядрено и густо поднимался бражный дух – варили домашнее пиво. Дух этот смешивался с тошнотным запахом паленого пера, потому что в это же время обычно забивали гусей, ощипывали их и пламенем от сосновых лучин опаливали крупные тяжелые тушки. Иные из хозяев уже рушили скотину, и на заборах висели, вывернутые наизнанку, бычьи шкуры. Над шкурами, выклевывая мездру, порхали зеленокрылые синички, которых в Покровке называли мясниками. За день успевали они выклевать шкуры дочиста.
И все это совершалось, в полном безветрии, под тихо плывущим снегом, когда невозможно было понять, откуда он плывет – то ли с небес на землю, то с земли в небеса.
Вот и Матвей Петрович, вышагнув из часовенки, куда он все-таки добрался, когда отпустила спина, остановился и замер, забыв прикрыть за собой тяжелую дверь. Снег перед ним стоял стеной – без просвета. И не виделось через его плотную завесу ни одного дома, ни одной крыши – будто вся округа спряталась. Но Матвей Петрович и через белую стену угадывал все улицы Покровки, каждый дом в отдельности – он ведь помнил, как эти дома строились, как на месте избушек поднимались крепкие тесовые крыши, осеняя просторные пятистенки, срубленные из толстого кругляка, срубленные прочно и надолго.
Лежала перед ним деревня, которую он сам родил и которую вынянчил, словно маленького ребятенка, поставил на ноги и теперь любуется ею, довольно покряхтывая, – экая красавица вызрела!
По-особому виделись ему дома, которые он ставил когда-то своим сыновьям, а те, в свою очередь, своим, внукам Матвея Петровича, и разрасталось черепановское дерево, выпуская в мир все новые и новые ветки, обильно покрываясь пышной кроной – ровным счетом пятьдесят душ было на нынешний день в большой родове, прочно спаянной под строгим присмотром. Есть чему порадоваться на старости лет…
И вот так, в добром настроении и в добром здравии, после долгой и душевной молитвы, Матвей Петрович спустился с пригорка, оставив за спиной часовенку, дошел до сыновьего дома, поднялся на крыльцо и, уже раздеваясь у порога, услышал громкий, как всегда торопливый и заполошный, голос снохи Анфисы:
– Он откуда здесь взялся?! Это ему краля подарила?! Да Дашке ни в жизнь такую тонкую работу не осилить! Это ведь он, паршивец, не иначе на подарок купил, такие деньги выкинул! Ты погляди, Василий, погляди, чего твой племянничек вытворяет!
Василий Матвеевич в ответ своей супруге что-то неразборчиво бормотал, но Матвей Петрович не расслышал, да и не любопытно было ему – о чем там голосит Анфиса… Мало ли какая блажь втемяшится в голову глупой бабе?! Разделся, легкие катанки снял, поставил на приступок у печки для просушки и, оставшись в одних белых вязаных носках, вошел в горницу. Вошел и будто запнулся о высокий, невидимый порог – ноги сами собой дрогнули и остановились, когда увидел в руках у снохи длинный белый шарф, сотканный из тонкой ажурной материи. Он лежал, в несколько раз сложенный, на крупных ладонях Анфисы, и концы его чуть заметно шевелились, словно дул на них легкий ветерок.
– Вот, тятя, погляди, какое приданое у твоего внука валяется! – Анфиса вытянула руки и поднесла шарф под самый нос Матвею Петровичу, будто хотела, чтобы он его понюхал. – Стала сегодня прибираться, подушку подняла, а там…
И все совала, совала шарф тестю, а он перед снохой отступал, не говоря ни слова, и его большая, на всю грудь, седая борода вздрагивала, будто противилась подношению и не хотела его принимать.
До самого порога допятился Матвей Петрович, уперся спиной в косяк и кашлянул надсадно, будто прочищая горло, а затем тихо, шепотом, спросил:
– Откуда он здесь?
– У внучка спроси, тятя, откуда он его раздобыл. Мне он не докладывался…
Матвей Петрович, ни слова больше не говоря, осторожно, даже боязливо, взял шарф, скомкав его в ладони, и мотнул головой, показывая, чтобы Василий и Анфиса вышли из горницы.
Они его без слов понимали. Послушно исчезли, а Матвей Петрович, поднеся шарф к самым глазам, вспомнил недавний сон, приснившийся ему накоротке утром, и подумал: «Это что же, сон-то, выходит, в руку?!»
И замер, продолжая сжимать в ладони тонкий, нежный шарф.
Долго стоял, не шевелясь, будто приклеился вязаными носками к половице. А затем, словно очнувшись, быстро вышел из горницы, позвал Анфису и приказал ей срочно разыскать Гриню:
– Чтобы в сию минуту здесь был!
А сам торопливо начал одеваться и обувать валенки. Но все у него шло вразлад: то рука не лезла в рукав полушубка, то ронял на пол шапку, поднимал ее и снова ронял – на самого себя непохож был Матвей Петрович, всегда степенный во всех движениях. А тут будто на глазах переродился. Суетился, шумно сопел, что-то шептал беззвучно, шевеля губами, и виделся в своей растерянности и в неловкости глубоким, беспомощным стариком. Василий Матвеевич печально глядел на него, но помогать не кинулся, потому что распрекрасно знал отцовский характер: пока сам не позовет, лучше не лезть, иначе и грозный окрик схлопочешь.
Наконец-то Матвей Петрович снарядился. Нахлобучил шапку и выбрался на крыльцо, не застегнув полушубка.
А в ограду уже вбегал, широко раскидывая длинные ноги, Гриня, и глаза его горели готовностью выполнить любое указание. Скрыть свой неудачный поход в Пашенный выселок ему не удалось, добрую выволочку от деда он все-таки получил и чуял теперь, что сердить его лишний раз совсем не следует.
Матвей Петрович, не глядя на него, сердито буркнул:
– Кошевку запрягай.
Метнулся Гриня к конюшне и мигом запряг коня в кошевку, подкатил ее прямо к дедовым ногам. Матвей Петрович уселся, перенял вожжи у внука и еще раз коротко буркнул:
– Со мной поедешь.
Гриня послушно пристроился в задке кошевки и притих. Разбирало его, конечно, любопытство – куда они в такой спешке отправляются, по какой надобности? Но видя, что дед не в себе, вопросами его не тревожил, здраво рассудив, что лучше подождать – само по себе выяснится.
Между тем Матвей Петрович, уверенно правя конем, направлял его по тому же самому пути, по которому несколько дней назад проехал Гриня: через поляну за деревней, через поле и дальше – прямо в сосновый бор, а там, нигде не сбившись, поднялся на верхушку увала. Остановил коня, привязал вожжи к передку кошевки и осторожно, чтобы не запнуться, вышагнул на снег, который чуть слышно хрустнул под его валенками. Гриня выскочил следом, встал у него за правым плечом и переминался с ноги на ногу, по-прежнему не решаясь спросить – зачем они сюда приехали? Долго стоял Матвей Петрович, смотрел на высокие сосны, украшенные нападавшим накануне снегом, о чем-то думал и будто забыл о том, что приехал сюда не один. Гриня уже заскучал, переминаясь рядом, но продолжал безропотно тянуть лямку послушного внука. Поэтому и вздрогнул от неожиданности, когда дед выдернул из-за пазухи белый шарф, вскинул его в крепко зажатой ладони над головой и грозно крикнул:
– Где он висел, на какой сосне?!
Запираться и отнекиваться, мол, я не я и тряпка не моя, Гриня не стал, чего уж тут юлить, от деда все равно ничего не скроешь. Поднял руку, показал на сосну, на нижней ветке которой он обнаружил несколько дней назад неожиданную находку.
– Повесь на место, – приказал Матвей Петрович и передал ему шарф.
Гриня стянул рукавицу, ощутил пальцами легкую, сколь зящую ткань и пошел, почему-то спотыкаясь на ровном, к сосне. Перекинул шарф через нижний сук, завязал на легкий узел, чтобы не соскользнул он на землю, и, спотыкаясь по-прежнему, вернулся к кошевке, растерянный донельзя: как же так получилось-то, как догадался дед, что шарф нашелся именно на увале?!
А Матвей Петрович, не давая времени на раздумья, сурово потребовал:
– Рассказывай, как было. Все рассказывай…
И пришлось Грине вспомнить ночь, когда били его пашенские парни, вспомнить коня, белого от макушек ушей до копыт, его быстрый, беззвучный ход, девушку, которая сидела на этом коне, рассыпая звонкий смех; вспомнил, как наутро он приехал на этот увал и увидел висящий на сосне шарф. Ничего не утаил, все выложил как на духу, даже доверился и рассказал, что все эти дни, пока у него шарф находился, его неудержимо тянуло сюда, на увал, будто кто в спину подталкивал – ступай, ступай… Но он желание это пересилил, не поехал. И любопытно ему было теперь до крайности – что же такое перед его глазами приключилось? Наяву было или поблазнилось? Если поблазнилось, откуда шарф появился?
Матвей Петрович не ответил. Молча забрался в кошевку, уселся, показал Грине на привязанные к передку вожжи и лишь после этого нехотя обронил:
– Поехали.
До самого дома он молчал, а дома, уже в ограде, сказал:
– Ты, Гриня, помалкивай, никому ни слова… На увал больше – ни ногой. После я тебе все растолкую.
2
Во второй половине дня Варя возвращалась после уроков из школы и всякий раз останавливалась перед черепановским домом, чтобы полюбоваться на изумительной красоты деревянную резьбу, украшавшую карниз, перила крыльца и наличники окон. Глядя на эту красоту, хотелось запеть. И всякий раз, замирая перед домом, Варя недоумевала: неужели это нежное чудо мог сотворить Василий Матвеевич, грубоватый на вид и на слово, с корявыми и широкими руками, в которых даже тяжелый колун казался игрушечным. А здесь такая филигранная работа…
Поначалу она даже ахала и всплескивала ладошками:
– Анфиса Ивановна, неужели это все Василий Матвеевич один сделал?!
– Ну а кто еще-то? Таких, как он, мешком стукнутых, поискать надо! Глянешь иной раз – куда с утра уперся? В бор поехал! Притащит лесину, на доски распилит и всю зиму над этими досками горбатится, узоры вырезает. Я поначалу-то, когда молодая была, тяте жаловалась, думала, остепенит он Василия, да только жалоба моя ко мне же и прилетела. Так тятя сказал: ладно, говорит, Анфиса, наставлю я сына на правильный путь, посоветую ему водку трескать и тебя каждый день лупить, пока не поумнеешь. Больше я и не привязывалась, пускай строгает, если ему в удовольствие, убытка-то хозяйству никакого нет.
– Но ведь это такая красота!
– Красота-то красота, девонька, да только мне любоваться некогда.
И это было сущей правдой. Времени, чтобы любоваться, Анфисе никогда не хватало – пятеро ребятишек, шесть коров, четыре коня, а еще гуси, куры, овечки, свиньи с поросятами и большущий огород. Вот и крутись, как колесо на водяной мельнице. Когда ребятишки выросли, обзавелись своими семьями и домами, дел у Анфисы все равно не убавилось, а тут еще свекор с племянником на житье перешли, их кормить-обстирывать надо – крутись, любезная, по-прежнему.
К новой постоялице в доме Анфиса отнеслась, как к родной дочери, – тепло и душевно. И хотя громко голосила по любому поводу и даже строжилась над ней, Варя нисколько не обижалась, потому что чувствовала – сердце у Анфисы доброе и незлобивое.
Вот и сейчас сразу заторопилась в дом, услышав с резного крыльца крик:
– Ну, и долго ты ворон считать будешь?! У меня самовар стынет!
За чаем, подкладывая Варе большие ломти пышной шаньги и ближе подвигая тарелку с творогом и со сметаной, Анфиса рассказывала:
– Василий Матвеич-то с Гриней за сеном поехали, за Обь, и тятя с ними отправился, не утерпел. Теперь вот переживаю, лед-то еще не шибко крепкий, как бы беды не случилось… А ты чего не ешь? Клюешь, как синичка! Ты крепче, крепче кушай, а то худая, как соломина, дунет падера, и унесет тебя за деревню – где искать станем?
Собственная шутка Анфисе очень понравилась, и она рассмеялась долгим, дробным смешком. И вдруг осеклась, прислушиваясь:
– Никак калитка стукнула… Каки-то гости к нам пожаловали…
Не поленилась, поднялась из-за стола и выглянула в окно, чуть приоткрыв занавеску. Да так и замерла, забыв ее опустить. Охнула от удивления и протяжно выговорила, словно пропела:
– Ну, лахудра бесстыжая! Идет и не запнется, чтоб тебе расшибиться! Средь бела дня прется!
Выговорив-пропев это, Анфиса проворно вернулась за стол, присела на лавку и, чинно сложив руки, снова замерла, поджав узкие губы и устремив взгляд в двери, которые распахнулись, и на пороге появилась Дарья Устрялова. Встала в дверном проеме, красивая, как картина в раме, и, отмахнув каштановую косу за спину, поздоровалась:
– Добрый день, добрые люди! Хлеб да соль вам!
Анфиса кивнула в ответ, но узких губ не разомкнула. Варя отозвалась негромким голоском:
– Здравствуйте.
– Тетя Анфиса, не выручишь нас? Приехали с тятей в гости к нашим, а у них соль кончилась, не одолжите горсточку?
И смотрела, улыбаясь, будто не замечая неприветливого вида хозяйки, светилась, радостная, словно не соли пришла одалживать, а принесла счастливое известие, за которое ожидала благодарных слов.
Но таковых не дождалась.
Молча поднялась Анфиса из-за стола, молча открыла дверцу навесного шкафчика и достала оттуда деревянный туесок, украшенный причудливой резьбой, в котором хранилась соль. Расстелила на столе чистую тряпочку, наклонила туесок, чтобы насыпать соли, и вдруг туесок, без всякой видимой причины, выскользнул у нее из рук, прокатился по столу, оставляя за собой кривую белую полоску, и с громким стуком упал на пол. Варя от неожиданности даже вздрогнула. Анфиса же, наоборот, не охнула, руками не всплеснула, стояла будто окаменелая, смотрела на опрокинутый туесок, на рассыпанную соль, и лицо у нее становилось обиженным, словно собиралась от огорчения заплакать. Но нет – плакать она не собиралась. Руки в бока уперла, двинулась грудью на Дарью и разомкнула, наконец-то, крепко сжатые, узкие губы:
– За солью, говоришь, пожаловала?! А не за Гриней ли ты сюда заявилась, бесстыжая?! И как только твои шары от стыда не лопнут! Заманила парня, голову ему закружила, под кулаки поставила, а теперь, когда он на тебя плюнул, бегаешь за ним, как собачонка, вынюхиваешь, где он пребывает! Хоть покраснела бы для приличия!
Дарья вспыхнула маковым цветом, но совсем не от смущения, а по причине отчаянной решимости. Зазвенел высокий голос:
– А хоть бы и так! Мой он, владела им и владеть буду! Захочу – без соли съем! Так ему и передайте, как я сказала!
Толкнулась спиной в двери, выскочила в сени и просквозила на улицу, оставив за собой калитку распахнутой настежь. Не слышала, что ей вслед сердито выговаривала Анфиса, да и слышать не желала. Хрустела валенками по мерзлому снегу, торопилась, срываясь на бег, и жарко, отрывисто от сбившегося дыхания, шептала:
– Мой ты, Гриня, мой будешь! Зубами ухвачусь, а не отпущу!
Трепетала гордая душа, не желала смириться. Да и как она могла смириться, если недавно еще люто завидовали Дарье все пашенские девки: такой парень красивый и жених завидный, да из семьи не бедной, вьется вокруг, готовый, кажется, ноги мыть и воду пить, а она красуется и морщится, будто королева заморская. Да окажись на ее месте любая девка пашенская, да помани ее Гриня хоть пальчиком, побежала бы без оглядки, только подол бы у юбки вился… И таяла от удовольствия Дарья, догадываясь о затаенных мыслях своих подружек, в радость ей было, что она не такая, как иные, а особенная. И вдруг ахнулось все, как в яму глубокую, даже не булькнуло. Не появлялся Гриня на вечерках в Пашенском выселке после памятного вечера и драки с парнями, не искал встреч, когда Дарья вот уже в третий раз приезжала в Покровку. Если бы парней пашенских испугался, было бы понятно, да только не боялся он их, уже двоих подкараулил поодиночке и обоим носы распечатал. Нет, не тот человек Гриня и не тот нрав у него, чтобы испугаться, другая причина отвернула его от Дарьи.
Какая?
Вот и хотела узнать и выяснить, вот и направилась прямо в дом к Черепановым, надеясь увидеть там Гриню и услышать от него хоть какое-нибудь слово, да не вышло, как хотелось, – не увидела и не услышала, а только наслушалась обидной ругани от Анфисы. Впрочем, на ругань, которой поливала ее Анфиса, плевала бы она с приступочки – пускай гавкает, ветер унесет; совсем другое корежило – неизвестность. Не знала Дарья истинной причины Грининой остуды и потому не могла придумать способа, чтобы заново, на короткий поводок, привязать его к себе, так привязать, чтобы и пикнуть не посмел.
«С теткой надо поговорить, заделье придумать, чтобы ей помочь, тогда и у тяти отпрошусь, останусь еще на день-другой, вот и посмотрим, где ты, Гриня, суженый мой, ряженый, прятаться от меня изволишь…» Придумав это, совсем неожиданно для самой себя, Дарья даже остановилась, перевела дух, выпрямилась, расправив плечи, перебросила косу на высокую грудь и дальше поплыла по улице, как лебедь по озеру.
3
Гриня в это время, ни о чем не догадываясь, переметывал на сани второй стог и так скоро и ловко кидал плотные пласты пахучего сена, что Василий Матвеевич, не успевая управляться на возу, незлобиво прикрикнул:
– Ты, парень, утихомирься, а то завалишь меня по самую макушку!
Пожалуй, и верно. Можно передохнуть, пока дядька совсем не запалился, принимая и утаптывая тяжелые пласты. Гриня воткнул вилы в сено, оперся грудью на черенок и стащил шапку, подставляя потную голову под легкий морозный ветерок. Над головой у него поднялось белесое облачко. Оглянулся назад, отыскивая взглядом деда, и увидел, что тот, оставляя за собой глубокие следы, бредет по снегу на край луга, к старым высоким тополям, которые ярко врезались темными макушками в чистое, синее небо.
«Это куда его нелегкая понесла?» – подумал Гриня и хотел даже окликнуть деда, но Василий Матвеевич, успев притоптать сено на возу, скомандовал:
– Наваливай, племянничек! Обед скоро, пора щи хлебать!
Скорее так скорее, да и в пустом животе уже булькало, с утра ведь не ели. Гриня поднатужился, выворотил из-под ног едва ли половину оставшегося стога, перевалил его на воз и накрыл Василия Матвеевича с головой. Тот глухо ругался, раскладывая сено, но управился быстро, и вот они уже затянули бастрык[9], подскребли вилами одонья, и все четыре воза готовы были стронуться с места, чтобы потянуться неторопливо в сторону деревни.
Но стронуться пока не могли – Матвея Петровича требовалось дождаться. А он уже из глаз пропал, ушел куда-то за тополя, и на снегу были видны только глубокие следы. Тогда стали кричать, звать его, но Матвей Петрович не отзывался.
Да куда же он убрел-то?!
Гриня покричал еще, покричал и, не дождавшись ответа, пошел по дедовым следам. Добрался до тополей и увидел, что следы, круто завернув влево, спускаются вниз, к маленькому луговому озерку, которое ощетинивалось по берегам густым, серым камышом. Прямо в этот камыш и уходили следы.
«Чего он там позабыл?» – Гриня, удивляясь все больше, начинал тревожиться и убыстрял шаги, почти бежал, благо что снег лежал неглубокий. Проскочил через камыш, увидел на озерке пятачок чистого льда, не заметенного снегом, и хотел уже выскочить и лихо прокатиться по нему, как вдруг опешил и замер на месте. А затем, сам не зная почему, отшагнул назад, в камыш, и присел, скрываясь за сухими стеблями, обметанными густым инеем.
Смотрел, широко распахнув глаза, и глазам своим не верил.
На краю ледяного пятачка, чисто выметенного ветром, стоял Матвей Петрович, низко опустив голову, будто нашкодивший парнишка, а перед ним возвышалась женщина, одетая в легкое белое платье. Длинные седые волосы опускались ниже плеч и сливались с этим платьем. В руке она держала повод, а за спиной у нее, вздергивая головой, будто пытаясь этот повод вырвать, гарцевал белый конь, белый от копыт до макушек ушей. Тот самый, который беззвучно скакал в памятную ночь. Но тогда на нем была девушка, а теперь почти старуха – седая, и лицо у нее в морщинах, темное, будто подкопченное смолевым дымом. Она что-то медленно говорила, а Матвей Петрович, не поднимая головы, слушал и ничего не отвечал. Только слушал. Что она говорила, Гриня не понял, лишь различил необычный голос, напоминавший негромкое, протяжное пение. Напрягался изо всех сил, пытаясь понять, глядел во все глаза, по-прежнему оставаясь в своем укрытии, и в этот раз уже не испытывал ни страха, ни удивления. Ясная и четкая, явилась к нему догадка: нет, ничего ему той ночью не поблазнилось, все наяву было, как и шарф на бугре, который он привязал к сосне. И еще понимал Гриня, что дед все знает: и про этого коня, и про девушку, и про старуху, перед которой стоит сейчас так почтительно.
Тогда почему он Грине до сих пор ничего не сказал, если знает?
Женщина между тем говорить перестала, отступила на шаг и низко поклонилась, а выпрямившись, сразу же повернулась и пошла медленным шагом, не выпуская повода из руки. Конь послушно следовал за ней, встряхивал гривой, и шаг у него был короткий, редкий, будто он подлаживался под медленное движение женщины. Следов за ними не оставалось, и снег лежал нетронутым.
Матвей Петрович, продолжая стоять на прежнем месте, смотрел им вслед до тех пор, пока они не скрылись за молодым ветельником. И лишь после этого, когда белый конь и седая женщина исчезли из глаз, словно растворились в просветах между ветками, обвислыми под снегом, он сдвинулся со своего места и пошел по собственным старым следам, не оглядываясь и горбясь.
Гриня окликать его не стал. Посидел еще, притаившись в камыше, выждал время, чтобы дед его не увидел, а затем быстро, напрямик, добежал до саней, где Василий Матвеевич уже притомился ждать и встретил его сердитым вопросом:
– Вы где оба потерялись? Деда нашел?
– Да вон идет, следом, – Гриня перевел дух, обошел возы, подтыкивая сено, оглянулся – дед был уже совсем рядом. Спокойный, неторопливый, будто ничего и не случилось на маленьком луговом озерке. Глянул на возы, легко взмахнул рукой:
– Трогайте.
– Может, на возу поедешь? – предложил Василий Матвеевич, – чего ноги бить?
– Пожалуй, и поеду. Пособите забраться.
Воткнули вилы в сено, Матвей Петрович, опираясь на них и цепляясь за бастрык, поднялся наверх, уселся и, ловко поймав подкинутые вожжи, стронул коня с места.
Возы, оставляя за собой глубокий санный след, медленно и тяжело потянулись в сторону Оби.
Пока добрались до дома, пока перекидали сено, пока распрягли и напоили коней, короткий день покатился на убыль, и поэтому решили больше за Обь не ездить, хотя с утра собирались сделать две ходки. Матвей Петрович снял рукавицы, высморкался и вздохнул:
– Все, пошабашили. Ступайте обедать, я следом подойду.
Гриня послушно пошел к крыльцу, но вдруг, словно что-то вспомнив, вернулся и увидел, что дед, задумавшись, сидит на краешке саней, низко опустив голову, и рассеянно сбивает рукавицами снег с белых катанок. Гриня осторожно присел рядом, помолчал, набираясь решимости, и спросил:
– Дед, а там, на озерке, ты с кем разговаривал?
Матвей Петрович долго не отвечал, продолжая шлепать рукавицами по катанкам, а затем, как будто и не слышал, о чем его спрашивает внук, тихо заговорил:
– Мудро сказано – нет ничего тайного, что не стало бы явным. Нет такого секрета, который похоронить можно, хоть на три ряда его закопай, все равно кончик наружу высунется. Такие вот дела, Григорий. Говорил я тебе и еще раз скажу: придет время – все узнаешь. Все тебе поведаю, ничего не утаю. А пока помалкивай и с расспросами ко мне не лезь. На будущей неделе я тебя в город отправлю, и пока там одно дельце не сделаешь, домой не вертайся.
– Какое дельце, дед?
– Заковыристое. Но парень ты у нас бойкий, шустрый – осилишь. А теперь пошли в дом, обедать пора.
Отобедали чинно, молча. Но, когда принялись за чай, Анфиса, не в силах сдержать в себе распирающую ее новость, принялась в подробностях рассказывать о том, что приходила Дарья Устрялова и что наговорила она дерзостных слов целый короб и, похваляясь, грозилась, что Гриню без соли съест, потому что имеет над ним власть, какой ни один человек не имеет… И много еще чего наговорила, оказывается, Дарья в пересказе Анфисы и могла бы еще больше наговорить, да только Матвей Петрович стукнул по столу ладонью и прикрикнул:
– Не тарахти! Дай спокойно чаю попить!
И в наступившей тишине громко швыркал, схлебывая чай с блюдца и прижмуривая глаза от удовольствия, будто новость, которую сообщила Анфиса, пролетела мимо его ушей.
4
Но не пролетела эта новость мимо ушей Грини.
Вечером, обрядившись в алую рубаху, подпоясавшись зеленым пояском, торопливо накинув полушубок и насунув на голову шапку, он незаметно выскользнул из дома и зачастил скорым шагом в самый дальний конец улицы, где стоял, последним в правом ряду, большой дом – там жила тетка Дарьи Устряловой. Возле дома, замедлив ход, Гриня успел заглянуть в ограду и увидел, что саней в ограде нет. А это значит, что родитель Дарьи отъехал домой. А сама Дарья отъехала или осталась?
Все эти дни, минувшие с памятной вечерки в Пашенном выселке, он почти не вспоминал о Дарье, а если и вспоминал, то мимоходом, скользом, потому что стояло перед глазами, не исчезая, видение девушки на белом коне. Было оно таким ярким и четким, будто наяву. И все эти дни, даже после того, как побывали они с дедом на увале, где пришлось оставить шарф, привязав его к сосне, даже после этого видение не исчезло. И лишь сегодня, после рассказа Анфисы, словно костерок, притухший на время, заполыхало, как от порыва ветра, жаркое желание – до зла горя захотелось увидеть Дарью. Будто на невидимой веревочке привели его к крайнему дому, возле которого он и топтался сейчас, прохаживаясь то в одну, то в другую сторону, выбирая путь поближе к заплоту, чтобы могли его увидеть из окна.
Увидели.
Глухо состукали двери, скрипнули за глухими тесовыми воротами скорые шаги, открылась калитка, и Дарья, даже не успев застегнуть пуговицы на шубейке, выскочила на улицу и остановилась, замерла, словно пристыла к утоптанному снегу. А после неторопливо застегнула шубейку, поправила полушалок и, перекинув косу на грудь, приблизилась к Грине замедленной, плывущей походкой и чуть заметно склонила гордо посаженную голову:
– Добрый вам день, Григорий Иванович. Какими ветрами в наши края занесло?
– Да никакими, шел мимо, дай, думаю, загляну.
– В прошлый раз сказать чего-то хотел, да не получилось… Чего сказать-то хотел, Гриня?
– Да я теперь уж и забыл. – Гриня нагло смотрел на Дарью, но не в лицо ей смотрел, а на шубейку, в том месте, где она круто оттопыривалась высокой грудью. – Пойдем куда-нибудь, чего мы тут стоим, посреди улицы.
– И все ты, Гриня, за собой куда-то тянешь. То на улицу выйди, то с улицы уйди… – Дарья смотрела на него, чуть прищурив глаза, и улыбалась, будто знала что-то такое, о чем никто даже и не догадывался. – Видно, сказать чего-то хочешь, а не говоришь. Ты уж скажи, Гриня, что у тебя на душе лежит, чтобы знала я, чего от меня хочешь…
– Да ничего не хочу, так…
– Как? – Дарья продолжала улыбаться, чуть приподнимая брови, словно удивлялась, что Гриня не может найти нужных слов.
А он и в самом деле не знал – какие ему слова следует говорить? Не будешь ведь рассказывать о том, что одолевает его сейчас одно-единственное желание – увести Дарью в какое-нибудь укромное местечко и расстегнуть ее шубейку, а там, если повезет, и до кофточки добраться…
Гриня вскинул голову, увидел морозный закат, который уже затухал, уступая место сизым сумеркам, наползающим на деревню, и неожиданно сообщил:
– Стемнеет скоро.
– Ты к чему это говоришь, Гриня? Сказать больше нечего? – Дарья улыбалась по-прежнему, и не требовалось большого ума, чтобы догадаться – смеется красавица над парнем, водит его вокруг себя, как привязанного, и получает от этого большущее удовольствие.
Гриня об этом догадывался, но схитрил, не подавая вида, и выговорил твердо, взгляда не отрывая от шубейки:
– Да есть чего мне сказать, Дарья. Много сказать хочу. Только не здесь, пойдем…
– Куда?
– А я покажу!
И первым, не дожидаясь согласия Дарьи, пошел в конец улицы, где пустовал на отшибе старенький амбар. Раньше хранили в нем общественный запас зерна на случай неурожая или пожара, но после того как построили новый амбар, этот забросили, и стоял он теперь, дожидаясь, когда разберут его на дрова.
К этому амбару и шел Гриня, не оглядываясь, но чутко прислушиваясь – поскрипывают ли за ним шаги Дарьи по снегу?
Поскрипывали…
Остановился возле подгнившего порожка, замер, набычив голову, как перед дракой, и резко обернулся. Молча ухватил Дарью за рукава шубейки и вдернул следом за собой в амбар, притиснул к стене, вздрагивающими руками принялся нашаривать большие костяные пуговицы. Дарья даже не охнула, только ярко, как у кошки, вспыхивали в потемках широко распахнутые глаза.
Стояла она безвольно, ослабнув телом, вся – податливая, и молчала, словно лишилась голоса. Вдруг вскинула руки, сомкнула их в тесное кольцо на шее Грини, и приникла к нему так близко, что он ощутил, как вздрагивают у нее колени.
Сникла гордая и норовистая красавица, и волен был сейчас Гриня делать с ней все, что угодно. Он распахнул, наконец-то, шубейку, сунул руки в тепло девичьего тела и отдернул их, будто обжегся, – увидел в проеме обвислой двери старого амбара, в сумерках, белого коня. Тот шел неторопливой и легкой рысью совсем недалеко. Юная всадница на коне в этот раз не смеялась, она лишь зазывно взмахивала рукой, словно приглашала последовать за собой.
Гриня вылетел из амбара, как пуля, бросился вслед за белым конем и за белой всадницей, летел, отмахивая молодыми ногами огромные скачки, но напрасно – не догнал. И долго стоял в чистом поле, не ощущая самого себя, словно все еще бежал, задыхаясь, хотя не было видно ни коня, ни всадницы.
Окольным путем, чтобы не пересечься с Дарьей, вернулся Гриня домой и, отказавшись от ужина, собрался спать. Но его призвал к себе в горницу Матвей Петрович и сурово известил:
– К Дашке больше не вяжись, с гонором девка, не будет с нее толку. Сядет на шею – хуже хомута, в кровь изотрет. А в Никольск послезавтра отправишься, пока морозы не стукнули и дороги не перемело. Теперь слушай, чего тебе сделать там надобно…
5
Следующий день прошел в сборах.
Попутно, чтобы порожняком туда-сюда не гонять, в сани уложили мерзлые овечьи шкуры, которые Гриня должен был доставить в Никольске скорняку, у которого и фамилия была самая что ни на есть подходящая – Скорняков. С ним у Матвея Петровича имелся давний договор, обоюдно выгодный для каждой стороны: одному шкуры нужны для его изделий, а другому деньги не помешают.
И никто из домашних, кроме Грини и Матвея Петровича, даже не догадывался, что в нынешнем году доставка шкур для скорняка лишь предлог для более важного и скрытного дела.
Вечером хорошенько накормили коня на дальнюю дорогу, а утром, еще потемну, Гриня выехал из ограды и, ловко устроившись на мягком сене в передке розвальней, запрокинул голову и стал смотреть в небо, на котором начинали блекнуть перед рассветом крупные звезды. Под полозьями и под конскими копытами сухо поскрипывал снег, шуршало пахучее на морозе сено, отдалялся и затихал, оставаясь за спиной, редкий собачий лай.
Хорошо было ехать, в полное свое удовольствие – сам себе хозяин и никто над душой не стоит.
И думалось тоже складно и вольно.
Сначала он думал про Дарью, которая раньше не давала ему покоя и даже по ночам являлась в жарких, порою таких стыдных снах, что о них и рассказать никому нельзя; и чем яростней он желал быть с ней рядом, тем обидней она над ним подсмеивалась, а позавчера, будто переродившись, послушно пошла за ним к амбару, таяла в его руках, как восковая свечка тает от огонька. И случилось бы наверняка самое тайное и желанное, если бы не появился белый конь со своей всадницей. И теперь еще стоят они перед глазами, а в воздухе, извиваясь, струится белый шарф, тот самый, который он своими руками привязал к сосне на дальнем увале…
И не было у него сейчас никакого иного желания, кроме одного – снова увидеть девушку на коне и последовать за ней в любую сторону. А Дарья… С Дарьей странная штука, будто на костер, еще вчера полыхавший, ведро воды опрокинули. Он и потух разом. Угли и те не шают. Чудно!
Дальше Гриня думал про город, в котором очень любил бывать. И с плотами туда сплавлялся не раз, и по зиме ездил, и всегда с любопытством вглядывался в городскую жизнь – шумную, бойкую, пеструю. Все там шевелилось, кипело, бурлило, и хотелось с головой нырнуть в эту жизнь, такую манящую и веселую.
И лишь об одном не думал Гриня – о том деле, которое поручил ему дед. Не думал по той простой причине, что не знал, как его исполнить. Дед лишь сказал, как всегда, немногословно – изворачивайся, как можешь, а дело сделай. А как извернуться – не посоветовал. Но Гриня ни капли не горевал: чего, спрашивается, раньше времени голову забивать лишними переживаниями, вот приедет в город, оглядится, тогда само придумается. У него всегда так бывало – как до края доберется, так сразу и умная догадка осенит. Уверен был, что и в этот раз осечки не случится. Все он сделает легко и играючи.
Утренние сумерки между тем проредились до светлой голубизны, обозначилась по правую руку длинная полоса студеной зари, морозец покрепчал, и снег под копытами и под полозьями зазвучал громче.
Новый день начинался.
Скоро Гриня выбрался на прямоезжий тракт, ведущий до Никольска, и здесь уже раздумывать стало некогда. Не зевай, гляди во все гляделки, иначе зацепится дурной лихач за розвальни – беды не оберешься. Особо рьяные удальцы летели на своих тройках по тракту столь стремительно, будто их из тугого лука выстрелили.
Но все обошлось, никакой оплошности не случилось, к вечеру Гриня добрался до постоялого двора, переночевал, а на следующий день, после обеда, был уже в Никольске.
Большой двухэтажный дом Скорнякова стоял недалеко от железнодорожной станции, и когда Гриня подъехал к высоким глухим воротам, донесся длинный, протяжный паровозный гудок – будто оповестили, что гость пожаловал. Но ворота открывать не торопились. Гриня постучал раз, другой – никто ему навстречу не вышел. Тогда он толкнул узкую калитку с толстым железным кольцом, и она перед ним бесшумно и гостеприимно распахнулась. На просторном дворе, выложенном булыжником и старательно очищенном от снега, никого не было, лишь два растрепанных воробья суетливо прискакивали в дальнем углу, где росла высокая рябина, и клевали опавшие ягоды.
Гриня шагнул во двор, остановился и громко позвал:
– Хозяева!
Ему никто не отозвался. Тогда он прошел через двор, поднялся на высокое крыльцо и дернул за витую веревочку, на конце которой висел медный шарик, – знал, по прошлым приездам в город, что после этого должен зазвенеть звонок.
Но и после звонка никто не вышел и не подал голоса.
Гриня потоптался на крыльце, еще раз дернул за веревочку и едва успел отскочить в сторону – широкая, толстая дверь, украшенная снаружи коваными железными завитушками, отлетела настежь, грохнула о стенку сеней, будто из пушки пальнули, и вылетел из нее, перебирая ногами в воздухе, неведомый человек в длинном черном пальто. Полы этого пальто взметнулись, как крылья, и человек продолжил полет, минуя все ступеньки высокого крыльца. Рухнул прямо на булыжник и растянулся черной кляксой. «Убился!» – беззвучно ахнул Гриня. Но человек бойко вскочил и, прихрамывая, шустро кинулся к распахнутой калитке. Нырнул в нее и исчез.
И лишь после этого на крыльцо вышагнул сам хозяин – Скорняков. Был он высоченного роста, широк в плечах и необъятен во чреве – просторная рубаха, в которую можно было троих запихнуть, внатяг лежала на животе и едва не лопалась. Скорняков стукнул широченными ладонями, одной о другую, будто невидимую пыль с них стряхивал, и сердитый, еще не остывший от злости взгляд узких татарских глаз уперся в Гриню. Кто таков?
– Я… – начал было Гриня, но Скорняков перебил его глухим нутряным басом, который поднимался, казалось, из самых глубин необъятного живота:
– Признал. Черепановский? Ступай калитку закрой.
Когда Гриня послушно выполнил приказание и вернулся на крыльцо, Скорняков молча провел его в дом, заставил раздеться и усадил за стол, заваленный бумагами и амбарными книгами. Раскрыл одну из них, обмакнул ручку в чернильницу и спросил:
– Сколько шкур привез?
– Ровным счетом сорок.
– Ишь ты! – хмыкнул Скорняков. – Ровным счетом! Пересчитаю. Распишись вот здесь… Как там Матвей Петрович поживает, чего на словах передать наказывал?
– Поклоны шлет, здравствовать желает. А еще просил приют дать, на время, в счет расплаты. Дело одно поручил мне в городе исполнить…
– Ладно, приют дам, без расплаты; у меня не постоялый двор, за так добрых людей пускаю. Посиди тут, обожди, работник придет, поедешь с ним в мастерские, там и приют тебе будет, и кормежка, и коня доглядят…
Не успел он договорить, как на пороге нарисовался работник – молодой, здоровенный парень, под стать самому Скорнякову – об лоб можно было поросят бить. Молча выслушал хозяина, молча кивнул и махнул могучей рукой, показывая Грине – ступай за мной.
Вышли на улицу, парень примостился сбоку на розвальни, сказал, куда ехать, и скоро они были уже в мастерских, где шкуры сложили в амбар, коня распрягли и поставили в конюшню. Самого Гриню парень определил в маленькую каморку с топчаном и с крохотным столиком возле узкого подслеповатого окошка. Хоромы, да и только.
– Располагайся пока, на ужин свистну. – Парень собирался уже уходить, но Гриня остановил его:
– Погоди, тебя как зовут-то?
– Савелием раньше кликали.
– А меня Гриней. Скажи, Савелий, кого это хозяин из дома так вышиб, что тот, бедолага, до самой калитки летел?
– Да… – Савелий поморщился. – Сын это евонный. В гимназистах был, а после в Москву отправили, дальше учиться. Вот и выучился… Никчемный человек. Но это у них дело семейное, и ты не любопытствуй, не вздумай у хозяина спрашивать, не любит он этого. Понятно?
Гриня развел руками – чего ж тут непонятного? И больше ни о чем Савелия не спрашивал. А после ужина сразу же лег спать и уснул, как пластом земли придавленный – ни одного сна не увидел.
6
Утро выдалось звонкое и веселое: легкий мороз прищелкнул, реденький-реденький снежок заскользил с неба. Все вокруг заиграло и заблестело, как яркая игрушка.
Гриня плотно позавтракал вместе со скорняковскими работниками, вышел за ворота мастерской, огляделся, сдвинул на затылок шапку, из-под которой буйно выбивался густой чуб, и весело присвистнул от хорошего настроения.
– Не свисти с утра, а то весь день просвистишь!
Оглянулся – Савелий, оказывается, следом за ним за ворота вышел. Расставил могучие ноги и потянулся, раскинув руки, так сладко, что слышно было, как под легкой шубейкой смачно хрустнули косточки. Круглое, сытое лицо его сияло довольством.
«Да, парень, не изработался ты здесь…» – невольно подумал про себя Гриня, а вслух сказал:
– Это в избе свистеть нельзя, а на улице – можно.
– Ну свисти, если глянется, – благодушно разрешил Савелий, – куда идти-то собрался?
– Надо мне попасть на Туруханскую улицу, а там номера имеются и магазин… Шик…
– Ши-и-к… – передразнил Савелий, – деревня ты, выговорить толком не умеешь! «Парижский шик» называется! Вот как! Я хозяина туда на прошлой неделе отвозил, он там меха на продажу сдает. Богатющий магазин! И чего ты покупать собрался?
– Дырку от бублика! – усмехнулся Гриня. – Мне в номерах людей разыскать, важное дело имеется…
– Тогда топай прямо, никуда не сворачивай, а как в пожарную каланчу упрешься, сразу бери направо, в переулок, пройдешь его, вот и Туруханская. Зеленую вывеску ищи. Магазин на первом этаже, а номера на втором, а заходить в номера надо со двора. Все запомнил, лапоть?
– Не дурней сопливых, – огрызнулся Гриня.
– Смотри у меня, не балуй, – Савелий еще раз потянулся, раскинув руки, – а то вечером вернешься, я тебе шею намылю.
– Свою побереги, – посоветовал Гриня и пошел, не оглядываясь, прямо.
Он нигде не заплутал, поспешая быстрым шагом, и скоро уже стоял перед двухэтажным каменным домом с множеством узких и высоких окон. Над парадным входом висела большая зеленая вывеска, на которой золотом переливались под солнцем витиевато нарисованные буквы – «Парижский шик». А ниже, буквами поменьше, значилось: «Богатый выбор самых новых, изысканных моделей». Гриня поглазел на вывеску, даже в магазин хотел зайти, ради любопытства, но передумал. Обогнул дом и там, над крайним входом, увидел другую вывеску, не столь яркую и не столь большую, блеклую и обшарпанную, – «Меблированные номера Сигизмундова. Самовары бесплатно». Тяжелая дверь открылась беззвучно. Узкая, полутемная лестница вела на второй этаж. Еще одна дверь, и Гриня оказался в широком коридоре, где за низкой конторкой, перекладывая бумаги, горбился низенький господин в очках. Гриня несмело подошел к нему, кашлянул, и господин, не поднимая головы, скороговоркой выговорил:
– Вынужден разочаровать, свободных номеров в наличности не имеется.
– Да мне другое… – замялся Гриня, – мне номера не нужны…
Господин поднял голову. Лицо у него было сухонькое, птичье, как будто скукоженное, а маленькие, острые глазки смотрели цепко и умно. Кивнул:
– Понимаю. Кого разыскиваете?
– Мне вот… Здесь пропечатано…
Гриня расстегнул полушубок, высвободил из штанов подол рубахи, где на изнанке был пришит просторный карман. Из кармана вытащил газету, сложенную в осьмушку, развернул ее и положил на конторку, ткнул пальцем:
– Вот… Тут пропечатано…
Господин брезгливо сморщился, глядя на изжульканный газетный лист, но изволил взглянуть на указанное объявление и даже вслух его прочитал:
– Коммивояжерам крупной московской компании требуются для постоянных разъездов на разные расстояния извозчики, трезвые и аккуратные. Оплата честная. Обращаться в меблированные номера Сигизмундова, в первой половине дня. Спросить Кулинича.
Прочитав, господин вздернул маленькую головку, цепко и быстро окинул Гриню острым взглядом и вскинул сухонькую руку:
– По левой стороне четвертая дверь. Ступайте и обрящете.
Гриня пошел по коридору. Вот и четвертая дверь по левой стороне. Старая голубенькая краска давно отщелкнулась, железная ручка болтается на одном гвоздике. Он громко постучал, отчего железная ручка звякнула, а дверь сама собой распахнулась.
В большой и просторной комнате стоял посредине узкий и длинный стол, заставленный винными бутылками и тарелками со снедью, а за столом сидели двое мужчин и одна женщина, которая курила длинную папиросу и пускала в потолок ровненькие колечки дыма. Гриня в первый раз увидел, что баба курит папиросу, и от удивления даже замер, разглядывая во все глаза, как она это делает.
– Вас, молодой человек, папенька с маменькой разве не учили, что после стука нужно дождаться разрешения, а уже после этого – входить? И обязательно здороваться. – Женщина стряхнула пепел прямо на стол и вздохнула: – Ну, рассказывай – какая нужда привела?
– Здравствуйте, – Гриня стащил с головы шапку и кивнул, как будто поклонился. – А дверь сама открылась, я и спросить не успел, извиняйте. А пришел… вот! Пропечатано тут…
– Пропечатано, говоришь… Тогда давай, почитаем, что там пропечатано. – Один из мужчин поднялся из-за стола, и оказалось, что он очень высокого роста, худой и поджарый; на узком, будто приплюснутом лице, тщательно выбритом до синевы, ярко светились черные, как затухающие угли, глаза.
Он взял газетный лист, мельком глянул на него и вернул Грине. Спросил:
– А ты не сообразил, что газета почти месячной давности? За это время уже и помереть можно, а ты на работу пришел наниматься!
– Да ладно, не придирайся к парню, – вмешался второй мужчина и тоже поднялся из-за стола; этот был поменьше ростом, пошире в плечах, с окладистой русой бородкой, смотрел весело и улыбался, – он и так смущается. Значит, денежек заработать решил?
– Если получится, чего же не поработать, – резонно ответил Гриня.
– Только учти, условия у нас строгие. Первое – трезвый, второе – исполнительный, а третье – куда сказали, туда и поехал, без вопросов и без разговоров. Согласен?
– А чего же не согласиться, – снова резонно, как ему казалось, ответил Гриня, – только знать бы хотелось – какая оплата будет?
– Будет, будет тебе оплата, достойная и честная, – крепыш похлопал Гриню по плечу и заглянул ему прямо в глаза, а показалось, что в самую душу. Неуютно, тревожно стало Грине под этим взглядом, и он подумал: «Ну, дед! И на какого лешего они тебе понадобились! Мутно здесь… И баба – архаровка! Сидит и курит! Ладно, потерплю, раз пообещался…»
А обещался Гриня, согласно наказу Матвея Петровича, выполнить следующее: разыскать людей, которые в газетке объявление печатали, наняться к ним на работу и все про них разузнать – кто такие, чем занимаются, о чем между собой разговоры разговаривают. Одним словом, все, что возможно, выведать. Гриня, услышав это, конечно, удивился, но дед цыкнул: «Сказано – делай! А время придет – расскажу, для чего эта надобность».
Вот и стоит он сейчас перед двумя мужиками и перед бабой, которая вторую папиросу прикуривает и в дыму вся, будто за спиной у нее дымокур развели, напихав в старое ведро сухих коровьих лепешек; стоит и представляется тюхой-матюхой, который на все согласен, лишь бы его на работу наняли. Сам не зная почему, но Гриня решил, что нужен им именно такой извозчик – будто мешком из-за угла стукнутый.
И, кажется, не ошибся. Его еще порасспрашивали: какого коня имеет, какие сани, да бывал ли в дальних поездках, и, расспросив, велели утром, к десяти часам, быть возле номеров.
Гриня поклонился, задом упятился в двери, двинулся по узкому коридору к выходу, молча ругаясь: «А про оплату так и не сказали! Вот хитрованы! Может, вернуться, спросить? Ладно, завтра спрошу».
Вышел он из меблированных номеров Сигизмундова, огляделся, и захотелось ему прямо сейчас же, в сию минуту, оказаться дома.
Но дом находился далеко, и достигнуть его в столь краткий срок было невозможно.
7
Жизнь в Покровке тем временем текла спокойно, размеренно, без тревог и волнений. Только и событий случилось, что Варя несказанно удивила Анфису, прямо-таки сразила ее наповал, когда вечером подоила и обиходила коров; молоко процедила и разлила по кринкам и уже собиралась кормить остальную живность, когда вернулись хозяева, задержавшиеся до самых сумерек в доме младшего сына на дальнем конце Покровки, где сноха, удачно разродившись, одарила их очередным внуком.
Возбужденная, еще не отойдя от пережитого волнения – роды она сама принимала, – Анфиса сначала никак не могла понять: почему молоко в кринках, а чисто вымытый подойник стоит на своем законном месте? Озиралась по сторонам, будто в своей родной избе заблудилась, и даже не голосила, как обычно, а тихо, шепотом спрашивала:
– Оно как так случилось? Кто хозяйничал?
Когда выяснилось, что хозяйничала Варя, что она даже сена коровам дала, Анфиса охнула и села на лавку, глядя во все глаза на свою постоялицу, словно желала удостовериться – она это или не она?
Варя смеялась и говорила:
– Да я любую работу делать умею, меня папенька с маменькой всему научили!
И уже поздно вечером, после ужина, когда пили чай, Варя откровенно, впервые за все время проживания у Черепановых, стала рассказывать о себе. Раньше она ничего не рассказывала, а тут ее как прорвало. Анфиса, подперев щеку ладонью, сидела, необычно молчаливая, и только вздыхала, слушая историю чужой жизни, которая начиналась далеко-далеко отсюда, где-то в Расее, в большом подмосковном селе Вознесенском, где на пригорке, возвышаясь над пыльной площадью, стоял красивый храм Преображения Господня с тремя голубыми куполами.
Настоятелем этого храма был священник Александр Нагорный, отец Вари. Он служил службы, причащал, отпевал, крестил, венчал и дома бывал редко, урывками, а каждую свободную минуту отдавал хозяйству, потому что сам сеял и убирал хлеб, сам содержал скотину и только по осени нанимал работника на молотьбу и для того, чтобы тот зарубил гусей на зиму. «Не могу же я птице голову рубить и в крови мазаться, – говорил отец Александр, – мне на другой день, может, невинного младенца крестить придется». С тихой и безропотной матушкой Стефанидой они родили трех дочек и воспитывали их строго и в трудах. Весь огород и мелкая живность были на девочках – они поливали, пололи грядки, пасли и кормили гусей, а когда подросли, стали и за коровами ухаживать. Без дела никогда не сидели. Жили дружно, тихо, по-божески. Да только рухнула эта жизнь, будто домик из песка слепленный, и осыпалась до самого основания. Сначала девочки заболели дифтерией, и как только родители над ними ни хлопотали, спасти не смогли – выжила лишь одна Варя. Дальше, как в горькой пословице: пришла беда, отворяй настежь ворота – заболел сам отец Александр, стал задыхаться, кашлять и за неполный год иссох, словно травяной стебель по осени. Незадолго до своей смерти, уже чувствуя, что скоро настанет последний час, он продиктовал матушке Стефаниде прошение, которое велел отправить в епархию. В прошении том изложена была нижайшая просьба к архиерею, чтобы не оставили без участия сироту Варвару Нагорную, когда она останется на этом свете без своего родителя, и чтобы определили ее в епархиальное училище. Просьбу отца Александра исполнили, и после его кончины Варя уехала в епархиальное училище, где отучилась положенный срок, получив звание домашней учительницы.
– А матушка-то жива? – дрогнувшим голосом спросила Анфиса, вытирая глаза кончиком платка.
– Теперь и матушки нет, – ответила ей Варя, – одна тетушка у меня осталась, сестра ее родная.
– Да в такую даль, да еще одна – как тебе не боязно было? – удивлялась Анфиса. – Жила бы там с тетушкой, все родная душа!
– Да чего уж бояться, – улыбнулась Варя, – люди везде одинаковые.
– Так-то оно так, да только… – подходящих слов Анфиса не нашла и снова принялась вытирать глаза кончиком платка.
Эта внезапная откровенность Вари, а главное – ее рассказ, так растрогали Анфису, что она еще долго вздыхала и никак не могла успокоиться, даже о родившемся внуке ничего больше не говорила.
Может быть, они долго бы еще сидели и чаевничали, но со двора пришел Василий Матвеевич и нарушил их задушевную уединенность. Да и время уже позднее было – спать пора.
Варя разобрала постель, погасила лампу в своей боковушке и долго стояла у окна. Там, за окном, ровный лунный свет стелился по высоким, причудливо изогнутым сугробам, и казалось, что во всем мире властвует только этот свет – зыбкий и никого не греющий.
А так хотелось согреться, так студено было на душе после своего откровения перед Анфисой, которое всколыхнуло в памяти прошедшие дни, ведь многие из них до краев были наполнены неизбывной печалью и горем. Варя на ощупь нашла спички на столике, снова зажгла лампу и, накинув на плечи легкий платок, склонилась над чистой тетрадкой, выводя на ней красивым, почти каллиграфическим почерком слова, которые ей так захотелось сказать именно сейчас, что она не могла подождать до утра.
«Милый мой, любимый Владимир!
Сегодня, совершенно случайно и, казалось бы, без видимой причины, я поведала своей хозяйке о прошлой своей жизни, а теперь испытываю неодолимое желание поговорить с тобой, ведь родная душа всегда лучше поймет. Сама не знаю, почему меня захватило это странное чувство – рассказать о том, что пережила. Знаешь, в детстве, когда я была еще совсем маленькой, батюшка взял меня однажды с собой, когда шел на службу, и мы поднялись на колокольню нашего храма. Я глянула вниз, увидела безоглядный простор и даже ножками затопала от восторга. Дома, люди, деревья, лошади, телеги – все казалось таким маленьким, игрушечным. До сих пор ясно помню это ощущение сказочности. А когда повзрослела, мне стало казаться, что сказка случилась лишь однажды, в детстве, а все остальное время я нахожусь где-то внизу, такая крохотная, маленькая, что меня среди других и различить невозможно. И так было долго, до самой встречи с тобой. Встреча эта меня очень сильно изменила, будто я выросла и выпрямилась.
Да, именно так. Ты можешь, конечно, снисходительно улыбнуться, у тебя это получается очень мило, но снисходительность твоя абсолютно ничего не изменит, потому что я говорю правду. И за то, что я выпрямилась, я буду тебе всегда и бесконечно благодарна.
Если бы я, как теперь, не чувствовала себя большой и значимой, мне было бы очень трудно в деревне, в школе и с детьми. Я бы постоянно чего-то боялась, думала бы, что я ни на что не годна, и все бы у меня получалось плохо. Но, слава Богу, этого не произошло, и я все больше привыкаю к новой деревенской жизни и своему учительству.
И коль уж я написала про учительство, то непременно должна тебе рассказать о своих милых ребятках. Их у меня двадцать четыре ученика, в том числе восемь девочек. Последнее обстоятельство меня радует больше всего, потому что девочек в учение родители отдают неохотно, ведь дочери – помощницы и няньки в доме, и работы у них, несмотря на малый возраст, всегда много. А еще говорят так: «Незачем им учиться, научатся – так женихам письма писать станут! А это баловство». Но Матвей Петрович Черепанов, местный староста, у сына которого я на квартире проживаю, успокаивает меня и просит, чтобы я набралась терпения, потому что школы в деревне никогда не было, и людям нужно время, чтобы приглядеться.
Но я отвлеклась. Детки у меня чудные. Добрые, ласковые. А какие глаза у них, как они светятся! Мне порой кажется, что я живу с ними, как в одной большой семье, иначе бы они не доверяли мне свои секреты. Неделю назад, перед началом урока, пришли Ваня с Алешей, переглядываются между собой и на меня смотрят, будто что-то сказать хотят и не смеют. Я у них не спрашиваю, думаю, если захотят, сами скажут. Так оно и вышло. Ваня подошел ко мне, обнял за шею и шепчет в самое ухо:
– Я вам скажу, только вы никому не говорите. Шли мы вчера с Алексеем из школы, а у Кузьмы в бане окошко светится. Солнышко на него падает, оно и светится. Я и говорю Алексею, давай глызкой[10] бросим – попадем или нет? Так охота нам стало стеклышко сломать. Алексей взял глызку, бросил и попал в самое стеклышко, оно и сломалось, а мы испугались и убежали. Только вы, ради Христа, никому не говорите!
И что мне оставалось делать? Решила все-таки не выдавать их секрет. Ведь если выдам, они мне больше никогда так откровенно ни о чем не расскажут. Пошли после уроков гулять, они мне баньку Кузьмы показали и стеклышко разбитое, а я все увещевала их, чтобы не бросали глызы, камни и палки куда попало. Обещали, что никогда так больше делать не будут, и я им верю.
Наверное, все это для тебя покажется сущей мелочью, не стоящей внимания и тем более подробного описания, но для меня все очень важно, ведь моя жизнь теперь состоит из двадцати четырех жизней моих подопечных и я обязана все воспринимать очень серьезно. Иначе никак нельзя.
Недавно мы договорились с ребятами, чтобы они мне писали письма. Я их поощряю, чтобы они привыкали к письму. Сегодня получила письмо от Степы и хочу, чтобы ты тоже прочитал его, оно короткое, правда, с ошибками, которые приходится исправлять.
“Здравствуйте, дорогая моя учительница, Варвара Александровна! Извините, я карандашом написал, дома чернил нет. Очень я переживаю, что задачи не решаю. Научился бы я хорошо задачи решать – поставил бы пяташную свечку, Бога поблагодарил, а то не умею решать. Я молюсь каждый вечер, все прошу Бога научить меня, может, и научусь. Вот еще что я сказал бы вам, поди, не поглянется это: домой-то я пришел да Демку, младшего своего брата, хотел бить. Он за мной побежал, книгу просит, я не даю, он меня царапать начал по губе. Я заплакал, осердился, побежал бить его. Бабушка не дает, потом я его все-таки треснул, он залез на печку и ревет. Мне купили сапоги, давали 4 рубля. До свиданья!”
Вот такие мои дела и заботы, дорогой, любимый Владимир. Слышишь ли ты меня, доходят ли до тебя мои мысли, слова и молитвы? Мне так хочется верить, что ты меня слышишь!
Навеки твоя Варя».
Глава третья
1
Старуха сидела в каталке, накрытая толстым клетчатым пледом. На голове у нее криво был надет белый ночной чепец, сбившийся на самый затылок, и через реденькие седенькие волосы проглядывала желтоватая кожа. Лицо тоже отливало желтизной, словно было покрыто плесенью, которая выцвела от старости. Но голос, когда она закричала, оказался совсем не старческим – тонкий, визгливый, будто лаяла без удержу молодая и злобная собачонка. Гиацинтов даже отшагнул назад – не ожидал он такого приема.
А старуха, не давая ему рта раскрыть, взвизгивала:
– Вон! Вон из моего дома! Я даже слышать не желаю об этой паршивке! И вас не желаю видеть! Вон! Вон! Ничего не скажу! Уходите! Еще раз придете, в полицию пожалуюсь! Вон!
Сухонькая, сморщенная ручка выскользнула из-под пледа, и маленький кулачок взметнулся над головой; Гиацинтову даже показалось, что если бы старуха смогла до него дотянуться, она бы обязательно ударила. Он отшагнул еще на шаг, запнулся за какие-то тряпичные клубки, валявшиеся на полу, откинул их ногой в сторону и понял с отчаянием, что узнать от старухи ему ничего не удастся. Повернулся, пошел темным, длинным коридором, который был тесно забит узлами, узелками, старыми тряпками, рваными коробками, покрытыми толстым слоем пышной пыли. Все это добро валялось на полу, висело на стенах, а проход был столь узким, что Гиацинтов невольно задевал рухлядь, оставляя за собой серое удушливое облако. Выбравшись, наконец-то, на улицу, он долго чихал и никак не мог остановиться. Молча ругался: «Ведьма старая! Даже выслушать не пожелала! Где теперь Вареньку искать?!»
Присел на деревянную лавочку, устроенную под старой, высокой липой, достал платок из кармана, высморкался и с ненавистью посмотрел на большой деревянный дом с мезонином, откуда он только что ретировался. А шел ведь сюда с надеждой – вот распахнется дверь, а навстречу ему – она, Варенька… Но встретила его злобная, сумасшедшая старуха, и даже не верилось, что это Варина родная тетка.
«Верится, не верится, адрес-то точный. Что же теперь делать? – Гиацинтов поднялся с лавочки, оглядел тихий, безлюдный московский переулок и подбодрил самого себя: – Найдем! Человек не иголка!» Поглядел еще раз на дом с мезонином и пошел медленным шагом, направляясь в конец переулка, аккуратно обходя большие темные лужи, густо усеянные палым листом. Даже не верилось, что на дворе уже наступил декабрь, – зима в этом году в Москву не торопилась, и над улицами, переулками Первопрестольной властвовала промозглая сырость. Гиацинтов передернул плечами, поднял воротник пальто и в этот момент услышал сзади торопливые, шлепающие шаги. Оглянулся. Его догоняла, на ходу подвязывая теплый платок, низенькая, толстая баба, похожая на кубышку. Тяжело оскальзывалась и всякий раз взмахивала короткими руками, будто хотела оторваться от земли и взлететь.
– Барин, барин! – задышливо позвала баба. – Погоди, барин! Не угнаться мне за тобой!
Гиацинтов остановился.
Баба подбежала к нему, едва-едва перевела дух и выговорила:
– Слышала, про Вареньку спрашивать изволили, интерес имеете… Так я могу сказать, если любопытно…
– Где она? – Гиацинтов схватил бабу за плечи, встряхнул, но, вовремя опомнившись, опустил руки.
– Какой ты скорый, барин! Вынь да положь! – Баба подтянула потуже узел платка под толстым подбородком и неожиданно сообщила: – Я пирожные люблю, да и ликерчику бы отведать по такой погоде… Там, как выйдешь из нашего переулка, за углом кофеенка имеется…
– Пошли!
Скоро они уже сидели в кофейне, и хитрая баба, будто испытывая терпение Гиацинтова, не торопясь, с удовольствием, расправлялась с пирожными, не забывая опрокидывать рюмочку с ликером. Но вот, кажется, наелась. Потянулась в очередной раз к графинчику, но Гиацинтов ловко передвинул его на край стола:
– После допьешь. Говори, что знаешь.
– Ладно, барин, спасибочко, потешил мою слабость. Люблю я пирожное, а с ликерчиком… Грешна, барин, грешна… Ты кто Варе-то? Кавалер? Да знаю, знаю, кто ты такой, не отнекивайся. Ну так слушай, кавалер. Варя не по своей воле с Москвы съехала. Тут такая катавасия была – пыль до потолка! Как кавалера ее, тебя, значит, на войну отправили, Варя и завяла, будто цветочек без полива. Придет в гости к Степаниде Григорьевне, тетке своей, как из училища отпустят, а глазки на мокром месте, исхудала – страсть. Ну а тут в газетке вычитали, что кавалера на войне убили, и задумала Степанида племянницу свою замуж выдать. А после и жених объявился. Сказывал, что вместе с кавалером Вариным воевали, и видел он своими глазами, как того желтоглазые подстрелили. Варя плачет-убивается, а они над ней как коршун с коршунихой кружат, силком под венец толкают. Все с нее требовали чего-то, от батюшки Вариного в наследство что-то осталось, вот они и требовали. А Варя стоит намертво – нет, не отдам! Батюшка мне, говорит, завещал, значит, мне и принадлежит. И какое там может быть наследство – мыши в амбаре зубами стукали! Затолкали бы они сиротку в замужество, как пить дать, затолкали бы, да только батюшка один, который раньше с отцом Вариным знакомство водил, быстренько все спроворил, посадил сердешную на поезд и отправил. Так скоро спроворил, что она попрощаться даже не появилась.
– Куда Варя уехала? Знаешь?
– Знала, сказала бы, – баба вздохнула, – она для меня как родная душа была. Я ведь у Степаниды давно служу, и кухарка у нее, и нянька, и поломойка. Одно хорошо, что теперь полы мыть не надо, она в последнее время, как с ума тронулась, заставляет меня все тряпки с улицы в дом тащить. И складывает их, и складывает – ногу поставить некуда. А злая, как собака цепная. Ну, злая-то всю жизнь была…
– Да черт с ней, твоей Степанидой! – не выдержал Гиацинтов. – Что еще про Варю знаешь?!
Баба подобрала ложечкой крошки пирожного с тарелки, ложечку старательно облизала, повертела ее в толстых пальцах, разглядывая, и тихо, почти шепотом, спросила:
– А чего Варя в магазине купила, когда ты ее в первый раз на улице встретил?
– Бусы она купила своей подруге! Зачем ты это спрашиваешь?
– Да так, любопытства ради. Что ты думаешь – пирожных сунул, ликеру налил, и дура толстомясая перед тобой наизнанку вывернулась. Удостовериться мне до конца требуется, я ведь тебя только два раза издали видела, когда ты Варю к Степаниде привозил. Боюсь, не обмануться бы…
– Теперь удостоверилась?
– Вот теперь с легким сердцем; чую, что не обманулась. Держи…
Из пышного рукава кофты баба ловко вытащила почтовую карточку и положила ее на стол перед Гиацинтовым. Он схватил, прочитал: «Великий Сибирский рельсовый путь. Станция Никольскъ». Под надписью помещалась фотография вокзала с башенками и каких-то людей в форме, стоящих на перроне. Судя по мундирам, железнодорожных служащих. Перевернул: «Здравствуйте, моя родная тетушка, Степанида Григорьевна! Простите меня великодушно, что уехала, не попрощавшись с Вами. Таким образом, к сожалению, сложились обстоятельства. Я получила хорошее место и буду теперь служить учительницей. Всех Вам благ и радостей, и пусть Вас Бог любит. Варя». Даты написано не было.
– Когда карточку получили?
– Да месяца два минуло. Я ведь грех на душу взяла, карточку эту не отдала, спрятала. Жених, у которого сватовство расстроилось, сильно ругался на Степаниду, все твердил, что надо искать Варю, хоть из-под земли ее достать. А скоро куда-то уехал, думаю, что на поиски отправился. Вот по этой причине я карточку и спрятала, будто знала, что ты появишься, из убиенного в живых восстанешь, как на Втором пришествии.
Баба чуть заметно улыбнулась, и Гиацинтов разглядел, что глаза у нее под толстыми припухлыми веками – умные и проницательные.
– Тебя как зовут?
– Пелагея, Пелагея Трифоновна. Ты шибко-то кошелек свой, барин, не растопыривай, заплатил за угощение, и славно. Я не из-за денег, из-за Вари тебе открылась. Спрячь кошелек, спрячь. А вот ликерчик поближе мне подвинь… Ох, грешна… И нечего тебе тут рассиживаться, ступай с Богом, а то зайдут знакомые да увидят нас, до Степаниды дойдет… Ступай, барин, ступай.
– Спасибо тебе, Пелагея Трифоновна. Должник я теперь твой.
– На том свете расплатишься… угольками!
Пелагея Трифоновна рассмеялась дробным смешком и налила себе полную рюмку ликера.
Гиацинтов, не оглядываясь, быстро вышел из кофейни и сразу же остановил извозчика, коротко бросив ему:
– На Страстную гони!
2
Почему-то именно в этот момент ему захотелось оказаться там, где он в первый раз увидел Варю. Казалось, что все было вчера, но, когда он остановил извозчика, выпрыгнул из пролетки и подошел к каменному Пушкину, ему показалось, что с памятного вечера прошла уже целая жизнь и он за эту жизнь успел так состариться, что испытывал сейчас лишь одно желание – закрыть глаза и жить только в прошлом.
Там, в прошлом, стоял сверкающий январь с легким, хрустящим морозцем, на календаре значился день святой Татианы, и московское студенчество, напористое и горластое, отмечало свой веселый, разгульный праздник. Отмечать его начинали, как всегда, на Моховой, где в студенческой церкви служили молебен и проводили в присутствии высокопоставленных гостей торжественный акт, а уж затем толпами и мелкими компаниями студенчество стекалось в «Эрмитаж», где запыхавшиеся официанты спешно эвакуировали из залов цветы в деревянных подставках, стеклянные вазы, фарфоровую посуду и прочее – буквально все, что можно было разломать или расколотить. Наступало безудержное, а порою казалось, что и безумное, студенческое гулянье. Лилось дешевое пиво и водка, потому что денег на благородное шампанское никогда не имелось, ораторы говорили речи, встав на столы, но их мало кто слушал, ведь у каждого были свои мысли и он желал их обнародовать громким криком. Шум стоял невообразимый. Нетрезвый и нестройный хор орал:
Да здравствует Татьяна, Татьяна, Татьяна! Вся наша братия пьяна, вся пьяна, вся пьяна. А кто виноват? Разве мы? Нет! Татьяна!Покинув «Эрмитаж», как поле боя, господа студенты устремлялись к Тверской заставе – в рестораны «Яр» и «Стрельна», где обычная публика в этот день не появлялась и где также, как в «Эрмитаже», спасали, будто перед татарским нашествием, все ценное.
Гиацинтов с компанией своих однокурсников оказался почему-то у памятника Пушкину, где подвернулся им городовой, у которого на груди, поверх шинели, щедро были развешаны Георгиевские кресты и медали.
– Качать русского воина! Ура!
– Господа студенты! Не буйствуйте! Никак невозможно, я при исполнении!
Ничего не слышат, да и слушать не желают господа студенты. Городовой, прижимая одной рукой шашку к животу, а другой рукой уцепившись за кобуру с револьвером, взлетал над студенческой толпой и успевал лишь вскрикивать о том, что находится при исполнении.
Наконец городового опустили на землю. Установили на ноги, гаркнули ему хором троекратное «ура» и решили двигаться пешком к Тверской заставе. Двинулись с криками и с песнями. И надо же было замешкаться на мостовой одинокой девушке с маленьким полотняным мешочком в руке. Вместо того чтобы развернуться и убежать, она замерла перед орущей, пьяной толпой и прижала мешочек к груди, будто желала им защититься.
– Да здравствует красота и молодость!
– Я встретил вас, и жизнь пропала!
– Прошу коленопреклоненно всего один лишь милый взор!
И в этот миг, оказавшись ближе других к девушке, Гиацинтов увидел ее глаза – огромные, голубые. В них плескался ужас, будто внезапно возникло перед девушкой неведомое чудище. Гиацинтов знал по опыту, что однокурсники его, пусть и пьяные, ничего плохого девушке не сделают, покричат-погорланят и дальше пойдут, но этот ужас в голубых глазах так пронзил его, что он раскинул руки, закрыв собой девушку, и крикнул:
– Молчать и не приближаться! Эта особа находится под моим личным покровительством!
Студенты, продолжая дурачиться, замолчали разом, послушно и стыдливо опустили головы, словно провинившиеся приготовишки[11], и тихим степенным шагом, как в похоронной процессии, прошли мимо. Прошли и взорвались общим оглушительным хохотом, довольные до чрезвычайности своей импровизированной шуткой.
Гиацинтов, не опуская раскинутых рук, продолжал стоять перед девушкой, видел ее глаза, в которых, еще не исчезнув, продолжал плескаться ужас, видел, что из-под теплого платка выбились кудряшки, а красивые, плавно очерченные губы обиженно вздрагивают, словно она собирается заплакать от пережитого страха.
– Вы не пугайтесь, они же пошутили, день сегодня такой, – принялся успокаивать Гиацинтов, – сегодня студентов даже полиция не забирает. А вы так испугались, будто на вас разбойники напали.
– Я пьяных боюсь, – призналась девушка мягким, вздрогнувшим голосом, – как увижу, душа в пятки уходит, а я сама не своя, даже шага ступить не могу… А вам – спасибо.
И она поклонилась, оторвав, наконец-то, от груди полотняный мешочек. Гиацинтов опустил руки и в ответ тоже учтиво поклонился, совершенно не понимая, что с ним происходит: ему не хотелось догонять своих товарищей, которые, уходя все дальше, продолжали кричать и звать его, не хотелось участвовать в общем разгульном веселье, не хотелось даже просто идти куда-то – вот так бы стоял, и стоял, и смотрел бы, смотрел на девушку, которая только что благодарно поклонилась. Но запас красноречия еще не изменил ему, и он, не двигаясь с места, вытянулся, руки по швам, и представился:
– Студент славного Московского университета Владимир Гиацинтов. Так всем и рассказывайте – кто вас спас, обязательно называя мою цветочную фамилию. А я могу знать – кого именно спас?
Девушка несмело, смущаясь, улыбнулась и уже спокойным, не вздрагивающим голосом, сказала:
– Варвара Нагорная.
– Тогда слушайте меня, Варя, очень внимательно. Во избежание неприятностей и учитывая, что господа студенты нынче непредсказуемы, я просто обязан вас сопроводить. Разрешите это сделать?
– Наверное, не разрешу, – серьезно, перестав улыбаться, ответила Варя и покачала головой, отчего кудряшки на чистом лбу весело качнулись, – я ведь все правила сегодня нарушила, а если вы меня и провожать еще будете – вот тогда уж неприятностей мне точно не избежать.
– Да какие же вы правила нарушили? – искренне удивился Гиацинтов.
– Видите ли, Владимир, я в епархиальном училище учусь, а правила там у нас очень строгие, меня отпустили, потому что тетушка заболела, и я должна вовремя вернуться. А если кто-то увидит, что я шла с мужчиной, вот тогда и случится настоящая неприятность, могут из училища удалить.
– Наслышан был о ваших правилах, но даже не предполагал, что они столь суровые. Кстати, где ваше училище находится?
– На Большой Ордынке.
– Далековато, – снова удивился Гиацинтов, – далековато ваша тетушка от училища живет. Где же она живет, здесь, на Тверской?
– Да нет, не на Тверской, она в Замоскворечье… Я сегодня, признаюсь вам, все, что только можно, нарушила…
И Варя просто, откровенно рассказала о том, что подруга упросила ее заехать в магазин на Тверской, где они месяц назад вместе были и где подруга высмотрела себе бусы… Упросила заехать и купить эти самые бусы. И накопленные деньги выдала. Варя от тетушки поехала сразу в магазин, бусы нашла, а вот когда стала расплачиваться, тут и случился конфуз: денег едва-едва хватило, да и то лишь потому, что приказчик на недостачу нескольких копеек махнул рукой. Вот и вышла Варя из магазина с бусами, но совершенно без денег. А так как извозчика нанять было нельзя, она отправилась пешком. И теперь очень торопится, боясь опоздать, и ей совсем не следует стоять так долго и рассказывать о своих приключениях, да тем более молодому мужчине…
Гиацинтов даже не замечал, что, слушая Варю, он широко и радостно улыбается, словно она сообщала ему очень приятные известия. Никогда не терпевший надутого жеманства в женщинах, он был просто-напросто очарован простотой и откровенностью Вари: она говорила очень серьезно и в то же время была так доверчива, будто давным-давно его знала и была твердо убеждена, что этот человек никогда не обидит и ему можно рассказать обо всем – он поймет. Внезапно она оборвала свой рассказ, замолчала, а затем тихо спросила:
– Почему вы улыбаетесь? Я что-то смешное вам говорю?
– Нет-нет, – поспешно ответил Гиацинтов, – у меня просто настроение сегодня такое… праздничное, Татьянин день все-таки… А пешком вы дальше никуда не пойдете, я сейчас возьму извозчика, мы поедем к вашему епархиальному училищу и успеем вовремя, дабы из этого училища вас не удалили.
– Я так не могу! – запротестовала Варя.
– Вы не можете, а я могу. Стоять здесь и не шевелиться, – Гиацинтов отбежал в сторону, взмахнул рукой, подзывая извозчика, и, когда тот подъехал, мигом усадил Варю, не давая ей опомниться, и приказал:
– Трогай, братец. – Обернулся к Варе и, опережая, чтобы не успела она что-то возразить, спросил: – А бусы красивые? Стоило из-за них столько хлопот иметь?
Варя потупилась, вздохнула и тихо ответила:
– Бусы красивые. Только носить их у нас все равно нельзя – нарушение правил. Могут и наказать примерно. Господи, что же за день-то сегодня такой!
Да, день был необычный – Татьянин день.
3
Гиацинтов поднял воротник пальто, отвернулся от резкого, промозглого ветра, который набирал силу, и, на прощание еще раз взглянув на каменного Пушкина, пошел по Тверской. Сколько было мечтаний, сколько раз представлялась ему во время долгих скитаний эта картина: вот идет он по Тверской, а рядом – Варя. И почему-то всегда представлялось еще, что в Елисеевском магазине купит он свежей клубники и будет угощать свою милую, бесконечно любимую спутницу, будет брать по одной ягодке и подносить ей к самым губам… А день должен стоять солнечный, летний или, наоборот, зимний – с мягким и тихим снегом…
Ничего не сбылось! И Вари рядом нет, и погода мерзкая, и Тверская, потемневшая от холодной мокряди, кажется серой и неуютной, как заброшенный дом, в котором давно никто не живет.
А самое главное – он, Владимир Гиацинтов, всегда уверенный в себе и никогда не терявший присутствия духа, ослабел, будто его разом покинули силы, растерялся, и даже шаг его, упругий и быстрый, переменился – слышал, как подошвы ботинок старчески шаркают по мостовой.
Он остановился возле фонарного столба, усеянного мелкой водяной пылью, прислонился к нему плечом и закрыл глаза, надеясь, что вспомнится и увидится ему лицо Вари: красиво очерченные губы, всегда строгие глаза, наполненные небесным, голубым светом, кудряшки на чистом высоком лбу… Но как ни напрягал память, ему ничего не вспомнилось и не увиделось.
– Эй, господин хороший! По какой надобности со столбом обнимаемся?
Гиацинтов вскинулся, распахнул глаза – перед ним стоял высокий тучный городовой с пышными усами, и голос у него звучал под стать внушительной фигуре – громко и раскатисто.
– А не с кем больше, братец, обниматься! С тобой же нельзя, по уставу не положено…
Городовой шутку оценил, хмыкнул в пышные усы и посоветовал:
– Вы бы, господин, в другом месте штучки свои проделывали, где не так людно. А здесь – непорядок, столб не для того предназначен, чтобы с ним обниматься.
– Понял – столб предназначен для фонаря, а не для меня! – гаркнул неожиданно Гиацинтов, вытянувшись в струнку перед городовым. – Разрешите следовать дальше?
– Ступай, господин хороший, ступай, – разрешил городовой и проводил его внимательным, цепким взглядом.
Получив разрешение, Гиацинтов не стал задерживаться. Дальше двинулся обычным своим шагом – упругим и стремительным. Неожиданная встреча с городовым будто встряхнула его – следа не осталось от короткой и нечаянной слабости.
Он шел быстрой походкой и думал о том, что жизнь его после возвращения на родину начинается с неожиданных сюрпризов. Первый сюрприз – это, конечно, поручик Речицкий, который, как оказалось, абсолютно ни в чем не виноват. Трудно было Гиацинтову смириться с этим обстоятельством, но он переборол самого себя: купил огромную охапку роз в цветочном магазине и вместе с Речицким, никуда его от себя не отпуская, явился к его супруге и повинился – ваш муж не заслуживает тех слов, которые я написал. Юное создание подпрыгнуло от радости, восхитилось розами и даже поцеловало Гиацинтова в щеку. Речицкий все воспринял как должное, был спокоен и немногословен, сообщив, что в Москву он сможет приехать лишь после того, как закончит свои дела по службе в Скобелевском комитете. Попросил это передать Абросимову и заверить командира полка, что он обязательно приедет.
Вот об этом и собирался сейчас сообщить Гиацинтов своему командиру, а заодно и предстать перед ним: вот я, живой и здоровый…
В скором времени он уже читал на медной, до блеска надраенной табличке: «Полковник в отставке Абросимов Евгений Саввич». Дверь ему открыла миленькая, совсем еще молоденькая горничная в идеально белом, накрахмаленном переднике, спросила, кто он такой, и, услышав ответ, сразу же обернулась, позвала:
– Евгений Саввич! Пожаловали! Встречайте!
Ясно было, что Гиацинтова здесь ждали. Из глубины квартиры – громкие, торопливые шаги. И вот уже Абросимов, в парадном мундире, при всех наградах, остановился перед Гиацинтовым, быстро его разглядывая, а затем порывисто обнял, притянул к себе и троекратно расцеловал. Отстранился, еще раз окинул взглядом и снова обнял, дрогнувшим голосом сказал лишь одно слово:
– Живой…
И дальше, принимая от него мокрое пальто, передавая его горничной, продолжал повторять только это слово:
– Живой, живой…
Будто крутнулось время назад, и он встретил Гиацинтова, удивляясь и радуясь, что видит его живым, не в своей московской квартире, а возле входа в штабную палатку, которая установлена была на краю китайской деревушки.
В просторной комнате с высокими окнами был накрыт стол, и Абросимов, усадив гостя, сам разлил вино по бокалам и, поднявшись, одернул мундир; круглое широкое лицо, излучавшее добродушие и радость, переменилось: залегла над переносицей глубокая складка, обозначились желваки, и темные глаза из-под лохматых бровей сурово блеснули.
– Владимир Игнатьевич, простите за высокопарность, давно у меня не было такого светлого и радостного дня… Я так рад… Я ведь все это время… Впрочем, это отдельный и долгий разговор, и мы еще поговорим. А теперь – за встречу!
После обеда они прошли в кабинет, и там, придвинув ему пепельницу и коробку с сигарами, Абросимов потребовал:
– Рассказывайте, Владимир Игнатьевич. Все рассказывайте. С самого начала и до сегодняшнего дня.
– Москвина-Волгина здесь нет, – улыбнулся Гиацинтов, – значит, героем авантюрного романа мне не бывать, и поэтому можно говорить правду. Докладываю, господин полковник… Уснул я в штабной палатке, даже не помню, как уснул, помню только – взрыв, вспышка и – провал. Вроде бы очнусь, и опять провал. Окончательно в себя пришел, когда меня Федор нашел, тунгус, нижний чин из моей команды. Вдвоем мы и выжили. На третий день встал на ноги, огляделся – плен. Бежать никакой возможности, все время голова кружилась. Вскоре нас переправили в Японию. Вот оттуда, через три месяца, мы все-таки с Федором сбежали. В порту стоял английский торговый пароход под разгрузкой, джентльмены японцев поддерживали и снабжали, это я своими глазами видел. Одежду мы с Федором заранее припасли и под видом грузчиков попали на пароход. Спрятались, дождались отплытия, а когда я уже понял, что в океан вышли, тогда явились с повинной. Отнеслись к нам довольно холодно, но бить не били и за борт не выкинули. Они, эти благородные джентльмены, поступили согласно высоким принципам демократии: каждый человек имеет право на жизнь. Когда дошли до Гавайских островов, они нас продали, как рабочих скотин, местным бандитам. Занятие у нас было милое и сладкое – рубить тростник на сахарных плантациях. Больше года мы там пробыли, а потом снова сбежали, старым способом – на корабле. Но в этот раз уже умнее были – прятались до последнего, до тех пор, пока в Германию не пришли. А там, в порту, наши корабли стояли. Правда, и здесь пришлось в трюме отсиживаться, но все-таки добрались. Сначала до Петербурга, а нынче и до Москвы. Теперь осталось только заявить по властям и службам, что я живой, и получить какой-никакой документ, а то ведь я до сегодняшнего дня, как босяк, никакой бумажки за душой не имею.
– Понимаю. – Абросимов поднялся, заложил руки за спину и принялся прохаживаться по кабинету, говорил, словно рассуждал сам с собой: – Понимаю, что подробности своих злоключений вы опустили. Понимаю также, что первым делом бросились разыскивать Речицкого, которого считали главным виновником этих злоключений, и даже вызвали его на дуэль. Хорошо, что ваш друг, Москвин-Волгин, оказался проворным и успел мне сообщить об этой дуэли, иначе пришлось бы кого-то отпевать… Я все понимаю, Владимир Игнатьевич, но скажу сразу и определенно – энергию и чувство мести нужно всегда направлять по точному адресу. Выверенному и точному!
– Может, вы назовете мне этот адрес, господин полковник?
– Не торопитесь. Когда должен приехать Речицкий?
– Он сказал, что ему нужно еще два дня, чтобы завершить дела по службе и получить отпуск. А Москвин-Волгин приехал вместе со мной, но у него назначены встречи, и договорились, что соберемся у вас к вечеру…
– Хорошо, подождем. Завтра вашим канцелярским воскрешением займемся, чтобы все необходимые документы в наличии имелись. Вы где остановились?
– У меня брат здесь живет, в Москве, вот у него и остановился, там же и Федора пока оставил, ему, кстати, тоже нужно бумаги выправить…
– Не беспокойтесь, выправим.
– Господин полковник, в телеграмме вы написали, что у вас есть важное сообщение. Я хотел бы его услышать.
– Да, Владимир Игнатьевич, я помню, и вы это сообщение услышите, но чуть позже. Теперь помогите мне расставить стулья в зале, я горничную отпустил, а людей через полтора часа соберется довольно много.
Гиацинтов хотел спросить – что за люди и для чего они соберутся? Но спрашивать не стал, посчитав, что полковник Абросимов прав – куда спешить? Придет время, и все, что сейчас неясно, прояснится само собой.
4
– У нас нет необходимости обращаться к русскому народу! Мы сами представляем русский народ, все его сословия! Нас называют черносотенцами, вкладывая в это слово уничижительный смысл, но так могут говорить только те, кто напрочь позабыл родную историю, кто оторвался от родной почвы, кто вольно или невольно закрыл свои глаза масонскими шорами и видит перед собой лишь один идеал – якобы просвещенную Европу. А мы утверждаем обратное – у России свой путь, а любой другой, заимствованный у кого-либо, – это погибель. И не надо бояться, надо гордиться, что за убеждения называют нас черносотенцами.
Да, мы черносотенцы и высоко несем это звание, потому что помним – это звание существует на Руси еще с двенадцатого века, помним, что черные сотни – это объединение земских людей, людей земли. Мы помним великий подвиг нижегородской черной сотни гражданина Минина. И мы знаем – для чего мы объединились перед грядущей опасностью. Мы уже видели звериный оскал безбожной революции, мы уже ощутили на себе всю ненависть к русскому строю жизни, когда гремели выстрелы и лилась кровь. Мы прекрасно осознаем, что кошмар может повториться, что евреи, этот главный запал смуты, в течение многих лет, а в последние годы особенно, вполне выказали непримиримую ненависть к России и ко всему русскому, свою полную отчужденность от других народностей и свои особые иудейские воззрения, которые под ближним разумеют одного только еврея, а в отношении христиан-гоев допускаются всякие беззакония и насилия до убийств включительно.
Мы видели и с болью в сердцах наблюдали – как только власть сделала уступку, так сразу же все это скопище русских и иноземных иноверцев, разных мастей революционеров – все ринулись на Русскую землю и соблазнами, разными обещаниями, ложью и страхом смутили русских людей… И не японцы нас победили в прошлой войне, нас победила смута, которую устроили враги России.
Мы – не партия, мы – не тайное общество, мы – воля и голос русского народа! Еще раз особо подчеркну – всего русского народа, невзирая на сословия, чины и звания. Нас благословляет великий молитвенник Русской земли Иоанн Крондштадтский, с нами ученый Менделеев и князь Вяземский, с нами командир героического крейсера «Варяг» Руднев, музыкант Андреев, доктор Боткин, издатель Сытин, художник Васнецов, с нами священники, купцы, мещане, крестьянство, с нами – Государь!
Я хочу зачитать вам телеграмму, которую прислал Его Императорское Величество на имя председателя Союза русского народа господина Дубровина. Вот ее текст, дословно: «Передайте всем председателям отделов и всем членам Союза русского народа, приславшим Мне проявления одушевляющих их чувств, Мою сердечную благодарность за их преданность и готовность служить престолу и дорогой Родине. Уверен, что теперь все истинно верные и русские, беззаветно любящие свое Отечество сыны, сплотятся еще теснее и, постоянно умножая свои ряды, помогут Мне достичь мирного обновления нашей святой и великой России и усовершенствования быта ея народа. Да будет же Мне Союз русского народа надежной опорой, служа для всех и во всем примером законности и правопорядка. Николай».
Православие, Самодержавие, Народность – вот что написано на наших знаменах. Но мы должны знать и учитывать, что между Государем и народом существует преграда – это нынешний чиновничий строй, состоящий в своем громадном большинстве из безбожных, нечестивых недоучек и переучек. Эти люди, окружившие престол, заражены, как чумой, неверием во все русское, преклонением перед масонскими идеями, и поэтому они тайно одобряют, а то и поощряют, также тайно, все действия, направленные на разрушение самодержавия и государства.
Мы должны осознать, что путь, на который мы встали, будет тернистым. Нас травит и шельмует вся еврейская печать, которая не останавливается перед самой чудовищной ложью, нас ненавидит чиновничий строй, потому что мы прямо указываем на его пороки, нас поливает потоками грязи Государственная дума, ставшая легальным прибежищем антирусских сил, мы злейшие враги для всех разномастных революционеров, которые нас, в конце концов, не только запугивают, но и убивают. Но мы не устрашимся!
Кто, молитву творя, Чтит Народ и Царя, В ком ни совесть, ни ум, Не шатаются, Кто под градом клевет Русь спасает от бед, Черносотенцем тот называется!Будем мужественны! С нами Бог, Государь и Родина!
Оратор говорил взволнованно, но обдуманно и четко, уверенный голос без всяких усилий заполнял просторный зал большой абросимовской квартиры. Стульев для всех пришедших, а пришло, как прикинул Гиацинтов, больше двадцати человек, не хватило, поэтому некоторые стояли вдоль стены. Слушали оратора молча, и это общее молчание красноречивее, чем крики одобрения и аплодисменты, доказывало, что слова, звучащие в зале, находят полный и безоговорочный отклик у тех, кто их слышал.
Странные чувства испытывал Гиацинтов: он будто стеснялся столь громких слов, казалось ему, что слова эти больше бы подходили для какого-нибудь официального действия, но, думая так, он неожиданно ловил себя на мысли, что оратор ему нравится. Прежде всего, уверенностью и крепкой внутренней убежденностью. И еще своим видом: крупный, плечистый, с ухоженной русой бородой, он стоял, широко и прочно расставив крупные ноги, и казалось, что сдвинуть его с места – невозможно. Гиацинтова притягивало к нему, словно магнитом. Сам же оратор, закончив свою речь, четко повернулся, устремив взгляд в передний угол зала, где висела большая икона архангела Михаила, и широко, истово перекрестился. «Похоже, военный, – с уверенностью подумал Гиацинтов, отметив для себя его четкий, как в строю, поворот. – Интересно, кто он такой? Надо спросить у Абросимова…» Гиацинтов не расслышал, когда оратора представляли, потому что в это время выходил за стулом в столовую, и теперь с интересом ждал – что будет дальше? Что скажут другие?
Но больше речей не было. Оратор, снова повернувшись к слушателям, по-деловому сказал:
– Господа, если есть у вас какие-то сомнения, а может быть, и страх, вы вправе отказаться и не вступать в Союз русского народа. Но, если вы решились это сделать, необходимо написать заявление. Оно очень простое: «В Союз русского народа. Заявление. Желая вступить в члены Союза русского народа, стремящегося к содействию (всеми законными средствами) правильному развитию начал Русской Церковности, Русской Государственности и Русского Народного хозяйства на основах Православия, неограниченного Самодержавия и Русской Народности, прошу, как единомышленника, зачислить и меня». Далее нужно указать имя, отчество, фамилию, звание, какой губернии, род занятий, адрес и, само собой разумеется, поставить личную подпись. Образец заявления и чистая бумага лежат на столике. На этом мы сегодня закончим. Следующее наше заседание состоится во вторник на будущей неделе, в это же время. Каждый, кто напишет заявление и придет на это заседание, должен обдумать и предложить меру своего участия в нашем общем деле. Мы ждем от вас четких, ясных и разумных предложений. Меньше слов – больше полезных дел. Кто написал заявления, прошу сдать лично мне.
Оратор замолчал и замер, не шевелясь, на том месте, где стоял. Смотрел прямо перед собой, казалось, ни на кого не обращая внимания, но Гиацинтов, наблюдая за ним, сразу понял: оратор всех видит, вместе и по отдельности – кто и как подходит к столику, кто и как пишет заявление, – будто снимал на фотографический аппарат, лишь треноги не хватало. Скоро ему понесли заявления. Он аккуратно складывал их в одну стопку, крепко сжимая ее крупными пальцами, и продолжал стоять на прежнем месте, даже шага никому навстречу не сделал. И в этой его неподвижности чувствовалась властность человека, который привык подчинять других своей воле.
Абросимов в прихожей провожал уходящих, всем жал руки, раскланивался, радушно улыбался, и казалось, что он старается сгладить суровость и властность оратора.
В последний раз стукнули двери, хозяин вернулся в зал и, присев на первый попавшийся ему стул, спросил:
– А не слишком ли вы строги, Виктор Арсентьевич? Может, стоило бы поговорить поподробнее, рассказать…
– Зачем, Евгений Саввич? – живо отозвался оратор, быстро пересчитывая заявления. – Зачем тратить время? У всех наших собраний есть один недостаток – собираются убежденные люди и начинают говорить длинные речи, еще и еще раз убеждая друг друга и вызывая одну общую боль, будто гвоздем в чирье ковыряют. Но мы не должны убеждать убежденных, мы должны действовать. Здесь сегодня собрались именно люди действия, им речи не нужны, им достаточно того, что я сказал. Поэтому и не возникло никаких вопросов. Вот, кстати, красноречивое подтверждение – двадцать три заявления! Все написали, до единого. Да мы горы свернем! Ну а теперь представьте меня господину Гиацинтову, о котором я так много уже слышал.
– С удовольствием. – Абросимов поднялся со стула. – Вольноопределяющийся Владимир Игнатьевич Гиацинтов, мой боевой товарищ. А это – Виктор Арсентьевич Сокольников.
– Рад вас видеть, Владимир Игнатьевич. – Сокольников, улыбаясь, протянул руку. – Рад познакомиться поближе. Но сначала мы попросим у нашего гостеприимного хозяина чайку, попьем этого чайку, дождемся Москвина-Волгина и уж тогда поподробней, как просит Евгений Саввич, обо всем поговорим.
– Да, да, конечно, выпьем чаю… – заторопился Абросимов, – проходите.
Гиацинтов проследовал за хозяином и за Сокольниковым, намеренно замедляя шаги и отставая, он никак не предполагал, что бывший командир полка приготовит ему за один вечер столько неожиданностей: Союз русского народа, горячая речь оратора, который, оказывается, наслышан о нем, – не слишком ли много за столь короткое время? Пожалуй, много. Но и это, как догадывался Гиацинтов, лишь прелюдия к более серьезному разговору, который должен состояться. И еще догадывался Гиацинтов, что без Москвина-Волгина этот разговор не состоится. «Вот кудесник-затейник, – незлобиво ругнул он своего старинного друга, – прикинулся дурачком и даже слова не сказал. Спал, как младенец, всю дорогу, а на вокзале схватил извозчика, полетел как ошпаренный… Где он сейчас мечется?»
5
А Москвин-Волгин и впрямь метался в это время, словно волк, на которого опытные и умелые охотники устроили неожиданную облаву. Задыхаясь, убегал через проходные дворы, и слышал за спиной гулкий топот – его догоняли. Впереди, в ранних потемках, замаячил расплывчатым желтым пятном фонарь – значит, можно выскочить на освещенную улицу, где люди, извозчики, может быть, городовой, и там, на улице, можно будет избавиться от преследователей, если кричать и звать на помощь.
Он кинулся, выкладывая последние силы, на спасительный свет и остановился, будто ударился в невидимую преграду, – навстречу ему стремительным бегом приближались две темные фигуры. «Обложили, сволочи! Конец мне!» – Москвин-Волгин крутнулся на месте, хватая сырой воздух широко раскрытым ртом, и прижался спиной к каменной стене. Бежать ему теперь было некуда, оставалось лишь одно – обороняться. Сжал кулаки, готовясь к жестокой драке, и в тот же миг присел от неожиданности – в узком и низком створе проходного двора оглушительно, будто в железной трубе, грохнули, один за другим, два выстрела, и гулкий топот прервался. Еще выстрелы, уже с другой стороны, и по ноге, выше колена, как палкой ударили. Москвин-Волгин растопыренной ладонью схватился за ногу и ощутил горячую влагу – кровь… Во рту стало сухо и солоно. Вскинулся, пытаясь подняться, и едва удержался на ногах – боль пронизала до самого паха.
И в этот момент его заслонила чья-то широкая спина, он успел различить лишь вскинутую руку с револьвером, из ствола которого раз за разом вспыхивало короткое пламя и бил в уши тугой звук выстрелов. Между выстрелами – хриплый, но четкий голос:
– Алексей Харитоныч, мы друзья… Бегите вдоль стены… Быстрее!
Бегите… Одной рукой зажимая рану, другой цепляясь за стену, чтобы не упасть, Москвин-Волгин хромал, пытался прыгать на одной ноге, приседал, не в силах перемочь боль, но все-таки двигался, различая впереди желтый свет фонаря.
Сзади – новые выстрелы, гулкий топот, Москвин-Волгин хотел оглянуться, но не успел: с двух сторон его подхватили чьи-то сильные руки, легко вздернули над землей, словно он был невесомый, и вынесли в желтый круг фонаря, возле которого стояла пролетка. Он успел лишь коротко вскрикнуть от боли, мигом оказавшись в этой пролетке. Извозчик щелкнул кнутом, лошадь с места взяла крупной рысью, высекая копытами из мостовой цокающий стук, и сквозь этот стук Москвин-Волгин различил все тот же хриплый, но четкий голос:
– Алексей Харитоныч, не бойтесь, мы друзья… Теперь в безопасности… Куда вас ранило?
– Вот, в ногу… – Москвин-Волгин повернул голову и увидел в полутьме своего спасителя – сидел рядом крупный, широкоплечий человек в большой меховой шапке, отвислый козырек которой закрывал лицо тенью. На подножке пролетки стоял еще один человек и, согнувшись, зорко оглядывался назад, видно, пытался удостовериться – нет ли погони?
– Рану крепче зажмите, сильнее, как можете… Терпите…
Пролетка между тем летела все быстрее, а извозчик, не уставая, громко щелкал кнутом, словно палил из ружья. Мелькали редкие фонари, прохожие на мостовой, проносились встречные экипажи, все это в глазах Москвина-Волгина сливалось в сплошную ленту, и он чувствовал, что голова кружится, а во рту появился металлический привкус. «Только бы сознание не потерять, – тревожно думал он, продолжая зажимать рану скользкой от крови ладонью, – иначе полный крах… Что за люди, куда везут?»
Он продержался до того момента, как пролетка остановилась, но, когда его снова подхватили на руки и вынули из пролетки, Москвин-Волгин все-таки потерял сознание и очнулся, снова придя в себя, от громких голосов:
– Навылет пуля прошла, кость не задела, это дело поправимое. Сейчас повязку потуже, очнется – чаю горячего. Когда доктор обещался?
– Скоро будет.
– Бинты давайте.
Москвин-Волгин раскрыл глаза и увидел Гиацинтова. Тот стоял над ним, согнувшись, и держал в руках ножницы, которыми только что разрезал мокрые от крови брюки. Отложив ножницы, он принял от Абросимова бинт и быстро, ловко принялся перевязывать рану. Нога, согнутая в колене, полыхала болью. Москвин-Волгин невольно застонал, и Гиацинтов, бросив на него быстрый взгляд, подбодрил:
– Не пугайся, не смертельно. Можно сказать, легко отделался… Кто тебя продырявил?
Москвин-Волгин шевельнулся, упираясь рукой в диван, на который его уложили, другой рукой раздернул воротник рубашки с оборванными пуговицами, снова застонал от усилия и вытащил клеенчатую тетрадь. Облегченно вздохнул, положил ее себе на грудь и тихо выговорил:
– Теперь эту тетрадку только с моей головой заберут…
В это время, расплескивая чай на ковер, подбежал к дивану Сокольников и, увидев тетрадь, замер, а затем, аккуратно поставив чашку на столик, воскликнул:
– Алексей Харитонович, неужели добыли?!
– Как видите, Виктор Арсентьевич, Бог сподобил и не отвернулся от грешника. Читайте, вслух читайте, иначе лопну от нетерпения!
– Погоди, дай перевязку закончить, – остановил его Гиацинтов, – а лопнуть всегда успеешь.
– Нет, дорогой, ждать невозможно, – быстро заговорил Москвин-Волгин, – когда ты все узнаешь, ты нас поймешь. Да хватит тебе бинты мотать! Читайте, Виктор Арсентьевич!
Сокольников взял тетрадь, но открывать ее не стал, благоразумно посоветовал:
– Всему свое время, Алексей Харитонович. Дождемся доктора и тогда уж, без спешки… Вот, кстати, и доктор! Слышите звонок?!
Абросимов направился в прихожую открывать дверь, а Сокольников бережно, словно драгоценную и хрупкую вещь, донес клеенчатую тетрадь до книжного шкафа, положил ее поверх томов с золотым тиснением, плотно прикрыл створку и остался стоять, будто в карауле; и простоял, не отлучаясь и не сходя с места, до тех пор, пока не ушел доктор.
«Странный вечер, – думал Гиацинтов, наблюдая за происходящим, – ничего не понимаю! Дурной спектакль, да и только! Интересно – что там такого любопытного в этой тетради?»
Едва лишь за доктором закрылась дверь, как Москвин-Волгин снова потребовал:
– Читайте, Виктор Арсентьевич! Сил нет ждать!
– Ну что же, с Богом! Присаживайтесь, господа, удобней.
Сам Сокольников, достав тетрадь из шкафа и развернув ее, остался стоять.
Голос его, когда он начал читать, звучал четко, ясно, хотя и негромко:
– Я прекрасно осознаю, что во всей этой истории много странностей, путаницы, а порою кажется, что и несуразицы и даже глупости, тем не менее я посчитал своим долгом подробно и по порядку ее изложить, чтобы попытаться, прежде всего, самому разобраться во всех хитросплетениях, свидетелем коих мне довелось быть.
Итак, ровно четыре года назад, до моего перевода по службе в Москву, когда я занимал должность окружного исправника, у меня имелось знакомство с доктором из скорбного дома[12] Василием Васильевичем Перетягиным. Знакомство наше было связано, прежде всего, с моими служебными обязанностями, так как скорбный дом находился на вверенной мне территории, и я должен был наблюдать за необходимым порядком. Знакомство наше, повторюсь еще раз, было сугубо служебным, и поэтому я немало был удивлен, когда Василий Васильевич без всякой договоренности и без предупреждения появился у меня на квартире, несмотря на довольно поздний час. Я сразу обратил внимание, что он необычайно взволнован, хотя знал его всегда как человека очень уравновешенного. Он сразу же сообщил, что вынужден был появиться у меня на квартире по обстоятельствам чрезвычайным. И далее рассказал, что три месяца назад доставили к ним в скорбный дом душевнобольного, которого подобрали на дороге крестьяне, возвращавшиеся с мельницы. Пожалели убогого, вот и доставили. Имени своего и кто он таков, откуда родом и какого звания, душевнобольной назвать не мог, поэтому, по установившейся традиции, ему дали имя святого, память которого отмечали в тот день, когда беднягу подобрали на дороге, – Феодосий. Случай у него оказался очень тяжелый, лечению не поддающийся, медицинский диагноз я сейчас запамятовал, помню только, что лечили его, добиваясь следующего результата: чтобы тихое состояние, в котором он пребывал, не переросло в состояние буйное. Оно и не перерастало. Вел себя Феодосий послушно, никаких хлопот не причинял, а любимым занятием у него было стояние у зарешеченного окна. Мог стоять, не шелохнувшись, несколько часов кряду и так смотрел, словно ожидал, что кто-то появится. Но никто, конечно, не появлялся.
Время шло. Минул год. И ровно через год Феодосий заговорил. Он, конечно, и раньше разговаривал, но обходился очень ограниченным набором слов, да и те произносил лишь тогда, когда его о чем-либо спрашивали. А тут – настоящий фонтан красноречия, слушая который Василий Васильевич сразу же сделал вывод, что перед ним человек образованный и явно не из низов простонародья. Речь его была наполнена смыслом, логически выстроена и носила этакий философический характер. Василий Васильевич решил, что дело идет на поправку, и даже стал внимательнее наблюдать за ним, надеясь, что к Феодосию вернется память. Но произошло совсем иное. Феодосий прекратил произносить пространные речи и стал требовать у доктора Перетягина, чтобы тот отвез его в Санкт-Петербург и представил Государю Императору. Вот так – не больше и не меньше. Доказывал, что имеет сведения, которые может сообщить только Его Императорскому Величеству и никому более. Требования эти становились все более агрессивными, и Василий Васильевич уже собирался переводить Феодосия в отделение для буйных, но во время очередного обхода тот попросил доктора, чтобы он выслушал его наедине. Василий Васильевич, приказав санитару, на всякий случай, побыть за дверью, выслушал Феодосия и сделал вывод, что первоначальный диагноз поставлен абсолютно верно: случай тяжелый и лечению не подлежит. Феодосий рассказывал доктору о том, что скоро начнется война на земле и на море, что скоро прольется много русской крови и большие корабли будут тонуть в волнах, как скорлупки… Вдруг прервал свою речь и, напрягшись так, что на лбу выступил пот, сообщил, что в январе Государь опубликует Манифест о войне с Японией. И замолчал. Василий Васильевич приказал санитару внимательнее наблюдать за больным, а услышанному значения не придал: ему в стенах скорбного дома и не такое доводилось слышать от пророков и пророчиц, которые попадали к нему в изобильном количестве. Разговор этот происходил весной, в мае. Феодосий после этого разговора снова замолчал, никаких просьб не высказывал, но в январе, когда объявили Манифест о войне с Японией, сказал доктору, что ровно через год начнется большая смута и в русских городах русские люди будут стрелять в русских людей прямо на улицах.
В этот раз, в подробностях вспомнив первый разговор, Василий Васильевич Перетягин не отмахнулся от услышанного, а поспешил ко мне, как к представителю власти, чтобы изложить суть данного дела.
Я оказался в затруднительном положении, потому как не знал, что мне следует предпринять. В конце концов пообещал Василию Васильевичу, что изложу полученные сведения в рапорте по начальству, а начальство решит – как следует поступить в данном случае. Рапорт я написал, передал по инстанции и получил в виде резолюции крепкого нагоняя – занимайтесь служебными делами, а не мистикой и спиритизмом с сумасшедшими. Что я и выполнил с присущей мне ответственностью, сообщив Василию Васильевичу, чтобы он о данном деле не распространялся.
Затем наступили известные события, и меня перевели по службе в Москву. Честно сказать, я позабыл и о Перетягине, и о Феодосии, и о скорбном доме, находившемся ранее на вверенной мне территории, – не до того было. Вспомнить пришлось, когда на квартиру ко мне, как и в первый раз, без всякого предупреждения, пожаловал Перетягин. И рассказал в приватной беседе следующее: с началом японской войны в скорбный дом стали поступать душевнобольные, пострадавшие на театре военных действий. Один из них очень близко сошелся с Феодосием, и тот, бывало, подолгу рассказывал что-то новоприбывшему. Один из таких рассказов нечаянно подслушал санитар и доложил доктору. Феодосий снова вел речь о царском Манифесте[13] и о том, что после издания этого Манифеста начнется смута, очень большая и кровавая.
Василий Васильевич, помня о моем наказе, распространяться об этом предсказании не стал, даже тогда, когда оно с точностью сбылось. Только обратил особое внимание на новоприбывшего, который близко сошелся с Феодосием, и, наблюдая, пришел к неожиданному для себя выводу: якобы душевнобольной таковым отнюдь не является, на самом деле это талантливый лицедей, не лишенный некоторых медицинских познаний. По документам он значился как вольноопределяющийся Забайкальского полка по фамилии Забелин. Результаты последующих бесед и обследований лишь укрепили Василия Васильевича в его выводе. И пока он раздумывал, что предпринять, случилось совершенно непредвиденное – Забелин и Феодосий исчезли из скорбного дома. Исчезли совершенно непонятным образом: замки и запоры целы, никакого шума не происходило, все служащие находились на местах, никто не отсутствовал, и главное – никаких следов не осталось, будто эта парочка вознеслась на небо. Об исчезновении душевнобольных Василий Васильевич доложил окружному исправнику, моему преемнику, но тот, узнав, что беглецы не буйные, успокоил: через неделю-другую сами найдутся на какой-нибудь церковной паперти, где будут просить милостыню. Но Василий Васильевич таким ответом не удовлетворился и направился ко мне за советом. Все-таки мучило его беспокойство: а вдруг этот Забелин не случайно оказался в скорбном доме и не случайно сошелся именно с Феодосием, который с такой удивительной точностью предсказывал грядущие события? Вдруг это дело приобретет государственное значение и его, доктора Перетягина, потребуют к ответу?
Вопросы, которые поставил передо мной Василий Васильевич, на этот раз показались мне уже совершенно серьезными, и я не мог их проигнорировать. Написал рапорт по начальству, был вызван в жандармское управление, где еще раз изложил все известные мне обстоятельства, и получил указание: хранить эти обстоятельства в строгой тайне, а в самое ближайшее время доставить доктора Перетягина в Москву под благовидным предлогом, не открывая ему истинной причины, и явиться вместе с ним по адресу, который мне сообщат позднее. Завтра я уезжаю из Москвы и все думаю над этой странной историей, она меня не отпускает, а в последнее время даже пугает своей неизвестностью – чем закончится? Я все-таки предполагаю…
Прочитав последние слова, Сокольников быстро пролистал чистые страницы и с сожалением закрыл тетрадь; бережно положил ее на столик и вздохнул:
– А вот что именно предполагал господин Обрезов, он дописать не успел.
– Даты там нет? – спросил Москвин-Волгин.
– Увы, – развел руками Сокольников, – но теперь мы можем хотя бы частично восстановить цепочку событий. Итак, начинаем с самого начала. Обрезов привозит доктора Перетягина в Москву, устраивает его на ночлег в своей квартире, а утром они выходят из дома. И за этот отрезок времени что-то происходит, что-то настораживает Обрезова, и он перед тем, как уйти, передает эту тетрадку своей жене и просит, чтобы она ее надежно спрятала. Почему он решил ее спрятать? Увы… Непонятно… Идем дальше. Обрезов и Перетягин берут извозчика, садятся в пролетку, и в это время выбегают два господина, открывают огонь из револьверов и исчезают. Перетягин и Обрезов убиты, извозчик ранен и через сутки помирает в больнице. В тот же день, в день убийства, жандармы устраивают обыск на квартире Обрезова и забирают все его бумаги, за исключением вот этой самой тетради, которая была надежно спрятана супругой. Зачем понадобился обыск, что они хотели найти, эту самую тетрадь? Ответа пока нет. Да, забыл весьма существенное дополнение: незадолго до последних событий Обрезов пишет письмо Москвину-Волгину и приглашает того в гости. Кстати, Алексей Харитонович, как давно вы с ним были знакомы?
– Пять лет, я писал об одном любопытном деле, которое он раскрыл, будучи еще исправником. После этого изредка обменивались любезными открытками к праздникам, и вдруг письмо – приезжайте, у меня есть для вас очень любопытные факты… Я и поехал.
– Минуточку, Алексей Харитонович, – перебил его Сокольников, – теперь давайте восстановим сегодняшний день с самого начала.
– Попробуем. Прямо с вокзала я направился на квартиру Обрезова. Дома никого не оказалось, на звонок никто не отвечал. Об убийстве Обрезова я ничего не знал и поэтому спокойно отправился по своим делам. Вернулся уже вечером и, когда подходил к дому, услышал, что меня окликнули. Там беседка перед домом, в беседке сидела дама, это оказалась жена Обрезова, она меня запомнила по прошлым встречам с ее супругом, поэтому и окликнула. И еще я думаю, что ей известно было о письме, которое направил мне Обрезов. Иначе трудно понять ее действия: сунула мне тетрадку и сказала, чтобы я немедленно уходил. Показала на окна, в которых горел свет, и сообщила, что в доме снова идет обыск, и еще сообщила, чтобы я был осторожней. Обыск, как я понял, шел в отсутствие хозяйки. Больше я расспросить ни о чем не успел, потому что увидел трех человек, которые вышли из дома и направились к нам. Вид их ничего хорошего не предвещал, и я бросился убегать. Пожалуй, они бы догнали, если бы не спасители, которые меня выручили и сюда доставили. Кто они, я даже понятия не имею.
– Это мои доверенные люди, Алексей Харитонович, надежные и смелые, как вы смогли убедиться. – Сокольников нахмурился, посмотрел на тетрадку и добавил: – Жаль только, что направил я их слишком поздно, не сразу сообразил после того, как вы мне, Алексей Харитонович, телефонировали. Видно, внутреннее чутье подсказало, хотя и не сразу… Да, опаздываем мы, вечно опаздываем!
– Не казнитесь, Виктор Арсентьевич, – стал успокаивать его Москвин-Волгин, – хорошо, что так закончилось, можно сказать, благополучно.
– Благополучного мы ничего не имеем, Алексей Харитонович, – вздохнул Сокольников, – вы представляете, что может случиться, если попадет этот убогий в руки врагов престола, какие он может предсказания еще изречь и как эти предсказания могут быть использованы! Я нюхом чую, что стоит за всем этим огромная провокация. А мы ни причин, ни смысла, ни конечной ее цели не знаем, и тетрадка эта нам ничего, по сути, не объясняет.
Во время этого разговора Гиацинтов молчал, лишь слушал и уже ничему не удивлялся, ясно теперь понимая, что приглашен он был Абросимовым в Москву не только для того, чтобы увидеться со своим командиром, но и для совсем иного – для исполнения важного дела. Теперь оставалось лишь узнать – в чем оно заключается?
Он не ошибся и догадался верно.
Сокольников, будто прочитав его мысли, резко сменил тему разговора:
– Владимир Игнатьевич, вы человек бывалый и, надеюсь, прекрасно понимаете, что столь большое количество сведений, которые вы сегодня узнали, для посторонних ушей не предназначено. Так уж вышло, что события опередили. Но я думаю, что это к лучшему. Нет необходимости тратить время на лишние объяснения. Нам нужны единомышленники и соратники, готовые идти до конца. Абросимов и Москвин-Волгин за вас ручаются. Нам не нужно ваше заявление, нам нужно ваше согласие. Да или нет?
Гиацинтов не раздумывал – он уже все для себя решил. И ответил коротко:
– Да.
А затем, помолчав, добавил:
– Но мне тоже нужна ваша помощь.
И достал из кармана почтовую карточку, которую получил сегодня из рук Пелагеи Трифоновны.
6
Отправились два мужика на охоту. Идут по лесу, перекликаются. Вдруг один другому кричит: «Медведя поймал!» – «Веди его сюда!» – «Не идет он!» – «Тогда сам иди!» – «Да он не пущает!»
Посмеивался Матвей Петрович и бороду разглаживал, когда рассказывал эту немудреную байку своему малому внуку; пожалуй, и думать не думал, что Гриня вспомнит ее спустя годы и от себя, крепко ругнувшись, добавит: «Послали за шерстью, как бы стриженым не вернуться…»
Странное и необычное дело, которое поручил ему дед, Гриня собирался провернуть легко и быстро. А чего, спрашивается, мудреного? По газетке, которую ему еще в Покровке дед дал, он номера Сигизмундова в городе разыскал, к нужным людям на работу устроился и все, что нужно было, узнал: люди эти торговые, именуют себя непонятным словом – коммивояжеры – и занимаются тем, что ездят с небольшим деревянным сундуком по окрестным селам, которые неподалеку от города находятся, и предлагают на продажу местным лавочникам тюки разной материи, которые завернутыми лежат в санях. Торговля у них, как понял Гриня, идет неважно, но сильно они не горюют и, вернувшись из одной поездки, сразу же начинают собираться в другую сторону. Разворачивают карту и смотрят – до какого большого села еще не доехали?
Одного из торговцев, высокого и худого, звали Ильей Самойловичем, по фамилии Целиковский, второго, поменьше ростом и с русой бородкой, – Леонидом Павловичем, по фамилии Кулинич, а бабу странно и чудно – Кармен. Будто не имя, а кличка у лошади. Баба по селам не ездила, все время проводила в номерах, и чем она там занималась, Грине было неведомо.
Еще один возчик был нанят из городских – пожилой и угрюмый мужик Шапкин. Вот в паре с этим Шапкиным и раскатывал Гриня по окрестностям Никольска уже вторую неделю. Выезжали обычно поздно, когда уже рассвело, возвращались в потемках и, высадив своих пассажиров, они обычно разъезжались: Гриня – в мастерские к Скорнякову, а Шапкин – к себе домой. Жил он на окраине, на берегу Оби, где стоял небольшой рубленый домик с низкой, будто приплюснутой, тесовой крышей.
В гости к себе Шапкин не приглашал да и разговаривал с Гриней, не проявляя к нему никакого любопытства, словно по обязанности: буркнет два-три слова и громко высморкается, совсем не слушая, что ему скажут в ответ. Гриня с разговорами тоже к нему не вязался, и трудились они, каждый в своей упряжке, вроде бы и вместе, но по сути – порознь. Вот по этой самой причине и удивился Гриня до крайности, когда Шапкин неожиданно предложил:
– Давай-ка, парень, седни ко мне заедем, посидим маленько.
Они только что вернулись из очередной поездки. Гриня уже сидел в санях, собираясь ехать в мастерские, когда последовало приглашение. Оглянулся – может, ослышался? Шапкин тем временем, не дожидаясь согласия, высморкался, тронул вожжами свою лошадку и махнул рукой, подавая знак – не отставай, езжай за мной.
Гриня поехал.
Жил Шапкин, оказывается, бобылем. Едва ли не половину тесного домика занимала большущая русская печь, а на остальном пространстве располагались широкая деревянная лавка, низкий топчан и крепкий, основательный стол, сколоченный из толстых плах. Там и сям разбросаны были без всякого порядка скудная одежонка, конская упряжь и стояли в разных местах разномастные деревянные кадки. Шапкин подвинул лавку поближе к столу, усадил на нее Гриню, не предложив даже раздеться, и принялся растоплять печку. Когда в просторном, черном от сажи зеве упруго загудел огонь, Шапкин довольно крякнул и принялся выставлять на стол квашеную капусту и соленые огурцы, которые доставал из кадок. И капуста, и огурцы припахивали гнильцой, но хозяин к этому запаху не принюхивался. Выудил из-под топчана бутылку водки и пристукнул стеклянным донышком о столешницу:
– Вот теперь, парень, выпьем для разгону и побеседуем.
Сказав это, он даже не высморкался по своему обыкновению, а быстро и ловко раскупорил бутылку и щедро набулькал в глиняные, давно не мытые кружки.
– А я не пью, – известил Гриня.
Шапкин удивленно приподнял бровь:
– Хвораешь?
– Дед не разрешает, а я деда уважаю.
Покивал головой Шапкин, словно соглашаясь с услышанным, постоял над столом в раздумье, а затем махом осушил обе кружки и еще постоял, раскрыв от удовольствия рот и глядя в потолок.
Наконец опустился на лавку, закусил огурцом и сообщил:
– А я вот, грешный, люблю выпить. Правда, изъян один у меня имеется, как выпью, так поговорить мне требуется, говорю и говорю, будто добираю, что промолчал, когда трезвый. Да ты не пугайся, парень, я тебя своими разговорами мучить не буду, я тебя по другой причине позвал. Сиди и слушай меня во все уши, пока я не захмелел и в ясном уме нахожусь. Перво-наперво слушай мой совет: хватай задницу в руки и дуй к себе, откуда приехал, да так старайся, чтоб следом снежок завихяривался.
– Это к чему же такая спешка? – удивился Гриня.
– А потому, парень, что влезли мы с тобой в нехорошее дело, как в выгребную яму влезли, по самые уши. К темным людям на работу нанялись.
– С чего же они темные-то? – снова удивился Гриня. – С какого квасу?
– Ты меня слушай и не вякай, – посуровел Шапкин, – я поболе твоего веку прожил и поболе твоего всяких штук видал. Я и плюнуть могу, тогда сам расхлебывать будешь, без подсказки. Так вот… Темные люди… Я сразу нутром почуял. Баба эта – как змея подколодная, глазищами крутит, того и гляди укусит. А три дня назад я на проспекте ее увидел. Вторник был, и во вторник мы никуда не ездили. Ну, подрядился я тут одному лавочнику дровишки подвезти. Тащусь мимо базара, вижу, она на лихаче подкатила, вышагивает, как царица, а рядом с ней, под ручку, сынок скорняковский. Ты же на постое у Скорнякова, а у него сын есть – картежник и шулер, на весь город известный. Какие такие дела у младшего Скорнякова с этой бабой, хоть убей меня, не поверю, что любовные. Но это так, семечки… Главное, что Илья Самойлович с Леонидом Павловичем по ночам из гостиницы выбираются и прямым ходом – на Обдорскую улицу. Там домишко на отшибе стоит, вот они побудут в нем час-другой и опять в гостиницу. И все пешком, даже извозчика не берут. Это как?
– А я откуда знаю! – Гриня пожал плечами, стараясь не показывать вида, хотя на самом деле было ему тревожно и неуютно, даже в груди захолодало, будто ледышку проглотил. Думал: «Пожалуй, и впрямь надо Шапкина послушаться и домой отправляться. Чего тут делать? Все, что дед велел, все исполнил. Завтра и поеду».
– Вот теперь знай! – будто очнувшись, подал голос Шапкин. – И еще, как говорится, последний гвоздь. Вчера меня на раскате лихач какой-то зацепил, крепко зацепил, со всей дури, аж ящик из саней вывалился. А в ящике… В ящике охнул кто-то! Человек там, хоть убей меня! Не товар в ящике возим, а человека! Вот и раскидывай своей головой, я тебе по десять раз втолковывать не буду. Ну, езжай, раз водку не пьешь, какой с тебя прок! А я вот еще хлебну маленько да и поговорю в свое удовольствие.
Он подвинул к себе глиняную кружку и принялся наливать водку, прищурив один глаз, будто прицеливался из ружья.
Гриня поднялся с лавки, нахлобучил шапку и толкнулся в двери, даже не попрощавшись. Уселся в сани, шлепнул вожжами, и конь, уставший за день, нехотя тронулся с места.
Короткий зимний вечер, подслеповато мигнув тонкой полоской заката, быстро наливался темнотой, скрывая дома, заборы да и саму улицу, редко-редко освещенную одинокими фонарями. Издалека, от станции, докатывались короткие гудки паровоза, и так же далеко, где-то на другой улице, словно отзываясь на эти гудки, слышался равномерный стук – это сторож, добросовестно отрабатывая жалованье, без устали бил колотушкой.
Чутко вслушиваясь в эти звуки, Гриня ехал по темной улице, и тревога не отпускала его, будто ледышка в груди не таяла и продолжала холодить. Все, что сказал ему Шапкин, представлялось сейчас пугающим и зловещим. Нужно было решаться – оставаться в городе или отправляться домой? Грине хотелось домой, однако торчала, как заноза, одна непонятность – чем же на самом деле Илья Самойлович, Леонид Павлович и баба Кармен занимаются? Неужели вся торговля у них для отвода глаз?
Когда Гриня подъехал к скорняковским мастерским, ответ на все вопросы явился сам собой: пожить в городе еще несколько дней, посмотреть, послушать, а умчаться в родную Покровку он в любую минуту успеет. Решив так, Гриня повеселел и даже вслух выговорил:
– Ничего, глядишь, и шерсти прихватим, и самого не остригут!
7
Ночью ему приснилась Дарья. Ласковая, податливая, она послушно отдавалась его жадным рукам и все спрашивала жарким шепотом:
– А чего это скрипит, Гриня? Слышишь?
Он, действительно, слышал протяжный скрип, который время от времени прерывался коротким железным звяканьем, но скрип этот совсем не тревожил, ведь Дарья была в руках – до скрипа ли!
Вдруг она хлестнула его по лицу и выскользнула из объятий, будто гибкая и упругая щучка. Гриня дернулся, пытаясь ее удержать, и проснулся. Ошалело повел глазами. В тесной каморке было темно, лишь мутно маячило маленькое оконце, затянутое снаружи ледком и припорошенное снегом. Гриня спустил с топчана босые ноги, уперся подошвами в холодный пол, окончательно просыпаясь, и лишь после этого снова различил протяжный скрип, который, оказывается, не приснился, а слышался наяву – за дверью. Гриня на ощупь нашарил спички, лежавшие рядом со свечкой на табуретке, чиркнул и, оберегая крохотный огонек в согнутой ладони, подошел к двери, неслышно ступая босыми ногами. В скудном шатающемся свете увидел: толстый кованый пробой, внутрь которого, закрываясь на ночь, он вставлял длинный гвоздь, медленно, со скрипом, уползал наружу. Кто-то выдирал его из косяка, сгибая гвоздь, орудуя снаружи не иначе как ломом, который время от времени со звяком переставлял. Ясно было – в каморку лезут незваные гости. Гриня бросил сгоревшую спичку, чиркнул другую и даже плечами передернул – ничего подходящего, чтобы отбиться, в каморке не имелось, даже полена. Тогда он снял с табуретки блюдце со свечкой, саму табуретку перехватил за ножку и встал сбоку двери; медлить было уже нельзя – пробой почти полностью вытащили.
Железные петли в свое время смазали щедро и по-хозяйски – двери, когда пробой вытащили, открылись неслышно. Согнувшись, чья-то темная фигура вошла в каморку, за ней – другая. Гриня, не дожидаясь, кто еще заявится, два раза со всей силой хлестанул табуреткой и выскочил на улицу, сжимая в руке один лишь толстый, деревянный обломок. Но там его ждали, навалились еще двое, пытаясь скрутить, однако, как говорится, не на того напали. Драться Гриня умел. На ногах устоял и оборонялся так, что гул пошел. В ярости он закричал во все горло, и крик этот, похоже, напугал ночных гостей больше, чем его проворные кулаки. Попятились, а скоро и вовсе ударились бежать к воротам. Гриня погнался за ними, но поскользнулся босыми ногами на утоптанной дорожке, растянулся во весь рост и даже проехался на животе. Вскочил, но в настежь раскрытых воротах уже никого не маячило. Кинулся к каморке. Там кто-то копошился, пытаясь переползти через крыльцо. Гриня, не раздумывая, приложился несколько раз кулаком, целясь в голову, и неизвестный послушно перестал шевелиться. Гриня полностью выдернул его на улицу, прихлопнул дверь и подпер ее подвернувшимся под руку железным ломиком, которым выворачивали пробой. Если в каморке кто-то остался, теперь не выскочит.
Фу-у-ух! Сел прямо в снег, не ощущая холода, и увидел, что к каморке с фонарями, с кольями бегут скорняковские работники. Проснулись… Первым подбежал запыхавшийся Савелий:
– Чего тут?! Чего случилось?!
Гриня коротко рассказал. Они открыли дверь в каморку, заглянули, светя фонарем, но каморка оказалась пустой. Тогда перевернули лежавшего, Савелий осветил его и присвистнул:
– Вот это птица! Гордей Гордеич!
– Какой Гордей? – спросил Гриня.
– Сынок хозяйский – Гордей Гордеич! Неужели до смерти прибил? Гляди, не шевелится!
Савелий поставил фонарь на снег, встряхнул лежащего, и тот, слабо мотнув головой, замычал.
– Живой! Таких за один присест не уторкаешь! – Савелий выпрямился и быстро скомандовал: – Лошадь быстрее запрягайте, на сани его. К хозяину поедем! И ты, Гриня, одевайся, поживее, расскажешь, чего и как…
Не прошло и часа, как в большом доме Скорнякова засветились все окна, забегала прислуга, бестолковая спросонья, и загремел, доставая до самых дальних углов, сердитый голос хозяина:
– Никакого доктора! Бычий хвост ему в ноздрю, а не доктора!
Тем не менее младшего Скорнякова расторопно занесли в одну из комнат, раздели, обмыли разбитую голову, перемотали, уложили на кровать. Он крутил глазами, видимо, плохо понимая, что с ним происходит и где он оказался. Поджимал от боли тонкие губы, а длинные, худые руки хватали и комкали края одеяла, словно он боялся, что это одеяло у него сейчас отберут.
Старший Скорняков, возвышаясь, как гора, смотрел на сына, и все его крупное, большое лицо кривилось, словно сунули в рот нестерпимой кислятины. Наконец сдвинулся с места, толкнул Савелия с Гриней, выпроваживая их из комнаты, и сам вышел следом, опустив тяжелые, широкие плечи.
Они прошли в другую комнату, где хозяин принимал Гриню в день приезда, и там, усевшись в деревянное кресло за просторным столом, Скорняков потребовал:
– Ну, рассказывайте – как все случилось?
Выслушал, не перебивая, и долго молчал, постукивая большим кулаком по зеленой материи столешницы. Савелий с Гриней переминались перед ним с ноги на ногу, а Скорняков продолжал тянуть молчанку и даже не смотрел на них, словно парней здесь и не было. Так, пустое место. Наконец разжал кулак и махнул широкой ладонью – ступайте.
Они пошли. На крыльце присели на высокую ступеньку, перевели дух и Савелий, хлопнув Гриню по коленке, с хохотком сообщил:
– Теперь, парень, требуй с меня, чего пожелаешь! Любой магарыч выставлю!
– С хрена ли загуляли? – усмехнулся Гриня, думая о своем. – Не до магарыча ему было нынче. Столько беды в одной охапке огреб, что не знал, как дотащить.
– А с того и загуляем, что ты, парень, мою мечту исполнил. Я сколько лет желал этому Гордею Гордеичу морду набить. До кровянки набить! Да только ручонки коротковаты… А ты раз – и в глаз! Аж завидно!
– Чем же он тебе так насолил?
– Долго рассказывать. Ты посиди тут, пойду у хозяина спрошусь – можно нам в мастерские отъехать или нет…
Вернулся Савелий быстро, сказал, что можно ехать в мастерские, и в ограде скорняковского дома они не задержались. Долетели по пустым ночным улицам одним махом. Двери каморки были распахнуты, в самой каморке горел фонарь и дремал, привалившись на топчане, пожилой работник.
– Мало ли чего, – объяснил он, – вдруг полицейские чины нагрянут, я и не прибирал ничего…
– Чины сюда не нагрянут, – перебил его Савелий, – хозяин в полицию заявлять не будет, не хочет он, чтобы огласка случилась. Скажи всем, чтобы языки за зубами держали. А теперь дров принеси и печку затопи, выстудили все… Давай живее, одна нога здесь – другая там!
– Ишь ты, раскомандовался, – недовольно буркнул работник, но дров принес и печку растопил. Сам Савелий сбегал на кухню, притащил большую белую булку и кусок масла.
– Подвигайся, Гриня, перекусим пока, а магарыч, как обещал, в другой день выставлю.
– Не буду я другого дня дожидаться, – как о деле решенном, твердо сказал Гриня, – я с утра пораньше домой поеду.
– А вот не поедешь ты никуда, Гриня. Велел тебе хозяин передать, чтобы ты не отлучался. И еще велел, чтобы людей этих, которые тебя наняли, исправно возил и ничего им о сегодняшнем не рассказывал. За это отдельная плата тебе будет – хорошая! Франтом приоденешься, когда в свою деревню явишься. И не вздумай ослушаться. Хозяин такой – если зуб на кого заимеет, обязательно до крови укусит.
– Лучше бы он сыночка своего кусал. Чего тот в свои владенья ночью, как ворюга, ломится.
– А он и есть ворюга – Гордей Гордеич.
– Погоди, это же сына так зовут?
– Верно. И сын – Гордей Гордеич, и папаша – Гордей Гордеич, и дед покойный у них был – тоже Гордей Гордеич. Я эту семью с малолетства знаю, все люди как люди, богачество свое трудом нажили. И младший Гордей не осевок какой, в гимназии учился, похвальный лист имел. Мы с им как друзья были. Его в Москву отправили торговым наукам учиться, а я шибко тосковал, все ждал, когда вернется. Он и вернулся, через два года, сказал, что на каникулы приехал. Ну, вроде бы как по-старому все. Даже на рыбалку раза два съездить успели. И вдруг у хозяина деньги пропадают, большущая сумма, и пропадают они из железного ящика, где он наличность хранит. И заявляет этот сыночек хренов хозяину, что будто бы видел, как я возле ящика крутился. А как я возле него крутиться мог, если не знаю даже, где хозяин от этого ящика ключ хранит. Клянусь-божусь, а мне не верят. И вышибли с позором. К кому ни пойду наниматься, никто не берет, дурная слава вперед прибежала – вор… Едва-едва на пристань приткнулся, баржи разгружать. Ну, разгружаю, радуюсь, что кусок хлеба имею, и вдруг вижу, по осени уже, идет по берегу хозяин мой – с лица черный, будто сковородка старая. Подошел ко мне, на колени встал и прощения попросил при всех грузчиках. Выяснилось, оказывается, кто деньги стырил – сыночек родненький. Он в Москве, как разузнали, к картежной игре пристрастился, проигрался там в прах и сюда сбежал. А здесь опять за карты, с жуликами связался, ну и пошло-поехало. Долгов наделал. Хозяин долги все отдал, сына из дома выставил, а передо мной покаялся и попросил, чтобы я на старое место вернулся. Подумал я, подумал и вернулся. Гордейка как напьется, так приходит к отцу и наследство требует, а тот его без разговоров с крыльца спускает. Так вот и живут теперь – война, да и только.
– А сюда он зачем полез, за деньгами? – удивлялся Гриня. – Да еще товарищей прихватил, будто я купчина и мошна у меня неподъемная.
– Вот и я голову ломаю – какая нужда его сюда притащила? Хозяин, похоже, догадывается, только молчит пока. Ладно, давай спать, вон уже светать начинает. А ты молодец, Гриня, приукрасил Гордейку – хоть в гроб клади. Я прямо душевное удовольствие поимел! А про дом свой пока забудь, не зли хозяина.
«Это он тебе хозяин, а мне никто, кочка на ровном месте», – подумал Гриня, однако вслух ничего не сказал. Съел кусок хлеба с маслом и лег на топчан. Савелий потеснил его, пристроился рядом, и они разом уснули, оставив незакрытой дверь каморки.
8
Выехал утром Гриня за ограду скорняковской мастерской, придержал своего коня и задумался: какую вожжу потянуть сейчас на себя – правую или левую? Если правую – прямая дорога домой, если левую – приедешь на улицу Туруханскую, где магазин «Парижский шик» и номера Сигизмундова. Ехать ему хотелось домой. Но Савелий, который стоял возле каморки и все видел, крикнул:
– Не дури, Гриня! Помни наказ!
«Да чтоб вас всех мухи съели!» – Гриня сплюнул на сторону и потянул левую вожжу. Конь весело пошел мелкой рысью – ему было все равно, куда тащить сани.
Вот пожарная каланча, вот улица Туруханская, а вот и номера Сигизмундова, где Гриню уже ждали. Перед входом нервно прохаживался по грязному истоптанному снегу Кулинич и поглядывал на часы, поддергивая рукав дорогого пальто с меховым воротником. Сразу же подскочил к саням, боком плюхнулся на разостланную волчью полсть, властно приказал:
– На Обдорскую улицу поезжай! Знаешь, где она?
– Нет, не знаю, – честно ответил Гриня, сразу вспомнив, что ему говорил про эту улицу Шапкин. Шапкин… А где он сам-то? Где его подвода? Гриня оглянулся вокруг – ни Шапкина, ни его подводы вокруг даже не маячило. Совсем чудно!
– Вон до того каменного дома и сворачивай! – продолжал командовать Кулинич, и голос у него был необычно злой и прерывистый. Еще чуднее! Обычно он говорил негромко и с добродушным хохотком, будто его постоянно смешили. А сегодня гляди, что делается, – грозный начальник, да и только. Гриня послушно поворачивал, куда ему приказывали, подгонял своего коня, и скоро они уже были возле старого, почерневшего дома-пятистенника, стоявшего на отшибе. Все верно говорил Шапкин! И предостерегал он, похоже, не напрасно. Но теперь уже поздно было поворачивать взад пятки, теперь беги вперед и смотри под ноги, чтобы не споткнуться.
– Жди меня здесь, я позову! – Кулинич выскочил из саней и бегом, развевая полы пальто, кинулся к дому.
Пробыл он там он совсем недолго, выскочил на крыльцо и махнул рукой, подзывая Гриню к себе. Тот привязал вожжи к передку саней, направился к крыльцу.
– А поживей нельзя?! – прикрикнул Кулинич.
Благоразумно помалкивая, Гриня поднялся на крыльцо, вошел в дом и сразу же за порогом остановился, будто его в лоб ударили. Посреди большой и пустой комнаты стояли два венских стула, а на них сидели Целиковский и Кармен. Одеты они были по-теплому, словно собрались в дальнюю дорогу, быстро, сердито о чем-то переговаривались между собой и сразу же замолчали, как только Гриня вошел. Поднялись со своих стульев, обнялись, и Кармен проскочила мимо Грини, обдав пахучим облаком духов, – только подол длинной синей юбки взвихрился. Кулинич повернулся, глядя ей вслед, что-то сердито прошептал себе под нос и смачно, со злостью, плюнул на пол.
– Прекрати, – тихим, едва слышным голосом остановил его Целиковский. От этого голоса Кулинич вздрогнул, как от громового крика, и сник, опустив голову, съежился, будто стал меньше ростом, а затем проворно, как мышь, кинулся в закуток за большой русской печью и вытащил волоком оттуда, ухватив за железную скобу, большой деревянный ящик, выкрашенный зеленой краской и обитый крест-накрест тонкими и узкими полосками железа. Закрыт был ящик на большой крепкий замок с толстой дужкой.
– Чего встал?! Помогай! Бери с другой стороны! – запыхавшийся Кулинич тащил ящик к порогу, и видно было, что ящик тяжелый. Гриня ухватился за вторую железную скобу, и они вдвоем доставили груз к саням.
Целиковский вышел из дома следом за ними, проверил, как установили ящик на санях, и произнес:
– Ты уж постарайся, все от тебя зависит, Кулинич…
Тот, не жалея своего дорогого пальто, втиснулся сбоку ящика, поерзал, устраиваясь удобней, и толкнул Гриню в плечо – поехали.
– Куда ехать-то? – Гриня повернулся к нему и уперся в злой, прямо-таки горящий взгляд своего седока. И это тоже было необычно – на самого себя стал непохожим сегодня Кулинич, будто переродился. Выкинул вперед руку и показал – прямо.
Ну, раз прямо, значит, прямо. Миновали Обдорскую улицу, дальше, согласно взмаху руки Кулинича, обогнули сухарный завод, возле которого в воздухе явственно пахло печеным хлебом, и лишь после этого последовало приказание:
– На тракт выезжай.
Здесь все знакомо, привычно. У Грини даже на душе стало легче, когда подумал он, что едет в сторону дома. Ровная, быстрая езда успокоила окончательно. Не любил Гриня терзаться долгими раздумьями и страхами – чего, спрашивается, загадывать и бояться раньше времени. Вспомнилась дедова поговорка: кому суждено под плетнем околеть, того до срока и колуном не зашибешь. Как он там, дед? Внука, наверное, ждет, а внук и знать не знает, когда вернется…
Повизгивали полозья саней на подмерзлом снегу, глухо хлопали бичи, тенькали под дугами колокольчики, иные ухари по-разбойничьи свистели, подстегивая коней и теша самих себя удалью, – обычной жизнью жил тракт, пролегший через длинные, заснеженные пространства. Все торопились, спешили по своим неотложным делам, и никому не было дела до одиночной подводы с двумя седоками и с большим деревянным ящиком, выкрашенным в зеленый цвет. Едут и едут, все куда-то едут…
Невысокое солнце быстро пошло на закат, съеживая и без того короткий зимний день, когда добрались они до постоялого двора. Кулинич, не сказавший за всю дорогу ни единого слова, вдруг коротко хохотнул, словно проснувшись, и прежним, веселым голосом известил:
– Прибыли! Устраиваемся на ночлег, заказываем самовар и спим в свое удовольствие. Слушай, а почему ты не интересуешься – куда едем, зачем едем? Даже не спросил ни разу.
– А чего мне спрашивать? – как можно равнодушней ответил Гриня. – Меня наняли, я и вожу, куда скажут…
– Молодец, верно говоришь, – Кулинич снова хохотнул и, потягиваясь, раскидывая руки, выбрался из саней. Лицо у него сияло, даже русая бородка топорщилась, будто испытывала удовольствие, как и ее хозяин.
Устроились на постоялом дворе без долгих проволочек. Коня Гриня поставил в конюшню, где ясли доверху были набиты пахучим сеном, сани закатил под навес, а деревянный ящик они вместе с работником затащили в чистую, просторную комнату, имевшую отдельный вход, и пристроили возле окна.
– Ну, благодарю за службу. Теперь ступай ужинать, после у хозяина спросишь, он тебе место покажет, где спать. Утром дальше поедем. – Кулинич довольно хохотнул и принялся снимать с себя пальто.
Ужином Гриню накормили, место указали на деревянной лавке в углу, и он сразу же лег на нее, укрывшись своим полушубком, не слушая, о чем говорят ямщики и возчики, которые тоже укладывались на ночлег. «Надо настороже быть, – подумал Гриня, – если и спать, то в половинку глаза…»
Но в половинку не получилось, как он ни сторожился, а все равно крепко уснул.
Да и то сказать – прошлая ночь выдалась бедовой, и день нынешний прошел не веселее, весь в тревогах. Правда, сначала Гриня пытался не давать себе поблажки, лежал с открытыми глазами и мучился от зевоты, чутко прислушиваясь, что происходит вокруг; хотя прислушиваться особой нужды не было: кашель да храп мужиков, умученных дальней дорогой. Устав прислушиваться, он закрыл глаза и – как в яму провалился, даже вздрогнуть не успел. Поэтому не сразу очнулся от жаркого, прямо в ухо, шепота:
– Гриня, слышь меня, просыпайся…
Вскинулся, не понимая, где находится, но сильная рука ухватила за плечо, придавила к лавке, а в ухо – шепот:
– Не дергайся, это я, Савелий… Проснулся? Ступай за мной, только тихо…
Гриня окончательно вытряхнулся из крепкого сна, признал голос Савелия и поднялся с лавки; на ощупь обул валенки, перебросил через руку полушубок и неслышно, по-кошачьи, выбрался следом за Савелием на крыльцо. Соскреб сухой колючий снег с перил, шлепнул его полной пригоршней на лицо, растер с силой, и в глазах сразу прояснило. Увиделся просторный двор в ярком лунном свете, крыльцо, а самое главное – увиделся Савелий, который стоял перед ним, неизвестно откуда взявшись – будто с неба свалился. Сам же Савелий молча ухватил его за руку, потащил за собой под навес, где стояли сани. И только там торопливо заговорил, вывалив сразу кучу новостей:
– Шапкина угробили прошлой ночью, до смерти. Хозяин узнал и сразу меня за тобой следом отправил. Кинулся я, да чуток припоздал, вы уже к этому домишку на Обдорской поехали. Ну, а от домишка этого я уже следом за вами тащился.
– А где ты был, я тебя не видел? – удивился Гриня.
– Где, где? В гнезде! Ты же пока ехал, ни разу не оглянулся, голова садовая, а я по сторонам посматривал. Как на тракт выехали, за вами сразу тройка пристроилась, три мужика в кошевке. Как привязанные тянулись, до самого постоялого двора. А пока ты щи хлебал да спать укладывался, они вместе с твоим седоком на ночлег определились, все в одной кучке.
– Слушай, Савелий, а чего это хозяин погнал тебя за мной, с какого квасу? Я ему не родня…
– Родня – не родня, я не знаю. Одно только понял – в каморку к тебе те же самые варнаки приходили, которые Шапкина угробили. Это, видно, Гордей Гордеич сыночка своего тряхнул, тот и сознался. Вот потому и отправился я с наказом, чтобы тебе голову не проломили. А еще мне наказано узнать, если получится, о чем эти варнаки разговоры разговаривают…
– Ага, иди и постучись к ним, скажи, желаю, мол, послушать вас и все помыслы ваши выведать, – не удержался и съехидничал Гриня, правда, высказал это не от веселости, а от тревоги, которая цепко обняла его и не отпускала. При всем своем упрямстве в обыденной жизни имелась у Грини и своя борозда – чувство опасности. Именно оно выручало его во многих деревенских драках, когда внезапно будто кто невидимый подсказывал – оглянись. Он оглядывался – а там уже кулак летит. Вот и сегодня, словно получив такую подсказку, Гриня всерьез встревожился и уяснил для себя – в суровый переплет он попал, и голову ему могут проломить запросто, как Шапкину. Правда, полностью оставалось непонятным главное – по какой причине? Вот эту причину Гриня и желал узнать. А узнать ее можно было только от людей, которые сидели сейчас в отдельной комнате и разговаривали разговоры – видно было из-под навеса, что в комнате горит свет, значит, не спят странные постояльцы. Но как к ним подобраться – неизвестно. Потому и съехидничал, посоветовав Савелию пойти и постучаться.
Но тот его ехидный совет пропустил мимо ушей, будто не услышал. Только шапку потуже натянул на голову и спокойно, как малому дитенку, принялся объяснять:
– Стучаться к ним, Гриня, – себе дороже. Да и голова у меня не казенная, чтобы под топор ее подставлять. Хитрее надо придумать. Пока ты дрых тут без задних ног, я маленько огляделся, в разные места заглянул. Значит, так, эти отдельные комнаты, их пять штук, они в один ряд выстроены. Дверь, сама комната, дальше, если прямо смотреть – стена. Вот в этой стене и весь фокус – она смешная, из досок, потому что за ней коридор на кухню. Там варят-парят и две печи здоровущие стоят, тепла хватает, потому и стены в одну дощечку. Теперь понял?
– Да не дурнее тебя, – отозвался Гриня, – только как мы в этот коридор попадем? На ночь, поди, все на замки закрыто.
– Все, да не все! – Савелий покровительственно похлопал его по плечу. – Снимаем сейчас валенки, пойдем босыми, чтобы снег не хрупал. Я вперед, ты за мной. Там сторож на заднем крыльце дремет, я ему косушку поднес, думаю, не скоро проснется. Вот мимо сторожа, как мышки, проскочим и в коридор. Ну а как в досках дырку найти, я пока не придумал… Вот и разбудил тебя, может, чего дельного подскажешь… Может, у тебя в санях гвоздодер завалялся?
– Гвоздодера у меня нет, а вот топорик имеется. – Гриня, в отличие от Савелия, был серьезен и шутки шутить не собирался. Его обычное упрямство взыграло сейчас в полной силе, и он знал наперед, что не успокоится, пока не услышит собственными ушами, о чем разговаривает Кулинич с приехавшими к нему людьми.
– Тогда тащи свой топор, пойдем, если не трусишь… Быстрей тащи! – поторопил Савелий.
Долго искать топор не потребовалось, он на днище саней лежал, под сеном. Скоро, без слов понимая друг друга, парни скинули валенки, размотали портянки и босиком, след в след, проскользили до заднего крыльца, минули похрапывающего сторожа и оказались в узком длинном коридоре, в конце которого, на кухне, подслеповато горела лампа и слабые, тусклые отсветы лежали на полу.
Загнул, конечно, Савелий, когда говорил, что стена смешная, из дощечек. Толстенные плахи были намертво приколочены коваными гвоздями, длиннющими, если судить по шляпкам, которые размерами своими не уступали пятаку. Тут и с гвоздодером едва ли управишься, а уж с топориком… До утра можно дырку прорубать, пока все постояльцы не сбегутся…
Незадача.
Парни в растерянности стояли перед стеной и не знали, что делать.
Гриня тоскливо поднял вверх голову и обомлел – под самым потолком поблескивало стеклом оконце, совсем махонькое – головы не просунуть. Да большое им и не требовалось, они же не собирались в комнату залезать. Савелий, когда ему Гриня показал на оконце, сразу все понял. Присел, Гриня взгромоздился ему на широкие плечи, будто в хорошем седле устроился, Савелий выпрямился, и вот оно – оконце. Отогнуть топориком гвоздики и вынуть стекло – дело плевое. Осторожно, сбоку, Гриня заглянул в проем и увидел внутренность комнаты.
За столом сидели Кулинич и Целиковский, третий человек, в торце стола, располагался спиной к оконцу, и лица его разглядеть было невозможно. Виднелась лишь всклокоченная шапка темных волос с густой проседью, похожая на воронье гнездо. Больше в комнате никого не было. «Савелий сказал, три мужика ехали в кошевке, а где еще один?» – Но едва лишь Гриня подумал об этом, как ему стало не до подсчетов, потому что зазвучал тихий, едва различимый голос Целиковского:
– Все, Кулинич, договорились. Сейчас прихлопнут этого мужичка, и мы сразу же выезжаем. Рассвет в дороге подождем. А дальше – прямой дорогой, и будет у нас, если глупостей не наделаем, полная чаша счастья. Спроси еще раз – он точно места вспомнил? Не начнет путаться?
Кулинич поднялся из-за стола, наклонился над лохматым человеком, что-то прошептал ему, и тот закивал головой, а затем, помолчав, произнес хрипло и певуче:
– Вижу путь! Все вижу! Почему не едем, мне быстрее надо!
Кулинич еще что-то прошептал и погладил лохматого человека по плечу, словно хотел успокоить. Тот, отзываясь, снова покивал головой и замер неподвижно, опустив плечи.
И в этот момент дверь комнаты настежь распахнулась, будто выстрелила крутящимся морозным клубком, из этого клубка вышагнули два мужика, и оба держали в руках по паре валенок. «Наша обувка!» – беззвучно охнул Гриня. Валенки полетели на пол, а мужики, словно каждому из них к горлу нож приставили, испуганно, перебивая друг друга, заговорили, и пока они говорили, Целиковский медленно поднимался из-за стола, все глубже и глубже засовывая ладони в карманы брюк. Рывком их выдернул, и в свете лампы тускло блеснули два револьвера. Гриня из торопливых и путаных слов, сказанных мужиками, понял лишь одно – искали они его, Гриню, но не нашли, наткнулись лишь на валенки, валявшиеся теперь на полу.
– Ящик, быстро! – по-прежнему тихим голосом скомандовал Целиковский. – Мужичка найти, он где-то здесь, прихлопнуть, и сразу уезжаем. Быстрее! Где он может прятаться?
– Сторожа спросим, на заднем крыльце сторож должен быть. Сейчас, мигом!
Мужики выскочили из комнаты, в самой комнате поднялась суматоха, и ясно стало, что больше ничего услышать не удастся, теперь бы ноги унести. Савелий замешкался, не понимая, почему Гриня размахивает руками, наконец до него дошло, он присел, Гриня соскочил на пол, показывая на выход – бежим! Но было уже поздно, на крыльце зашумели, стукнула дверь, и тогда парни, не сговариваясь, кинулись в сторону кухни, на блеклый свет лампы. Заскочили, прижались в угол за печью, а по коридору уже стучали быстрые, торопливые шаги – ближе, ближе. И тогда Гриня, не раздумывая, запустил топориком в лампу, она жалобно звякнула, и всю большую кухню разом заглотила темнота. Парни бросились на ощупь, ударились в мужиков, отчаянно отмахиваясь кулаками, сшибли кого-то на пол, и легкие, как ветер, вылетели на крыльцо, бросились к конюшне, где стояли их кони, думая лишь об одном – успеть бы, заскочить, да хоть за гриву уцепиться.
Но возле конюшни уже мелькали чьи-то тени, а у входа в комнату, почти впритык, стояла тройка, запряженная в кошевку; видно, ее не распрягали, и находилась она где-то неподалеку, чтобы появиться в нужный момент, как в сказке. Никого возле тройки не было. И парни разом, в три больших скачка, долетели до кошевки, рухнули в нее, схватились за вожжи, и тройка, застоявшаяся на морозе, понеслась, почти без разгона, будто выпущенная из тугого лука. Вслед запоздало стукнули несколько глухих выстрелов, но они лишь подстегнули коней. Ветер засвистел в ушах. Дорога терялась в темноте, куда ехать – было неясно, и надежда оставалась только на коней – лишь бы вывезли, а в какую сторону – не важно.
Опамятовались и пришли в себя, когда уже отмахали от постоялого двора не одну версту. Придержали коней, прислушались – погони не было.
– Оторвали от шубы рукава! – Савелий дурашливо засмеялся и хлопнул Гриню кулаком по спине. – А ты, парень, удалой, не валенок деревенский!
– Лучше бы валенком, – угрюмо буркнул Гриня, – ноги-то отморозим!
И только сейчас Савелий вспомнил, что они остались босыми. Спрятал ноги глубже в сено, но холод их все равно пощипывал, тогда он оглянулся, надеясь отыскать в кошевке какую-нибудь тряпку, и присвистнул:
– А эта беда откуда? Гляди!
Гриня тоже обернулся – в задке кошевки, мутно темнея в рассеивающихся потемках, стоял знакомый ему ящик.
– Погоди-ка, – передал вожжи Савелию, подполз на четвереньках, пошарил рукой – замка на ящике не оказалось, видно, в суматохе не до замка было. Откинул крышку и отшатнулся – из ящика показалась всклокоченная голова, и хриплый, протяжный голос известил:
– Путь вижу, не ошибусь. А почему встали? Я же говорил – бор сосновый клином в поле выходит, его обогнуть надо и налево, а там одна дорога – до самой деревни, Покровка называется…
Гриня замер в растерянности над ящиком, не в силах произнести ни одного слова. Это что же получается? Выходит, он все дни человека в этом ящике катал, а тюки материи, в бумагу завернутые, для отвода глаз рядом лежали! А еще – откуда это чучело дорогу до Покровки знает, называя точную примету, и по какой надобности Кулинич с Целиковским в Покровку собирались? Пересказывать все это Савелию он не стал – после, не сейчас, а сказал, помолчав, твердо, как о деле решенном:
– Домой едем, в деревню, там нас никто не достанет, там и разбираться будем – чего и почему…
– Едем, едем, быстрее едем, – поторопила всклокоченная голова и скрылась в ящике, – крышку опустить не забудьте.
– Закроем, только подстилка у тебя шибко богатая, бока отлежишь. – Савелий обеими руками залез в ящик, вытащил оттуда широкий кусок толстой материи, сложенной в несколько раз, разорвал ее; быстро, ловко навернул, как портянки, на ноги, и оставшиеся две половины протянул Грине. – Примерь обувку, а то пальцы отвалятся.
Гриня отказываться не стал – босые ноги леденели.
Поздним утром, когда уже поднялось яркое, морозное солнце, они въехали в Покровку.
Глава четвертая
1
Дед Владимира Гиацинтова был крепостным у помещика Сулахина.
Вот уж кривая судьба вдоволь над мужиком посмеялась: мало того, что пребывал он в горьком звании, так еще и помещик ему достался – ни украсть, ни покараулить. Выйдя с военной службы в отставку и приехав в свое наследственное имение, в котором уже почили, с разницей в один год, его родители, Сулахин очень огорчился от скудных доходов, от серого и убогого сельского вида, от дурного вкуса домашних настоек и наливок – если сказать коротко, все ему не понравилось в изменившейся линии жизни. И решил он эту жизнь украсить цветами – затеял строительство большущей оранжереи. Выписал агрономические журналы, семена и даже ученого садовника из Санкт-Петербурга. А всех крестьян, которых он отобрал для строительства оранжереи, Сулахин наградил чудными фамилиями, доселе здесь неслыханными: Розовы, Фиалковы, Георгиновы… Дед стал Гиацинтовым.
Но закончилась диковинная затея очень скоро. Оранжерея, еще не достроенная, рухнула, ученый садовник, не дождавшись обещанного жалованья, сбежал, семена не взошли, цветы не распустились, но зато остались фамилии и еще немалые долги Сулахина. Но тот не успокоился, занял у соседей денег и решил заняться коневодством, но из этого начинания также получился громкий пшик, лишь увеличивший долги. Много еще чего пытался Сулахин строить, выращивать и даже сомов разводить в старом пруду – кругом осечка. В конце концов разорился в прах. И принялся тогда выбивать недоимки со своих крестьян. Собственноручно выбивал, кулаками. Деду, как иным прочим, тоже не один раз доставалось. Но мужику надоело получать оплеухи, он сел в своей избенке на лавку, задумался крепко и – придумал! Явился вскоре к Сулахину и выложил перед ним конскую упряжь – узда, шлея, вожжи… И все эти изделия с медными блестящими наклепками, с ажурно выкованными колечками, крепкой дратвой, мелкими стежками, прошитые, играли, светились, будто яркие бусы, предназначенные для нежной девичьей шеи, а не для коня. Сулахин смотрит и не понимает – какая с этих украшений польза?
А вот какая, терпеливо разъяснял ему дед, надо с этой сбруей съездить в уездный город, где конный полк стоит, и показать ее господам военным. Вдруг поглянется? Если поглянется да если деньги за нее платить станут, дед таких изделий нашьет на три полка. Сулахин, конечно, ни одному слову не поверил, деда обозвал дураком, но долги подпирали, будто нож под горло, и он, поразмыслив, схватился за эту упряжь, как тонущий человек хватается за любую веточку – лишь бы под воду не уйти. Взял с собой деда и отправился вместе с ним в полк. Упряжь военным понравилась. Ее тут же купили и еще заказали.
Пошло дело!
Через пять-шесть лет Гиацинтов мог не только за себя, но и за всю деревню, которая теперь на него работала, недоимки заплатить. Да что там недоимки! Он теперь и самого Сулахина мог купить со всем его имением и с потрохами. Еще несколько лет прошло, и в деревне настоящая шорная фабрика появилась. Две дочери Гиацинтова замуж ушли, на сторону, а сын Игнат оставался при отце и родительское наследство крепко забирал в руки, приумножая его год от года.
Сулахин помер, пресытившись от спокойной жизни наливками, Гиацинтовы получили вольную и, развернувшись в полную силу, перебрались в Москву, где старший из них тихо и спокойно ушел на восьмом десятке в иной мир, успев еще дождаться двух внуков – старшего Антона и младшего Владимира.
Братья с самого рождения уже иной жизнью жили: сначала их дома учителя учили, затем они оба гимназию закончили, правда, Антон, получив похвальный лист, вставил его в рамку под стекло, повесил на стену и сказал: в Библии написано, что многие знания умножают скорбь, правильно написано… И впрягся в отцовское дело, как ломовой конь. Владимир все по-иному решил: заявил, что слышать даже не желает о коммерции, а желает изучать изящные науки – историю и филологию. И поступил в университет. Родитель ему не препятствовал, потому как, схоронив к тому времени тихую и безответную супругу, он перебрался в отдельный домик, где и проводил большую часть времени в молитвах. Скончался он, стоя на коленях перед иконами.
Досталось братьям Гиацинтовым от упокоившегося родителя огромное наследство: три шорных фабрики, склады, магазины, и, соответственно, немалые деньги. При таком соблазнительном раскладе в купеческих семьях частенько случались нестроения: ссориться начинали из-за наследства, а порою и враждовать, не на жизнь, а на смерть. Братья Гиацинтовы решили все тихо и мирно, полностью доверяясь друг другу: налаженное, прибыльное дело дробить не стали, оно полностью, в целом виде, находилось в руках Антона, а Владимир со своей доли получал деньги на жизнь, не зная отказа. Учился он легко, играючи, университетское вольнодумство его не прельщало: пару раз побывав на шумных студенческих сходках и послушав зажигательные речи о свободе, он пришел к выводу, что действо это чрезвычайно скучное; но молодая, буйная энергия требовала выхода, и выход этот появился сам собой: случайно Владимир познакомился с молодыми офицерами из гвардейского полка, быстро с ними сдружился и стал без устали совершенствоваться в конных скачках и в стрельбе, совершенно забросив учебу в университете, которая не прельщала его теперь никоим образом.
Манифест о войне с Японией был воспринят Владимиром с великой радостью – он расстался с университетом, получил погоны вольноопределяющегося и отправился на театр военных действий, прихватив с собой винчестер, полученный в подарок за честную победу над англичанином. Антон, провожая его на вокзале, молчал, ничего не говорил, только отворачивался время от времени и украдкой вытирал слезы – братья, при всей своей разности характеров, очень любили друг друга.
И вот теперь, встретившись после долгой разлуки, в родном доме, они сидели вдвоем за столом, и Владимир рассказывал Антону о своих злоключениях, которые выпали на его долю. Рассказывал совсем не так, как полковнику Абросимову – по-военному четко и коротко, а подробно и обстоятельно, будто заново переживал и японский плен, и долгие скитания.
Антон внимательно слушал, ничего не переспрашивая, теребил короткими сильными пальцами окладистую русую бороду и лишь изредка кивал головой. За прошедшее время, пока они не виделись, старший брат заматерел, огрузнел, и даже походка у него изменилась: ходил медленно, осторожно, будто всякий раз нащупывал под собой опору, боясь оступиться.
– Теперь, братец, давай выпьем за окончание моей одиссеи, а дальше я тебя кое о чем поспрашиваю… – Владимир поднял рюмку с золоченым ободком, и Антон, чокаясь с ним, добавил:
– За твое возвращение, Володя, и за твоего Федора, дай ему Бог здоровья. Поговорил я с ним, пока тебя ждали, чистая душа у парня… Ладно, чтоб все печали миновали!
Они выпили, и Владимир, отодвинув от себя тарелку, спросил:
– Ты слышал, Антон, про Союз русского народа? Что это такое? Я ведь ничего не знаю… Правда, читал в газетах…
– Тарелку-то подвинь на место и закусывай, вон как исхудал – одни мослы торчат. А что про твой Союз – врут в газетах, я их теперь и в руки даже не беру. Тут ведь в Москве такое творилось, в девятьсот пятом году, – хоть святых выноси! Вышел царский Манифест – всем свобода, и «пошла гулять ивановская». Читали не читали этот Манифест, одно лишь из него поняли – власти нет. А раз власти нет, делай что желаешь и чего твоей душе угодно. К моему компаньону какие-то орелики ночью с наганами в дом залезли и подчистую все выскребли – деньги, золотишко, какое было; раньше это грабеж назывался, а теперь – экспроприация. На нужды революции. Портреты Государя рвать стали, городовых средь бела дня убивали. А власть руки растопырила, смотрит и ни бе ни ме ни кукареку сделать не может. Войска послали, когда уж полное светопреставление началось. Вот и схлестнулись, русские с русскими, будто с японцами, да где? В Москве! Дожились… Тут же настоящая война была. Теперь посуди – мне такая война нужна? Нет, не нужна. Она даже моему кучеру не нужна, ему ногу какой-то лиходей из нагана прострелил. Просто так, без причины, выстрелил и убежал. А парень хромым на всю жизнь остался. Вот народ и сомкнулся, чтобы самого себя уберечь. Только боюсь я, что Союз этот долго не продержится, не мытьем, так катаньем сотрут его…
– Почему сотрут? – быстро спросил Владимир. – Деятельность Союза сам Государь поддерживает, даже телеграмму, говорят, прислал доктору Дубровину!
– Прислал, – согласился Антон, – и делегацию еще принимал, изъявляя всяческую поддержку. Да только имеется одна закавыка – вокруг Государя нашего видимо-невидимо людей, которые ждут не дождутся, когда они сами в стране хозяйствовать будут, без Государя. Разбогатели сверх всякой меры, теперь им власть подавай. Зачем им народ объединенный нужен? Такой народ им не нужен! Им только помощники нужны, а в помощниках – чиновничество да депутаты с газетчиками; они, значит, на одном краю находятся, а на другом – революционеры с передовым еврейским отрядом. Разные, казалось бы, люди, а цель у тех и у других одна. Вот с двух сторон они Союз и порушат, как главную преграду к своей мечте-идее, раскатают, как тесто по сковородке.
– Ты так говоришь, будто сам в Союзе состоишь.
– Нет, Володя, не состою, а не состою по той причине, что ясно вижу – не будет победы. Будет только поражение. Но, по силе возможности, когда просят, помогаю. А к чему ты этот разговор завел? От политики, насколько помню, всегда шарахался, хоть и в студентах пребывал, а те бузотеры известные.
– Да вот… – Владимир развел руками, – похоже, я в этот Союз вступил, хотя толком еще не разобрался… Разберусь, тогда все тебе расскажу. А теперь, пожалуй, пойду спать. Ты уж извини, брат, очень спать хочется.
– Ступай, Володя, ступай, в твоей комнате все как было, ничего не трогали.
Действительно, все вещи в комнате лежали на старых местах, книги стояли на полках, в углу – две гири-пудовки, на письменном столе – чернильный прибор из позеленевшей от времени бронзы и большая фотография семьи Гиацинтовых в деревянной рамке: дед, родители и два брата, тогда еще очень похожие друг на друга, с одинаково распахнутыми, удивленными глазами. Владимир долго любовался на фотографию и думал: «Как же тогда все было хорошо – просто, ясно и счастливо…»
Вздохнул и передвинул фотографию на край стола.
Уснул он сразу же, но очень скоро проснулся, словно его кто толкнул, и долго лежал с открытыми глазами, не понимая причины своего внезапного пробуждения. Так и пролежал почти до самого утра, заново переживая события последних дней, которые несли его, как поток, не давая времени остановиться и подумать. «Многие знания – многая скорбь», – вспомнилось неожиданно, и Гиацинтов успокоился, решив для себя просто и ясно: если дело, которое ему поручено, не вызывает внутреннего отторжения, значит, его нужно просто делать, а не рассуждать о непонятных материях. И даже не вспоминать о них. А вспоминать и думать следует только о Варе. Он закрыл глаза, увидел ее – смущенную, улыбающуюся, в легком платочке, с милыми кудряшками, выскочившими из-под этого платочка, увидел так явственно, что даже руки протянул, чтобы обнять, но руки уперлись в пустоту, и тогда он сжал кулаки, ударил ими в пухлое одеяло и произнес в темное пространство комнаты:
– Я не для того выживал, Варенька, чтобы потерять тебя. Найду… Ты потерпи еще немножко, совсем немножко потерпи…
2
Дом у Гиацинтовых был большой и основательный: каменный, на крепком фундаменте, в два этажа, под железной крышей и с балконом, украшенным коваными решетками. Двустворчатые двери, выходившие на балкон, на зиму еще не заделывали, и Федор с раннего утра неслышно проскользнул в них, оперся на влажное от изморози железо и замер, увидев долгожданное счастье: над московскими улицами наконец-то закружился снег. А снега Федор давным-давно не видел, наскучался по нему и теперь по-ребячески протягивал руки, ловил растопыренными ладонями снежинки, смотрел, как они тают, и обтирал холодной влагой лицо, будто умывался. Что-то шептал на родном языке, снова ловил снежинки и даже внимания не обращал, что на балкон выбрался в одной нижней рубахе с распахнутым воротом – не холодно ему было.
Владимир, потеряв его, забеспокоился: времени оставалось совсем в обрез, в десять часов они должны были быть у Абросимова на квартире. Наконец, отыскав Федора на балконе и увидев его влажное, счастливое лицо, он все понял и расхохотался:
– Хватит, Федор, хватит! Вот сейчас в одно место съездим, а после будем снежную бабу лепить! Вот такую бабищу слепим!
– Баба – хорошо, – блаженно улыбался Федор, – снег тоже хорошо, еще лучше. Володя, а Володя, слушай меня, снег лучше!
– Слышу, слышу! Конечно, лучше! Собирайся, торопиться нам надо.
Федор вздохнул, еще раз вытер лицо влажными ладонями и нехотя вошел в дом, аккуратно прикрыв за собой двери.
Завтракали они вдвоем, потому что Антон рано утром уехал по делам, наказав передать, что вернется лишь к вечеру и что для разъездов в распоряжении у брата будет пролетка с кучером, которая наготове стоит у крыльца.
– Вот и славно! Хорошее утро – снег идет, пролетка ждет, поедем, заодно и на Москву полюбуемся. Федор, хочешь по Москве покататься?
– Нет, не хочу, – и даже помотал головой, которая была теперь аккуратно подстрижена, – я в тайгу хочу.
– Подожди, родной, будет тебе тайга. А пока на Москву любуйся.
Но любоваться на Москву Федор не пожелал. Сидел в пролетке, молчал, и узкие глаза его были плотно прищурены. Он видел чум, дымок над его островерхой макушкой, слышал легкий перестук оленьих рогов, и казалось ему, что едет он не на пролетке, а скользит на легких нартах по свежему снегу, вокруг – все родное, знакомое, и нет ни каменных домов, ни многолюдья, а все его мытарства по дальним землям просто-напросто приснились. Вот встряхнет он сейчас головой, сбросит с себя наваждение, и забудется дурной сон, растает в небе, как легкий дымок, поднимающийся над чумом. Федор встряхнул головой, открыл глаза – узкая московская улица текла, как река, между каменных берегов, шумела, спешила, и не было ей никакого дела до отдельной пролетки, которая катилась в ряду других, и уж тем более не было никакого дела до отдельного человека.
Федор сердито прошептал что-то на родном языке и снова закрыл глаза.
Пролетка между тем подкатила к дому, где жил Абросимов. Дверь в квартиру, как и в прошлый раз, открыла миленькая горничная и сразу провела гостей в комнату, где на диване, на высоких подушках, полулежал Москвин-Волгин и улыбался во весь рот, показывая белые крепкие зубы. На колене здоровой ноги он держал тетрадь, что-то записывая в нее длинным карандашом синего цвета.
– Что, сочиняем великий роман нового века? – поинтересовался Гиацинтов.
– Увы, мой друг, увы, – Москвин-Волгин весело хохотнул и поднял карандаш вверх, – великие романы пишут великие люди, а мы так себе – газетные поденщики, вечные подносчики свежих новостей, которые забываются навсегда уже на следующий день. А хотелось бы написать большой роман и даже переплюнуть графа Толстого.
– Переплюнешь, я убежден. Как только псевдоним сменишь, так сразу переплюнешь! – Гиацинтов снисходительно улыбнулся и спросил: – А где Абросимов?
– Утром приехал Сокольников, ничего не объяснил, пообещал, что расскажет по дороге. Забрал Абросимова, Речицкого, и все отбыли, как по тревоге. А я нахожусь под присмотром милого создания и записываю глупые мысли, которые никак меня не покидают.
– Карандаш, пожалуй, маловат, да и тетрадка у тебя слишком тощая – не хватит их на все мысли, которые тебя обуревают, – продолжал улыбаться Гиацинтов, – как нога?
– Нога как нога, даже сгибается, а вот по поводу мыслей и твоей ехидности… Когда я стану великим писателем и под старость начну писать мемуары, нигде тебя не упомяну!
– Слава Богу, я не буду отягощать вечность своим присутствием. Ладно… Что, будем ждать?
– А чего нам остается? Только ждать. Федор, да не стой ты истуканом, садись, где нравится! Если хочешь, подремать можешь. Чайку не желаете?
– Благодарствуем. Скажи, почему они так поспешно уехали? – Гиацинтов, сам не зная, по какой причине, не мог избавиться от чувства тревоги.
– Честно – не знаю. И гадать не буду. Давай ждать.
Ждать пришлось долго. Сокольников, Абросимов и Речицкий вернулись только после полудня. Не раздеваясь, они вбежали в комнату, Абросимов быстро достал из шкафа стопку чистой бумаги, вытряхнул на стол карандаши из деревянного пенала, а Сокольников резко, отрывисто скомандовал:
– Пишем все, что запомнили! Вопросов не задавать!
Гиацинтов и Москвин-Волгин недоуменно переглянулись;
Федор, увидев перед собой командира полка, вскочил со стула и вытянулся, словно в строю, руки по швам, а затем тихонько, на цыпочках, вышел из комнаты и в коридоре присел на корточки, как спрятался. Сразу вспомнил старое солдатское правило: подальше от начальства – легче служба.
Первым закончил писать Сокольников, отложил карандаш, перечитал написанное и молча стал дожидаться, когда закончат свою работу Абросимов и Речицкий. Последний, левой рукой, писал дольше всех. Но вот и он с силой поставил жирную точку, сломав графит, и виновато улыбнулся, словно нерадивый ученик, допустивший оплошность.
– Сейчас я все это читаю, и затем попробуем составить общую картину. Прошу не мешать и не разговаривать. – Сокольников собрал листы со стола в одну стопку и склонился над ними, будто заглянул в глубокий колодец, пытаясь разглядеть – что там, в темноте, на самом дне, виднеется?
Все остальные сидели в молчании, терпеливо ждали. Через распахнутые двери слышалось, как на кухне негромко постукивают тарелки и льется из крана вода. Наконец Сокольников перевернул последний лист и прихлопнул его ладонью; поднял голову, медленно оглядел всех по очереди, словно хотел каждого запомнить, и облегченно вздохнул:
– Картина начинает проясняться, господа. Извините, добрый день, Владимир Игнатьевич, в спешке даже забыл поздороваться. Полковник, я попросил бы вас закрыть двери, а человека, который в коридоре, и прислугу – на кухню, нет, лучше отправьте их погулять.
– Я Федору полностью доверяю!
– Не сомневаюсь, Владимир Игнатьевич. Но лучше сделать так, как я говорю. Извините.
Абросимов вышел. Скоро стукнули двери, и он вернулся.
– Итак – что мы имеем и чего мы не имеем? – продолжил Сокольников и снова прихлопнул ладонью перевернутый лист, который лежал перед ним. – Имеем следующее… Самый первый рапорт исправника Обрезова, в котором он писал о Феодосии, предсказывающем грядущие события, в бумажном потоке не затерялся. Более того, открою секрет – я сам, находясь еще при исполнении, наложил на этот рапорт первую резолюцию. Впрочем, обо мне отдельно и позднее. Далее. Согласно этой резолюции, за Феодосием было установлено негласное наблюдение. И скоро оказалось, что новоприбывший больной, вольноопределяющийся Забелин, доставленный с театра военных действий, установил с ним очень тесные и доверительные отношения. Как раз в это время я был от службы отстранен, и все дальнейшее происходило без моего участия. Вот это дальнейшее мы и попытаемся сейчас восстановить.
– Но почему Обрезов не получил ответа на свой рапорт? – спросил Москвин-Волгин. – Ведь он ясно пишет в своей тетради, что устроили лишь нагоняй!
– Все правильно. Я так приказал, чтобы не было лишнего шума и чтобы вокруг этого дела не болтались лишние люди, – быстро ответил Сокольников и, помолчав, попросил: – Наберитесь, господа, терпения, я на все вопросы обязательно отвечу, только позднее. Далее цепь событий выстраивается в следующем порядке: Забелин и Феодосий из больницы исчезают, а через некоторое время, согласно донесению неизвестного нам агента, проходящего в охранном отделении под кличкой Валет, в одной из боевых организаций эсеров появляются два новых члена, а именно – Забелин и Феодосий. Второй, как следует из донесений, является лишь приложением к первому. Что можно получить от больного человека? Но нужен он им позарез именно как предсказатель. Одна любопытная деталь – Феодосий попросил отвезти его в Сибирь, в известное ему место, и там якобы провидчество его достигнет высшей степени. Конечно, есть основания думать о том, что все это является бредом, воспаленным сознанием больного человека. Да только возникает большое «но». Валет передает в охранное отделение несколько предсказаний Феодосия, судя по датам, передает их заранее – и они все сбываются! Вот в это время боевая организация, желая до поры до времени сохранить все в строжайшей тайне, и начинает «зачищать хвосты», а именно открывает охоту на несчастного Обрезова, которого убивают, а заодно, вместе с ним, и доктора Перетягина – концы в воду! Насколько я знаю, охранное отделение на такое убийство не пойдет, значит, постаралась боевая организация. Вполне возможно, что и Москвин-Волгин нечаянно угодил тоже к ним. Хотя… Точного ответа у меня сейчас нет. А теперь – самое главное. Последнее донесение Валета, дословно: «Решение принято. В ближайшие дни выезжают в Никольск». Значит, они уже в Никольске. Надеюсь, что призывать вас к исполнению долга не потребуется, да и времени у нас на лишние разговоры нет. Первыми в Никольск поедут Гиацинтов и Речицкий, мы с Москвиным-Волгиным прибудем, как только он встанет на ноги.
– Я должен взять с собой Федора, – твердо, голосом, не допускающим возражений, произнес Гиацинтов.
– Хорошо, я согласен, – кивнул Сокольников, – только не посвящайте его в тонкости нашего предприятия. А сейчас, господа, опережая ваши вопросы, постараюсь кратко объясниться, чтобы никаких недомолвок между нами не оставалось. Мое звание – штабс-капитан. С полковником Абросимовым мы знакомы с детства, доверяем друг другу полностью и безоговорочно, иначе бы я здесь, как вы понимаете, не находился. Служил в охранном отделении. В разгар смуты, не согласуя с начальством, которое пребывало в полной растерянности, запустил печатные станки подпольных типографий. После обысков их свозили в одно место, там они и стояли без дела. Я нашел людей, и мы начали печатать контрреволюционные листовки, тексты для них, по моей просьбе, писал господин Москвин-Волгин. Дальше получилось печально. Донос о моем самоуправстве улетел в Петербург и вызвал страшный гнев. Тихо, без огласки, меня отправили в отставку. Но истинная подоплека отставки, как я теперь понимаю, связана была именно с делом, о котором мы сейчас говорим. Я слишком много узнал из того, что мне знать не следовало. После отставки я пришел в Союз русского народа. Пришел с одной целью – создать боевую организацию, такую же, как создают наши враги. Кое-что удалось сделать, но это совсем мало. Не хватает людей. Поэтому обратился к полковнику Абросимову, а он мне порекомендовал вас, господа, тем более что недоразумение между вами благополучно разрешилось. Я закончил, жду ответа. Согласны вы или нет?
Гиацинтов и Речицкий встали и молча кивнули.
– Вот и славно. Не мешало бы нам подкрепиться, время-то к вечеру. Господин полковник, позовите в дом свою горничную, пусть нас чем-нибудь порадует.
– А это, простите, откуда? – Москвин-Волгин показал на листы, которые все еще лежали под ладонью у Сокольникова. – Я не совсем понимаю…
– Это, Алексей Харитонович, прежде всего, ваша заслуга. Я отдал тетрадь, которую вы вчера, можно сказать, в бою добыли, а мне из охранного отделения вынесли на пятнадцать минут нужные бумаги. Вот мы их втроем, каждый свою часть, и прочитали, а затем записали, хотя все прочитать не успели, тем не менее знаем сейчас, в какую сторону двигаться.
– Да разве такое возможно?! – удивился Москвин-Волгин. – Из охранного отделения!
– Возможно, Алексей Харитонович, – усмехнулся Сокольников, – только для этого нужно пятнадцать лет там прослужить, ничем себя не запятнав перед соратниками, ну и… иметь в руках драгоценную тетрадку! А больше ничего не скажу, извините.
«Никольск, Никольск… – радостно думал Гиацинтов, – там – Варя! Ехать, ехать, прямо сейчас же ехать!»
– Владимир Игнатьевич, – словно прочитав его мысли, обратился Сокольников, – нам еще надо отдельно поговорить о Варваре Нагорной. Если ее руки добивался именно Забелин и требовал выдать какое-то наследство, думаю, что это не случайное совпадение. Как вы считаете?
3
Как он считает?
Да никак!
Лишь запоздало жалеет о том, что в свое время, бесконечно счастливый от любви, которая захлестывала его полностью, без остатка, он рассказывал всем, кто его окружал, какой он удачливый и везучий человек, ведь красивее, чем Варя, в Москве ни одной девушки не имеется. И так он красноречиво, так искренне говорил, что даже усмешек не замечал. Но были, оказывается, и такие, кто не усмехался. Впрочем, и последнего обстоятельства Гиацинтов тоже не замечал. Поэтому и внимания не обратил, когда увязался за ним однажды сокурсник Костя Забелин, сказавший, что заключил с товарищами пари на две дюжины пива. Он считает, что избранница Гиацинтова, действительно, красивая девушка, а они – сомневаются. Смех, шутки-прибаутки, но пари, как оказалось, действительно было заключено, и следом за Забелиным к нему пристроился представитель противоположной стороны – добродушный увалень Корнеев, отличавшийся редкостной честностью. Он никогда никому ничего не мог соврать, даже если его к этому принуждали.
В назначенный день всей троицей они отправились на Большую Ордынку, где Гиацинтов и Варя договорились встретиться. Была уже весна, середина мая, молодая листва на деревьях зеленела по-особенному ярко, а над землей плыл запах цветущей черемухи, кусты которой напоминали пенные шапки. И под стать этому буйству чистоты и яркого, чистого цвета, еще не тронутого ни жарой, ни пылью, оказалась и сама Варя, хотя было на ней лишь серенькое платьице с коричневым передником. Но так сияли изумительные глаза, такой доброжелательностью светилось ее милое лицо, так приветливо и тепло звучал негромкий голос, что казалось – она светится. Ярче, чем молодая зелень, ярче, чем весенний день.
Гиацинтов представил Варе своих однокурсников и гордо, снисходительно на них поглядывал, вполне довольный: Корнеев простодушно и искренне стоял с открытым ртом, а Забелин, опустив голову, смотрел исподлобья и быстро-быстро, словно мышка, кусал длинный стебелек травы, случайно сорванный под старой липой.
Пари Забелин выиграл, потому что Корнееву безоговорочно поверили, две дюжины пива были без промедления выпиты, и, казалось бы, наступил конец всей истории – посмеялись, пошутили да и забыли. Нет, не тот случай на этот раз выпал. Не закончилась история, она лишь начиналась.
Через некоторое время Гиацинтов с немалым удивлением обнаружил, что всякий раз, когда он отправляется на свидание с Варей, где-то неподалеку, буквально по пятам, за ним следует Забелин. Сначала подумал, что совпадение, но когда это повторилось в третий раз, он взял, без всяких предисловий, однокурсника за грудки:
– Ты чего вынюхиваешь, Забелин? Почему за мной следишь? Что тебе надо?
И получил ответ, от которого опешил и даже руки опустил:
– Отдай мне Варю! Я ее люблю, жить без нее не могу! Я деньги заплачу, какие скажешь, все сделаю, только отдай! Я…
Надо было, конечно, дослушать Забелина, но молодая горячность не дозволила этого сделать. Кулак опередил все мысли. Избитого в кровь Забелина однокурсники едва-едва спасли от разъяренного Гиацинтова.
После драки они не разговаривали, не здоровались при встречах, сторонились друг друга, и лишь взгляды, которыми изредка пересекались, все объясняли красноречивее слов. Как это часто бывает в жизни, от унижения до ненависти дорога не длинная, вот и Забелин прошагал ее очень быстро. Он даже на войну, следом за Гиацинтовым, отправился, подталкиваемый именно этой ненавистью. Наверное, надеялся, что соперника убьют, а, может быть, надеялся и сам убить при удобном раскладе. Но самому убивать не потребовалось, необходимый случай упал в руки, как манна с неба, и Забелин этот случай использовал полностью – не оплошал.
– Не оплошал, – еще раз повторил Гиацинтов и отвернулся к вагонному окну, за которым тянулось бесконечное снежное поле. Он уже раскаивался, что рассказал свою печальную историю Речицкому, – не следовало бы так откровенничать. Но жалеть было поздно, да и дальняя дорога, беспрерывный стук вагонных колес, чистый уют купе и распечатанная бутылка шустовского коньяка располагали к откровенному разговору – вот и не удержался. И все равно теперь злился, сосредоточенно глядя в окно, словно желал увидеть там нечто неожиданное и незнакомое. Но картина простиралась прежняя – поле, снег и вдалеке, едва различимо, мутно виднелись очертания небольшой деревеньки.
– Вы зря огорчились, Владимир Игнатьевич. – Не торопясь, со вкусом, Речицкий пригубил коньяку и продолжил: – Это не слабость, это естественное, человеческое желание – поделиться тем, что накопилось в душе.
Гиацинтов резко обернулся, взглянул на Речицкого. Этот поручик все больше и больше удивлял его – мудрый, как старик, и чрезвычайно догадливый, словно умел читать чужие мысли. И одновременно – спокойный, рассудительный, казалось, что никакие обстоятельства не смогут вывести его из себя. Не удержался, спросил:
– Позвольте полюбопытствовать – где вы обрели так много житейской мудрости? По возрасту совсем молоды, а по поступкам и манерам – будто век прожили!
– Не думал я никогда об этом, Владимир Игнатьевич, да и мудрость мою вы явно преувеличиваете. Просто… Бог его знает! Живу и живу и над философскими вопросами не задумываюсь – не люблю я философских вопросов, честное слово!
– Вы странный человек, поручик, у нас в России каждый второй непременно философ. Даже пьяница в кабаке и тот свою философию выстраивает – по какой причине он пьет. Просто так ему пить неинтересно.
Речицкий засмеялся, взял бутылку коньяка и, разливая, попросил:
– Ну что же, выстраивайте свою философию, Владимир Игнатьевич. Иначе у нас обыденная выпивка получается. Говорите тост.
– Нет уж, увольте, обойдемся без высокопарных слов, выпьем молча.
Они выпили, и оба, не разговаривая, долго смотрели в окно, за которым по-прежнему тянулось и тянулось снежное поле.
Пошли уже вторые сутки, как Речицкий и Гиацинтов с Федором выехали из Москвы. Впереди их ждал неведомый Никольск и полная неизвестность. Где и каким образом искать Забелина, они не знали, и даже первоначального плана действий у них не имелось. Правда, Сокольников снабдил письмом от Союза русского народа, адресованным некоему Скорнякову, возглавлявшему местное отделение в Никольске, но Гиацинтов и Речицкий мало надеялись на это письмо, потому что ясно осознавали – розыск им придется вести самим, ни на кого не полагаясь. Больше надеялись на предписание из Скобелевского комитета, которое смог себе выхлопотать Речицкий. Согласно этому предписанию поручик направлялся для сбора статистических данных и выяснения нужд увечных воинов, а это значило, что он имел возможность входить в различные учреждения, в первую очередь в городскую управу. Но и это обстоятельство, если задуматься, тоже не сулило им особого успеха.
Однако никакого уныния они не испытывали, более того, коротая длинную дорогу за разговорами, начинали проникаться симпатией и доверием друг к другу, и оба были твердо уверены, что с делом, которое им поручили, без сомнения, справятся.
Федор, почти не слезая со своей полки, к их разговорам не прислушивался и занимался двумя делами: либо спал, либо лежал с закрытыми глазами и тихонько, едва слышно, тянул длинную-длинную мелодию, представляя себе, что едет не на грохочущем железном поезде, а на нартах; едет по знакомой тайге, и олешки, взметая снег быстрыми ногами, раскидывают в морозном воздухе клубочки пара…
В Никольск московский поезд прибыл, нарушив расписание всего лишь на полтора часа. Стоял зимний полдень, скрипел мороз, невысокое солнце красило вокзал, паровоз и вагоны розовыми отблесками, вспыхивало на стеклах. Дышалось, несмотря на холод, необыкновенно легко. Прибывших пассажиров сразу же окружили извозчики, наперебой стали зазывать, каждый в свою кошевку; Гиацинтов и Речицкий остановили выбор на молодом расторопном парне, который обещал устроить в самые лучшие номера, какие имеются в городе, а еще обещал господам приезжим исполнить любые желания, если таковые появятся. Схватил чемоданы и поспешил, не забывая оглядываться, на привокзальную площадь.
Скоро они уже поселились в приличном номере гостиницы, имевшей название с большой претензией – «Метрополь». Времени терять не стали. Разложили вещи и, оставив Федора в номере, спустились вниз, где на улице терпеливо дожидался молодой извозчик.
По дороге словоохотливый парень подробно, с прибаутками, рассказывал о Никольске и о том, что город этот, выросший на пересечении Оби, железной дороги и сухопутного тракта, давно уже обскакал ближайших соседей, потому что новый народ съезжается сюда со всей России, и народ этот в своем большинстве цепкий и хваткий.
– Я тут намедни одного господина подвозил, так он все удивлялся и говорил, что мы прямо по-американски живем, даже лучше, потому что у нас воздух здоровее. А чего не жить? Если рот варежкой не разевать, на хлеб с маслом всегда заработаешь, а кто оборотистый да с искрой в голове, те и капиталы сколачивают. Маслом, зерном торгуют, мельницы в пять этажей ставят, а уж про магазины и говорить нечего – у нас теперь на каждом углу магазин, и еще строят…
Парень и дальше бы говорил-рассказывал, желая понравиться своим седокам и рассчитывая получить от них хорошую денежку, но Речицкий перебил его ознакомительную речь и спросил:
– А скажи, братец, известен тебе такой купец, по фамилии Скорняков? Чем он знаменит?
– Гордей Гордеич-то?! Конечно, известный! Он как раз на Семеновской живет, куда мы едем. Крепкий купец, крепкий, но не скупердяй, народ у него в мастерских не жалуется. Да вот беда, сынок с вывихом, съездил в Москву учиться – как сглазили! Хоть и говорят, что яблоко от яблони, а тут это яблоко на целую версту укатилось. Ну вот, сейчас налево поворачиваем, а там и Семеновская – вам какой дом, господа, нужен?
– Ты на углу останови, братец, дальше мы сами прогуляемся, воздухом подышим, тем более что лучше он, чем американский, – усмехнулся Гиацинтов.
– Лучше! Правда, в Америке я не бывал, а все равно – лучше! Приехали! Вот она, Семеновская, прямехонько тянется, не заплутаете…
Расплатившись с извозчиком, они медленно пошли вдоль по широкой улице, застроенной крепкими и просторными, каменными и деревянными домами. Беглого взгляда было достаточно, чтобы определить – люди здесь поселились зажиточные, и обустраивались они основательно, на долгие годы. Основательность эта проглядывала в монументальных, высоких воротах с железными кольцами, в брандмауэрах[14], берегущих от пожара, в ажурной резьбе деревянных наличников и даже в петушках и флажках, вырезанных из жести и венчающих печные трубы.
– Благодать, да и только, – вздохнул Речицкий, – не желали бы домик здесь прикупить, Владимир Игнатьевич?
– Нет, не желаю. Давайте так, поручик, договоримся. Если кто-то из нас почувствует, что дело пошло плохо, при любом намеке на опасность, тот сразу встает и начинает раскланиваться, ссылаясь на нехватку времени. Уходим без задержек, а письмо обязательно забираем с собой. И, разумеется, ни единого слова об истинной цели нашего приезда.
– Последнее, Владимир Игнатьевич, совершенно излишне, могли бы не говорить.
– В нашем положении, поручик, любая осторожность не излишня.
– Согласен, возражений по данному поводу у меня нет. Кажется, мы пришли. Дом номер четырнадцать. Полюбуйтесь…
– Некогда любоваться, поручик. С Богом. Пошли.
4
Неожиданных гостей Скорняков принял радушно. Не успели они и глазом моргнуть, как в большой комнате накрыт был парадный стол, и хозяин, не слушая возражений, усадил их по правую и левую руку от себя, принялся угощать, а распечатанное и прочитанное письмо небрежно сунул под большое круглое зеркало, стоявшее на комоде. Так сунул, будто показать хотел, что никакой важности оно для него не имеет. Как и подобает хлебосольному хозяину, Скорняков предлагал отведать то одно, то другое блюдо, собственноручно подвигая тарелки гостям, не забывал подливать в хрустальные рюмки водочки, настоянной на бруснике, и всякие попытки Гиацинтова и Речицкого начать серьезный разговор прерывал плавным взмахом широкой, растопыренной пятерни:
– Всему свой срок и свое время, господа хорошие. А сначала, по нашему обычаю, гостей накормить и угостить требуется. Вот еще свеженинки из медвежатины отведайте, хорошая свеженинка, или вот пирожка рыбного откусите, из нельмы пирожок, сам во рту тает… А может, вам с дороги баньку изладить? Банька у меня знатная, такой в столицах не найдете, из кедра срубленная… Ну, как угодно… Раз не желаете, насильно мил не будешь…
Радушие Скорнякова выглядело несколько преувеличенно, и Гиацинтов, изредка переглядываясь с Речицким, никак не мог понять: хитрит хозяин или чересчур простоват? Ведь должен понимать, что не ради застолья они сюда прибыли, проехав почти половину Империи. Попытался вернуть разговор к письму, в котором содержалась просьба оказать им помощь и содействие, если таковые потребуются, но хозяин снова растопырил пятерню и отмахнулся:
– Да куда ж вы так спешите, гости дорогие?! Никто за вами не гонится! Отдыхайте, пейте, ешьте, у нас в Никольске жизнь неторопливая, обстоятельная, а вы – все дела да дела… Придет час, и до дела доберемся… К слову сказать, где остановиться изволили? В «Метрополе»… Ну-ну… Есть у наших доморощенных воротил кривая загогулинка – назовут кабак или постоялый двор с этакой претензией на парижскую моду, а тараканов вывести не могут. Или того хуже – клопы. Сущее бедствие! Клопы-то есть в номере?
– Еще не огляделись, – ответил Гиацинтов, – вещи оставили и сразу к вам приехали. Позвольте прямой вопрос, Гордей Гордееевич, вам задать – мы можем рассчитывать на вашу помощь?
– А я все сижу и думаю, когда же вы меня уговаривать начнете? – Скорняков перестал размахивать растопыренной пятерней, сжал кулаки и увесисто поставил их перед собой на край столешницы, помолчал и, помрачнев, добавил: – Ну, начинайте.
– Простите, почему мы должны вас уговаривать? – спросил Речицкий.
– Да хватит в кошки-мышки играть, – не меняя мрачного выражения лица, Скорняков прищурился, и сжатые кулаки глухо стукнулись в край столешницы. – Я ведь прекрасно понимаю, дорогие господа, зачем вы сюда приехали – не в бане же париться! Говорите сразу – под чьей рукой находитесь и под чью руку склонять будете? Господина Пуришкевича[15] или доктора Дубровина?[16] Или, может, там, в Москве, у вас еще какие вожди объявились, о которых мы тут, в глухомани, и слыхать не слыхали? Да что же это такое делается? В кои веки объединились, силу свою почуяли, и на тебе – разругались, как сноха со свекровкой, все горшки вдребезги переколотили да еще и двери настежь расхлебянили – послушайте, как мы тут собачимся! Тьфу! А мы ведь тут, в глухомани-то, на Москву с надеждой поглядываем, а она смотри, какие коники выкидывает! Хотя… погодите. Погодите одну минутку!
Он быстро, по-юношески легко поднялся из-за стола и стремительно вышел из комнаты. Вернулся с толстой книгой в руках, в которой было множество закладок, быстро нашел нужную страницу и медленно, четко выговаривая слова, начал читать:
– В том щекотливом состоянии Сибири, весьма обширно обхваченной малой горстью русских, легко чувствовать, каким сомнительным помышлениям предавались градоначальники ея в смуту и потом в междуцарствие. Перевороты царственные носились над главами, как неожиданные тучи над горами Уральскими; новые лица, как кровавые столпы северного сияния, выступали, двигались, блистали холодным светом и сменялись… О, град православных, венец славы, веселие всей земли, что сделалось с тобою?! Такова звезда Сибири, что, несмотря на остановку военных подкреплений, снарядов и провьянта, из Соли Вычегодской, Вятки и Перми с десятого января тыща шестьсот девятого года, тщетно поджидаемого, до тыща шестьсот тринадцатого года, несмотря на болтливость беглых простолюдинов, как газет, распространявших уныние, несмотря, что из приказов редко насылались кой-какие разрешения с прописанием имен, при Царском титле повелительных, держава Русская в Сибири не помрачалась. Отдадим справедливость правителям Сибирским, которые, не поддаваясь ни слухам, ни внутренним или внешним покушениям, единодушно пребывали верными долгу, скипетру и отечеству, не терпели крамольных толков, не выводили также покоренных иноплеменников из терпения, хотя и не все были чисты на руку[17]. – Скорняков передохнул, громко захлопнул книгу, так, что иные закладки вылетели и, покружив, опустились на пол; обвел суровым взглядом своих гостей и поднял вверх указательный палец могучей руки: – Вот как, милые мои, сказано – не помрачалась держава! А для того, чтобы не помрачалась, требуется всем вместе держаться. Вы же там, в Москве, разругались вдрызг и к нам теперь едете, уговаривать, чтобы и мы поцапались, зад об зад стукнулись да и разбежались! Негоже это, не дело! Так и передайте, при случае. Я в Никольске союз никому дробить не позволю!
Скорняков замолчал, раздувая ноздри и собираясь с мыслями, чтобы продолжить свою речь, но Гиацинтов ловко воспользовался паузой и успел подать голос:
– Ошибаетесь, Гордей Гордеевич, мы совсем по другому поводу сюда прибыли. И уговаривать вас не собираемся. Если честно, нас эти междоусобицы совершенно не касаются. У нас к вам конкретное дело и заключается оно в следующем…
Речицкий под столом незаметно толкнул ногой Гиацинтова, давая знак – не торопись. Но Гиацинтов даже внимания не обратил на это предупреждение. Речь Скорнякова напомнила ему выступление Сокольникова в абросимовской квартире, и вдруг ясно и четко решил для самого себя: этим людям можно доверять. Было в них одно, общее – твердая убежденность в том, что они правы. Не наигранная, не изображаемая на публику, а глубоко внутренняя убежденность, которую, как говорится, и колом не вышибить. Гиацинтов ее чувствовал и, чувствуя, уже ни в чем не сомневался и не опасался подвоха.
Четко, по-военному коротко, он пересказал Скорнякову суть дела.
Гордей Гордеевич выслушал его, разжал кулаки и, помолчав недолго, сказал просто, будто жирную точку поставил:
– Чем смогу – помогу. Дня через два сам вас найду. Далеко не отлучайтесь.
5
Любое дело, за которое брался Гордей Гордеевич Скорняков, он исполнял истово и всегда доводил до конца. Или не брался вовсе. Так он был с малолетства воспитан отцом, который любил повторять пословицу-поговорку, сочиненную им самим:
– Лучше пальцем в носу ковырять, чем дело на середине бросить: из ноздри хоть соплю достанешь – все польза.
Отцовские уроки маленький Гордей усвоил накрепко. И если лежали перед ним десять заячьих шкурок, с которых требовалось мездру соскоблить, он трудился над ними, не прерываясь, даже в том случае, если глаза слипались и спать хотелось неимоверно. Терпел. До тех пор, пока все десять шкурок, чистеньких и выскобленных, не повесит на место для просушки. И дальше, взрослея и крепче становясь на ноги, он никогда этому правилу, усвоенному еще в детстве, не изменял.
Большое свое хозяйство, в которое входили мастерские, мясохладобойня и несколько лавок, он объезжал либо обходил самолично едва ли не каждый день, не полагаясь на своих приказчиков и помощников, и горе было для работников, если цепкий его взгляд, от которого, казалось, ничего нельзя скрыть, замечал непорядок либо плохо сделанную работу. Под горячую руку, находясь в сердитом состоянии духа, Гордей Гордеевич мог и оплеуху отвесить – за ним не заржавеет. Но зла на него никто не держал, потому что все знали прекрасно – зазря, без причины, он не то что руку не поднимет, но и слова никогда не скажет.
Жил не таясь, открыто, любил принимать гостей по праздникам и щедро их угощать, а еще любил в застолье петь своим громовым басом старинную песню про Ермака – «Ревела буря, гром гремел…» и, допевая последние слова, неизменно утирал широкой ладонью нечаянно выскочившую слезу.
Размеренная и строгая жизнь Гордея Гордеевича круто изменилась осенью девятьсот пятого года, когда вспыхнули в Никольске невиданные, со дня основания города, беспорядки. Начались они с забастовки железнодорожников, которые бросили работу и начали проводить собрания; речи на этих собраниях с каждым разом становились все громче и смелее, иные ораторы уже в открытую призывали: лишить жизни проклятое царское правительство, если колено на груди, души же его до смерти! К железнодорожникам потянулась учащаяся молодежь, типографские, а чуть позже, когда появился Манифест, и другие любители свобод и зажигательных речей. Городская власть и полиция, еще вчера грозные и, казалось, крепкие, как кирпичная кладка прочной стены, растерялись, ничего толкового предпринять не могли и только распространяли объявления, в которых пытались увещевать озлобленных людей, обращаясь «с убедительной просьбой не посещать некоторое время собраний и не собираться большими группами на улицах – во избежание всяких столкновений, влекущих за собой человеческие жертвы». Но этих просьб уже никто не слышал, а объявления воспринимались, как слабость и готовность идти на уступки. Дальше – больше. Как при пожаре, который не был затушен вовремя и пошел полыхать во все стороны. У митингующих появились револьверы, и вот уже, размахивая этими револьверами, особо буйные пришли на Базарную площадь и разогнали всех торговцев. Кричали: у нас забастовка, никто не работает, и вы не работайте! После Базарной площади двинулись дальше, по магазинам, угрожая разнести их к чертовой матери, если они в сей же час не закроются. Хозяева начали вешать на двери своих магазинов пудовые замки. А буйные устремлялись дальше – в мастерские, на лесопильные и кирпичные заводы, и везде речи были одинаковы: бросай работу, иначе разгромим либо подожжем. Явились такие орлы и в мастерские к Скорнякову. Но тут горячие речи наткнулись на встречные, не менее горячие: а кормить нас кто будет, вы, что ли, горлопаны?! И завязалась драка. Агитаторов избили, отобрали два револьвера и гнали по улице, под свист и улюлюканье, до самой Туруханской улицы.
В тот же день в управлении железной дороги собралась, как было сказано, городская общественность и объявила, что создает свою охрану, чтобы добиваться свободы и защищаться от произвола таких темных личностей, как Скорняков, которые собирают черную сотню и готовят погромы, чтобы убивать всех евреев…
Сам Скорняков ничего этого не знал, потому что был в отъезде. Вернулся домой только к вечеру и ошалел от услышанных новостей. Не поверил и сам отправился к управлению железной дороги. А там уже из окон выбрасывали трехцветные флаги и царские портреты. Один из таких портретов, изодранный и с отпечатками сапог, едва не упал на голову Гордею Гордеевичу, и хорошо, что не упал, – рама была большая, тяжелая, пробила бы голову, как пить дать.
Он поглядел на эту раму, на изодранный портрет, осмотрелся вокруг и не увидел ни одного городового.
А толпа буйствовала.
Тогда он круто развернулся и пошел домой. Велел Савелию заложить кошевку и до глубокой ночи объезжал мастеровую и торговую часть Никольска. Стучался в запертые уже дома, вызывал хозяев, разговаривал с ними коротко и строго, согласия или обещания не требовал, а спешил дальше.
На следующий день Богоявленский собор, самый большой в Никольске, не смог вместить всех, кто пришел на молебен. Огромная толпа стояла за пределами собора и молилась. А затем, подняв хоругви и портреты государя, распевая «Боже, царя храни…» двинулась к управлению железной дороги. Но едва она приблизилась, как из окон раздались револьверные выстрелы, кто-то пронзительно завизжал, а лавочник Лазуткин, который ничего не видел, потому что кровь ему заливала лицо, тыкался в толпе и кричал: «Убили!» И, похоже, крик его, и окровавленное лицо подействовали сильнее, чем десятки самых безрассудных речей. Толпа взорвалась, как взрывается заряд, когда всего лишь одна искра вонзается в порох.
Управление железной дороги подожгли сразу с нескольких сторон. Здание окружили, и всех, кто пытался спастись, выпрыгивая из окон или выбегая через черный ход, – всех подряд били смертным боем. Скорняков метался, пытаясь остановить людей, но его никто не слышал да и не хотел слушать. И он, срывая голос от крика, запоздало и с отчаянием понимал: поднять людей легко, а повести их правильно и толково – очень тяжело.
Только через три дня власть очухалась, вспомнила, что она власть, и начала наводить порядок.
А Скорняков, уже сомневаясь в способностях этой власти, создал в скором времени Никольское отделение Союза русского народа. И отдавался этому делу полностью, без остатка, будто отрабатывал заданный урок – если требуется очистить десять заячьих шкурок от мездры, значит, десять и будет очищено. И ни одной меньше.
Его ругали в газетах, обзывали обидными кличками, а он даже внимания не обращал. Да и некогда ему было – он дело делал. Открыл вместе с товарищами детский приют, больницу для бедных, вывел на чистую воду двух чиновников из городской управы, которые за подношения особо благоволили евреям-торговцам, кассу взаимопомощи создал, без процентов, чтобы любой работящий человек в трудную минуту мог получить поддержку, не влезая в кабалу, – многое успел сделать Гордей Гордеевич Скорняков, кроме одного… И заключалось это одно, не сделанное им дело, в том, что не наставил он на путь истинный собственного сына. И чуял, нутром чуял, что между приездом неожиданных гостей из Москвы и непутевым Гордеем тянется какая-то ниточка, пока еще невидная, непонятная, но – тянется.
…Проводив гостей, Скорняков взял ключ, спустился в подвал, где под замком сидел сын, открыл тяжелую дверь и встал на пороге. Гордей, увидев отца, вскочил с узкого топчана, зачем-то отошел в угол и вздрогнул, будто его бичом ударили, когда услышал суровый отцовский голос:
– Рассказывай… Все рассказывай… Игрушки, Гордей, кончились, не посмотрю, что сын мне…
6
За Обью, на своих семейных покосах, Матвей Петрович лет пятнадцать назад срубил избушку, сложил в ней немудреную печурку, нары сколотил, стол и приспособил вместо табуреток березовые чурки. Не очень казисто, конечно, получилось, но зато было где от дождя укрыться да и переночевать, если возникнет такая надобность. В последние годы на этих покосах не косили, перебравшись на новые угодья, а избушка стояла до поры до времени заброшенной.
И вот пригодилась…
Сюда, в избушку, пробившись по высокому уже снегу, приехали Матвей Петрович и Гриня, привезли на санях зеленый ящик. Савелий к этому времени, получив новые, еще не разношенные, катанки, похлебал горячих щей на скорую руку и умчался в город, весело и бесшабашно оскалившись напоследок:
– Ну и начудили мы делов с тобой, Гриня! Будет о чем хозяину рассказать! А тройка-то досталась лихая! Теперь с ветерком буду на ней кататься!
– Ты гляди, как бы они тебя на тракте не перехватили, – предостерег Гриня.
– Еще чего! Я этот постоялый двор за десять верст объеду! Не поймают, я изворотливый!
Савелий умчался, а Матвей Петрович, предупредив сына, что вернется не скоро, отправился вместе с Гриней к дальней избушке.
Приехали, откидали снег, затопили печку, занесли зеленый ящик, открыли крышку, вытащили на божий свет странного, всклокоченного человека. Был он невысокого ростика, с огромной копной темных волос, крепко побитых сединой, с жиденькой пегой бородкой на узком, скуластом лице.
– Ты кто таков? – спросил его Матвей Петрович.
Большие, с красными прожилками на белках глаза незнакомца засверкали, показалось даже, что из них искры посыпались, он шагнул к печке, протянул к теплу руки в меховых рукавицах и быстро-быстро заговорил, срываясь на радостный крик:
– Вижу! Все вижу! Я теперь сам найду, знаю, где искать! Я пошел! – Он развернулся, направился к порогу избушки, но Гриня проворно заступил ему дорогу и остановил, крепко ухватив за плечи.
Человек вскинул на него сверкающие глаза, попытался вырваться, но Гриня держал крепко. Тогда он обмяк под его сильными руками, съежился, будто стал еще меньше, прошел к столу, сел на чурку и мгновенно уснул.
– Говори, кто таков? – Матвей Петрович склонился над ним, заглянул в лицо и отшатнулся, будто его палкой ударили.
– Ты чего, дед? – подскочил к нему Гриня. – Худо тебе?
– Погоди, погоди, – отмахнулся Матвей Петрович, – погоди, Гриня, дай в себя приду.
– Да чего случилось-то?
– А вот то и случилось… Не думал, не гадал, что таким макаром аукнется… Ладно, не трогай его, пусть спит. А ты мне расскажи – как его сюда доставил, какие вести из города привез?
Гриня обстоятельно и толково доложил деду обо всем, что случилось в городе. Матвей Петрович слушал его, кивал головой, будто соглашался с тем, что говорил ему внук, а когда выслушал, вынес свое решение:
– Значит, так сделаем… Ты езжай домой, скажи там, чтобы скоро меня не ждали, а я здесь останусь. Дня через два наведайся, харчей прихвати да поглядывай там, в деревне, чужие люди появятся или нет?
– Дед, боязно мне оставлять тебя с этим малахольным, мало ли что на уме у него!
– Что у него на уме, я знаю. Не бойся. Делай, как велю.
– Ну, смотри. Может, я пораньше, завтра приеду?
– Завтра не приезжай. Через два дня. А теперь положи его на лавку, пусть спит.
Гриня, уже ничему не удивляясь и даже ни о чем не расспрашивая деда, перенес странного человека на лавку, уложил и, подбросив дров в печку, вышел из избушки. Матвей Петрович, провожая его, долго смотрел вслед, пока подвода не исчезла за дальними тополями. Постоял еще и нехотя потянул на себя старенькую скрипучую дверь избушки. Вошел, придвинул чурку поближе к лавке и склонился над спящим человеком, внимательно разглядывая его при тусклом свете, падавшем из маленького оконца. Протянул руку, приподнял растрепанные волосы с густой проседью и увидел у него на лбу тоненький, извилистый шрам. «Моя метка… Как тавро на лошади поставил, до самой смерти носить будет…»
Вздохнул, перекрестился и вслух произнес:
– Приходи теперь, вместе полюбуемся…
И та, которую он позвал, пришла.
Чутко, осторожно перешагнула через порог, замерла, чуть приподняв голову, словно прислушиваясь, и долго молчала.
Молчал и Матвей Петрович, почтительно поднявшись с чурки и глядя на свою гостью. Ее длинные седые волосы вольно рассыпались по плечам, обрамляя суровое лицо, исчерченное глубокими, продольными морщинами; но, несмотря на седину и морщины, она совсем не походила на глубокую старуху, потому что полыхали неведомо ярким светом молодые, изумительной красоты глаза – темные, влажные, как спелая смородина после дождя. И столько было жизни и силы в этом свете, что он завораживал, притягивал к себе, и хотелось глядеть и любоваться на него безотрывно.
Матвей Петрович глядел и любовался.
Гостья, словно очнувшись, поклонилась ему легким наклоном головы и прошла к спящему человеку. Тронула его за плечо, и тот вскочил, дыбом растопырив лохматые волосы, вскрикнул:
– Путь вижу! Все вижу! Иду!
Женщина горько вздохнула, как всхлипнула, и положила ему на голову длинную, тонкую ладонь:
– Значит, увидел… Только куда ты пойдешь? Твоего пути здесь нет, ты сам от него отрекся. Вспомни, как это было, Андрюшенька, вспомни…
Лохматый человек затих, будто легкая ладонь женщины придавила его, как тяжелый груз, он скукожился, сник, будто мокрый воробей под застрехой, и прошептал:
– Это ведь я тебя вижу, Мария…
– Меня, Андрюшенька. – Она легко, жалостливо погладила его разлохмаченные волосы тонкой ладонью и добавила: – Вот и хорошо, что помнишь…
7
Тонкий-тонкий, как нитка, готовая в любой момент оборваться, тянулся и тянулся по просторному дому, пронизывая его насквозь, до последнего уголка, то ли плач, то ли стон, то ли жалобный и обессиленный вой – и-и-и-и… Тянулся он, вгоняя в полное отчаяние всех, кто его слышал, без малого сутки. И никто не мог ничего сделать, чтобы облегчить страдания пятилетнего сына городского казначея Христофора Давыдовича Мануйлова, – ни доктор, ни бабка-знахарка, доставленная из ближайшей деревни, ни родная мать, стоявшая все это время на коленях перед кроваткой.
Все было напрасно.
Маленький Андрейка, закатив глаза, синел лицом, сучил ножками и лишь изредка прерывал свой плач-стон, чтобы выкрикнуть, тонко и резко:
– Не надо мне гвоздики забивать в животик! Не надо! Мне больно!
После выкрика снова тянулось, казалось, что бесконечное – и-и-и-и…
Он бредил, не приходя в сознание, голосок его становился все тише, и доктор, под утро уже, вывел из детской Христофора Давыдовича на крыльцо и сказал, смущенно отводя глаза в сторону:
– Посылайте за священником, Христофор Давыдович. Простите меня, но я бессилен. Мужайтесь.
Больше сказать ему было нечего, и доктор спустился с крыльца под тоскливый, сеющий дождик – стоял на дворе глухой, мокрый октябрь.
У Христофора Давыдовича задергалась щека, тогда он прижал ее ладонью и вернулся в дом. В коридоре, прислонившись к стене, бледная после бессонной ночи, стояла Маша, воспитанница Мануйловых, сирота, которую они приютили, когда еще были бездетными. После рождения Андрейки, которого супруги ждали много лет, Маша стала для него самой настоящей нянькой, и пять лет мальчик рос на ее руках – заботливых и любящих. Теперь она смотрела на Христофора Давыдовича, не отрываясь от стены, и темные глаза ее, влажные от слез, умоляли лишь об одном – ну, скажите, скажите…
Христофор Давыдович, не отнимая ладони от щеки, мотнул головой и глухо выговорил:
– Никакой надежды… Скажи кучеру, чтобы запрягал, и езжай в Знаменское, к отцу Александру, мы ведь у него Андрейку крестили…
В скором времени коляска с поднятым верхом выехала из подмосковного городка и по грязной дороге, размытой последними дождями, покатилась в сторону села Знаменского, до которого было верст восемь. Маша, закутанная в теплый платок, вздрагивала от холодной сырости, видела, как тускло занимается хмурое утро, а в памяти у нее все еще звучал тягучий стон-плач Андрейки. Вспомнилась совсем иная дорога до Знаменского, не грязная и разъезженная, как сейчас, а звонкая и сухая, в самой середине цветущего мая. Они ехали крестить Андрейку, все были счастливыми и веселыми, а по обе стороны от дороги буйно шла в рост молодая трава и начинала зацветать черемуха… И так ярко вспомнилась Маше эта поездка, что она перестала вздрагивать, как будто перенеслась в тот солнечный и теплый день, ей даже почудилось, что она ощутила запах цветущей черемухи. Закрыла глаза, и исчезло промозглое октябрьское утро, замедлилась тряская езда коляски и чистый, ровный свет озарил зеленую траву на пригорке. Там, на самой макушке, будто искрилось круглое облако; вдруг оно раздернулось в самой своей середине, и проступил женский лик, на котором сияли всевидящие и всезнающие, скорбные материнские глаза. «Матушка Богородица!» – только и успела ахнуть Маша, ощущая на душе неведомую доселе радость. Хотела припасть на колени, но тихий голос остановил ее: «Торопись, не теряй времени, дом сама узнаешь. Поднимешься на чердак и там найдешь икону. Поставишь в изголовье Андрея, и молитесь об исцелении. А когда час наступит, я тебя призову…» И медленно-медленно исчез лик, словно растаял в искристом облаке.
Маша распахнула глаза. Коляска уже въезжала в крайнюю улицу Знаменского и темный от дождя заброшенный дом, покосившийся и ветхий, огороженный высоким бурьяном, смотрел прямо на нее пустыми окнами.
– Стой! Стой! – закричала Маша кучеру.
Выскочила из коляски и ринулась прямо в гущу бурьяна. Выбралась из него, облепленная колючками, взбежала по шатким ступенькам крыльца в дверной проем и сразу же уперлась в лестницу, которая вела на чердак. Подгнившие перекладины похрустывали, скрипели, но Маша даже не слышала, забираясь все выше. На чердаке, в густой паутине, в пыли, в самом дальнем углу, она сразу же увидела икону, прислоненную к балке. Маша бережно взяла ее в руки, сняла теплый платок и стерла пыль. В полутьме чердака ярко проявился лик Богородицы и засияли материнские глаза…
В колючках, с иконой в руках она предстала перед отцом Александром и сбивчиво, торопливо пересказала ему все случившееся. Молодой батюшка выслушал ее, ни о чем не спросил и скоро уже сидел в коляске, которая, развернувшись, понеслась в обратный путь.
Икону поставили над кроваткой, зажгли лампаду, и голос отца Александра зазвучал в детской горячо и просительно:
– В день печали, нашедшия на ны, к Тебе, Христе Спасе, припадающе, Твоея милости просим. Облегчи болезнь раба Твоего, изреки нам яко и сотнику: иди, се здрав есть отрок…
Никогда еще в недолгой своей жизни Маша не молилась так горячо и так истово, со слезами, которые катились сами собой, а она их даже не замечала.
Все молились.
И вымолили.
Оборвалась невидимая нитка, и стих в доме тонкий плач-стон. Лицо Андрейки зарумянилось, и он уснул, легко посапывая. Во сне перевернулся на бок и для уюта сунул ладошку под голову.
Христофор Давыдович, обнявшись с супругой, плакали от счастья. Взволнованный отец Александр, не отрываясь, смотрел на икону, а Маша, обессиленно опустившись на кресло, никак не могла успокоиться от пережитого ею чуда и все теребила руками концы теплого платка, в который совсем недавно была завернута икона.
8
И никто из них в этот счастливый миг – ни супруги Мануйловы, ни Маша, ни отец Александр – даже предположить не могли, как сложатся будущие дни и годы маленького Андрейки, чудом возвращенного к жизни…
А складывались они поначалу легко и радостно. Окруженный любовью домашних, не чаявший души в Маше, которую он забавно называл Манюней, рос Андрейка резвым и веселым мальчиком, правда, любил шалить и проказничать, но это ему прощалось – кто в его возрасте не шалил и не проказничал?!
Икона, найденная Машей на чердаке, покоилась на самом почетном месте в доме Мануйловых. Теперь она была в богатом окладе, который сделали по специальному заказу Христофора Даниловича, и стояла на особой подставке, застланной вышитым льняным полотенцем. Глаза Богородицы, как и прежде, светились теплым материнским светом, и этот свет, казалось, озарял весь дом, наполненный тихим семейным счастьем.
Пришло время, и у Маши появился жених – скромный и милый чиновник городского казначейства, служивший под началом Христофора Даниловича. Впрочем, сам Христофор Данилович его и выбрал среди своих молодых подчиненных, решив, что лучшей партии для своей воспитанницы не сыскать. Он и в самом деле был мил и хорош, Сергей Петрович Кайгородцев, – учтивый, воспитанный, с нескрываемым обожанием смотрел на свою невесту и, похоже, набирался решимости в ближайшее время сделать ей предложение. Невеста отвечала ему взаимностью, а Мануйловы, наблюдая за влюбленными, уже всерьез обсуждали приданое для Маши и загадывали – на какой месяц удобнее будет назначить дату свадьбы. И лишь один Андрейка смотрел на Сергея Петровича, когда тот появлялся в доме, угрюмо и настороженно. Из-за стола, когда садились обедать, старался незаметно ускользнуть, и его подолгу искали, пока не находили в каком-нибудь укромном уголке, где он сидел необычно тихо, молчал и ни на какие расспросы не отзывался. Маша, догадываясь о причинах такого поведения, ласково уговаривала его, обещала, что и дальше будет любить его по-прежнему и что он совершенно напрасно злится на Сергея Петровича… Андрейка внимательно ее выслушивал, соглашался с ней, искренне обещался, что изменит свое поведение, но как только Сергей Петрович появлялся в доме, все повторялось – взгляд, как у волчонка, и побег в самый дальний угол большого дома.
Он умудрился даже на свадьбе не появиться. Когда собрались, чтобы отправиться на венчание в Знаменское, был Андрейка рядом со всеми и даже вроде бы садился в коляску, но в храме его не оказалось, и нашли пропавшего только под вечер, на чердаке, где сидел он, по-птичьи нахохлившись, с заплаканными глазами.
Но минуло несколько лет, и повзрослевший Андрей, теперь уже реалист старших классов, приветливо здоровался при встречах с Сергеем Петровичем; смеялся вместе со всеми, вспоминая, как ему не хотелось, чтобы Маша выходила замуж, и какие каверзы он придумывал для ее будущего мужа, чтобы отвадить того от дома. Хорошо, что ни одну из этих каверз он осуществить не смог, а еще лучше, что Маша по-прежнему его любит и видятся они почти каждое воскресенье…
На юном лице Андрея уже пушилась маленькая бородка, глаза блестели, а когда он смеялся, запрокидывая голову, невозможно было удержаться, чтобы не улыбнуться, – уж очень заразительным был его смех.
После того как сын окончил реальное училище, Христофор Давыдович пристроил его в казначейство на маленькую должность, а сам стал собираться на покой – годы подпирали, и пора было освобождать служебное место для молодого преемника – Сергея Петровича Кайгородцева. Его кандидатура была выбрана совсем не потому, что приходился он теперь родственником Христофору Давыдовичу, а потому, что на службе все эти годы Сергей Петрович отличался особой аккуратностью и добросовестностью.
По случаю ухода со своей службы Христофор Давыдович устроил прощальный вечер и пригласил на него теперь уже бывших сослуживцев. Вечер проходил торжественно, с речами и подарками, затянулся до полуночи, и хозяин, провожая гостей, от умиления, а может быть, и потому, что выпил больше, чем обычно, прослезился; много говорил своим гостям благодарных слов, а супруге своей признался, что чувствует себя счастливым человеком.
Но каково же было его потрясение, когда на следующий день он не обнаружил в своем доме иконы Богородицы. Вот еще вчера стояла она на своем почетном месте, теплилась перед ней лампада и отсветы покачивались на богатом серебряном окладе, украшенном драгоценностями. Только и осталась легкая вмятинка на белом полотенце, вышитом красными крестиками, на котором стояла икона.
Хозяин поднял весь дом, всю прислугу – напрасно. Не было нигде иконы. В самый разгар поисков в доме появился Сергей Петрович Кайгородцев и оглушил всех неожиданной новостью – ночью Маша ушла из дома. Собрала небольшую котомку, попрощалась с мужем, попросила у него прощения, сказала, что безмерно виновата перед ним, но по-иному поступить она не может, и поэтому уходит, и никогда не вернется. Сергей Петрович попытался остановить ее, закричал, желая допытаться, что случилось, и даже котомку хотел отобрать, но Маша так посмотрела на него – как гвоздем приколотила, и он остался стоять на пороге распахнутой двери. Смотрел, как, удаляясь, Маша исчезает в темноте апрельской ночи, и чувствовал, что у него даже сил нет, чтобы побежать за ней следом.
Сидел он за столом, еще не убранным после вчерашнего торжества, рассказывал, горбился и не поднимал глаз на Мануйловых, совершенно убитых принесенной им новостью.
– Да как ты мог?! – закричал Андрей и, подскочив, схватил Сергея Петровича за плечи, сдернул его со стула и принялся трясти с такой силой, что голова у того болталась, словно тряпичная. – Как ты мог ее отпустить?! Ничего не узнал, не спросил?! Где теперь искать?!
Едва-едва утихомирили горячего юношу. И стали думать – что делать? В конце концов решили идти в полицию, рассказать об уходе Маши и попросить помощи.
– Не надо ходить в полицию, никуда ходить не надо! Лучше помолитесь за нее…
Все обернулись разом на неожиданно раздавшийся голос и увидели, что возле дверей стоит отец Александр, смотрит печальными глазами на пустую подставку, где раньше сияла икона, и медленно-медленно крестится…
9
И шла она, растирая в кровь ноги в разбитых башмаках, шла ночами и днями, коротко спала, где придется – на деревянной лавке, когда пускали на постой, под придорожным кустом, положив в изголовье пучок сорванной свежей травы, в поле, в копнах пахучего сена; питалась скудными подаяниями, пила воду из речек и ручейков, ковшичком сложив ладони, и, не уставая телом, несла в себе несказанную радость. По сравнению с этой радостью сущими мелочами были для нее жара или холод, гнус или злые собаки, от которых приходилось обороняться посохом.
Неземная, доселе неведомая сила вела ее по ровному, выверенному пути и не давала сбиться в сторону даже на половину версты.
Путь уходил все дальше и дальше, в места бездорожные, глухие и необжитые. Реже попадались селения, прямо в небо упирались высокие сосны, и трава, не знавшая железной косы, скрывала с головой.
На исходе тихого благодатного августа Мария поднялась на пригорок, опушенный густой травой, тихо опустилась на землю. Сняла разбитые башмаки, устроила ноющие ноги на мягкой, прохладной траве, легко, на полную грудь, вздохнула и огляделась: лежала перед ней широкая пойма, затянутая тальником и ветельником, дальше, глубоко уходя в реку, вытягивались песчаные отмели, а уже за ними, взблескивая под нежарким солнцем, текла неудержимо обская вода, стремясь к далекому морю. Серый коршун, раскинув большущие крылья, низко кружил над поймой, и тень его стремительно скользила по макушкам кустарника. Дальше, за текущей водой, вздымался обрывистый песчаный берег; казалось, что в солнечных лучах он становится белым.
Легкий, ощутимо прохладный воздух тянул с реки, освежал лицо, словно родниковая вода, и уходила, исчезала усталость последних дней пути, по-особенному тяжелых. И тяжесть эта была связана не только с ходьбой по неудобью, но еще и по той причине, что Мария ощущала в себе новую, народившуюся в ней жизнь, которая извещала о своем появлении внезапными толчками в чреве. Вот и сейчас больно и неожиданно шевельнулось внизу живота и улеглось, затихло.
«Растет…» – улыбнулась Мария и осторожно, оберегаясь, легла на спину, устремив взгляд в бездонное небо, в котором теперь парил, поднявшись вверх, все тот же серый коршун. Скользил, нарезая широкие круги, и даже не шевелил крыльями. Мария долго наблюдала за ним, но не заметила, когда он исчез, не заметила и того, что уснула – крепко, безмятежно, как еще ни разу не спала за долгую дорогу.
И во сне, но четко и ясно, как наяву, различила она голос: «А теперь, когда ты земной путь одолела, Я скажу, зачем тебя призвала… Когда ты родишь дочку, твой путь станет небесным. Земное отряхнешь и уйдешь в иной мир, и дочь уведешь за ручку, но место это отныне в полном твоем окормлении пребывать будет, и станешь ты молитвами своими и бдениями покров Мой поддерживать. И не позволяй, чтобы под Мой покров черные люди с черными помыслами проникали. Осквернят черным, сниму Свой покров. Помни, что выбор ты сама сделала и к согласию твоему Я тебя не принуждала… Готова ли?»
«Готова, Пресвятая Богородица! Готова служить Твоему покрову, одно лишь меня томит – родители мои приемные и Андрейка… Как они там без меня?»
«Когда уйдешь в иной мир, сама их зреть станешь, знать будешь, как живут они, и молиться за них. Андрей к тебе сам явится, да только не тот, прежний, а иной совсем – увидишь… Многое тебе откроется, до сих пор неведомое, – только молись без устали и покров береги».
Проснулась Мария, снова увидела высокое, бездонное небо над головой, поднялась, встала на колени, осенила себя крестом и горячо, в полный голос воззвала:
– К Богородице прилежно ныне притецем, грешнии и смиреннии, и припадем, в покаянии зовуще из глубины души: Владычице, помози, на ны милосердовавши, потщися, погибаем от множества прегрешений, не отврати Твоя рабы тщи, Тя бо и едину надежду имамы…
10
– Не умолчим никогда, Богородице, силы Твоя глаголати, недостойнии: аще бо Ты не бы предстояла молящи, кто бы нас избавил от толиких бед, кто же бы сохранил до ныне свободны?.. – молился в этот же час отец Александр, и голос его, глуховатый, надтреснутый, негромко, но отдавался в пустом храме. Молился отец Александр перед иконостасом, на котором совсем недавно появилась новая икона. Появилась сама по себе – та самая, обретенная Машей на чердаке старого дома и хранившаяся раньше у Мануйловых. Заняла крайнее, пустовавшее место и засияла. Теплилась перед ней лампадка, зажженная рукой настоятеля, освещала скорбный лик с теплыми материнскими глазами.
Закончив молитву, отец Александр опустился на колени перед иконой, склонил голову и долго не разгибал согбенной спины, думая с волнением о том, что его скромный сельский храм посетило настоящее чудо – икона сама нашла дорогу и явилась, сама определив себе подобающее место.
А еще он думал о Марии, о том долгом пути, который ей пришлось одолеть, и о том подвиге, который еще предстояло ей совершить. Вспоминал горящие глаза, когда Мария пришла к нему среди ночи с тощей котомкой за плечами и попросила благословения, рассказав о том, что Пречистая призвала ее и путь указала. И она, Мария, в сей же час отправляется в этот путь. А еще сказала, что как только икона появится в храме, на том месте, которое выберет, значит, не сбилась она, Мария, с пути, достигла цели. Но недолго икона пробудет в храме, потому что у нее тоже свой путь, неподвластный и неведомый людям…
Благословил Марию отец Александр, проводил в темноте до околицы села, перекрестил, призвав на дорогу ей ангела-хранителя, и долго стоял посреди звездной апрельской ночи, глядя в бескрайнюю темноту, которая расстилалась перед ним.
Утром он пошел к Мануйловым, где застал великий переполох, и ушел от них с большим огорчением: никто не поверил его словам, все стояли на том, что Марию нужно искать, и в конце концов, после долгих споров, Христофор Давыдович отправился в полицию. Да только напрасно он ходил, потому что никаких следов полицейские чины отыскать не смогли и, чтобы не вводить в обман уважаемого человека, честно сказали ему об этом по прошествии нескольких месяцев.
Слаб человек, скорбно думал сейчас отец Александр: когда чудо свершается и приносит этому человеку, либо его близким, избавление от болезни или несчастья, он верит в это чудо, даже малого сомнения не испытывает. Но когда от самого человека требуется чем-то поступиться, он сразу же впадает в сомнения и неверие…
– Господи, прости нас всех, грешных и слабых, – вздыхал отец Александр, закрывая храм и направляясь домой, где давно уже ждали его дочки и матушка, не садясь без него за стол ужинать.
Встретили дети своего батюшку еще за воротами дома, радуясь, облепили, цепляясь ласковыми ручками за рясу, залепетали наперебой, потому что каждая желала рассказать о своем, случившемся за день, и подставляли головки, чтобы их коснулась ласковая отцовская рука.
После ужина, когда все домашние, помолившись, улеглись спать, отец Александр прошел в свою тесную комнатку, затеп лил свечу и, достав бумагу, перо и чернильницу, долго сидел в раздумье, не зная, какие слова написать первыми. И, наконец, решившись, твердой рукой вывел: «Во имя Отца и Сына и Святаго Духа! Я, раб грешный, священник храма в селе Знаменском, свидетельствую о том, что происходило на моих глазах…» И дальше он писал о том, как обретена была икона Богоматери на чердаке старого дома, писал о том, какое исцеление принесла она маленькому мальчику, и о том, что произошло после… Писал подробно, не торопясь, подолгу подыскивая нужные слова, и закончил, отложив в сторону бумагу, когда в маленькое оконце просочился робкий рассвет.
11
Желтый, с красными крапинками, медленно кружился палый лист и никак не мог достичь земли, промоченной долгими осенними дождями. Всякий раз, когда он приближался к пожухлой траве и готов был лечь и затеряться в ней, возникал порыв бойкого ветерка, взметывал его выше березовой верхушки, и лист снова кружил зигзагами, светился, как маленькое солнце, в мутной хмари сырого утра. Матвей Петрович глядел на этот лист, который не мог найти себе места, и не начинал работы. Лишь махнул несколько раз топором, срубая сучья со старой валежины, присел на нее, широко расставив ноги, и задумался, словно напрочь забыл, по какой надобности он сюда, на дальний увал, приехал. И не хотелось ему спускаться вниз, к высохшему за лето болотцу, на подступах к которому густо рос мох. За мхом он и отправился сегодня, потому что, готовясь к холодам, обнаружил нечаянно, что в хлеву за лето старый мох из пазов повыдергивали птицы. Да так старательно, что в иных местах щели светились.
Приехал, привязал коня к березе, расстелил старое рядно в телеге, на которое собирался укладывать мох, да вот присел на валежину и не трогался с места, все глядел на беспокойный лист и загадывал – упадет на землю или не упадет? Редко, но случались такие моменты в жизни Матвея Петровича, когда он выпадал из бесконечного круга обыденных забот и, оставаясь один, где-нибудь в бору или в поле за деревней, сидел неподвижно, задумавшись, и время текло мимо, неслышно и незаметно.
Остаток высоко срубленного сучка упирался в ногу, Матвей Петрович пошевелился, чтобы удобнее устроиться, голову чуть повернул и вздрогнул – топор, лежавший на валежине, медленно уползал в сторону и вдруг взметнулся, тускло блеснув остро отточенным лезвием. Будто кто в спину толкнул Матвея Петровича, он пушинкой слетел с валежины, рухнул плашмя на землю и, падая, слышал, как, со свистом рассекая воздух, пронесся топор, целивший ему точно в голову.
Крутнулся Матвей Петрович, ухватив остро отрубленный сук, по-кошачьи упруго вскочил на ноги и увидел перед собой человека, одетого в арестантский халат, в руках у которого теперь был топор. Из густой, растрепанной бороды вспыхивали острым оскалом зубы, и вырывалось прерывистое дыхание – будто не человек, а зверь готовился к стремительному прыжку, чтобы растерзать свою жертву. Матвей Петрович отступил на шаг от валежины, которая разделяла их, и крепче сжал в руках сук, чутко сторожа каждое движение варнака[18]. Он сразу догадался – с кем ему довелось встретиться. Сбежал лихой человек с этапа, одичал и оголодал, блуждая по бесконечному бору, питаясь грибами и ягодами, и невозможно его сейчас ни уговорить, ни остепенить, потому как вырвалось наружу и взяло над ним полную власть одно лишь желание, как у загнанного волка, – выжить! И ради этого желания готов был варнак и голову расколоть, и горло перерезать – любому, кто встретится.
Еще на шаг попятился Матвей Петрович от валежины, выше вздернул сук и не пропустил мгновения, когда варнак одним прыжком одолел препятствие и бросился на него. Хоть и старый, сухой, но еще крепкий сук опередил железный топор – с короткого, но сильного замаха острый, наискосок срубленный, он чиркнул варнака по лбу, рассек кожу, и лицо у того мгновенно залило кровью. Замешкался нападавший, запнулся, и Матвей Петрович, не давая ему опомниться, снова вскинул сук и в этот раз по голове, сбоку, а в третий раз – по топору, вышибая его из крепко сомкнутых рук. Вышиб. И тогда уже принялся добивать противника, не давая ему возможности дотянуться до топора.
– Стой! Не убивай его! Отойди!
Голос, властный и жесткий, будто оттолкнул его от поверженного на землю варнака. Все еще сжимая сук, Матвей Петрович вскинул глаза – стояла, совсем неподалеку, женщина в длинной, до земли, белой одежине, густые волосы были распущены по плечам, а глаза ее горели огнем, будто прожигали насквозь, и заставляли подчиняться властному голосу, наполненному неодолимой силой.
Он отступил, подчиняясь, остановился, но обломленный наполовину сук из рук не выпустил.
– Брось палку! Забери топор и уезжай! В деревне никому не рассказывай! Не было здесь ничего, и ты никого здесь не видел! Делай, как я сказала!
И снова подчинился Матвей Петрович, сам не понимая – почему так безропотно все исполнил? Подобрал топор, отвязал коня и, подстегнув его концом вожжей, уехал с дальнего увала, не оглянувшись.
В деревне о случившемся он не сказал ни слова, даже домашним.
12
Лохматые, беспросветные тучи низко стояли над землей и почти не двигались; сеяли нудным, долгим дождем и по ночам не давали проклюнуться ни одной звезде. Морок застилал округу на много верст, а здесь, где лежал Андрей, было сухо, тихо, покойно. Он очнулся после забытья, ощутил свое избитое тело, пошевелил головой, отозвавшейся пронзительной болью, и медленно, еще не понимая, что с ним происходит, открыл глаза. Увидел над собой низко стоящие тучи, мелкий моросящий дождь. Увидел и удивился несказанно – ни одна капля на него не упала. Будто невидимая, неосязаемая преграда надежно его укрывала, и сухое, мягкое разнотравье, на котором он лежал, отдавало теплым, душистым запахом.
Голод, нестерпимо мучивший последние недели, истаял, сосущий комок, подпиравший под самое горло, больше не тревожил. Андрей уперся руками, услышав шорох увядшей травы, поднялся со своего мягкого ложа и выпрямился в полный рост, оглядываясь, пытаясь понять – где он?
– Здравствуй, Андрейка…
Обернулся на голос и замер – перед ним стояла Маша, Мария. Смотрела строго и неулыбчиво, спокойно и не удивляясь, будто они еще вчера виделись, будто не минуло почти полтора десятка лет. За спиной у Марии, любопытно выглядывая из-за ее плеча, весело улыбалась девочка-подросток, похожая, как две капли, на юную Машу, какой видел ее Андрей еще в детстве. Дальше, за ними, на яркой зеленой траве, переступал точеными ногами ослепительно-белый конь, изредка вздергивал голову, фыркал недовольно, будто учуял возле себя гнилой запах.
Андрей замешкался, не зная, что сказать, зачем-то принялся поддергивать рукава серого арестантского халата, но Мария остановила его суетливые движения и приказала:
– Подойди ко мне.
Он медленно, на негнущихся ногах, приблизился к ней и вздрогнул, когда Мария заглянула ему в глаза. Заглянула так, словно узрела всю его прошедшую жизнь, какая сложилась у него после той ночи, когда она ушла из дома. И он, пытаясь объяснить, почему именно так случилось и почему оказался здесь, торопливо, размахивая руками и сбиваясь, принялся рассказывать, что произошло с ним после ухода Маши.
А произошло…
Все произошло, как в жизни.
Прослужив несколько лет в городском казначействе на мелкой должности под начальственной рукой Сергея Петровича Кайгородцева, молодой чиновник Андрей Мануйлов беспричинно затосковал. Все ему разом обрыдло: и старики-родители, и скучная служба, и начальник, который, оставшись не то холостяком, не то вдовцом, испортился характером – желчным стал, мелочным и придирчивым. Подолгу скрипучим голосом выговаривал за любую мелкую погрешность, бесконечно заставлял переписывать отчетные бумаги и не собирался переводить его на более высокую должность и повышать оклад.
Жаловаться отцу Андрею не позволяла гордость, служить дальше не было никакого желания, а хотелось… Он и сам не знал, что ему хотелось, испытывая лишь одно жгучее желание – разорвать, как гнилые веревки, серые, одинаковые дни, освободиться и вырваться вольным человеком в иные пространства и дали, где все будет по-новому.
Может, со временем и угасло бы, притупилось это желание, свойственное чаще всего молодости, да только выпала, как черная карта, нечаянная встреча, которая все и перевернула – вверх дном.
Отправил его Сергей Петрович со служебными бумагами в Москву, в губернское казначейство, и срок определил для поездки – целую неделю, пояснив:
– Вижу, Андрей Христофорович, что затосковали вы в наших уездных пределах, вот и повеселитесь в Первопрестольной. Бумаги сдадите в казначействе – это дело нескольких часов, и отдыхайте, все дни ваши. Только уговор – без опозданий.
Служебные бумаги и в самом деле удалось сдать за два часа с четвертью, и даже благодарность заслужить, что никакого изъяна в них не имеется. Вышел Андрей из губернского казначейства, прошелся по шумной, многолюдной улице и возликовал – будто крутая волна его подхватила, понесла, заставляя замирать сердце. И на гребне этой волны, шумной и праздничной, он тряхнул деньгами, которые откладывал и копил больше года: поселился в богатой гостинице, а ужинать отправился в ресторан, где и оказался у него за столиком веселый и разговорчивый господин, отрекомендовавшийся коммерсантом Лукой Денисовичем Дерябиным. Были они, пожалуй, ровесниками, но бойкий Дерябин выглядел гораздо старше и опытнее Андрея. Видно это было по всем ухваткам: и как распоряжения отдавал официанту, и как блюда выбирал, и как покровительственно советовал своему новому знакомому, какое кушанье и какое вино лучше всего заказывать. Выпили за знакомство, разговорились, и очень скоро показалось Андрею, что он давным-давно знает Луку Денисовича и любит его, как доброго и надежного товарища. Да и как его было не любить, если он, внимательно слушая, сочувственно понимал, какая серая и тоскливая жизнь течет в уездном городке и как хочется молодому человеку душевного праздника.
– Так мы устроим его, черт возьми, этот праздник! – воскликнул Лука Денисович и поднялся из-за стола, взмахнул руками, словно собирался взлететь.
И взлетели!
Неслись куда-то на лихаче по вечерним московским улицам, песни пели, тесно обнявшись, после оказались в веселом доме, где снова пили вино и где зазывно улыбались женщины, казалось, неземной красоты, а скрипач на маленькой эстраде, одетый во все черное, как смерть, извлекал из своего хрупкого инструмента такие рыдающие звуки, что они проникали в самую душу и рождали неистовый крик: эх, жизнь, красивая ты и разгульная, прекрасная ты, жизнь, когда течешь так весело и бескрайне!
И кричал Андрей эти слова, расплескивая вино из бокала, целовался с одной из красивых женщин, а Лука Денисович вился рядом и неотступно, как бес, и клялся в вечной дружбе Андрею Христофоровичу.
Очнулся Андрей в постели с незнакомой и чужой женщиной, долго вглядывался в нее, спящую с открытым ртом, видел на серой и пористой коже размазанные следы пудры и помады и судорожно сглатывал слюну, чтобы его не вырвало. Вскочил, собираясь бежать из веселого дома, но в дверях уже стоял Лука Денисович, вздымая в руках две раскупоренные бутылки с шампанским, и громко кричал:
– Андрей Христофорович! За дружбу! На брудершафт!
И снова жизнь показалась праздником.
Но праздник не может быть вечным, рано или поздно он заканчивается, и тогда наступают будни.
Вот они и наступили через пять дней для скромного служащего городского казначейства Андрея Христофоровича Мануйлова. Мало того что прокутил он все свои скопленные деньги, так еще, оказывается, и долгов наделал на кругленькую сумму, и для того, чтобы вернуть ее, потребовалось бы ему ходить на службу не менее как полгода, не оставляя себе ни копейки от жалованья.
Выскочил, как черт из табакерки, Лука Денисович и предложил – есть выход! И дальше сказал такое, что Андрею кровь в голову ударила. Впрочем, и отхлынула сразу же. Будто щелк нуло что-то невидимое, щелкнуло и рассыпалось в прах, и Андрей согласился.
Вернувшись из Москвы, нарисовал он на листке бумаги все входы и выходы в казначейство и в Крестьянский банк, которые находились в одном здании, слепки с ключей сделал и передал все это тому же Луке Денисовичу, который прибыл в уездный город. Дальше было ограбление с убийством ночного сторожа, но перед тем как распрощаться с жизнью, сторож, очнувшись на краткое время, смог дотянуться до старенького ружья и выстрелил. Поднялась тревога.
Андрей, пользуясь темнотой и тем обстоятельством, что досконально знал коридоры и двери, успел сбежать с кожаным баулом, в котором были деньги, успел закопать этот баул в укромном месте и вернулся домой, надеясь, что беда обогнет его стороной.
Не обогнула.
Одного из подельников Луки Денисовича все-таки схватили на выходе из казначейства, допросили в участке с пристрастием, и он признался – с кем, когда и при каких обстоятельствах ограбление было задумано и как задуманное исполнялось. Андрея сразу же арестовали, прямо посреди улицы, когда он шел на службу.
Полицейский чин на первом же допросе, услышав от арестованного, что тот ничего не скажет и на вопросы отвечать не будет, разочарованно вздохнул:
– Воля ваша, Андрей Христофорович, да только зря вы думаете, что я без вашей откровенности спать не буду. Я сам знаю, как подсел к вам за столик в ресторане некий приятный господин, как очаровал вас своим пониманием, как отправились вы с ним в публичный дом… Дальше пересказывать вашу историю смысла не имеет, банально все, простенько и без выдумки. Шайку эту мы уже всю переловили. Поэтому, если честно, меня интересует лишь один ответ – где спрятали деньги?
Андрей не сознался. Твердил, что денег не видел, а убежал из казначейства с пустыми руками. Конечно, ему не поверили и наказали строго – из родных мест он отправился по этапу. Но до места назначения в далеких сибирских краях не дошел – с этапа сбежал. Тайком добрался до уездного города, ночью откопал кожаный баул с деньгами и отправился в Москву, где легче всего было затеряться в пестром многолюдье.
В этот раз он устроил праздник длиной почти в три года. Успел за это время войти в воровской мир, обзавелся подельниками и ювелирные магазины да богатые дома грабил без всякой банальности – с выдумкой. За что и заслужил почетную кличку – Хитрован.
Ничего не осталось в матером воре от прежнего милого юноши. Да он и сам забыл, когда был таким – добрым, честным, влюбленным в Машу. Забыл и даже не вспоминал.
Но полицейские чины даром свой хлеб не кушали, и, как ни таился Хитрован, как ни прятался, они его нашли и завернули руки за спину. На этот раз суд был еще более скорый и суровый – десять лет каторги. И сбежать в этот раз с этапа не удалось. Пришлось Хитровану и каторги отведать. Правда, и там, оглядевшись и обвыкнув, он нашел лазейку и ушел слушать кукушку[19]. Да заплутал, потеряв верное направление, озверел и оголодал в безлюдном бору, потому и обрадовался, когда увидел мужика с конем и телегой. Да кто знал, что мужик этот столь проворным окажется…
«Андрей к тебе сам явится, да только не тот, прежний, а иной совсем – увидишь…»
Сбылись пророческие слова, и видела Мария злобного человека, одетого в серый арестантский халат, в глазах у которого не промелькнуло даже малой искры раскаяния, потому что думал он совсем о другом – как бы ему поскорее выбраться из проклятого, глухого бора, достичь заветного тайника, который заложил незадолго до своего ареста, и снова праздновать праздник – легкий, бездумный и, если повезет, длинный-длинный…
Читала Мария, как в открытой книге, его потаенные мысли и желания и скорбела душой, прекрасно осознавая, что никто не сможет помочь сейчас Андрею, никто не вымолит ему прямой путь и будет так до тех пор, пока не вспыхнет в нем хотя бы малая искра раскаяния. А еще она знала, что нельзя ему с такими мыслями и желаниями находиться под чистым покровом, ведь сказано было ей: «И не позволяй, чтобы под Мой покров черные люди с черными помыслами проникали. Осквернят черным, сниму Свой покров».
Пригасила внезапно вспыхнувшую в ней извечную женскую жалость и вывела его из глухого бора. Они стороной обошли Покровку, выбрались на прямую дорогу, которая тянулась вдоль Оби, и Мария, перекрестив его, сказала на прощание:
– Ступай, Андрейка. Вспомни самого себя, а когда вспомнишь – спасешься.
Но он этих слов не понял, только досадовал, что не дала она ему никакой одежды и пропитания. Как был в арестантском халате, так в нем и остался. Не Андрейкой он сейчас был, а Хитрованом.
Повернулся сердито и пошел, оскальзываясь в грязи.
13
Пустынная дорога то поднималась вверх, то скатывалась вниз, виляла то вправо, то влево, но далеко от реки не откатывалась и скользила наперегонки с текущей водой, тянувшейся к далекому морю.
Холодно, сыро, мрачно.
Под вечер, уморившись от тяжелой ходьбы, Хитрован забрел в густой ветельник, надеясь передохнуть, и даже вскрикнул от радости – на отшибе от молодого подроста, ближе к обрывистому речному берегу, стояла могучая, старая ветла с необъятным стволом, в середине которого, невысоко от земли, зияло большущее дупло. Забрался в него Хитрован, скрючился в тесном прибежище, мало-мало согрелся, избавившись от сеющего дождя, и решил из дупла не вылезать, пока не наступит утро. Ночь наползала темная, беспросветная, и двигаться дальше в сплошной темени было слишком рискованно.
Все бы ничего, можно и перемучиться, но вернулся голод, и сосущий комок подпер под самое горло. Тогда, чтобы избавиться от него, Хитрован задремал, но и сквозь дрему чутко прислушивался – не раздастся ли какой звук, извещающий об опасности? Но слышалось только бесконечное шуршание дождя, который все сеял и сеял, будто небо разорвалось глубокой прорехой, и прореха эта никак не затягивалась.
Уже под утро он различил, что дождь кончился. Встряхнул головой, прогоняя остатки сна, и выглянул из своего тесного укрытия. Выглянул и даже рот раскрыл от удивления: стоял под ветлой, боком прижимаясь к необъятному ее стволу, белый конь, тот самый, которого он видел во время недавней встречи с Марией. На спине у него лежал кожаный мешок, перехваченный тонкой бечевкой. Крепко был перехвачен, с таким расчетом, чтобы не свалился во время скачки. И поверху – не узел, а петелька, чтобы удобнее было развязывать.
Хитрован глядел и не понимал – он откуда взялся здесь, этот конь, с кожаным мешком, привязанным к спине? И что в этом мешке имеется?
Конь же, словно досадуя на его непонятливость, изогнул красивую шею, повернув к нему голову, и сверкнул в потемках большим карим глазом, будто сказать хотел: забирай, что тебе доставлено, ждать не буду! Хитрован протянул вздрогнувшие руки, развязал влажную, набухшую бечевку, схватил мешок, не давая ему упасть, и прижал к себе, как родное дитя. Догадался битым нутром каторжника, что в мешке его спасение. Так оно и оказалось. Лежала там сухая и теплая одежда, большой каравай хлеба, кусок вяленого мяса, головки лука и даже соль, завернутая в чистую тряпицу. Первым делом Хитрован накинулся на еду, давился, глотая непрожеванные куски, и едва-едва самого себя остановил, потому что вспомнил: жрать без меры после долгой голодухи – гиблое дело. Икнул, аккуратно заворачивая остатки, и бережно уложил их в кожаный мешок. Вылез из тесного дупла, скинул арестантский халат и переоделся в сухое: крепкие штаны, домотканая рубаха и теплый шабур[20], а на ноги – сапоги из выделанной кожи, выше колена и с завязками.
Да в таком наряде хоть куда можно путешествовать!
И в голову не пришло Хитровану, даже мельком не подумал он, что все это добро, спасительное сейчас для него, прислала, уступив чувству жалости, Мария. Появилось – и ладно. А что да почему – это не для его разумения.
Затеплилась в животе проглоченная еда, согрелось тело в сухой одежине, и Хитрован повеселел. А чего, спрашивается, не веселиться? Потерпит еще немного, выберется из этого гиблого места, доберется до своего тайника, откопает золотые висюльки, добытые в лихих налетах, и – гуляй во всю ивановскую! Так ему ярко представилось, как он загуляет, что Хитрован, сам того не заметив, даже губы облизнул.
Небо после дождя прояснило, подул с реки крепкий ветер и разогнал сырую хмарь. Похолодало, и мокрая трава, подмерзнув, захрустела под сапогами – Хитрован все топтался возле ветлы, завязывал и перевязывал бечевку, пытаясь сделать из нее лямки и приспособить кожаный мешок за плечи, а сам незаметно косил глазами, наблюдая за белым конем. Тот, отойдя от ветлы ближе к берегу, остановился и замер, чуть вздернув гордо посаженную голову, – будто прислушивался. И чем дольше он так стоял, тем чаще и сильнее пробегала по нему крупная дрожь. Хитрован все это видел, но даже внимания не обратил на дрожь коня, потому что целиком завладела им внезапно осенившая мысль: зачем бить ноги по грязной и незнакомой дороге, если стоит в двадцати шагах от него быстрый, сильный конь? И крепкий повод свисает с шеи. Вскочить бы, ухватиться за повод и ехать без всяких хлопот, поплевывая сверху на дорогу…
Но как подобраться, чтобы не спугнуть?
Сделал один шаг, другой… Тихо, стараясь не хрустеть подмерзлой травой, приближался к коню и успевал еще думать о том, что животину эту, в крайнем случае, если уж совсем станет невмоготу, можно будет и прирезать, чтобы не загнуться с голода.
А конь в это время, не двигаясь с места, становился все беспокойней – вздрагивал, вскидывал голову и быстро-быстро перебирал точеными ногами, будто земля обжигала ему копыта, доставая до живого мяса. Вдруг замер и громко, протяжно заржал – тревожно и жутковато, словно учуял близкую и смертельную опасность. Но ржанием своим он Хитрована не остановил, наоборот, пользуясь кратким мгновением, тот подскочил к нему в два прыжка, ухватился за повод, намотав его конец на руку; ожидал, что конь станет брыкаться, не подчинится, но произошло совсем по-иному: послушно подогнулись точеные ноги, белый красавец прилег на землю и глянул горящим глазом, как будто хотел поторопить – не мешкай! Хитрован взобрался на него, и конь мгновенно вскочил. Но ускакать они не успели. Земля вздрогнула и качнулась, будто вздохнула, поднимая свою грудь. И – опустилась. Еще один толчок… Старая, могучая ветла оглушительно затрещала, и ее необъятный ствол раскололся ровно посередине, как от удара неведомого колуна, с грохотом развалились две половины, обнажив подгнившее нутро. Длинная, на половину неба, вызмеилась извилистая молния, полохнула режущим светом, сжигая утренние сумерки, и в этом мгновенном свете увидел Хитрован, цепенея от ужаса, как весь яр, с кустами и с деревьями, с подмерзлой травой, отломился, словно ломоть от хлебного каравая, и глухо, утробно булькнув, обрушился в реку, выплеснув наверх высоченный столб воды.
Грома не было. Молнии беззвучно распарывали небо и озаряли страшную картину режущим светом. Река на четверть своей ширины оказалась перегороженной земляным пластом, течение ударилось в него и вздыбилось, закипело. В этой огромной кружащейся воронке, в воде, густо перемешанной с землей, оказался белый конь со своим наездником, который, бросив повод, вцепился в гриву намертво сведенными пальцами. Холодный, вышибающий из разума страх колотил Хитрована изнутри. Не размыкая пальцев, он зажмурил глаза, решив, что наступил смертный час; не ждал спасения, понимая, что вырваться из гиблой водяной воронки невозможно. Пресекалось дыхание, судорогой сводило горло, и от бессилия он не мог даже закричать, лишь тоненький-тоненький, как нитка, выскользнул слабый звук – и-и-и…
Снова полохнула молния, режущий свет увиделся даже сквозь плотно сомкнутые веки, и в свете этом вдруг проявился маленький мальчик в деревянной кроватке – больной, беспомощный, с бледно-синими разводами на щеках. За жизнь мальчика молились, он слышал голоса – родные, теплые. Они входили в маленькое тельце живительной силой, выталкивали болезнь, как выталкивают в шею из дома нежеланного гостя, и уходили бледно-синие разводы со щек, уступали место слабому румянцу… Так зачем возвратили тогда мальчика к жизни? Неужели лишь для того, чтобы очнулся он после загула возле продажной женщины, из открытого рта которой несло перегаром? Неужели лишь для того, чтобы он, радуясь, закапывал кожаный кошель с деньгами в землю, а затем грабил и убивал, чтобы так же закопать еще один кошель с золотыми побрякушками и стремиться к нему, как к самой желанной радости?
Он не успел ответить на эти вопросы. Молнии больше не зажигали свой свет, и плотная темнота заглотила его без остатка. Заглотила и больше уже не покидала. Даже тогда, когда очнулся на пологом обском берегу, ниже по течению от земного прорана. Стоял над ним белый конь, косил карим глазом, и бока его ходили ходуном – с великими трудами вырвался он из водяного плена. Увидев, что наездник его начал шевелиться и подниматься с земли, конь взмахнул длинным хвостом и легко тронулся с места неторопливой рысью. Помаячил белым пятном за ближними ветлами и скоро исчез.
Наездник встал, утвердил ноги на песке и ошалело повел диким взглядом вокруг, ничего не понимая. Не понимал – кто он такой есть и где сейчас оказался? Не помнил отныне ни своего имени, ни прошлого, ни своей судьбы – все закрыла черная, без единого просвета, бесконечная темнота, хотя видел он и различал пологий берег, реку и даже старые коряги, обточенные проточной водой.
Пошатался на слабых, подсекающихся ногах и побрел, не зная и не угадывая своего пути…
14
Время шло, а Матвей Петрович так и не рассказал никому о том, что случилось с ним поздней осенью за дальним увалом, куда он приехал, чтобы запасти мох и затыкать им пазы в хлеву. Вернулся домой в тот день с пустой телегой и, после того как выпряг коня и поставил его в конюшню, отправился прямиком в часовню и долго, усердно молился там, пытаясь понять: что же с ним произошло сегодня? С варнаком – дело ясное, бывало и раньше, что забредали в окрестности, а порой и в саму деревню беглые. Но смертоубийств никогда не случалось, потому что знали беглые: по старому сибирскому обычаю стоит где-то на столбе горшок с кашей и лежит краюха хлеба, в тряпицу завернутая, и даже, может быть, узелок со старой одежонкой. Бери без спроса и шагай дальше. Но если тронешь деревенского жителя, на тебя могут и охоту устроить, как на дикого зверя, и тогда, если попадешься в руки сердитым мужикам, можешь сразу прощаться с жизнью – не пожалеют. Этот, за увалом, схвативший топор, похоже, совсем одичал, и прибил бы его Матвей Петрович, рука бы не дрогнула, да помешала странная женщина, остановила одним властным голосом. И он подчинился. Вот и раздумывал, вернувшись домой: если варнак, пусть и одуревший, понятным был, то женщина, неизвестно откуда возникшая и взявшая этого варнака под свою защиту, представлялась неведомой и странной.
Откуда она взялась?
И почему он, Матвей Петрович Черепанов, самый главный человек в Покровке, которому никто не смел перечить, даже слова не смог ей сказать? Как говорится, подпоясался да и пошел, куда отправили.
И еще оставались в памяти ее голос, ее горящий взгляд, белая одежина и распущенные по плечам длинные, седые волосы. Ничего подобного за всю свою жизнь Матвей Петрович не видел, поэтому о случившемся не забывал, помнил, хотя уже миновали зима, весна, лето и снова наступила осень.
Выдалась она в тот год необыкновенно сухой и жаркой. Солнце палило, как в июне, земля высохла до мелкой сыпучей пыли, и трава под ногой громко хрустела, будто это не трава была, а хворост. По вечерам горели на полнеба кровяные закаты и покровцы, с тревогой поглядывая из-под ладоней, вздыхали: хоть бы дождь брызнул, пора уже, не дай Бог искра упадет нечаянно…
Упала не искра, упала молния. Вызмеилась посреди белого дня из маленького, белесого облачка, распорола синий склон неба и вонзилась за околицей в сосновый бор. Гром не грохнул, ни одной капли дождя не упало, и подумалось сначала, что молния эта привиделась. Бывает такое, почудится неведомо что…
Нет, не почудилось. Вечером, когда уже легли сумерки, над бором, над тем самым местом, куда вонзилась молния, бесшумно взошло зарево, и пошел пластать страшный верховой пожар, мгновенно набирая размах и силу. Ветер тянул в сторону Покровки, и скоро уже Матвей Петрович, первым выскочивший на околицу, почуял пока еще слабый запах гари. Крутился в отчаянии на одном месте и понимал яснее ясного, что с таким пожаром не справиться. Когда он подкатит к небольшому лугу, где сухая трава выше колена, и когда полетят на эту траву пылающие головешки – все вспыхнет, как порох. И луг вспыхнет, и деревня. Одно спасение оставалось – грузить пожитки, выгонять животину и бежать сломя голову на берег Оби. Только там можно было укрыться.
Он повернулся, чтобы кинуться в деревню, и остановился, услышав за спиной властный голос:
– Стой, подожди!
Обернулся на этот голос и замер – стоял прямо перед ним, раздувая ноздри, белый конь, на коне сидела женщина с разметавшимися волосами, и взгляд ее, суровый и жесткий, пронизывал, как молния, заставляя безоговорочно подчиняться.
– Поднимай людей в деревне, пусть бегут к Оби. А сам сюда возвращайся. Не медли. Видишь бугор? Стой там и огонь не пускай, чтобы он на луг через болотце не перекинулся. Беги, быстрее беги!
Матвей Петрович побежал, не чуя под собой ног. Поднимал народ, без лишних слов, чтобы не терять время, взмахивал рукой, показывая в сторону Оби, бежал дальше, а когда мимо него, обгоняя, пронеслись первые подводы, он схватил в чьем-то дворе лопату и бросился обратно на луг, уверенный, что теперь в деревне все свершится и без него.
Запыхавшись, залетел на бугор и ахнул беззвучно, едва не выронив из рук черенок лопаты. Огненный вал шел над бором, раскидывая брызги горящих головешек, вот, еще немного, чуть-чуть, и вал этот спалит сухую траву на лугу, накроет деревню и не перестанет буйствовать, пока не превратит ее в пепелище.
Но что это?
По краю луга, по самой его кромке, летел белый конь, выстилаясь над сухой травой в неистовой скачке, и всадница на нем, крепко сжимая повод, клонилась к самой гриве, длинные волосы ее взметывались в жарком воздухе, как белое облако. Конь долетел до бугра и, повинуясь поводу, круто повернул, устремляясь в обратную сторону, достиг края луга и там, снова развернувшись, выбив рыхлую землю из-под копыт, понесся по прямой черте, видимой только всаднице. Как стремительный челнок, он летал от одного края луга к другому, и будто невидимая высокая стена поднималась по его следу: в нее бился огонь, летели головешки, накатывал густыми клубами черный дым – и все опадало в бессилии на черную, уже выгоревшую землю.
До бугра пламя еще не успело добраться, оно лишь подскочило к его подошве, и Матвей Петрович сразу понял угрозу: конь на такую крутизну не заскочит, а позади бугра – высохшее болотце, перекатится через него пал, сжигая сухой камыш, и тогда заполыхает весь луг. Кинулся вниз и с размаху воткнул лопату в землю. Он не видел пожара, не чуял дыма, копал и копал, кидая земляные пласты на горящую траву, не давая красным извилистым языкам огня подняться вверх. Черные, вывернутые пласты падали и рассыпались, начинали дымиться, но красные языки угасали под ними, и только искры успевали мигнуть напоследок.
Бугор он отстоял. Обессиленно выпрямился, отшагнул от раскопанной полосы и сел, крепко сжимая в руках черенок лопаты. Смаргивал едучий пот с ресниц, осматривался – не вспыхнет ли где? Но выгоревшая подошва бугра лишь дымилась. А что там, на лугу? Надо бы подняться, глянуть, но он продолжал сидеть, потому что сил, чтобы встать, у него не было.
– Сиди, отдыхай. Там потухло. – Он обернулся на голос и увидел, что подходит к нему женщина с распущенными по плечам волосами, ведет за собой в поводу белого коня и смотрит она совсем не строго, а печально и устало. Подошла, опустилась рядом с Матвеем Петровичем на землю, расправила на коленях длинное платье. Он сбоку смотрел на нее, видел черные пятнышки сажи на лице и на волосах и удивлялся: «Как же она не вспыхнула, ведь по самому по краешку огня скакала?»
– А я Пречистой молилась, Она меня и оберегала… – Женщина поправила длинные волосы, убирая пряди с высокого лба, и губы ее чуть дрогнули в тихой улыбке: – Здравствуй, Матвей Петрович, вот и снова довелось свидеться.
– Откуда ты знаешь, как меня кличут?
– Не удивляйся, я все знаю. И про тебя знаю, и про деревню твою Покровку, я тут всегда рядом пребываю.
– Ты кто?
– Зови меня Марией.
Глава пятая
1
«ДОРОГОЙ ДЯДЮШКА ПО ВАШЕМУ АДРЕСУ МЫ НАШЛИ ХОЗЯИНА ОН ОБЕЩАЛ ПОМОЧЬ ЖДЕМ ЕГО В ГОСТИ ЛЮБЯЩИЕ ТЕБЯ ПЛЕМЯННИКИ».
Молоденький телеграфист принял деньги за отправку телеграммы, громко шлепнул печать и смачно, во весь рот, зевнул, удивленно подняв брови.
– Надо вовремя ложиться спать, молодой человек, тогда и в сон на службе не потянет, – строго выговорил ему Речицкий, принимая и тщательно пересчитывая сдачу.
Телеграфист вскинул на него веселые, с хитрым огоньком, глаза и вежливым голосом сообщил:
– Кто зевает днем, тот не зевает ночью.
Гиацинтов от души расхохотался, оценив остроумие телеграфиста, а Речицкий укоризненно покачал головой – разные все-таки люди были они по характеру. Но это обстоятельство нисколько не мешало проникаться им друг к другу все большей симпатией, хотя вслух об этом не говорили.
Выйдя из городского почтамта, который стоял на Обском проспекте, считавшемся главной улицей Никольска, Речицкий и Гиацинтов не стали останавливать извозчика, чтобы доехать до гостиницы «Метрополь», а тихо и неторопливо отправились пешком – очень уж хорош был зимний день: с легким морозом, с ярким солнцем и веселым скрипом под каблуками молодого снега, выпавшего сегодня под утро.
Проспект жил своей обыденной жизнью: неслись по нему легкие кошевки и санки, торговали магазины, магазинчики и лавки, приветливо распахивали свои двери трактиры, зазывая всех желающих, и слышался громкий смех юных реалистов, возвращавшихся после занятий по домам. И так хорошо было идти, не торопясь и не поспешая, так сладко дышалось морозным воздухом, что не хотелось о чем-то говорить, не хотелось нарушать состояния покоя даже одним словом. И лишь после того, как свернули на Алтайскую улицу, на которой стояла гостиница, Речицкий неожиданно напомнил:
– Сегодня третий день пошел, а господин Скорняков так и не объявился. Может, поторопились, отправив телеграмму Сокольникову?
– Не поторопились, – успокоил его Гиацинтов, – сообщили, что прибыли, сообщили, что нашли и что Скорняков обещал помочь. Мы же не написали, что он уже помог. Подождем.
– В любом случае завтра придется нанести визит в городскую управу, может, что-то удастся выяснить… Хорошо бы связаться с местной полицией…
– Недурно бы, стоит подумать. Хотя… Хотя, по большому счету, господин поручик, дела у нас на сегодняшний день обстоят весьма плачевно. Пойди туда, не знаю куда, и найди то, не знаю чего – крепкая задачка. А скажите честно, только честно, господин поручик, вы искренне верите во всю эту историю? Скорбный дом, сумасшедший, предсказания… Я еще понимаю Москвина-Волгина, он втайне мечтает графа Толстого переплюнуть, но вы… Боевой офицер… Или не смогли отказать Абросимову?
– А вы, Владимир Игнатьевич, дали согласие только из личного интереса. Так? Да вы не отмахивайтесь. Так или нет?
– Ну… Вы правы, кривить душой не буду. Но если бы этого личного интереса не было, я все равно бы дал согласие. Не мог же я Абросимову отказать.
– Дело в том, уважаемый Владимир Игнатьевич, что вы – бывший студент, а я – военный. И отец у меня был военный, и дед, и даже прадед.
– А я внук крепостного, и что из этого следует?
– Да ничего не следует. Крепостной – это так, для красного словца. Учились-то в университете, а там, набравшись определенных знаний, частью нужных, а большей частью бесполезных, человек начинает думать, что он все постиг в этом мире и отныне представляет из себя центр вселенной. Его интересует только собственная персона, и она, эта персона, бесконечно любуясь собой, не имеет никакого понятия ни о чести, ни о долге. Для военного превыше всего – честь и долг, для верующего человека – совесть, потому что он перед Богом предстоит, а для самовлюбленной персоны – только она сама, и чтобы возвыситься, готова на любую подлость. Это ведь ваши сотоварищи, московские студенты, телеграмму послали японскому императору с пожеланием ему победы в войне.
– Я не посылал, я, как вам известно, воевал, господин поручик.
– Да вы не обижайтесь, Владимир Игнатьевич, я же не в укор вам говорю, я размышляю.
– А раньше утверждали, что не любите разговоров на философские темы.
– Это не философский разговор, это разговор про жизнь. А она порою бывает очень мудрым учителем – без философских формул. Когда я в госпитале лежал, в бреду, и собирался умирать, чувство такое пронзило, что умираю и что сил сопротивляться у меня нет, вдруг увидел перед собой девушку, лицо ее увидел… Она взяла меня за руку и повела, и, представляете, вывела! Пошел за ней, и она вывела! Очнулся – живой. Правда, без руки, но живой. А лицо девушки запомнилось, в памяти осталось, и я все время думал – кто она такая, почему в бреду ко мне явилась и вытащила, можно сказать, с того света? И вот, представьте себе, уже после госпиталя, после отставки, я уже служу в Скобелевском комитете, приглашает меня новый сослуживец на именины. Ну что – именины как именины, застолье, речи, подарки… И вдруг она заходит, извиняется, что опоздала, а я смотрю, и у меня даже рука дрожит, ничего не понимаю, будто самого себя потерял. Я же запомнил ее лицо, и вот она передо мной – живая, настоящая! В тот же вечер ей все рассказал и предложил стать моей женой, и она согласилась. Вы можете найти этому материалистическое объяснение?
– Пожалуй… не знаю, что и сказать…
– А я уверен – есть нечто, что невозможно объяснить, и в таком случае возможно только верить, без объяснений. Теперь понимаете, почему я ввязался в эту историю?
– М-да-с… А все-таки вы философ, господин поручик, большой философ, хотя и не признаетесь.
– Как вам угодно, Владимир Игнатьевич. Хоть горшком называйте, только в печь не засовывайте. А чего это Федор на улице делает? Нас ждет? Шире шаг, Владимир Игнатьевич, кажется, мы сейчас услышим новости…
Они уже подходили к гостинице, и хорошо было видно, что на просторном крыльце мечется от одного края к другому Федор, козырьком прикладывает ладонь, закрывая глаза от солнечного света, вглядывается в прохожих на улице и снова мечется. Но вот разглядел Гиацинтова и Речицкого, спорхнул с крыльца и, не дожидаясь, когда они подойдут, кинулся навстречу. Подбежал и торопливо, взволнованно заговорил:
– Володя, а Володя, слушай меня! Человек пришел, большой, толстый, ругается, что вас нет, и послал меня искать. Иди, говорит, и найди, хоть из-под земли достань. А я не могу… – Федор развел руками. – Как найду, если не знаю.
– Где он сейчас? – спросил Гиацинтов.
– Там сидит, – Федор показал на гостиницу. – Большой, толстый!
– У нас один знакомый в Никольске, – усмехнулся Речицкий, – большой и толстый. Значит, господин Скорняков пожаловал.
Он не ошибся. В «Метрополе» их, действительно, дожидался Гордей Гордеевич Скорняков.
2
Телеграмму из Никольска доставили рано утром.
Сокольников еще спал, и дребезжащий звонок в его неприбранной холостяцкой квартире, пока он одевался, звучал долго и надрывно, будто извещал о пожаре. Недовольно хмурясь, Сокольников расписался в получении телеграммы, сунул почтальону пятак за усердие и, закрыв дверь, сразу же, в коридоре, прочитал сообщение Гиацинтова и Речицкого. И хотя понимал прекрасно, что его посланцы лишь прибыли и нашли Скорнякова и что ничего более еще не сделали, тем не менее он повеселел: если им обещана помощь, значит, все складывается не так уж плохо.
Прислуги у него не было, и он сам готовил себе завтрак: сначала заваривал и пил кофе, а затем жарил три больших ломтя мяса. Не торопясь, обстоятельно их съедал и лишь после этого начинал приводить себя в порядок: принимал ванну, надевал рубашку, костюм, почищенные и отглаженные еще с вечера. Привычка плотно завтракать осталась у него с того времени, когда он служил, ведь всякий раз неизвестно было, как сложится день и удастся ли пообедать. Вынужденный уйти со службы, он привычке своей не изменил и даже находил в ней своеобразное удовольствие. Поэтому невольно чертыхнулся, когда это удовольствие нарушили – снова задребезжал звонок. Так же надрывно, как в первый раз. Сокольников сердито отодвинул тарелку и пошел открывать.
– Доброе утро, Виктор Арсентьевич, простите за ранний визит, но возникла необходимость встретиться. Разрешите войти?
Сокольников удивленно разглядывал гостя и не торопился приглашать его в свою квартиру. Да и как он мог не удивляться, если стоял перед ним его преемник по службе, штабс-капитан Родыгин. До этого они виделись всего лишь один раз, когда Сокольников, получив отставку, а по сути – выгнанный из охранного отделения, передавал дела. Прибывший из Петербурга, преисполненный, как показалось, собственной важности, Родыгин держался тогда сухо и высокомерно. Одетый в новый, похоже, недавно пошитый мундир, он, помнится, величаво прохаживался по кабинету, озабоченно хмурился и даже не дослушал Сокольникова, остановив его резким взмахом руки:
– Достаточно. В остальном я разберусь без вашей помощи.
Сокольников, уязвленный таким тоном, вышел из бывшего своего кабинета, в котором поселился новый хозяин, и ничего лучшего не смог сделать, как молча, про себя, выругаться: «Да пошли вы все к чертовой матери!»
И вот теперь, уже не в мундире, а в пальто с бобровым воротником, с тросточкой, словно гуляющий по Тверской бездельник, Родыгин стоял у порога квартиры Сокольникова и ожидал приглашения. Таковое, после затянувшейся паузы, последовало:
– Проходите.
Приняв пальто, Сокольников провел неожиданного гостя в маленький зальчик, усадил за круглый стол и сам сел напротив. Все это проделал молча, ни о чем не спрашивая. Он ждал, когда заговорит Родыгин. А тот оглядывал неказистый и неприбранный зальчик, не торопился начать беседу и объяснить причину столь раннего визита. Сокольников продолжал ждать. Наконец Родыгин вздохнул, покачал головой и посочувствовал:
– Да, Виктор Арсентьевич, на казенное жалованье большие хоромы не заимеешь. Но не столь уж оно мизерное, чтобы все это в порядок привести, хотя бы наняли кого-нибудь, помыть-покрасить…
– Мне и этого вполне достаточно.
– Понимаю. Рыцарю важны доспехи и оружие, а каменные палаты ему ни к чему. Но это так, к слову. Я не за тем пришел, чтобы на ваше жилище любоваться, мне до него, признаюсь, никакого дела нет. Пришел я, как верно вы догадываетесь, Виктор Арсентьевич, совсем по иной причине. Во-первых, хотел выразить благодарность за тетрадку господина Обрезова, которую вы столь любезно нам предоставили. Правда, и потребовали немало за свою любезность – секретные документы полистали-почитали. Но я это обстоятельство опускаю, хотя виновные, безусловно, будут наказаны. А теперь главное. Слушайте меня внимательно и постарайтесь сделать правильные выводы. Боевая организация так называемых социалистов-революционеров начала за вами слежку и в ближайшее время, я уверен, постарается вас убить. Или, вернее всего, захватить, выпытать все, что вы знаете по известному делу, связанному с предсказателем, а уж затем убить. Но и это еще не все. Сверху, – Родыгин поднял указательный палец и показал им в потолок, – мне поступил жесткий приказ – ни в коем случае не вмешиваться и мер для вашей охраны и защиты не предпринимать. Честно признаюсь, идет какая-то большая и хитрая игра, а подоплека этой игры мне неизвестна. Есть, конечно, догадки, но их, как говорится, к делу не пришьешь. Больше мне сказать вам нечего, Виктор Арсентьевич. Спасибо, что выслушали.
– Почему вы решили меня предупредить? В первую нашу встречу…
– В первую нашу встречу, уважаемый Виктор Арсентьевич, я вас абсолютно не знал, как не знал и обстоятельств вашей отставки. А когда вник и услышал, что говорят о вас сослуживцы… Поверьте, мне очень горько, что не могу защитить достойного человека, поэтому делаю лишь то, что на сегодня в моих силах, – хотя бы предупредить…
Родыгин поднялся, прошел в прихожую, неторопливо надел пальто, взял тросточку и коротко сказал на прощание:
– Честь имею.
Закрыв за ним двери, Сокольников вернулся на кухню и принялся за прерванный завтрак. Известие, которое сообщил ему Родыгин, не испугало его и даже не удивило – он был готов к такому раскладу событий. Более того, он еще с самого начала предугадывал, что события эти станут развиваться именно таким образом, что окажется он между двух огней: с одной стороны – боевка, а с другой стороны – неизвестная ему сила, находившаяся на верхних этажах власти. Эта сила, когда он уже вплотную подбирался к разгадке странного дела, связанного с предсказателем, скомкала его, как ненужный листок бумаги, смяла и выкинула. Главная вина его заключалась не в типографских станках, изъятых у подпольщиков, на которых он организовал печатание контрреволюционных листовок, хотя официально претензии были предъявлены именно из-за них, а из-за того, что он узнал многое, чего ему знать не следовало. Ни ему, ни всему охранному отделению.
После отставки он пришел в Союз русского народа, но совсем не для того, чтобы слушать и произносить речи, бороться за трезвость и заводить чайные для рабочих, не для того, чтобы организовывать русскую промышленность и отстаивать русские народные идеалы, – совсем нет. Для этого, был убежден Сокольников, имеется масса других людей. Он пришел для того, чтобы создать военную организацию, такую же, какие были у подпольщиков-революционеров. Создать для того, чтобы имелась сила, которая при любой смуте, при любом параличе власти смогла бы оказать достойное сопротивление разрушителям государственности. Сейчас, когда такая организация начала создаваться и когда стояла перед ним вполне конкретная цель – найти предсказателя и разгадать тайну странного дела, – именно сейчас он был спокоен и уверен в себе.
Закончив с завтраком, Сокольников принял ванну, тщательно побрился, оглядел себя в зеркало – хорош! – и неторопливо собрал в небольшой баульчик самые необходимые вещи. Задернул шторы на окнах, окинул взглядом свою холостяцкую квартиру, усмехнулся, вспомнив совет Родыгина о ремонте, и плотно прихлопнул за собой дверь. Из дома он вышел через черный ход, дворами выбрался на соседнюю улицу и уже там, остановив извозчика, направился к Абросимову, прекрасно понимая, что в ближайшее время в свою квартиру возвращаться не следует.
Ему объявили войну, и действовать он теперь вынужден был, как на войне.
В квартире Абросимова слышался веселый стук костыля. Москвин-Волгин, уже поднявшись с дивана, бодро передвигался, был в прекрасном настроении и встретил Сокольникова радостным возгласом:
– Виктор Арсентьевич! Наконец-то! Мы уже какой день вас ждем, а вы как в воду канули! Ну, рассказывайте, какие известия привезли?
– Особых известий нет, но одно имеется – наши друзья добрались до Никольска, им обещана помощь. Думаю, что на первых порах и это хорошо. Теперь, господин репортер, дело за вами.
– Чем могу служить?
– Служить вы можете своим талантом. Замечательным талантом публициста и даром литератора, которыми я всегда восхищаюсь. Присаживайтесь, Алексей Харитонович, перестаньте скакать и присаживайтесь. В ногах, как известно, правды нет, а нам сейчас нужна только правда. Кстати, где у нас господин полковник? Куда отлучился?
– Господин Абросимов вместе со своей милейшей горничной отбыли на базар. Продукты, как вам известно, он закупает самолично, самые наилучшие, и надеюсь, что нас сегодня ждет прекрасный обед. Я уже глотаю слюнки!
– Вот и хорошо, Алексей Харитонович, постараемся этот прекрасный обед заслужить. Берите бумагу, ручку и записывайте все, что я вам скажу. А потом, когда изложите это изящным слогом, напечатаете в «Русской беседе». Уверен, что тираж вашей газеты подскочит до небес.
– Виктор Арсентьевич, вы меня заинтриговали!
– Дальше будет еще интересней. Записывайте, Алексей Харитонович… Итак, начнем с того, что к вам приватно обратился один штабс-капитан в отставке, служивший до недавнего времени в охранном отделении, и поведал он вам очень занятную историю. Записываете?
– Записываю, записываю, Виктор Арсентьевич…
Сокольников продолжал говорить – спокойно и размеренно, словно произносил заученный текст, Москвин-Волгин торопливо писал, не поднимая головы, и вдруг отложил карандаш, вскинулся:
– Я ничего не понимаю! Мы же тогда все карты раскроем!
– Не раскроем, потому что в самом начале этого повествования вы напишете некое предисловие и сообщите в нем читающей публике, что это художественное произведение молодого литератора, который пробует свои силы в изящной словесности. Не забудьте ему придумать красивый псевдоним, ну, такой, как у вас.
– Я все равно ничего не понимаю!
– Поймут те, кому это нужно. И тогда они себя обнаружат. Я хочу знать своего противника – кто он? С революционерами все ясно. Но нам противостоят и другие силы – какие?
– Вы что, решили испробовать себя в роли живца? Это почти смертный приговор!
– Да вы записывайте, Алексей Харитонович, записывайте.
– Ну, как угодно, воля ваша. Я слушаю…
3
Савелий шмыгал застуженным носом, утирался рукавом рубахи и рассказывал:
– Ну а дальше… Дальше добрались до этой Покровки, ящик и мужика у Грининого деда оставили. Дед мне валенки еще подарил, вот, новенькие… Я на тройку сел и в Никольск приехал. Гордею Гордеичу доложился… Чего еще сказать? Да нечего мне сказать больше…
Савелий переминался с ноги на ногу, смотрел на новые белые катанки, а когда отрывал от них взгляд, быстро зыркал на хозяина, будто с тревогой спрашивал – все ли верно говорю, не сболтнул лишнего? Гордей Гордеевич сидел как каменный, не обращая внимания ни на Савелия, ни на Речицкого с Гиацинтовым, которых привез из «Метрополя» к себе в дом. Казалось, что он не слышит рассказа своего работника. Нет, оказывается, все слышал. Спросил:
– Не говорил Матвей Петрович – куда он этого мужика из ящика собирается девать?
– Нет, речи не было. Может, и говорили, только не при мне.
– Ладно. Теперь ступай, этого… приведи.
Савелий вышел. Вернулся, подталкивая в спину младшего Скорнякова. Все еще с перемотанной головой, с отцветающими синяками на лице, Гордей сутулился, опустив голову, на отца и на незнакомых людей смотрел исподлобья и боязливо, как умная собака, которая знает, что провинилась и что хорошей трепки не избежать.
– Вот, господа, познакомьтесь, сын мой – Гордей Гордеевич Скорняков. Гордиться бы хотел, когда представляю, да не получается. Рассказывай, как ты с этими мазуриками снюхался и при каких обстоятельствах?
– Я же все тебе, отец, рассказал, – попытался возразить Гордей.
– Еще раз поведай! Язык не отвалится!
Гордей вздохнул, ссутулился еще больше и стал похож на длинный высохший стебель, который уже никогда не расправится, хоть в землю его закопай. Не было даже намека на сходство отца и сына – разные, совершенно разные люди.
– В карты я проигрался, большую сумму задолжал. Ну и выпил крепко по горькому случаю, в ресторане у Сигизмундова, который рядом с номерами находится. А тут женщина подсаживается – красивая… Участливо так расспрашивает, что случилось… Я и рассказал как на духу. Она мне говорит: поможем твоему горю, приходи завтра в номера Сигизмундова… Пришел… Там, кроме женщины этой, два господина – Илья Самойлович Целиковский и Леонид Павлович Кулинич, так они представились. А женщину зовут Кармен. Расспросили подробно – кто я такой, откуда и почему в затруднительном положении оказался. Но теперь понимаю, что для вида расспрашивали, они, видно, раньше про меня все выяснили. И спрашивают – а знаешь ли ты в городе надежных людей, которые за деньги лихое дело могут спроворить? Отвечаю, что знаю. Вот сведешь нас с ними, а мы твой долг погасим. Свел я их. Целиковский мне половину суммы отдал, а вторую половину, говорит, тогда получишь, когда еще одно дело исполнишь – пришить требуется двух возчиков, которые их по селам возили. За что пришить, по какой причине – я не спрашивал, да и не сказали бы мне, они о себе вообще ничего не говорили. Одного-то возчика мы пришибли, а со вторым, который у отца в мастерских проживал, осечка получилась… С тех пор я из дома никуда не отлучался и ни Целиковского, ни Кулинича, ни Кармен не видел, и где они сейчас находятся, даже представления не имею.
«Ну, гусь! – невольно подумал Гиацинтов, слушая младшего Скорнякова. – Как еще отец тебя самого не пришиб!»
– Вы можете их описать? Как они выглядят, как одеты? – спросил Речицкий.
– А зачем их описывать? – удивился Гордей. – Если надо, я их нарисовать могу.
– Иди, рисуй! – приказал Гордей Гордеевич, а когда сын вышел, пояснил: – Все просил, чтобы на художника его учиться отправил, а я в коммерцию пихал, вот и запихнул… Теперь вот караулю его, чтобы не сбежал, да жду, когда полиция нагрянет. Пойти бы самому заявить, да ноги не идут – родная кровь все-таки…
И сник гордый, уверенный в себе Гордей Гордеевич Скорняков, словно подстреленный. А может, и в самом деле – подстреленный. Такое горе, как пуля – навылет. Сжал свои огромные кулаки, задумался.
Гиацинтов и Речицкий тоже молчали, невольно сопереживая Скорнякову, который так деятельно взялся им помогать. Неожиданно он встрепенулся, разжал кулаки и предложил:
– Может, отобедаете? Время за полдень…
Переглянувшись, Гиацинтов и Речицкий отказались – не до обеда им было, они с нетерпением ждали Гордея. Что он принесет?
Принес младший Скорняков три листа плотной бумаги, положил их на стол и отошел в сторону, по-прежнему ссутулившись. Рисунки были выполнены карандашом, и не без таланта – даже взгляды и характеры проскальзывали в изображенных лицах. Но Гиацинтова и Речицкого художественные дарования Гордея не интересовали – одновременно привстав со стульев, они так же одновременно схватили лист, на котором был нарисован Забелин. И хотя теперь его украшала бородка, без всякого сомнения, это был именно он.
– Признали, значит. – Гордей Гордеевич тоже поднялся со своего стула. – покажите мне. – Вгляделся и удивленно покачал головой: – А на рожу – приличный человек! Ну вот, господа, чем мог, тем помог. А дальше уж сами думайте, если тяжко станет – приходите. Двери у меня не закрыты.
Прямо от Скорнякова, забрав бумажные листы, Гиацинтов и Речицкий направились в номера Сигизмундова, хотя особо не надеялись, что им повезет. Так и оказалось. Господа Кулинич и Целиковский из номеров съехали, а куда и в каком направлении – неизвестно. Дом на улице Обдорской был закрыт на большой амбарный замок.
– Может, посидеть здесь, в засаде, – предложил Гиацинтов, – вдруг вернутся?
– Нет, не вернутся, – возразил Речицкий, – они сейчас постараются затеряться. Искать их – дело долгое. У меня другой план – надо завтра же ехать в Покровку, найти этого мужика из ящика, уверен, что именно он и является предсказателем, а дальше будем действовать по обстановке.
– И под каким видом мы там появимся, в Покровке? Это же деревня, каждый человек на виду. И вдруг – два неизвестных господина.
– А вот по этому поводу нам придется еще раз нанести визит Гордею Гордеевичу, он подскажет, может, и рекомендацией снабдит. Но ехать в Покровку надо не двоим, а одному. Здесь, в городе, должен кто-то остаться, чтобы заняться поисками так называемых Кулинича и Целиковского, а также их спутницы Кармен.
– Забелина буду искать я! – твердым голосом, не допускающим возражений, сказал Гиацинтов.
– Как вам угодно, Владимир Игнатьевич, – добродушно согласился Речицкий, понимая прекрасно, что искать его напарник будет не только Забелина, но и следы Вари Нагорной.
4
«Милый мой, любимый Владимир!
Спешу сообщить тебе очень радостную новость – на прошлой неделе я со своими ребятками отпраздновала новоселье. Матвей Петрович, о котором я тебе уже писала, сдержал слово, и теперь в моей школке появилась вторая комната. Светлая, просторная, с новым полом, который совсем не скрипит. Правда, покраску его придется отложить на лето, но это уже сущая мелочь. А еще в комнате поставили печь, их теперь у нас две; а от топки печей меня освободили, потому что Семен и Петя, два неразлучных товарища, два хозяйственных мужичка, взяли на себя такую обязанность: приходят раньше всех и топят печи. К началу занятий у нас уже тепло и уютно.
А сбоку второй комнаты мне отгородили маленький уголок, и я в ближайшие дни переберусь в него на жительство. Я уже и вещи сюда перенесла, осталось только разобрать их и расставить. Все вечера провожу теперь в школе, а к хозяевам своим часто возвращаюсь лишь на ночлег, и хозяйка моя, Анфиса Ивановна, очень за это на меня обижается и жалеет, что я их скоро покину, но я обещалась, что буду приходить в гости как можно чаще, и она, кажется, успокоилась. Никак не желает понять добрая женщина, что мне сейчас больше всего хочется побыть одной или с ребятами, которые приходят ко мне, как они говорят, вечеровать.
С девочками мы сделали хвойные гирлянды, развесили их по стенам, веточки после мороза оттаяли, и запах у нас стоит, как будто наступило Рождество, к которому мы уже начали готовиться. Проводим спевки, и мои ребятки поют очень старательно и душевно. Когда я слышу их чистые, звонкие голоса, мне всякий раз кажется, что ангелы парят где-то над нами и подпевают – так светло на душе!
А больше всего меня удивила на днях и порадовала Нюрочка. Она совсем маленькая, будто сказочная Крошечка-хаврошечка, и до того легонькая, что однажды, в метель, ее прижало ветром к забору, а она стоит и с места сдвинуться не может. Теперь мать ей сшила мешочек заплечный и кладет в него, если ветрено, камень – с камнем Нюрочку с дороги не сдувает. И вот глядела она в окно, когда мы праздновали новоселье, и вдруг тоненьким, нежным голоском говорит:
Ах, идет снежок, снежочек, Попрыгивает, поскакивает, На птичку поглядывает. Птички полетывают, Птички попискивают На нашем дому.Спрашиваю:
– Кто тебя этому научил?
– Да никто. Я в окно смотрю, все это вижу и пою. Ты разве не видишь?
Я записала ее фантазию, потому что очень удивилась наблюдательности ребенка, да еще крестьянского.
А до новоселья был у меня неприятный разговор с дедушкой Артамоши. Пришел дедушка после занятий в школу – мрачный, суровый и обращается ко мне с такими словами:
– Неладно ты Артамошку учишь, ох, неладно.
– Как неладно? – удивилась я.
– Да так. Спрашиваю вечор у него: что тебе задано? А он мне читает задачу – все сотни да тыщи. Большие тыщи. К чему это нам, хрестьянам? Нам этих тыщей-то и во сне не видать никогда, не то что наяву. А тут он считает да записывает. Вот намедни учил он «Живый в помощи» – это дело, без этой молитвы в лес не пойдешь, а тыщи – не надо.
Долго разговаривала с дедушкой Артамоши, убеждая, что «тыщи» тоже нужны, но, кажется, не смогла убедить…
Вот так, дорогой Владимир, и складываются дни моей нынешней деревенской жизни – то солнышко светит, то тучки набегают, и лишь одно остается постоянным и неизменным – моя не проходящая тоска по тебе. Время ее не развеивает. И я рада, что происходит именно так, хотя звучит это странно и непонятно. Рада потому, что ты всегда со мной, чем бы я ни занималась и что бы ни делала. Иногда мне даже кажется, что ты стоишь за моей спиной, смотришь и улыбаешься. Знаю, понимаю, что это лишь кажется, но все равно оборачиваюсь и – пусто…»
Письмо в этот раз Варе дописать не удалось. В боковушку торопливо постучала Анфиса и позвала:
– Выйди, милочка, тут у нас оказия прибыла, а тяти нет. Василий Матвеевич тебя просит…
– Какая оказия?
– Да не знаю я, не поняла толком, ты выйди, сами скажут.
Варя убрала недописанное письмо на дно сундучка, вышла из боковушки и увидела, что за столом, напротив Василия Матвеевича, сидит молодой человек, одетый по-городскому, и озабоченно хмурится.
– Вот, Варвара Александровна, служилый человек к нам из Никольска пожаловал. Письмо привез от Скорнякова – это тятин знакомый. А сам тятя, как ты знаешь, в отъезде, по своим делам. А человеку помощь требуется…
Приезжий поднялся и представился:
– Вячеслав Борисович Речицкий, служащий Скобелевского комитета. Вот мое предписание, можете ознакомиться, – левой рукой он достал из кармана бумаги, протянул их Варе.
– Зачем? – удивилась она. – Я вам и так верю. Только не пойму – какую помощь могу оказать?
– Видите ли, мы делаем перепись разных населенных мест губернии, чтобы составить затем сводные статистические данные. А помощь мне нужна для того, чтобы производить необходимые записи. Сам я буду писать очень долго, – он приподнял и показал протез, – вот и прошу, чтобы вы помогли. По какой форме записи делать, я вам расскажу, там очень просто – количество душ в семье, пахотная земля, строения, живность, инвентарь… Уж не откажите в любезности…
– Но я смогу только после обеда, до обеда у меня уроки в школе.
– Значит, после обеда. Если разрешите, я за вами в школу зайду, и, простите, как к вам обращаться?
– Варвара Александровна Нагорная, учительница местной церковно-приходской школы.
Все-таки военная выдержка, приобретенная еще с юнкерских времен, никогда не изменяла Речицкому. Он даже вида не подал, услышав имя-отчество и фамилию учительницы. Поблагодарил за понимание и ушел вместе с Василием Матвеевичем, который повел его определяться на постой.
На следующий день, после обеда, Речицкий подходил к школе, а навстречу ему, с криками и гомоном, бежали ребятишки; увидев его, внезапно останавливались, здоровались приветливо, с любопытством разглядывали незнакомого человека. Он смотрел на веселые детские лица, разрумяненные полуденным морозцем, и сам улыбался, едва сдерживая себя, чтобы не побежать следом, ни о чем не думая, не тревожась, а только радуясь скрипучему снегу и яркому свету.
Невысокое крыльцо было тщательно выметено, в уголке стояли два веника из березовых веток – для того, чтобы обметать снег с валенок, догадался Речицкий. Взял один из них, обмел налипший снег и потянул на себя легко распахнувшуюся дверь.
Варвара Александровна сидела за столом, на котором стопкой лежали тетрадки, и задумчиво смотрела в окно, рассеянно перелистывая страницы раскрытой книги. Белый воротничок темно-синего платья подчеркивал прямо-таки лебединый изгиб шеи, а лицо, озаренное солнечным светом из окна, излучало такую печаль и нежность, что Речицкий, замерев на пороге, невольно залюбовался. Затем осторожно постучал в косяк и спросил:
– Разрешите войти?
– Да-да, проходите. Простите, не заметила, как вы вошли. Присаживайтесь, Вячеслав Борисович, и рассказывайте, что я должна делать.
Речицкий положил на стол черный портфельчик, вытащил из него толстую амбарную книгу в крепком дерматиновом переплете и открыл ее наугад, чтобы видны были четко расчерченные графы:
– Особо и рассказывать-то нечего, Варвара Александровна. Я буду беседовать с хозяином, а вы, с его слов, записывать. Одна графа – как зовут-величают и какого вероисповедания, вторая – сколько десятин земли имеет, третья – какой живностью владеет, а четвертая – наличие жилья и инвентаря.
– Нам что, всю деревню обойти придется?
– Конечно, и желательно зайти в каждый дом, чтобы иметь совершенно точную, общую картину. Понимаю, что доставил вам излишние хлопоты…
– Да не извиняйтесь вы, Вячеслав Борисович, я же согласилась, мне это совсем не трудно.
И она так мило улыбнулась, что Речицкий невольно подумал: «Да, Владимир Игнатьевич, понять вас можно. Больше мне и сказать нечего». Вслух же произнес:
– Карандаши в портфеле. Если не возражаете, Варвара Александровна, может, прямо сейчас и пойдем…
– Хорошо, идемте.
Снова она улыбнулась, и Речицкий едва-едва удержался – так ему захотелось сообщить Варе, что Гиацинтов жив и что он разыскивает ее, так захотелось сделать эту девушку счастливой… Но он жестко пресек внезапно вспыхнувшее желание: «Рано, рано еще, не следует торопиться, и лирическим настроениям не поддаваться, господин поручик».
5
Письмо было написано карандашом, на мятой, в несколько раз сложенной, бумажке. Иона украдкой сунул его Варе и убежал. Она развернула листок, начала читать и рассмеялась, а затем, когда дочитала, внезапно расплакалась.
«Здравствуйте, дорогая наша учительница Варвара Александровна! Не гневайтесь вы на нас за наше письмо, а больше мы терпеть не можем, тяжело нашему сердцу. Завелся в деревне у нас неприятель, барин этот приезжий. Мы его страсть не любим за то, что вы с ним ходите по деревне, а вечерами он у вас сидит, и вы нас давно уже не стали звать вечеровать к себе. А тут еще гулять ходили с ним, мы вас сами видели, своими глазами, третьего дня вы с ним ходили. Я уже спать хотел ложиться, ко мне прибежали вечером Алексей и Киприан, говорят, что сами видели, как вы с ним рядышком прошли. Я скорее обулся, без шапки побежал, все мы трое встали за угол, а вы уж больше не пошли с ним, он один от школы прошел. Мы хотели глызами в него пустить хорошенько, живо бы отвадился к вам ходить, да вас побоялись. Его Бог накажет за это. Вы перестали звать нас вечеровать, и все из-за него, грех ему будет за это. А тятя Киприана говорил, что рука у него из конской кожи сшитая, только краской покрашена. Мы думали, что вы нас любите, а вы уже не любите больше нас, вы барина любите. Ради Христа, не ходите вы с ним гулять, в школу нашу тоже его не пускайте. Мы писали это письмо и все трое плакали, жалко нам, что вы нас не любите уже. Задачки мы решили, а стих потому не выучили, что сговорились вам письмо писать. Вы, поди, шибко на нас осердитесь – боимся, страсть как. Писал Иона дома в горнице, и Алексей с Киприаном тут же были. Письмо это вам от всех троих».
Варя вытерла слезы ладонью, сложила письмо по сгибам и долго сидела за столом. Думала: «Милые, родные мои ребятки! Какие же вы чуткие, как чисты и не испорчены ваши души! Зря вы беспокоитесь, конечно же, я буду любить вас по-прежнему, вы для меня самые близкие люди… А вечеровать… Сегодня же и вечеровать будем!»
За несколько дней Варя с Речицким обошли почти всю Покровку, не дошли лишь до дальней улицы, где стояли с десяток домов. Сегодняшним днем, после обеда, они намеревались побывать и там. Когда Речицкий пришел в школу и они отправились на дальнюю улицу, Варя по дороге рассказала ему о письме и сообщила, как о деле решенном, что встречаться им больше не надо.
– Я все понимаю, Варвара Александровна, – Речицкий был серьезен и слушал ее очень внимательно, – только у меня одна просьба – разрешите повечеровать с вашими воспитанниками, глядишь, мы и подружимся.
– Нет, Вячеслав Борисович, не нужно. Я так решила, и так будет.
– Жаль, жаль, очень бы мне хотелось посмотреть на ваших маленьких рыцарей, наверное, хорошие ребята?
– Чудные! – выдохнула Варя.
«Как же вы прощаться-то с ними будете, Варвара Александровна? А прощаться придется. Владимир Игнатьевич, как только узнает, сразу сюда примчится. Да-с, господин поручик, пожалуй, единственное, что вас извиняет, что вы Варю здесь обнаружили. Во всем остальном – полная дыра!»
Действительно, во всем остальном у Речицкого была полная неудача. Ничего ему выяснить не удалось, и затеянная им для отвода глаз перепись пропадала, как бесполезный труд. Оставалось лишь одно – ждать возвращения деревенского старосты Матвея Петровича и его внука. Где они находятся, никто из домашних не знал и особого беспокойства по этому поводу не проявляли. Так у них заведено, рассказывала Варя, отвечая на его расспросы; Матвей Петрович – сам себе хозяин и, если не считает нужным, ни с кем советоваться не станет.
Вот и дальняя улица, заметенная сугробами, крайние дома упираются в развесистые березы, опушенные снегом. И вдруг из-за этих берез появилась странная фигура – полусогнутая, она двигалась широким, скользящим шагом. Лишь приглядевшись, Речицкий понял, что человек идет на лыжах. Вот он поравнялся с ними, и ясно увиделось, что это молодая женщина. Пуховый платок закуржавел от дыхания, щеки горели ярким румянцем, а красивые глаза смотрели неуступчиво и сердито. Речицкий невольно отступил с тропинки, освобождая дорогу, но женщина внезапно остановилась, сняла рукавицу и ладонью провела по лицу, будто хотела стереть со щек густой румянец. Неожиданно улыбнулась и даже голову наклонила в приветствии:
– Добрый день вам. Извиняйте, барин, не ведаю вашего имя-отчества, а разговор к вам имею, как к человеку казенному. Можете меня выслушать, только с глазу на глаз.
Речицкий пожал плечами, взглянул на Варю и отошел в сторону. Женщина переставила широкие самодельные лыжи, придвинулась к нему едва не вплотную и шепотом заговорила, сбиваясь и торопясь:
– Староста здешний, Черепанов Матвей Петрович, вместе с внуком своим, Гриней, человека прячут на покосной избушке. Не знаю, кто он такой, но кажется – каторжный. Доложить бы по властям надо, вы к властям ближе, вот и доложите…
– А чего же сами уряднику не сообщите?
– Потому что нельзя мне. А почему – не спрашивайте, барин. Не скажу. Так будете сообщать или нет?
– Я же ничего не видел, не знаю, что я могу сообщить?
– Ну так пойдем завтра – покажу. Сам увидишь. Я и лыжи тебе дам. Не забоишься?
– Где тебя найти?
– Да вот здесь и найдешь, за березами. Утром завтра, как светать начнет, приходи.
И, не дожидаясь ответа или согласия, она двинулась широким шагом, резко передвигая лыжи и оставляя за собой прямой, ровный след.
Совершенно озадаченный, он вернулся к Варе, которая, отойдя в сторону, стояла в отдалении. Сразу спросил:
– Вы не знаете, Варвара Александровна, кто эта женщина?
– Видела один раз, когда она к Черепановым приходила. Тут, знаете ли, любовная история. Она, видимо, нежные чувства к Григорию испытывает, а он, как это бывает, равнодушен к ней. Зовут ее Дарья, а живет она на Пашенном выселке, сюда в гости приезжает, к тетке. Впрочем, больше я ничего не знаю и не любопытствовала. Привычки такой не имею – любопытствовать.
И, словно в подтверждение этих слов, она пошла дальше по тропинке, даже не спросив Речицкого – по какой причине Дарья остановила его и о чем говорила?
«Ни в уме, ни в такте вам не откажешь, Варвара Александровна!» – Речицкий поспешал за ней следом и удивлялся.
В этот раз они обошли все восемь домов на крайней улице и вечером, в сумерках уже, расстались, пожелав друг другу спокойной ночи. Речицкий предлагал проводить Варю до школы, но она отказалась. Мягко, но твердо:
– Спасибо, Вячеслав Борисович. Не нужно…
6
Утром следующего дня, едва лишь народился рассвет, Речицкий уже спешил по крайней улице к березам, веря и не веря в то, что говорила ему накануне Дарья, но больше всего волновался по иному поводу – нет ли в этом подвоха? Однако выхода у него не было и оставалось лишь рисковать.
Откуда он мог знать, что кинулась Дарья к незнакомому человеку из-за простого отчаяния. Ничего она не могла придумать, чтобы отомстить Грине за его остуду, за унижение, которое измучило ее хуже неизлечимой болезни, съедало бессонницей длинные ночи и выливалось злыми слезами на подушку. Вот же, вчера еще вился возле нее кругами покровский красавец, добивался симпатии, даже кулаков пашенских парней не боялся. И – как сглазили. Обнял-расцеловал да и убежал, словно от прокаженной, не сказав ни словечка, даже не обругав напоследок. Мало того что убежал, еще и исчез, как в воду канул.
Ну уж нет! Обиженная гордыня никак не желала смириться. Дарья, отпросившись у родителей, снова приехала к тетке в Покровку, высматривала, расспрашивала осторожно и все-таки подкараулила Гриню, когда он на исходе дня выезжал из деревни. Увидела, кинулась к саням, закричала, чтобы остановился, но Гриня только лошадь подстегнул да рожу свою бесстыжую отвернул в сторону – будто не признал вовсе. Долго еще Дарья бежала следом, пока не задохнулась. Но успела разглядеть – не через Обь поехал Гриня по накатанной дороге, по которой за сеном ездили, а свернул в сторону, на одиночный санный след. Значит, на старые покосы направился, больше в той стороне ехать было некуда.
На следующий день Дарья встала на лыжи и добралась по санному следу до избушки на старых покосах. Там и выследила Гриню, Матвея Петровича и незнакомого мужика, который ходил кругами возле избушки и бормотал что-то непонятное, пугая страшным взглядом диковатых глаз. Этот самый мужик и остановил Дарью – не осмелилась она двинуться дальше кустов, за которыми таилась, завернула лыжи и отправилась в обратный путь, кусая от бессилия красивые, яркие губы. Время от времени бормотала:
– Погоди, Гриня, погоди, достану я тебя, так достану, что все мои слезы тебе отольются!
Грозилась, а сама понимала: ничего она придумать не может, чтобы достать Гриню и отомстить ему. Билась, словно рыба об лед, а ни одной дельной мысли в голову не приходило. И вдруг увидела, войдя в деревню, учительницу с городским барином. Она их день назад разглядела мельком из окна, когда они проходили по улице, а тетка рассказывала, что записывают они все деревенские хозяйства на бумагу и будут после ту бумагу подавать в губернию. И вот увидела их на крайней улице, вспомнила теткин рассказ и – как искра чиркнула. Даже не раздумывала ни капли, отзывая барина в сторону и рассказывая ему про Матвея Петровича, про Гриню и про мужика, похожего на каторжника. После уже, ночью, испугалась – а вдруг барин и на нее заявит, не зря же спросил, почему она сама не пойдет к уряднику. Невдомек ему, что к уряднику пойти – все равно, что через саму себя перешагнуть, ведь тогда всей деревне известно станет, как она Гриню выследила и какое наказание для него исхитрилась изладить.
В тревоге стояла она утром возле берез, ждала городского барина, мелькнула даже мысль – уйти от греха подальше, а если что – отбрешется, скажет, что пошутила… Но продолжала стоять, а когда Речицкий пришел, она с облегчением вздохнула, будто груз с души свалился: на попятную идти поздно, а сомнения сменились отчаянной решимостью.
Подала ему лыжи, помогла управиться с сыромятными ремнями и коротко бросила ему, выбираясь на вчерашнюю лыжню, свежую, еще не припорошенную снегом:
– Не отставай, барин.
Изо всех сил старался Речицкий, чтобы не отстать, хотя попотеть ему пришлось изрядно – на лыжах он никогда не ходил. Но отдыха просить не стал и дотянул до самых дальних покосов. Там, присев возле кустов ветельника, за которыми уже виднелась серая избушка с плоской, покатой крышей, он позволил себе отдышаться и, стащив шапку с головы, остудил голову под легким морозцем. Дарья стояла рядом, тоже отдыхиваясь, ничего не говорила, но взглядом безмолвно спрашивала – что дальше будешь делать, барин? И Речицкий ответил:
– Теперь, красавица, ступай домой и никому ни единого слова не смей рассказывать, что ты здесь была. Дальше я сам разберусь. Поняла меня?
– Чего же не понять! Только уж разберись, барин, хорошенько разберись! Лыжи после возле березы оставишь, мне их вернуть надо. – Дарья еще постояла возле него, отдыхая, и ушла по старому следу – беззвучно.
Речицкий дождался, когда она скроется за тополями, наступавшими на старый покос, поднялся и побрел по снежному целику прямо к избушке – не таясь, в открытую, в полный рост. Никакого плана действий у него было, да он и не стал бы его придумывать, потому что прекрасно понимал: военные хитрости в таком деле – сущая глупость. Надеялся совсем на иное.
Вот и избушка. Он обогнул ее, ступил на расчищенную дорожку, но низенькая скрипучая дверь в этот момент распахнулась настежь, и возник в темном проеме Гриня. Вышагнул на свет, ловко вскинул старенькую берданку и сурово остановил:
– Стой, дальше не ходи! Кто такой? Чего надо?
Речицкий остановился, как было приказано, и поздоровался:
– Добрый день, Григорий. Привез тебе привет от Савелия, а Матвею Петровичу – поклон от Скорнякова. Дозволишь в избушку пройти? Там все и расскажу. Или деда сюда позови. Оружия при мне – один револьвер, вот… – Он осторожно достал револьвер из кармана и так же осторожно положил его на расчищенную дорожку. – Дозволишь?
– Стой, где стоишь! – приказал Гриня и, не поворачивая головы, позвал: – Дед, выйди сюда. Послушай, чего говорит.
За спиной у него возник Матвей Петрович, властно отодвинул внука в сторону, спустился с низкого, в две ступеньки, порожка и медленно, но небоязливо подошел к Речицкому. Оглядел его, прищуривая глаза под седыми бровями, и по-свойски предложил:
– Рассказывай – какая нужда привела?
– Может, в избушку пройдем, Матвей Петрович, присядем, поговорим. В ногах правды нет, а когда под ружьем стоишь…
– Вроде бы не пугливый. Или уж так притомился, пока добирался? Кто дорогу указал?
– Да есть одна особа. Но вам ее бояться не надо, у нее другой интерес – любовный.
– Значит, Дашка. – Матвей Петрович обернулся к Грине, покачал головой. – Говорил я тебе – развяжись с лахудрой! Ладно… Ну, проходи, гость незваный, присаживайся.
Матвей Петрович первым вошел в избушку, Речицкий – за ним. Гриня, не закрывая дверь, остался стоять на пороге и берданку из рук не выпустил, лишь ствол опустил.
Первым делом, оказавшись в тесной избушке, Речицкий быстро огляделся. Увидел ящик, о котором рассказывал Савелий, но сразу же увидел и другое – никакого странного мужика здесь не было.
«Может, в ящик успели запихнуть?»
– Еще кого-то, кроме нас, ищешь? – спросил Матвей Петрович.
– Ищу, – честно ответил Речицкий, окончательно решив для себя, что в прятки играть и тень наводить на плетень не следует. Говорить нужно прямо и открыто, точно так же, как он шел, не таясь, к избушке. Старика не перехитришь, а с Гриней, не выпускающим из рук берданку, лучше не шутить. Дед кивнет, и внук прихлопнет чужого человека, как муху. После закопает в снегу, подальше от избушки, и никто никогда не найдет останков, источенных полевыми мышами в прах.
Была не была…
И дальше Речицкий, передав поклон и вручив записку от Скорнякова, поведал о том, что в скором времени, вполне возможно, появятся в Покровке другие люди, которым необходимо найти странного мужика, ненароком привезенного Гриней в зеленом ящике. Люди эти церемониться не будут и перед душегубством не остановятся, поэтому самый разумный выход для Матвея Петровича – довериться ему, Речицкому, и вместе подумать, как оберечься…
Слушал его Матвей Петрович, хмурил седые брови. Молчал. Думал. А когда выслушал, сказал, как о деле решенном:
– Давай, дружок, так договоримся… Ты сейчас в деревню обратным ходом отправишься и будешь там меня дожидаться, когда я вернусь.
– И чего мне ждать, Матвей Петрович?
– А вот вернусь, тогда и узнаешь. Такой у меня ответ. Другого не будет.
И так твердо сказал это, что Речицкий понял – дальше разговор продолжать бессмысленно. Пора было прощаться.
Револьвер, вытащенный им из кармана, чернел на прежнем месте, на расчищенной дорожке. Он остановился возле него, оглянулся.
– Забирай, – разрешил Гриня, продолжая стоять на пороге избушки, – только иди и не оглядывайся.
«Иду и не оглядываюсь», – повторял Речицкий, стараясь попадать в свои старые следы, продавленные в глубоком снегу.
7
Старая печурка потрескалась, время от времени вылетали из щелей сизые дымки, и в избушке стоял горьковатый запах.
– Дед, может, глины сходить надолбить да обмазать печку, – предложил Гриня, изнывавший от безделья, – а то дымит и дымит…
– Невеликие господа, принюхаетесь, – неохотно отозвался Матвей Петрович, недовольный, что Гриня его потревожил, – да и сидеть нам тут осталось недолго, скоро домой отправимся.
– Когда? – оживился Гриня и даже с лавки привстал.
– Ты сегодня поедешь, вот прямо сейчас подпоясывайся и ступай.
– Боюсь я, дед, тебя оставлять! В прошлый раз уезжал, так извелся весь. Проснусь среди ночи и думаю – как ты здесь?
– Ночью, пожалуй, ты больше про Дашку думал, а не про меня. Ящик-то открой, выпусти малахольного.
Гриня послушно открыл зеленый ящик, стоявший в углу, и оттуда высунулась всклокоченная голова Феодосия. Он долгим взглядом обвел деда и внука, поднял глаза в потолок, неожиданно хихикнул и легко, проворно выскочил на волю, притопнул ногами по щелястому полу, словно собирался пуститься в пляс.
– Эк его бесы-то разбирают, – покачал головой Матвей Петрович, – так и не сидится ему на одном месте, все норовит коленце выкинуть.
Феодосий продолжал хихикать и перебирал ногами, будто на углях топтался. Приговаривал:
– Ручки связаны, личико побито, и никуда не убежишь. Далеко-о-о повезут!
– Он чего бормочет, дед? Может, по шее дать?
– Да не трогай ты его, пусть бормочет. Не в себе человек, без разума, какой с него спрос. В деревне поглядывай – чужие люди появятся или нет. За мной через три дня приедешь.
– Боюсь я, дед…
– Ты, как баба, Гриня, заладил одно и то же – боюсь да боюсь. Езжай – кому сказал!
Гриня уехал.
Скрипнули полозья саней за стенами избушки, коротко всхрапнул конь, в печке громко стрельнуло сырое полено. Матвей Петрович прислушался к тишине, которая установилась, и поднялся со своей чурочки, на которой сидел, погрозил пальцем Феодосию:
– Не балуй!
И вышел на улицу встречать Марию.
Он всегда угадывал, когда она шла к нему, всегда чувствовал – вот уже, совсем рядом. И всегда его охватывало необъяснимое волнение и одновременно – радость. Спокойнее, легче дышалось и шагалось веселее, будто кто поддерживал заботливо под руку и всегда был готов поддержать, если оступишься. Во всех делах и заботах, да и в самой жизни, своей и деревенской, ощущал Матвей Петрович невидимое, но постоянное присутствие Марии, иногда даже казалось, что она ходит у него за спиной, подсказывает и охраняет. И вот впервые за эти годы обратилась к нему за помощью, объяснила, не таясь: черные люди стремятся подобраться к ней, задумывая черные замыслы. Он все выполнил. И Гриню с газеткой отправил в город, и в деревне приглядывал – не появятся ли чужаки; и сейчас, вот уже в последние дни, исполнял ее просьбу. А просила Мария подержать еще несколько дней Феодосия в избушке, присмотреть за ним, не давая никуда отлучаться, и, когда она просила об этом, сказала со вздохом:
– Может, и отмолю его, может, душой вновь как Андрейка станет…
Историю Феодосия, пересказанную ему Марией, правда, не в подробностях, Матвей Петрович к тому времени уже знал и сказал, не раздумывая, коротко и ясно:
– Черного кобеля не отмоешь добела.
Мария укоризненно посмотрела на него, чуть качнула головой, но промолчала. И лишь спустя некоторое время спросила:
– Так уважишь мою просьбу, Матвей Петрович? Подержишь Феодосия при себе?
– Какие разговоры могут быть, – отвечал Матвей Петрович, – подержу, конечно. Не на шее же он у меня сидит…
Согласно этому обещанию, данному Марии, он и томился в избушке безвылазно, приглядывая за малахольным мужиком, отмахивался от Грини, который лез с расспросами, а сегодня отправил в деревню нежданного городского гостя, хотя и поверил ему. Ни с чем отправил, не сказав ясного слова, решив для себя так: если надо – пусть ждет.
Не знал он, что ему сейчас делать. Поэтому и ждал с нетерпением Марию, надеясь, что она подскажет ему верный выход.
Она вышла из-за тополей, как всегда, неспешно и плавно. Следом за ней послушно шагал белый конь. Вот они миновали широкую поляну и неслышно приблизились к избушке.
– Здравствуй, Матвей Петрович, – зазвучал протяжный напевный голос.
Он с радостью отозвался:
– И тебе, Мария, мое почтение.
– Знаю, что ждал, да не могла я раньше появиться, прости. Спрашивай…
Матвей Петрович коротко пересказал последние события и спросил: что ему дальше делать?
– Просьба моя прежней остается, пригляди еще за Феодосием. Не знаю, какое время потребуется, все-таки надеюсь я…
На этот раз про черного кобеля, которого добела отмыть невозможно, Матвей Петрович не вспомнил. Лишь кивнул головой безмолвно, давая понять, что просьбу он, конечно, исполнит.
– Спаси тебя Бог, – Мария поклонилась, – а теперь дозволь взглянуть на него…
Молча открыл Матвей Петрович дверь избушки, пропустил Марию, а сам продолжал стоять на крылечке, решив, что третий будет лишним. Но дверь не закрывал.
Мария вошла, остановилась напротив Феодосия, и тот сразу же перестал хихикать, перестал перебирать ногами, затих, опустив голову, сжался, будто усох, и маленькими, неслышными шажками допятился до чурки, сел. Мария подошла к нему еще ближе, положила руку на голову, сказала:
– Вспомни свой путь, он ведь перед тобой лежал – прямой, ровный…
Не стал Матвей Петрович слушать, что она скажет дальше и что ответит ей Феодосий. Твердой рукой закрыл дверь и даже с крылечка спустился. Топтал снег в отдалении от избушки, ждал, когда закончится разговор.
Закончился он не скоро. И закончился, похоже, плохо, потому что Мария, выйдя на улицу, вздохнула горестно и перекрестилась. Взяла коня под уздцы, повела его за собой, но на ходу обернулась и еще раз попросила:
– Пригляди за ним.
Долго стоял Матвей Петрович, глядя ей вслед, до тех пор, пока не исчезла она вместе с конем за тополями и не растворилась бесследно в белом снежном пространстве. Стоял, пока не продрог. Когда он вернулся в избушку, Феодосий встретил его прежним хихиканьем и приплясываньем, бормотал:
– Ручки связаны, личико побито, и никуда не убежишь. Далеко-о повезут…
Хихикая и приплясывая, он, видимо, ждал, что Матвей Петрович заговорит с ним, спросит, о чем он бормочет. Но старик лишь смотрел на него, прищурившись, и усмехался.
8
Яркие, морозные дни с блескучим солнцем сменились затяжной метелью, и Никольск накрыла белесая мгла. На улицах наметало сугробы. Конские копыта, полозья саней и ноги прохожих не успевали их притаптывать и прикатывать, и всем приходилось передвигаться в уброд. Чертыхаясь, добирался до постоялого двора на городской окраине и Гиацинтов, который не смог найти извозчика – все они по такой погоде были нарасхват и, пользуясь случаем, заламывали неслыханные цены. Наклонив голову, прикрывая лицо воротником пальто, он одолел, наконец-то, последний сугроб, выбрался на расчищенную дорожку, которая вела мимо коновязи к приземистому, будто приплюснутому, постоялому двору, где возле крыльца одиноко горел тусклый фонарь. «Ну, если и здесь фортуна не улыбнется, придется придумывать нечто новое. Придумаем. Не могли же они бесследно кануть!» – в последние дни Гиацинтова не покидала уверенность, хотя все его поиски были пока напрасными. Он обходил одну за другой городские гостиницы, заглядывал на постоялые дворы, говорил, что разыскивает своих знакомых, чьи фамилии Целиковский и Кулинич, рассказывал, как они выглядят, но везде получал один ответ: таких здесь не было и в настоящее время не проживают. Захудалый постоялый двор, до которого он сейчас добрался, был последним в списке, который выдали ему в Никольской справочной конторе. Он постоял возле фонаря и толкнулся в низкие двери, обитые толстой кошмой.
За шатким столиком, поставленным прямо у входа, сидел дедок, явно пьяненький, и резал большим ножом толстый шмат сала, весело приговаривая:
– Бегала свинюшка-поросюшка, закололи бедолагу, а радости для пуза невиданно – вот она как, жизнь, устроена. Чудно!
Гиацинтов поздоровался, дедок вскинул на него голубенькие, совсем не выцветшие глаза и еще раз удивился:
– Чудно!
– Я к вам с просьбой, уважаемый, – начал Гиацинтов, – не смогли бы помочь мне…
– Нет, не могу! – и дедок отрезал широкий ломоть сала.
– Чего же так сразу – с места в карьер?
– А потому, милый мой человек, что у меня мозги сухие, а когда они сухие – не шевелятся. Водочкой бы их окропить!
– Где же я водки найду? Час-то поздний! Да и не знаю, где лавка здесь, приезжий я!
– Тогда денежкой пособи, а водку я сам добуду.
Пришлось Гиацинтову залезать в свой кошелек. Дедок, получив деньги, вскочил из-за столика и шустро, по-молодому убежал в глубину темного коридора. Вернулся довольно быстро и со шкаликом. Пригубил из горлышка, пожевал сала и снова вскинул голубенькие глаза:
– Слушаю!
Стараясь говорить ясно и коротко, Гиацинтов изложил суть своей просьбы. Дедок хмыкнул, пригубил из шкалика, зажевал салом и огорченно покачал головой:
– И всего делов-то?! А я наделся на второй шкалик выпросить. Ладно, подскажу. Если в гостиницах и на постоялых дворах нет, значит, где они могут быть? Только в веселом доме у господина Коновалова! У него, значит, дом-то наполовину поделен, на два входа. Над одним входом, значит, фонарик горит красненький, а второй – для особой публики, которая, значит, не желает, чтобы их видели. Без всякого документа проживают, под честное слово, ну, и денежки, значит, платят хорошие. Прямиком туда и ступай, только имей в виду – шкаликом там не отделаешься, там народ молчаливый. Могут и голову прошибить, если шибко спрашивать будешь…
«Черт возьми! А ведь, действительно, прекрасный вариант – укрыться в тайном притоне! Кто туда доберется?» – Гиацинтов повеселел, и дедок получил из его кошелька дополнительную денежку – на второй шкалик.
Веселый дом господина Коновалова он отыскал довольно быстро – дедок, счастливый от неожиданно свалившегося заработка, толково объяснил, как добраться. Двухэтажный каменный особнячок, поделенный на два входа, стоял в глубине улицы, скрываясь за красивыми елями, высаженными вдоль тротуара ровным рядом. Над одним из входов горел красный фонарь, второй ничем не освещался и темнел большим железным навесом над маленьким крыльцом, как зев пещеры. В окнах горел свет, но сами окна были плотно зашторены. Не торопясь приближаться к дому, Гиацинтов сначала внимательно огляделся – война научила осторожности. Сразу заметил – особнячок поставлен хитро: перед входами довольно большое, открытое расстояние, и незаметно не подберешься. Глянут из окон и сразу увидят. Пожарная лестница на глухой стене начиналась высоко над землей – не допрыгнешь, и до чердака не доберешься. Да и чердак может быть наглухо закрыт на замок. «Фортификация, – усмехнулся Гиацинтов, – по всем правилам военной науки. А что, если явиться под видом обычного клиента? Приезжий человек, решил развлечься… Нет, не годится, лишняя канитель».
Пока он оглядывался, к особнячку подъехали две кошевки, одна за другой, но подъехали не к крыльцу, а остановились возле елей. Седоки, громко переговариваясь, до красного фонаря добрались своим ходом. Да, веселый дом, но живет с оглядкой и по своим правилам.
Как же в него проникнуть?
Ничего дельного Гиацинтов придумать не смог и вернулся в «Метрополь», а утром, прихватив с собой Федора, уже снова прохаживался возле особнячка – в отдалении. Федор, которому он объяснил, что нужно пробраться в дом и проверить – не проживает ли там Забелин? – прятал узкие глаза под лохматой шапкой и ничего не говорил, видно, и сказать ему было нечего. Вдруг встрепенулся:
– Володя, а Володя, слушай меня…
Вот уж воистину – все самое сложное решается очень просто.
Узкими своими глазами, лучше, чем в бинокль, Федор разглядел, что поверх сугроба, наметенного у глухой стены, виднеется, едва различимо, верхушка деревянной рамы. Яснее ясного – окно в подвал. А так как по зимнему времени оно было не нужно, снег от него даже и не откидывали.
Вечером, дождавшись темноты, они неслышно скользнули к глухой стене, стеклорезом, купленным на базаре, вырезали стекло, и Гиацинтов оказался в подвале, а Федор, зарывшись в сыпучий снег, остался на карауле.
В подвале властвовал густой, затхлый запах. Темно. Лишь маячила в отдалении тонкая полоска блеклого света. Гиацинтов осторожно, чтобы ничего не опрокинуть, двинулся к ней и скоро добрался до неплотно прикрытой двери. Она легко, без скрипа подалась, и он оказался на узкой деревянной лестнице, которая вела вверх. Поднялся, увидел начало широкого коридора, застеленного ковровой дорожкой. По правой стороне коридора – двери. Понятно, что это и есть номера. Гиацинтов стоял, укрывшись за пролетом лестницы, и не торопился – теперь любая оплошность могла закончиться очень плачевно. Не зря ведь предупреждал дедок, что люди здесь молчаливые, но решительные. Стоял он долго. Коридор был пуст. Гиацинтов, теряя терпение, уже собирался вышагнуть в него и даже руку сунул в карман пальто, чтобы взвести курок револьвера, но именно в это время дверь одного из номеров распахнулась и черноволосая женщина выскочила из него, вздымая над собой крепко сжатые кулачки. Она молчала, ничего не говорила, только взмахивала кулачками и тонкие ноздри трепетали – такая ярость была обозначена на лице, что показалось – если она сейчас закричит, то крик будет слышен не только в особнячке, но и за три квартала отсюда. Женщина, однако, не закричала, остановилась и глухо, едва различимо прошипела:
– Ш-шантрапа, мелкая ш-шантрапа!
Следом за ней, из того же номера, вышли двое мужчин, двинулись за ней следом и наперебой, на два голоса, принялись увещевать:
– Кармен, успокойся! Кармен, вернись!
Женщина на их голоса даже не обернулась, а когда они подошли к ней, снова прошипела:
– Ш-шантрапа! Шли бы лучше семечками торговать!
«На ловца и звери выбежали», – Гиацинтов, не вынимая руки из кармана, взвел курок револьвера. В одном из мужчин он сразу узнал Константина Забелина – даже отпущенная густая бородка не сбила с толку. Второй, без сомнения, был Целиковский, которого он запомнил по рисунку Гордея Скорнякова, – талантливый все-таки парень, зря отец не отпустил его учиться на художника.
– Ну, успокойся, Кармен, успокойся! Давай без истеричных сцен! – Целиковский попытался обнять ее, но она дернулась, отскочила, как дикая кошка, и кинулась обратно в номер. Целиковский – за ней, успев коротко, на ходу, бросить:
– Не ходи, я один, сам…
Забелин остался в коридоре, неторопливо повернулся спиной к проему, и Гиацинтов, спустив курок револьвера, бесшумно вышел из своего укрытия. Он умел и не один раз снимал вражеских часовых – мгновенно и без единого звука. Старые навыки не подвели – Забелин только и успел, что всхрапнуть носом. В подвале он замычал от боли, но Гиацинтов забил ему рот своей перчаткой, подтащил безвольное, обмякшее тело к окну, негромко позвал:
– Федор, принимай…
Был у него соблазн – вернуться за Целиковским, но вовремя осадил себя: два раза в одну воронку даже снаряд не падает. Сплюнул себе под ноги, морщась от мерзкого подвального запаха, и полез в окно, выбираясь на свежий, морозный воздух.
Метель в этот вечер наконец-то стихла, небо прояснило, и над Никольском важно всходила большая, круглая луна.
9
– Как ты думаешь, Федор, – бить его будем, пороть или сразу прикончим, чтобы не мучился? – Гиацинтов говорил, стараясь придать своему голосу насмешливый тон, но голос предательски рвался – дыхания не хватало от злобы, которая перехватывала горло.
Федор сидел на лавке, не снимая с головы лохматую шапку, прятал под ней свой взгляд и не отзывался, будто все, что происходило сейчас в маленькой каморке скорняковской мастерской, куда они только что привезли Забелина, не касалось его никаким боком. Сам Забелин, со связанными руками, с черной перчаткой, торчавшей изо рта, стоял, вжавшись в угол, и в глазах у него плескался страх, а колено правой ноги время от времени сильно вздрагивало, и казалось, что нога вот-вот подломится и он рухнет на пол. Но нет – держался. А скоро и колено перестало вздрагивать, и страх из глаз улетучился, видно, умел управлять своими чувствами. Гиацинтов шагнул к нему, резко выдернул изо рта перчатку, обильно смоченную слюной, брезгливо бросил ее себе под ноги. Спросил:
– Что, не ожидал явления покойников?
Забелин хлебнул широко раскрытым ртом воздуха, переводя дыхание, сглотнул слюну и лишь после этого отозвался почти спокойным голосом:
– Если честно признаться, не ожидал. Здравия желаю, господин Гиацинтов. Не скажу, что я очень рад тебя видеть, тем не менее… И сразу хочу предупредить – вляпался ты в очень поганую историю и еще не раз пожалеешь, что вляпался.
– Володя, а Володя, слушай меня, – Федор, словно проснувшись, поднялся с лавки и стащил с головы шапку, будто собирался поклониться, – давай его тут оставим. Окошко заколотим, дверь запрем, огонь разведем. Огонь – умный. В огне все худое сгорает, и он сгорит. Скажем, что из печки уголек выпал…
– Ну уж нет, чучело косоглазое! – властно перебил его Забелин. – Не спалите вы меня и не пристрелите, а беречь будете, как родного. Так ведь, Владимир Игнатьевич? Вам же интересно знать о судьбе Варвары Нагорной? Я могу кое-что рассказать. Но не сразу. А если бить вздумаете – я терпеливый.
– Не бойся, Федор погорячился, не будем мы тебя на огне поджаривать и бить не будем. Ты сам все расскажешь. И не только про Варю, но и про Целиковского, и про Кармен, а главное – о предсказателе вашем поведаешь. Рассказывать будешь, как на исповеди, – честно, обстоятельно и в подробностях.
– Я ничего не скажу! – вскрикнул Забелин и голосом выдал себя: ясно было, что не ожидал он услышать о Целиковском, Кармен и предсказателе.
– Скажешь, никуда не денешься. А если не скажешь… Мы с Федором оторвем половицы, выкопаем ямку поглубже и закопаем тебя. Был такой Забелин-Кулинич и – нет его. Сгинул! А половицы – на старое место и старыми гвоздями приколотим. Вот так может случиться… Ты, Забелин, подумай. Теперь воткни ему, Федор, перчатку в рот и ноги свяжи. Клади на пол, пусть отдыхает. А мы пойдем, время позднее, спать пора.
Федор молча и сноровисто исполнил приказание. Связанный по рукам и ногам, с перчаткой во рту, Забелин в отчаянии лишь стучал затылком в толстую половицу – больше он ничего не мог сделать. Гиацинтов по-хозяйски погасил лампу, освещавшую каморку, и, выйдя следом за Федором на улицу, закрыл длинным ключом висячий амбарный замок на двери. Подергал его, проверяя, и протянул ключ Федору:
– Покарауль пока, я к Скорнякову наведаюсь и вернусь.
Гордей Гордеевич в этот поздний час не спал. Сидел за своим большущим столом, закатав рукава у рубахи, словно не бумаги читал, а рубил дрова. Бумаги перед ним лежали разные и в большом количестве. Лежал устав общества мясной промышленности, над которым корпел он уже полгода, предлагая объединиться мелким промышленникам и построить в Никольске мясоконсервный завод – выгода, по его расчетам, была прямая, и промышленники, тоже умеющие считать, уже потянулись к нему, готовые участвовать в новом деле. Лежала местная газета с большущим заголовком – «Черная сотня добралась до живого мяса». Неизвестный писака, укрывшись за буквами П. Р., ругал Скорнякова всяческими словами и издевался над его идеей создания мясоконсервного завода. Лежало подметное письмо, без адреса и без подписи, и в нем были написаны такие слова: «Думаешь, не знаем мы, истинные патриоты, для чего ты общество это затеял? Знаем! Соберешь с русских людей деньги, а когда дело наладится, ты его жидам продашь! Знаем мы, что ты давно уже с ними снюхался и общий гешефт имеешь!» А еще лежали два письма из столицы, и в каждом из них было требование: присоединяй Никольское отделение к нашему, единственно верному и правильному Союзу, иначе будем мы считать тебя отступником…
Когда Гиацинтов вошел к нему в комнату, Гордей Гордеевич, словно продолжая горячий разговор, не удержался и вскрикнул, как вскрикивают, когда нечаянно роняют на ногу железную тяжесть:
– И что же мы за народ такой! А?! Собрались, верными речами разжалобили себя до слезы сердечной, решили общее дело делать… Все согласились, никаких супротивников посреди нас не было. И пошли ведь, как солдаты в строю ходят, в ногу. И дело начали делать, хоть и гавкали на нас со всех сторон. И шагали бы дальше… Ан нет! В каждой шеренге свой вождь объявился, а у каждого вождя своя правда, и только его правда истинная. А если ты с этой правдой не согласный, клеймо на лоб – жидам продался! Эх! – Скорняков шлепнул широченными ладонями по бумагам, лежавшим на столе, и спросил неожиданно, без всякого перехода: – Что, молчит гаврик?
– Молчит, – вздохнул Гиацинтов.
– Бить не пробовали?
– Пока нет.
– Вот и ладно. Голова у него целой должна быть, чтобы соображал яснее, как ему в живых остаться. Поехали, поглядеть я на него хочу.
Скоро они уже были в мастерской. Федора, на всякий случай, оставили на улице, в карауле, а Забелина, развязав ему веревки на ногах и вытащив перчатку изо рта, посадили на табуретку. Он отплевывался, с надсадой дышал, но глаза его с кровяными прожилками уже не метались, смотрели прямо и сосредоточенно. Чувствовалось, что страха у него не было.
– Какой сердитый! – непритворно удивился Скорняков. – Насквозь гляделками прожигает. А скажи мне, милый друг, почему ты согласился своего начальства ослушаться? Нехорошо поступаешь…
– У меня нет начальства, – хрипло отозвался Забелин.
– Да ты не торопись отнекиваться, не торопись… Я для начала, для ласковой беседы, сам тебе кой-чего поведаю. Ты послушай, торопиться нам некуда… Вон, темно еще за окошком, и утро не скоро наступит… Ты послушай, послушай… Наказывало начальство вот каким образом поступить – болезного, которого вы сюда привезли, до нужного места доставить, чтобы мозги у него прояснили, сообщить куда надо, а дальше сесть и не высовываться. Да только бабенка вам попалась с норовом – сбила с панталыку. Решила она болезного забрать и властвовать над ним единолично. Вы с товарищем своим посомневались да и согласились в конце концов. Да только беда приключилась – пока ругались да спорили, болезный и пропал. Испарился, аки дым… А начальство своих гонцов сюда пришлет, обязательно пришлет, если они уже не в Никольске, чтобы они, значит, выяснили – как тут у вас плохо все выплясалось. Ох, не погладят вас по головке, не погладят…
Говорил Скорняков неспешно, негромко, будто ворковал, однако от его слов заволновался не только Забелин, но и Гиацинтов, который лихорадочно пытался понять: откуда знает Гордей Гордеевич о болезном, то есть о предсказателе, ведь об этом ему не рассказывали? Так и подмывало спросить – откуда? Но Гиацинтов сдержался, продолжал молчать, с нетерпением ожидая – чем все закончится?
Закончилось же все быстро и просто. Забелин отвернул голову, сплюнул на пол тягучую слюну, закашлялся, прочищая горло, и наконец заговорил:
– Выродок твой подслушал. Значит, специально подослан был. Так?
– Какая тебе разница? – отозвался Скорняков. – Ты рассказывай, рассказывай, заодно и душу облегчишь, может, и покаешься.
– Вы же не попы, чтобы перед вами каяться, – усмехнулся Забелин, – а рассказать – расскажу. Но только при одном условии – дайте мне слово, что живым отсюда выпустите.
– А зачем нам убивать тебя, когда ты все расскажешь? – рассудительно удивился Скорняков. – Нам лишний грех на души не нужен.
– Тебе, может, и не нужен, а вот господину Гиацинтову… У него ко мне давняя претензия, я ему…
– Дуэль! – громко прервал его Гиацинтов. – А там – кому повезет…
– Нет, такое условие мне не подходит, я же знаю, как ты стреляешь! Да и дуэль, Владимир Игнатьевич, – так старо и пошло… Просто дай слово – оставлю в живых. И все. Больше мне ничего не нужно. Я твоему слову поверю. Заодно о Вареньке Нагорной расскажу. Неужели она этого не стоит?
Гиацинтов, испытывая неодолимое желание вцепиться Забелину в глотку и задушить его, продолжал стоять, прислонившись к стене, и ясно понимал: ради Вари он пойдет на все, даже оставит в живых мерзавца. Кивнул головой:
– Хорошо. Согласен. Даю честное слово.
– Тогда слушайте. Только дайте сначала воды глотнуть…
10
…Приземистая и выносливая лошадка сибирской породы испуганно пригнула уши и как будто просела под своим седоком, сбившись с равномерной рыси, когда оглушительно, разом, взорвался ружейный грохот – столь плотный, что больно ударил в барабанные перепонки. Забелин привстал на стременах, оглянулся и увидел поверх низких кустов, как поднялись густые цепи японской пехоты. Когда увидел, подстегнул лошадку, и та, одолев неожиданный испуг, бойко пошла вперед. Осталось позади подножие горного хребта, голое, как колено, осталась позади команда охотников Забайкальского полка, и самое главное – остался ненавистный Гиацинтов, к которому теперь неумолимо приближались японцы.
– Вот и геройствуй, покажи свою прыть! – сквозь зубы бормотал Забелин и продолжал торопить лошадку, стараясь поскорее и как можно дальше отъехать от опасного места. Душа его ликовала. Человек, которому он всегда завидовал до сердечной боли и зубовного скрежета, человек, которого он ненавидел, исчезнет через считаные минуты из этого мира, и он, Константин Забелин, возвысится в собственных глазах, зауважает самого себя, избавится наконец-то от съедающего его чувства неполноценности. Это чувство зародилось в нем еще со времени поступления в университет, разрасталось в последующие годы и захлестнуло без остатка, когда появилась Варвара Нагорная. Ну как же так? Одному дано все, а другому – ничего! Забелин и на войну пошел только из-за этого чувства, надеялся, что станет героем и сможет возвыситься над Гиацинтовым. Но ничего из этих мечтаний не вышло – он сразу же понял, что никакой храбрости у него и в помине нет, что собственную жизнь он никогда не разменяет на славу, даже самую лучезарную.
А вот свести счеты с Гиацинтовым – сможет. И когда выпал, как козырная карта, удобный случай, он его не упустил.
Лошадка послушно продолжала свой бойкий ход, и Забелин теперь уже не оглядывался назад. Он смотрел вперед.
И откуда он мог знать в эту счастливую минуту, что Гиацинтов вырвется из смертельной ловушки и даже сможет добраться до своих?!
А он выжил и добрался.
Когда командир полка назначил служебное расследование, Забелин вспомнил, что в университет он собирался поступать на медицинский факультет и даже почитывал учебники, вспомнил, как интересовали его нервные болезни, и симулировать сумасшествие для него не составило большого труда. Жить захочешь – и сумасшедшим притворишься.
Оказавшись в скорбном доме, он нисколько не отчаялся, надеясь, что в скором времени сможет отсюда выбраться. От скуки и однообразия жизни стал наблюдать за несчастными, которые его окружали, и скоро, удивляясь самому себе, понял, что занятие это весьма интересное. Он начал вступать в разговоры, иногда, сквозь невнятное бормотание, ему удавалось прочитывать причудливые судьбы, и это его искренне забавляло, скрашивая серые дни. Так продолжалось до встречи с Феодосием, который сначала удивил, а затем поразил своим даром. Убедившись в верности его предсказаний, Забелин не раздумывал, он сразу понял, что сулит ему, если Феодосий окажется в его полной, неограниченной власти. И принялся обхаживать необычного обитателя скорбного дома, как несговорчивую невесту, – ни на шаг не отходил. Через несколько месяцев Феодосий неотступно следовал за ним, словно привязанный, и преданно заглядывал в глаза: даже поврежденный в разуме всегда ищет человека, который бы его пожалел и выслушал.
Ушли они из скорбного дома тихо и до смешного просто: залезли в две большие параши, которые были не до конца заполнены, задвинули над головами тяжелые скользкие крышки, и вынесли их в этих парашах за высокий забор, поставили на деревянный помост, к которому должен был подъехать золотарь[21] и отвезти дерьмо в выгребную яму. Золотарь, как всегда, опаздывал, носильщики его дожидаться не стали и ушли, сердито рассуждая между собой, что пусть он теперь в одиночку вонючий груз ворочает.
Выскользнуть на волю оказалось делом одной минуты. Добрались до ближайшего ручья, долго отмывались и отстирывали одежду, но от дурного запаха так и не избавились, и дальше пошли, благоухая едва ли не на версту.
Пошли они в Москву.
Именно там, в Москве, рассчитывал Забелин, легче всего будет затеряться и осуществить задуманное.
Питались редкими подаяниями, спали где придется, благо время стояло летнее, и Забелин видел, как его спутник, избавившись от неволи, становится веселее и разговорчивее. То и дело засовывая травинку или полевой цветочек в нос, Феодосий громко чихал, счастливо улыбался, глядя на солнышко, и, прочихавшись, начинал говорить, сразу обо всем: о том, что видел вокруг, и о том, что ему видится и грезится временами, помимо его воли и усилий. Забелин внимательно слушал, никогда не прерывая, а услышанное раскладывал по полочкам, и порою ему казалось, что он знает теперь Феодосия, как самого себя. «Да это же клад, настоящий клад! – думал он, захлебываясь от восторга. – Иметь в своей власти человека, который может предугадывать будущее! Правильно управлять им – и горы сдвинутся!»
В Москве они остановились у дальнего родственника Забелина, отставного унтер-офицера Лопатина. Старый служака, не имея ни семьи, ни наследников, тоскливо пил горькую и неожиданным гостям даже обрадовался – все-таки живые души, и будет с кем перекинуться словом. Щедро делился с ними своим казенным содержанием, расспрашивал Забелина о войне с японцами и даже пить стал меньше.
Через пару недель такой спокойной жизни, оглядевшись и привыкнув к новому своему положению, Забелин решил действовать: отправился с визитом к Варе Нагорной. Правда, в первый раз он дома ее не застал, зато познакомился с теткой. И сколь ни противна была ему злобная старуха, он смог ей понравиться, а старуха прониклась к нему полным доверием, сразу же решив, что лучшего жениха для племянницы не сыскать, тем более что Забелин не скупился на обещания. Но все оказалось напрасным: и союз с теткой, и горячие признания в любви, и подарки – все отвергала тихая, немногословная, но упорная в своем решительном «нет» Варя Нагорная. Забелин тоже не отступал. Его выгоняли в двери, он лез в окно. А тут еще, сам того не ведая, подлил масла в огонь Феодосий. Случайно, издалека, когда они подъезжали на коляске к дому тетки, увидел Варю. Замолчал, затих, обжимая руками голову, и почти сутки не отзывался на вопросы Забелина, а затем, без всяких вопросов, заговорил голосом решительным и твердым, каким он говорил, предсказывая очередное событие. Забелин его слушал и верил каждому слову.
Говорил Феодосий, откинув голову и уставив неподвижный взгляд в потолок, о том, что после ухода Марии исчезла из родительского дома икона Богородицы, на которую молилось все семейство, считая, что именно она спасла маленького и смертельно больного Андрюшу. Но затем – он это видел – икона оказалась у отца Александра, настоятеля Знаменского храма, а он, незадолго до кончины, передал ее своей дочери Варе. Феодосий вздыхал: если бы я взял эту икону в руки и если бы оказался там, где проживает сейчас Мария, я бы увидел на десятки лет вперед, я бы угадал прошлую судьбу каждого человека и каждому человеку предсказал бы судьбу будущую. И повторял это почти каждый день, будто подталкивал Забелина: действуй, действуй, торопись, не медли. Забелин действовал. Осторожно выведал у старухи, что, действительно, никакого особого наследства, кроме иконы, бедный сельский священник своей дочери не оставил. Где же теперь икона? Да в епархиальном училище находится, где теперь племянница пребывает. Забелин попытался с Варей завести разговор об этом, но встретил такой резкий отпор, без слов, одним взглядом, что решил выждать время. Никуда красавица не денется, думал он, капля, как известно, камень точит, и рано или поздно Варя окажется в его руках и в его воле.
Просчитался.
Варя исчезла неизвестно куда. Как в воду канула. Попытался в епархиальном училище узнать, но священник, который соблаговолил его принять, ничего не прояснил, только произнес туманную фразу, что Варвара Нагорная сама избрала путь своего служения, и потому как она круглая сирота, то ни перед кем отчитываться, кроме как перед Богом, не обязана. Понимал Забелин, что священник ничего ему говорить не желает и не скажет, но и поделать ничего не мог, не будешь ведь за грудки его хватать.
А Феодосий тем временем ни о чем рассуждать не мог, кроме как о Марии, о далекой сибирской стороне и об иконе, которая там должна находиться. И все твердил крепким и звучным голосом, что именно там, в далекой земле, увидится ему и будет ведомо все, что сейчас еще неведомо и скрыто, словно в тумане.
Забелин заметался, не зная, что предпринять. Денег на дальнюю экспедицию у него не было, связей он никаких не имел и даже не представлял толком, как можно с выгодой использовать необычный дар Феодосия.
И в это самое время судьба устроила ему неожиданную встречу, которая все и решила. Точнее даже так: не встречу устроила, а сама явилась к нему, прямо на дом к отставному унтер-офицеру Лопатину. Случилось это уже под вечер. Хозяин, хорошо потрудившийся за день над двумя бутылками казенной водки, мирно спал на своей кровати, упершись лбом в стену; Забелин с Феодосием, прибрав после него на столе, пили чай, довольствуясь баранками из ближайшей булочной; молчали, думая каждый о своем, и резкий хлопок входной двери прозвучал в тишине так громко, словно пальнули из ружья. Ни Забелин, ни Феодосий даже не успели подняться из-за стола, а перед ними уже стоял высокий человек с разметавшимися на голове волосами, запаленно дышал, и в руках у него было два револьвера. Пальцы лежали на спусковых крючках, стволы револьверов вздрагивали, и казалось, что вот-вот прогремят выстрелы.
– Не шевелись! – скомандовал человек. – И молчать! Крикните – пристрелю!
С улицы донеслись заполошные свистки городовых, топот тяжелых сапог по тротуару и цокот конских копыт по булыжной мостовой. Кто-то срывающимся голосом кричал:
– Здесь где-то, здесь! Не мог далеко уйти!
Ясно было, что ищут именно этого человека с револьверами, в отчаянии заскочившего в дом отставного унтер-офицера.
Шум за окнами не затихал. Забелин и Феодосий, повинуясь приказу, сидели молча и не шевелясь, будто их приколотили гвоздями к стульям, Лопатин мирно спал, продолжая лбом упираться в стену, а человек с револьверами осторожно, на цыпочках, перешел в угол и встал там, выбрав удобную позицию: входная дверь и сидящие за столом были теперь у него перед глазами. Он отдышался, руки перестали вздрагивать, в комнате повисла глухая, напряженная тишина.
И в этой тишине неожиданно заговорил Феодосий. Поднял голову, уставил взгляд в потолок и заговорил:
– Больше искать не будут. Друга твоего уже нашли, бьют теперь. Больно бьют. Сейчас в полицию повезут, и он там все про тебя расскажет. Жди, когда уедут.
С улицы, действительно, донесся пронзительный крик, так обычно кричат, захлебываясь от нестерпимой боли, затем крик внезапно оборвался, процокали конские копыта, и скоро все стихло. Выждав время, продолжая вжиматься в угол, человек с револьверами приказал Забелину:
– Ты! Выгляни в окно – что там?
Забелин поднялся из-за стола, подошел к окну, чуть отодвинул грязную занавеску и глянул в узкую щель. Улица была пуста.
– Никого нет, – сообщил он и вернулся на свое место.
Человек с револьверами вышел из угла, по-хозяйски сел во главе стола и с нескрываемым интересом принялся разглядывать Феодосия. Долго разглядывал. Молча. И лишь после этого спросил негромко:
– Ты кто такой?
Феодосий так же долго молчал, не отвечая, затем уставился в потолок и сказал:
– Завтра придешь – узнаешь. А когда узнаешь, к себе нас возьмешь. Кормить-поить будешь, и поедем мы все вместе в сибирскую сторону икону искать. Я ее в руки возьму и много увижу…
Так все и вышло. Нежданно-негаданно попали Забелин с Феодосием в боевую организацию эсеров-максималистов, в которой человек с револьверами, по фамилии Целиковский, играл весьма заметную роль. Провидческий дар Феодосия поразил всех – сразу и безоговорочно. Как вскоре выяснилось, напарник Целиковского по последнему неудачному эксу[22], попав в полицию, сдал всех, кого знал. Полного разгрома организации удалось избежать лишь благодаря предсказанию Феодосия: успели сменить паспорта, явочные квартиры и на время свернули боевую деятельность, затаившись и выжидая лучших времен.
А Феодосий, будто соскочив с колодки, все твердил, не уставая, о сибирской стороне, об иконе и, начиная сердиться, уже требовал – поехали! Забелин сначала пытался отговорить его, выигрывая время, чтобы оглядеться внимательней – к каким людям их судьба занесла? Что они проповедуют? Чего хотят? Но разобраться до конца так и не успел – эсеры приняли решение об экспедиции в Никольск. И здесь, уже в Никольске, выяснилось, что Кармен, по настоящей своей фамилии Зейнович Сара Иосифовна, имела совсем иные планы. Она предложила Целиковскому и Забелину создать свою организацию, которая бы никому не подчинялась.
– Да вы поймите, – горячо убеждала она, сверкая темными глазами, – мы сможем делать великие дела! Мы сможем все!
Целиковский упорствовал и не соглашался, Забелин больше отмалчивался, а Кармен их всячески ругала, называя трусами и тряпками, и глаза у нее сверкали все яростнее. В конце концов они дали согласие.
А вскоре свершилось главное – Феодосий вспомнил дорогу. Оставалось до заветной цели лишь сделать последний шаг, но в последний момент все усилия и старания разлетелись вдребезги. Феодосия увезли неизвестно куда и неизвестно кто, Целиковский с Кармен скрываются в никольском притоне, а Забелин сидит в мастерской Скорнякова и рассказывает как на духу обо всем, о чем его спрашивают. А что он еще может сделать? Да ничего…
Ему очень хотелось жить.
– Ты еще обещался рассказать о Варе. Что о ней знаешь? – Гиацинтов задал этот вопрос и замер, ожидая ответа.
Забелин хлебнул воды из кружки, вытер ладонью губы и коротко хохотнул:
– С Варей Нагорной, уважаемый Владимир Игнатьевич, все оказалось очень просто. Правда, додумался я до этого лишь в последний момент. Бывает так, дело кажется немыслимо сложным, а в реальности – проще пареной репы. Потребовалось всего-навсего в местную епархию зайти и узнать, что Нагорная Варвара Александровна является на данный момент учительницей церковно-приходской школы и служит в селе Покровском Никольского уезда, куда мы чуть-чуть не доехали…
Гиацинтов и Скорняков быстро переглянулись. Оба сразу же подумали о том, что Речицкий находится сейчас в Покровском. Там же и Феодосий.
– А ваша Кармен с Целиковским в Покровку не собираются?
– Кто же их знает, Владимир Игнатьевич. Может, и собираются. Если соберутся – мало никому не покажется. У Кармен больше двух десятков эксов, несколько покушений – одним словом, очень решительная дама. И Целиковский не промах.
– Ну и нас не в крапиве нашли, – Гиацинтов поднялся, давая понять, что говорить больше не о чем.
– Подождите, подождите, – заторопился Забелин, – а как же я? Меня куда?
– Да ты не бойся, – усмехнулся Скорняков, – на тот свет не отправят. Сейчас мои ребята подъедут, определят тебя в хорошее место. Там тепло, сухо, кормежка от пуза. Не жизнь у тебя будет, а разлюли малина.
– А когда меня отпустите?
– Как Бог даст. Пошли, Владимир Игнатьевич.
Они вышли из мастерской, постояли, вдыхая свежий морозный воздух, затем молча уселись в кошевку и направились в дом Скорнякова.
Гордей Гордеевич сразу же велел накрыть стол, усадил во главе стола Гиацинтова, перехватил своей ручищей тонкое горлышко стеклянного графинчика с водкой, и замешкался – его неожиданно осенило:
– Слушай, Владимир Игнатьевич, а вдруг они уже в Покровке? А? Он ведь с ними не справится, с одной-то рукой…
– Да я уже подумал об этом. Сегодня же с Федором выедем.
– Я вам Савелия в подмогу дам. Он и кучер отменный, и дорогу знает. Да и парень боевой, пригодится, коли нужда будет.
– Спасибо, Гордей Гордеевич, за все спасибо. И еще одна просьба будет – нужно телеграмму в Москву отправить, я все напишу…
– Отправлю, все как надо сделаю.
– Должники мы перед вами…
– Ладно, ладно… Давай лучше выпьем – за удачу!
Не прошло и пары часов, как со скорняковского двора лихо вылетела тройка, которой правил Савелий, и понеслась, минуя оснеженные никольские улицы, в сторону тракта, который должен был довести до Покровки.
Гордей Гордеевич постоял у раскрытых ворот, глядя вслед тройке, устало вздохнул и медленно, по-стариковски шаркая ногами, направился в дом.
«Вот она, жизнь-то какая, – думал он, направляясь в дальнюю комнату, где под замком пребывал младший Гордей Гордеевич, – строил, строил, работал, работал, а передать – некому… Состарюсь, помру, и пойдет все нажитое прахом, как пыль по ветру. Как же так получилось, где я промашку дал?»
И не мог он найти ответа на свой вопрос.
Лишь вспоминал, как они с маленьким Гордейкой плыли на лодке по Оби, и сынишка, было ему тогда лет семь, рассказывал:
– Вчера я Воронка кормил, конюх мне разрешил его покормить. Я хлеба отрезал, солью посыпал и протягиваю ему, а сам боюсь, аж дрожу весь, у него зубы, как пальцы у меня… И чего боялся… Он вот так губами взял, даже ладошку у меня не задел. Жует и головой кивает, конюх сказал, что он мне спасибо говорит, а еще он сказал, что Воронок человеческий язык понимает, все слова понимает, только говорить не может. Как же так? Люди говорить могут, а понять не могут. Скажи, почему люди самих себя не понимают и обижают друг друга. Я говорю Ваське – не мучай кошку, а он мучает и смеется…
Теперь Гордей Гордеевич уже и вспомнить не мог, что он тогда ответил сыну. Но удивление мальчишки запомнилось и всплыло в памяти почему-то именно сейчас. Зачем? Может быть, для того, чтобы увидел он Гордейку маленьким, чтобы заново испытал к нему любовь и нежность, какие тогда испытывал?
Нет теперь ни любви, ни нежности, осталось лишь искреннее изумление – да неужели это его сын?
Он отпер ключом висячий замок, распахнул дверь в подвал. Младший Гордей Гордеевич лежал на кровати, закинув руки за голову, лицо его с выцветающими синяками под глазами было спокойным и умиротворенным. Увидев отца, он неспешно поднялся с кровати и одернул подол измятой рубахи. Высокий, худой, нескладный, стоял сын перед отцом, и видно было по его спокойствию, что готов он сейчас услышать любые слова.
И он их услышал:
– Не думал я, Гордей, что у нас так сложится. А вот сложилось. Если по-честному, мне тебя надо в полицию сдать. И собирался уже, да вот в последний момент передумал. Засвербило под сердцем, родная кровь все-таки. Да и рассказал ты мне честно – как с темным народом связался. Теперь на носу себе заруби – ты с ними не встречался и дел общих не имел. Понимаешь меня?
Младший Гордей Гордеевич кивнул.
– Вот и хорошо, что понимаешь. Больше я для тебя ничего сделать не могу. Денег сейчас дам, на поезд тебя посадят, уезжай из Никольска. Исчезни насовсем. Дело это с предсказателем, как я понимаю, только начинает разворачиваться, и какой конец будет, никому не ведомо. Вот и спасаю тебя. Понимаешь?
Младший Гордей Гордеевич снова кивнул.
– Пойдем, деньги выдам. И баул тебе собрали, одежду, обувь на первый случай.
Он бросил ключ на стол и первым вышел из комнаты.
На прощание они даже не обнялись, и провожать сына, хотя бы до крыльца, Гордей Гордеевич не стал – как сидел за своим большим столом, так и продолжал сидеть, не поднимая головы.
– Прости, отец, – с усилием выговорил младший Гордей Гордеевич.
– Бог простит. Ступай.
Глава шестая
1
Саночки были сделаны с любовью: крепкая береза гладко-гладко выстрогана, полозья круто выгнуты, днище застлано толстой кошмой, а задок, сбитый из тонких досточек, еще и разрисован яркими, красными цветами. Не саночки, а игрушка – легкая, почти невесомая, и скользит по снегу, будто по воде плывет, без всякой задержки. Саночки эти подарил Костику отец, купив их на базаре как раз накануне Рождества, и было у мальчика настоящее счастье, когда пришел он на катальную горку и его сразу же обступили мальчишки, с восхищением разглядывая деревянное чудо. У них тоже были санки, но не такие: слепленные на скорую руку, большей частью для того, чтобы навоз на огороды вывозить, неказистые, топором рубленные – одним словом, зачуханные. И потому Костик горделиво поглядывал на всех и привирал вдохновенно, что скоро отец купит ему новые санки, с оглобельками, а еще купит маленькую лошадку и будет он ее запрягать и кататься.
Мальчишки в том возрасте, в каком пребывал Костик, было ему тогда лет восемь-девять, горделивых терпеть не могут и жестокими бывают, как зверьки. Крикнул кто-то – вались! – и повалилась куча-мала в новенькие саночки, оттолкнулись и полетели с горы, а Костик замешкался, места ему не нашлось, успел лишь в последний момент ухватиться за верхнюю дощечку на задке. Уцепился и полетел следом за санками, но больно ударился животом на первом же бугорке, руки разжались, и дальше он покатился кубарем, в кровь разбив лицо…
Сколько уже лет прошло, кажется, целая жизнь миновала, но горечь и обида, пережитые тогда, в детстве, не забылись и от времени не потускнели. Даже наоборот, чем старше становился Константин Забелин, тем чаще ему казалось, что в саночки счастливой судьбы быстрее усаживаются другие, а он всегда опаздывает, пытается зацепиться в последний момент, но руки соскальзывают, и он летит кубарем, в кровь разбивая лицо… Хорошо было таким богатым и счастливым, как Гиацинтов, у них всего имелось в избытке, а у него, сына мелкого лавочника из уездного городка, всегда обнаруживалась нехватка – денег, манер и собственной значимости. Отсюда и зависть, а после – ненависть.
Когда Забелин увидел перед собой Гиацинтова, живого и невредимого, словно воскресшего из небытия, ему показалось, что он снова катится кубарем под горку, в кровь разбивая лицо. Ведь мысль о том, что удалось поставить выскочку под японские пули и навсегда избавиться от него, грела душу все последнее время. И вдруг оказалось, что закончилась давняя история совсем не так, как хотелось. А самое главное – оказалось, что и затея с Феодосием, на которого возлагалось много надежд, тоже лопнула, будто мыльный пузырь. Лопнула именно для него, для Забелина, оказавшегося в подвале скорняковского дома. Получается, что он снова отстал. Целиковский и Кармен сейчас уже, наверное, в Покровке, уже отыскали, наверное, Феодосия и, может быть, уже возвращаются в Москву, а он сидит в глухом и темном подвале и не знает, что с ним случится. Правда, радовала маленькая надежда: отвернется, в конце концов, судьба от Гиацинтова и ляжет он под пулями боевки – теперь уже навсегда.
Спасая жизнь, Забелин обо всем рассказал честно, кроме одного – о том, что на подмогу прибыла группа боевков и сразу же по прибытии отправилась в Покровку. Забелин, Кармен и Целиковский должны были отъехать утром, догнать их на постоялом дворе и уже всем вместе двигаться в деревню. На одну лишь ночь замешкались, и она стала для Забелина роковой.
«Искать меня, а уж тем более освобождать, никто не будет, – думал Забелин, валяясь на жестком топчане и прислушиваясь к звукам за толстой деревянной дверью, но там стояла глухая тишина. – Пойду по статье боевых потерь за светлые идеалы будущего. Что для них моя жизнь? Да ничего, пустое место! Если они готовы убивать сотнями и тысячами, маленькая единичка не имеет никакого значения. Значит, надеяться нужно на самого себя. И самому выбираться отсюда. Вот дождемся рассвета…»
В подвале, куда его запихнули, было темно, никакой свечки не имелось, и он смог руками нашарить лишь толстую деревянную дверь, каменные стены и жесткий топчан, на который и лег, закинув руки за голову.
Рассвет наступал медленно, неспешно. Сначала обозначилось маленькое оконце, затем узкая синеватая полоска протянулась по полу, и вот уже стало возможным хотя бы оглядеться. Первым делом Забелин подошел к оконцу. Но сразу же понял – напрасно. Снаружи оконце закрывали железные прутья толщиной в палец, и вырвать их голыми руками было, конечно, невозможно. Тогда он кинулся к двери, но и здесь – осечка. Толстые, непробиваемые плахи, обшитые по углам железными пластинами, стояли незыблемо; даже когда он ударил в них плечом, двери не шевельнулись – всё в скорняковском доме сделано было основательно, крепко и надежно. Даже пол в подвале застелили не досками, а большущими булыжниками, посаженными на раствор, – крепостная стена, да и только. Забелин обошел стены, ощупывая их растопыренными ладонями, хотя прекрасно понимал всю бесполезность этого занятия. Стены были холодными и шершавыми.
Вернулся на топчан, снова лег, закинув руки за голову, и почему-то именно в этот момент вспомнилась ему разгневанная Кармен с горящими, как у кошки, глазами и послышался ее голос:
– Да поймите вы, другой возможности у нас не будет! Решайтесь! Мы создадим свою организацию, мы никому не будем подчиняться! Мы сами перевернем эту страну, перевернем и разрушим! Мы! Мы разрушим!
Когда она так кричала, ей невозможно было что-то говорить, доказывать, взывать к разуму – она, видимо, различала только свой голос. Целиковский и Забелин, когда в первый раз услышали, что она придумала, даже не нашлись, что ей возразить. Слушали и переглядывались. А придумала Кармен следующее: после того, как побывает Феодосий в деревне, после того, как откроются в нем новые способности предвидеть будущие события, после всего этого выйти из подчинения эсеров-максималистов и создать новую, собственную организацию.
Сопротивлялись они сколько могли. Но Кармен их все-таки уломала. И они дали согласие. Но кто знал, что в этот же день, как они дадут это согласие, в Никольск прибудет боевка – без всяких предупреждений. Видно, почувствовали в Москве соратники Кармен, что решительную женщину понесло совсем в иную сторону. Вот поэтому в памятный вечер, когда Забелина выкрали, она и устроила истерику.
Заново всё вспоминая, заново всё обдумывая, Забелин сейчас особенно остро ощущал: саночки укатились, а он за них в этот раз даже зацепиться не успел.
И жалел запоздало: «Не надо было ни с кем связываться. Одному надо было Феодосием владеть. Самому владеть!» Жалел и одновременно надеялся: а может… может, еще не все потеряно и он вырвется из этого проклятого подвала в большую, широкую жизнь и там, наконец-то, удастся самому первым усесться в санки и никого больше даже близко не подпустить?!
Неужели не может так случиться?
Ведь должна быть в этом мире хоть какая-то справедливость!
2
«ДОРОГОЙ БАТЮШКА УДАЛОСЬ НАМ РАЗЫСКАТЬ ТРЕХ ТВОИХ РОДСТВЕННИКОВ, НО ВСТРЕТИЛИСЬ ПОКА ТОЛЬКО С ОДНИМ ОН НАМ МНОГО РАССКАЗАЛ ИНТЕРЕСНОГО ОБО ВСЕЙ НАШЕЙ РОДНЕ И СООБЩИЛ ОБ ОСТАЛЬНЫХ НАДЕЕМСЯ ВСТРЕТИТЬСЯ С НИМИ БЛИЖАЙШЕЕ ВРЕМЯ ЛЮБЯЩИЕ ТЕБЯ ДЕТИ».
Такая телеграмма, как и обещался Скорняков, была им отправлена из Никольска, но в руки адресата она не попала. Почтальона, принесшего ее на квартиру Сокольникова, остановили перед дверью два солидных господина, показали свои документы, заглянув в которые молодой парень перепугался до дрожи и отдал телеграфный бланк, не сказав ни одного слова. Почтальона вежливо проводили до выхода из парадного, похлопали по плечу и посоветовали, чтобы он и впредь вел себя точно так же – помалкивал.
Сам Сокольников, предупрежденный Родыгиным, на квартире не появлялся, но на разведку сходил: натянул старую одежду, какая нашлась у Абросимова, обошел вокруг своего дома и сразу же опытным взглядом определил – дом находится под наблюдением.
«Значит, никаких известий из Никольска не получить, все телеграммы будут перехвачены, – думал он, возвращаясь на квартиру Абросимова, – и не эсеры тут своих людей выставили, здесь более серьезная публика…»
Он нисколько не сомневался, что наблюдение за домом ведет полиция. Вот угодил так угодил: сверху – молот, а снизу – наковальня. Расплющат!
«Посмотрим, посмотрим, хотя, по большому счету, противник вполне обозначен, – неторопливо думал Сокольников, возвращаясь на квартиру Абросимова, – если наблюдение ведет полиция, значит, приказ отдан с самого верха. Неизвестно лишь одно – кем конкретно он отдан, но сути дела это не меняет. И вывод напрашивается лишь один – испугались организации, которую я задумал и начал создавать. Она еще в зачатке, а уже напугала. И вся моя затея прибегнуть к помощи Москвина-Волгина и его газеты попросту смешна. Меня уже обозначили, меня уже назвали и начали на меня охоту».
Думал он об этом совершенно спокойно, без всякого страха и даже без чувства тревоги, потому что в минуты опасности всегда рассуждал и действовал, руководствуясь лишь холодным рассудком. И поэтому, оказавшись в квартире Абросимова, он сразу же, с порога, объявил:
– За мной началась двойная охота. Поэтому у меня теперь только один выход – ехать в Никольск. Первым же поездом. Если мы найдем этого Феодосия, нам с ним все равно никуда не скрыться. Значит, остается одно – убрать его любым способом. Лучше ничего не знать о будущем, чем знать, что предсказание этого будущего используется во вред России. Я беру с собой трех верных людей, и мы уезжаем в Никольск. Вы, Евгений Саввич, остаетесь здесь, телеграммы будем слать на ваш адрес. Если понадобится помощь, обратитесь к моим людям, я сообщу, как с ними связаться. Все, разговоры закончены, пора действовать.
– Подождите, подождите! – от нетерпения Москвин-Волгин даже костылем застучал в пол. – Я тоже еду вместе с вами! И это не обсуждается!
– Верно, не обсуждается. Вы остаетесь здесь. Речицкий без руки, а на подмогу ему и Гиацинтову я привезу хромого. Замечательная картинка! Дом инвалидов… Нет! К слову сказать, совсем забыл, Алексей Харитонович, наши литературные опыты можете положить в архив, теперь в них нет никакой надобности.
– Как в архив?! Я же отправил! Завтра номер выходит! – закричал Москвин-Волгин.
Сокольников коротко хохотнул и махнул рукой:
– Ну и пусть выходит! Пусть читают. Для меня это обстоятельство уже не имеет значения. А вы, Алексей Харитонович, как я уже сказал, остаетесь здесь.
Но Москвин-Волгин не успокаивался, продолжал шуметь и доказывал, что с помощью костыля он вполне сносно передвигается и обузой ни для кого не будет.
Сокольников безнадежно вздохнул и сдался:
– Хорошо. Но отправитесь вы один и через неделю после нашего отъезда. Не раньше! Если здесь за неделю что-то произойдет, расскажете нам. Связь в Никольске будем держать через Скорнякова, адрес я сейчас напишу.
На следующий день Сокольников со своими людьми отбыл в Никольск.
День выдался холодный, ветреный, по перрону мела поземка, пассажиры торопились скорее зайти в тепло и уют вагонов, и после первого удара вокзального колокола все уже были на своих местах. В том числе и Москвин-Волгин. Оглядываясь, он довольно шустро забрался в последний вагон, пристроил свой саквояж и сел у окна; крутил в руках толстую трость с большим золоченым набалдашником и широко, счастливо улыбался. Казалось, что даже веснушки на его лице весело и довольно поблескивают.
3
«Здравствуй, мой дорогой, мой любимый Владимир!
Пишу тебе это письмо, а у самой вздрагивают руки, вот уже две кляксы посадила, как нерадивая ученица, пальцы в чернилах. Понимаю, что надо отложить письмо хотя бы до утра, понимаю, что не всякий сон вещий, все понимаю разумом, а душа трепещет и не желает соглашаться ни с какими доводами. Сейчас ночь глубокая, за окном беспросветная темнота, а я засветила лампу и сижу за своим маленьким столиком. Вся дрожу и никак не могу успокоиться. Причина одна – мне только что приснился сон. Странный, пугающий и одновременно со всем этим – радостный. Я боюсь, я не хочу верить, а сама захлебываюсь от неожиданно появившейся надежды. Поле, огромное, бесконечное, до самого окоема, а по нему старая дорога. Никто, видно, по ней не ездит, и она заросла травой. И там, где эта дорога расходится в разные стороны, образуя две отдельные дороги, лежит большой камень. Я стою возле него и вижу, что по дороге идешь ты, мой Владимир. Живой, здоровый и такой веселый-веселый. Подходишь ближе, я тебя всего вижу, вижу даже, как глаза блестят, протягиваю руки, кладу их тебе на плечи и просыпаюсь. И первая моя мысль, что все это было наяву. Даже ладони горят. Ты ведь никогда мне раньше не снился, хотя я всегда желала увидеть тебя хотя бы во сне. И вот сегодня увидела. Живого.
Господи, яви великую милость, пусть этот сон сбудется. Больше ни о чем не прошу!»
Варя положила ручку, отодвинула в сторону тетрадный листок, обхватила голову руками и закрыла глаза. Она снова хотела увидеть поле, старую дорогу, идущего по ней Владимира, но видела лишь беспросветную темноту, точно такую же, какая плотно густилась за окном. Вдруг порывисто встала, повернулась лицом в передний угол и тихо опустилась на колени, на холодный, еще не крашеный пол.
Богородица со старой иконы смотрела на нее теплыми, материнскими глазами. Казалось, что она все слышит и понимает, а если так, значит, можно доверить самое заветное:
– Царице моя преблагая, надеждо моя Богородице, приятилище сирых и странных предстательнице, скорбящих радосте, обидимых покровительнице! Зриши мою беду, зриши мою скорбь, помоги ми яко немощну, окорми ми яко странну…
Голос Вари рвался, падал до тихого шепота, но сохранялись в нем надежда и вера, что будет услышана эта молитва:
– К кому прибегну в горести моей, аще не к Тебе, Царице Небесная? Кто плач мой и воздыхание мое приимет, аще не Ты, Пренепорочная…
И долго еще, после горячей молитвы, стояла она, обессиленная, на коленях, опустив голову. Поднимала отяжелевшую, вздрагивающую руку, осеняла себя крестом и в какой-то момент почувствовала, что в маленькой своей комнатке она не одна, почувствовала, что на нее кто-то смотрит. Медленно обернулась. Стояла возле порога женщина, одетая в белое и длинное платье; седые волосы, ничем не перехваченные, опускались ей на плечи и шевелились едва заметно, словно дул на них легкий ветерок, хотя дверь была закрыта. Смотрела женщина на Варю теплыми, материнскими глазами, молчала, не произнеся ни слова, но было в ее взгляде и во всем облике что-то настолько родное, что Варя нисколько не испугалась, даже наоборот, обрадовалась, еще не понимая и не осознавая причины этой радости. Словно невидимой теплой волной окатило душу, успокаивая и умиротворяя ее. Захотелось прижаться щекой к плечу этой неведомой, неизвестно откуда явившейся женщины и рассказать ей, как родной матери, обо всех своих горестях. Женщина сделала несколько неслышных шагов навстречу, мягко обняла Варю за плечи и прижала к себе. Платье ее пахло летними травами, отдавало свежестью, какая бывает в лесу после дождя, когда из-за пустой тучи снова появляется и светит веселое солнце. Женщина гладила Варю по волосам теплой, узкой ладонью, и голос ее, похожий на едва различимый шепот, звучал ясно и внятно:
– Вот и славно, что отцовский наказ выполнила, что икону Богородицы сохранила, а теперь я тебя сохраню, пойдем со мной. Не опасайся, я сберегу тебя, укрою… Идем…
Женщина разомкнула объятия, помогла Варе одеться и легонько подтолкнула к порогу; пока Варя открывала дверь, она сняла со стены икону и вышла следом, оставив дверь распахнутой.
На улице, возле крыльца, стоял белый конь, топтал копытами сухой снег, и глаза его, большие, распахнутые, поблескивали в темноте, как огоньки. Без понуканий, без окрика конь сам подошел вплотную к крыльцу, согнул передние точеные ноги и присел. Женщина усадила Варю в седло, подала ей в руки икону, а сама взяла повод и двинулась неспешным размеренным шагом по темной улице спящей деревни.
Ход коня был ровный, неслышный, даже снег под его копытами не подавал голоса. Не подавали своих голосов и деревенские шавки, словно все разом уснули. Варя сидела в седле, смотрела в темноту, и слышался ей в непроницаемой тишине отцовский голос:
– Никакого наследства я тебе не оставил, доченька, только икону. Береги, никому в руки не передавай, пусть она всегда с тобой будет. А время придет, случится вышняя воля, и тогда узнаешь, кому ее передать, или она сама себе место определит… Я ведь всю историю, как она появилась сначала в храме, а после в доме у нас, всю историю подробную написал и про Марию написал, а как-то прихожу, смотрю на свой стол, а там вместо бумаги пепел, один лишь уголок от листа остался. На скатерти бумаги лежали, и пепел тоже на скатерти лежит, бумаги сгорели, а скатерть – целая… Понял я, знак это… Не надо ничего писать и рассказывать ничего не надо… Все явным станет, когда время придет и когда воля будет, не наша воля…
Мало что поняла тогда Варя из отцовских слов, даже расспрашивать принялась родителя, но он в ответ лишь слабо улыбнулся, едва одолевая боль, которая скручивала в судороге исхудалое тело, и прошептал, теряя последние силы:
– Все по высшей воле произойдет, а какова она – мне неведомо. Ты главное помни – береги и молись.
И вот сбылись отцовские слова. Варя прижимала к груди икону и тихо покачивалась в седле, нисколько не удивляясь тому, что с ней сейчас происходит: ни появлению женщины в белом платье, ни своему желанию прижаться к ней, ни своей послушности, с какой выполнила она все, что ей было сказано… Чувствовала на душе покой и легкость, тревоги отлетели, как дым под ветром, она никого и ничего не боялась, лишь привычно ощущала тоскливый холодок, который никогда не истаивал с тех пор, как они расстались с Владимиром… Но, ощущая этот холодок, она уже не вспоминала свой странный сон с таким волнением, как недавно. Это ведь сон был, всего лишь сон…
4
Белая равнина лежала, как ровный стол, застеленный накрахмаленной скатертью. Вдали, едва различимо, темнел зубчатыми верхушками сосновый бор. Мороз на солнечном восходе резвился и ощутимо прихватывал щеки. Савелий время от времени сдергивал большую мохнатую рукавицу, голой ладонью отогревал застывший нос, растирал щеки и приговаривал:
– Ничего, скоро в тепле будем, немного осталось…
Тройка неслась, не зная устали, и легкая кошевка только глухо стукала полозьями на ухабах.
Сосновый бор медленно приближался, будто на глазах вырастал из земли. Дорога вильнула, подвигаясь к нему, выпрямилась, как отчеркнутая по линейке, и дальше пошла, уже никуда не сворачивая, прямиком к Покровке. Гиацинтов нетерпеливо привстал в кошевке, выглядывая дорогу из-за спины Савелия. Ему казалось, что кони едва тащатся, что едут они слишком медленно и долго и что деревня эта неведомая находится не иначе как за тысячу верст.
Быстрей, быстрей хотелось… Ведь там, в Покровке, он наконец-то увидит Варю!
Один лишь Федор хранил каменное спокойствие. Сидел, надвинув на глаза лохматую шапку, тянул без слов, чуть слышно, бесконечную мелодию и в такт этой мелодии медленно раскачивал головой.
Вот и поляна показалась, огороженная по бокам старыми ветлами, за ней – крайние дома со снежными шапками на крышах, донесся собачий лай, и тройка, проскочив улицу, остановилась возле ограды черепановского дома. Гиацинтов выскочил из кошевки, кинулся к воротам, распахнул их и взлетел на высокое крыльцо. Протянул руку, чтобы распахнуть двери в дом, но двери перед ним сами открылись, и дорогу заступил Гриня, заслонив широкими плечами весь проем. Молчал, смотрел исподлобья, и нетрудно было догадаться, что неожиданному гостю он не очень обрадован.
– Мне нужно увидеть Варвару Александровну Нагорную. Она здесь проживает?
– А ты кто такой? – Гриня даже не пошевелился, по-прежнему прочно заслоняя дверной проем.
– Дух святой! – не выдержал Гиацинтов. – Я же русским языком спрашиваю – Варвара Нагорная, учительница, здесь проживает?
Неизвестно, как бы дальше сложился разговор, если бы в ограду, следом за Гиацинтовым, не заскочил Савелий.
– Гриня! Друг сердешный! – закричал он. – Запускай в дом, дай обогреться! А еще лучше – накорми горячим, в животе льдинки звякают!
И так громко, жизнерадостно он это прокричал, что взгляд у Грини оттаял, сам Гриня вышагнул на крыльцо из проема и, обогнув Гиацинтова, будто столб, поспешил навстречу Савелию. Они поручкались, похлопали друг друга по плечам, и лишь после этого Гриня повернулся к Гиацинтову, как будто только что его увидел, сообщил:
– Учительница теперь при школе живет, вот туда и езжайте.
– Да ты покажи нам, чтобы не искать. Поехали! – Савелий подтолкнул Гриню к воротам, и тот нехотя согласился.
Уселись втроем в кошевку, в которой дремал Федор, и скоро уже были возле школы. Гиацинтов от нетерпения даже не дождался, когда остановится тройка, спрыгнул на ходу, в один мах одолел крыльцо, и кольнуло его нехорошее предчувствие – дверь была настежь распахнута. Он вбежал в узенький коридорчик, замешкался в полутьме, но увидел впереди просвет и кинулся туда. Это была комнатка Вари. На полу валялись бумаги, ученические тетрадки, деревянный сундучок с откинутой крышкой, растерзанная постель, и на белой измятой простыне отпечатывались большие грязные следы – показалось, что на ней долго и упорно топтались.
За маленьким столиком сидел Речицкий, перед ним стояли двое мальчишек и говорили наперебой, торопясь и захлебываясь. Речицкий покачал головой, давая знак Гиацинтову – молчи. И тот его понял, замер, прислонившись к стене.
Мальчишки, увлеченные своим рассказом, ничего не заметили и продолжали:
– Дяденьки эти позвали нас и спрашивают – а где ваша учительница живет?
– Да нет, Семка, не так! Они сначала спросили – вы в школе учитесь? Мы говорим – учимся. Вот тогда они и спросили – как вашу учительницу зовут? Мы говорим – Варвара Александровна.
– Ну, верно, так. Я забыл. Еще они спрашивали, где живет Варвара Александровна? Мы сказали – в школе живет.
– Больше они ничего не спрашивали. Пряников нам дали и стали лошадей кормить, у них в санях овес в мешках лежал.
– Мы пряники взяли и есть побежали. Съели и домой спать пошли.
– А сегодня приходим печи топить, мы всегда первыми топить приходим, а Варвары Александровны нет…
Мальчишки разом замолчали и дружно швыркнули носами. Речицкий достал из кармана кошелек, из кошелька вытащил два медных пятака и вручил мальчишкам.
– Вот я вам денежку даю, только с одним условием – вы никому ничего не скажете. Тайну хранить умеете?
Мальчишки насупились и вдруг, даже не переглянувшись, одновременно положили пятаки на стол. И рассудительно, по-мужицки, пояснили, почему они так сделали:
– Как это никому не говорить? Варвару Александровну искать надо.
– Нам деньги не нужны, мы и без их проживем. А Варвара Александровна нужна. Деревню поднимать надо, у нас, когда кто теряется, все ищут.
Речицкий слушал их уважительно, кивал, соглашаясь, и лицо у него было серьезным и озабоченным. Выслушав, похвалил:
– Молодцы, ребята, верно понимаете. Да только расклад получается такой, что нельзя пока всем рассказывать. Подождать требуется, чтобы чужие люди не узнали. А Варвару Александровну мы найдем. Вот Владимир Игнатьевич, родственник ее, приехал, он тоже искать будет. Найдем! А к вам у меня просьба – если кого из чужих в деревне увидите, сразу ко мне бегите, я здесь буду. Договорились?
На этот раз мальчишки переглянулись, дружно, разом, швыркнули носами и согласились:
– Ладно, поглядим…
– А деньги не возьмем, не надо нам денег, лучше Варвару Александровну быстрей найдите.
– Обязательно найдем, – обещал Речицкий, провожая мальчишек до крыльца.
Вернувшись, он сел на прежнее место, глухо стукнул протезом об стол, и вздохнул:
– Все плохо, Владимир Игнатьевич.
– Да ты… ты… – Гиацинтов боялся сорваться на крик и шептал: – Ты вот здесь, у порога, должен был сидеть и караулить. Как ты допустил? Ты…
– Сядь, Владимир Игнатьевич, сядь, – рассудительно остановил его Речицкий. – Готов принять любые обвинения, да только делу это никоим образом не поможет. И ссориться нам сейчас совсем не резон. Сядьте.
Гиацинтов послушался, поднял с пола опрокинутую табуретку, поставил ее к стене, но продолжал стоять.
– Докладываю, Владимир Игнатьевич. Предсказатель находится в избушке с местным старостой Черепановым. От этого Черепанова жду известия. Какое он примет решение – не знаю. Теперь о Варваре Александровне. Вчера, ближе к вечеру, через деревню проезжал обоз, шесть или семь подвод. Если предположить, что по три человека на санях, получается где-то десятка два или около двух. Серьезно. Что они спрашивали у мальчишек, вы слышали. Предполагаю, что, захватив Варвару Александровну, они теперь отправятся искать предсказателя. Если уже не нашли…
– Какого же черта мы здесь сидим?! Поехали!
– Куда? Владимир Игнатьевич, возьмите себя в руки! Надо все обдумать и принять верное решение.
Спокойный тон Речицкого все-таки остудил Гиацинтова. Он сел на табуретку, сгорбился и уперся взглядом в пол, на скомканный бумажный лист из ученической тетрадки, который лежал у него под ногами. Поднял его, развернул и – будто оглох. Уже не слышал, что ему говорил Речицкий. «Здравствуй, мой дорогой, мой любимый Владимир!» – зазвучал голос Вари. Зазвучал так явственно, словно она стояла рядом. Прочитав, Гиацинтов упал на колени и судорожно принялся собирать другие листы. Разглаживал их ладонями, складывал и растерянно, совсем по-детски, улыбался, но губы вздрагивали.
Речицкий, понимая, что его не слышат, замолчал и вышел на крыльцо.
Гриня и Савелий, похохатывая, о чем-то весело разговаривали; Федор, надвинув на глаза шапку, даже из кошевки не вылез, сидел, чуть заметно покачивая головой, и казалось, что он спит. И тут Речицкого осенило. Он сбежал с крыльца, ухватил Гриню за рукав и жестко, тоном, не терпящим возражений, заговорил:
– Какие-то люди, неизвестные, увезли учительницу. Теперь они поехали за твоим дедом. Им нужен тот человек, которого вы с Савелием сюда приволокли. Он им так нужен, что ни перед чем не остановятся. Возникнет надобность – убьют. Будешь деда выручать? Поможешь нам?
Гриня набычился и долго молчал, неожиданно плюнул под ноги Речицкому и выругался:
– Притащили вас черти на нашу шею! А за деда я всем глотки порву!
В это время вышел из школы Гиацинтов. Следа не осталось от его растерянности, в какой он только что пребывал. Скомандовал:
– Идите сюда.
И все, подчиняясь ему, подошли к крыльцу, даже Федор, будто проснувшись, легко выскочил из кошевки, подбежал и встал рядом со своим командиром, сдвинув на затылок лохматую шапку.
5
Без надобности Москвин-Волгин из своего купе не выходил, побаиваясь, что люди Сокольникова могут его заметить. Кто его знает? Возьмут да и высадят на первой же станции. С Сокольникова, как с военного человека, станется. По этой причине он коротал время, любуясь пейзажами, которые неторопливо проплывали за вагонным окном. Русская зима лежала во всей своей красоте, и Москвин-Волгин запоздало жалел, что в юности еще бросил писать стихи. Показал товарищам зарифмованные строки, те прочитали и разнесли эти строки в пух и прах. Как и всякий самолюбивый человек, он на своих товарищей сначала крепко обиделся, но после, когда остыл, все свои стихи сжег и больше никогда не рифмовал, всецело отдаваясь своему прозаическому газетному ремеслу. Теперь, глядя на бесконечную белую равнину, на редкие деревни, умиляясь одинокой лошадке, запряженной в сани, он все-таки жалел, что забросил стихосложение, но, успокаивая себя, думал: «Да написано уже все, милостивый государь! Мороз и солнце, день чудесный! Лучше никому не сказать. Так что не будем горевать, лучше подумаем о пропитании». И он предложил своему попутчику, степенному бородатому купцу, ехавшему до Самары:
– А не побаловаться ли нам чайком, Петр Афанасьевич?
– Пожалуй, можно, – согласился попутчик, – обедать мне не резон, скоро домой прибуду, а вот чайку – в самый раз. Пойду закажу.
Они почаевничали, поддерживая неторопливый разговор, и купец принялся собирать вещи – поезд прибывал в Самару. Проводив своего попутчика и оставшись один в купе, Москвин-Волгин попытался вздремнуть, но сон не шел, тогда он снова сел к окну, но и проплывающие мимо пейзажи не успокоили – такова уж была натура у деятельного человека: не мог длительное время находиться в созерцании и безо всяких занятий. Хотелось куда-то бежать, что-то делать и чувствовать, как жизнь вокруг кипит и клокочет.
«Самару проехали, – размышлял Москвин-Волгин, – скоро Урал; да неужели они меня высадят?! Передвигаюсь я вполне сносно, хромаю, конечно, но хожу-то без всякой помощи! Вот и схожу, поздороваюсь…»
Больше он не раздумывал. Глянул на себя в зеркало, взял трость и отправился в третий от конца поезда вагон, в который, как он успел заметить еще в Москве, садился Сокольников. Шел не торопясь, будто на прогулке, и каково же было его удивление, когда в тамбуре дорогу ему заступил коротко стриженный мужчина с короткой бородкой.
– Извините, уважаемый, но дальше проход закрыт.
– Как закрыт? – заволновался Москвин-Волгин. – Почему закрыт?
– Закрыт, и все. Вернитесь на свое место.
– Да не хочу я возвращаться! Мне сюда надо!
– Вот когда я разрешу, тогда и пройдете. А теперь прошу – вернитесь.
Мужчина открыл дверь и вежливо, но твердой и, чувствовалось, очень сильной рукой выдвинул Москвина-Волгина из тамбура. И проделал это так быстро и ловко, что тот не успел даже ничего сказать. Стоял возле окна, отодвинув в сторону шелковую занавеску, и видел, что поезд, замедляя движение, подходит к какой-то маленькой станции с неказистым деревянным вокзалом в один этаж. На перроне, тоже деревянном, цепью стояли солдаты, держали в руках винтовки с примкнутыми штыками.
«Что-то здесь не так! Похоже, пахнет жареным. Уж не по наши ли души пожаловали?» Москвин-Волгин отодвинулся от окна, тихонько, стараясь, чтобы ручка не щелкнула, чуть-чуть приоткрыл дверь в тамбур. Поезд в это время остановился, лязгнув вагонами, и цепь солдат быстро рассыпалась, охватывая его со всех сторон.
Москвин-Волгин не ошибся, предположив, что явились по их души. Громкий, требовательный голос явственно донесся до него:
– Господин Сокольников, у меня приказ о вашем аресте! Поезд оцеплен солдатами! Во избежание жертв, в том числе и безвинных, предлагаю сдаться вместе со своими людьми. Проявите благоразумие! При сопротивлении будет открыт огонь!
…Сокольников выглянул в окно. Прямо на него, свирепо вытаращив глаза, смотрел унтер-офицер, плотно прижимая к плечу приклад винтовки, готовый выстрелить в любой момент. Ясно было, что ловушка готовилась заранее, готовилась по всем правилам военной операции, и что выскочить из этой ловушки в данный момент невозможно. «Нашли врагов Отечества, – успел еще горько подумать Сокольников, – теперь будут радоваться…»
Голос из вагонного коридора зазвучал снова:
– Господин Сокольников, у вас ровно половина минуты! В противном случае я имею приказ взять вас силой!
«Не силой взять, а пристрелить на месте – вот ты какой приказ получил, дурак служивый…» – Сокольников положил револьвер на столик, он прекрасно понимал: его победили. И победили совсем не те люди, против которых он пытался бороться, победили те, кто, по логике, должен был его поддерживать и оберегать. Никому он был не нужен со своей военной организацией, со своими благородными целями. Что он сейчас мог сделать? Открыть пальбу, застрелить нескольких солдат или унтер-офицера с вытаращенными глазами, которые ни сном ни духом не знают, кого они ловят? В ответ, конечно, тоже начнут палить, могут погибнуть пассажиры, а уж они, случайные попутчики, и вовсе ни в чем не виноваты.
– Мы сдаемся! – громко, чтобы услышали все, в том числе и его люди, ехавшие в соседнем купе, прокричал Сокольников. Открыл дверь и вышагнул в вагонный коридор.
– Вот и славно! – Невысокий господин, одетый в длиннополое пальто, быстро сноровисто его обыскал и скомандовал: – На выход!
Следом за Сокольниковым, не нарушив приказа, сдались его люди. Не прошло и десяти минут, как поезд тронулся, солдаты, построившись на деревянном перроне, ушли и маленькая станция опустела, погрузившись в тишину. Будто ничего здесь и не случилось.
Допрос начался сразу же, в маленькой тесной комнатке при вокзале, где имелись лишь два шатких стула и старый обшарпанный стол с выцветшими пятнами давно разлитых чернил. Неизвестный господин в длиннополом пальто по-хозяйски уселся за этот стол, предложил сесть Сокольникову и не строго, не официально, а скорее по-дружески предложил:
– Ну что, начнем?
– С кем имею честь? – спросил Сокольников.
– О, даже так! Разрешите представиться – действительный статский советник Макаров, Илья Петрович. Думаю, что этого пока вполне достаточно.
– Какое ведомство вы представляете?
– Министерство внутренних дел Российской империи. Я удовлетворил ваше любопытство? Вот и хорошо. Будем считать, что наше знакомство состоялось. Теперь первый вопрос – куда вы направлялись?
– Пока мне не объяснят, по какому поводу я арестован, и не предъявят официального обвинения, ни на какие ваши вопросы отвечать не буду.
– Предъявим, господин Сокольников, предъявим. И на вопросы заставим отвечать. Поэтому советую время зря не терять, отвечайте сейчас.
Сокольников демонстративно отвернулся, решив для себя, что больше ни одного слова не скажет, пусть его хоть на куски режут. Кто же все-таки отдавал приказ о его аресте? Какие люди и при каких чинах? Уж, конечно, не статский советник Илья Петрович Макаров…
– Я жду. Вопрос задан. Будем говорить или нет?
Сокольников не отвечал. Думал: «Теперь вся надежда только на Гиацинтова и Речицкого. Справятся?»
6
– Володя, а Володя, слушай меня. – Федор еще раз посмотрел на следы санных полозьев, сморщил нос, будто принюхивался, пытаясь уловить только ему ведомые запахи, и бесстрастно продолжил: – Шибко худо, Володя… Каждый по себе поехали. В ту сторону три саней, эту сторону – четыре.
– Значит, разделились, – Речицкий вылез из кошевки и тоже подошел, внимательно рассматривая развилку, которая лежала теперь перед ними.
Узкая лесная дорога, нырнув в низинку и выскочив на пригорок, резко раздваивалась, уходя в противоположные стороны.
– Почему они разделились? И куда ведут эти дороги? – спросил Гиацинтов.
– Да чего же тут мудреного! – подал голос Гриня. – Налево которая, та на увалы идет, а направо – на старые покосы. А разделились потому, что весь бор можно с двух сторон объехать и насквозь обшарить.
– А избушка в какой стороне? – уточнил Гиацинтов.
– Избушка на старых покосах. К ней другая дорога есть, прямо от деревни, короче, но они, видно, про нее не знают, здесь поехали. Погоди, они же прямиком к деду выедут!
– Догадался наконец-то, – усмехнулся Гиацинтов, которого раздражала недоверчивая настороженность Грини и его открытая неприязнь. – В кошевку все! Савелий, направо! Гони!
Скопом свалились в кошевку. Савелий выстелил кнут над конскими спинами, и замелькали сосны по обочинам дороги, будто сорвались с места и тоже взяли в карьер.
Но они опоздали. В избушке уже никого не было. Только притоптанный снег, разлинованный полозьями, небольшое кровяное пятно возле ступенек да оброненная старая рукавица. Гриня поднял ее и сразу признал:
– Дедова.
Гиацинтов смотрел на рукавицу и не знал, что делать. Полозья от саней веером расходились от избушки, ясно было, что следы запутали специально. В какую сторону ехать? А подвода всего одна. Если разделиться, пешком далеко не уйдешь…
Решение пришло неожиданно:
– Савелий, распрягай!
– Кого? – не понял тот.
– Корову! Коней распрягай! Григорий, останешься здесь, я, Савелий и Федор с Речицким разъезжаемся. Речицкий, едешь вместе с Федором, вдвоем, вы худые, на одного коня поместитесь. Если кто обнаружит их, ничего не предпринимает, возвращается к избушке, все собираемся здесь. До сумерек всем здесь быть. Григорий, если не вернемся, идешь в деревню и поднимаешь народ на поиски. Говори прямо – дед пропал.
Савелий быстро распряг тройку. Охлюпкой[23] сели на коней и разъехались в разные стороны.
И никто из них в эти торопливые минуты не заметил, что из-за старого тополя, стоявшего в отдалении, наблюдают за ними внимательные глаза.
Оставшись один, Гриня несколько раз обошел вокруг избушки, но больше ничего не отыскал – только снег да следы на нем. Снял с плеча ружье, присел на низкую ступеньку и сразу же вскочил, успев ухватить цепким взглядом, что за старым тополем кто-то шевельнулся и мелькнула на искрящемся снегу легкая, почти неуловимая тень. Мгновенно скользнул за угол избушки, держа ружье наготове, притаился и осторожно выглянул. Никакого шевеления за тополем не было. Гриня терпеливо ждал.
И дождался.
Сначала показался из-за тополя серый теплый платок, и вот уже чутким настороженным шагом, озираясь по сторонам, вышагнула… Гриня моргнул от неожиданности – может, поблазнилось? Нет, не поблазнилось. К избушке прямиком шла Дарья Устрялова. Шла уже спокойно, не озираясь; через плечо у нее, наискосок, была привязана веревка и следом, оставляя извилистую полосу, тащились широкие деревянные лыжи, прихваченные этой веревкой. Проваливаясь в неглубоком снегу, Дарья упорно, безбоязненно подвигалась к избушке, и на лице у нее, когда она подошла совсем близко, Гриня различил довольную, почти счастливую улыбку.
Чему же она так радовалась?
Гриня выбрался из своего укрытия и, продолжая держать наготове ружье, остановился, желая окончательно убедиться – не следует ли за Дарьей еще кто-нибудь? Нет, больше никого не было. Но он продолжал стоять на прежнем месте, дожидаясь, когда она приблизится к нему. Она подошла, легким, привычным жестом поправила платок, и щеки ее, прихваченные морозом, загорелись алым цветом, как маки в начале лета.
– Доброго вам здоровьица, Григорий Батькович… Кого ожидать изволите? Вона даже как! И разговаривать с нами не желаете. Ну, мы не шибко гордые, перетерпим. Только совет хочу дать, Гришенька… Напрасно ты караулить здесь остался. Никто сюда не придет, разве что попутчики твои заявятся, когда коней приморят. Да и они с пустыми руками вернутся.
– А ты откуда знаешь? – угрюмо спросил Гриня.
– Мне сорока на хвосте весточки приносит, – в открытую усмехалась Дарья, и шалые глаза ее, по-особенному сверкающие при солнечном свете, смотрели на Гриню с нескрываемым превосходством, будто она только что одержала верх в давнем, очень уж затянувшемся споре.
Гриня продолжал угрюмо смотреть на нее и молчал, ожидая, что еще скажет. Догадывался, что припасла она для него важную новость, может, и не одну.
Не ошибся.
– Ладно, Гришенька, не буду тебя томить. Скажу как есть. Забрали твоего деда приезжие люди и малахольного мужика, который при нем был, тоже забрали. Посадили в сани да и уехали. Дед не хотел ехать, ругался, так они ему сопатку разбили, он и присмирел.
– Ты чего тут делала?
– Да любопытство меня одолело. Все тебя искала. В деревне от меня прячешься, здесь к тебе не подойти, вот и бегаю, как собачонка, за тобой, вынюхиваю – вдруг пересечься удастся, может, и ласковое словечко для меня обронишь…
Чем дальше говорила Дарья, тем скорее улетучивался из ее голоса насмешливый тон. И закончила она уже совсем просительно:
– Скажи хоть одно доброе словечко… Я ведь, Гриша, скучаю по тебе, ночами спать не могу… Сама с собой не могу совладать… Про всякий стыд забыла…
Истинную правду выговаривала сейчас гордая и самолюбивая Дарья Устрялова. Она и сама не заметила, как отпало в последнее время ее горячее желание властвовать над Гриней, как отлетело оно и растворилось, будто одинокий лист, гонимый порывом ветра: сорвался, улетел в огромное поле, и следа от него не осталось. Ничего сейчас не желала, кроме одного – быть рядом с ним, видеть его, слышать. И даже колючий взгляд из-под насупленных бровей, которым смотрел сейчас на нее Гриня, не огорчал, а, наоборот, был люб и приятен.
– Куда они поехали, знаешь?
– Знаю, – вздохнула Дарья, – я ведь вначале, Гриня, честно тебе признаюсь, гадость задумала: пока не поклянешься, что сватов на следующей неделе пришлешь, я тебе про деда ни одного слова не скажу. А теперь… Теперь все расскажу, пойдем в избушку, замерзла, прямо дрожу вся…
7
Яркие, словно только что накрашенные, черные брови смыкались над переносицей, образуя жесткую, прямую морщинку, и большие темные глаза замирали неподвижно, казалось, что их пронизывает мгновенный холод и они, так же мгновенно, становятся ледяными. Три года назад Целиковский впервые почувствовал на себе этот неподвижный взгляд, испугавший его до озноба, и до сих пор не мог избавиться от неосознанного страха перед ним.
Тогда проводили экс в доме богатого московского купца Балуева. И шло все как по нотам: самих хозяев дома не было, только прислуга – кухарка и горничная; потренькали в звонок, сказали, что принесли телеграмму для господина Балуева, затем ворвались в дом, насмерть перепуганную прислугу затолкали в боковую комнатку и быстро, сноровисто принялись за дело, скидывая без разбора в кожаные мешки золотые цепочки, кольца, украшения, вытряхивали из хозяйского стола деньги и в суетливой спешке выпустили на какой-то момент из виду горничную и кухарку. А они умудрились открыть окно и уже раздвигали створки – вот сейчас высунутся и заорут, призывая на помощь…
Целиковский, пробегая мимо, увидел это, кинулся в комнатку, откинул их от окна и замер, уронив кожаный мешок на пол. Горничная, совсем молоденькая девчушка, ползла к нему на коленях, безмолвно тянула тонкие руки, моля о пощаде, и юное лицо ее, даже перекошенное страхом, мокрое от слез, было прекрасным.
– Уходим! – подала команду Кармен. – Что ты стоишь?
На бегу заглянула в комнатку, все поняла, кинулась кошкой к окну, захлопнула створки и снова скомандовала:
– Пристрели их!
Целиковский, сжимая потными пальцами револьвер, не мог поднять руку. Не мог – и все! Будто висела на руке двухпудовая гиря.
Вот тогда Кармен и свела брови над переносицей, взгляд ее оледенел, и Целиковский понял: если он сейчас не выполнит приказа, то пристрелят его самого. Кармен и пристрелит, не задумываясь и спокойно.
Приказ он выполнил.
После экса, когда уже надежно укрылись на явочной квартире и перевели дух, Кармен, закурив папиросу и пуская ровные колечки в потолок, сказала, как бы между прочим:
– В следующий раз, Целиковский, я тебя на тот свет отправлю, как литерный поезд, без задержки.
И очаровательно улыбнулась ему, как она умела это делать.
Авторитет ее в организации эсеров-максималистов был непререкаемым. Она могла так легко, не задумываясь, рисковать своей и чужой жизнью, что даже видавшие виды члены боевки приходили порой в полное изумление.
Затея с поездкой предсказателя в Сибирь полностью принадлежала Кармен. Она горячо, неистово, как все делала, прониклась этой идеей, и остановить ее было невозможно.
И вот сейчас, сидя у маленького костерка, чуть повернув голову, Кармен смотрела на Целиковского ледяным, остановившимся взглядом, а рука ее привычно скользила под полу теплой шубки, где в специально пришитом кармане всегда лежал заряженный револьвер. И все знали, что стреляет вспыльчивая женщина без предупреждений и без промаха.
– Хорошо, я возвращаюсь в Никольск, – Целиковский переломил ветку, которую крутил в руках, и бросил тонкие половинки в костер, – мне нужны помощники.
– Один справишься, без помощников, – рука Кармен выскользнула из-под шубки – пустая. – И запомни – Забелина, если он живой, оставлять здесь нельзя. Вообще следов оставлять нельзя.
Целиковский смотрел на пламя костра и ясно осознавал, что из-под жесткой воли этой женщины ему не вырваться. И как бы в душе он ни топорщился и ни ершился, все равно отправится в Никольск и будет искать пропавшего Забелина, чтобы выручить его, если удастся, а если не удастся… Дальше Целиковский старался не думать.
Он поднялся, отошел от костра; разминая ноги, обогнул небольшую ложбинку и поднялся наверх, на каменный выступ, успев подумать, что здесь надо обязательно выставить часового – видно все как на ладони: шесть подвод, поставленных неровным квадратом, посередине костер, выпряженные лошади кормились здесь же, рядом с возами; на одном из возов сидел деревенский старик со связанными руками, рядом с ним – Феодосий.
«Черт возьми, столько сил потратили из-за одного сумасшедшего!» – Целиковский не удержался и грязно выругался: он с самого начала скептически относился и к предсказателю, и к его пророчествам, а то, что эти пророчества сбываются, считал элементарным совпадением и никак не мог понять Кармен, которая прямо-таки мертвой хваткой вцепилась в Феодосия, а когда они с Забелиным потеряли его на постоялом дворе, она готова была живьем их съесть, потому и закатывала скандалы, упрекая в полной неспособности к серьезному делу и с презрением выкрикивая свое любимое выражение: «Вам только семечками торговать на базаре!»
След предсказателя отыскали в последний момент и совершенно неожиданно: сначала Забелин, еще до своего исчезновения, установил, что Варвара Нагорная служит учительницей в селе Покровском, вспомнили, что Феодосий на постоялом дворе тоже говорил о Покровском и даже говорил, что обязательно вспомнит дорогу. Вот сюда и направились.
А здесь, уже в Покровке, представившись обычными обозниками, выяснив, что Варвара Нагорная исчезла, и выяснив, что уже долгое время никто не не видел деревенскогого старосты Черепанова, узнали про избушку на дальних покосах и незамедлительно отправились ее искать.
И нашли.
Теперь оставалась лишь самая малость – выбраться из бора и вывезти живым Феодосия. Не до жиру – быть бы живу. И хотя сам Феодосий твердил поначалу об иконе, его уже не слушали, ясно понимая, что любая задержка может оказаться роковой. Да и сам Феодосий замолчал внезапно, об иконе не вспоминал и лишь счастливо шептал время от времени, блаженно прикрывая глаза:
– Вижу теперь, все вижу…
В Никольск решено было не возвращаться, а идти на лошадях, сделав большой крюк, до какой-нибудь глухой станции на железной, где и сесть на поезд.
А в Никольск возвращаться предстояло только одному Целиковскому.
И вот он стоял сейчас на высоком каменном выступе, смотрел на Феодосия, понуро сидевшего в передке саней, и ругал его самыми последними словами, хотя прекрасно понимал, что руганью сейчас изменить ничего нельзя. Вздохнул, успокаиваясь, и спустился вниз.
Сам же Феодосий, сунув озябшие руки между коленей, смотрел, как падают на ослепительно-чистый снег черные хлопья пепла от костра, вперемешку с искрами, видел, как белизна покрывается темной перхотью, и хотелось ему сейчас лишь одного – вернуться в избушку и увидеть там Марию. Внезапное желание было столь сильным, что он даже закрывал глаза, пытаясь ее увидеть, но она перед ним не появлялась, хотя, он это чувствовал, была где-то рядом. И странное чувство все больше овладевало Феодосием: ему не хотелось заглядывать в будущее и угадывать его. А ведь он так стремился попасть сюда, в эти места, и знал твердо, что именно здесь ему откроется многое, почти все. И он будет удивлять окружающих его людей, предсказывая им грядущие события, о которых они даже предположить не могли.
Что-то случилось здесь с ним в последние часы. Что? Он не мог найти ответа, не понимал и только горбился все сильнее, плотнее зажимая коленями озябшие руки. Худое тело начинало вздрагивать, но Феодосий даже не подумал подойти к костру, чтобы обогреться.
– Что, милок, зябко? – насмешливо спросил у него Матвей Петрович, пытаясь пошевелить голыми пальцами связанных рук – они уже ныть начинали. – Ты побегай, попрыгай, кровь разгони.
Феодосий не отозвался, только сердито покосился на старика, который всегда смотрел на него с нескрываемой насмешкой, как смотрят на отчаянных врунов, когда с интересом их слушают, заведомо зная, что все услышанное – вранье. Старик не верил ему, и поэтому Феодосий злился.
А Мария, там, в избушке, заметив его злость, увещевала:
– Не болезнь в тебе, Андрюша, сидит, а гордыня великая. Желаешь, чтобы неведомое открылось, желаешь, чтобы слышали тебя, чтобы берегли и холили да восхищались тобой. А сам того не понимаешь, что от гордыни твоей только соблазн и горе людям. Заглянул ты туда, куда не следует заглядывать слабому духом. Одумайся, пока не поздно. Вспомни себя маленьким, Андрейкой вспомни, как молились мы с тобой перед сном, и глазки у тебя были светлые, и сам ты был, как свечка, трепетный, чистый… Вспомни самого себя, а иначе наказание тебе будет страшное.
Долго молчал Феодосий, не отвечал и, лишь перед тем как Мария собралась уходить, признался:
– Ничего я не помню. И не хочу!
Он говорил правду. Короткая вспышка прошлого, когда он увидел в избушке Марию, быстро погасла, будто ее залили водой, и он уже ничего не хотел, кроме одного – вырваться из избушки и уйти. К тем людям, которые оберегали его, внимательно слушали и заботились о нем, а не смотрели насмешливо, как старик, и не просили вернуться в прошлое, как Мария.
Когда он увидел внезапно появившихся Целиковского и Кармен, он им обрадовался, как родным, даже кинулся навстречу, и в радостном возбуждении сел в сани. Но когда приехали в эту низину и остановились на отдых, радость растворилась, уступив место пугающей тревоге. Он не понимал ее причины, а тревога росла, переполняла его, и показалось, что трясется не от холода, а именно от тревоги и непонятного страха.
Даже не заметил, как к нему подошла Кармен. Тронула за плечо, кивнула на костер:
– Иди туда.
Он послушно поднялся, стащил рукавицы, протянул руки к огню. Застывшие, плохо сгибающиеся пальцы сразу же ощутили живительное тепло; придвинулся ближе, и огонь перед ним вдруг раздернулся, обнажив черный пепел с мигающими в нем углями. Пепел шевелился, вздуваясь буграми, и уходил вниз, словно земля расступалась, образуя горловину неведомой и глубокой ямы, которая неудержимо затягивала в себя, как затягивает водяная воронка случайно попавшую щепку. И вот он уже уходил вниз, влекомый непонятной силой, – глубже, глубже. И чем дальше погружался в черное пространство, расцвеченное красными, мигающими пятнами, тем шире, необъятней разворачивалась перед ним жуткая картина. Она была явственной и живой, настолько живой, что он ощущал горький запах гари. Черные, клубящиеся тучи ползли по черной, обгорелой земле, стелились рваными лохмотьями и скатывались с крутого обрыва в реку, в которой текла темно-красная вода. Неистовая жажда перехватила горло Феодосию, пепел забивал рот, и захлестывало одно лишь желание – хлебнуть живительной влаги. Кубарем скатился с высокого обрыва, рухнул плашмя на кромку берега и приник к текущей перед ним темно-красной воде. Сделал первый глоток и выплюнул – не вода это была, а кровь. Тягучая, густая, солоноватая… Он вскочил, кинулся, чтобы взобраться на обрыв, и замер, пораженный: на обрыве стояли люди, выстроенные в один ряд, и мимо этого длинного, бесконечного ряда шла Кармен, за ней шел Целиковский, еще какие-то люди, и все они держали в руках большие наганы, стволы которых то и дело вспыхивали короткими огоньками. И сыпались сверху, как семечки из порванного мешка, люди: офицеры, барышни, гимназисты и реалисты, священники, чиновники, крестьяне, приказчики и купцы – скатывались мгновенно с обрыва, падали в реку, невысоко вздымая тяжелые кровяные капли, и медленно уплывали вниз по течению, и чем дальше они уплывали, тем теснее примыкали друг к другу, и вот уже длинный плот из человеческих тел вытягивался вдоль всей реки, а с обрыва сыпались и сыпались новые, и не было им ни конца ни края…
Сухой, шершавый комок забил горло Феодосию, забил так плотно, что он не смог глотнуть воздуха. Взмахнул руками, словно хотел взлететь, и упал, теряя последние силы, на черный и выжженный берег. И уже не почувствовал, как перевернулся несколько раз и оказался в темно-красной реке; течение плавно потянуло его вместе с другими, а он лежал на спине, смотрел вверх широко раскрытыми глазами и уже не видел пузатых, клубящихся туч, которые летели прямо над ним…
…Кармен, запоздало оглянувшись, проворной кошкой кинулась к костру, в середине которого, охваченный пламенем, безмолвно извивался и дергался Феодосий, скручиваясь в кольцо, как горящая береста. Кармен сунула руки прямо в огонь, ухватила его за поджатые ноги, выдернула из костра и принялась катать по снегу, сбивая пламя. От одежды шел горький, удушливый дым. Волосы у Феодосия обгорели, на черепе и на лице взбухли волдыри, на морозе они лопались, и жиденькая, блеклая сукровица выкатывалась на волю, как слезы, – скупо и медленно.
– Сюда! Ко мне! – срывая голос, кричала Кармен, тормошила Феодосия, пыталась поднять его и усадить на снегу, но тело безвольно заваливалось на сторону, и ни одного звука Феодосий не издавал.
– Отпусти его, – негромко сказал подоспевший Целиковский, – кончился он.
– Как?! Как кончился?! Почему?! – неистово продолжала кричать Кармен, не выпуская Феодосия из своих рук.
Целиковский молчал.
– Да бесы его к себе позвали, – тихонько, так что никто не услышал, пробормотал Матвей Петрович и хотел перекреститься, забыв, что руки у него связаны. Дернулся, ощутив крепко стянутую веревку, и усмехнулся: – Совсем старый стал, ничего не помню… Прости меня, Господи…
8
Хорошо, что ехал Гиацинтов медленно, чутко озираясь по сторонам, и коня не торопил. По конским следам Гриня его и догнал. Хрипло окликнул, скинул лыжи и обессиленно рухнул на бок; запаленно дышал и долго не мог внятно выговорить ни одного слова. Наконец, переборов самого себя, выдохнул:
– Знаю где… Дашка сказала…
Гиацинтов не стал выяснять и расспрашивать, кто такая Дашка и откуда она появилась. Затащил Гриню на коня вместе с лыжами, повернул обратно, и скоро они догнали Савелия, отправили его на поиски Федора и Речицкого с единственным наказом – возвращаться, в сию же минуту, к избушке.
Скоро все собрались.
Дарья начала было рассказывать, что оказалась она здесь случайно и случайно же увидела, как нагрянули сюда незнакомые люди на подводах, но Гиацинтов нетерпеливо остановил ее взмахом руки и коротко бросил:
– Показывай!
Теперь уже на каждого коня пришлось садиться по двое; вытянувшись цепочкой, тронулись.
Солнце перевалилось на вторую половину дня и целилось к закату, синие тени сосен вытягивались на снегу все длиннее. Гиацинтов, ехавший с Дарьей впереди, едва сдерживал себя, чтобы не погнать коня рысью; понимал: с двойным грузом, да еще по глубокому снегу, животину можно и запалить. Поэтому повод не дергал, держал свободно. Конь, словно в благодарность, старался не подвести, шел ходко, прокладывая в снегу глубокую борозду.
– Вот, здесь они, – Дарья подняла руку и показала, – там увал, а как сосны кончатся – низина, в низине и сидят. Да вон, дым видно, костер развели, греются…
Спешились.
Гиацинтов приказал всем, кроме Федора, укрыться в густом сосняке и оставаться там, пока он не позовет. Молча кивнул Федору, и тот, насунув на глаза лохматую шапку, беззвучно, большими зигзагами, двинулся вперед, скользя, будто тень, от одного толстого дерева к другому. И так ловко, привычно это проделывал, что его и с пяти шагов можно было не заметить. Выждав, Гиацинтов направился за ним, стараясь попадать след в след.
Миновали увал, запорошили себя снегом и выбрались на каменный выступ. По-пластунски доползли до края и осторожно заглянули в низину.
– Володя, а Володя, слушай меня, – зашептал Федор, – шибко много их, а нас мало, да еще баба…
Гиацинтов слышал и не слышал его. Он до рези в глазах смотрел вниз и искал Варю. Но ее не было – нигде. Ни на санях, на которых лежали лишь мешки, ни возле коней, ни возле костра. Видел лишь связанного старика и понуро сидящего рядом с ним невзрачного, сгорбившегося мужика.
«Похоже, это и есть предсказатель. А где Варя?»
В этот момент к мужику подошла женщина, и он ее узнал по рисунку младшего Скорнякова, тронула мужика за плечо, коротко сказала что-то ему, и тот поплелся к костру. Когда мужик завалился в костер и поднялась суматоха, Гиацинтов мгновенно подал знак Федору – оставайся и прикрой! – а сам соскользнул вниз по гладким валунам и, не поднимаясь, подполз к большому пню, укрытому широкой снежной шапкой. Замер. Даже дыхание затаил. И еще раз внимательно оглядел всю низину из своего укрытия. Варю он не увидел. «Да где же она может быть?! Где?!»
– Кармен, успокойся! Возьми себя в руки! – Целиковский пытался оттащить ее от Феодосия, но она вцепилась мертвой хваткой в обгорелое тело и не желала отпускать, кричала:
– Все впустую! Ты понимаешь, все впустую!
– Прекрати истерику! – все-таки Целиковский оторвал ее от Феодосия, оттащил в сторону, усадил в передок саней и, зачерпнув снег пригоршней, заботливо обтер ей лицо.
Кармен замолчала. Смотрела остановившимися глазами на неподвижного Феодосия, и тот, будто почувствовав этот пронизывающий взгляд, неожиданно шевельнулся. Подтянул ноги к животу, закрыл обгорелое лицо почерневшими руками, и тонкий, длинный звук повис над низиной:
– И-и-и-и-и-и…
Будто время крутнулось в обратную сторону и чистая, непорочная душа маленького Андрейки, измученного болезнью, взмолила о помощи.
Звук не прерывался, длился и длился, казалось, что он никогда не иссякнет.
Кармен и Целиковский бросились к Феодосию. Подняли его и отнесли в сани. Кармен осторожно придерживала его голову, видела изуродованное лицо и готова была на любые условия – лишь бы только не прерывался тягучий звук, тянущийся из потрескавшихся, в судороге сведенных губ:
– И-и-и-и-и-и…
Целиковский крутнулся на месте, и к нему вернулся командный голос, все-таки боевик он был бывалый, и не раз приходилось попадать в безвыходные, казалось бы, переплеты, но он умудрялся находить из них выход; крикнул:
– Его надо спасать! Возвращаемся в избушку! Быстро!
В низине возникла легкая суматоха. Принялись разворачивать сани, кони уросили, вздергивая головами, пятились, утаптывая снег. Но вот, кажется, выстроились и тронулись быстрым ходом. Последняя подвода еще не выехала из низины, а Гиацинтов, выскочив из своего укрытия, уже карабкался по каменному уступу наверх, где его терпеливо дожидался Федор, сразу все понявший без слов.
Теперь уже не таясь, напрямую, они взбежали на увал и кинулись к сосняку. Скоро все были на конях и по старому следу спешили к избушке.
– Дед живой, а? Дед живой? – успел спросить Гриня, и, услышав, что Матвей Петрович жив, злобно оскалился: – Да я их голыми руками всех передушу!
«Окно в избушке одно, ну, дверь, все равно две стены без обзора, подползут и зажгут – сами выскочим», – Гиацинтов лихорадочно пытался придумать хоть какой-то план, но ничего толкового в голову не приходило, наверное, еще и потому, что стучала, не давая покоя, неотступная мысль – где же Варя? Была ли она в избушке, когда захватили старика и предсказателя? Спрашивать об этом у Дарьи было уже некогда – скорей, скорей, успеть, а там, может быть, и прояснится.
Не прояснилось.
Только подъехали к избушке, только Савелий успел отогнать коней за ближние тополя, как показалась первая подвода, на которой сидел, по-прежнему связанный, Матвей Петрович и еще два седока: один в передке правил конем, а второй, примостившись на розвальни, настороженно озирался. Остальные подводы отстали. Решение у Гиацинтова созрело мгновенно:
– Федор, мой – первый. Григорий, успеешь деда выхватить – будет жить!
Подвода подкатила к самой избушке, и два выстрела, слившись в один, гулко раскололи тишину зимнего дня. Гриня пулей вылетел из распахнутой двери избушки, вскинул Матвея Петровича на плечо, как мешок, и успел заскочить со своей ношей обратно, под защиту стен. И как только он заскочил, первые пули из карабинов, которые были у нападавших, ударили по избушке, высекая серые щепки.
Седоки ссыпались с подвод, как черный горох, и сразу же начали охватывать избушку в кольцо. Стрелять из револьверов было бесполезно – далеко, не достать, лишь патроны зря тратить. Оставалось только одно – обреченно ждать, когда кольцо приблизится и сожмется.
Вот оно приблизилось и стало неумолимо сжиматься.
Гиацинтов поставил Федора у окна, сам залег за низким порожком распахнутой двери, остальным приказал лежать на полу, не поднимая головы. Гриня, развязав деда, подполз сбоку, удобней пристроился со старой берданкой и предложил:
– Может, на подводу всем скопом кинуться?
Конь, запряженный в подводу, с которой только что удалось выручить Матвея Петровича, шарахался от выстрелов, прижимая уши, но продолжал топтаться на одном пятачке, никуда не убегая.
– Не успеем, – отозвался Гиацинтов, – пока разгонимся… Скажи, учительницы здесь, Варвары Александровны, не было? Ничего твоя Дарья не говорила?
– Не было, сказала, что не было. Смотри, смотри, зажигают…
Но Гиацинтов уже и сам видел, как возле дальней подводы загорелся берестяной факел на длинной палке. Не зря он боялся, что воспользуются самым простым способом – поджарят и возьмут тепленькими. Чуть обернулся к Грине:
– Попробуй…
Гриня долго прицеливался. Выстрел. Человек с факелом рухнул плашмя в снег, но тут же вскочил и бойко отпрыгнул, укрывшись за санями. Значит, мимо. Гриня сердито выругался, досадуя за свой промах, хотя выстрел не совсем пропал даром: факел, оказавшись в снегу, затух, и лишь черный дымок поднимался от него. Какая-никакая, а все-таки отсрочка от развязки, которая неминуемо должна была наступить, и наступить, похоже, весьма скоро. Гиацинтов прекрасно понимал, что продержаться они смогут совсем недолго.
Но что он мог сделать?
И тут из угла подал голос Матвей Петрович:
– Там мужик в санях, обгорелый. Если добьете, они сами уйдут. Им только этот мужик нужен, мы не нужны, им в избушку надо, чтобы обиходить его… Слышишь, Гриня? Не видишь его там?
– Вижу, вижу ж… рыжу, хрен его достанешь! – продолжал ругаться Гриня, в возбуждении дергая ногой, словно желал от кого-то отпихнуться.
Пальба нападавших становилась все плотнее, пули через окно и двери залетали внутрь избушки, тревожили старые бревна, и многолетняя пыль вперемешку с трухой беззвучно сыпались на пол.
Потянуло дымом. Все-таки добрались до глухой стены, поджигают. Вот уже и черные лохмы, становясь все гуще, стали загибаться и проскальзывать в двери.
– Речицкий, сюда! – позвал Гиацинтов и, когда тот подполз, постучал раскрытой ладонью по низкому, исшорканному порогу: – Вот вам бруствер, поручик, и обороняйте его до последней возможности. Я сейчас выскочу, попробую пожар потушить, вы – на мое место и стреляйте. Хорошо стреляйте! Григорий, слышишь?! Федор, огонь!
И – выкинулся из избушки, словно гибкая щука, когда она, спасаясь от невода, выныривает из воды и проскакивает над верхней тетивой, чтобы оказаться на воле. Да только тут воли не было, и Гиацинтов, похоже, выпрыгивая из одного невода, попадал в другой. Перекатился за угол избушки, вскинул голову. Один из нападавших уже разжег факелом кучу сушняка возле глухой стены, и длинные языки пламени весело облизывали серые, потрескавшиеся стены. Не поднимаясь, Гиацинтов вскинул револьвер – твердая рука почти не вздрогнула от выстрела. Револьвер – за пазуху, рывок, и сушняк, откинутый от стены и втоптанный в снег, зачадил сизым дымом. Гиацинтов упал плашмя на землю, увидел перед собой подошвы добротных сапог с блестящими шляпками медных гвоздиков, ухватился за эти сапоги и забросил ноги убитого на дымящийся сушняк. Подтянул к себе за ремень валявшийся карабин, передернул затвор и укрылся за трупом противника, который теперь, хоть и ненадежно, все-таки защищал его.
После первого же выстрела карабина темная фигурка легла на снег и замерла. Еще выстрел – и еще одна фигурка перестала двигаться. Стрелял Гиацинтов, как и в былые годы, без промаха. Жиденькая цепочка смешалась, будто разом запнулась, и также разом рухнула в снег, затихла, не двигаясь ни вперед, ни назад. Гиацинтов берег патроны и больше не стрелял, ждал, когда поднимутся. Но никто не поднимался. За спиной он слышал выстрелы и, не оглядываясь, был уверен – Федор, Речицкий и Гриня отбиваются.
«Может, и отобьемся, – подумалось ему со слабой надеждой, – может, и Варя в безопасности, если ее здесь нет…»
Нутряной, звериный визг резанул столь неожиданно и столь неистово, что заглушил звуки выстрелов и заставил всех, нападавших и оборонявшихся, одновременно вздрогнуть.
Визжала Кармен. Визжала так, будто ее раздирали на две половины и выворачивали наизнанку. Она оставалась в санях, ни на минуту не отлучаясь от Феодосия, прикладывала ему снег на обожженное лицо, с ужасом видела, как влага уходит без остатка в горелое мясо, и вздрагивала от нетерпения – ну, сколько они там могут возиться?! Человек, лежавший в санях, нужен ей был позарез, живым, и нужно было немедленно спасать его, чтобы затем, подчинив своей воле, предугадывать грядущие события, а она, Кармен, дочь мелкого лавочника из черты оседлости под Бердичевом, вместо того чтобы нарожать выводок детей и трястись над ними до глубокой старости, она встанет со знаменем над баррикадой, как яростная Свобода с обнаженной грудью на картине Делакруа, когда-то поразившей воображение совсем еще юной девушки, и весь ненавистный мир ненавистной страны вспыхнет огнем от ее слов и от ее поступи – вспыхнет и выгорит до пепла, до праха, и неважно, что вырастет затем на пепле и прахе, совсем неважно, а важно – выгорит!
– И-и-и-и-и… – продолжал тянуть Феодосий, и голос его становился все более тонким, похожим на детский.
Всего на несколько секунд отвернулась Кармен, чтобы взглянуть на избушку. Фыркнула по-кошачьи, увидев, что сотоварищи ее все еще топчутся на подступах, и вскинулась, как от удара, чувствуя, что у нее пресеклось дыхание, – тонкая нить детского голоса Феодосия оборвалась. Кармен резко крутнула головой, так что щелкнули шейные позвонки, и дикий визг вышел наружу, словно из горла выбили пробку. Соскочила с саней, отпрыгнула в сторону и продолжала надрываться с такой силой, что на шее взбухли жилы толщиной в палец. Ее колотил страх – жуткий, до дрожи в коленях, от того, что она видела перед собой.
Видела она в санях вместо Феодосия, который только что лежал, похожий на обгорелую головешку, совсем маленького мальчика. Чудного, красивого мальчика, с льняными, пушистыми кудряшками, которые обрамляли его белое личико, с яблочным румянцем на пухлых щечках. Одет он был в длинную белую рубашку, перехваченную тоненьким пояском; ручки неподвижно лежали на груди, а на пухлых губах застыла радостная и удивленная улыбка, словно предстало перед его закрытыми глазами нечто такое, о чем другие люди даже догадываться не могут.
Кармен сорвалась с места, кинулась прочь и продолжала визжать, срывая голос, до тех пор, пока он не соскочил на тяжелый, надсадный хрип. С этим хрипом, запнувшись за старую валежину, она и завалилась пластом, уткнувшись лицом в мягкую снежную стылость.
И уже не слышала, не различала дружного рева, ругани, новой вспышки выстрелов, которые раздались за спиной, не увидела, как побежали от избушки к подводам ее соратники, а за ними гнались с ружьями и кольями какие-то страшные мужики. Она лишь почувствовала, как кто-то вздернул ее, отрывая от земли, и забросил в сани.
Пришла в себя, когда услышала голос Целиковского:
– Не останавливаться! Гони! Уходим!
Конь рвался, едва не выскакивая из хомута, сани встряхивало на буграх и колдобинах, и чья-то рука безвольно болталась при каждом толчке, слабо стукала по коленям Кармен. Она сдвинулась, чтобы отбросить эту руку, и вздрогнула, но на этот раз уже не закричала, потому что сил не осталось даже на крик.
В санях, безвольно размахивая отброшенной на сторону рукой, лежал Феодосий – мертвый. Она даже не умом поняла, а кожей ощутила – мертвый. И лежал он прежним, обгорелым, каким она вытащила его из костра, – немолодой уже мужик, изуродованный жарким пламенем: лицо, испятнанное лопнувшими волдырями, сморщилось, из раскрытого рта торчал сизый язык, маленькая голова, на которой сгорели все волосы, болталась из стороны в сторону…
– Скидывай его! – кричал Целиковский, нещадно погоняя коня кнутом. – Скидывай, он труп!
Кармен уперлась ногами в легкое, податливое тело Феодосия, столкала его в задок саней, и на очередном ухабе, подпрыгнув, тело послушно вывалилось на санный след.
9
– Ребятишки на полянке играли, под ветлами, вот она к ним и подскочила. Девка, говорят, молодая, конь под ей белый, и шумит: Матвея Петровича Черепанова с внуком на старых покосах возле избушки лихие люди убивают. Тут бабы еще подоспели, и они слышали… Ну, мы и всколыхнулись. Примчались, а здесь… Ты как, целый, нет? – молодой парень, приседая на корточки, заглядывал Грине в лицо, а Гриня морщился, одолевая боль, и снегом оттирал кровь с рук. Не отвечал. Смотрел, набычившись, себе под ноги, и время от времени осторожно трогал пальцами тряпку, которой было замотано его лицо. Пуля со скользом прошла по щеке и разорвала ухо. Голова гудела, будто от удара поленом, и Гриня плохо слышал, о чем его спрашивают.
Дарья, нависая над ним, как наседка над цыпленком, заботливо натягивала на него шапку и сердито поглядывала на парня – чего, спрашивается, пристал? Не видишь, что человеку худо! Но парень, похоже, сердитых взглядов не замечал, все допытывался у Грини – целый тот или нет – и снова рассказывал про девку на белом коне, которая прискакала на околицу Покровки, где играли ребятишки, и подняла тревогу…
«На белом коне, значит, прискакала, – понял наконец-то Гриня, зажмурил глаза от терзающей боли и увидел, словно яркую вспышку, белый шарф, струящийся на ветру, но это короткое видение никак не отозвалось в душе, мелькнуло, будто далекий, ускользающий из памяти сон, вот он был и – нету его, – не погонюсь больше, она для нашей жизни не предназначена…»
Он открыл глаза, увидел склонившуюся над ним Дарью, вспомнил, как она кинулась оттаскивать его от порога, когда по щеке ему прошлась пуля и лицо залила кровь, не побоялась; а когда оттащила, рухнула на него, закрывая своим телом… Дарья была земная, близкая, и он уже не хотел ее отпускать от себя. И не отпустит. Знал уже Гриня, что зашлет в скором времени к ней сватов, и знал, что она ему не откажет, и даже, если дед будет строжиться и ругаться, он все равно упрямо настоит на своем.
Матвей Петрович в это время, окруженный сыновьями и внуками, растерянно молчал и не отвечал на расспросы, только печально озирался вокруг и горбился, совсем по-стариковски. Наконец вздохнул и попросил:
– Придержите меня, ребятки, ноги чего-то не держат, подламываются…
Его подхватили, усадили на сани. Матвей Петрович еще раз вздохнул и снова попросил:
– Приберите тут, чтобы убиенные не валялись. На кладбище похороним. А по начальству – ни-ни, молчать всем, замок на рот повесить. Ясно?
Сыновья и внуки послушно кивали, хотя было им совсем неясно, что здесь случилось. Но с расспросами больше не лезли, поняли, что сейчас им Матвей Петрович ничего не скажет. Когда посчитает нужным, тогда и поведает.
А возле глухой стены избушки стоял на коленях Федор, комкал в руках лохматую шапку, и голос рвался у него, как тонкая ленточка:
– Володя, а Володя, слушай меня…
Но Владимир Гиацинтов не слышал своего верного боевого товарища. Лежал ничком, привалившись щекой к стволу карабина, и кривая струйка крови, пересекая лоб, застывала на морозе.
– Володя, а Володя, слушай меня… – просил, умолял Федор, но отзыва ему не было.
Речицкий сидел здесь же, рядом, привалившись спиной к стене избушки, пытался зажечь спичку, чтобы прикурить папиросу, но рука вздрагивала, и спички одна за другой ломались. Тогда он бросил коробок, вытащил потухшую, но еще шаявшую ветку из кучи сушняка, прикурил от нее, закашлялся и, уронив, сердито затоптал папиросу в снег.
«Как же вы так, Владимир Игнатьевич, – тоскливо думал он, – в самый последний момент и не убереглись… Неправильно, все неправильно… Что я Варваре Александровне скажу, когда она отыщется, как ей в глаза смотреть буду? Неправильно, Владимир Игнатьевич, неправильно…»
Подобрал брошенный коробок со спичками и тяжело, опираясь рукой о стену, встал. Поторопил и Федора:
– Все, хватит, не дозовешься. Вставай…
Тот поднял на него глаза, и Речицкого окатило таким неизбывным горем, что он отвернулся и пошел прочь, сам не зная куда. Наткнулся на Савелия, посмотрел на парня, будто не узнавая, свернул в сторону, двинулся дальше, но Савелий успел ухватить за рукав:
– Старик сказал, чтобы убитых собрали. Я подводу подгоню, помогите…
– Да, да, помочь. – Речицкий послушно вернулся, подождал, пока Савелий подгонит подводу, а когда Гиацинтова уложили на нее, примостился рядом с Федором, на краешке саней, и поднял глаза к небу. Оно стояло над миром без единого облачка – морозное, чистое, и не хотелось верить, что под таким небом люди могут убивать друг друга.
Сумерки застали в дороге. Короткий зимний день быстро догорел неярким закатом, и синие тени густо наползли на санные следы, укрыв их до завтрашнего утра. Уже в темноте тихо пошел снег. И припорошенная этим снегом, далеко за околицей, первой встретила печальный обоз Варя. Быстрым шагом приблизилась к подводе, на которой лежал Гиацинтов, наклонилась над ним и поцеловала последним целованием в холодные губы. Она ни о чем не спрашивала, ни о чем не говорила, даже не плакала, она, словно исполняя только ей ведомый обряд, делала все спокойно и размеренно. Выпрямилась, взяла коня под уздцы и повела его следом за собой. Сначала к истоку улицы, затем, минуя эту улицу, к школе, где в маленькой комнатке горела лампа и желтое пятно светящегося окна было далеко видно.
Две деревянные скамейки, приставленные друг к другу, были застелены широким домотканым половиком. Вот на них и уложили Гиацинтова, скрестив ему на груди тяжелые, охолодалые руки. Варя белым платочком стерла ему кровяной след со лба и закрыла смертельную рану бумажным венчиком.
– Варвара Александровна… – Речицкий осторожно кашлянул в кулак, замолчал, лихорадочно пытаясь подыскать нужные слова, но Варя подняла руку и безвольно опустила ее:
– Не надо, Вячеслав Борисович, ничего не надо. Оставьте нас, будьте добры, мы так долго не виделись.
Речицкий повернулся и почему-то на цыпочках вышел из комнатки; подтолкнул Федора и Савелия, топтавшихся в коридоре, и уже втроем, на крыльце, они долго стояли, прислушиваясь к тишине позднего зимнего вечера. Тишину эту не нарушали даже собаки. Продолжал сыпать снег, и чудилось, что деревня плывет и кружится, накрытая белой кипенью, которая ясно виделась даже и в темноте.
– Пойдемте, – тихо, словно боясь нарушить тишину, произнес Речицкий, – пойдемте, буду вас на ночлег устраивать.
И первым спустился с крыльца.
Они ушли, будто растворились в снегопаде, и, когда ушли, возле крыльца появилась Мария, ведя за собой в поводу белого коня. Поднялась по ступенькам, проскользила невесомо в маленькую комнатку и остановилась, прислонившись к стене.
Варя стояла на коленях перед иконой, которая висела теперь на прежнем своем месте, и молилась:
– Покой, Господи, душу усопшаго раба Твоего…
Голос ее звучал бесстрастно и сухо.
Все, что произошло с ней за последние сутки, каждая минута, наполненная чувством опасности и страдания, укрепили ее душу, и она не оборвалась, как с обрыва, в черное горе, рухнувшее так внезапно. Варя ушла в ночь с Марией одним человеком, а вернулась – совсем другим. Там, под невидимым, но ощутимым покровом почувствовала она присутствие незнаемой ей прежде силы, которая, ясно понимала Варя, всегда будет поддерживать и не оставит в унынии в самый тяжелый час. Почувствовала она ее сразу же, как только оказались они с Марией на большой и ровной поляне, которую окружали по краям высокие сосны. Они взметывались острыми макушками прямо в небо и росли так плотно друг к другу, что казалось издали – плотная стена ограждает это место от всех напастей и зол. Тихий ровный свет, несмотря на глухую ночь, струился над поляной, освещая невысокий бугорок, выступавший из снега и покрытый зеленой травой, такой свежей и яркой, будто она только что выскочила из земли, перепутав зиму с ранней весной.
Возле этого бугорка Мария остановилась. Выпустила повод из рук, и конь послушно замер, низко опустив голову. Мария помогла Варе спуститься на землю, усадила ее на траву и сама присела рядом, старательно оправляя на коленях длинное платье. Долго молчала, устремив неподвижный взгляд куда-то далеко-далеко – за поляну, за сосны, в видимое только ей пространство. И говорить она начала медленно, неторопливо, словно возвращалась из далекой дали. Варя слушала ее, прижимая к груди икону, и старалась ни одного слова не упустить, потому что безоговорочно и согласно понимала: каждое слово, сказанное сейчас Марией, определяет ее будущие дни и годы надолго, может быть, навсегда.
Говорила Мария:
– Меня Пречистая позвала и сюда направила. Пологом Своим благодатным накрыла это место, и велено мне содержать его в чистоте и непорочности. Не должно сюда ни людской злобе, ни людским грехам проникнуть. Но я не вечная, грянет час, и отойду, тогда вот она заступит – ее тоже Мария зовут. Подойди, Мария…
От дальнего края поляны, появившись внезапно из-за сосен, радостным бойким шагом поспешила девушка; на ней тоже было длинное белое платье, а за спиной взвихривался длинный белый шарф. Остановилась, почтительно замерла перед матерью, и глаза ее, большие, радостные, чуть притухли, когда она склонила голову, выказывая полное послушание.
И дальше говорила старшая Мария:
– Она у меня шалит иногда. Недавно тут парня одного деревенского дразнила. Но больше не будет, скоро совсем повзрослеет. Когда ты понадобишься, она к тебе явится – не отказывай ей в помощи. Без людской подмоги нам не сохранить покров. Мне Черепанов помогал, Матвей Петрович; ты на его место заступишь, когда он уйдет. Что бы ни случилось, пусть даже камни с неба посыплются, под покров с нечистым помыслом никто не должен проникнуть. Запомните это. Обе запомните.
Мария замолчала, и взгляд ее снова устремился в даль, видимую только ей. Младшая Мария и Варя, переглянувшись, тоже молчали, не смея потревожить тишины даже неосторожным движением.
Один лишь конь мотнул головой, разметывая гриву, и шумно, раздувая ноздри, вздохнул.
И еще говорила Мария:
– Один отец твой знал, Варвара, куда я отправляюсь и для чего меня в этот край послали. Потому и выбор мой на тебя пришелся. Не удивляйся ничему, не нами сказано, что пути Господни неисповедимы. Вот и первое испытание нам грянуло – черные люди чуть было к покрову нашему не подступились. Глупые, возжелали заставить болезного человека, бесами одержимого, своим замыслам служить и будущие времена предсказывать. Да ничего у них не вышло. В последний час ребячья душа вернулась к болезному. А будущее свершается, даже если заглянуть в него, не по человеческой воле, а по Божеской. Они этого не понимают. А это – главное. Никому не суждено избежать пути, который Господь начертал. И тебе, Варвара, не суждено. Поднимайся, пойдем твоего жениха встречать. Встретим и в дальний путь проводим.
Многое из сказанного Марией не понимала Варя, но слова ее крепко и надолго ложились на душу, и она им безоговорочно верила и подчинялась.
Поднялась с бугорка, пошла следом за Марией, с удивлением обнаружив, что стоит над бором зимний день, который вот-вот сменится ранним вечером. И он сменился, и в сумерках пошел снег, и Варя, накрытая этим снегом, встретила за околицей своего жениха – Владимира Игнатьевича Гиацинтова.
Встретила, чтобы проводить его в дальний путь.
– Покой, Господи, душу усопшаго раба Твоего…
Поднялась с коленей, выпрямилась, увидела, повернувшись, что стоит в комнатке, прислонившись к стене, Мария, но нисколько не удивилась ее приходу – она теперь ничему не удивлялась.
Мария подошла к ней, осторожно обняла, погладила ласковой рукой по плечу и неслышно исчезла.
Варя, оставшись одна, присела перед скамейками, на которых лежал Гиацинтов, и тихо-тихо, едва размыкая губы, прошептала:
– Здравствуй, мой родной… Вот мы и свиделись…
10
От одной стены до другой – пять шагов. Если пересекать камеру из угла в угол, получается семь. Сокольников, не зная устали, ходил и от стены к стене, и из угла в угол, и старательно считал шаги – до тысячи, до двух тысяч, иногда сбивался и тогда снова начинал сначала. Один, два, три…
Ноги уже гудели, но он не давал себе поблажки. И, шагая, все пытался найти ответы на вопросы, которые не давали ему покоя в последние недели: где сейчас Гиацинтов и Речицкий, удалось ли им найти предсказателя, и что там, в далеком Никольске, сейчас происходит?
Никакой связи с внешним миром он не имел, не знал, что происходит за тюремными стенами, и мог лишь строить догадки, которые, по прошествии времени, становились все более мрачными.
Илья Петрович Макаров, сопроводив его до петербургских Крестов, теперь едва ли не каждый день вызывал на допросы, выпытывал, угрожал, уговаривал, даже обещал отпустить на свободу, если услышит честное признание. Но все его старания были тщетны, потому что Сокольников молчал. И чем дольше длилось это молчание, тем сильнее нервничал Илья Петрович, порою срываясь на крик. Даже кулаком стучал. Но Сокольников упрямо продолжал стоять на своем и рта не раскрывал.
Снаружи глухо лязгнул тяжелый железный засов, и Сокольников остановился посреди камеры. Его снова повели на допрос.
Илья Петрович встретил широкой и радостной улыбкой, как будто только об этом и мечтал – увидеть в казенном кабинете Сокольникова, с которым они лишь вчера расстались.
– Присаживайтесь, Виктор Арсентьевич. Чаю не желаете? Распорядиться, чтобы принесли?
– Нет, не желаю.
– Ну, как хотите. Вольному – воля, а спасенному – рай. Вы лично что предпочли бы – рай или волю?
– Лично я предпочел бы, господин статский советник Илья Петрович Макаров, чтобы вы, в конце концов, соблаговолили мне объяснить – какова причина моего ареста и долго ли мне придется еще находиться в Крестах?
– С удовольствием отвечаю. Вы мне отвечать не желаете, а я вам отвечаю – в Крестах, а может в ином месте, вы будете находиться о-очень долго! Увы, ваше упрямство вышло боком.
Макаров продолжал улыбаться, но глаза у него под широкими рыжими бровями оставались холодными и настороженными. А длинные, худые пальцы пристукивали по зеленому сукну стола, и этот глухой стук в тишине небольшого казенного кабинета напоминал звук конских копыт по деревянному настилу. Внезапно Макаров сжал пальцы в кулаки и, навалившись грудью на край столешницы, перестал улыбаться; помолчал и дальше заговорил неожиданно просто и доверительно, словно сидел перед ним старинный приятель:
– В нарушение всех инструкций, данных мне свыше, и, само собой разумеется, не написанных на бумаге, я не имею права разглашать тех сведений, которые вам сейчас сообщу. Но я нарушаю инструкции и сообщаю следующее: ваши люди выполнили задачу, которую вы перед ними поставили. Предсказателя больше не существует. Боевка эсеров, которая хотела использовать его в своих целях, полностью арестована и в скором времени предстанет перед судом, скорым и правым. Но наград и благодарностей, Виктор Арсентьевич, вы не получите. Более того, вы напугали очень многих людей, обладающих большой властью. Очень большой властью! Что там этот Союз русского народа! Вожди его скоро окончательно перегрызутся между собой, будут делиться и делиться на половинки и четвертинки, пока окончательно не исчезнут. Печать будет их долбить беспощадно, выставляя в самом неприглядном свете, и закончится все, в конце концов… Плохо закончится! Впрочем, зачем я все это рассказываю? Вы поняли это значительно раньше меня. Поэтому и начали создавать не аморфный Союз, больше похожий на благотворительное общество, а боевую организацию, основанную на жесткой дисциплине и способную в нужный час, не считаясь с жертвами, круто изменить ситуацию, выступив на защиту монархии и монарха. И этой силой, еще только задуманной, еще только собирающейся, вы очень напугали людей, обладающих, как я уже сказал, большой властью… К слову сказать, сигнал ваш с рассказиком в газетке «Русская беседа» до адресата дошел. Услышали этот сигнал и газетку на сегодняшний день закрыли – кончилась беседа… Задушевная, русская беседа… Понимаете…
– Кто эти люди? – перебил Сокольников. – Назовите их. Государь, как известно, поддерживает Союз русского народа…
– Жалует царь, да не жалует псарь! Слышали такое изречение русского народа? Псарь сегодня сам возжелал быть царем, монаршая воля для него, как узда. И скоро, очень скоро он попытается скинуть эту узду, а для того чтобы скинуть, откроет ворота псарни, и лающая, грызущая стая вырвется на волю. Мало окажется верных, кто будет ей противостоять, и она сожрет все и вся…
– Я никак не пойму – зачем вы мне это говорите? Для чего?
– Пожалуй, я и сам не знаю, – вздохнул Макаров, – но почему-то уверен, что должен сказать. Вот и сказал. А люди ваши – молодцы! Вы можете ими гордиться. К слову сказать, известный вам репортер Москвин-Волгин до Никольска не доехал и вернулся в столицу, сейчас бегает по городу и пытается разыскать ваши следы. Если целым останется, пожалуй, и роман напишет, и будете вы в этом романе главным героем. Разумеется, сугубо положительным. Вот, пожалуй, и все, Виктор Арсентьевич. На сегодня допрос закончен.
Он встал, подошел к окну и повернулся спиной к Сокольникову. И стоял до тех пор, пока конвоир не увел арестованного. Когда в коридоре затихли шаги, Макаров вернулся к столу, выдвинул боковой ящик, достал из него серую папку с подшитыми в ней бумагами, раскрыл, не читая, перелистал несколько страниц и захлопнул. Из другого ящика вынул лист бумаги, положил его поверх папки и внимательно, на два раза, перечитал. Это было заключение тюремного врача, и оно свидетельствовало о том, что с арестованным Сокольниковым В. А., содержавшимся в одиночной камере, случился эпилептический приступ, в результате которого данный арестованный Сокольников В. А. получил травму в области височной кости и скончался от обильного кровотечения, которое не удалось остановить.
Макаров поставил под заключением тюремного врача свою подпись, там, где она должна была стоять, и подшил лист к другим бумагам в папке. Голос его в пустом кабинете прозвучал странно и хрипло:
– От обильного кровотечения…
11
Миновали крайние дома Никольска, свернули с накатанной дороги вправо, на старый, одиночный след от саней, едва различимый под снегом, выпавшим накануне. Извозчик, лихо погоняя молодую кобылку, вывез своих седоков на поляну, огороженную со всех сторон густым сосняком, и, обернувшись, услужливо доложил:
– Вот, господа хорошие, укромное местечко, как вы просили. Если не понравится, я могу в другое место доставить. И подождать могу, чтобы, значит, обратно в Никольск ехать. Как прикажете?
– Езжай один, братец, мы тут долго гулять будем. – Речицкий расплатился с извозчиком и первым вышагнул из легкой кошевки на чистый, никем не тронутый снег.
Забелин помедлил, оглядываясь по сторонам, и нехотя последовал за ним. Извозчик сунул деньги в карман, перехватил вожжи, и молодая кобылка весело взяла с места бойкой рысью – только мелькнул задок кошевки, украшенный жестянкой номерного знака. Тихо стало. В этой тишине хриплый, тревожный голос Забелина прозвучал очень громко, показалось даже, что он закричал:
– Зачем привезли сюда? Для чего? Что вы задумали, Речицкий? Где Гиацинтов? Он дал честное слово, что оставит меня в живых!
Не отвечая ему, Речицкий протоптал короткую и неширокую борозду, несколько раз пройдясь туда-обратно, остановился, посмотрел на нее, словно любуясь сделанной работой, и, довольный, кивнул головой – хорошая борозда получилась, ровная. Перешагнул через нее и поманил к себе Забелина. Тот, недоумевая, сделал несколько шагов, и Речицкий остановил его:
– Стойте здесь. Теперь внимательно слушайте меня, Забелин. Вы очень редкостный мерзавец, я в своей жизни таких еще не встречал.
– Какие ваши годы! – коротко хохотнул Забелин.
– Ерничать я бы вам не советовал. Наберитесь терпения и слушайте. Итак, Владимир Игнатьевич благородно подарил вам жизнь, хотя имел полное право просто-напросто пристрелить, как шелудивого пса, заболевшего бешенством. Но он этого не сделал, наивно посчитав, что вы ему все рассказали честно. Он и предположить не мог, что самое главное вы утаили, не сказали, что на помощь вам прибыла боевка и что она уже отправилась в Покровку. Рассчитали верно, что Владимир Игнатьевич, узнав, где находится Варвара Нагорная, бросится к ней на выручку. Вы его прямиком на смерть отправили…
– Я не знал! – вскрикнул Забелин.
– Молчать! – властно осадил его Речицкий. – Молчать и слушать. Я не вправе осуждать либо что-то решать за Владимира Игнатьевича, тем более что он слово свое сдержал – оставил вас в живых, хотя таких, как вы… Ладно, остальное все равно не поймете. Теперь, Забелин, будете стреляться со мной. Я вызываю вас на дуэль, как подлеца и просто изрядную сволочь. Я спать не смогу, если вас не прикончу.
Услышав последние слова, Забелин дернулся, будто его ударили, отшагнул назад.
– Стоять! Стоять у барьера! – снова властно скомандовал Речицкий и неторопливо, спокойно засунул руку за отворот полушубка, вытащил револьвер, бросил его на притоптанную борозду. – Вот ваше оружие. Расходимся на двадцать шагов, затем начинаем сходиться, и каждый волен стрелять в любой момент. Берите револьвер.
– Подождите, Речицкий! Вы в своем уме? Дуэль, высокие слова, вы еще ржавую шпагу мне притащите! И, если уж играть в дурацкие игрушки, давайте играть по правилам – где секунданты, где врач?
– Обойдемся. – Из кармана полушубка Речицкий достал свой револьвер и взвел курок.
– Давайте поговорим! Неужели мы не договоримся?!
– Нет, не договоримся. Берите револьвер.
Забелин нагнулся, взял револьвер и тоже взвел курок. Лицо его разом осунулось, и видно стало, как под круглой, пушистой бородкой медленно шевелятся желваки.
– Теперь расходимся, как я сказал, на двадцать шагов, – Речицкий повернулся и, не оглядываясь, пошел, отсчитывая шаги – один, два, три, четыре…
Сделав пятый шаг, он невольно вздрогнул от выстрела, прозвучавшего гулко и громко. Обернулся и увидел, что Забелин, сжимая в поднятой руке револьвер, медленно заваливается на спину. Рухнул, судорожно дернул ногами, будто попытался вскочить, и, видимо, уже в предсмертной судороге, дернул указательным пальцем курок. Второй выстрел прозвучал, как и первый, – гулко и громко.
Ничего не понимая, Речицкий кинулся к упавшему Забелину, наклонился над ним и отшатнулся – кривая кровяная струйка, извилисто пересекала забелинский лоб и едва заметно, почти невидимо, парила на морозе. «Как Гиацинтова, наповал», – успел еще подумать Речицкий и резко выпрямился, оглядываясь – кто мог стрелять?
Из-за ближайшей сосны неторопливо выбрался Федор, поправил на голове лохматую шапку и побрел, старательно глядя себе под ноги, будто хотел что-то найти в снегу. Подошел, постоял над Забелиным и повернулся к Речицкому:
– В спину тебе хотел стрелить. Я знал, что стрелит, едва успел. Хорошо, успел…
И, сказав эти слова своим обычным негромким голосом, Федор вытащил револьвер из пальцев Забелина, сунул его за голенище валенка и быстро закидал снегом холодеющий труп. Речицкий тупо смотрел на его несуетные движения и только теперь начинал понимать, что произошло: Забелин подождал, когда он сделает первые шаги, и вскинул револьвер, чтобы выстрелить в спину… Не успел – успел Федор. И когда только успел?
– Савелий вез, – словно отвечая на этот вопрос, неторопливо рассказывал Федор, – шибко ругался. Зачем, говорит, хозяину не сказал, что они поехали. Не мог я сказать, быстро поехали. Савелий там ждет, пошли.
За ближними соснами их, действительно, ждал Савелий.
«Вот теперь можно философствовать до бесконечности, уважаемый Владимир Игнатьевич, – невесело думал Речицкий, – и о превратностях судьбы, и о воле случая, и еще о чем угодно… Наша с вами дуэль не состоялась, а вот эта – состоялась, и даже со смертельным исходом. Разве кто мог об этом подумать? Я и представить себе не мог ничего подобного…»
В тот же день, даже не попрощавшись со Скорняковым, которого не оказалось дома, Речицкий купил билеты на поезд, для себя и для Федора, и они отправились на восток. Он решил, что обязательно доставит своего спасителя до нужной станции и лишь тогда вернется в Москву.
В купе они оказались без попутчиков, вдвоем, и Федор, вытянувшись на полке, закрыл глаза, завел длинную, монотонную мелодию.
– О чем ты поешь? – спросил его Речицкий.
– Жизнь пою, – последовал ответ, – Володю пою, небо пою, солнце пою – всех пою…
Эпилог
На пологие крыши сыпал сырой снег, цеплялся за старое, но еще крепкое железо, вниз не соскальзывал и не таял. Ложился все гуще и скоро перекрасил в белое крыши, которые, смыкаясь между собой, образовывали два огромных креста, между которых вздымалась, устремляясь в небо, пятиглавая церковь Святого благоверного князя Александра Невского. Толстые стены из красного кирпича, возведенные прочно и на века, были темны и мрачны в поздний, глухой час ноябрьской ночи, которая властвовала безраздельно над бывшей столицей бывшей Российской империи.
Снег сыпал и сыпал, будто желал, хотя бы немного, украсить собой угрюмость старой тюрьмы, именовавшейся просто и коротко – Кресты.
Сами Кресты, их стены, запоры, засовы, решетки, коридоры и камеры были равнодушны к тому, что снег желал их украсить. Они не только к снегу, они ко всему и ко всем были равнодушны. И не существовало для них никакой разницы – кто нынче числится в сидельцах.
А числились в сидельцах люди высокого полета: генералы от инфантерии и кавалерии, генерал-адъютанты и флигель-адъютанты, обер-прокуроры и обер-секретари, советники действительные тайные и действительные статские… Едва ли не вся Табель о рангах была представлена в маленьких и тесных камерах, рассчитанных раньше на одиночек, а ныне забитых под самую завязку, словно мешки с картошкой после сбора богатого урожая.
Не имея возможности не только лечь, но даже и сесть, так, чтобы вытянуть ноги, действительный статский советник Макаров задремывал, опустившись на корточки, уткнувшись лицом в меховой воротник пальто, и сердито дернулся, когда его бесцеремонно подвинули и кто-то нахально втиснулся в узкое, освободившееся пространство. Он вскинул голову, повернулся и в тусклом свете электрической лампочки, которая едва-едва мигала под потолком, увидел своего нового соседа. Без шапки, с густой копной рыжих волос, незваный сосед весело огляделся, задержал взгляд на Макарове и тихо шепнул:
– Простите великодушно за неудобство, но иначе никак нельзя, пришлось потеснить. Еще раз простите, Илья Петрович…
– Вы ко мне обращаетесь? – быстро и настороженно спросил Макаров, уже готовый отказаться от своего имени-отчества и заранее опасаясь человека, лицо которого показалось ему знакомым, но где и когда его видел, он сразу вспомнить не мог.
– А что, здесь еще один действительный статский советник находится? – по-прежнему шепотом, почти на ухо, спросил рыжеволосый человек, помолчал и весело добавил: – Неужели его тоже зовут Илья Петрович Макаров?
– Вы кто? Я вас не знаю!
– Знаете, знаете, Илья Петрович. Но могу представиться еще раз – репортер «Русской беседы» Москвин-Волгин, Алексей Харитонович. Не бойтесь, я вас перед р-р-еволюционной властью не буду выставлять в плохом свете, сам на волоске нахожусь. Вот наступит завтрашнее утро, и волосок лопнет…
– А вам-то что в вину ставят?
– Ну-у… У меня грехов много… Певец самодержавия, враг революции – список длинный. Давно вы здесь находитесь?
– Третьи сутки пошли. Я вас, действительно, не узнал, давно ведь виделись…
– Десять с лишним лет прошло. Помните, как я пытался узнать у вас правду о смерти Сокольникова? Вы мне так и не сказали. Может быть, хоть сейчас поведаете…
Макаров пошевелился, разминая затекшие ноги, опустил поднятый воротник пальто и, наклонив голову, зашептал:
– Большевики совершенно правильно, истинно говорю вам, совершенно верно засадили сюда всю эту публику. Справедливо! Должна ведь она ответить за предательство своего государя. Все предали! Красные банты нацепили, за свободу шампанское пили. Вот и получайте отрыжку от вашего шампанского. А надо было в критический момент сотни две преданных людей. Пару сотен! Не больше… Но – решительных до конца и готовых пожертвовать всем, даже жизнью. И все бы пошло по-другому, поверьте, я знаю. Но не нашлось этих сотен, которые хотел создать Сокольников. Их уничтожили еще при рождении и самого Сокольникова уничтожили, без суда и без обвинения. Грохнули головой о каменный пол и дождались, когда он истечет кровью. Написали фальшивый протокол, а я… я его подписал! Если интересуют подробности, могу поведать, теперь мне бояться совершенно нечего, живым меня отсюда точно не выпустят. Что же вы молчите, господин писатель? Не желаете разговаривать?
Москвин-Волгин не отозвался. Поднялся на ноги, прислонился спиной к стене. Ему ничего не хотелось говорить, и он ничего не хотел отвечать Макарову. Думал: «Слишком сытыми были, слишком довольными своей жизнью, вот и возжелалось остренького – свобод, конституций, избирательных прав и прочей дребедени. Да вы и сами, господин Макаров, один из них, только и разницы, что хотя бы сейчас понимаете, что натворили… Но поздно, поздно…»
В этот момент настежь открылись двери камеры и хриплый, будто лающий голос известил:
– Выходи по одному! Вещей с собой не брать! Живей пошевеливайся!
Дожидаясь своей очереди, чтобы выйти из камеры, Москвин-Волгин украдкой перекрестился и даже не оглянулся на Макарова, когда вышагнул в коридор, где при тусклом свете угрюмо поблескивали штыки винтовок.
* * *
Неистовая метель, по-сибирски – падера, буйно пласталась над крышами деревни Покровки, будто желала сорвать их и раскидать деревянным прахом по всей округе. Но крыши дюжили, и под ними шла обычная жизнь.
Завывая, приплясывая, падера металась и над деревенской округой, над бором, обламывая сосновые ветки и густо устилая ими заснеженную землю.
А здесь, под невидимым покровом, царила благостная тишина, как в пустой церкви, воздух стоял недвижимым, и грива белого коня даже не шевелилась, когда он шел в поводу, размеренно переставляя точеные ноги, следом за Марией-младшей. Шли они навстречу Варваре Нагорной, которая, еще обметанная снегом, стояла, дожидаясь их, и переводила сбившееся дыхание, поправляя пуховый платок.
Мария подошла к ней, обняла и, не выпуская из кольца сомкнутых рук, тихо сказала:
– Хорошо, что пришла, я уж опасалась, что в непогоду не дойдешь… Я теперь, Варенька, одна осталась… Мамы больше нет, вот и позвала тебя… Мне твоя помощь понадобится…
– Я знаю, – отозвалась Варя, – я все знаю и сделаю, что в моих силах, обязательно сделаю, ты не печалься.
– К новым временам нужно готовиться, они уже наступили – черные времена. Я их вижу.
Варя больше ничего не сказала, лишь крепче обняла Марию-младшую, словно хотела оборонить и защитить ее от неистовой падеры, которая безумствовала за пределами покрова.
Они стояли, обнявшись, молчали и еще не видели, что прямо над ними застыла в неподвижном воздухе старая икона и живые, страдающие глаза Богородицы были наполнены слезами грядущих, уже наступивших дней.
Повести
Дальний клин
1
К середине сентября сорок четвертого года в Журавлихинской МТС осталось пять ходячих тракторов.
В это же время директора МТС, Семена Кирьяныча Архипова, окончательно доконал ревматизм. Пришлось ему снимать сапоги и залезать в старые катанки, обшитые кожей, но и это не помогло, боль грызла суставы, они щелкали, и легче не становилось даже во сне. Сегодня утром он особенно долго сползал с кровати, выпрямлялся, морщил узкое лицо с выбоинками от оспы и в контору пошел, заметно согнувшись.
По дороге Семен Кирьяныч немного размялся, приподнял голову и бабенок, которые заявились в контору следом за ним, встретил строго. А встали у него перед столом замужняя Серафима Забанина, холостая Нюрка Орехова и совсем молоденькая, семнадцать стукнуло, Маруська Лямкина. Они молчали, глядели в пол.
– Вот так. Знаю, что две недели дома не были, умаялись, – все знаю. А Дальний клин надо спахать. Сколько вы там ковыряться будете – день, неделю, три – без разницы. Но спашите! Зяби не будет – пропал клин. Весной ни у нас, ни у колхоза сил не хватит. Вон уже сколько земли побросали. Понятно? Дошло?
– Семен Кирьяныч, у меня парнишка зашибся, – чуть вперед выступила Серафима. – Мне денек бы, в больницу.
– Бабка свозит.
– Да она ж в небо горбом смотрит.
– Хватит! – заорал Семен Кирьяныч. – Ты мне посаботируй, я тебя живо! Чикаться не буду. Седни после обеда чтоб духу не было. Ну, какого стоите?!
Серафима зло плюнула и широко, по-мужски, растерла плевок сапогом:
– А чтобыть вам всем!
И первой подалась из конторы.
– Черт топтаный, – ругалась Нюрка, когда они уже шли по двору. – Не могла его мать маленького в кадке утопить.
Маруська, не сказав ни слова, и теперь молчала. Она на ходу задремывала, запиналась, и всякий раз голова ее на вытянутой тонкой шее дергалась вперед, а платок, слабо завязанный, сползал на глаза. Рядом с Серафимой и Нюркой, а они были широкой кости, уже ломаные в работе, она казалась заморенным птенчиком, который вывалился из гнезда, пурхается и не то что лететь, на ноги твердо встать не может.
– Ты, Манька, поспи хорошенько, – посоветовала Серафима. – А то опять на плуге сморит, голову еще срежет.
Такое уже было. Маруська на прошлой неделе, когда они с Серафимой пахали в ночь, задремала, и так сладко, быстро – слюнки изо рта потекли, – что кувыркнулась с плуга, а лемех прошел совсем рядом. Сейчас, вспомнив об этом, даже передернулась от острого холодка, и сон вроде отстал. Прибавила шагу.
– А с парнишкой чего случилось? – вдруг вспомнила Нюрка. – Или ты так брехнула, для случая?
– Кого там – брехнула! Чуть сама не зашибла. Ночью-то вчера приехала, притащилась домой – ни рук, ни ног. Мать на моей кровати спит, не стала трогать, к Лешке прямо на топчан пала. И надо ведь, приснилось, будто головку с мотора сымаю. Помню, все по порядку делала: сначала болты выкрутила, потом сдвинула, тяну на себя, чтоб на землю не бросить, да боюсь, как бы за колесо не задело. И так тяжело мне, спасу нет, прямо дрожит все в животе. Бросила, слышу – рев. Зенки-то разлепила, понять ничего не могу, потом дошло. Я Лешку-то во сне раздела догола и фурнула на пол. Он, бедный, затопился, аж посинел. И ручонку, видать, сильно зашиб, разбарабанило вот так.
– Скоро совсем рехнемся с этим железом. Виском бы стукнулся – и нет ребятенка.
Нюрка неторопливо и длинно выругалась. Ругалась она заковыристо, с коленцами и всегда после этого надолго замолкала. Свернула в проулок, к себе домой. Захлюстанный, грязный подол юбки бился о серые голенища сапог. Но ни подол, ни сапоги, ни старая фуфайчонка не могли отяжелить легкую, невесомую поступь ее молодой, еще не согнутой фигуры.
Разошлись по домам и Серафима с Маруськой. До обеда времени осталось всего ничего, а после обеда надо было уже выезжать.
2
Снова их ждал трактор. Стоял он один-одинешенек на краю эмтээсовского двора, а под ним, в тени, отдыхала чья-то неказистая собачонка. Выпущен был этот колесник еще до войны, на Харьковском тракторном заводе, потом проехал на поезде от Украины до Сибири, попал на этот двор и радовал всех свеженькой краской, шипами на задних колесах, которые при солнце весело поблескивали зайчиками, радовал, когда, поплевав из трубы дымом, далеко разносил вокруг веселый треск. Никто в ту пору не мог знать, что придет время, и слезет с него краска, сам он почернеет и обшарпается, а главное – будут его чуть не каждый день ремонтировать, чтобы подольше подержать на этом свете, с которого трактору давно пора было уходить.
Стоял он, остывший с ночи, с мазутными потеками, обшарпанный, и ждал. Серафима, а следом за ней Нюрка и Маруська подошли к нему и в раздумье остановились, оттягивая ту минуту, когда надо будет его заводить. Заводился он плохо – одна маета. Но на этот раз вовремя подъехал и выручил Тятя.
Он остановил неподалеку лошадь, долго смотрел, потом вразвалку, помахивая короткими, литыми руками, подался к ним. Тятя был молодым, здоровенным парнем, но дурачком, тем самым, без которого ни одна деревня обойтись не может. Смиренный по характеру, как телок, он ни на кого не обижался и давно мечтал жениться на учительнице. Сколько раз сватался и в своей Журавлихе, и в соседних деревнях, но молодые учительницы почему-то дружно ему отказывали. В нынешнее время Тятя был незаменимым, любую работу делал хоть и бестолково, но безотказно, а больше всего любил заводить трактор.
Плечом отодвинул Серафиму, снял с головы фуражку, на которой уже протерлась большая, с ладонь, дыра, обхватил рукоятку этой фуражкой и пошел наяривать с такой силой, что подрагивал весь трактор, и словно от этого подрагивания что-то засвербило в железном нутре, мотор наконец кашлянул раз, другой и выпустил длинную, трескучую очередь, полетели в свежий осенний воздух темно-сизые кольца.
– А я так: хап – и готово!
Тятя широко улыбался, нахлобучивая на голову фуражку, из дыры буйно вылезали на волю густые рыжие кудри – из кольца в кольцо. Стригся Тятя раз в год, по весне, но уже летом у него снова отрастала густая копна, которую не брал ни один гребень. С ногтями дело было еще хуже, он их отпускал такие, что они загибались вниз и врастали в пальцы ног. Взяли как-то мужики на покосе наковаленку (до войны еще случилось), уговорили Тятю и зубилом обрубили ему ногти – кровищи, как из барана. Два дня он не показывался, а потом пришел на стан, растянул свое круглое конопатое лицо в радостной улыбке:
– А легко-то как! Во спасибо, хап – и нету!
Мужики ржут – концерт бесплатный. Тятя и вправду раньше вроде забавы был. По-своему его любили.
Трактор гудел, и лошадь, на которой приехал Тятя, косила глазом, пятилась. На телеге стояли две бочки с горючим, лагушок с водой и лежал потрепанный брезентовый мешок с кое-какими запчастями. Сюда же побросали свои узелки с харчишками и запасной одежонкой.
Тятя все улыбался, довольный сделанным делом.
– Чего ощерился! – прикрикнула Нюрка. – Садись давай, поехали!
– Поехали, поехали, – засуетился Тятя. – Нам хап – и готово!
Забрался на передок, понужнул вожжами лошадь (она все не переставала коситься на трактор), и колеса телеги застукали по неровному двору МТС. Серафима, крепко обжимая ладонями руль, прямая, обогнала их и, не поворачивая головы, крикнула:
– Вы тут не мешкайте. Чтобы быстро!
– У, холера, и эта строжится, – бормотала Нюрка себе под нос и болтала ногами, свесив их с телеги.
Поля, мимо которых ехали, были убраны, виднелись только скирды, да сквозь щетину жнивья пробивалась кое-где, зеленея, отава – последняя, осенняя трава. Осыпались, пустели колки, и солнце пронизывало их насквозь, высвечивая каждую ветку, каждый плавно скользящий в безветрии лист.
Стояла такая благодать кругом, что Нюрка закрыла глаза, притихла и тут же разозлилась. Стала подковыривать Тятю:
– Ну, нашел учительницу?
– Не-а.
– Плохо ищешь.
– He-а, я найду, хап – и готово.
– Слышь, Тятя, а меня в жены возьмешь?
– Не, ты своя, деревенская. Мне учительницу надо.
– Ну и что, чем я хуже? – Нюрка подалась к нему, поглаживая груди. – На, бери.
– Не, я боюсь.
Тятя вжал голову в плечи и пригнулся, боясь оглядываться назад. А Нюрка хохотала до икоты и болтала ногами. Запела потом:
Хаз-Булат удалой, Бедна сакля твоя…Оборвала песню, опять закрыла глаза и замолкла.
Скрип-скрип, скрип-скрип – крутились колеса, напрягалась лошадь, тащила телегу, пригибая голову вниз, к земле. Солнце падало, и все дальше, по полю, по жнивью, по отаве, тянулись ломаные тени колков. Невдалеке виднелось облако пыли, впереди него ехала на тракторе Серафима, все так же прямо сидела за рулем, даже не оглядывалась, наскакивал иногда ветерок, доносил треск мотора.
И так все дальше. Впереди – трактор, сзади – лошадь, железные и деревянные колеса мяли сухую, сыпучую землю. Когда поползли на дорогу сумерки, показался Дальний клин, вбитый глубоко в бор. Земля эта, на которой пахали и сеяли, действительно напоминала клин, острие которого рассекало сосны до небольшого лога. Они стояли, как на подбор, высокие, кряжистые, обметанные понизу мелким кустарником. Дальше густо закрывал землю посохший уже рыжеватый папоротник.
Странным было соседство: глухой бор и убранный хлебный клин; казалось, деревья только и ждут момента, чтобы двинуться на желтое жнивье. Переплести все корнями, зарастить густым папоротником, кустарником – вырвать, задавить своей силой землю, всегда принадлежавшую только им. Они разгонялись, добегали до краев клина и – останавливались. Клин, яростно сопротивляясь, не отступая и не уступая, по-прежнему, даже сейчас, в худые годы, каждую осень приподнимал натруженную грудь после пахоты. Весной забирал в себя семена, выкидывал зеленые, еще тощие, низкие ростки и гнал, гнал их, не останавливаясь, вверх, пока не поднималась густая стена пшеницы.
А потом приходила жатва.
Сосны и клин помнили их немало, разных. Особенно первую. В двадцать втором году пришли убирать сюда урожай люди из Журавлихинской коммуны. Это они и вырубили клин, отобрали землю у бора, выкорчевали пни, распахали целик. Хлеба наворотило в тот год – думали, и не справиться. Но убрали, сложили в суслоны и готовились молотить, когда в сентябрьскую тихую ночь налетела из-за Оби банда. Выше сосен метнулось пламя. К запаху горелого хлеба примешивался тошнотный запах горелого человеческого мяса. Пятерых коммунаров, которые оставались караулить суслоны, расстреляли и бросили в огонь.
Пустой и мертвый лежал клин в ту осень. Ветер гонял по нему тучи пепла и сажи, до самых дождей не выветривался запах пожара, и даже вороны облетали гиблое место. Совсем не показывались люди.
Помнят сосны и клин другие жатвы. Многолюдные, работящие, с гулом первого прицепного комбайна, когда густой хлебный дух забивал жаркое дыхание хвойного бора. Все дальше, шире раздвигали люди плоть деревьев, кустарника, трав и цветов; все привольней, размашистей ходили сначала зеленые, потом серокаленые волны пшеницы. Бор, ошеломленный многолюдьем, гулом, голосами, железным звяканьем, отступал, но надеялся, дожидался своего часа, копил в полутемных недрах силу.
И совсем хорошо помнят сосны и клин последнюю жатву, нынешнюю.
Долго-долго, поднимая невысокую пыль, тянулись по дороге несколько лошадей да люди. Когда подошли ближе, то оказалось – одни старики да старухи, сопливые ребятишки да несколько затурканных работой злых баб с хриплыми голосами. Помнят и голос председателя колхоза «Красный самолет», мужик чуть не на коленях упрашивал, молил:
– Родненькие вы мои, милые, хлебушко не оставьте! Нет у меня больше людей. Не оставьте!
Пошли в дело после долгого перерыва снятые с подызбиц и вытащенные из кладовок, порядком забытые и поржавевшие серпы, пошли, сердешные, пригодились. Не было песен, громкого смеха, многого не было. И хотя, как прежде, убрали хлеб, хотя председатель привез в награду бабам и старикам лагушок пива, хотя этот лагушок выпили и даже пели песни, хотя говорили между собой: «Ничего, вроде немного осталось», хотя даже веселели от этих слов – все не то было, не то…
Не зря дожидался бор своего часа, не зря верил. Уже не первый год он все дальше от себя отпускал траву, кустарник, затягивал край пахоты. После нынешней жатвы, надеялся бор, ни у кого не хватит сил, чтобы вспахать землю, он ее засыплет своими семенами, окружит с трех сторон, подомнет и задавит.
3
Невысокая избушка стояла у крайних сосен: срубленная из толстых бревен, она давно почернела, загнила понизу, но еще держалась. Крышу когда-то обкладывали дерном, и теперь на ней буйно росла полынь. Через маленькое оконце с выбитыми стеклами проникал неяркий вечерний свет, падал на широкие нары, на длинный стол, сколоченный из толстых досок, на печку, кое-как обмазанную и потому дымившую так, что снаружи глина и кирпичи у нее обросли сажей. Застойно пахло старой, истертой соломой и мышами.
Серафима со скрипом оттащила дверь избушки, ступила через порог, постояла посредине, не зная, за что взяться, махнула рукой и вышла. Тятя стаскивал с телеги бочки с горючим, не старался, чтобы ловчее, брал в обхват, тужился, оттопыривая толстые губы, и шумно, носом, сопел. Маруська все еще сидела на телеге и по-прежнему дремала. Нюрка на кромке бора собирала сушняк и, наверное, ругалась, но слов нельзя было разобрать, доносилось только невнятное бормотание. Все это Серафима увидела разом: Тятю, Маруську, Нюрку, клин со жнивьем, который сейчас, в соседстве хилого трактора и этих горе-работников, казался необъятным, пугающим, словно растворялся в недальних сумерках, а там, за ними, лежали версты и версты, может быть, доставали до самого края неба.
Не оставляя времени на раздумья, заторопилась, закричала, подхлестывая себя своим же голосом:
– Маруська! Хватит дрыхнуть! Вставай! Тятя! Ну-ка переверни бочку, поставь на попа. Да живей ты, не телись!
Испуганно соскочила с телеги Маруська, шустрей зашевелился Тятя, даже Нюрка – а она обычно не очень-то пугалась Серафимы – прибавила шагу, подтаскивая к избушке большую охапку сушняка. Печку затоплять не стали, разожгли костер на улице.
На яркое пламя плотней и ближе подошли сумерки, вокруг все затихло, улеглось на ночь.
– Нам здесь, Серафима, до морковкиного заговенья ковыряться, – Нюрка повела алой от костра рукой. – Столько земли перевернуть, жилы лопнут.
– Не лопнут. Не царские дочери.
– Царские! Насмешила. Мы на баб-то не похожи. Тебя вот добрый человек увидит где ночью, заикаться будет.
Она присела и снизу вверх стала рассматривать Серафиму. От старых сморщенных сапог до кургузого пиджака, из-под которого виднелась застиранная мужнина рубаха. Нюрка не придуривалась, она действительно с интересом смотрела на Серафиму, на ее черные, охапкой столканные под платок волосы, на вытянутое смуглое лицо, которое после жаркого лета совсем почернело, походило на обгоревшую головешку. И сама Серафима была словно обгорелая, словно слизал огонь все веточки, все листочки, оставил только самую крепкую, обугленную середку.
Под Нюркиным цепким взглядом она перевязала платок и с затаенной тревогой спросила:
– Неужели такая страшная?
– А-а! – радостно рассмеялась Нюрка. – А-а!
– Не акай. Давайте варить и спать. Завтра чуть свет подниму.
Цельную пшеницу раскатали бутылкой на доске и заварили кашу, бросили для приправы в котел ржавый кусок прошлогоднего сала. Каша варилась долго, и, перемогая это тягучее время, все сидели около костра молча. Потом так же молча расположились у котла, и только тупо постукивали ложки.
Серафима подала команду спать. Сама затоптала костер и в избушке легла на дальний край нар, чтобы не так был слышен громкий храп Тяти (тот обычно засыпал до того, как ложился).
Шебаршили под нарами мыши, потом осмелели, начали попискивать, устроили возню. Серафима несколько раз кашлянула, но они и не думали успокаиваться. Надо было спать, а сон не брал. Серафима ворочалась, укладывала удобней тяжелые, намаянные руки, и зря. Всякие мысли лезли в голову, но все-таки пересилила себя и забылась тяжелым сном, который редко приносит отдых, чаще оставляет человека разбитым, с тяжелой головой, в ней еще бродят, вспоминаются неясные, мутные обрывки видений, не имеющие ни конца, ни начала.
До войны среди деревенских баб она ничем не выделялась. Было время – бегала на вечерки, пришло время – вышла замуж. Родила парнишку. Так же, как другие, выла на проводах, бежала в пыли за телегами до самого свертка за речкой – и долго бы еще бежала, но запнулась, упала. Телеги с мужиками скрылись за колками, а она все лежала, пока не подошли бабы и не подняли ее. Серафима слабо все помнила, иногда ей становилось даже обидно, что не сохранила в памяти взгляд Ивана, его слова в тот день. Была как оглушенная. Остался только, врезался – и на всю жизнь, видно, – душный запах горячей пыли, глубокой и мягкой, на дороге. Она и упала в нее только потому, что задохнулась. И пока лежала вниз лицом, эта пыль забилась в рот, скрипела на зубах, все сушила. И – высушила. За эти годы никто у Серафимы слезинки не видел. В работе она была неистовой и в посевную или в уборку чернела лицом, словно обгорала. Взгляд ее дурнел и казался таким холодным и безжалостно-спокойным, что людям, которые работали рядом, становилось не по себе. Плугари на ее тракторе подолгу не выдерживали, чаще всего сползали через неделю-другую с плуга, падали в борозду и ревели: лучше в тюрьму сяду, чем с ней пахать! Серафима не ругалась, ничего им не говорила, а шла в МТС требовать нового плугаря. Нынешней весной ей назначили сразу двоих.
Наконец-то угомонились и мыши. Тятя оглушающе храпел. Ему никогда ничего не снилось.
А Маруська видела больших цветных бабочек, порхающих над летним лугом. Если бежать по такому лугу, то ноги долго не устают, и она бежала, бежала. Дыхание у нее было легким, неслышным, лишь изредка нарушалось сладким причмокиванием. Прошлой весной она закончила шесть классов и проходила теперь, как сказала мать, седьмой – коридор.
Не спала только Нюрка. Широко открытыми глазами смотрела в темноту и ничего не видела, даже своей руки, которой проводила иногда по лицу. Рука была горячей, и от нее так же горячо загоралось лицо, долго потом не остывало и наливалось, наверное, румянцем. Нюрке шел двадцать пятый год. В это время многие из ее ровни нянькали ребятишек, вон Серафима, на два года всего старше. А Нюрка все еще была незамужняя.
На вечерки она начала бегать раньше всех своих сверстниц. Через год была уже первой невестой на всю Журавлиху, и разговоров, которые шли про нее, хватило бы на всех девок в проулке. Так уж получалось, что всем парням она была люба. Только бы захотела Нюрка, только бы глазом повела – любой пригнал бы сватов в тот же день. Но в том и беда: ждала парня особенного, толком сама не знала какого, но особенного. А тут война. Нюрка все ждала. Потом устала, обозлилась и за какой-то год стала отчаянной матерщинницей и похабницей.
Все это было днем, а ночью наплывала, укачивала старая мечта. Не давала спать, крутила винтом на жаркой постели, звала куда-то. Куда? Если бы знать.
Нюрка осторожно слезла с нар и прямо босиком выбралась из избушки. Уже пала роса, по-осеннему холодная и негустая, обжигала, леденила ноги, но Нюрка брела дальше и дальше по колкому жнивью, остывая телом и головой. Ее не пугали потемки, не пугал глухой шум бора и непонятные вокруг шорохи, не пугало даже то, что она не видела под собой земли, не видела, куда ставит ноги. Долго бродила по сжатому клину, пока не замерзла.
4
Утром Серафима подняла всех спозаранку, когда с восточной стороны только едва завиднелись макушки сосен. Стоял тяжелый морок, который обычно заканчивает светлые дни бабьего лета, а потом тянет к себе дожди, холод и слякоть – самую неприглядную тоскливую пору, когда даже земля устает и не берет в себя влагу, ждет морозов, первого снега.
Спросонья вздрагивала и позевывала Маруська, раскатывала бутылкой на доске зерна пшеницы, они хрустели и рассыпались твердыми комочками. Она иногда брала щепоть, слизывала ее и медленно жевала. Нюрка собиралась заправлять трактор, наклоняла к ведру бочку с горючим и тоже вздрагивала, то ли от холода, то ли от тяжести. Бочка отпотела, и от рук оставались на ней темные полосы. Влажный налет лежал и на тракторе. Серафима проверяла мотор, прикидывала, когда надо будет делать перетяжку – самое колготное дело. Сырость лезла под пиджак, обдавала тело гусиными пупырышками.
Один Тятя, словно не чуя ни морока, ни знобящей прохлады, расхаживал босиком, разводил костер, вешал на палку котел с водой и по привычке улыбался так широко, что шевелились уши. Ему все было нипочем. Как-то, в один довоенный год, на покосе ливанул обломный дождь. Кто где мог, там и прятался: одни в копну залезли, другие – под телеги, натянув на себя что под руку подвернулось. Утром поднялись и, как водится, стали рассказывать, кто где ночевал. Тятя стоял тут же и слушал.
– А ты где был, сердешный? Куда от дождя прятался?
Он улыбнулся, глянул на мужиков, ничего не понимая:
– А разве дожж был?
Оказывается, он всю ночь проспал у потухшего костра и ничего не заметил.
Понемногу светлело, но солнце так и не показывалось, сумрачное, низкое нависало небо, похожее на одну сплошную тучу. Начал подувать ветер, наскоки его становились сильнее, резче. Подставив этому ветру спины, торопливо глотали пшеничную кашу. Утро словно всех придавило.
Тятя пальцем выскреб из котла остатки, сыто прижмурился и снял свою дыроватую фуражку. Долго крутил рукоятку, пока не завелся трактор, а когда завелся, вытащил рукоятку и победно глянул:
– А я так: хап – и готово!
Он ждал, что его похвалят, но всем было не до него.
Маруська примостилась на плуге, Серафима вывела трактор на кромку клина, и три блестящих, надраенных лемеха врезались в землю. Первая полоса медленно потянулась по жнивью. Была эта полоса махонькой на большом клине, такой махонькой, словно тонкую нитку положили на краешек широкого стола.
Работали они обычно так. Серафима не слезала с трактора, а Маруська с Нюркой по очереди менялись на плуге. Фары давно уже выбили, поэтому ночью кто-то из них брал «летучую мышь» и шел впереди, светил. Серафима так уматывала девок, что они к полуночи на ходу засыпали. Придется и здесь, на Дальнем клине, прихватывать ночь, иначе вовремя не управиться.
Неловко согнувшись, Маруська держалась за рычаг, и этот рычаг нагрелся от ладони, не холодил, от него не хотелось даже отрываться, если требовалось деревянной лопаточкой очистить с лемехов налипшую землю. В это время Маруська ни о чем не думала, только считала круги, сделанные трактором. А под конец, когда тупой болью сводило поясницу, когда тяжелели руки и от стрекота трактора, от нудной езды на тряском плуге начинала гудеть и клониться голова, тогда Маруська ждала только одного – скорей бы заглох мотор. Или Серафима его сама остановит, или он сломается, или горючее кончится, неважно это, лишь бы заглох.
Ширилась полоса, но медленно, едва заметно.
На одном конце клина был неровный, кочковатый участок, плуг там скрипел и ерзал, казалось, вот сейчас лемеха выскочат из земли и пойдут поверху. Цепко обхватив руками руль, Серафима тряслась на деревянном сиденье, под которым позвякивали ключи и гайки, изредка оглядывалась на Маруську: не задремала ли, хотя задремать при такой тряске было муд рено. От накаленного мотора уже наносило жаром, пожалуй, скоро придется делать перетяжку. Обычный случай, пора уже и привыкнуть, но Серафиме всякий раз становится страшно, когда замирает железо. Она его плохо знала и ненавидела, этот разбитый трактор. Всю жизнь, сколько помнит себя, Серафима любила косить и сгребать сено в духмяном раздолье июля, любила доить корову, обмывать ее тугое, налитое вымя, совать в мягкие коровьи губы круто посоленную горбушку, любила пеленать и кормить грудью своего парнишку, а он родился пухлощеким, толстым, с нежными складками на ножках и ручках, от них пахло по-особенному, и она не могла надышаться этим особенным запахом, которому до сих пор и названия не придумала. Серафима все это любила. И ненавидела запах керосина, липкую теплость мазута, молчаливое железо, оно всегда ей сопротивлялось, заставляло отчаиваться, когда вдруг мертвело и когда казалось: ни сил не хватит, ни ума, чтобы оно ожило и заработало.
Мотор заглох. Стало хорошо слышно, как в бору шумит ветер.
С перетяжкой возилась долго. Тятя уехал в деревню, и заводить пришлось втроем. Достали веревку, привязали к рукоятке. Нюрка, закусив губу, с растрепанными из-под платка волосами, нагнувшись, рвала снизу рукоятку вправо, наваливалась всем телом и посылала ее вниз и снова снизу, вправо, вверх. Дергали за концы веревки Маруська с Серафимой. Но только холодное побрякивание долетало из нутра мотора. Нюрка напрягалась из последних сил, рвала рукоятку. В моторе вдруг что-то хрюкнуло, она, сжимая потными ладонями железяку, рванула сильней и даже не ухватила того момента, когда рукоятка сыграла: крутнулась назад, вверх, распорола концом юбку, надутую ветром, и, завершая свой короткий стремительный круг, обожгла руку. Нюрка не слышала, как щелкнули большой и указательный пальцы, даже не сообразила, что выбило их, откинулась назад от мотора, запнулась и упала спиной на острое, колкое жнивье.
– А, холера, сколько раз говорено, не обхватывай ручку! – ругалась Серафима. – Не ори. – Сноровисто ощупала ее пальцы – нужда научила, стала заправским костоправом. – Не ори.
Но Нюрка орала и подтягивала к животу колени, когда Серафима раз за разом дернула выбитые пальцы.
– Вот теперь все. Пора уж научиться, не маленькая.
Засунув руки в прореху разодранной юбки, Нюрка зажимала ее тесно сдвинутыми и поднятыми коленями, лежала по-прежнему на спине и тихонько стонала.
В это самое время показался на дороге черный мерин, запряженный в легонький ходок. Ехал в нем Семен Кирьяныч. Ходок резко свернул с дороги, и мерин, не сбиваясь с рыси, ловко подкатил его к трактору. Колеса, окованные толстым железом, вмяли на жнивье две длинные полосы. Семен Кирьяныч выкинул из ходка ноги в пимах, нетвердо ступил на землю. Остановился напротив Серафимы, как-то необычно, странно посмотрел на нее, пощупал правый карман кителя, где хрустнула какая-то бумажка, мотнул головой и повернулся к Нюрке:
– Что случилось?
Нюрка отвернулась и промолчала, за нее ответила Серафима:
– Пальцы рукояткой вышибла.
– Заводить надо с умом! С умом! Дошло? Напахали – курам на смех! До весны будете ковыряться!
Он закричал, лицо побледнело, даже сквозь обычную серость и редкую седую щетину виднелась эта бледность, еще ярче, крупнее проступили выбоины оспы.
– День и ночь пашите! Ясно?
Нюрка повернулась и пошла.
– Стой! Куда? Под суд отдам, я чикаться не буду!
Нюрка не остановилась.
– Это еще что за фокусы? Я тебя спрашиваю, Забанина.
Серафима, ухватив Семена Кирьяныча за полу кителя, потянула его к трактору, зло прошипела:
– На, заводи. С умом заводи.
Он глянул на Серафиму, на ее лицо, стянутое злостью.
– Давай. Беритесь за веревку.
Взял рукоятку и, заметно припадая сразу на обе ноги, пошел к трактору. И опять все сначала. Семен Кирьяныч топтался, дергался, видно было, что сил у него нет, но рукоятку не бросал. Крутил. И трактор завелся, загудел, задрожал, выбрасывая из трубы вонючие кольца дыма. Семен Кирьяныч держал на отлете рукоятку, дышал со всхлипами, закрыв глаза и открыв рот. Так и не отдышался, бросил рукоятку Серафиме под ноги:
– В воскресенье чтоб были в МТС. Чтоб все вспахали! Ясно? Дошло?
Поковылял к ходку, все щупал карман кителя, щупал и спотыкался.
5
К вечеру на плуг села Нюрка. Серафима даже трактор не остановила: одна спрыгнула, другая заскочила. Снова повдоль клина, туда-обратно, пошли отчеркиваться и отваливаться ровно срезанные пласты, они густо кололись трещинами и поблескивали. Разрезанная земля источала густой и влажный дух. Но Серафиме все перебивал горький запах мазута. Мотор трактора, радиатор, в котором уже начинала закипать вода, медные трубки и стальные гайки – все было укрыто, забито толстым слоем пыли, смешанной с мазутом. Крепче всего она въедается в кожу, и, сколько потом ни шоркай руки, сколько их ни отмывай, они такими и останутся – в черных морщинах.
И опять заглох трактор. Нюрка, как только трактор встал, слезла с плуга и упала в борозду. Земля была мягкая и чуть теплая, лежать на ней было удобно. Выбитые пальцы ныли, она зарыла руку в землю, и грызь, которая не давала покоя, потихоньку исчезла. Нюрка вспомнила злое лицо Семена Кирьяныча и с запоздалым испугом подумала, что он ее может и посадить. Запросто. Ведь упек же прошлым летом двух бабенок за то, что не вышли на работу. Больше она уже ни о чем не думала. Спала.
– Вставай, некогда разлеживаться! – Серафима сильно толкала ее сапогом в бок. – Поехали.
Нюрка встала, резко разогнулась, и в глазах замельтешили красные точки, повело в сторону, но устояла, забралась на плуг. Увидела снова уезжающего в деревню Тятю, избушку, сосны над ней, опустила взгляд. Трактор взревел, натужился и дальше потащил за собой черную полосу.
Клин раскалывался теперь на две неравные части: нетронутую и вспаханную. Над клином плыли одна за другой тучи, густой лохматой стаей. Трактор в мутном пространстве казался совсем маленьким и еще меньше – люди. Посыпал дождь, косой, с ветром, уже по-настоящему, по-осеннему холодный. Земля стала налипать на плуг, и очищать его становилось все труднее: коченели и не слушались мокрые руки. Скоро и борозда потерялась из вида в сумерках. Серафиме пришлось остановить трактор: ничего не различала впереди, да и пора было заправиться горючим.
– Давай там Маруську с фонарем. И горючее тащите.
Нюрка пошла по мокрой пахоте и самой себе говорила:
«Рехнулась баба, совсем рехнулась. В дождь пахать…» Сказать этого вслух не могла, потому что спорить с Серафимой в такие минуты страшновато – одним взглядом зарежет. Дождь сек прямо по лицу, и некуда было отвернуться.
Горючее налили в ведра, захватили «летучую мышь» и назад с Маруськой тоже подались по пахоте. Тяжелые ведра оттягивали руки, трудно было идти, проваливаясь в мокрой земле, когда сводит холодом пальцы, а капли скатываются за воротник. Нюрке показалось, что кто-то сел ей на плечи и гнет вниз. А впереди еще ждал плуг, облепленный комками жирной земли; ждала еще ночная пахота. Она остановилась, поставила ведра и быстро, пригоршнями, стала бросать в них землю.
– Ню-ю-ра! – охнула Маруська, когда оглянулась.
– Молчи, ничего не видела. Ее никак больше не остановишь, сдохнуть, что ли! Ступай.
Она снова подняла ведра и потащила. Трактор едва виднелся. Когда добрались до него, засветили фонарь, стали заливать в бак горючее. Серафима до половины вылила первое ведро и остановилась, поболтала, быстро сунула в него руку.
– Маруська, подай свет поближе.
Поднесла руку к самым глазам. Вытерла ее о пиджак и повернулась:
– Девки, вы сдурели? Это ж вредительство. Да нас с вами… Выливай все на землю.
– Докладывать побежишь? Давай беги!
– Дура ты, Нюрка. Выливай, кому сказано!
В свете фонаря было видно, как у Маруськи от страха трясется мокрое лицо. Нюрка стояла не шевелясь. Потрескивал фонарь, шумел дождь. Тогда Серафима сама перевернула ведра и сапогом наскребла на темную лужу земли. За дужки взяла ведра, подтолкнула девок:
– Пошли давай.
В избушке натолкали в печку мокрых палок, и они долго, неохотно разгорались, выталкивали в щели между кирпичей едучий дым. Но вот огонь понемногу занялся, печка накалилась, пошел жар, и нижняя рубашка Маруськи, которую та в обед кое-как пожулькала, совсем высохла и закачалась от тепла, заиграла. Сухой воздух наполнил избушку, согрел. Все трое молчали. Нюрка с Маруськой пытались не смотреть на Серафиму, они как бы отделились сейчас, отрезались от нее. Она заметила это, хотела что-то сказать, но не нашла подходящих слов. Просто захотелось обнять девок и вдоволь нареветься. Но плакать она разучилась.
Снова варили пшеничную кашу, проглядели, и она еще вдобавок пригорела.
– Эх вы, невесты, замуж никто не возьмет! – вырвалось это у Серафимы случайно, просто, и она почувствовала облегчение. – Чего нахохлились, как клуши? Маруська, ну-ка стаскивай все с себя, садись к печке, зубы вон чакают. Простынете – я куда с вами?
Маруська и вправду дрожала. Снизу вверх глянула на Серафиму, робко, еще не веря, улыбнулась и тут же торопливо стала раздеваться.
Дождь на улице разошелся не на шутку, тряпка, которой завесили оконце, намокла и провисла. Но в печке весело крутился огонь, гудело в трубе, и совсем не слышно было, что за стенами избушки, в непроглядной темноте, мочит землю косой дождь. Иногда по полыни на крыше с шумом прокатывался ветер и в щели у печки вылетал дым.
Серафима залезла на нары, согнала с лица обычную хмурость и удивленно рассмеялась:
– А знаете, девки, мне спать неохота. Ей-богу. Вот номер!
– И мне тоже.
Маруська от жары разрумянилась, сидела на корточках возле печки, накинув фуфайку на голое тело, и когда она повернулась, полы разъехались, в неярком свете от фонаря мелькнули маленькие розовые грудки. Она стыдливо запахнула фуфайку и этим рассмешила Нюрку:
– Кого зажимаешься-то! Не украдем.
Маруська смутилась, зарумянилась еще пуще, но Нюрка – она тоже почувствовала это общее для всех облегчение – не унималась:
– Не бойся, такого тебе жениха отхватим! Ух! Забудешь, как ночью спят.
Они хохотали с Серафимой, а Маруська только ниже клонила голову, но и ей тоже приятен был этот шутливый разговор, который отдалял только что случившееся на поле.
– Опоздала, Нюрка. Братуха-то мой, Илья, в каждом письме поминает: соседке привет передайте. Когда это вы успели? А, Маруська? И целовались, наверное? Ну-ка признавайся.
– Нет, нет, – испуганно отмахнулась Маруська.
Серафима согнулась от смеха. Не узнать ее было. Стянула с головы толстый платок, распустила тяжелый узел черных волос, они обвалились за спину, и лицо сразу помолодело.
– Ох, девки вы мои милые! А черт с ним, завивай горе веревочкой. Точно, Маруська? Доставай мешок, вон тот, мой. На всякий случай брала, вдруг кто простынет. Давай, Нюрка, кружку и сало тащи, какое осталось, не помрем!
Маруська достала из мешка бутылку с мутной самогонкой, заткнутую пробкой, осторожно глянула на Серафиму.
– Чего уставилась? Гулять будем! Праздник сделаем, что мы, не можем?
Глаза у нее заблестели, все движения были суетливыми, неверными. Щедро налила в кружку самогонки и подала Нюрке. Та закрыла глаза, ахнула разом и долго стояла, хлебая ртом воздух, забыв про кусок сала в руке. Кое-как отдышалась, захохотала и повалилась на нары.
– Я уже пьяная, голова кругом.
Выпила Серафима, чуть пригубила и Маруська. А через несколько минут в избушке стоял такой тарарам, смех и визг, что впору, если бы были, святых выносить. Все, что копилось долгие дни, не находя выхода, вырвалось наружу.
– А помните Васю Шарыгина – Баба Дай Ему? – Нюрка присела, хотела сделаться ниже ростом, закрутила головой и выпучила глаза: – Баба, дай ему! Дай!
До того было похоже, что Серафима ничком легла на нары. А Нюрка дальше изображала, меняя голос, всем известную в деревне историю, с которой и родилась эта кличка.
– Вася, ты мою копешку сгреб? А, признавайся! – будто бы и вправду гудел под хмельком сам Егорша Кривцов и тянул руку, чтобы ухватить за грудки тщедушного, малорослого Васю и потрясти. Но Вася быстренько обогнул свою могучую, как сосновый кряж, жену и, выглядывая из-за нее, тонким голосишком скомандовал: «Баба, дай ему!» Хоть и завалященький, а все равно мужик, слушаться надо. Матрена закатала кофту на могучей руке и долбанула Егоршу в лоб. Только каблуками сбрякал.
И давно бы пора уже спать, а не могли уняться. Нюрка тискала Серафиму.
– Ой, щекотно, да куда ты полезла, холера! Э-э, я таких щупаний не допускала, могла и отоварить. Смотри, Нюрка. Охальница.
– А Ивана тоже боялась?
– Иван! Он меня, знаешь, обнять стеснялся. Да погоди! Вот честное слово. До свадьбы и не целовались ни разу. А в первую ночь как положили нас у Забаниных, а кроватища-то, видала, какая! Я с одного краешку, а он с другого. Вот, чую, лежит вздыхает, и ни слова ни полслова. Догадываюсь, что боится он, как бы передо мной себя не уронить. И так мне до слез хорошо стало – ведь достался никем не целованный, никем не обниманный. Эх, а весна была, окошко раскрыли, дух от черемухи – с ног сшибает, и светит она так, светит. Господи, было же времечко. Десять лет бы отдала, чтоб наново той ночкой пожить.
Серафима прикрыла глаза и говорила уже для самой себя. Не заметила, что Маруська уснула, а Нюрка отодвинулась и молча плакала.
– Да ты что?
– Плачу, – растерянно и беспомощно отозвалась Нюрка. – Плачу вот. Завидую.
– Не надо, спи. Ты свое догонишь, молодая, красивая. Все еще будет. Спи.
Она долго гладила Нюрку по голове, как маленького ребенка, и та затихла. Затихал и дождь на улице, слабел.
6
По утрам Семен Кирьяныч обычно открывал окно в конторе и осматривал эмтээсовский двор. Внимательно и придирчиво. Каждый раз замечал, что на нем все больше становится беспорядка и запустения. Потом возвращался к большому замасленному столу, на котором лежали разные бумажки, старые рассохшиеся счеты, амбарная книга и три толстых красных карандаша, больше он ничем не писал, поэтому все бумаги, где были его распоряжения, приобретали суровость и выделялись цветом.
На этот раз он долго не брался за свои дела. Вытащил из нагрудного кармана кителя казенный серый конверт, достал из него такой же казенный серый листок, где среди печатных букв несколько слов было вписано от руки. Едва шевеля губами, читал: «Ваш сын и муж Иван Забанин пал смертью храбрых…»
Прочитывал похоронку Семен Кирьяныч уже не в первый раз – третий день таскал ее в кармане. Прочитывал, складывал и снова засовывал в карман. «Как град прошел, повыбивало. Кто работать будет? Как в прорву, нажитое вылетело. Всю пашню запустили».
Нынешней осенью такие мысли стали наведываться к нему все чаще. МТС развалилась. В районе поговаривали, что придется ее ликвидировать или объединить с другой. Тракторы выходили из строя, и уже никакими силами восстановить их было нельзя, а которые работали, то, как говорится, на честном слове. Бабы калечились. Вчера отвезли в больницу Настю Ветелину. Сунулась в мотор, не побереглась – косы из-под платка упали, и их замотало. Вспомнил о ней и передернул плечами.
Прицепщица, с которой Настя работала, со страху убежала куда-то, и ее не могли найти. Сегодня утром послал за прицепщицей и ждал, когда она явится.
«Вот так. Настя в больнице, трактор стоит, Серафиме похоронку отдай – еще один на день встанет, потом хоть плачь. А слезам нынче никто не верит».
Сдвинул в сторону счеты и взялся за амбарную книгу.
В это самое время и пришла учительница Дольская в своем длиннополом пальто, в беретике и в ботинках. Дольская была из эвакуированных, вот уже второй год ходила в этом наряде, и журавлихинские собаки никак не хотели его принимать, встречали и провожали ее отчаянным лаем.
– Семен Кирьяныч, я к вам.
– Погодь.
Он увидел на крыльце Настину прицепщицу и поманил пальцем.
– Ну-ка иди.
Та шагнула через порог и встала.
– Рассказывай. Только не ври, по порядку.
Девчушка переступила с ноги на ногу и повернулась к Дольской, словно спрашивала, как рассказывать.
– Что, язык проглотила? Молчишь.
– Да нет, я… – она вздохнула и захлопала глазами, пальцами все перебирала поясок застиранного платья. – Я… выехали мы утром, пахать начали. А тут мотор, не знаю даже, заглох. Ну, Настя ремонтировать давай, потом заводить начали. Мыкались, мыкались, а он молчит, мотор. А я это заводила. Завели. Настя говорит, что подправить там кого-то надо, залезла, наклонилась от так вот, руками туда. Ветерок дунул, и подол полетел, да в мотор прямо замотало. Она заревела, уперлась, я хотела сдернуть и подол вырвала, а у нее ноги соскользнули и головой, косами туда же, опять… Треск только…
Тут девчушка осеклась и снова захлопала глазами.
– А чего убежала?
– Забоялась. Я и сейчас боюсь.
– Иди.
– А?
– Иди, говорю, к трактору. Работать надо. Жди тракториста.
Она растерянно уставилась на него и спиной попятилась к двери, не переставая перебирать пальцами поясок. И вдруг на испуганном лице мелькнула решимость, но Семен Кирьяныч опередил, догадавшись, что она может сказать:
– Иди, иди.
И махнул рукой, словно убирал девчушку из дверного проема.
Она быстро сбежала по ступенькам, побежала и все оглядывалась, собираясь что-то крикнуть, но так и не крикнула.
В конторе стало тихо, лишь щелкали суставы Семена Кирьяныча, когда он садился за стол.
– Чего там у тебя?
Дольская (она все это время молча стояла у стены) не отвечала, смотрела вслед девушке.
– Оглохла? Зачем пришла?
– За дровами. В школе дров нет. Ни в сельсовете, ни в колхозе не дают, а я не хочу, как в прошлом году, с ребятами пилить зимой бревна…
Семен Кирьяныч, перекидывая костяшки счетов и думая о чем-то другом, пообещал:
– Будут дрова, привезем.
Дольская подошла к столу и села напротив Семена Кирьяныча. Семен Кирьяныч отодвинулся.
– Неужели вы добрые слова забыли?
Спросила тихо, с перерывом после каждого слова, будто переламывала в себе боль.
– Нет у меня таких слов. И вообще – ты за дровами или зачем пришла?
Дольская вздохнула, покачала головой.
– За дровами. Знаете, вам потом будет тяжело жить.
– А в чем я виноват? Что бабы работают? Так войну не я начинал!
– Война-то жестокая, да только мы не должны быть жестокими. Мы добрыми должны быть.
Она по-прежнему смотрела на Семена Кирьяныча своими широко открытыми глазищами, не отводя их в сторону. Семен Кирьяныч отодвинулся еще дальше. Сам не зная почему, он терялся при встречах с этой городской молоденькой учительницей, стараясь скрыть растерянность, тыкал ей и разговаривал всегда грубовато. Она словно ничего не замечала. Еще больше терялся Семен Кирьяныч, когда она заводила такие разговоры. И хотя были они очень редкими, он их помнил. Какое бы, казалось, ей дело до баб? Нет, лезла защищать так настырно, словно сама работала на тракторе, словно ей самой не давал он никакой передышки.
– Понимаете, Семен Кирьяныч, нельзя без конца давить. Они и так делают невозможное, они прекрасно все понимают, у них и так ничего нет, а вы их последнего, что можно дать, – доброго слова лишаете.
– Ступай. Некогда речи разводить. Ступай. Дрова будут.
– Я ни приказывать, ни потребовать от вас не могу. Я только прошу. Очень прошу. Вас боятся, а это страшно, когда человека боятся.
– И ты боишься?
– Боюсь. Только не вас, а за вас боюсь.
Она тихо поднялась и вышла. Семен Кирьяныч встал, шагнул к окну. Дольская брела по пустому эмтээсовскому двору и спотыкалась. Он вдруг подумал, что на ней все те же ботики и все то же длинное пальто, в чем она приехала в первый военный год в Журавлиху. Семен Кирьяныч сам ее и привез. Дело было в конце декабря, морозы заворачивали под сорок. Лошади, привязанные к коновязи на площади у райкома партии, были в белых куржаках, когда они шевелились, сани на промерзлом снегу визгливо, до зубовной ломоты, скрипели. И вот на тебе – в такую морозяку, когда ноги в пимах стынут, разыскивает его в райкоме эта учительница и просит довезти до Журавлихи. А сама в ботиках, в беретике, одной рукой ухо отогревает, в другой держит тощенький баульчик.
– Да куда я тебя повезу? Померзнешь.
– Ничего, я постараюсь, не замерзну.
– Постарается! Ишь ты! А зачем в Журавлиху-то?
– Учительницей назначили. Всех эвакуированных в леспромхоз, а меня в Журавлиху, в школу.
– Ясненько.
Семен Кирьяныч пошел к секретарю и выпросил у него на день тулуп. В этом тулупе и привез в Журавлиху Дольскую.
Она многого не понимала в деревенской жизни, которой не знала, иногда была бестолкова, но никогда жалкой. Стоило только взглянуть на ее глазищи, чтобы понять – этой женщине ни гордости, ни ума занимать не нужно. И упорства. В ведрах она таскала с речки воду, коромысло держать не умела, и облитые полы длинного пальто покрывались льдом. Вместе с ребятишками пилила и колола дрова, топила печку в школе, а когда подписывались на военный заем, принесла тоненькое золотое колечко – видно, единственное ее богатство.
Все это Семен Кирьяныч хорошо знал и поэтому не мог просто-напросто отослать ее подальше, как отослал бы другого. Он хотел ее перебороть, чтобы не мягчала душа после разговоров с ней, когда он начинал всех жалеть. А жалость сейчас ни к чему, каблуком ее давить надо – он в это твердо верил.
Вернулся от окна, сел за свой стол, положил голову на счеты и долго так сидел, не шевелясь.
Потом встал, вышел к своему ходку. И ходок весь день сновал челноком между полями, на которых работали эмтээсовские трактора. Семен Кирьяныч шумел, грозился, если замечал беспорядок, не обращая внимания ни на бабьи матерки, ни на слезы, и, уезжая, долбил свое обычное: «Понятно? Дошло?»
Вечером он вернулся домой. Жил Семен Кирьяныч вдвоем с женой на самом дальнем конце Журавлихи – под высокими тополями стоял небольшой старый пятистенок. В ограде скребли землю несколько ободранных тощих кур под охраной горделивого петуха в яркой расцветке. Он неторопко, с угла на угол, пересекал ограду, в горле у него сердито бурлило, а налитый кровью глаз косил вбок. Семен Кирьяныч не мог терпеть петуха, который кидался даже на хозяина, еще больше не мог терпеть дурацких, ободранных кур. И все-таки терпел. Из-за жены. Он был одним из тех районных работников, которых, как выносливых коней, посылают туда, где потяжелее. Кормят не ахти как, зато кнут, чтобы подстегнуть, всегда наготове. Кем он только не работал: уполномоченным в райзо, инструктором в райкоме, председателем в сельсовете, даже директором маслобойки, и вот в последние годы досталась Журавлихинская МТС. Все это время, пока мотались по чужим углам, его бездетная жена мечтала обзавестись своим хозяйством, чтобы коровка была с молочком, живность всякая, но не получилось. Обзавелись вот только в Журавлихе курами да петухом.
Петух косил глаз вбок и крылья уже начал приподнимать, когда вошел хозяин, но напасть не решился, стал пить воду из старого чугунка.
В избе было прохладно и тихо. Семен Кирьяныч снял свои валенки, натянул на ноги носки из собачатины и, не раздеваясь, с крехом, лег на кровать.
Весь мир вечерних деревенских звуков доносился в открытую створку окна, еще не заделанного на зиму, все было разным, но сливалось в одно: мычание коров, лай собак, скрип калиток, неразборчивые голоса баб, управляющихся по хозяйству, и чей-то тонкий детский крик: «Цыля! Цыля! Куда, дурная, цыля!»
Звуки эти располагали к тому, чтобы думать о чем-нибудь приятном, чтобы укачивало, уносило в сон. Но не укачивало, не уносило, и, хотя лежал Семен Кирьяныч тихо, в душе у него все металось. Он спорил с Дольской, спорил, доказывал, по-мужицки грубо и упрямо.
«Ишь ты какая. Выходит, по-твоему, я злыдень, скоро мной, как бабаем, ребятишек пугать станут. А ты спросила, дура ты образованная, хочу ли я таким быть? Да я лучше всех знаю, сколько бабы на себе тянут. Знаю и жалею, только нельзя мне их по головке гладить. Тает человек от жалости, текет все с него. А теперь злость надо иметь, ух какую злость. Если бы я их жалел да нянькал, разве бы они столько сделали? Знаю, что выше головы заставляю прыгать, и все равно заставляю. А заставь пониже, сразу обессилят. Время нынче такое – никому нет поблажек. Понимаешь ты это, ученая-переученая? Легше всего – сказать. А то не доходит: сделали меня таким, такой я нужен, а не ласковенький. Был бы ласковенький – хлеба бы не видали. Настю разве не жалко, ребятишек ее? Да у меня сердце заходится. Я вот третий день как похоронку Серафиме таскаю и не отдаю, потому как нельзя. Отдай – какая из нее работница? А клин спахать надо. Вот и жду, когда спашут, вот и таскаю в кармане, как гранату какую. Она ему еще письма сочиняет, а он лежит, неоплаканный. Да Серафима знать меня потом не захочет, в морду плюнет. И терпеть надо будет. А я разве железный, склеили-то из такого же теста, как всех, разве мне не болит!»
Он представил себе лицо Дольской и с тоской подумал, что она все равно не поймет. Уверенно подумал. И вслух уже, поднявшись с кровати, обложил ее матом. Но легче не стало. Эта учительница словно пошатала Семена Кирьяныча, и он закачался, железные обручи, которые набивал на себя, расползались. Да и то сказать, у всякой штуки свой срок носки.
Под лавкой, в дальнем углу, он нашарил бутылку самогонки, отыскал на полке стакан и щедро, не меряя, налил.
Жена пришла не одна, с соседкой, они застали его лежащим на полу. Семен Кирьяныч их уже не видел, тыкал пальцем в бумажку и вздрагивал лопатками. Бумажка эта была похоронкой Серафиме.
– Господи, да что же это за чин тебе достался! – горько приговаривала жена, укладывая его на кровать. – За всех терзаешься, а люди… люди, они все понимают и тебя поймут.
Соседка согласно кивала головой.
7
Прошел еще один день. День, в котором все было известно наперед с самого утра. Пшеничная каша, холодное с ночи железо трактора, загонки поперек клина, туда и обратно, туда и обратно. Поблескивали лемеха, надраенные землей, отваливались от них пласты, трескались, и, даже когда бабы закрывали глаза, виделись им все тот же клин, все тот же трактор.
После памятно веселой ночи Нюрка совсем помрачнела, враз сникла красивым лицом, и даже походка вроде изменилась, ходила теперь, шаркая сапогами. Может, и не враз все это случилось, может, было и раньше, незамеченное, только теперь сильнее бросалось в глаза.
– Да не изводи ты себя. Так и до греха недалеко. Потерпи, Нюра, потерпи.
– Не трожь меня, Серафима, я теперь злая как собака. Бойся меня. И не лезь.
Так и кончился, не начавшись, этот разговор. Серафима потопталась еще возле плуга и полезла на трактор. Не знала она, что еще сказать Нюрке, какими словами утешить ее.
Труба плюнула сизыми кольцами, и плуг снова ушел в землю. Мотор тянул плохо, а пахота пошла тяжелая, иногда колеса даже пробуксовывали, железные шипы продирали в стерне глубокие борозды. Пристало железо, изработала его земля.
Серафима видела, как девки ее совсем обессилели, и все равно не давала даже махонькой передышки. Она боялась, что если будут пахать вполсилы, то потом все бросят. Она сама бросит. Или сожжет к чертям этот ненавистный трактор, сунет в бак спичку – и гори все синим огнем. А там будь что будет.
Она встряхивала головой и еще аккуратней вела колесник по твердому краю слежалой за лето пашни. Вспаханного становилось все больше, но даже и теперь, как ни крути, работы оставалось еще на целую неделю.
Косяками уходили на юг журавли и утки. Казалось, что они бегут прочь с этой голодной земли, на которую надвигается длинная морозная зима, с глубоким снегом и дикими метелями. Торопятся, машут и машут без устали крыльями, подгоняя себя тревожными голосами.
Нюрка подняла голову и проводила взглядом очередной косяк, он быстро растаял в небе. Не осталось следа. Она горько думала, что вот и ее жизнь тоже так растает и не будет следа, ничегошеньки. Так для чего же тогда ходила по этой земле? Ведь было же ей какое-то предназначение? Неужели только и выпала вот эта тяжелая, без просвета, работа? Потряхивало плуг, и она крепче удерживалась за рычаг, поочередно переставляя затекшие от долгой неподвижности ноги. Лемеха отрезали пласты с чуть слышным треском.
Вернулся из деревни Тятя. Он распряг у избушки лошадь, отдал Маруське мешок с харчами и завалил на телегу пустую бочку. Вдруг вспомнил и полез в карман.
– Письмо привез. Хап – и готово.
– Кому? Мне? – Маруська даже присела от удивления.
– Тебе, сказали. На, читай. Военное.
Маруська неуверенно взяла в руки треугольник. Адрес на нем был написан химическим карандашом, буквы расплылись, и она поначалу не разобрала своей фамилии. А когда разобрала, поверила, что ей, убежала с письмом в избушку. Каким-то чутьем угадала она, от кого пришло это первое в ее жизни письмо. Ведь не зря же, не зря караулил он ее тогда на речке, не зря сунула она ему тайком платок на проводах. И пусть ничего не было сказано, господи, да в этом ли дело! Вот оно, живое, настоящее письмо в руках. Написанное соседом по улице Ильей Матушкиным, братом Серафимы.
«Здравствуй, Мария! С фронтовым приветом к тебе твой бывший сосед Илья Матушкин. Не удивляйся на это письмо. Все ребята с нашего отделения пишут невестам письма и имеют от них личные карточки. А так как я по-серьезному с тобой поговорить не успел, то и пишу только теперь. Ты уже взрослая и понимаешь, что фронтовику нужно теплое слово. А также вышли мне свою карточку. Еще меня наградили медалью, и я вернулся из госпиталя в свою часть и продолжаю бить фашистов. А свою карточку я вышлю попозже, как только будет возможность на нее сфотографироваться. Извини за короткое письмо, бедно у нас с бумагой, и половину листка оторвал я на самокрутку. С низким поклоном Илья Петрович Матушкин».
Маруська читала письмо, и щеки у нее алели, будто невесомым сделалось тело, и хотелось побежать, запеть. И не будь на улице Тяти, она обязательно бы побежала и запела. Песню про синий платочек, о котором помнит солдат и за который бьет врага.
Слова в письме были немного необычные, чудные, даже не верилось, что написал их Илья. Она его помнит задиристым, развеселым. И еще помнит, что, когда его провожали, он целовал всех девок подряд, а ее – нет, потому что была еще не в невестах. Но посмотрел и как-то особенно кивнул ей головой, и она поняла, что нашел уже платок, который сунула ему тайком.
Маруська так долго сидела с письмом и так старательно думала про Илью, что забыла про ужин. Спохватилась, побежала мыть котел. Когда пришла Серафима с Нюркой, вода еще только закипала.
– Ты что, спала?
– Ой, забылась! Да я сейчас, сейчас, вы только чуток погодите. Я все быстро.
Она побежала вытаскивать сало из мешка и запела. Серафима удивленно оглянулась:
– Тебе что, гостинчик дали?
– Ага. Я письмо получила. Вот оно. Ты меня отпроси потом в Крутоярово съездить, на карточку сняться. Ладно?
– От Ильи, что ли, письмо-то?
Маруська доверчиво вытащила из-за пазухи письмо и подала Серафиме. Та взялась читать, сбоку пристроилась Нюрка. Маруська стояла рядом, смотрела на них и светилась. Ей так хотелось, чтобы и они тоже порадовались, развеселились, как в ту ночь. Но Серафима отдала письмо и сказала только:
– Дай Бог, чтоб…
А Нюрка ничего не сказала.
Поспела каша, собрались ужинать и только тут хватились, что Тяти нет. Стали звать. Он появился из бора с полной охапкой опенков. Считали, что они уже отошли, а оказывается, вон еще какие стоят. Тятю хвалили, и он улыбался, ему нравилось, когда о нем вот так хорошо говорили. Желая еще чем-нибудь удивить, вспомнил, о чем толковали сегодня бабы в МТС:
– А я знаю. Начальнику похоронка пришла Серафиме, а он ее прячет.
Маруська выронила котел с кашей, и она густой лентой вывалилась на землю.
– Ты что, сдурел, Тятя! – Серафима цепко ухватила его за грудки. – Мне не может похоронка прийти, не может! Чучело ты огородное!
Она трясла его изо всех сил, и голова Тяти моталась, дыроватая фуражка свалилась.
– Да погоди! Последнее из него вытряхнешь!
Нюрка оттащила Серафиму и строго спросила у Тяти:
– Опять врешь? Напугать хочешь?
Тятя испуганно и согласно закивал. Он хорошо помнил, как в прошлом году били его на покосе бабы. Тятя решил тогда их напугать и, подъезжая к стану, заорал:
– Похоронки везу! Мно-о-го!
Бабы остолбенели.
– А, струсили. Я хап – и готово.
Выволочку ему тогда дали добрую.
– Убью, холера! Мало тебя бабы возюкали! Тьфу ты, зараза!
Поправляя платок, Серафима выругалась и погрозила Тяте кулаком. Он осторожно отошел в сторону, присел на землю, натягивал свою фуражку и сопел. Тятя одно понял: лучше про это не говорить.
Кое-как Маруська соскребла вываленную кашу, но даже и это не доели. Молча подались к трактору.
8
Соседка Семена Кирьяныча не утерпела и брякнула о похоронке. Слух порхнул по деревне в тот же вечер. Услышала его и Дольская. Сначала она не поверила хозяйке, у которой стояла на квартире, но та веско убедила:
– Да он все может, злыдень! И не такое выкинет, по себе знаю.
«Как же так? – думала Дольская. – Как же так? Обманывать человека, в таком горе. Как потом Архипов будет в глаза им смотреть?»
Лежали на столе тетрадки, сшитые из старых газет. Их надо было проверять, надо было готовиться назавтра к урокам. А она ни за что не бралась, никак не хотела поверить в услышанное.
За время войны Дольская успела многое увидеть и испытать. В несколько месяцев прошлая жизнь была разломана и разбросана. Из тиши уютной институтской библиотеки, где она просиживала до ночи, работая над диссертацией, от пыльного запаха старых, мудрых книг, от милых родителей, которые не чаяли души в единственной дочери, от умных поклонников ее выкинуло, неожиданно и страшно, на голое осеннее поле, к тяжелой лопате с плохо обстроганной ручкой, к кровавым мозолям, к противотанковому рву. Это было похоже на сон, она ничего не могла сообразить. Потом возвращение домой. Эвакуация, во время которой Дольская потеряла своих родителей. Они оказались в Ташкенте, а она здесь.
И вот в Журавлихе стала приходить в себя. Отсюда, из глухой деревни, вглядываясь в прежнюю свою жизнь, она вдруг с ужасом поняла, что почти тридцать лет жила не так, не так, как нужно было жить. Оказывается, почти за тридцать лет она никому ничего не сделала – ни хорошего, ни плохого. Она всегда думала только о себе: умнее ли других, красивее ли? Даже когда писала диссертацию, думала не о ней, а о себе. Прикидывала – что ей эта диссертация даст. И вдруг оказалось, что так жить нельзя. Она поняла это с первых дней в Журавлихе. Ведь она каждый день видела перед собой детские глаза, все понимающие и смотревшие по-стариковски устало. Она подставила плечи под общий крест и понесла его.
Утром Дольская отправилась к Семену Кирьянычу. Дольскую поразил его взгляд – тоскливый, растерянный, куда-то мимо нее, в стену. Но Семен Кирьяныч тут же провел ладонью по лицу и холодно сказал:
– Завтра привезут дрова. Я наказал.
– А я по другому поводу, не о дровах. Это правда, что у вас похоронка Серафиме Забаниной и вы ее не отдаете?
Семен Кирьяныч нисколько не удивился, ответил спокойно:
– Правда. Слушай, а какое тебе до этого дело? Ты кто?
– Человек.
– А я злыдень! Замолчь. Садись.
В какой-то момент неприкрытая злоба мелькнула в плоском лице, избитом оспой, в этих глубоко упрятанных холодных глазах, та злоба, с которой человек совладать уже не в силах. Послушалась, села. Семен Кирьяныч, подергивая плечами, перегнулся через стол:
– Ты думаешь, я озверел? Да? Говори – думаешь?
– Вы сами потом раскаетесь.
– Так вот знай: мне уже никакое наказанье теперь не страшное. Самого себя перестал бояться. Нету сильнее наказанья, когда тут все выгорело. А ты не болтай лишнего. Враки все про похоронку, поняли?! Враки! Баба сдуру сболтнула, а другие раззвонили. Не было похоронки. Не бы-ло! Ты это поняла?
– Да нельзя же так! Они сейчас поверят, а потом снова правду узнают. Я тогда сама пойду и скажу им правду.
– Не скажешь, у тебя духу не хватит. Увидишь и побоишься. А сейчас со мной поедешь.
– Куда?
– К Забаниным. Я буду говорить со старухой, а ты подтвердишь. Ты учительница, она тебе больше поверит. И не вздумай чего-нибудь брякнуть.
Семен Кирьяныч поднялся, пошел, не оглянувшись на Дольскую. Забрался в ходок и подвинулся, освобождая ей место. Она подобрала полы длинного пальто и примостилась рядом. Конь резко вымахнул со двора МТС и побежал по улице.
Забанины жили на самом краю деревни. Большой крестовый дом за последние годы обветшал и скособочился. Старая крыша подернулась зеленью, в заплоте светили дыры, хлев завалился. По скрипучему крыльцу Дольская следом за Семеном Кирьянычем поднялась в темные сенки, в избу. Огромная русская печь с полатями, просторная куть, открытый голбец, и оттуда, из темноты, доносилось немощное кряхтенье. На лавке, в короткой рубашонке, которая не закрывала даже пупка, сидел парнишка. Одна рука у него была замотана грязной тряпкой, а другой он неловко чистил маленькую картовочку в мундире и так был занят, что не заметил пришедших. Картовочка выскользнула и покатилась по лавке, парнишка проворно поймал ее и, кому-то подражая, вздохнул:
– Зизня ты, зизня, мать твою так…
Семен Кирьяныч кашлянул и поздоровался. Парнишка оглянулся, быстро сунул картовочку в рот, жевал и смотрел.
– А бабка где?
– Тут я, тут. О господи, выкарабкаться не могу. Кто там? – донеслось из голбца, глухо, как из бочки.
– Я, Архипов.
– Щас я, щас, погоди, дай только выбраться, я щас…
Из голбца показалась растрепанная голова с серыми космами, костистые, мослаковатые руки уцепились за плаху, напряглись, и старуха до пояса вылезла.
– Дай я в глаза тебе гляну, дай я в них плюну, злыдень ты эдакий. Под такой пыткой держать взялся.
– Погодь, вылезь сначала.
Старуха вылезла, выпрямилась, она оказалась высокого роста, угловатая, будто вырубленная. Убрала со лба серые космы.
– Правда? Иль нет?
– Вот и пришел сказать, что вранье. Одна баба брякнула сдуру, ну и понесли.
– Так она ж говорит, своими глазами… – Тело у старухи странно, изнутри дернулось, она качнулась вперед. – Не ври только. А то меня на второй раз не хватит.
– Не веришь мне, вот учительница подтвердит.
Старуха перевела взгляд на Дольскую, та, словно падая с обрыва, отвела глаза в сторону, через силу выдавила:
– Да. Правда.
– О-ох! – Старуха согнулась, ковыльнула до лавки и опустилась на нее рядом с парнишкой, который дожевывал картовочку. – О-ох!
– Ну ладно, пошли мы.
Семен Кирьяныч первым толкнулся в дверь и необычно быст ро выскочил за ограду. Подождал Дольскую, цепко ухватил ее за плечо и, выкатив свои всегда упрятанные глаза, зашептал, брызгая слюной:
– А ты знаешь, сколько теперь таких парнишек, знаешь, что они жрать хотят, хлеба им надо! А без зяби, на которой Серафима, не будет хлеба. Помрет кто-то. Хоть теперь поняла?
Дольская отступила от него на шаг, потом еще, запнулась и пошла, не оглядываясь, полы длинного пальто раскидывались по сторонам, и чья-то собака остервенело лаяла ей вслед.
Семен Кирьяныч забрался в ходок, со всей силы хлестнул коня кнутом, и тот метнулся, чуть не с места в галоп. Только застукали колеса, окованные железом. Он ехал домой. У ограды бросил вожжи, даже не привязав коня, чуть не бегом, припадая сразу на обе ноги, кинулся в сарайку. Вышел оттуда с топором. В окне мелькнуло испуганное лицо жены, хлопнули двери в сенках, она выскочила и встала столбом, прикрыв рот ладонью. Хотелось ей закричать, но за всю их семейную жизнь она ни разу не перечила мужу.
Семен Кирьяныч, зажав в одной руке топор, неуклюже гонялся по ограде за петухом. Петух косил красным глазом, подпускал его совсем близко, потом делал большой скачок в сторону и, не распуская крыльев, быстро мчался в другой конец ограды, там останавливался и снова ждал. Всполошенные куры бестолково метались, роняя перья и поднимая пыль. Семен Кирьяныч уже хрипел и в очередной раз, подкараулив петуха, не стал растопыривать руки, а упал на него плашмя и подмял. Свободное крыло отчаянно молотило по земле. Перехватив его, Семен Кирьяныч потащил петуха к чурке. Глухо стукнул топор, пыль запузырилась от крови, голова петуха отлетела к старому чугунку с водой и, не мигая, смотрела красным глазом. Еще Семен Кирьяныч хватал без разбора кур, стукал топор, и всякий раз жена вздрагивала. Последняя курица со страху одолела заплот, упала в огороде, перевернулась и бросилась так бежать, что из-под ног вылетали струйки пыли. Семен Кирьяныч кинул топор в сторону, вытер пот с побелевшего лица и диковатым взглядом обвел ограду. Только теперь заметил жену, ее ладонь, которой она зажимала рот, испуганные и без того всегда боязливые глаза. Буркнул:
– Забаниным отнесешь. Всех!
И поплелся к своему ходку.
9
Дольская опамятовалась на задах огородов. Бессильно опустилась на какую-то чурку и заплакала, по-бабьи подвывая. Собака, которая было увязалась за ней, остановилась неподалеку, гавкнула, недоуменно покрутила головой и затрусила обратно.
С выкопанных огородов тянул осенний запах увядшей растительности и раскопанной земли. Прохладный ветерок крался от реки, сегодня, без солнца, она была темной, наморщенной, и увалы за ней были серыми, нахохленными, почти голые, стыли на них березы. Во всем слышалась и виделась тихость засыпающей земли, все шло по своему, раз и навсегда утвержденному кругу: лето сменяла осень, осень – зима, облетали деревья, чтобы принять на себя снег, подержать его на тугих ветках и сбросить, а потом снова зазеленеть, – и ничто не могло измениться.
«Почему мы каждый раз меняемся? – спрашивала саму себя Дольская. – Почему мы сами себе наступаем на горло и сами же себя оправдываем? Да, война, да, кругом жестокость, но ведь если сломаем самих себя и найдем оправдание, хотя бы раз, значит, можем повторить и в другой, и в десятый. А потом все равно спросится, обязательно спросится, если не с нас, то с наших детей. Сегодня мы свою жестокость оправдываем войной, завтра другими обстоятельствами. Как же жить, Господи? Зачем, зачем я сказала неправду! Тридцать лет не знала этих женщин, этого начальника. Даже не подозревала, что они живут. Читала, слышала, что есть колхозы, есть МТС, убирают урожай, ударники, вредители – все это от меня было дальше, чем Гомер, чем Спарта. Богинь знала лучше, чем этих баб. Какая ерунда, кажется, что схожу с ума. Нет, все-таки спрошу саму себя – почему так? Признайся, удобно было, спокойно под папиным крылышком. В нашей тихой квартире – я так радовалась, когда узнала, что она полностью сохранилась, – собирались мои друзья по институту, приятные, умные, вели разговоры, желая перещеголять друг друга эрудицией, без конца разговоры, реки слов. Ведь не старались даже доказать что-то, только показывали. Только слова. И они были для нас главным. А я, если бы не случайность при эвакуации, кушала бы среднеазиатские яблочки рядом с папой и радовалась, что квартира наша цела. И все бы прошло стороной, если не стороной, то рядышком, но все равно не задело бы. А ведь есть такие, мимо кого пройдет».
Она как наяву видела некоторых своих друзей. И еще. Высокие окна старинной квартиры, внизу, как в колодце, маленький московский дворик с липами и беседками. По вечерам отец зажигает зеленую лампу, торжественно ставит ее посредине стола, и мягкий, колеблющийся свет не достает до углов. Она подает гостям ликер в крошечных рюмочках, чай и видит, как бы со стороны, саму себя – умную, еще молодую, с хорошими, впитанными с детства, манерами. Отец, гордясь ею, то и дело обращается:
– Дочка, рассуди нас с молодым человеком…
Выслушав их, изложит свое мнение, а свое мнение, как она считала, у нее есть по всем вопросам. Сколько угодно могла говорить о Древней Греции, об английской литературе, о Средневековье и о великих музыкантах – она была очень образованна. А в итоге – какую пользу принесли эти разговоры, что она сделала для других?
И неужели, вернувшись в прежнюю жизнь, она все это забудет? Дольская оглянулась. По-прежнему серела и морщилась река, такими же нахохленными стояли увалы, и солнце едва заметно мигало сквозь густую небесную морось, не пробиваясь через нее и не доходя до земли. По пустой, будто вымершей деревенской улице шла старуха с пустыми ведрами на коромысле. Дольская поднялась, быстро отряхнула пальто и берегом заспешила к себе домой.
«И если уж так, то будь вместе со всеми, раздели с ними все. Возьми на свои плечи то, что положено». Думая об этом, она все убыстряла и убыстряла шаги.
Хозяйка хоть и удивилась ее просьбе, но виду не подала, сказала, что пашет Серафима на Дальнем клине, и толково объяснила, как туда добраться.
Словно в тумане, Дольская провела уроки и сразу отправилась на Дальний клин.
10
Нет, не зря снилось Маруське июльское, в цветах, поле. Распустилось оно в эту осеннюю хмарь, среди угрюмых, потемневших от дождя сосен, среди распаханного наполовину клина, который, казалось, вытянул последние силы. И утром, проснувшись, Маруська вдруг с радостью, с незнакомой ей уверенностью подумала, что день будет хорошим, и другие дни тоже будут хорошими, и еще будут совсем счастливые, когда придут новые письма. Даже предстоящая работа ее не пугала.
Она мигом развела костер, мигом сварила кашу и не переставая пела песню про синий платочек, про ночную пору и про бойца. Маруська ослепла от своего первого большого счастья и не замечала ни хмурого утра, ни заботы на лице Серафимы, ни шаркающей Нюркиной походки.
– А ну-ка, помолчи, – вдруг строго прикрикнула Серафима. – Расчирикалась.
– Не надо, не трогай ее, – заступилась Нюрка. – Пусть хоть одной хорошо будет.
Маруська никак не могла понять – в чем она провинилась. Почему строжится Серафима и почему Нюрка потерянно отводит глаза и старается не смотреть на нее?
Она не могла понять, а они ей не говорили. И поэтому даже обрадовалась, когда осталась одна возле избушки, теперь она могла делать все, что хотелось, могла бегать и прыгать, петь сколько угодно, ее никто не одернет.
Нарвала листьев папоротника, выбирая поменьше, сплела себе венок, надела его на грязные, давно не мытые волосы и, не видя своего лица, все равно казалась самой себе красивой. Ее ощущения, ее мысли кружились в большом, пестром хороводе, не останавливаясь. Временами ей даже казалось, что она и сама летит над всей этой неуютной землей, летит вместе с птичьими косяками в небе, туда, где все по-другому.
Полет этот оборвал заглохший мотор трактора. Серафима махала рукой – значит, кончилось горючее. Маруська схватила ведра, бросилась к бочке. Горючего там оставалось меньше половины, и, когда она бочку наклонила, оно не полилось. Маруська ухватилась одной рукой за дно и приподняла ее. Ноги дрожали, живот словно стягивало от тяжести, а тягучий лигроин лился медленно, едва-едва, не спеша наполнял ведро. Наконец-то полное, надо было отдышаться перед вторым, но Серафима машет рукой. Маруська снова ухватилась за дно бочки, в животе словно порвалось, во рту сразу стало сухо, поплыли в глазах круги, но она удержала бочку, пока не налила полное ведро. Выпрямилась и тут же присела от резкой, согнувшей ее боли. Думала, что не выпрямится, но боль сразу ушла, словно не было. Маруська дотащила ведра до трактора и немного передохнула, пока заливали лигроин в бак. Пошла обратно, и теперь, когда не видела сумрачных лиц Серафимы и Нюрки, к ней снова вернулась радость, она достала из-за пазухи письмо, забилась в угол на нарах и стала его перечитывать.
Все дальше забиралась в глубь клина пахота. Среди разваленной земли дрожала алым флагом, неизвестно когда и вымахнувшая, молодая осинка. Все, что лезло из бора на клин, безжалостно запахивалось, а вот осинку почему-то не трогали. Объезжали, оставляя маленький островок твердой земли. Она светила посреди черной пахоты и посреди серого дня. Вздрагивала, но все еще не осыпала листьев. И с какого бы края ни пахали, с какой загонки ни глянуть – всегда она была, трепетная, на виду. Всякий раз, натыкаясь на осинку взглядом, Нюрка ставила рядом Маруську, с ее наивной, смешной радостью, и никак не могла поставить себя. Завидовала. В эти дни она окончательно смирилась, поверила самой себе – не будет ничего больше. Все лучшее, что ей выпало, осталось там, позади, за плечами. И теперь в равнодушное железо, в жирно блестящую землю уходит, словно в сухой песок вода, ее молодость, уходит и высыхает.
Длинные загонки; еще длинней день, и множество разных мыслей приходит в голову, о многом успеваешь подумать, пока не свяжет тело усталость, пока не вышибет все одна только мысль – об отдыхе. А прямая спина Серафимы, кажется, никогда, ни от чего не согнется.
От пшеничной каши без сала в последние дни стала мучить икота. С ней было трудно справиться. Дергала и дергала изнутри, доводя до злости. Слава богу, застучал мотор. Пора делать перетяжку. Можно хлебнуть воды, вдруг поможет избавиться от этого противного клыктанья?
Серафима слезла с трактора, села на землю и привалилась спиной к колесу. Тело, привыкшее уже к постоянной дрожи, теперь отдыхало, расслаблялось каждой жилочкой, и особенно сильно хотелось спать. Закрыть глаза и спать, прямо вот здесь, у трактора, на прохладной и мягкой пашне. Серафима рывком поднялась и, привычно поддернув рукава старого пиджака, полезла в горячий мотор, воняющий керосиновым перегаром.
И опять после короткой передышки длинные, бесконечные в своей однообразности круги.
11
Пришла ночь. Густая, как деготь, темнота залила клин. Только макушки сосен прорезались едва заметно – все остальное скрылось, даже сама земля под ногами. А трактор не затихал, полз, почти на ощупь, боясь оторваться от желтого круга «летучей мыши», с которой впереди шла Нюрка. Фонарь вздрагивал от неровных шагов, и желтое пятно скакало то в стороны, то вперед. Пахота в неровном, двигающемся свете блестела. Казалось, что там, всего в трех метрах, где иссякал желтый круг, земля сходилась с небом.
Плуг дернуло, он запрыгал, сопротивляясь, Маруська едва успела рвануть рычаг на себя. Это, оказывается, трактор повело в сторону – Серафима задремала. Маруська закричала, схватила комок земли и кинула. Трактор дрогнул и выпрямился, пошел ровно. Серафима – а глаза у нее закрывались, хоть спички вставляй – то и дело прикусывала губы, чтобы не уснуть. Внутри у нее они были сплошь в старых шишках. Цепко ухватывая глазами, где кончается пахота, чтобы не съехать на нее, затянула песню:
Распрягайте, хлопцы, коней, Та й лягайте опочивать…И спереди и сзади враз облегченно вздохнули Маруська с Нюркой. Если Серафима запела, значит, скоро отдых. Осталось теперь только по порядку перебрать «Катюшу», «Коробушку» и «Хаз-Булат удалой». С радостью подхватили:
А я пиду в сад зеленый, В сад криниченьку копать!Эту песню и услышала Дольская, когда в конце концов, проплутав в темноте, выбралась к избушке. Ноги с непривычки гудели, и она присела, нащупав руками порог, оперлась о дверь избушки. Глаза щипало от пота. Стянула с головы берет, расстегнула пальто и долго сидела так, не шевелясь, удивленная. Что угодно готовилась она услышать здесь, но только не песню, которую не заглушал даже трактор. Залихватски, с бесшабашной удалью летела она сквозь темноту, стучалась в глухую стену бора, и становилось в ночи не так одиноко и потерянно. Дольская хотела подняться и пойти к трактору, но сидела, слушая песни.
Трактор замолк, голоса утихли, и ночь еще гуще, плотнее привалилась к земле. Вскоре послышались медленные, усталые шаги, невнятный говор. Дольская поднялась и двинулась навстречу.
– Ой, кто там? – взвизгнула Маруська. – Ой, идет кто-то.
– Кто здесь? Ну-ка не балуй! – прикрикнула Серафима.
– Здравствуйте! Гостья к вам.
– Никак, училка? Точно! И впрямь гостья так гостья.
Нюрка чиркнула спичкой, и фонарь бросил за спину Дольской желтый круг.
– Проходи, вечерять с нами.
– Да нет, я не хочу, спасибо.
– Проходи, потом будешь отказываться.
Серафима пропустила ее вперед себя в избушку, придержала за рукав, пока Нюрка не занесла фонарь.
Кашу ели холодную, никому не хотелось разогревать – только бы до нар добраться. Дольская смотрела на этих изработавшихся людей, которые молча стукали ложками по дну котла, и у нее сжималось горло, трудно было дышать.
– А вправду, пришла-то зачем?
Этот вопрос Серафимы застал врасплох. Некоторое время никак не могла собраться с ответом:
– Я сводки последние прочитала с фронта, вот хочу рассказать.
И по тому, как они сразу перестали есть, Дольская поняла, что угадала в точку: неторопливо, с присущей ей обстоятельностью стала пересказывать сводки. Память у нее была хорошая, и она помнила даже цифры.
– Вон аж куда наши мужики зашли, – со вздохом вставила Серафима. – Кого убьют, вот горько на чужбине-то.
– А дома так слаще? – усмехнулась Нюрка.
– Может, и не слаще, а все равно… Пишут там, нет – когда кончится?
– Скоро. И вам недолго осталось мучиться. Скоро победа. Новая жизнь будет, еще лучше, чем до войны. Понимаете, мне кажется, что люди теперь заживут по-другому, лучше станут, красивей.
– Ни хрена не будет, – бухнула Нюрка.
– Почему? Почему не будет?
– Да потому. Мужиков сколько вернется? Раз-два, и обчелся. У нас вон Тятя за мужика. Тебе хорошо говорить, ты вещички собрала и дунула. А нам тут всю поруху поднимать. Кому? Опять бабам. – Нюрка с шумом, глубоко втянула воздух, закричала: – На мою жизнь так пало, что не будет света белого! Проживу – и не жила! За что? Перед кем так согрешила? А ты мне – сказочки!
– Нюра, да ты что?
– Погоди, Серафима, не встревай! Зачем ерунду-то городишь. Отчитала свое, и ладно, спасибо.
– Ну-ка, помолчи, накинулась на человека. Зря ты так, Нюра. Ей-то, думаешь, легко, из родного дому – да в нашу глушь. От книжек – да дрова колоть. С детишками вместе беду делит. Все мы теперь сестры, роднее родных. Зря не кричи… А с нашим хлебом мужики вон куда дошли. Я вот только из-за этого и держусь, вроде совсем кончилась, а вспомню – и держусь. Думаю, пока хлеб посылаю, Иван там живой будет. И Маруськин хлеб до Илюхи дойдет, и твой до кого-нибудь. Пока мы тут – они там. Свалимся – и они упадут. Не пропала твоя жизнь, Нюра, не пропала, дура ты этакая. Еще придет время, гордиться будешь, что так жила.
Дольская смотрела на их лица, неярко освещенные фонарем, и никак не могла собраться с мыслями. Хотелось что-то сказать, но нужных слов не было. А те, которые приходили на ум, казались беспомощными… И вдруг, как бы расчищая перед собой пространство, повела рукой и прерывающимся голосом стала рассказывать, как она жила раньше, как копала противотанковые рвы в холодном осеннем поле, как в поездах, забитых до отказа, ехала в эвакуацию. Рассказывала о том, как ей хочется хоть что-то сделать для них, о своих спорах с Семеном Кирьянычем и о том, что она не убедила его, наоборот, он победил ее. Она исповедовалась, и те, кто сидел в избушке, ее понимали. Понимали, как родного человека. Они и были родными в эту ночь, все четверо.
Рано утром Дольская попрощалась и по той же дороге направилась в деревню. Уже издалека оглянулась, увидела три фигуры возле трактора, посредине большого клина. То ли девки почувствовали ее взгляд, то ли еще как, но они разом обернулись и замахали руками. Она не видела теперь их лиц, но верила, знала, что они улыбаются ей. Всю ночь Дольская не спала, ворочалась на нарах, но сказать о похоронке Серафиме так и не решилась.
12
И снова время проворачивалось медленно-медленно. День не кончался. Хмурое небо опустело – редко проскользит запоздалый клин, и не было вокруг больше никаких звуков, кроме тракторного треска.
Уже давно Маруська должна была сменить Нюрку на плуге, но до сих пор не показывалась. Подъехал Тятя, он остановился возле избушки, толкнулся в дверь, но скоро выбежал обратно. Закричал, размахивая руками. Серафима, почуя неладное, остановила трактор, заспешила, тяжело проваливаясь в пахоте. «Господи, господи, – повторяла одно и то же. – Что там еще, что там еще? Господи».
Тятя, вытаращив глаза, кричал:
– Маруська болеет!
Дверь в избушке отхлобыстнута настежь. Маруська забилась в угол на нарах, лицо у нее было высохшим, белым.
– Что?! Что еще случилось?!
Она чуть приоткрыла глаза и сжалась сильнее.
– Разогнуться не могу. Спину пересекло, живот огнем горит… Вчера бочку поднимала, у меня как порвалось, а седни не разогнуться.
Серафима уперлась лбом в косяк.
– Надсадилась. – Нюрка вдруг шепотом стала материться.
Серафима негромко скомандовала:
– Хватит, давай одевай ее. Тятя, на плуг пойдешь. И смотри, не дури у меня. А ты Маруську отвезешь сейчас домой.
Нюрка кошкой подскочила к ней, уцепилась за плечи:
– Да что ты за человек! Вам дай с начальником волю, вы всех людей поугробите! Лошадям и то отдых дают. Подыхать на этом проклятом клине собралась?
– Как проснется, так отвезешь. И назад сразу.
– В гробу я твой клин видела! Поняла ты, нет?! В гробу! И тебя тоже! Всех! Поняла?
Нюрка, оскалившись, трясла Серафиму за плечи, и в глазах у нее, как у пьяного мужика, была дикая злоба.
А бедный Тятя ничего не понимал, испугался, он еще ни разу не видел такой злобы, даже когда его били бабы, они были не такими, и он, приседая, закричал:
– Милые! Не деритесь! Не надо драться!
По-детски беспомощным был его голос, Нюрка отпустила Серафиму и отскочила в сторону.
– Прямо сейчас отвезешь. Пошли, Тятя.
Падера свалилась на Журавлиху внезапно. Упруго, напористо загудела и пошла рвать сложенную в кучи ботву картошки, хлопала ставнями, столбами закручивала пыль на дороге, загоняла куда попало испуганно кудахтающих кур. На полях бросали работу, бежали укрывать зерно на току, плотнее захлопывали амбары и дома, загоняли скотину. Падера набирала силу, ворочалась, поддавая направо и налево, вот уже кое-где полетели с крыш гнилые доски, враз, до конца, облысели деревенские тополя, и с хряском, обнажив желтую середину столбов, завалилась ограда у МТС, трухлявая солома пылью разлетелась со скотных дворов, и торчали теперь одни жерди, как худые ребра.
По крыше дома бухало, как бревном, каталось по ограде, дребезжало старое ведро. И всякий раз, когда бухало, ресницы у Маруськи вздрагивали, она переводила взгляд с матери на Нюрку, и в ее глазах светились боль и непонимание. Тихо и глухо было в горнице, яростно и грохотно за стенами.
– Мама, ты не плачь. Это ведь пройдет. Нюра, правда, пройдет? Ну скажи, – она с надеждой, испуганно смотрела на нее.
– Пройдет, все пройдет. Ты усни, спи.
Нюрка поднялась, мать Маруськи проводила ее до кухни. И там, пряча глаза, словно была виновата, сказала:
– Серафиме – похоронка. Соседка своими глазами у Кирьяныча видела. Скажи ей. Все равно правду узнает.
Нюрка выскочила на улицу. Конь, привязанный у заплота, дергал головой, испуганно пятился, и при каждом порыве ветра на нем дыбом вставала грива. Мелкий песок хлестал по глазам. Нюрка запрыгнула в телегу, пошире расставила ноги и, раскрутив над головой конец вожжей, перетянула по крупу коня. Тот, ошалелый от страха, подстегнутый, рванул в намет, заколотилась на кочках телега. По деревне, как привидение, летела растрепанная Нюрка и все ждала, что вот перевернется телега и она полетит с нее на землю, хряснется – и все будет кончено. Но конь вынесся из деревни в поле, на знакомую дорогу, где ветер был еще сильней, крепче и глуше запели копыта по сухой земле.
А с запада, будто с той, с самой большой грозы, доползли не видные в потемках громоздкие тучи. Притащили с собой через реки и горы уже выцветшую, но все еще жуткую в своих отблесках, изломанную молнию. Она полыхнула над Журавлихой, распластала темноту, упала отвесно с неба на землю и затерялась где-то в жнивье, в березовых колках, затерялась, но долго еще стоял после нее в глазах яркий свет, резал и пугал. Следом за молнией рыкнул гром, редкий сентябрьский гром, медленно раскатился по небу, стал глохнуть. Рык еще не затерялся в тучах, как полетели вниз сломанные ветром струи дождя. Они хлестали со всех сторон, больно и резко, как сухой снег в морозную метель.
Возле избушки Нюрка остановила коня и выпала из телеги. Лежала в холодной грязи, зажав ладонями лицо, а дождь колотил и колотил сверху, словно хотел вбить в землю и смешать с ней.
Надо было подняться, надо было сделать несколько шагов до избушки, толкнуть дверь, переступить через сонного Тятю, сказать Серафиме. И она поднялась, толкнула дверь, запнулась за Тятю, подрезанным голосом взвыла:
– Серафима! Сестра моя родная! Не сберегла! Погиб Иван! П-о-огиб!
13
Окруженный бабами Семен Кирьяныч стоял у крыльца конторы и отдавал распоряжения на день. Еще валялись на земле сорванные с крыши доски, ветер еще гонял по двору клочки сена, и тихо поскрипывала на сваленном заборе наполовину оторванная жердь. Березы на дальних увалах были совсем голыми.
Шумевшие бабы вдруг смолкли, Семен Кирьяныч поднял голову и тоже осекся на полуслове. По двору, согнувшись, шла Серафима. Бабы перед ней тихо расступились. Семен Кирьяныч стащил с потной головы фуражку и дернулся от тихого голоса:
– Дай похоронку.
Никак не расстегивалась пуговица на кармане кителя, он не мог захватить ее пальцами, а Серафима стояла с протянутой рукой и ждала. Тогда рванул изо всех сил, выдрал пуговицу с мясом, достал мятую казенную бумажку, отдал. Та крепкость, которая всегда была в нем, уходила. Дрогнули колени, тяжелая боль медленно обняла поясницу и стиснула так, что не удержался и упал на колени.
– Бабы, простите меня, простите! Не я ведь этого хотел! Не я! Не хотел я!
Не читая, Серафима сжала в кулаке похоронку, едва разомкнула сухие, потрескавшиеся губы:
– Встань, Семен Кирьяныч, виноватых тут нет.
Она повернулась и пошла по двору МТС, выбираясь на дорогу, которая вела к Дальнему клину.
Они пахали день, еще день, еще и еще, прихватывая длинные, темные ночи. Плуг пластовал траву у подножия бора, резал корни, вывертывая их наверх. Вот уже весь Дальний клин покрылся зябью, он словно раздался в плечах, распрямился, и сосны, в который раз, бессильно отступили, недовольно шумя тяжелыми лапами. Покойно, уверенно лежал клин, на самой середине его дрожала осинка, облетевшая до последнего листика.
Когда трактор выехал из своей последней борозды, он заглох. Серафима, надсаживаясь, крутила рукоятку, а Нюрка брела от плуга и говорила:
– Плюнь, хрен с ним. Потом заведем.
Серафима уперлась руками в радиатор, дышала керосиновым перегаром, чувствовала, как дрожат у нее колени от напряжения. Последние силы ушли в это холодное, ненавистное железо. Она откачнулась от мотора, пьяно ступила несколько шагов, ткнулась в борозду и выпрямила ноги. Нюрка присела рядом, обняла ее, и они сразу уснули.
Круглый стол
Сначала был сон.
Неведомые руки властно взяли за плечи, повернули лицом на закатное солнце и легонько толкнули вперед. Тяжесть легла на спину, словно возложили железный крест. Ноги дрогнули и прилипли к земле. Неведомый же голос шепнул: «Иди, не оглядывайся…» Я пошел, сгибаясь под ношей. Тянул взгляд к горизонту, но солнце там уже не светило. Метались красные пожары, уходили черные дымы в небо, и рушились деревянные избы. Я испугался, но тут явилась спасительная догадка: «Это же сон, видение, оно исчезнет, как только проснешься». И видение исчезло, хотя я не проснулся. Исчезло и забылось – я вообще плохо помню сны.
Пробудился же, забыв дымы и пожары, от запаха хлеба.
Лежал, не открывая глаз, слышал, как мягко похрустывают булки, видел, как с железного листа, только что вытащенного из печки, перекладывались они на стол и укутывались в чистые полотенца. Именно так: видел пышные булки, чуял рукой, как полотенца, горячие от них, становятся волглыми.
И заиграл на душе праздник. Светлый. Давненько его у меня не было, давненько.
Сразу же и захотелось – слаб, сердешный, характером – похвалить самого себя, с утречка, – вот ведь, нашел время, выгадал три дня, на заботы-хлопоты плюнул, сумку с гостинцами на плечо и поехал, «радуясь, – по словам поэта, – бешеной гонке, побегу в родные края, побегу из недолгой неволи, на отдых, на мед с молоком…»
И-и-эх!
Скинул стеженое одеяло, тяжеленное, как ямщицкий тулуп, высвободился из жарких объятий пуховой перины, прошлепал босиком к окну, опушенному блескучим инеем, а в лицо мне, в глаза, прямо в самую душу – летит по белому снегу каленое солнце. Искрит, стелется режущим светом по ровному лугу, по речке с пологими берегами, по садику и – через окно – в избу. Ну, чем не праздник?! А тут еще и Анна Семеновна:
– С Рождеством тебя, со Христовым.
– А тебя с днем рождения!
Поцеловал ее в дряблую, мукой измазанную щеку, стал корить, что не разбудила, вон до каких пор провалялся, а сама чуть свет на ногах, а работы много, а гости вот-вот явятся.
– Ничо, и погодят немного, ежели не управимся, погодят, не изопреют. Шибко уж спал прилежно – грешно будить.
И то верно. Когда еще доведется так сладко выспаться в родном доме, где уже давно нет родных, по крови, людей. Анна Семеновна – моя мачеха. В нашу семью, выйдя за овдовевшего отца, пришла она, когда мне было шесть лет. А вскорости – девять лет разве срок? – судьба распорядилась так, что и отца не стало. Всякое у нас с мачехой случалось, чего уж грех на душу брать, но хорошее с годами просеивалось, как чистая мука через сито, все отруби в стороне оставались, а в памяти, как на выскобленном столе, – белая горка. С каждым годом, наверное потому, что становлюсь старше и худо-бедно умнею, она все дороже мне, просеянная моя память, как и сама Анна Семеновна.
А сегодня тем более, сегодня – праздник.
Раз в год, в день рождения, Анна Семеновна скликает своих подружек и к приему гостей готовится старательно и задолго. Вчера доставали с ней из погреба банки с соленьями, сегодня она с утра напекла хлеба и пирогов, в сенках, в кастрюле, примерзли, дожидаясь своего часа, пельмени, а хозяйка все снует возле печки, гремит ухватом, и я всерьез побаиваюсь, что старенький круглый стол в горнице, на который нужно перетаскать угощения, не выдержит тяжести и разломится.
– Никого ему не сделатся, дюжит, по осени белила, так залезала – кряхтит, а дюжит. Ты таскай, таскай, за голый-то стол и садиться неча, разе людей посмешить. Они, мужики-то, нонче все поголовно пьяницы – отчего, думаешь? А не жрут ни черта, по-за углам ошиваются, рукавами закусывают – вот и картина. Нет, я люблю, чтоб на столе полно было, а если уж пусто, то и гостей неча зазывать.
Гости легки на помине. Первыми Фрося с Полей пришли. Постучались, шагнули через порог и остановились. Фрося очки с морозу протерла, шубу не сняла, шаль не скинула, на иконы в переднем углу перекрестилась и затянула:
– Рождество Твое, Христе, Боже наш, пассия мира и свет разума, небо звездою служащее и звездою учахуся. Тебя славим, солнце красное, и тебя видим с высоты востока…
В детстве – а я еще захватил краешком, когда ходили по домам и колядовали по-настоящему, – мне всегда слышалось не «волхв по звезде», а «волк на звезде путешествует…» и всегда было жаль зверя, ведь звезда-то горячая, поди все лапы обжег, пока за нее держался.
Голос у Фроси пресекается – не отдышалась после улицы, но марку не уронила, до конца допела. Перекрестилась в последний раз, правую руку опустила, левой – за грудь и давай отдыхиваться.
Поля махом пальтишко скинула, шаленку – в рукав и, обходя Фросю, незлобиво пихнула ее локтем:
– Во, распыхтелась, как корова в деннике. Она ить, знаете, куда меня седни звала? На поминки. Подем, дескать, Тоню Ветелину помянем, год как померла. Не, думаю, девка, не заманывай, в добры-то времена меня туда не звали, а раз ране не звали, то и нонче ногой не ступлю. Тоня-то с мужиком своим, с Ветелиным, да с Шумкиным, с начальником нашим, – это она уже ко мне обращается, – всю жись как колобочки в масле катались. Ветелины завхозничают, Шумкин начальствует, и знать меня, худобу, не знали, а теперя на-ка, явлюсь, не запылилась. Я уж обещала Ане проздравить ее, вот и проздравлю.
Вытащила из полиэтиленового мешка подарок – красенький полушалок, тряхнула им, полюбовалась и подала товарке:
– На-ка вот, Аня, примерь…
– Делать тебе некого, рубли-то зря фугуешь! – Аня лукавит: говорит одно, а по глазам видно – довольна. – Куда старухам наряжаться, помирать скоро.
– Не-е-т, я еще поживу! – Поля поднимает указательный палец, перебитый у основания и похожий на вопросительный знак. – Я еще не нажилася…
И сердито машет знаком вопроса, словно грозит кому-то невидимому.
– Размахалась, дай слово сказать. – Фрося достает из того же мешка отрез цветастой материи. – С днем рожденья, Аннушка, счастья тебе да благополучия.
– Да како уж нам счастье, Фрося, здоровьишка бы немного.
– Будет, будет тебе здоровье, гимнастику зачнешь делать, как моя сноха, да святу воду от телевизора пить, вот и здоровье явится. На снохе-то на моей пахать можно. – Поля крутнулась – куда бы руки приложить, и к хозяйке: – Давай, Аня, чо-нить помогать станем. Раз уж первы припороли, добры-то люди только собираются, так уж давай работу. Подмести разве?
Ухватила веник и взялась подметать. Фрося тоже дело нашла – картошку чистить, и как их хозяйка ни отговаривала, в горницу, где стоял уже почти накрытый стол, не прошли. Перебирали деревенские новости, гостя, то есть меня, про жизнь расспрашивали и про политику.
– В городе-то, слышала, церковь новую поставили – правда ай нет? – Фрося даже картошку чистить перестала. Услышав, что новость, действительно, верная, облегченно вздохнула:
– Слава те господи, одумались, к Богу стали поворачивать. А то уж совсем как конец света – там взорвут, там потонут, а то заразу каку-нибудь подцепят, вылечить не могут. Во «Взгляде»-то видел, священника намедни показывали. При бороде при седой, а баской да разумный, я глянула, так аж всплакнула…
– Запе-е-ла, запе-е-ла! Попа ей показали, дуре старой, а она в слезы кинулась. Видала я таких попов, видала! Девчонкой-то была, у нас церковь в деревне большуща – хвати, так полтыщи народу входило. Кинет каждый по копеечке, сколько будет? И робить не надо. Поп на Пасху поедет, ему как надают добра, как навалят выше глаз, а куда девать? А хлеб-то стряпали – булку не обхватишь, так попадья булки эти – свиньям, свиньям! Помелькивают только! А соседка наша в полюбовницах у него, у попа, была, он придет, ногу на ногу вот эдак закинет и папиросы курит, запаши-ы-сты папиросы…
Фрося глуховата и не расслышала:
– Кто курит-то? Бог, чо ли?
Поля бросила веник и крикнула подружке прямо на ухо:
– Поп, поп, тетеря глуха!
– Да чтоб у тебя помело-то отсохло! Несусветицу таку городишь. Батюшка, он никого не неволил, сами ему дары давали. Тятя, помню, перед смертью телушку ему отказал, потому что чтил батюшку. Святы люди были, не чета нынешнему начальству. А язык у тебя, Поля… Господи, прости меня, связалась же с грешницей.
– Это еще поглядеть надо! – Поля подняла над головой руку с изуродованным пальцем и снова погрозила кому-то невидимому. – Это еще поглядеть надо, кто грешник, а кто святой!
– Ты вон мети, мети чишше, не оставляй мусор. Козырев жених симпатичный, безрукую не возьмет, раз мести не можешь.
– А подь ты к чомеру!
Старик Козырев, с юности густо испятнанный оспой да вдобавок и кривой на один глаз, недавно овдовел. Живет он рядом с Полей, по-стариковски рыбачит на Оби и подкармливает соседку рыбой, а она, в свою очередь, то бельишко состирнет, то в избе помоет.
– Ты, Фрося, зря не наговаривай, – вступается Аня, хитровато щуря маленькие глазки. – По-нонешнему это не любовь, а кооператив называется.
Расшумелись, развеселились мои подружки, но и дела не забывают: картошка почищена и варить приставлена, на полу – ни пылинки, и стол праздничный – в полном порядке, хоть сейчас садись и угощайся, но гости еще не все подошли, ждем, а веселье не утихает.
– Нету Коли на нас, – тихо говорит Аня. – Шумнул, так враз бы примолкли.
Слышу, как наяву, батин голос и вижу, стоит лишь глаза прикрыть, как подъехал родитель к дому на своем лесовозе, а соседские бабы с ведрами и корзинами в руках галдят, спорят – боятся, что на полике всем места не хватит и тогда придется кому-то в бор, за ягодами, добираться пешком. Батя терпеть бабьего галдежа не может. Фуражку на затылок сдвинет, как гаркнет:
– Тиха, бабы! Все уедем! Шуметь будете – пешком пойдете!
И – тишина. До тех пор, пока места для всех не найдется, пока старенький лесовоз не тронется и не потянет за прицепом длиннющую ленту пыли. А уж тогда – песня… Взовьется, ударит лебединым крылом, и нету ей никакого удержу. Ох, как же они пели, бабы на полике! Больше мне такого пения не услышать, потерялось оно, растворилось в деревенских окрестностях, и, похоже, навсегда. Особенно Вера Иванова старалась, запоет и гул мотора запросто глушит. «Во дает, во дает, не хуже Руслановой!» – говаривал батя и ехал потише.
– Некому, некому на нас шумнуть… – Договорить Фрося не успела – в дверь постучали. Новые гости на пороге – Мария да Вера. Вера – та самая, певунья, а Мария – старшая сестра отца. Вот уж точно говорят: не из родни, а в родню. Отец даже прихрамывал на ту же самую ногу, на правую. А про характер и говорить нечего – кремень. У Марии он за долгие годы не стерся и не обломился даже на капельку. Ну да это разговор отдельный и долгий, доберемся как-нибудь. А пока – подрумяненные рождественским морозом, раздеваются гости, проходят к столу, поздравляют хозяйку с днем рождения.
А уж Аня цветет, принимая подарки: чашки большие, новенькие, чай пить, красенькие ягодки и зеленые листочки прямо горят на них, да еще отрез на платье.
– Во, зима длинна, – смеется Поля. – Делать все равно нечего, сиди да шей.
– Спасибо, спасибо, за стол садитесь, гости дорогие, угощайтесь, небогато, правда, не обессудьте уж…
– Вот так небогато. – Мария оглядела стол. – Палец некуда поставить.
Расселись. Подружки на меня смотрят – слова ждут. Как-никак, а единственный мужик за столом. Поднялся, оглядел их всех по очереди, вспомнил их всех еще молодыми, и горло мне заклинил горький комок. Пока судорожно проглатывал его, понял – не надо много и высоко говорить, ибо будет это фальшиво, нету у меня сейчас таких слов, которые бы всё, что на душе, выразили. И сказал я просто:
– Живите долго… и счастливо…
Сказал, и пронзило – ведь все они, до единой, вдовы. Кто раньше, кто позже, а кто и по два раза отведал этого горького бабьего хлеба. Ну да ладно, ладно, не будем про горькое, все-таки праздник сегодня – радоваться надо. Сижу закусываю, жду светлой минуты, когда подружки заведут песню, но их, как назло, на политику растащило.
Ох уж эта политика! От московских квартир и сердитых писательских собраний до глухой деревни, до этой вот избы – об одном и том же… На колу мочало, начинай сначала.
– Вот уж Сталин кровушки-то попил. По телевизору теперь все сказывают про него, сказывают, как зачнут, аж сердце заходится. Тут вот передавали… – Фрося передохнула, очки на лоб подняла, глаза вытерла. – Недавно передавали. Женщина, пожилая уж, рассказывала. Отец у нее командиром был, шибко большим командиром, в Москве, ну и забрали его, по линии энкавэдэ, а ее с матерью на кирпичный завод отправили, они два года кирпичи на носилках таскали. Так жалко, так жалко, я все смотрю да реву, реву да смотрю…
Подружки захлюпали, пригорюнились, только Поля хмыкнула, работая над рыбным пирогом, хотела, видно, что-то сказать, да некогда – рот занят. Головой лишь тряхнула и поморщилась.
– А Горбачев-то хороший, – вступила Аня. – С людями вон как разговариват, куда ни поедет, все с людями разговариват. Ране их никого так, правителей, не видели. И с водочкой опять же поприжал, хоть чуть потрезвели, и то ладно. Только не изурочали бы, аварии вон все да аварии…
– А я молюсь за его, – сообщила вдруг Фрося. – За здравие, за здравие молюсь.
– Вот перепиши молитву Михаила-архангела да пошли ему, – посоветовала Мария. – Молитва, она охранит.
– Дак он ить партейный, не возьмет.
– Ничо, – твердо возразила Мария. – Партейный али не партейный – все под одним началом ходим. Да и то сказать – крестили-то, поди, ране, чем в партию принимали.
Мария говорит, как гвозди забивает, по самую шляпку, ей и возражать боязно.
– Надо, надо будет послать, – охотно соглашается Фрося. – Вот соберусь с духом и пошлю. Пусть она охранит. Адреса, правда, не знаю. Ты, парень, не подскажешь?
– А чтобыть вам! Тьфу! – Поля с досады чуть не подавилась рыбьей костью, выплюнула прямо на стол непрожеванный кусок пирога, вскочила с табуретки и повела перед собой изуродованным пальцем, словно готовила пространство для тех слов, которые у нее закипели. – Си-и-дят, рассопли-и-вились! А то ты про Сталина вчера узнала, по телевизору сказали! А когда в колхозе за палочки робила – не знала? А когда ребятишкам лебеду варила – не знала? А когда Марию вон в Нарым отправили, со свадьбы прямо, – тоже не слышала? Ну-у-у, ду-у-ры! Учит вас жись, учит, а ничему путнему не научит. Кирпичики там, понимаешь, на носилках потаскали… А я как день в бору отмантулю, да в уброд, в снегу по титьки, приду в барак, на мне все колом замерзнет, и посушиться нельзя, штаны снять боюсь – нам как раз шпану каку-то нагнали, сидят, целу ночь в карты режутся, а зазеваешься, так и прижучат сразу… Все жилы надорвала, суну руку в штаны, выну – а она в кровище, как с овечки недорезанной. И каки там месячны, каки недельны – ничо не знаю, хлещет, и все. Тут бабы наши приезжают, Онька, говорят, старшенька, захворала, не подыматся, посинела уж. Давай я на побывку проситься – не пущают, на колени вставала – не пущают. Так я сучки обрубала, примерилась да ровно бы невзначай по пальцу шваркнула, вот он, до сих пор изогнутый. Покалеченну-то, думаю, отпустят. Держи карман шире – не отпустили. А уж как Онька выжила – ума не приложу. Не ссылали, а хуже ссылки. Чо-то не торопятся про меня плакать. И в телевизор показывать не зовут. А как вдовой в двадцать-то шесть лет осталась, да с тремя ребятишками на руках, да четвертый-то в пузе заряжен. Куда идти, кому голову прислонить? Не-е-т, я и тогда все знала, а нынче меня и вовсе на мякине не проведешь, всякой веры наелась, до икоты, и земной, и небесной. Горбачеву оне молитовки собрались посылать. С водочкой поприжал, славуте навуте. А как тебя, Фрося, за самогонку судили – забыла? – Поля поворачивается ко мне, словно ищет поддержки, чувствует, что подружки не очень с ней соглашаются. – Она же в колхозе робила, а дрова у нас только ветеранам леспромхозу да войны выписывают. А? Куда бедной старухе? Заводи брагу да самогонку ставь, если без дров сидеть неохота. За самогонку все сделают. И привезут, и расколют. Участковый унюхал, прихватил, суд товарищеский, дак страмили старуху да страмили, страмили да страмили…
– Это наша, местна, власть вольничат, а Горбачев в Москве, он за их не ответчик, – спорит, не сдается Фрося. – За всеми не уследишь.
– Про Сталина тоже так говорили, он не знат да он не слышит. Все, оказыватся, знал. Да и какой ты, к лешему, правитель, ежели не знаешь, чего у тебя в стране творится! Все они одним миром мазаны, выгоду да славу при своей жизни ищут, а нам хорошу жись обещают, семьдесят с лишним лет прожила – мне все хорошу жись обещают. Где она? Посмотрю вечером телевизор, усну, проснусь, а время два часа, вот и лежу – стены съедают. Лежу да вспоминаю. А вспомнить неча – слезы да работа. И жить с гулькин нос осталось. Нет уж! – хряп кулаком по столу. – Никому не верю! Ни Богу, ни Сталину, ни Хрущеву, ни Горбачеву! Наверилась, хватит, под саму завязку!
– Да чо ты, чо ты разбулькалась, – взялась урезонивать Фрося. – Поговорить больше не о чем? Вот дак хорошо будет, собрались да поругались.
– Нет, погоди, пусть вот парень скажет, он в Москве быват, скажи, правду я говорю или нет?
Ох, милая ты моя, самому бы мне кто разъяснил, кто бы самого меня на путь истинный наставил. Сам как в потемках живу, на ощупь, все меньше верю зазывным и громким речам, все чаще ловлю в сегодняшнем дне тревогу и боязливо заглядываю в день завтрашний. Все чудится, что мало чему научились, что тянутся по-прежнему руки переломить жизнь, как палку через колено… Так ведь было уже это, было…
Сидел я в архиве, читал до рези в глазах, до слезы, старые документы и передачу по телевизору, с которой весь сыр-бор разгорелся, тоже видел, знаю теперь, что тот большой командир из Москвы, взятый по линии энкавэдэ, проводил в наших сибирских краях коллективизацию, призывал к борьбе с кулаком и карал твердой рукой неразворотливых. Был он накрепко связан с моим дедом, с тетей Марией, с моим отцом и еще с дядей Ильей, который погиб на фронте, хотя ни они его, ни он их никогда не видели. Но – было. Из песни слов не выкинешь. Железный приказ, спущенный из центра, подпитывал рвение на местах, спускался еще ниже, до сельсоветского уровня, и здесь, выпрямляясь со свистом, как сжатая до отказа пружина, бил по дворам и усадьбам с такой силой, что пыль и щепки летят и повизгивают до сегодняшнего дня. Среди тех, кто исполнял приказ, не в последних числился и командир из Москвы, а дочка его, которая после таскала носилки с кирпичами, отдыхала в тот год на Черном море, в санатории. В тот самый год, о котором я не раз просил рассказать Марию. А она все отнекивалась и вспоминала другое, совсем другое:
– Шибко уж тятя коней любил. Испокон веку ямщину гоняли, как не прикипишь. Ночью, бывало, встанет и бежит коней проведать, да по три-четыре раза, сон, говорит, дурной приснится, я и бегу. С пашни или с покосу едем, он вот эдак вот привстанет, вожжи перехватит рукой, а другу-то – пальцы в рот, да как полохнет свистом – лошади уши прижмут со страху и мчат. Мало ему, так он привскочит да заблажит: «Гра-а-бя-а-ят!» Ну, кони и вовсе – скорее ласточки. А когда коней отобрали, он в колхоз не пошел, конюхом в лесоучастке работал. Сама-то уж не видела, а рассказывали. Выпьет вина, кобылку казенну запрягет, выедет на луг, разгонит ее, а не то уж… Незавидна кобылка, доходная. Остановит ее, лягет в телегу и плачет, плачет… больше и сказывать не надо.
И все-таки, по кусочкам да по крохам, свел я те дни воедино в такой вот рассказ.
Раскулачивать деда пришли утром. Председатель сельсовета, по заглазной кличке «Умру за колхоз», был в боярковых пимах, то есть катанных из белой шерсти, а по ним – красная строчка. Пимы он за три дня до этого у деда забрал, вызвал того в сельсовет и говорит:
– Разувайся. Равенство надо навести, у тебя еще пимы есть, а у меня ни одних. Умру за колхоз, а не отступлюсь.
Снял дед пимы, домой вернулся босым, в руке – портянки. А когда-то от пятерых лихих варнаков, ночью напавших на его кошевку, сумел отбиться. Но там варнаки были, с них спросу нет, а тут, как ни крути, – власть. Может, поэтому подчинился? Или из-за детей? Теперь уже не узнаешь. Скорее всего, потому мужик дрогнул, что обрушилась эта напасть разом, оглушила, ошарашила, и не смог он с ней совладать, одеревенел, глядя на открытый грабеж посреди белого дня.
Грабеж, между тем, катился во всю ивановскую. Расхристали, расколотили усадьбу и дом наизнанку вывернули еще до обеда.
– Всех под корень выведем! – кричал «Умру за колхоз», стоя посреди двора и широко расставив ноги в чужих пимах. – Праху вашего не оставим! А кто супротив будет, тех на паром погрузим, до единого, и по Оби сплавим!
То ли он уже знал про сплав на Оби, то ли сам в горячке придумал, накаркал, однако, точнее некуда.
Но пока шел грабеж. Ребятишки жались на остывшей печке, бабку хватил удар, и ее едва отлили водой, а хозяин сидел на бревне в ограде, дергал себя за волосы и бормотал, словно тронувшийся умом, одно и то же:
– Круши, ребята, круши, подчистую круши…
Но когда стали выводить коней и молоденький жеребчик, зауросив, лягнул одного из активистов, а тот стал его хлестать черенком от вил, дед не выдержал и бросился с кулаками:
– Не трожь конягу, не трожь, варнак!
«Умру за колхоз» его тут же арестовал и препроводил в сельсовет. А уж оттуда опасного элемента отправили в район. И, как ни дико покажется, арестом своим дед спас семью от выселки. Бабку и ребятишек не тронули. Решили, видно, что хватит и одного хозяина. Лишь старшая Мария, успевшая к тому времени выйти замуж, отправилась вместе со своей новой семьей в дальний путь.
Несколько суток везли их на подводах до города. Если бы смог кто-нибудь подняться в небо в те дни и окинуть взглядом городские окрестности, он увидел бы: по кулундинским, барабинским, черепановским дорогам гнали, как по жилам, густую, черную кровь сибирской земли. Догоняли до причала, специально выстроенного на Оби, и сцеживали ее в баржи. Они проседали в воде, медленно отваливали от причала, встраивались в фарватер неторопкого течения и брали курс на таежный Нарым.
На палубу никого не выпускали, наверное, боялись побегов, и люди круглыми сутками сидели в мокрых трюмах, в смраде и духоте. Молились, ругались, плакали и думали все об одном и том же: за что? за какие такие великие грехи и провинности? Ответа им не было.
У Феклы Зулиной, из нашей же деревни, умерла на руках дочка, и Фекла сошла с ума. Бродила по тесному трюму, притискивая к груди охолодевшее тельце, перешагивала через людей, запиналась и падала. Не умолкая, пела одну и ту же песню: «Как у нас во садике розовы цветочки…» На третий день засобиралась домой. Хватала из своего тощего узелка тряпки, укутывала ими мертвую дочку, натягивала на себя и, посверкивая красными, воспаленными глазами, корила свекра: «Тятя, мы трубу не закрыли – изба выстынет. Говорила тебе, говорила, а ты не закрыл. Зыбка холодная, я куда Глашку положу? Собирайся, тятя, не сиди, побегим быстро, трубу закроем, пока тепло не вышло». Свекор отворачивался, до деревянности изработанными пальцами выбирал из белой бороды вшей и срывающимся голосом творил молитву: «Избавь меня, Господи, от человека злого; сохрани меня от притеснителя: они злое мыслят в сердце, всякий день ополчаются на брань, изощряют язык свой, как змея, яд аспида под устами их…»
Муж Феклы пытался остановить жену, усадить рядом с собой и забрать у нее из рук дочку. Фекла же вырывалась, кричала, поднимая голос до визга, что надо бежать домой, закрывать трубу, и он, помаявшись, отступался. Ходил следом за ней, оберегал и не в силах был разжать кулаки, стиснутые до судороги.
На короткой остановке бедную бабу выпустили из трюма. Мужу и свекру даже запретили выйти на палубу. Фекла на них и не оглянулась, скорехонько полезла по узкой скользкой лестнице, рассыпчато засмеялась, прижимая к груди дочку, и это был первый смех, прозвучавший за долгие дни плавания. Старая, молью побитая шаль соскочила одним концом с плеча, тащилась по грязным ступенькам черной лентой.
«Как у нас во садике розовы цветочки…»
В носу баржи, у лестницы, ведущей на палубу, стояла параша – сорокаведерная бочка, распиленная напополам. Чтобы справить нужду, требовалось забираться наверх, прилаживаться, как на насесте, а в одиночку сделать это было трудно да и рисково – случалось, падали люди в парашу, поэтому забирались по три-четыре человека сразу и сидели, придерживаясь друг за друга. Из-за молодой стыдливости, только-только ведь замуж вышла, Мария никак не могла переломить себя и всегда дожидалась ночи, когда смаривал людей душный сон. Будила своего Павла, и они крались в темноте, боясь наступить на разметавшихся людей, к вонючей бочке. Именно в эти дни почуяла Мария, что затяжелела своим первенцем, а когда почуяла, забоялась: все мнилось, что новая жизнь, зародившаяся в ее чреве, зачахнет без вольного воздуха. Вольного же воздуха в трюме не было. Знала, что там, куда их везут, сладкого угощения не выставят, и все равно молила, чтобы скорей доплыть, чтобы выбраться наконец-то на белый свет и досыта надышаться.
Приплыли днем. Баржи пристали к острову, лежащему посреди широкой в тех местах Оби. Даже не поверилось сначала, что это Обь, – море, да и только. Что правый берег, что левый еле виднеются, подрагивают в слезящихся глазах сизой дымкой.
Люди спускались на землю, трап под ними шатался, скрипел, и скрип тот, тоскливый и непрерывный, ничего хорошего не обещал. Пологий остров, обметанный низкими кустами ивняка, изрытый, как мышиными норами, множеством землянок, насквозь просвистывался холодным ветром, и Марии почему-то больше всего запомнилось, что у всех военных на берегу были подняты шинельные воротники, и она лишь после разглядела на них малиновые петлицы.
Первые три ночи, пока не вырыли землянку, коротали у костра, на остылой земле. Лопат не хватало, за ними была очередь, и Павел рыл узкую, как щель, землянку маленькой доской, которую прихватил с баржи.
Хлеба выдавали в обрез, а в иной день, если не успевали подвозить, не выдавали и вовсе.
Дни шли, а никто из спецпереселенцев не знал – куда их отправят и где им придется жить. Первыми от голодухи и холода умирали ребятишки. Матери, раздавленные столь неожиданной переменой в жизни, не голосили над ними, не ревели в голос, а становились безмолвными, как тени, и еще яростней цеплялись за оставшихся детей, пытаясь их уберечь.
Перемогая время, начали обустраиваться. Павел сплел из ивняка две верши и приноровился рыбачить. Из ивняка же сплел щиты и прикрыл ими стены нового жилья. Дотянули они в том жилье до середины лета. В июле их снова погрузили на баржи, сплавили еще ниже по течению, в самую глушь и дичь, и сказали, что здесь они будут жить всегда.
Гнус ел поедом. Никакого спасения от него не было. Ни дымокуры не помогали, ни тряпки, которыми закутывали лица, ни деготь, которым мазались, чтобы отпугнуть кровососущую тварь. А тут навязалась еще куриная слепота, и едва опускались сумерки, как люди начинали бродить, словно лунатики, выставляя перед собой руки. У Марии стали отекать ноги, и Павел, не из робкого десятка мужик был, соскочил с зарубки: решил уходить в бега. «Я тебя на себе утащу», – говорил он Марии, но та упорно стояла на своем: «Нет, Паша, сгинем. Тут хоть какая надежда есть, и ребеночка ждем, жить надо…» Надо было жить. И Павел, как ни рвалась душа на волю, в побег не ушел. К осени слепили избушку, к осени же Павел разжился плотницким инструментом – топором, пилой, рубанком – и первым делом принялся валить лес на избу. Но скоро пал снег, на таежный край навалилась зима, и поселок № 8 Нарымской комендатуры, так называлось это место, притих в ожидании.
Не выжила бы Мария в ту зиму и не родила бы своего первенца, не будь рядом Павла. По ночам, тайком от работников комендатуры (попадешься – прямая дорога в лагерь), ходил он в соседнее село за сорок километров и там выменивал на хлеб у местных жителей последнюю одежонку. Дожидаясь его, Мария не находила себе места, и всякий раз ей казалось, что Павла она больше не увидит. Но он приходил, в снегу, перемерзлый, доставал из мешка хлеб, и у него еще оставались силы на шутку: «На-ка вот, Марья, гостинчик тебе от зайчика. Выскочил на дорогу, передай, говорит, женке, она, я слышал, на сносях у тебя. Да есть, говорю, такое дело, передам».
Избушка к утру так вымерзала, что густой куржак облеплял ее с потолка до пола. Печка, сложенная на скорую руку, нещадно дымила, и время от времени, чтобы не задохнуться, приходилось открывать двери. Марии вот-вот выходили сроки рожать, и молодым яснее ясного виделось: ребенка им в избушке не уберечь – пропадет. Павел, смиряя гордость, отправился в комендатуру ломать шапку. Комендант, разомлевший от водочки, находился в хорошем настроении и определил под это настроение присматривать Павла за лошадьми. Лучше и придумать нельзя. В конюшне, рядом со стойлами, был отгорожен маленький закуток с печкой-буржуйкой, стоял топчан, а главное – в закутке тепло. Ночью, как раз на Рождество, Мария начала рожать. Керосину в лампе не оказалось, и Павел трясущимися руками зажигал сосновые лучины, расставлял их по каморке и, слушая стоны Марии, твердил, как заведенный, одно и то же: «Потерпи, Машенька, потерпи, апосля легше будет, потерпи…»
В стойлах волновались, ржали лошади, били копытами в перегородки, на улице давил мороз, и углы конюшни звонко стреляли в стылую, звездную ночь. С треском горели и коптили лучины, отблески пламени и большая, изломанная тень Павла метались по стенам каморки, пахло смолой, горьким сосновым дымом и парной кровью.
Под утро запищал, явившись на свет, мальчик.
Лошади сразу утихомирились, перестали всхрапывать, и в теплой, нагретой их дыханием конюшне улеглась тишина.
Почти по-библейски свершилось рождение, с малой лишь разницей: зачатие было самым что ни на есть земным, и не выпало никому ангельского видения, и никто не пошел искать младенца, и не нашел его, вместе с Марией и Павлом, лежащим в закутке конюшни. И бежать им от царя Ирода не было никакой возможности: тайга кругом, мороз и снег выше головы.
Но зазвенели-забренчали под дугой медные колокольчики, скорее ветра мелькнула через поселок № 8 угонистая тройка, взвихрила копытами летучий снег и стала, как вкопанная, возле конюшни. Глядит Мария и глазам не верит: из саней тятя выскочил, в руках тулуп держит, на бороде сосульки висят, он их отламывает, а сам смеется: «Не ждала, дочка, а я вот не запылился на внучека посмотреть, заворачивай его в тулуп, домой поскачем…» Мария засуетилась, схватила парнишку, крутит головой, ничего понять не может: Павел где? А тятя торопит, толкает в сани, некогда, некогда… Кони ударили копытами, пошли с места в намет, и осталось постылое пристанище сразу же за спиной – только сосны вдоль дороги помелькивают. Тятя мохнашки скинул, вожжи одной рукой перехватил, два пальца в рот – сильнее бича по тройке свист жигнул, ветер в ушах засвистел. А тятя подсигнул на передке саней да как еще гаркнет: «Гра-а-бя-а-ят!» Тут и вовсе, не поехали – полетели! Отвяжись, худая жись, привяжись хорошая! Да только Паша-то, Паша – где он? «Привыкай без него жить, одна жить будешь. – Тятя ни с того ни с сего вожжи натянул, поставил коней в дыбки и с саней спрыгнул. – Жди меня тут, цел-здоров буду, вернусь, заберу». Ровно его и не было. Пустое место осталось. Огляделась Мария и задохнулась. Да что же это за беда такая, за бесконечная, хоть криком кричи! Вместо саней – пень трухлявый, грибами-опенками оброс, а заместо коренника и пристяжных – три черных ужа ползают. Стоит над ними Мария одна-одинешенька, держит на руках парнишку и чует, как несет по ногам холодом, словно бы метель началась…
С тем и проснулась.
На следующий день пришли старухи. Глядели на новорожденного, говорили, чтобы не сглазить, что шибко уж страшной уродился, а еще говорили: быть ему большим человеком, не иначе, раз в такую святую ночь на свет появился.
Улыбалась Мария, слушая их, поглядывала вокруг лучистыми глазами и таяла от истомы, когда беззубый рот первенца цепко ухватывался за круглый сосок ее набухшей груди. Верила в предсказания старух, да и какая мать не поверит, что судьба родного дитенка будет счастливей, чем ее собственная.
А старухи не зря предсказывали. Федюня толковым рос, понятливым, в школе на лету все схватывал, а после школы и вовсе широко пошагал. Первым из всей родовы институт закончил, да не где-нибудь, а в самой Москве, в столице, – надо же, куда прыгнул. А после института опять учился, пробивался в науке, и Мария никак не могла понять, допытывалась у сына: «Ты когда, парень, робить-то станешь? Учишься да учишься, конца-краю не видно. Жениться и то некогда». Федор смеялся, обещал в следующий раз молодуху привезти, да так и не привез. В последний раз он осенью приезжал и такой уж тихий был, словно ушибленный, что Мария сразу почуяла неладное. Пристала к нему с расспросами, а он все шуточками от нее отпихивается. Вечером как-то Мария глядит в окошко, видит: Федор у тополя в ограде стоит, головой прижался к нему, рукой кору гладит и плачет. Тут уж Мария не выдержала, допрос устроила: что это за наука такая, которая до слез доводит? Федор и в этот раз отмолчался, только и сказал: «Всякая она, мама, наука бывает. Мне вот такая выпала». И ни словечка больше не уронил.
Умер он в тридцать три года от белокровия, дотаял на больничной кровати, как льдинка в тепле. Мария, приехав к нему на похороны в закрытый городок, впервые услыхала про атом и облучение, смысла этих слов так и не поняла, но всякий раз, когда слышит их нынче по радио или по телевизору, вздрагивает и крестится.
А как хорошо предсказывали старухи! Может, и сбылось бы их предсказание, наверняка бы сбылось, да кто знал тогда, что появятся новые слова, а за ними встанут неотлучными тенями смерть и болезни, самим человеком накликанные…
Два года прожили молодые с Федюней в конюшне. Лошади к ним привыкли; парнишка, когда оставался без догляда, уползал в стойла, и ни одна коняга на него не наступила. Прибежит Мария с работы, выдернет его, до ушей измазанного в катухах, из-под лошади, отмоет, сунет на топчан, оглянуться не успеет – опять упорол! Когда на третьем году Павел срубил избу и они перебрались в нее, Федюня поначалу все на старое порывался. Сядет у порога и канючит:
– Сосадки, сосадки…
К началу войны в новой избе было уже трое парнишек. Следом за первенцем ступеньками поднялись Алексей и Григорий. Но освободившуюся зыбку Павел не выбрасывал – кто знает, вдруг да пригодится.
Не пригодилась.
На войну Павел собрался сразу, как только пришло известие. Но скоро вернулся из комендатуры вместе с другими мужиками: спецпереселенцев, оказывается, брать на фронт было не велено.
Воевать мужики из поселка № 8 пошли в сорок втором году. С Оби дул сердитыми порывами ветер, навылет пронизывая людей, стоящих на причале, разбойно посвистывал в сосновых верхушках, добираясь до середины урмана, словно и там хотел все взбаламутить, перемешать, как взбаламутилось и перемешалось все в людской жизни. Тягуче, надсадно гудел буксир, готовясь взять на прицеп баржу, на которой возили в последние годы один лишь живой груз.
Долгие проводы – лишние слезы. Павел первым на трап поднялся. Встал у борта, махнул рукой, закричал, чтобы Мария уходила, не мерзла сама и не морозила ребятишек. А она стояла, не двигаясь, держала на руках младшенького, Гришу, а за подол ее юбки цеплялись красными от ветра ручонками Федюня и Алешка. Стояла, смотрела на баржу и ничего, кроме белесого тумана, не видела – слезы глаза застили.
Буксир плюнул в низкое небо черными сгустками дыма, ветер тут же растянул их в черные ленты, а скоро и совсем развеял – ни следочка, один лишь мазутный запах остался. Два толстых троса натянулись, чуть приподнялись над водой, и буксир, всхрапывая от натуги, потянул баржу вверх по течению. На войну.
«Война нас в правах уравняет, – говорил в последнюю ночь Павел, сидя на корточках возле печки и попыхивая самокруткой. – Она крови требует, вот кровью мы и сравняемся. Ежели не вернусь, так хоть вас отсюда выпустят. Должны выпустить…»
Блажен, кто верует.
Похоронка на Павла пришла через год.
В тот же год Мария зазевалась на лесоповале, не успела отогнать лошадь от штабеля, а штабель развалился, и тяжелые бревна перехряпали несчастной животине ноги. Марию допросили с пристрастием и признали в несчастном случае умышленное вредительство. Колючей проволокой замаячил впереди лагерь. А ребятишки, куда их девать? Домой отправлять, на родину. Тятя после двух лет отсидки вернулся в деревню, должен подсобить, родная же кровь. Мария написала ему письмо, а сама кинулась по знакомым в поселке, упрашивая, чтобы взяли детей на догляд и прокорм, пока не приедет за ними дед. Нашлись добрые люди, взяли. А ну как следователь зауросит? Крутнулась на одной ноге – и к нему.
Следователь сидел в конторе за длинным столом, а на краешке стола лежал наган. На стене, за спиной следователя, висела большая карта страны, к ней иголками приколоты были красные флажки, похожие издали, от порога, на капельки крови. На улице крапал долгий осенний дождь, и окна плакали. Мария глянула через их мутные стекла, увидела сплошную пелену и подломила неподатливые ноги в коленях, безмолвно опустилась на грязный пол с вышорканной у порога краской.
– Помогите…
Глаза у следователя были синенькие, как новенький ситчик, он поморгал ими, поморгал, глядя на Марию, и показал на фанерную дверь в соседнюю комнату, где стояла койка. Без слов сказал, что ему требуется. Мария поднялась с пола, толкнулась в дверь. Разделась и легла на скрипучую койку, застеленную казенным одеялом с чернильными штампами на всех четырех углах.
Забрали вредительницу на следующий день. Ребятишки остались в поселке – не зря грех приняла на душу. Дед за ними приехал зимой, разыскал и привез в деревню. Мария вернулась домой в сорок девятом. Младший, Гриша, никак не хотел ее признавать, дичился и долго еще прятался по укромным уголкам от незнакомой тетки.
– Дети за отца не ответчики – вот как сказывали. Чо она, девчонка, понимала? А родитель…
– А родитель тебя в Нарым упек, он чо – тоже не ответчик? – Поля прямо-таки приступом на Марию идет, штурмом. Налетела, как говорится, коса на камень. – На тебя, Марья, или молиться надо, на божницу посадить, или воду на тебе возить. Ой, тошнехонько мне, на вас глядючи!
– За его грехи его Бог покарал, – твердо на своем стоит Мария. – А я прощу, незачем покойника злобой трясти, чего уж, из могилы вырывать да кости перетряхивать? Незачем. Не нами нагрешено, не нами и спросится.
Это они про большого командира из Москвы, взятого по линии энкавэдэ и сгинувшего в лагерях, все еще никак не доспорят. Я смотрю на Марию, на ее лицо, словно сошедшее со старой, темной иконы, и, кажется, начинаю понимать, какое это великое дело, подвластное лишь чистому и сильному человеку, – простить. Хотя и бьют нас за это всепрощение при любом удобном случае, исподтишка бьют и в открытую, и всегда с одной целью – добить. А вот не получается, живут еще и ходят по земле умеющие прощать.
– Прямо не праздник, а лекция в клубе, – сетует Аня. Передвигает по столу тарелки, расчищая пространство для блюда с пельменями. – Ешьте, девки, ешьте, на сытый живот язык ловчей чесать.
– А чо, и пожуем, и почешем!
Эх, конь вороной, Белые копыта, Вот окончится война, Поедим досыта!Фрося спела частушку и осеклась – сдает голос, не хватает дыхания, еле-еле последнюю строчку вытянула. Поля прожевала пельмень, кашлянула, горло прочищая, и звякнула, разудало и горько, на всю избу, до самых дальних углов, другую частушку:
Ах, война, война, война, Что же ты наделала, Ты из добрых-то людей Понаделала б…!– Типун тебе на язык, Поля! Надо же, святой праздник, а она матершину лупит. – Фрося всерьез осердилась и даже на скамейке подальше отодвинулась от подружки, платком чистенько губы вытерла, будто это у нее самой матерное слово с языка соскочило. – Прости меня, грешницу…
– О-о, каки мы нежны! – Поля вскочила, по-боевому уперла руки в бока и правое плечо подала вперед. – По телевизору вон голых баб показывают да как они с мужиками вазгаются – так ты глядишь, ротик-то платочком не вытирашь.
– Не гляжу я на их, не гляжу! – Фрося аж зарумянилась от возмущения. – Глаза закрываю. И орут когда – тоже не слушаю. Уши вот так заткну и пережидаю.
– А уж орут, вот уж орут, – подала голос Аня. – Намедни прямо сатану живого показывали. Дым идет, и сатана с рогами. А эти с гитарами, пузочесы, все чешут, чешут. Конец света, да и только.
– Оно завсегда так, – вставила Мария. – Когда кормить нечем, песнями потчуют, да чем голоднее, тем и песни громче. В шуме-бряке оно много чего не видно. Ох, девки, нагляжусь я этого телевизора да и думаю: опять не туда поплыли, опять народ дурят. Вот те крест – дурят, только нынче по хитрости по особой, сразу и не поймешь. Кому вот только отдуваться достанется?
– Не говори, Мария, один страх господень. Петь-то уж нормально разучились. Раньше, бывало, компаниями по деревне, там поют, там поют… заслушаешься, а теперь ребятишки ящик этот воткнут на пузе, он и базлает…
– А сами-то, сами, – не утерпела, поддела Поля. – По две рюмки вам подали, а все не поете.
– Оно и вправду, – оживилась Фрося. – Давайте споем. И первая, не дожидаясь подружек, затянула:
На горе колхоз, Под горой – совхоз…Словно ток электрический продернули по старухам, вздрогнули до единой, окунулись в песню, как в воду, и поплыли неторопким течением мимо знакомых речных излучин, крутых яров и пологих песчаных плесов, мимо всех изгибов и изломов собственных судеб, поплыли, прощаясь, и прощая, и заново плача над своими жизнями, которые теперь, с макушки пережитого, кажутся такими же корявыми, битыми и кручеными, как и их руки, переломавшие столько работы. Да кто ценил ее, ту работу…
Это милый мой Задавал вопрос, Ты колхозница, Тебя любить нельзя…Загинешь ты в своем колхозе и ребятишек загубишь, написал Поле старший брат, когда узнал, что принесли сестре похоронку на мужа. Самого его после госпиталя списали по чистой, работал он на шахте в Кузбассе и получал какой-никакой, а все-таки твердый паек. В конце письма предлагал одного из ребятишек отдать ему на воспитание. Сами они с женой бездетные и одного-то уж как-нибудь на ноги поставят. Смутил он Полю своим письмом, засуетилась она, забегала, а зима еще не кончилась, в кладовке – шаром покати, и на все про все оставалось полмешка мерзлой картошки в погребе. Решилась одного из троих отправить на воспитание. Самая малость оставалась – кого выбрать? Глядит на Оньку, на старшую, – вылитая мать. И обличьем, и повадками, и по дому за хозяйку остается. Как от себя оторвешь? Жалко. Глядит на Ваську, на среднего, тут и вовсе сердце заходится – тятя голимый, ни убавить, ни прибавить. Еще жальчее. А младшая, Валька, от обоих родителей набрала, вперемешку, – еще дороже. Да и муж ее любил, младшенькую. Вдруг вернется, а вернется и спросит: ты по какому такому праву дитя на сторону спихнула? Что она ему скажет? Что холодно да голодно было? Так она, война-то, пирогами не кормит. Поглядела так на своих деток, поплакала да и отписала: спасибо, мол, тебе, братчик дорогой, за жалость твою, а только никого из чад своих выпроводить из дому на чужую сторону не могу.
Весну кое-как перебились, выжили. А там польской лук пошел, слизун в бору и саранки – хватит чем брюхо набить, только ходи поживее. В ту же весну выглядела Поля на краю колхозной пашни, за березовым колком, кулигу бросовой земли. За три ночи вместе с Онькой и с Васькой кулигу вскопали, на одной ее половине пшеницу посеяли, а на другой половине посадили тыквы. Про то, как Поле семена достались, лучше не вспоминать. Когда первые ростки проклюнулись, пошла к председателю и покаялась: прости, Иван Митрич, такое и такое вот дело сотворила, дай уж до урожая дожить, дай ребятишек из голодухи вытянуть. Покричал председатель, потопал ногами, а когда утих, сказал: ладно, Полина, знать ничего не знаю и ведать не ведаю, выхаживай свои тыквы, но если какой проверяющий найдет, не обессудь. Чего уж тут, думала Поля, волков бояться – в лес не ходить. И по ночам, после колхозной работы, бегала на свою кулигу, холила пшеницу и тыкву. Будет с чем зимовать! Пшеница стеной поднялась, ядреная, звонкая, а тыквы выдурили как валуны каменные – с места не сдвинешь.
Сентябрьской ночью, выдалась она светлой, лунной, приехала Поля на лошади собирать урожай. На кулиге было пусто. Вместо пшеницы – ровное жнивье. Тыквы – ни одной. Поля слезла с телеги и пошла, выставив перед собой руки, как слепая. Высохшие тыквенные плети хрустели под ногами, луна стояла над головой, и длинная тень Поли тянулась едва ли не через всю кулигу, доставая до крайних берез. Вдруг луна завалилась за тучу и померкла, тень исчезла, словно ее слизнули, и земля обломилась под ногами. Поля рухнула в темноту, вздергивала руки и пыталась за что-нибудь уцепиться. Очнулась на том же самом месте, где упала, от теплого и близкого дыхания. Над ней стояла лошадь, тянулась к щеке бархатистыми губами и тихо, горестно вздыхивала. Туча к тому времени проскочила, и луна ярко отражалась в темных и влажных зрачках лошади. Поля поднялась на колени, мутными, дурными глазами глянула в безмолвное небо и, чтобы не закричать в голос, чтобы не зареветь дурниной, снова припала к земле, хватала ее жадным ртом, вперемешку со стеблями, и глохла от скрипа на зубах. Лошадь не уходила, стояла над распластанной бабой и трогала губами ее волосы, выскочившие из-под платка.
Я колхозница, Не отпираюся, А любить тебя Не собираюся.Если не было в жизни утешения и счастливого конца, так в песне сочиняли то и другое. Верили, пока пели, что так оно и бывает. Потому и не хотелось доводить последний куплет до последнего слова, как не хочется обрывать сладкий сон, когда чуешь, что он уже на исходе.
Я туда пойду, Где густая рожь, Я того найду, Кто на меня похож.Надо же было, чтоб выжить, во что-то верить. Так верить хотелось, что уже и неважно было – во что, в кого. В песню ли, в сказку, в земного бога или в небесного…
Поглядите-ка на нас, Вот и парочка, Он колхозный бригадир, А я доярочка.А жизнь поворачивала по-своему, наперекосяк, и утверждала другое, совсем не то, о чем пелось. Сегодня, сейчас, Поля уже и песне не верила. Глаза ее остановились, не двигались, и жутко было заглянуть в них – пропасть, без дна. Я попытался и трусливо вильнул. Выбрался из-за стола, выскочил на улицу.
Снег под каблуками визжал так, что ломило зубы. Редкие, солнцем просвеченные, приплывали с неба снежинки. Таяли на моей голой, раскрытой ладони, влага холодила кожу, а вокруг царила светлынь. Дальняя гряда бора уходила ввысь, поднимаясь по склону увала, от крайних деревьев раскатывалось до горизонта поле, и единственный холм на нем, обросший облепишником, казался островом, плывущим посреди белого и ровного моря. Господи, хорошо, что хоть здесь все осталось на своих местах, не ускоряется, не впадает в застой и не мается зудом революционных переломов через колено. Останься, все останься таким, как есть: и бор, и холм, и облепишник на нем. Не покинь, последнее утешение!
Я смотрел на округу, думал о Поле, о ее выстраданном безверии, и мне не хотелось возвращаться в избу, где за круглым столом сидели старухи. Мучила, доставая до самой середки, жгучая вина. В чем она заключалась, что я такого натворил, что пошло бы во вред этим страдалицам? Ответить не мог, а вина жгла и не уходила.
– Ты сдурел, парень?! Космачом на морозе стоишь! Не май месяц, давай в избу! – Аня строжится на меня, как на мальчишку, я послушно киваю головой, возвращаюсь в избу. А там – пыль до потолка и дым коромыслом! Пляшут старухи, все до единой! Даже Вера, не сказавшая до этой минуты ни слова, вышла в общий круг, улыбается отрешенно и выстукивает пимами по крашеным половицам. Звякает на столе посуда. И чудится, слышится в этой пляске родное, до всхлипа знакомое: эх, гребут твою мать, завивай горе веревочкой, чешутся руки рвануть на груди рубаху, зареветь хочется без удержу, в голос, чтобы вышло с души, с самого дна ее, то, что не имеет названия, но болит днем и ночью, разъедает хуже всякой болезни: а так ли живем да туда ли идем?
– Охтим нешеньки! Не могу! – Поля остановилась посреди самого разгара пляски, схватилась обеими руками за правый бок и согнулась, словно переломили ее. – Не могу, все здоровье выгорело.
– В Бога не веруешь, вот он тебя и наказывает, – вставила Фрося.
– Я верую! – Поля через силу разогнулась и вознесла над головой палец, рубленный топором. – Верую я! Токо не по-вашему! Я в Нюрку верую! Она прижмется ко мне, обнимет за шею и шепчет: «Я тебя, бабуля, больше всех люблю!» Вот это – правда! Нюрке, дитю чистому, верю, боле никому не хочу! Она хоть не обманыват, мыслей про себя не держит, а все прочие – они выгоду в мыслях держат! И ты меня, Фрося, больше не подъелдыкивай! Я сердиться умею.
– Ну, раскудахтались, раскудахтались! – Аня на правах хозяйки въехала в разговор и прервала его, пока не развернулся он в ругливую сторону. – За стол садитесь, а то вас не переслушать. Вон, ничо не тронуто, не съедено, а они все разговоры говорят.
– Ночами-то намолчишься, накопишь, вот и тянет выговориться. – Фрося присела на скамейку, кофту оправила и широкой, как лопата, раздавленной ладонью тронула Полю за узкое плечо. – Ты уж, подружка, не серчай, я ить не со зла…
– A-а, чо на тебя серчать, легше на кобылу соседску – все одно. Аня, давай-ка по рюмочке нам, выпьем, а им чтоб всем подавиться! – И Поля снова погрозила кому-то пальцем, неизвестным и неназванным.
Махнули мои подружки по рюмке и завели нашу, сибирскую, «Отец мой был природный пахарь…» Слушал я песню, и каждое слово ложилось на сердце, в каждом слове маячил нынешний смысл, а последние слова «горит, горит село родное, горит вся родина моя» просто-напросто наповал разили. Горит… Хватит ли силы воскреснуть после нового пожара, как было уже не раз? Хватит ли? Не оборет ли нас усталость? Ведь устали мы, как мы устали! А новые пророки, коим усталость неведома, все придумывают и придумывают новые реформаторские шараханья и снова обещают в скором времени земной рай, но уже не лучезарно коммунистический, как называли раньше, а совсем иной, тот, против которого так рьяно боролись. Да какие же мозги, какая душа выдержит? Она ведь болит, ноет, душа-то живая…
– Сон недавно видала, – вскинулась Фрося. – Не сон, а видение, как наяву прямо. Я, этта, в избу бы к себе захожу, гляжу: батюшки мои, а в переднем углу, под божничкой, сыночка мой сидит, Петенька, головушка разнесчастна. Не взрослый, не мужик, а совсем махонький, лет семь, поди-ка. Рубашка на ем беленька, волосики русеньки курчавятся. А ноги босые, и цыпки на них. Руки поднял вот так, иди, говорит, мам, посиди со мной, я, говорит, жизнь свою рассказывать стану. Я стою у порога, ноги не могу сдвинуть, ровно они у меня пристыли. Он руки подержал-подержал да и опустил, сложил их на коленочках. Ты, говорит, мама, прости меня, что я жизнь твою так подкосил, что как пошел смолоду по тюрьмам, так в них и загинул. Только не ругай меня, посочувствуй, я ведь воровать-то под твоим доглядом научился. Тут я криком и закричала. Да когда же я, кричу, сыночка, учила тебя воровать?! Ты зачем грех такой на душу мне кладешь?! А вспомни, говорит, мамонька, как мы зерно с тобой на току воровали. Сыночка, опять кричу, да чего же ты мелешь! Это ведь с голодухи было, чтоб тебя же спасти, да и ходили мы на ток два раза всего. А мне, отвечает, и этого хватило, долго ли во вкус-то войти. Я после и в ремесленном воровал, как есть захочу, невмоготу, так иду и ворую, я, мама, до конца жизни досыта не наелся. Деньги большие в руках держал, покупал, что хотел, а ни разу досыта не наелся. Я к тебе, мама, собирался, когда убили меня, покаяться хотел, рассказать все, да только срок мне в тот раз шибко большой дали, чую, что мне не выдержать, я и побежал к тебе. А пуля, она еще быстрее летает… Говорит мне все это, ручки на коленях держит и смотрит на меня, а глаза светлы-светлы, как небушко. Я заревела с горя и ноги от полу оторвала, пошла к нему, а его нету. Никого под божничкой нету. Проснулась, встала на колени, до утра молилась. Молюсь, молюсь, а он перед глазами у меня стоит, такой махонький, русенький, и опять же рубашка на ем белая…
Не договорила Фрося, вылезла из-за стола, ушла из горницы на кухню, долго сморкалась там, всхлипывала. Подружки сидели за круглым столом, молчали, и Фросю никто не утешал.
Поля спеть попыталась, затянула мою любимую «За стеночкой, за перегородочкой». О том, как приехал Ваня пьяный с базару, а Маруся встретила его, положила на белу ручку и предостерегала, чтобы не ездил он больше таким хмельным в поздний час, а то налетят воры и ограбят, но Ваня, как истый чалдон, упорный в своей дури, разумных советов не слушал, куражился и говорил, что у него припасен ножик и с ним он от воров отобьется… Эх, как не умеем мы вовремя оберечься, как любим под хмельком шапки швырять, а гром грянет, и мы три раза юшкой умоемся, пока сообразим, где и что у нас для обороны припрятано. И пора бы уже, много раз кровью умывшись, науку оборонительную освоить, ан нет, с каждым новым нападением все дольше мы собираемся, все дольше подпоясываемся, хотя уже и сама земля нынче вздрагивает под ногами…
А песня у Поли не получилась, сошла на нет и оборвалась стыдливо.
– Нет, Вера, разучились мы без тебя петь, разучились. – Поля махнула рукой и вышла на кухню, привела за руку, как маленькую, Фросю, усадила подружку на прежнее место. – Хватит слезы-то лить, всю жизнешку не переплачешь.
Вера зарозовела от Полиных слов, но продолжала сидеть, как и до этого сидела, тише мышки. Лишь изредка улыбалась, думая о чем-то своем и далеком. Если к ней обращались, она тихо, словно бы невзначай, роняла одинокое слово и опять молчала. Скоро уже пять лет, как замкнулась Вера в этом молчании, перестала петь песни и потерянно улыбается, глядя на окружающую ее жизнь и на людей, в ней живущих. Вдруг она медленно начинает покачивать головой, губы у нее шевелятся, произнося неслышные слова. Я замираю, мне кажется: вот встряхнется она сейчас, сбросит с себя наваждение и выпустит на волю тот прежний, нерастраченный голос, который до сих пор слышится мне, как наяву. Но Вера затихла, перестала шевелить губами и опустила голову. Нет, не услышать мне, похоже, ее голоса, никогда, одно лишь осталось – вспомнить…
Март в том году выдался холодным и снежным. В марте мы схоронили мать. В доме осталось три мужика: батя, старший брат, четвероклассник, и я, подскребыш, шести лет. Старшая сестра была уже замужем, и мы, помыкавшись неделю-другую, позвали ее на помощь. Вместе с мужем они переехали в наш дом, и худо-бедно, но все были напоены-накормлены и обихожены. Утром старшие уходили на работу, мы с братчиком оставались вдвоем, и дня не проходило, чтобы со мной не приключилось несчастья: умудрился я за короткий срок едва не утонуть на реке, оборваться с ветлы, еще мне камнем пробили голову, и в довесок ко всему искусали шоршни, когда полез я в самое их гнездо за медом, а шапка, которую натянул на голову, и тряпка, которой обмотал лицо, возьми да и разом свались. Самое же обидное, что меду у шоршней, как после сказали, отродясь в гнездах не водится.
Всем миром недовольный, сидел я вечером за столом, опухший донельзя, слышал, как матерится отец, расшаперивал пальцами заплывшие глаза и видел: все в сборе, все думают, куда и как меня определить, чтобы не угробился робенчишко до смерти.
– С ним и на люди страшно выйти, – беспомощно сетовала сестра. – Со стыда сгоришь.
Тоже было верно сказано. К шести годам выучил я два стихотворения: «Маляры» и «Вот моя деревня, вот мой дом родной». Хорошие стихи, как раз по возрасту. Но приехал к соседям гость, дядя Леша с Дальнего Востока, мужик, как я теперь понимаю, жизнью крученный и верченный, послушал мою декламацию и потихоньку, чтобы жена не увидела, поманил в огород.
– Я тебя, земляк, другим стихам научу, настоящим, – говорил дядя Леша, раскуривая папироску. – Слушай…
Память у меня была отменная, и стихи дяди Леши я со второго раза запомнил на всю жизнь. Непечатные, надо сказать, стихи, этакая помесь блатного жаргона, простодушной похабщины и виртуозного российского мата. Но мне они поглянулись. Если мужики или парни просили рассказать стишок, я с готовностью вытягивал руки по швам и шпарил «с выражением». Когда же был не в духе, а такое тоже случалось, то я своих благодарных слушателей посылал куда подальше вместе с их просьбами и неторопко удалялся, разглядывая на животе грязную майку.
– Все! Тормози! Хватит! – Батя шваркнул по столу ладонью, как припечатал. – С собой заберу, со мной в бор будет ездить!
Возражать ему не полагалось, и на следующее утро, еще опухший, с глазами-щелочками, отправился я вместе с родителем на работу. В деревянной кабине «ЗИС-5», на вышорканном и продавленном сиденье, было уютно и ловко, вкусно припахивало бензином, мимо, за кабиной, проносился сосновый бор, в первом же ложке увидел я по-летнему серого зайца, возликовал и подумал: как это раньше не сообразили меня определить – вон как славно и весело. Но после обеда, наглотавшись пыли, напрыгавшись, как мячик, на кочках, я осоловел и тут же, на сиденье, уснул.
Так мы и стали трудиться.
До обеда я бодрился, а после обеда дремал. Батя даже соблюл технику безопасности: подол своей старой фронтовой гимнастерки приколотил к спинке сиденья, и, когда я засыпал, он обвязывал меня пустыми рукавами, и на крепкой привязи не страшны были никакие кочки. Майка иногда задиралась, и на животе отпечатывались круглые пуговки со звездочкой посередине. Но исчезали они потом слишком быстро, и я всегда об этом жалел.
Работали в то время на леспромхозовских дорогах специальные бригады: засыпали ямы, ровняли полотно, ставили знаки. Собирались в тех бригадах одни женщины, и в основном вдовы. (Колхоз у нас к тому времени ликвидировали в деревне подчистую – начиналась великая заготовка леса.) Но это я лишь позднее, через годы, понял, что вдовы. А тогда удивлялся и никак не мог взять в свою маленькую головенку: чего это тетки меня так тискают, холят и лелеют? Только подъедем, только остановимся, чтобы воды напиться, а мне уже и слизуну насуют, и саранок, и ягод, ешь – не хочу! Я и не отказывался, скоро привык, уверился, что так оно и должно быть. Батя при встречах с дорожницами разом менялся, спихивал на затылок военную фуражку защитного цвета, прищуривал глаза, целясь во всех дорожниц одновременно, и притопывал ногами в кирзовых сапогах, словно ему жгло подошвы. «В лоб высоты не берут! – задиристо и громко кричал он. – Только с тылу, обходным маневром!» «Да ты чо, Николай, – откликались дорожницы. – Каки там тылы, мы и в лоб без бою сдадимся, было бы кому брать». – «А я чо, не солдат, мне за отвагу медаль давали». И много они чего еще говорили и смеялись над каждым словом, а я причины смеха не понимал да и не хотел понимать. До этого ли, когда насыпано в подол майки целых три пригоршни отборной земляники.
В тот страшно памятный для меня день, когда мы уже груженными возвращались из лесосеки, нас остановила возле старого выруба Вера. Поднялась с пенька, вышла на бровку дороги и замерла, опустив руки.
– Ты чего? – батя сдвинул на затылок фуражку и высунулся из кабины. – На свиданку дунула?
– Кака свиданка, Коля? День-то седни, вспомни… – распахнула старый мужской пиджак, отшпилила от внутреннего кармана булавку и достала носовой платочек, завязанный на узел. – День-то какой… Вот мы и решили отметить, в деревне уж не будем, а в лесу нам сподручней, чтоб никто не видел. Привези, Коля, обратно поедешь, мы седни на свертке, за шестым кварталом.
Батя помрачнел, натянул на самые глаза фуражку, постучал по баранке кулачищем и отвел от Веры глаза. Веселость его как сдунуло.
– А я вот, едрена феня, позабыл, лучше бы и не вспоминать. Ладно, давай капиталы, привезу.
Бросил завязанный платочек на сиденье, со скрежетом включил скорость.
– Кляп ему в рот, этому Гитлеру! Кочергу в задницу! – бормотал он всю дорогу, щурился и свирепо глядел из-под козырька на пыльную колею.
На нижнем складе разгрузились и, не задерживаясь, поехали обратно, но на развилке дорог батя неожиданно свернул к деревне. Остановился возле чайной, впритык к крыльцу. Ехал он и тормозил, словно настеганный, – рывками, со скрипом. Бедный лесовозишко дергался и покряхтывал.
– Ты бы еще сюда прямо заехал! – сердилась буфетчица. – Вечно у вас, у шоферни, фокусы.
– Тиха, бабы! – скомандовал родитель. – Тиха, а то не повезу. Залей горючего, Надюха. – Развязал платок, высыпал на прилавок блестящую, беленькую мелочь и хрустящие, хоть и согнутые, бумажные рубли – в тот год как раз поменяли деньги, и ходили они по рукам еще не замасленные и не мятые.
– А с чего это загуляли? Да еще и в будни? А, Николай Батькович? Деньги карман прожгли?
– Ты, Надюха, на календарь глянь, там прописано.
Буфетчица наморщила лоб, вспоминая, вдруг охнула и тихо, беззвучно заревела. И все ревела, пока считала деньги, пока выставляла на прилавок зеленые бутылки, залитые на макушках коричневым сургучом.
Вера ждала на прежнем месте, сидела на пеньке и смотрела на дорогу.
– Сам-то к нам не заедешь? – спросила она, принимая сумку.
– Загружусь, заеду. Парня у меня покормите, а то без обеда. Ладно, поехал.
На тихой полянке, за пожарной полосой шестого квартала, бабы постелили под молодыми соснами большую клеенку, выложили на нее небогатую закуску и замешкались, растерянно отводя от меня взгляды. Я им мешал, сдерживал их, и они не подсаживались к клеенке, а, наоборот, старались отшагнуть в сторону. Стояли, смотрели, как я с писком уписываю за обе щеки вареные яйца с домашним хлебом, как запиваю их молоком, и было в бабьих взглядах что-то такое, необычное, горькое и безысходное, что мое маленькое сердчишко дрогнуло, обдало его тревогой и холодящим страхом. Когда умерла мать и в нашем доме, уже после похорон, отмечали поминки, соседка-старуха подвела меня к печке, заставила посмотреть в темный зев. Это делали, как я узнал через много лет, для того, чтобы не бояться темноты. Но я смотрел в печку, видел в ее глубине неясные очертания чугунов, и было мне боязно, точно так же, как и здесь, на поляне. Отставил недопитую бутылку с молоком и сказал, что наелся.
– Пойдем-ка, парень, я тебе место одно покажу. – Вера взяла меня за руку и отвела в маленькую низинку, сплошь усеянную черникой. – Попасись тут, а мы, мы… поплачем…
Но даже ягода на этот раз не соблазнила. Тревога давила, не оставляла, и я, для виду посидев на корточках какое-то время, крадучись вернулся обратно и залег за ближней сосной, откуда мне все было видно.
Бабы гуляли. И гуляли странно, совсем не так, как в деревне. Наливали водку в два стакана, больше посудины не было, выпивали по очереди и смотрели куда-то в сторону долгими, застывшими взглядами. Они словно ждали кого-то, только им известного, кто должен был выйти сейчас из бора. Но бор стоял неподвижно, и не было слышно ничьих шагов. Сосны от жары разопрели, густо пахло смолой, и где-то неподалеку трудяга-дятел старательно долбил клювом неподатливую древесину.
Мне становилось все страшней, потому что бабы молчали, словно они враз до единой онемели. Хотелось голосов, смеха, песен, всего того, что слышал я и видел на наших деревенских гулянках. Но бабы молчали, в тишине ходили по кругу два граненых стакана.
Вера приняла свою долю, вдруг выронила стакан, расплескав водку, и ткнулась головой, словно подстреленная, в край клеенки. Круто выгнутая спина вздрагивала. Казалось, что били изнутри Веру короткими, жесткими тычками. Бабы не утешали, сидели каменно. Они боялись, как я теперь догадываюсь, промолвить хоть слово, боялись, что терпение рухнет, а горе, не изжитое до конца, выплеснет наружу и захлестнет их, каждую, с головой. Самих себя боялись они. Вера медленно, через силу, разогнулась и рукавом мужского пиджака насухо вытерла слезы. Не поднимаясь с коленей, покачиваясь вперед и назад, запела. Дрогнули сосны, пошатнулась земля, когда взлетел в небо из души исторгнутый стон.
Не вспомню сейчас слов той песни и саму песню не вспомню, помню лишь одно: тоска в ней была неимоверная. И от нее, безыс ходной, закружило посреди белого дня, посреди теплой яри солнечного света, ледянисто дохнуло чье-то неведомое, но явственно ощутимое крыло, до упора налитое черным цветом.
Я вжался в сухую хвою, меня трепало ознобом. Ничего не понимая, не разумея, но смутно чувствуя, что вижу и слышу нечто страшное, что уже поправить нельзя, я тихо, по-щенячьи заскулил. Захотелось, чтобы пришла мать и погладила меня. Но Вера пела о невозвратном, и я догадывался, что мать не придет и не погладит. В тот день, когда ее привезли из больницы, я бегал по соседям и торопливо всем сообщал: «А чего к нам не идете? У нас мамку в гробу привёзли, идите смотреть», мужики отворачивались, бабы всхлипывали, а я бежал в следующий дом, и было это похоже на игру, не известную мне раньше. А сейчас сердчишко дрогнуло и оборвалось: неясная боязнь, когда меня заставляли после похорон смотреть в печку, стала понятной и осязаемой, – не будет матери, никогда. Плотнее прижимался к колючей хвое и безутешно скулил.
Вера не успела допеть песню. Послышался треск мотоцикла, приблизился, нарастая, и она оборвала свой голос на полуслове. Старый черный Иж с плоским бензиновым бачком и с блестящим рычажком для переключения скоростей на этом бачке круто развернулся на поляне, оглушая ревом мотора, плюнул из трубы сизыми сгустками, и переднее колесо замерло на самом краю клеенки. За рулем мотоцикла сидел Шумкин, которого в деревне называли «начальник». Галифе у него были заправлены в хромовые сапоги, на сапогах толстым слоем лежала пыль. Я думал, что бабы станут здороваться с Шумкиным, как все здоровались с ним в деревне, – уважительно и отводя глаза в сторону. Но они молчали и даже не шевельнулись.
Шумкин спрыгнул с мотоцикла, перешагнул, высоко поднимая ноги в хромовых сапогах, через Веру и встал посреди клеенки.
– Что за пьянка?! – Голос был хриплый и резкий, как у всех людей, которые много и громко кричат. – Уволю к чертовой матери! Что за пьянка, спрашиваю?!
– Дак день-то седни, Иван Никитич… – тихо обронил кто-то из баб.
– День как день! Рабочий день! Что за пьянка, спрашиваю?! Ну-ка, лопаты в руки, и на работу! Шагом марш!
Вера вскочила, гибко, по-кошачьи, изогнулась, ухватилась руками за край клеенки и дернула ее на себя. Шумкин взмахнул руками, с маху опрокинулся на спину.
– Хватит, попил нашей кровушки! В войну еще нахлебался, паук. Хватит! – Вера стояла перед ним, вздернув голову и прижимая руки к груди, словно ожидала удара и хотела себя защитить. Шумкин неуклюже поднимался, сначала на колени, упираясь руками в раздавленную картошку, затем в полный рост и, выпрямившись, пошел на Веру.
– Та я ж тебя, сучка мокрохвостая, в порошок… – Руки у него были измазаны картошкой, с них что-то капало, и со страху они показались мне неимоверно длинными. Вера стояла, шагу не сделав с места. Вот дотянется сейчас Шумкин до ее горла, схватит… Какая сила подбросила меня – не знаю, но я пулей вылетел из-за сосен, ухватил Шумкина за широкие галифе и закатился диким, пронзительным ревом. Шумкин пытался меня стряхнуть, но пальцы мои, сведенные в судороге на жесткой материи, не разжимались. Вдруг я резко взлетел вверх, еще успел почуять какую-то невесомость, услышал гул, крики и провалился в короткий и душный обморок.
Очнулся от прикосновений шершавой ладони, похожей на материну. Кто-то гладил меня по голове, осторожно, едва касаясь волос. Я разлепил глаза. Прямо над собой увидел Веру. Ее лицо было исцарапано, горело красными пятнами, а завернувшаяся прядь лохматых волос закрывала глаза.
– Сироты мы, сироты, какие же мы сироты… – еле слышно шептала она, тяжело размыкая опухшие, в сукровице, губы.
А рядом слышались хрип, хряск и надсадная, сквозь зубы, ругань. Я поворачивал голову на звуки, но Вера удерживала меня жесткой ладонью, не давала смотреть. Все-таки я увидел. Батя и сменщик его, дядя Захар, катали, утюжили на поляне, недалеко от мотоцикла, Шумкина. Тот извивался, вскрикивал, закрывая кровяное лицо, а они с яростью, с измененными злобой лицами всаживали в дергающееся тело ободранные носки кирзовых сапог. Бабы, которые в деревне отважно бросались разнимать любую драку, стояли в сторонке. Глаза их были сухими.
Я зажмурился. Только не видеть бы кровь, носки сапог и дергающееся тело. Но глухие пинки, хрипы и ругань проникали в уши. От бессилия, от невозможности остановить драку и оборвать страшные звуки, я снова заверещал и бросился под ноги отцу и дяде Захару, пытаясь остановить их. Но меня, как котенка, отшвырнули в горячке, и я отлетел в сторону. Вера подхватила меня, прижала к груди и побежала прочь от поляны.
Сосновые ветки хлестали нас распаренными хвоинами, солнце обнимало сверху горячим светом, а Вера бежала и бежала, пока не выдохлась.
– Сироты мы, сироты… – говорила она, присев на обочине дороги.
И я вслед за ней безотчетно повторял, повторял то же самое:
– Сироты мы, сироты…
С годами многое стало ясным. Я все узнал про Шумкина, который жив и поныне, узнал, как мордовал он баб в войну на лесоповале, как покупал их за буханку хлеба и даже заставлял перетаскивать на горбу через обмелевшую речку. Та драка на поляне, когда били его батя и дядя Захар, пожалуй, единственное наказание, какое понес он, и сегодня ему живется намного лучше, чем старухам. Дрова выписывают и привозят в первую очередь, как ветерану леспромхоза, сенокос выделяют самый удобный, ездит Шумкин на собственной «Ниве», а когда его приглашают в школу, он подолгу рассказывает ребятишкам о своем трудовом подвиге в тылу.
Живет…
Вера после того события уехала куда-то далеко на Балхаш и там еще раз попытала свою бабью судьбу. Но судьба от военной вдовы вновь отвернулась: второй мужик работал шофером и погиб в аварии. С пятилетним сыном вернулась она обратно в деревню, купила маленький домишко на берегу реки и пошла работать в школу техничкой.
Витька ее словно для того и родился, чтобы подсластить матери прежние годы. По дому – за хозяина, в школе – одни пятерки, на спортивных соревнованиях в районе – первые места и почетные грамоты. После десятилетки отправился он в город Рязань и поступил в военное училище, где учили, как говорила Вера, на воздушного офицера.
Офицер из него, что и говорить, звонкий получился, воздушный. Новенькая форма, только что с иголочки, сидела на молодце как влитая, и носил ее Витька с тем особым шиком, с каким носят ее все новоиспеченные лейтенанты. Когда приехал он после выпуска в деревню, Вера ни на шаг не отпускала его от себя, и по три-четыре раза на день возникала у нее крайняя необходимость сходить в магазин: то хлеба не было, то маргарину, то еще чего-нибудь… Виктор послушно чистил сапоги, перетягивал золоченым ремнем китель цвета морской волны, шел вместе с матерью в магазин и приветливо здоровался со всеми сельчанами, какие попадались навстречу. А уж Вера… не высказать словами, как цвела она рядом с сыном, помолодев на добрый десяток лет.
Дети для любой матери, даже если они и взрослые, все равно остаются маленькими, неразумными, все теми же мальчиками и девочками, о коих надо неустанно заботиться. И на автобусной остановке, а получалось так, что из деревни в тот раз я уезжал вместе с Виктором, Вера теребила меня за рукав и просила:
– Ты уж, парень, пригляди за Виктором, посади его там на самолет, в городе-то. Ты постарше – пригляди…
Я обещал приглядеть, Виктор смущенно улыбался, а Вера повторяла и повторяла свою просьбу, словно это было самое главное в жизни ее сына – не отстать и вовремя сесть в самолет.
Автобус районного автохозяйства прибыл вовремя, пассажиры загрузились в него, и он пополз по деревенской улице, накрыв серой лентой провожающих. Мы с Виктором сидели на заднем сиденье, обернувшись к остановке, и оба увидели, когда чуть опала пыль, одинокую, прощально машущую руку. Вера махала нам вслед, благословляя на дальний путь.
В городе Виктор первым делом побежал к телефону-автомату, и в аэропорт мы поехали уже втроем, вместе с юной и смущенной девочкой, какие, я думал, в наших городах давным-давно перевелись. Ан нет! Каким-то образом уцелели…
Наказ Веры я выполнил. Довез Виктора и девочку до аэропорта, попрощался и оставил их вдвоем, чтобы не смущать своим присутствием. Сам же поднялся в буфет на второй этаж. Очереди в наших буфетах длинные, стоял я долго, и, пока стоял, объявили, что посадка на ташкентский рейс закончена. Ну вот, подумал я, полетит сейчас лейтенант к месту службы.
Получив наконец-то кефир и булочку, двинулся к свободному столику и увидел вдруг девочку Виктора, с которой он забыл меня в суете познакомить. Она так и осталась в моей памяти без имени – просто девочка. Тоненькая, беззащитная, как на ветру былинка, стояла она у стеклянной стены, лицом к летному полю. Плакала, по-детски, ладошкой, вытирая слезы. А губы ее шевелились, и в медленном их шевелении без труда угадывались такие святые, такие старые и всякий раз неизведанной новью обжигающие слова: «Я… тебя… люблю…»
«Я… тебя… люблю…»
Виктор был где-то на летном поле, внизу, за стеклянной стеной, наверняка видел девочку и понимал, что она ему шепчет.
Неудобно подглядывать, даже если смотришь и на счастливых. Я тихонько пошел вниз, невольно и по-чистому завидуя Виктору, пребывая в тихой и светлой благодати, такой тихой и светлой, словно слушал пение в церкви. Да и какое, даже самое заскорузлое, сердце не дрогнет, когда прикоснется оно к святой чистоте, все-таки оставшейся еще в нашей жизни…
В родную деревню Виктор вернулся из чужой страны в звании старшего лейтенанта, с двумя орденами Красной Звезды и в цинковом гробу. Стоял конец апреля, над черной, оттаявшей землей зыбко качался тугой и влажный туман, гроб был накрыт густой моросью, и прощальный залп на кладбище прозвучал негромко, так, словно на стволах автоматов были глушители.
Бросив в могилу горсть земли, я взялся за лопату и, едва перемогая боль, подумал: я не только своего земляка, прекрасного парня, зарываю сейчас, я сейчас зарываю всякие призывы ко всяким революциям, веру ко всем прошлым, настоящим и, не приведи рок, будущим переустроителям, любителям загонять народ наганом в счастливое «завтра», ко всем кричащим, лгущим и обещающим. Нет у меня больше этой веры, я оставил ее на сельском кладбище. Да простит меня убиенный, что думал я об этом, совершая горькую работу над его последним пристанищем.
На Веру страшно было смотреть. Казалось, что еще немного, и она умрет сама. После похорон я повторял и сейчас повторяю одно-единственное: «Не дай мне Бог еще хоть раз увидеть, как матери хоронят сыновей… Не дай мне Бог…» Вера же, отрыдав и отголосив, замолчала и молчит уже пятый год.
Зимнее солнце, коротко мигнув, покатилось в забоку. Гряда серого ветельника вспыхнула изнутри алым светом, словно там развели костер. Отблески полохнули по склону неба, и окно, глядящее на запад, зарозовело. Вера отвернулась от подружек, от стола отвернулась, смотрит в розовое окно, в розовую даль, тихо улыбается… Чему она улыбается?
А может, плачет так?
«…плачет о детях своих и не хочет утешиться, ибо их нет» – так сказано в одной старой и мудрой книге.
– Теперь вот говорят да показывают – только слушай, один хлешше другого высказывается, я другой раз подумаю, аж боязно, заберут, думаю, говорильщика. – Аня поворачивается ко мне, грозит пальцем. – Ты уж там шибко-то не высовывайся…
– А всех слушать не надо, – веско говорит Мария. – Двери им нынче открыли, они и полезли, пихаются, давят друг дружку, как в голодуху за хлебом. Всех не слушай, всех не переслушать. Я их сроду боялась, говорильщиков-то.
– Наперекосяк, на дыбки жизнь встала, – сокрушается Аня. – Ни устою, ни упору нету, ровно Вася Малехин пьяный едет.
– Помер, сказывали, Вася-то, – сообщила Фрося. – Дочь увезла в город, а он там и году не протянул. Пить, говорят, перестал, а все равно не протянул, с тоски сгорел.
Вот и Васи Малехина не стало, совхозного учетчика из соседней деревни. Я и теперь помню его езду, даже чаще, чем раньше, вспоминаю ее. В середине шестидесятых сено мы косили на проценты, на совхозных лугах, на своих, леспромхозовских, покосы выделяли такие, что корму и овечке на зиму не хватало. А на проценты так: накосил, сметал, больше половины совхозу, а меньше половины – себе. Принимал стога Вася Малехин. Мужики знали, как его ублажить, чтобы он нужную цифирь вывел, готовились заранее, и приемка заканчивалась обычно одной и той же картиной: Вася выезжал за мост, на луг, ронял вожжи и сваливался в плетеную кошевку. Лошадь, чуя, что водитель приснул, сворачивала с дороги на обочину и тихо паслась на зеленой травке. Вася просыпался, нашаривал вожжи, хватал кнут и хлестал лошаденку, матерясь на чем свет стоит. Бедная животина выскакивала на дорогу, неслась, задирая голову и едва не выпрыгивая из хомута, а Вася тут же падал в кошевку и намертво засыпал. Лошадь умеривала бег, переходила на шаг и, передохнув, спускалась на другую обочину. Вася снова просыпался, хватал кнут, кошевка моталась с одной обочины на другую, а по прямой дороге хоть и неслась вскачь, да недолго…
– Они отчего, крик да суета? – Мария задает вопрос и сама же на него отвечает, спокойно, без тени сомнений. – Да оттого все, что народ с колодки сбили. Сбили, а он рассыпался, вот его и гоняют куда вздумается. Седни туда, завтра в обратну сторону гонят, а народ забегался, запыхался, ему и помыслить некогда. Какое помыслить, когда криком исходятся? В крике какой толк? Жизнь в покое обдумывать требуется. Тятя, бывало, ему надо что обдумать, он на лавке в переднем углу сядет и молчит, а мы, ребятишки, уже знаем: не лезь к нему, не дергай. Потому и порядок в хозяйстве был. А нынче подумал не подумал – перво, чего в голову стукнуло, то и выкричал. По-его не вышло, он опять базлает, думать-то некогда, а себя показать скорей хочется, вот он ором и душит. Я другой раз гляну, мне все блазнится, что мы как на гулянке живем – все шумим, и никто не слушает.
– Мы уж свое прожили, – вздыхает Фрося. – Отгуляли мы свое, нам одна дорога, на кладбище, – там тихо.
– Так ты не последняя здесь живешь, – сурово возражает Мария. – Не первой пришла, не последней и умрешь, надо о других думать.
– А мне обидно, – тихо, что совсем на нее не похоже, говорит Поля. – Обидно, что такая судьбина выпала. Чего там не придумают, а до нас все равно руки не дойдут. Робили, когда не шибко нужны были, а теперь и вовсе без надобности. Не доведется, подруженьки, нам хорошей жизнью пожить, с нас и примерку-то на нее, на хорошую-то, не возьмут. Мне бы еще одну, наново, только получше, хоть чуток послаще.
– Ишь ты, чего захотела, и так Бог долгого веку отпустил, не гневи.
– Эх, Фрося, да пусть бы и покороче, лишь бы послаще. А не отмерят больше, жалко…
Подружки задумались, и никто Поле не возразил.
Истаивал закат над забокой, скоро макушки деревьев синевато замаячили, словно оторвались от земли и поплыли искать более надежной пристани. В избе сразу и заметно потемнело. Гости засобирались домой.
Аня уговаривала, чтобы они посидели еще, но подружки не соглашались, благодарили за угощение, звали к себе. Хозяйка просила извинения, если что не так, не обессудьте, ей дружно, наперебой, говорили, что все так и судить не за что, а время позднее и домой идти надо, хоть и не сидят там семеро по лавкам и есть не просят. Хорошо попрощались, душевно.
Я оделся и вышел проводить подружек.
Белая и холодная поднималась луна. Обозначились две первых звезды, и небо разом стало высоким, не досягаемым ни для кого.
Я пошел позади подружек, приноравливаясь к их короткой и как бы испуганной ходьбе, поглядывал вверх, и почему-то так получалось, что на каждый неровный мой шаг выпадало по слову… сироты мы… сироты…
Запнулся и поднял голову. Небо надо мной – высоковысоко. Не досягнуть.
– Ладно, парень, не провожай дале, тут рядом, докандыляем. – Фрося остановилась и размашисто осенила меня широким крестом. – Счастья да удачи, красоты да богатства…
Перекрестила меня и Мария, а Поля и Вера крестить не стали, потому что они не умели этого делать. Просто обняли и поцеловали.
Я повернулся, пошел и каким-то неведомым зрением увидел, что Фрося и Мария еще раз, вдогонку, перекрестили меня, и шаги их, с перерывами, захрустели по снегу, становясь все глуше и глуше, потихоньку сходя на нет. Мне захотелось обернуться, глянуть еще раз на них, но голос, явившийся мне из ночного сна, шепнул: «Иди, не оглядывайся…»
На западе, где закатилось солнце, плавился ярым светом последний отблеск заката. Огненная кипень бродила в небесном порезе, и чудились в ней пожары. Вспомнился сон, до последней капли.
Господи, да неужели он вещий?!
Примечания
1
Министерская – школа, находившаяся в ведении Министерства народного просвещения.
(обратно)2
Церковно-приходская – школа, находившаяся в ведении местной епархии.
(обратно)3
Странствующий учитель – учитель, которого нанимали по решению сельского схода за определенную плату и на определенный срок, как правило с поздней осени до весны.
(обратно)4
Команды охотников – формировались во время Русско-японской войны на добровольной основе из наиболее подготовленных и опытных солдат для выполнения специальных заданий.
(обратно)5
Поршни – самодельная обувь, которую использовали таежники.
(обратно)6
Хунхузы – банды китайских разбойников, действовавшие в Маньчжурии и на русском Дальнем Востоке.
(обратно)7
Гаолян – злаковое растение с длинным и толстым стеб лем.
(обратно)8
Шимоза – японский снаряд, начиненный взрывчатым веществом в виде плотной, мелкозернистой массы; обладал большой мощностью.
(обратно)9
Бастрык – толстая жердь, которую клали сверху на сено и притягивали веревками, чтобы воз не развалился.
(обратно)10
Глызка, глыза (сиб.) – замерзший кал животных.
(обратно)11
Приготовишки – ученики приготовительных классов.
(обратно)12
Скорбный дом – психиатрическая лечебница.
(обратно)13
Речь идет о Манифесте от 17 октября 1905 года о даровании гражданских свобод.
(обратно)14
Брандмауэр – стена из кирпича, которую пристраивали к середине дома и выше крыши в противопожарных целях.
(обратно)15
В. М. Пуришкевич – один из лидеров Союза русского народа. В 1908 году из-за разногласий в руководстве создал новую организацию – Союз русского народа архангела Михаила.
(обратно)16
А. И. Дубровин создал в 1905 году Союз русского народа, являлся его лидером.
(обратно)17
Цитата из книги историка П. А. Словцова «Историческое обозрение Сибири» (СПб., 1886).
(обратно)18
Варнак (сиб.) – разбойник, каторжник.
(обратно)19
Слушать кукушку – совершить побег с каторги.
(обратно)20
Шабур – домотканая одежда сибиряков в виде кафтана.
(обратно)21
Золотарь – человек, который вывозил на специальной подводе нечистоты.
(обратно)22
Экс – от слова «экспроприация». Так называли революционеры свои нападения на банки, почты и частных лиц с целью захвата денежных средств.
(обратно)23
Охлюпкой – без седла.
(обратно)




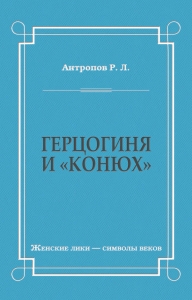

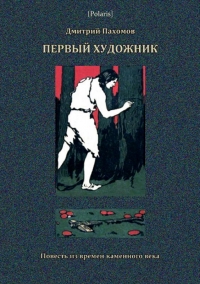

Комментарии к книге «Покров заступницы», Михаил Николаевич Щукин
Всего 0 комментариев