Лион Фейхтвангер. Собрание сочинений в 12 томах Том 2 Еврей Зюсс
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ ГОСУДАРИ
Сетью жил вились по стране дороги, пересекались, разветвлялись, глохли, порастая травой. Они были запущены, загромождены камнями, все в рытвинах и расщелинах, в дождь становились вязкой топью и вдобавок на каждом шагу были перегорожены шлагбаумами. На юге они превращались в узкие горные тропы, пропадали совсем. Вся кровь страны текла по этим жилам. Ухабистые, потрескавшиеся, окутанные клубами пыли в солнечную погоду и непроходимо грязные в дождливую, дороги были движением, жизнью, дыханием и пульсом страны.
По ним двигалась обыкновенная почта, повозки без верха, без мягкого сиденья, без спинки, дребезжащие, зачастую подлатанные, и более скорая экстра-почта – четырехместные коляски, запряженные пятеркой лошадей, способные делать по двадцати миль в день. Проезжали по ним придворные и посольские курьеры с запечатанными сумками, часто менявшие резвых коней, и более медлительные почтальоны Турн и Таксиса.[1] Шагали мирные или озорные подмастерья с котомкой за плечами и студенты – хилые тихони или резвые крепыши, фанатики монахи в пропотевших рясах. Катились фуры с товарами купцов-оптовиков и тачки евреев-разносчиков. Прокатили шесть добротных, но отнюдь не новых карет короля Прусского, ездившего со свитой в гости к южногерманским дворам. Тянулись бесконечной вереницей люда, скота и клади протестанты, которых князь-епископ Зальцбургский в злобе прогнал из своих земель. Проходили пестрые комедианты и невзрачные на вид, углубленные в себя пиетисты, проследовал в пышном экипаже с форейтором и многочисленным эскортом сухощавый высокомерный венецианский посол при саксонском дворе. Тащился беспорядочный, наспех собранный обоз евреев, изгнанных из одного среднегерманского имперского города и направлявшихся во Франкфурт. Проезжали магистры и вельможи, и девки в шелках, и докладчики верховного суда в суконных мантиях. Следовал с комфортом целым цугом карет князь-епископ Вюрцбургский, лукавый и жизнерадостный толстяк, и плелся пешком оборванный баварский профессор, которого уволили из Ландсгутского университета за мятежные и еретические речи. Двигались стремившиеся в Пенсильванию швабские переселенцы с чадами и домочадцами, в сопровождении агентов английской судовой компании, шествовали, направляясь в Рим и гнусавя молитвы, нижнебаварские богомольцы со смиренными и зверскими рожами, сновали, шаря повсюду проворным, острым и внимательным взглядом, скупщики серебра, скота и зерна, состоявшие агентами при венском военном поставщике, двигались и двигались отставные солдаты имперской армии, участники турецких войн, и скоморохи и алхимики, и нищая братия и знатные юноши с гувернерами на пути из Фландрии в Венецию.
Потоки катились туда, сюда, скрещивались, сталкивались, люди спешили, спотыкались, семенили шажком, кляли плохие дороги, смеялись злобно или благодушно над медлительностью почты, ворчали по поводу загнанных кляч и ветхих колымаг. Людские потоки набегали, отливали, лепетали, молились, распутничали, кощунствовали, трепетали, веселились, дышали.
Герцог приказал остановить парадную карету, сам вышел, а придворных, секретарей и слуг послал вперед. На удивленные взгляды приближенных он отвечал лишь нетерпеливым пофыркиванием. У подъема на нежно зеленеющий холм экипажи остановились, ожидая. Камергеры и секретари забились от мелкого нескончаемого дождя в глубь кареты, а егеря, слуги и лейб-гусары вполголоса переговаривались, шептались, судачили, посмеивались.
Герцог Эбергард-Людвиг,[2] тучный, рослый, толстощекий, губастый мужчина пятидесяти пяти лет от роду, остался позади. Он шагал грузно, не обращая внимания на лужи, пятнавшие ему блестящие сапоги и длиннополый, затканный серебром богатый кафтан, сняв с головы бархатную шляпу, так что мелкий теплый дождик осыпал ему водяной пылью парик. Он шел медленно, задумавшись, часто останавливался и нервно, в сердцах сопел крупным мясистым носом. Он ездил в Вильдбад давать отставку графине. Осуществил он задуманное? Пожалуй, нет. Он ничего не сказал. На его намеки графиня отвечала лишь томными взглядами, не словами. Но не могла же она не понять, она, такая умная, не могла, не могла она не понять, к чему он клонит.
Пожалуй, лучше, что все сошло без шума и крика. Около тридцати лет жил он с ней. Сколько плакалась, вопила, скулила, интриговала герцогиня, чтобы разлучить их. Сколько козней строили им герцогские советники, император, прелаты, и проклятый парламентский сброд, и послы курфюршества Брауншвейгского и Касселя. Около тридцати лет эта женщина была причастна ко всем событиям в жизни страны и его собственной. Она была одно с ним, одно с Вюртембергом. Когда говорили Вюртемберг, то думали: эта женщина, или: эта девка, или: графиня, или: швабская Ментенон.[3] Каждая мысль о герцогстве была мыслью об этой женщине, беспристрастная или злобная, но только не равнодушная.
Лишь он, он один, – герцог усмехнулся, – мог мыслить эту женщину вне политики, вне герцогства. Лишь он мог помыслить: Христль, и это не была мысль о солдатах, о деньгах, о привилегиях, о распрях с парламентом, о заложенных замках и поместьях, а только о самой женщине, о ее улыбке и раскрытых ему навстречу объятиях.
А теперь, значит, всему конец, он помирится с герцогиней, а сословное собрание придет в восторг и поднесет ему богатый презент, а император благосклонно закивает дряхлой головой, а скверно одетый грубиян, прусский король, пришлет ему поздравление, а европейские дворы пожалеют о скандале, который уже второму поколению дает пищу для сплетен.
А потом он приживет с герцогиней сына, и страна получит второго законного наследника и на небесах и на земле наступит мир и благоволение.
Он засопел сильнее. В нем закипало глухое бешенство, когда он представлял себе, каким ликованием герцогство и вся Германия встретят падение этой женщины. Он слышал, явственно слышал облегченный вздох страны и победоносное хрюканье жирных бюргеров, парламентских каналий, он видел, как они скалят зубы и хлопают себя по ляжкам, он видел невозмутимых, чопорных, корректных родственников герцогини и их постное, кислое, насмешливое торжество. Вся нечисть вкупе накинется на эту женщину, как на падаль. Целый век защищал он ее от этих гадов; если он сейчас, в пятьдесят пять лет, отступится от нее, они сочтут это признаком старческой слабости. Он издавал указы без счета, тяжко каравшие всякое непочтительное слово о графине, он дошел до конфликта с императором, отправил в изгнание друга своей юности и первого министра за дерзкий отзыв о ней, он воевал со своими советниками, со своим парламентом, со своей страной, требуя налогов, все новых налогов и денег, денег, денег для нее. Около тридцати лет он противопоставлял ее герцогству, империи, целому миру.
Что за буря поднялась по всей Европе, когда он в самом начале их связи недолго думая обвенчался с графиней как со второй супругой, наряду с герцогиней. На него дождем посыпались императорские увещевания, заклинания, угрозы, представители сословий рычали, как бешеные псы. Баден-дурлахская родня герцогини света невзвидела от бешенства и обиды, его кляли с церковных амвонов, отказывали ему в причастии, вся страна кипела и бушевала. Делать было нечего, он покорился, расторг брак с графиней, примирился с герцогиней. Что же касается сердечной склонности и вытекающего отсюда брачного сожительства – он усмехнулся, припомнив красивую фразу, которой ублаготворил императора и которую сочинил ему брат графини, – итак, что касается сердечной склонности и вытекающего отсюда брачного сожительства, то оные зависят от господа бога и от него самого и не могут быть навязаны владетельному герцогу посторонней волей. Потом, покорясь новым грозным приказам императора, он все-таки отослал Христль в дальние края и за это выманил большой куш у своего признательного парламента, а вся страна возликовала. Но потом – он ухмыльнулся, вспомнив самый ловкий в своей жизни фортель, – через доверенных лиц он раздобыл в Вене слабоумного мозгляка с графским титулом, женил его на Христль и сделал главой кабинета, и Христль вернулась в страну супругой главы кабинета под неистовый вой обманутых вюртембержцев, меж тем как император в бессильном сокрушении пожимал плечами: кто ж запретит владетельному герцогу видеть у себя при дворе жену своего первого министра? А как хохотала Христль, когда на деньги, преподнесенные ему парламентом на развод, он купил ей поместья Гонфигхейм и Гомаринген!
С годами все улеглось. Правда, время от времени появлялся какой-нибудь пасквиль на графиню, но в силу тридцатилетней давности их связь стала совершенно определенным фактом германской и общеевропейской политики. Представители сословий ворчали, однако же признали за графиней ряд прерогатив. Герцогиня унылой, покорной жертвой пребывала в пустом Штутгартском дворце, ее родня, чопорные маркграфы, замкнулись в оскорбленном, высокомерном молчании. Предосудительным фактом возмущались, но, так как он оставался неизменным тридцать лет, с ним свыклись и примирились.
И вдруг теперь без какого-либо повода все узы, привязывающие его к этой женщине, будут разорваны, сброшены, уничтожены.
Будут ли? Он ничего не сказал. Не пожелай он – и ничего не изменится.
Герцог стоял в грязи, посреди дороги, один, с непокрытой головой, под мелким, упорным дождем. Он снял с правой руки перчатку с раструбом и машинально похлопывал себя ею по ляжке.
Пожалуй, повод все-таки был. Был повод? Шумливый прусский король, в последний свой визит в Людвигсбург, обращался к нему с увещеваниями. Пора уж ему примириться с герцогиней, подарить стране и себе второго наследника, нельзя династии быть представленной одним наследным принцем, когда католики спят и видят, чтобы угас род евангелических швабских герцогов. Но не в том дело. Нет, совсем не в том. Прусский сухарь может убираться восвояси к своим пескам и соснам и не докучать ему пошлыми и постными нотациями, в которых на каждом шагу упоминается о смерти. Он, Эбергард-Людвиг, несмотря на пятьдесят пять лет, еще, слава богу, мужчина в соку. Не все ли ему равно, кто после его смерти взвалит на свои плечи бремя правления и его долги и будет портить себе кровь распрями с вшивой парламентской сволочью. Дураком надо быть, чтобы из-за этого бросить Христль!
Он зашагал быстрее и, фальшивя, громко стал насвистывать мотив из нового балета. На что еще напирал пруссак? Графиня, мол, для герцогства худший бич, чем все нашествия французов и самые тягостные имперские войны. Она одна, мол, причина и виновница всех бед, неурядиц и смут в Вюртемберге. Она немилосердно выкачивает и выжимает весь пот страны себе в карманы. Старая история. Черт бы ее побрал! Эта песня звучала ему в сотнях пасквилей, этим соусом сословия потчевали его каждую неделю. Даже в засухе и граде винили графиню. А лучше бы радовались, сутяги, скупердяи несносные, что их поганые гроши она с таким размахом превращает в блеск и великолепие. Ей нужны были деньги, деньги без конца, такого количества денег, какое нужно было ей, не водилось во всей Римской империи, и ради них она ластилась, клянчила, хныкала, грозила, дулась, капризничала, так что он голову терял от отчаяния, не зная, откуда взять еще и еще денег. Но что было лучше: убогое, скопидомное хозяйство герцогини, где всякий пфенниг на счету, или сверкающее великолепие этой женщины, где замки, лесные угодья и все доходы казны пролетали пестрым фейерверком?
Нет, такого рода аргументами его нельзя было отвратить от этой женщины. Он и поставил бранденбуржца на место, а будь у него лишних тысчонки две солдат, которых никогда, увы, никогда не разрешат ему представители сословий, он совсем по-свойски, по-швабски отделал бы грубияна. Нет, такая болтовня не могла тронуть его, а если все-таки тот скряга, тот чурбан дал толчок к отставке графини, то лишь одним незаметным словечком, которому и сам вряд ли придал значение. Они с королем отправились в горы полюбоваться видом, и когда бранденбуржец увидал плавный волнистый ландшафт, нежно зеленеющие холмы, обильные злаками и плодами, лозами и лесами, он вздохнул про себя:
– Вот благодать так благодать! И подумать только, что старая баба, как ржа и саранча, точит их.
Ржа и саранча нимало не смутили Эбергарда-Людвига. Да, но старая баба… Эти слова уязвили его до глубины души. Он, Эбергард-Людвиг, привязан к подолу старой бабы? Любые проклятия, угрозы, поношения скатывались с него как с гуся вода. Да, но старая баба?
Герцогу припомнились дела давно прошедших времен. Несмотря на грозные эдикты, в народе упорно ходили россказни, будто эта женщина приворожила его к себе. Один случай возник в его памяти со всеми подробностями. Камеристка графини, которую он даже помнит по имени – она прозывалась Ламперт, – прибежала к придворному священнику Урльшпергеру, с рассказом о мерзких, кощунственных, колдовских действах, которым предается графиня, дабы привязать к себе герцога. Придворный священник составил протокол, принудил девушку подписаться под ним, запечатал его и запер эту тайну в ящик своего бюро. Герцог дознался обо всем, нарядил следственную комиссию, которая отстранила Урльшпергера от должности, а Лампертшу присудила к розгам и выслала за пределы страны. Тем не менее герцог не сомневался, что не только народ, но и сама следственная комиссия верит скрепленным присягой подлым, нечестивым россказням. Согласно этим показаниям, графиня, будучи в Женеве, разорвала рубашку герцогини на четырехугольные тряпочки, окунула их в настоянный на спирту мелкоистолченный висмут, а затем наглым и непристойным образом пустила их в ход для подтирки. В Урахе она велела принести новорожденного теленка от черной коровы и собственноручно отрубила ему голову, то же проделала она и с тремя черными голубями, другой раз она оскопила козла, не говоря уже о прочих гнусных и непотребных действах. Такими якобы средствами она достигла того, что он почувствовал отвращение к законной супруге, без нее же, без графини, не мог жить, ибо едва он с ней разлучался, как с ним делались приступы удушья.
Вот уж ослы, бесплодные и худосочные ослы! Болтают о колдовстве, не могут иначе как чародейством объяснить себе то, от чего у каждого здорового мужчины самым естественным образом кровь вскипает и бурлит. А ему достаточно было вспомнить Женеву, голубую комнату гостиницы «Золотой олень» и как Христль сияла улыбкой ему навстречу, раскинувшись во всей красе на широкой постели. Бог свидетель, ей незачем было тогда убивать ни телят, ни голубей, чтобы зажечь его кровь. Но теперь? Старая баба? Да ведь есть же у него еще руки, чтобы осязать, глаза, чтобы видеть. Она несколько располнела, это верно, и страдает одышкой, но разве дьявольские козни и нечестивое колдовство причиной тому, что он по-прежнему привязан к ней? Серые глаза ее хоть и потускнели, но остались такими же большими и влекущими, как двадцать лет назад, а каштановые волосы не изменили цвета, и в голосе у нее звенели все колокольчики первых дней любви. Правда, рябинки – следы дурной болезни, как утверждали клеветники, – безмерно возбуждавшие его тогда, теперь были запудрены и прикрыты румянами. Старая баба! В этот раз она была такой томной, такой меланхоличной. Она не высмеивала его, не устраивала ему сцен, даже денег не требовала. Может, почуяла что-нибудь? Но хотя бы она сделалась кротка, как однодневный ягненок, старую бабу ему не пристало любить. Не пристало ему, Эбергарду-Людвигу. Уж лучше вернуться к своей унылой герцогине, дать стране второго наследника и жить в мире с богом и императором, со страной и парламентом.
Правда, потом она называла его Лукс, Эбергард-Лукс, и колокольчики звенели, как в первые дни. А дальше вздумала потешаться над ландтагом, требовавшим изгнания из ее, графининых, деревень и угодий всех евреев, ее евреев, когда у каждого из них в будний день больше ума в мизинце, чем по праздникам в голове у всего ландтага вкупе. Второй такой остроумной, сметливой и веселой женщины – безразлично, старой или молодой, – которая бы так метко высмеяла по-дурацки ехидную грубиянскую петицию ландтага, он не встречал нигде, от Туретчины до Парижа, от Швеции до Неаполя.
Пожалуй, хорошо, что он не сказал ей решающего слова.
Он сделал знак, и все его кареты остановились прямо перед ним. Он приказал повернуть. Ему не хотелось сразу ехать в Штутгарт, не хотелось и в Людвигсбург. Лучше в Неслах, в уединенный охотничий домик. Ему нужно успокоиться, проветриться. Он послал скорохода за тайным советником Шютцем, чтобы с ним спокойно наново обсудить это дело.
Старая баба?
С дороги в Неслах он отправил еще одного гонца, новой, совсем юной венгерской танцовщице, неделю назад прибывшей в Людвигсбург, предписывалось не мешкая ехать в охотничий домик. К черту, к дьяволу воспоминания о прусском госте!
Исаак Симон Ландауер,[4] гоффактор герцога Вюртембергского, ездил в Роттердам заключать от имени курцфальцского двора кое-какие кредитные сделки с Нидерландско-Ост-индской компанией. Гонец графини Вюрбен срочно вызвал его из Роттердама обратно в Вильдбад, к графине. Дорогой он встретил своего коллегу Иозефа Зюсса Оппенгеймера, курцфальцского обергоф-и-кригсфактора и одновременно финансового агента при курфюрсте-архиепископе Кельнском. Иозеф Зюсс, только что завершивший ряд ответственных и сложных дел, думал отдохнуть где-нибудь на курорте и без труда поддался на уговоры Исаака Ландауера поехать с ним в Вильдбад.
Отправились они в элегантной собственной дорожной карете Зюсса. «Верных двести рейхсталеров обходится в год содержание такой кареты», – с добродушной, чуть насмешливой укоризной определил Исаак Ландауер. На запятках восседал камердинер и секретарь Зюсса, бледнолицый и невозмутимый Никлас Пфефле, бывший писец у нотариуса; Зюсс столкнулся с ним в Маннгейме, когда подвизался в конторе адвоката Ленца, и с тех пор повсюду возил с собой этого расторопнейшего из слуг.
Исаак Ландауер ходил, по еврейскому обычаю, в лапсердаке и ермолке, при пейсах и редкой козлиной бородке, рыжеватой и поседевшей. Мало того, он даже носил отличительный знак с изображением охотничьего рога под латинским S, сто лет назад введенный в герцогстве для евреев, хотя никто из властей не осмелился бы принуждать к этому почтенного и могущественного фаворита герцога и графини. Исаак Ландауер был самым ловким дельцом во всей западной Германии. Связи его простирались от венских Оппенгеймеров, банкиров императора, до капиталистов Прованса, от богатых купцов Леванта до еврейских капиталистов в Голландии и ганзейских городах, финансировавших океанское судоходство. В некрасивой и напряженной позе сидел он, невзрачный, неопрятный человечек, опершись на мягкую спинку кареты и зябко пряча костлявые, бескровные пальцы в рукава кафтана. Полузакрыв посоловевшие от езды глазки, он с благодушной, чуть насмешливой улыбкой поглядывал на своего спутника. Иозеф Зюсс, рослый, бритый, одетый по моде и даже, пожалуй, фатовато, сидел прямо и неутомимым, острым, быстрым взглядом ловил каждую подробность пейзажа, все еще завуалированного тонкой сеткой дождя.
Исаак Ландауер с доброжелательным интересом, чуть иронически изучал наружность коллеги – и ловко скроенный, отороченный серебром светло-коричневый кафтан тончайшего сукна, и аккуратно со вкусом завитой и напудренный парик, и легко наплоенные кружевные манжеты, которым одним цена верных сорок гульденов. Он всегда питал приязнь к этому Зюссу Оппенгеймеру, у которого предприимчивость и жадность к жизни так и искрились в больших, неутомимых, выпуклых глазах. Вот каково, значит, новое поколение! Он сам, Исаак Ландауер, чего только не перевидал на своем веку, от трущоб еврейского квартала до увеселительных замков власть имущих. Тесноту, грязь, преследования, бедствия, смерть, угнетение, предельное бессилие! И блеск, простор, произвол, великодержавие и великолепие. Он, как очень немногие, еще человека три-четыре в империи, усвоил весь механизм дипломатии, до мельчайших деталей изучил все двигатели тайны и мира и управления людьми. Бессчетные дела изощрили его взгляд в распознавании всяческих взаимодействий, и он добродушным и насмешливым знанием знал мелкую унизительную зависимость власть имущих. Он знал, что в мире существует лишь одна реальная сила: деньги. Война и мир, жизнь и смерть, женская добродетель, власть папы вязать и разрешать, свободолюбие представителей сословий, чистота аугсбургского исповедания,[5] корабли на морях, деспотизм государей, насаждение христианства в Новом Свете, любовь, благочестие, малодушие, роскошество, порок и добродетель – все могло быть выражено цифрами, в основе и в итоге всего были деньги. И он, Исаак Ландауер, сам находился у истоков, сам мог по-своему направить течение, мог оплодотворить и иссушить. Но не так он был глуп, чтобы кричать о своей власти, он держал ее в тайне, и лишь легкая, скупая, ироническая усмешка одна свидетельствовала о его знании и власти. И еще вот что. Возможно, раввины и ученые еврейского квартала были правы, когда с точнейшими, подробностями, как о подлинной действительности, рассказывали о боге и талмуде, о райском саде и долине проклятий; лично он за недостатком времени не занимался обсуждением таких вопросов и скорее склонялся к тем французам, которые с изящной насмешкой отметали их; и сам в повседневной жизни не заботился о них, ел, что хотел, в субботу вел себя как в будний день, но в одежде и наружности упрямо держался традиций, завещанных праотцами. Долгополый кафтан пристал к нему, как собственная кожа. В этом кафтане входил он в кабинет любого государя и самого императора. То было второе, более глубокое и затаенное выражение его власти. Он не признавал перчаток и парика. Он был нужен и так – в лапсердаке и с пейсами – и в этом заключалось его торжество.
Но вот оно новое поколение – этот самый Иозеф Зюсс Оппенгеймер. Вот он красуется горделиво, и туфли у него с пряжками, и манжеты кружевные, и сам он такой чванный. Грубовато оно – это новое поколение. Ему неведомо тонкое удовольствие таить про себя власть, обладать ею и не показывать ее, тончайшее удовольствие скрытого самоуслаждения. Брелоки и атласные штаны, и элегантная дорожная карета, и слуга на запятках, и все мелкие внешние признаки богатства для него важнее, чем надежно запрятанные в ларце долговые обязательства города Франкфурта или маркграфства Баденского. Поколение, лишенное тонкого понимания и вкуса.
И тем не менее он благоволил к Зюссу. Так и чувствовалось, что тот напряжением всех сил жадно стремится урвать себе львиную долю лакомого пирога жизни. Он сам, Исаак Ландауер, спустил суденышко молодого человека на воду, когда тот, при всех стараниях и бешеной энергии, никак не мог оттолкнуться от берега. Ну, зато теперь полноводный поток нес суденышко, а Исаак Ландауер внимательно и невозмутимо смотрел, куда и как несет.
Навстречу им попалась карета экстра-почты. Тучный мужчина с широким топорным лицом удобно расположился в ней подле пухлой, круглой, глупой на вид женщины. Должно быть, супружеская чета, отправляющаяся на семейное торжество. Пока экипажи не спеша разъезжались под гам приветствий, шутки и брань кучеров, толстяк затеял было легкую приятную путевую беседу с Зюссом. Но едва он заметил Исаака Ландауера, одетого по еврейскому обычаю, как демонстративно откинулся назад и смачно сплюнул. И жена его постаралась изобразить на своем глупом добродушном лице суровость и презрение.
– Советник Эттерлин из Равенсбурга, – с гортанным смешком пояснил Исаак Ландауер, знавший всех на свете. – Не любят евреев равенсбуржцы-то. С тех пор как они устроили процесс о ритуальном детоубийстве и предали пытке, пожару и погрому своих евреев, они нас ненавидят сильнее, чем все остальные швабы. Тому теперь триста лет. Нынче деньги у евреев отбирают более гуманными и менее сложными способами. Но вполне понятно, что те, кто учинил такой произвол, питают к пострадавшим злобу даже триста лет спустя. Ну, как-нибудь переживем и это.
В этот миг Зюсс ненавидел старика. За слипшиеся пейсы, за просаленный кафтан, за гортанный смех. Он просто компрометантен своими нелепыми, старозаветными еврейскими повадками. Ему, Зюссу, непонятны такие старческие причуды. И денег у того куры не клюют, и кредит неограниченный, и связи со всеми дворами, и доверие у всех государей, сам он, Зюсс, перед ним точно ящерица перед крокодилом: к чему ж такому человеку ходить в грязном балахоне, вызывать насмешки и плевки и довольствоваться тем, чтобы загребать деньги, которые только записываются в приходные книги? На что нужны деньги, если не обращать их в почет, роскошь, дома, богатые наряды, лошадей, женщин? Неужели у этого старика нет желания так же плевать на людей, как плюют на него, платить пинками за пинки? Зачем было создавать себе власть, если таишь ее от всех? Равенсбургский процесс о ритуальном детоубийстве! Вот какая ерунда у него на уме. Все это покрыто пылью, плесенью, погребено на века. Нынче, слава богу, нравы стали лучше, гуманнее, просвещеннее. Нынче, если еврей ловко возьмется за дело, он будет сидеть за одним столом с власть имущими. Ведь посмел же его двоюродный дядя, венский Оппенгеймер, поставить на вид императору, что в теперешней победе императорского оружия над турками[6] первейшая заслуга принадлежит ему, еврею Оппенгеймеру. А императорская военная канцелярия и фельдмаршал принц Евгений[7] удостоверили это, как положено, печатью и благодарностью. Только ни к чему держаться за нелепые причуды и разгуливать в лапсердаке и с пейсами. Не будь их, муниципальный советник Эттерлин из Равенсбурга, наверно, отвесил бы поклон по всем правилам этикета.
Исаак Ландауер как будто назло сидел все в той же неловкой, неизящной позе. Он, без сомнения, читал в душе Зюсса, но не возражал, а, полузакрыв зоркие глаза, что-то ворчал себе под нос.
Зюсс располагал по-настоящему отдохнуть, отдышаться в Вильдбаде. Он только что покончил с двумя рискованными, порядком измотавшими его предприятиями. Прежде всего, с введением в Курцфальце гербовой бумаги. Казна потребовала себе несуразно большой откуп. Народ взъелся на новый налог, как цепной пес. Как бы не так, он не имел намерения отступать! Ото всех оскорблений, угроз, враждебных скопищ под окнами его конторы, от пасквилей, злостных посягательств он отгородился печатью и подписью курфюрста. Он ни на йоту не смягчил условий. И что ж? Стоило повоевать – он заработал двенадцать тысяч гульденов на перепродаже контракта. А дальше он тоже не позволил себе отдыха, отнюдь нет, двенадцать тысяч гульденов немедленно вновь пошли в оборот. Быстро прикинув в уме – ему дали всего два дня сроку, – он ввязался в новую аферу: в соглашение с Гессен-Дармштадтом на чеканку монеты. Опасное дельце. Его брат, выкрест с баронским титулом, хоть и был в Дармштадте как дома и прекрасно ориентировался в обстановке, однако на это не отважился; сам Исаак Ландауер покачал головой и перестал усмехаться.
Казначейства Баден-Дурлаха, Ансбаха, Вальдека, Фульда, Гехингена, Монфора были жестокими конкурентами, они чеканили что попало. Чтобы чеканить еще худшую монету, надо было обладать дьявольским хладнокровием и поистине отчаянным, железным упорством. Зюсс этими качествами обладал. Он умудрился вовремя и с прибылью сплавить и это дело. Пускай его преемник как знает отбивается от всяческих неприятностей. Он же обезопасил себя декретом ландграфа и с немалой прибылью и почетом был отставлен от должности. Теперь у него были прекрасные собственные дома – один во Франкфурте, другой в Маннгейме, оба чистые от долгов, и, кроме того, еще кое-какая недвижимость в восточных областях империи, о которой никто не имел понятия. Состояние, связи, чин, кредит. Репутация толковой головы и легкой руки. Теперь, видит бог, можно отдохнуть и пожить в свое удовольствие. Теперь он всему свету покажет, кто таков курцфальцский обергоф-и-кригсфактор. Одно то, что он может позволить себе такую роскошную праздность, пойдет на пользу его делам, придаст ему веса в глазах власть имущих. Хотя он твердо решил всецело отдаться отдыху во время пребывания в Вильдбаде и хотя принципы Исаака Ландауера казались ему в корне ложными – его собственная манера обхождения с государем и власть имущими была несомненно современнее и куда правильнее, – однако нелепо было бы не извлечь пользы из путешествия с этим светилом прошлого поколения, этим отменнейшим знатоком людей и дел. Поэтому он стал напрямик расспрашивать о графине, о ее планах, надеждах, затруднениях, о солидности ее делового положения.
Едва речь зашла о делах, Исаак Ландауер стряхнул с себя сонливость и обратил на собеседника умный, очень живой и зоркий взгляд. Он взял себе за деловое правило по возможности придерживаться истины. Крупнейшие барыши он приобрел именно своей рискованной, ошеломляющей откровенностью. Он знал, что Зюсс терпеть не может графиню, считает ее корыстолюбие недостойным знатной дамы, вульгарным качеством. Как было не позлить коллегу, подчеркнув прочность и блестящие перспективы предприятия. Он сжато и точно объяснял положение. Графиня – дама с головой. Разбирается в практических вопросах. За каждый прирост в любви герцога она требовала себе новых земель и привилегий, а за возвращение после периода убыли в любви ему приходилось платить наличными и драгоценностями. А что она сама вложила в предприятие? Смазливенькое личико, захудалый дворянский титул и довольно сомнительную девственность. Даже платьев у нее не было, когда она явилась ко двору. А что она извлекла из предприятия? Титулы графини фон Вюрбен, графини Урах, супруги обер-гофмейстера, превосходительства, супруги председателя совета министров. Кроме того, верховный надзор над герцогской казной. Восемнадцать тысяч гульденов апанажа.[8] Родовые бриллианты и фамильные драгоценности. Все почести, доходы и прерогативы имперской княгини. Наличный капитал и векселя на Прагу, Венецию, Женеву, Гамбург. Секретарь Пфау говорил мне, что чистыми деньгами у нее триста тысяч гульденов. Пусть будет двести тысяч – и то неплохо. Дворянские поместья Фрейденталь, Бойинген, деревни Штетен и Гонфигхейм, Бренц с Опенгаузеном, Маршалькенцимерн. Женщина с головой, обходительная женщина, толковая женщина. Могла бы быть еврейкой.
– Говорят, будто она не в фаворе, – заметил Зюсс, – и с братом у нее конфликт. Среди членов ландтага ходят слухи, будто собственный ее брат присоветовал герцогу дать ей отставку. Король прусский тоже увещевал его. Она становится сварливой, вздорной, стареет. А главное, жиреет. Герцог в последнее время против такого изобилия жира.
– Ее не проведешь, – возразил Исаак Ландауер. – Она знает, что английский банк куда надежнее, чем страстные клятвы герцога-сластолюбца. Она себя застраховала, ее финансы в лучшем положении, чем у любого владетельного князя. Мне вы можете поверить, реб Иозеф Зюсс.
Зюсс поморщился. Как это он сказал: «Реб Иозеф Зюсс»? А почему не господин гоффактор, или коллега, или еще как-нибудь? Нелегко поддерживать знакомство со стариком. Уж очень он компрометантен.
– Если герцог отставит ее, – сказал он немного погодя, – ей мало что удастся спасти. В герцогстве на нее смотрят как на чуму и саранчу. Она возбудила против себя ненависть всей страны.
– Ненависть страны, – сказал Исаак Ландауер иронически, презрительно покачал годовой, расчесал себе пальцами рыжеватую седеющую козлиную бородку, усмехнулся. И Зюсс почувствовал его превосходство. – Кто из тех, кому много дано, не возбуждал против себя ненависти страны? Кто не похож на других, тот возбуждает против себя ненависть страны. Ненависть страны подымает кредит.
Зюсса раздражал благодушно-уверенный тон старика.
– Потаскуха, – повел он плечами, – скупа, неаристократична в обхождении, а главное, жирна и стара.
– Россказни, реб Иозеф Зюсс, – невозмутимо сказал Исаак Ландауер. – Что такое – потаскуха? Слово. Им утешаются добродетельные, родовитые старые девицы, которые завидуют ей. Разве царица Эсфирь знала, что она будет не только наложницей Артаксеркса? Слушайте меня, реб Иозеф Зюсс, эта женщина стоит не меньше чем пятьсот тысяч гульденов. Она женщина с головой, она знает, чего хочет. Ведь допустила же она евреев в свои деревни и поместья. Не из человеколюбия, отнюдь нет. Но она сама умна, она нюхом чует того, кто тоже умен, с кем можно говорить и вести дела начистоту, чтобы получился толк. Я сказал пять сотен? Да, она стоит пять сотен тысяч и еще пять раз полсотни тысяч!
Тем временем экипаж подкатил к гостинице под вывеской «Звезда» в Вильдбаде. Хозяин «Звезды» выскочил навстречу, сдернул с себя колпак. Но, едва завидев лапсердак Исаака Ландауера, он презрительно рявкнул:
– Здесь не еврейский постоялый двор, – и повернулся к дверям. Тут бледнолицый секретарь слез со своего сиденья.
– Это господа гоффакторы Оппенгеймер и Ландауер, – бросил он небрежно, через плечо, помогая господам выйти из кареты. Вмиг хозяин «Звезды» с раболепнейшими поклонами поспешил вперед, указывая путь.
Иозеф Зюсс гневно насупился, услышав грубый окрик хозяина, но, не проронив ни слова, пошел вслед за Исааком Ландауером.
– Эге, – усмехнулся тот, – даже и перед сановничьим мундиром в галунах он не мог бы дальше отставить ногу, когда отвешивал поклон. – И старик усмехнулся, пальцем расчесывая слипшуюся седоватую бородку.
Графиня проводила герцога до кареты; пока он тяжеловесно, не спеша влезал в экипаж, она сохраняла приветливое спокойствие привыкшей к поклонению женщины, непринужденно и любезно щебетала, улыбалась, кивала. Даже когда она повернулась и стала подыматься по лестнице в голубой будуар, поступь и осанка были легки и грациозны. Лишь очутившись у себя, она вся осела, плечи опустились, руки бессильно повисли, рот приоткрылся, лицо как-то сразу ужасающе увяло.
Кончено, значит, все кончено. Она искусно лавировала, он не посмел заговорить, но и так было ясно как день, что он явился с намерением отделаться от нее, и, хотя решающее слово застряло у него в горле, его смущенная вежливость говорила за себя и была во сто раз хуже, чем прежняя воркотня, или вспышки гнева, или обиженное молчание.
Она сидела вся поникнув, она была безмерно утомлена и обессилена. Слишком дорого далось ей приветливое спокойствие с элегическим налетом, в то время как сердце ее бушевало, кипело, неистовствовало. Зато теперь она сидела на низком широком ложе как в столбняке, совершенно опустошенная, почти парализованная. Пудра и румяна потрескались у нее на лице, веселый огонек, который она зажгла у себя в глазах, теперь потух, широчайшая роба из узорчатого атласа свисала мертвенными складками, а под унизанной мелкими рубинами искусно сработанной «сбернией» – эту моду ввела она, и в самом Версале подражали ей, – под искусно сработанной сбернией ее живые каштановые волосы и те утратили молодой блеск.
Значит, конец… Из-за чего? Прусский король, поганый пес, зудил о долге и безумии. Собственный брат, проклятый, вероломный, холодный интриган, строил против нее козни. Он в ней больше не нуждался, его положение при герцоге было и так прочно; он считал благоразумным избавиться от нее заранее, чтобы не попасть в немилость вместе с ней. Она являлась вечной препоной, с ней нужно было считаться при сношениях с императорским двором, ей нужны были деньги, уйма денег, которые проще и выгоднее не через нее, а прямо направлять в собственную казну. Ох, она насквозь видела его, расчетливого блюдолиза. Тьфу, тьфу, тьфу. Но она еще ему покажет! Пока что она держится, она жива пока что, герцог не заговорил, и в стране владычествует она, она, она. Однако все эти причины не могли быть вескими для герцога. Ей случалось устоять и не против таких бурь. Ее врагами были император, вся страна, народ, ландтаг и консистория, и тем не менее она дышала и держалась. Ее брат! Прусский король! Разве это причины? И она увидела, как надвигается на нее истинная причина, липкой тиной заволакивает ее мысли, она знала и не знала ее, билась как бабочка на булавке, чтобы не дать смутной догадке превратиться в уверенность. Взглядом она искала зеркала, избегала его и все беспомощней поникала грудой дряблой плоти в роскошных тканях.
Челом своим младым Прекрасна ты, как Гера, В очах Зевес живет, В власах твоих Цитера, –
так пел придворный поэт лет тридцать назад. Она и без зеркала знала причину.
Она застонала, согнулась, закрыв глаза, прижав руку к сердцу. Воздуха! Воздуха! Астма душила ее. Отдышавшись, она выпрямилась и заметалась по дому, отдавала приказы, отменяла их, била по лицу камеристку, кричала, рассылала гонцов во всех направлениях.
Она еще существует. Пусть увидят, что она еще существует. Он не заговорил. Этому она, по счастью, помешала. Она обуздала себя. Нечеловеческих усилий стоила такая выдержка, но ей удалось себя сдержать. Пока что он не заговорил, да, да, и пока что им придется попридержать в утробе свое гнусное ликование, пока что она существует, и еще как существует! Это она им докажет.
Среди приближенных герцога у нее имелись надежные информаторы. Эбергард-Людвиг все еще был в Неслахе, в своем охотничьем замке. Это хорошо, даже очень хорошо! Каждый день получала она подробный отчет. Каждый день скакал ее гонец из Неслаха в Вильдбад. Весь распорядок жизни герцога был ей известен – и что он ел и пил и когда ложился спать, когда охотился, трапезничал, гулял. Он допускал к себе только венгерскую танцовщицу, да и то на полчаса в день. Больше он никого не видел, не принимал никого из своих советников. Хорошо, хорошо! Должно быть, он стыдился, что не произнес решающего слова, и уклонялся от новых уговоров. Правительственные указы все накапливались в ожидании его подписи. Щекотливые переговоры с Баден-Дурлахом о том, как поделить расходы по крепости Кель, близились к благоприятному концу, уполномоченный маркграфини торопил с договором, но герцог был недосягаем. Соглашение с Гейльбронном и Эслингеном по вопросу о Неккаре тоже требовало срочной резолюции, а герцога не было, да и только. Хорошо, очень хорошо! Зато он вызвал теперь к себе рыцарей ордена святого Губерта.[9] и непробудно бражничал с ними. Сам он тоже не снимал орденского знака, золотого креста с рубиново-красной финифтью, с золотыми орлами, с охотничьим рогом и девизом: Amicitiae virtutisque foedus[10] И юную венгерскую танцовщицу, беспросветную дурочку безупречного сложения, по-прежнему держал в Неслахе. Очень хорошо, очень, очень хорошо! Пускай кутит в пьяной охотничьей компании и блудит с непроходимо глупой тварью, только бы подальше от советчиков, от шептунов, от интриганов.
Тем временем она не знала устали. К управителям ее имений и поместий летят строжайшие наказы выжимать все до последнего гроша. Она создает двадцать новых совершенно бесполезных должностей, и ее клевретам вменяется в обязанность без проволочки продать их, а вырученные деньги и залоги направить в графскую казну.
Герцогское финансовое управление получает счет на огромную сумму, в какую якобы обошлись ей последние визиты Эбергарда-Людвига, хотя она получила натурой дрова, вина, фрукты. Как обсасывает кость изголодавшийся пес, так жадно и ожесточенно высасывает она все доходы герцогства, и ежедневно из страны уходят большие деньги к ее банкирам в Женеве, Гамбурге, Венеции.
А герцог все еще в Неслахе. Он выписал себе из придворной конюшни три большие упряжки, по восемь лошадей в каждой, и теперь упражняется в кучерском искусстве. Венгерка визжит, а кавалеры ордена святого Губерта рукоплещут в нелицемерном восторге.
Наконец-то в ответ на ее призывы и заклинания в Вильдбад прибыл долгожданный Исаак Ландауер. В засаленном лапсердаке сидел он посреди ляпис-лазури и позолоты, зеркал и купидонов в рабочем кабинете графини. Напротив него, у секретера, – графиня во всем своем великолепии, между ними высокие стопки документов, реестров, счетов. Он проглядывал их, проверял, графиня без утайки давала пояснения. Он находил то тут, то там пробелы, указывал, где следует сильнее прикрутить, поднажать. Графиня сидела, грузная, с оголенной, заплывшей жиром шеей и тоже оголенными, безупречными плечами, возражала, делала отметки. В конце концов она потребовала огромной ссуды под три деревни.
Исаак Ландауер поглядел на нее, покачал головой, сказал с укоризной:
– Чем я это заслужил у вашего превосходительства?
– Что заслужил?
– Что вы меня считаете круглым дураком.
– Что это значит? – вспылила она. – На что ты намекаешь, еврей? Разве ты не дал бы мне взаймы два года тому назад? Чем я теперь стала хуже?
– На что вашему превосходительству деньги? – примирительно возразил он.
– Чтобы вывозить их из страны? А зачем вывозить их из страны? Затем, что вы боитесь каких-либо казусов; но раз есть причины бояться казусов, тогда имения не могут быть гарантией. Значит, вы хотите, чтобы я на вас потерпел убытки?
Графиня растерянно посмотрела в пространство, потом на него, и взгляд ее сказал ему, что дело тут не только в деньгах, взгляд открыл ему все ее страхи, надежды, сомнения.
– Ты, еврей, не глуп, – произнесла она немного погодя, – как ты скажешь, могу я рискнуть и (она запнулась) не закладывать моих деревень?
Ему хотелось сказать ей что-нибудь утешительное. Но она была женщина с головой и волей, она не нуждалась в ободрениях и обманах, даже как-то неприлично было подступаться к ней с этим. Он оглядел ее с ног до головы, и она не таилась перед ним; он увидел ее опавшее лицо, распустившееся ожиревшее тело и на ее настойчиво вопрошающий взгляд не нашел ответа, только молча пожал плечами. Тогда она совсем перестала владеть собой и громко, безудержно расплакалась, точно малое дитя. Потом принялась непотребно ругать министров, своего брата, племянника и всех прочих, что были ее креатурами, а теперь смотрели на ее падение и палец о палец не ударили и даже рады были подтолкнуть ее. Вот канальи, вот подлецы! Ведь она возвысила их; ведь по ней они взобрались наверх. Каждым грошом, каждой пуговицей на мундире они были обязаны ей. К тому же они по всей форме заключили с ней договор – документ тут у нее в ящике – всемерно поддерживать друг друга, как в удаче, так и в беде. С таких подлых мерзавцев мало шкуру содрать. Ведь любой проходимец и мошенник, сам дьявол не отступает от данного собрату слова.
Молча наблюдал еврей, как бесновалась графиня, и ждал, чтобы она отбушевала. Под конец она закашлялась, лицо у нее побагровело, она засопела, захрипела, потом заплакала тихими безудержными слезами.
– Ох, еврей, еврей, – всхлипывала она безостановочно, беспомощно; пышная, прекрасная женщина вся содрогалась, румяна и белила расплылись, великолепные ткани безжизненно повисли на ней.
Исаак Ландауер расчесал пальцами слипшуюся бородку, покачал головой. Потом бережно взял большую, теплую руку графини и, что-то бормоча себе под нос, принялся гладить ее.
Слухи о близком падении графини, неведомо откуда взявшиеся, вспыхивали в стране то тут, то там, на всех перекрестках. Никто не решался повторить их громко, но шепотом об этом говорили все. Из всех грудей вырвался глубокий, хоть и затаенный вздох облегчения. В некоторых деревнях уже звонили в колокола, читали благодарственные молитвы, не объявляя за что и ограничиваясь туманным намеком: за милость провидения.
Но пока что ничего не изменилось, даже наоборот, гнет стал тяжелее, жестче. Старых чиновников смещали, потому что новые претенденты дороже платили за предоставленные им должности. Сыскная полиция доносами и дознаниями держала в страхе целые общины и отдельных лиц, откупиться можно было только крупной мздой, изо всех государственных учреждений, даже из церковного имущества и кассы помощи вдовам и сиротам, изымались огромные, ничем не обеспеченные беспроцентные ссуды в казну графини; агенты графини совсем распоясались и орудовали наглее, чем прежде. А когда появился грозный герцогский рескрипт, в котором вновь строжайше возбранялись, под угрозой тяжкой кары, всякие поносные речи против графини, тогда обратились во прах даже самые легкокрылые надежды.
Малый совет парламента, ландтага, заседал каждые три дня. Члены его успели побеседовать с прусским королем, они были осведомлены о ссоре графини с братом и, предчувствуя падение фаворитки, стремились приблизить его срок. Они обсуждали планы обращения с новой жалобой к императору и имперским властям и нового протеста перед герцогом по поводу последних злоупотреблений клики Гревениц. Малый совет собирался в полном составе, восемь действительных членов, двое консультантов-законоведов, председатель, он же первый секретарь. Люди это были совсем разные, начиная с Иоганна-Фридриха Егера, грузного и неповоротливого бракенгеймского бургомистра, и кончая Филиппом-Генрихом Вейсензе, изящным, утонченным, просвещенным советником консистории и прелатом в Гирсау; но все они, как один, горой стояли за права и привилегии ландтага. Графиню честили так, что прямо гул стоял, – эту грязную тварь плетьми надо гнать из страны, а Иоганн-Фридрих Беллон, бургомистр в Вейнсберге, стучал кулаком по столу – если до того, мол, дойдет, он выведет своих малых деток на улицу и велит им плевать в лицо рябой стерве, изъеденной дурной болезнью. Гремели горделивые речи: где, мол, в Европе найдется вторая страна с такими свободами, лишь Вюртемберг и Англия отвоевали себе столько парламентских гарантий, и воздух в помещении ландтага был пропитан гражданской гордостью, пОтом и демократией. Но в итоге были вынесены очень несмелые решения, и так как Эбергард-Людвиг оставался недосягаем, а советники его ограничивались учтиво уклончивыми ответами, то резолюции не получили хода и спустя месяц начали желтеть в архиве.
Герцогиня Иоганна-Элизабета, которая сидела и выжидала в опустелом Штутгартском дворце, тоже прослышала о близкой отставке графини. Члены ландтага то и дело наведывались к ней, император слал к ней чрезвычайных послов. Прусский король явился засвидетельствовать ей почтение по всем правилам придворного церемониала. Как смеялись в кругу приближенных графини над визитом захудалого короля к заштатной герцогине! Герцогиня внимательно прислушивалась ко всяким толкам, тщательно отмечала малейшую перемену в поведении Эбергарда-Людвига. Однако она не возносилась на крыльях надежды и не падала в бездну разочарования от того, что желанный переворот медлил совершиться.
Она ждала уже столько времени. Целых тридцать лет сидела она в пустом дворце, потому что герцог оставил ей лишь самую необходимую домашнюю утварь, сидела унылая, замшелая, нудная и упрямо выжидала. Правда, чужеземные послы являлись на поклон и к ней, но она знала, что то была тягостная повинность и что ей уделяли особое внимание, лишь будучи не в ладах с герцогом, ему в пику. Настоящая жизнь была там, в Людвигсбурге, в том городе, который Эбергард-Людвиг построил ее сопернице, потому что она, герцогиня, упорно держалась за Штутгарт, невзирая на унижения и угрозы. Настоящая жизнь была там, в Людвигсбурге, куда государь перенес свою резиденцию, куда он насильно заставил переехать все ведомства, коллегии, консисторию и церковный совет. Там он построил для той твари, для мекленбуржанки, для метрессы, великолепный замок и туда велел перевести из Штутгартского дворца все сокровища искусства, всю парадную мебель.
Иоганна-Элизабета с первого дня запомнила мекленбуржанку – даже мысленно она никогда не произносила проклятого имени. Супруга своего она почитала и любила, она гордилась им, как доблестным воином и блестящим кавалером, она знала также, что сама недостаточно хороша для него, и не ставила ему в укор шашни со своими фрейлинами. Даже когда она родила ему сына и дочь и ей намекнули, что худосочие детей проистекает от необузданной жизни герцога, она не озлобилась против него. Когда появилась при дворе мекленбуржанка – подстроил это ее брат, интриган и сводник, чтобы через нее сделать карьеру, – она, герцогиня, по правде сказать, не поняла, что хорошего в этой твари, но раз уж Эбергарду-Людвигу та приглянулась, она и тут, как и в прежние разы, не стала ему перечить. Впрочем, герцог поначалу не слишком был увлечен и воспылал страстью лишь после любительского спектакля, в котором играл вместе с мекленбуржанкой. Герцогиня сейчас еще видит, как та тварь, в соблазнительном наряде Филлиды, напирала на него нагло оголенной грудью. И с тех пор не проходило дня, чтобы та тварь не причинила ей зла. Герцога она завлекла колдовством, это совершенно ясно; ее самое, герцогиню, она пыталась отравить: когда ей сделалось так дурно от шоколада, виной тому, конечно, была отрава мекленбуржанки, и от рокового конца ее спасла только милость провидения, не дав ей отведать еще и пирога. Для всякого, кто не был слеп, не могло быть сомнений, что та – подлая колдунья, отравительница, отродье дьявола. Неспроста же она разрешилась прежде времени черным как смоль, волосатым, сморщенным обменышем.
Но она, герцогиня, наперекор всем злодеяниям, обидам и чародействам, не уступила своих прав. Пыл ненависти давно уже сменился в ней холодным, тупым, упрямым, застарелым ожиданием гибели той твари. Так сидела она в обширном, пустынном дворце, унылая, одинокая, нудная, и вести, долетая к ней, обесцвечивались, становились расплывчатыми, тягучими, пыльно-серыми, как она сама.
Об эту пору в разных концах Швабской земли стал являться вечный жид. В Тюбингене одни говорили, будто он в собственном экипаже проследовал по городу, другие утверждали, будто видели его на проезжей дороге не то пешком, не то в почтовой карете, писец при Вейсенбергской заставе рассказывал о загадочном путешественнике, который назвался странным именем и при себе имел диковинную поклажу; когда же он стал требовать надлежащих документов, зловещий незнакомец пронизал его насквозь таким адским взглядом, что ему пришлось в страхе отступиться, но от дьявольского взгляда у него и посейчас ломота во всем теле. Слухи ползли отовсюду, детей оберегали от злого глаза незнакомца, а в Вейле – городе, близ которого его видели напоследок, сторожу у заставы был дан приказ строжайше соблюдать все формальности.
Немного погодя он появился в Галле. У заставы он дерзко назвался Агасфером – Вечным жидом. Срочно созванный магистрат распорядился пока что не пускать его дальше предместья. Кругом с испугом и любопытством столпились обыватели. У приезжего была обычная наружность еврея-разносчика, лапсердак и пейсы. Он охотно отвечал на вопросы, но картаво и маловразумительно. Перед крестом он бросился наземь, взвыл и стал бить себя в грудь. Вообще же он торговал галантереей, и у него много раскупили амулетов и безделушек на память. В результате, когда он предстал перед магистратом, обнаружилось, что он обманщик, и его приговорили к плетям.
Но те, кто его видел, заявляли, что это, конечно, не настоящий. У настоящего одежда была обыкновенная, добротный кафтан голландского покроя, как у многих, разве что старомодный, и сам он с виду напоминал важного чиновника или зажиточного бюргера. Только по лицу его, по чему-то особенному, исходившему от него, а главное, по взгляду сразу чувствовалось
– это и есть Вечный жид. Так во всех концах страны в один голос свидетельствовали разные уста.
Графиня спросила у Исаака Ландауера, каково его мнение на этот счет. Он отвечал уклончиво – откуда ему знать, он ведь не Лейбниц.[11] Вообще он неохотно говорил о таких вопросах – в них трудно разобраться, он склонен ни во что не верить, но в отрицании его не чувствовалось твердости. Кроме того, всякому, кто занимается такого рода делами, не избежать столкновения с полицией и церковными властями. Зато графиня крепко верила в магию и чернокнижие. В Густрове, еще ребенком, она много времени проводила со старухой Иоганной, пастушкой, которую позднее убили за то, что она умела накликать непогоду. Иногда открыто, чаще же, когда старуха выгоняла ее, исподтишка наблюдала она, как та варит притирания и зелья, и в глубине души твердо верила, что своим возвышением и властью обязана тому, что после смерти старухи тайком помазала себе пупок, срам и бедра козлиной кровью, которую та кипятила напоследок. Замирая от страха и любопытства, она жадно выспрашивала алхимиков и астрологов, приезжавших к людвигсбургскому двору, и хотя в обществе разыгрывала из себя вольнодумного философа, однако частенько в тиши, содрогаясь и тяжело дыша, изготовляла составы для сохранения молодости и приобретения власти над мужчиной. Что евреи своими гениальными комбинациями и неслыханными успехами на финансовом поприще обязаны колдовству, в этом она уверена, на этот счет ее не проведешь. Тайны колдовства достались им в наследство от Моисея и пророков; а за то, что Иисус хотел открыть эти тайны всем народам и, значит, обесценить их, евреи его распяли. И что Исаак Ландауер виляет и хитрит перед ней и покидает ее в беде, хотя она всегда оказывала ему столько доверия, так это попросту подлый страх конкуренции и жестокая несправедливость с его стороны.
Слухи о Вечном жиде вновь укрепили ее в намерении вернуть к себе герцога с помощью колдовства, если все другие средства окажутся недействительными. Она принялась настаивать, чтобы Исаак Ландауер повел ее к Вечному жиду. А уж если он наотрез отказывается – только незачем отвиливать, при желании для него это, конечно, возможно, – так пусть раздобудет ей другого каббалиста,[12] который зарекомендовал себя и которому она могла бы довериться.
Исаак Ландауер зябко потирал свои бескровные руки. Ее настойчивость и горячность смущали его. Господи, ведь он только честный купец, он поставляет все, что от него требуют: деньги, угодья, дворянский титул, если на то пошло – даже маленькое имперское графство, и заморские пряности, и негров, и черных рабынь, и говорящих попугаев; но откуда, во имя всего святого, добыть ему Вечного жида или почтенного каббалиста, который не посрамил бы себя? Ему, естественно, на миг пришла мысль подсунуть графине ловкого мошенника; но с какой стати водить за нос клиентку, слепо доверявшую ему? Он всегда отличался добросовестностью. Да и риск был уж очень велик. Депутаты ландтага и так ненавидели его, они с величайшим восторгом довели бы его до суда или, от чего упаси боже, до костра. Против своего обыкновения, он ушел расстроенный, нехотя дав графине уклончивое обещание.
Направился он прямо к Иозефу Зюссу Оппенгеймеру.
Зюсс тем временем усердно старался быть праздным; но он был лишен дара отдыхать таким способом. Он томился от безделья: этот неугомонный человек страдал, выходил из себя, когда не мог затевать сложные махинации, водиться с власть имущими, давать толчок движению и самому кружить в вихре движения.
С малых лет какая-то сила гнала его, не давая передышки. Ребенком он не пожелал оставаться во Франкфурте у дедушки, благочестивого и смиренного рабби Соломона, кантора в синагоге. Родителям – отец его был директором странствующей еврейской труппы – пришлось возить его с собой. Таким образом, он уже в шестилетнем возрасте попал к вольфенбюттельскому герцогскому двору и увидел власть имущих вблизи. Герцог благоволил к отцу и еще больше к матери, красавице Микаэле Зюсс, а герцогиня без ума была от миловидного, пылкого, не по летам смышленого, кокетливого мальчугана. Ах, какая разница была между ним и белобрысыми флегматиками – детьми при вольфенбюттельском дворе. Оттуда пошло его страстное тяготение к обществу власть имущих. Он нуждался в смене впечатлений, в новых лицах, у него была жажда общаться с людьми, алчное желание втиснуть в свою жизнь как можно больше людей, и они навсегда оставались у него в памяти. Он считал потерянным тот день, когда ему не удалось свести хоть четыре новых знакомства, и хвастал тем, что знал в лицо треть всех немецких владетельных князей и по меньшей мере половину знатных дам.
Его почти невозможно было удержать в гейдельбергской школе. Трижды за четыре года убегал он оттуда вдогонку кочующей труппе. А когда умер отец, никакие просьбы, рыдания, угрозы, проклятия матери не могли обуздать его. Миловидный мальчуган, баловень целого города, был не по годам развит, обнаруживал поразительные способности к счету, кичился своей аристократической наружностью и позволял себе самые бесшабашные шалости. Соседи-евреи руками всплескивали, христиане смеялись весело и благосклонно, а мать молила, плакала, бранилась и не знала, гордиться ей или негодовать. И в Тюбингене, куда его послали изучать право, он не мог усидеть в аудиториях. Математикой и языками он овладевал играючи, к юридическому крючкотворству, из которого профессора кое-как сколачивали теорию, у него был природный дар. Для него же куда важнее было знакомство со знатными студентами, и за то, что они хоть часок обращались с ним, как со своим братом-дворянином, он соглашался всю неделю быть им слугой и шутом. Ему становилось все яснее и яснее: его призвание – водить компанию с власть имущими, ублаготворять их, увиваться вокруг них. Кто лучше его умел проникать в причуды и прихоти государей, вовремя замолчать, вовремя заронить в них семя своей воли, как шелкопряд свою личинку в созревающий плод? А кто еще способен был так подольститься к женщине и мягкой уверенной рукой скрутить самую неподатливую? Его жгло желание: побольше стран, побольше людей, побольше женщин, побольше роскоши, побольше денег, побольше лиц. Движение, деятельность, вихрь событий. Не мог он усидеть ни в Вене, где в достойном браке проживала, блистала, транжирила деньги его сестра, ни в конторах своих родственников Оппенгеймеров, императорских банкиров и поставщиков на армию, ни в канцелярии мангеймского адвоката Ланца, ни в деловом кабинете своего брата, дармштадтского княжеского фактора, который теперь, крестившись, стал прозываться бароном Тауфенбергером. Та же сила толкала, гнала его. Новые женщины, новые сделки, новая роскошь, новые нравы. Амстердам, Париж, Венеция, Прага. Вихрь событий, жизнь.
При всем том он плавал в мелкой, стоячей воде и никак не мог выбраться на широкий речной простор. Лишь Исаак Ландауер устроил ему первые серьезные дела – договор на курцфальцскую гербовую бумагу и соглашение на чеканку дармштадтской монеты, и лишь проворство и отвага, с какой он бросился в эти рискованные предприятия и в надлежащую минуту отступился от них, создали ему репутацию настоящего дельца. Казалось бы, он заработал себе законное право посидеть здесь, в Вильдбаде, сложа руки, перевести дух.
Но на это он не был способен, праздность донимала его, как зуд, и лишь затем, чтобы дать исход своей энергии, он затеял сотню любовных интрижек, планов, афер. Его камердинеру и секретарю Никласу Пфефле, которого он сманил у маннгеймского адвоката Ланца, хладнокровному, непроницаемому, неутомимому, бледнолицему толстяку, приходилось целый день быть в бегах, разузнавать для него новости, адреса, занятия и биографии приезжих посетителей курорта.
Зюсс был очень моложав на вид и гордился тем, что обычно ему давали около тридцати лет, почти на десять меньше его настоящего возраста. Ему необходимо было чувствовать, что его провожают женские взгляды, что головы поворачиваются ему вслед, когда он едет верхом по аллее. Он употреблял множество притираний, чтобы сохранить унаследованный от матери матово-белый цвет лица, любил, когда говорили, что у него греческий нос, и куафер ежедневно завивал его густые темно-каштановые волосы, чтобы они и под париком лежали волнами; часто он даже ходил без парика, хотя это не подобало господину его звания. Он боялся испортить смехом свой маленький рот с полными пунцовыми губами и заботливо следил в зеркале, чтобы его гладкий лоб не утратил беспечной ясности, которая казалась ему признаком аристократизма. Он знал, что нравится дамам, но искал этому все новых подтверждений, и та, с которой он провел одну ночь, осталась ему мила на всю жизнь, потому что назвала его темно-карие, сверкающие под нависшими дугами бровей живые глаза – крылатыми глазами.
Подобно тому как мода и прихоть требовали все новых яств и вин, все нового хрусталя и фарфора для его стола, так для постели ему требовались все новые женщины. Он был ненасытен, но быстро пресыщался. Память его – гигантский музей, где надежно хранилось все, – в точности запечатлевала лица, тела, запахи, позы; глубже не задевала ни одна. Одна-единственная проникла за пределы чувственности; тот год, что она прожила с ним, год в Голландии, стоял в его жизни совершенно обособленно, отдельно от других, но он замуровал воспоминание об этом годе, не говорил о нем, мысль его пугливо обходила этот год и отлетевшую тень, лишь очень редко воспоминание пробуждалось и устремляло на него взгляд, вселяющий смущение и тревогу.
Он так легко поддался на уговоры Исаака Ландауера еще и потому, что за последние годы лечение на курорте Вильдбад стало чуть не обязательным для всякого, кто почитал себя в западной Германии аристократом. Даже из Франции сюда являлись посетители, здесь можно было увидеть моднейший экипаж, услышать изысканнейшую беседу, обтесать по моделям Версаля углы и шероховатости, которыми грешили даже модничающие немецкие дворы. Здесь был настоящий большой свет, здесь можно было наглядно видеть, как меняется цена отдельным лицам и целым общественным слоям, кто идет в гору, кто катится вниз; живой пример был куда поучительнее, чем «Mercure galant».[13] Только здесь изо всей Германии можно было точно установить, какой формы ножку следует предпочесть модному франту при выборе дамы сердца, чтобы не прослыть отсталым.
Так как у Зюсса не было дела посерьезнее, он с головой ушел в эту суету, бойко лавировал среди светских пустяков. Ощущая пустоту, изголодавшись по событиям, он присосался к жизни других. Он беседовал с хозяином гостиницы, где проживал, и строил планы, как увеличить ее рентабельность, он спал с юной служанкой, он выписал владельцу игорного дома новомодные столы для игры в фараон и заработал на этом четыреста гульденов, он был самым желанным гостем на утреннем приеме принцессы Курляндской, он улаживал любовные неудачи сторожа при ванном заведении, стараниями незаменимого Никласа Пфефле он добывал из людвигсбургских оранжерей померанцевые цветы для дочери посла Генеральных штатов;[14] зато, когда она сидела в ванне и флиртовала с кавалерами, ему разрешалось занимать ближайшее к ней место на деревянной покрышке ванны, над которой выступала лишь голова девицы; по уверению многих, ему разрешались и другие вольности. Он подписал выгодный контракт с амстердамским ювелиром на шлифовку определенного сорта драгоценных камней, при столкновении с баварским графом Трацбергом, заносчивым грубияном, он так отбрил баварца, что тому пришлось на следующий день убраться из Вильдбада, он исхлопотал садовнику кредиты для разбивки парка подле ванного заведения и заработал на этом сто десять талеров. За игорным столом, когда все немецкие кавалеры испуганно ретировались, он остался единственным партнером молодого лорда Сэффолька, беспечно и учтиво проиграв четыреста гульденов, но дал пощечину галантерейному торговцу, который вздумал взять у него за подвязки лишних четыре гроша. Он ежедневно являлся на аудиенцию к саксонскому министру – саксонский двор нуждался в займе – и стоял, обнажив голову, склонившись в раболепном поклоне, в то время как министр высокомерно проходил мимо, не удостаивая его ни взглядом, ни кивком. Он пламенно завидовал Исааку Ландауеру, который, под улюлюканье мальчишек, под проклятия парода и насмешки высшего света, входил в дом к графине, считал, ворочал деньгами, ворочал страной, выпускал людей на волю и заточал в тюрьмы.
В таком расположении духа застал его Исаак Ландауер. Он сперва нащупал почву, заговорив о странных причудах, которыми господь, да будет благословенно его имя, наделил и наказал христиан. Почтенному муниципальному советнику из Гейльбронна нужно, например, чтобы возле него постоянно терлись семь собачек и чтобы они были одинаковой величины, фрейлейн фон Цванцигер дала обет не произносить по пятницам ни единого слова, а господин фон Гогенэк почитает для себя делом чести присутствовать на всех аристократических похоронах в округе, ради чего не щадит никаких трудов. Затем старик осторожно перешел на слухи о Вечном жиде и напоследок как бы мимоходом рассказал, что графине взбрела странная фантазия повидать Вечного жида или еще какого-нибудь мага или астролога, а лучше всего – зарекомендовавшего себя каббалиста. После чего умолк, выжидая.
Зюсс сразу почуял, что старик куда-то гнет. Он весь подобрался, насторожился. Разговор Исаака Ландауера о Вечном жиде сбил его с толку. Это была область, не имевшая ничего общего с делами, не находящая себе выражения в цифрах. Она граничила с тем, что было замуровано, с заповедным. Разумеется, слухи дошли и до него; но природный дар ограждать себя от всего, что может вывести из равновесия, помог ему легко и быстро отделаться от смущающих душевный покой догадок. Только бы не коснуться заповедного.
Но теперь, когда Ландауер заговорил об этом, тревожное чувство неумолимо подкралось к нему. Точно волна, издали набегало на него то, с чем пришел Исаак Ландауер, он боялся и желал решительного слова, и когда Исаак Ландауер сделал паузу, он замер в мучительно волнующем ожидании.
Но тот заговорил снова. Нерешительно, нащупывая отношение собеседника, он вымолвил нарочито небрежным тоном:
– Я уж подумал, реб Зюсс, о рабби Габриеле.
Так и есть. Человек, что сидит перед ним, лукаво и добродушно покачивая головой, построил точный расчет на том заветном, от чего он, Зюсс, боязливо отшатывался и отмахивался. Он вынуждает его к откровенности с самим собой.
– Я так полагаю, – продолжал искуситель выведывать у завистника, – я полагаю, что Вечный жид, о котором толкуют, не кто иной, как он.
Да, да, Зюссу это, конечно, тоже пришло в голову, когда он узнал о слухах. Но он именно и не хотел, чтобы предчувствие превратилось в уверенность. Рабби Габриель, его дядя, этот каббалист, этот вещун, окутанный для всех таинственным и устрашающим туманом, единственный человек, который не был ему ясен до конца, который одним своим присутствием лишал красок красочность его мироощущения, лишал жизни его действительность, делал спорными его ясные круглые цифры, стирал их, – этот человек должен существовать сам по себе, где-нибудь вдали. Ни в коем случае нельзя вмешивать его в дела. Иначе он коснется заповедного. И тогда не миновать смятения, гнета, разлада, всего того, что не поддается выкладкам и подсчетам. Нет, нет, дела здесь, а то – надежно запрятано там, далеко, и так оно правильно, так должно быть и впредь.
– Я, конечно, не стал бы требовать этого даром, реб Иозеф Зюсс, – нащупывал почву искуситель. – Я бы вовлек вас в дела с графиней.
Иозеф Зюсс пустил в ход весь механизм своих расчетов. Великий соблазн овладел им. Точно, быстро, с невероятной энергией и четкостью работал его мыслительный аппарат, мгновенно и безошибочно взвесил он все выгоды сделанного предложения, довел их до полной ясности, подсчитал, свел баланс. Деловая связь с графиней – это много, это больше, чем крупный куш денег. Войдя в это предприятие, он мог приблизиться к герцогу, а оттуда до принца Евгения – один шаг. Он видел перед собой сотни возможностей, головокружительно далекие перспективы придвинулись вплотную.
Но пойти на это нельзя. Всем можно пожертвовать для выгодной аферы. Радостями, женщинами, жизнью. Только не этим. Втянуть в свои дела рабби Габриеля – продать его – нельзя. Он, Зюсс, не веровал ни в добро, ни в зло. Но это значило бы вторгнуться в такую область, где всякие расчеты и прикидки кончаются, ринуться в круговорот, где отвага бессмысленна и умение плавать – тщетно.
Он дышал порывисто и тяжело. Защищаясь от чего-то, как в ознобе передернул плечами. Ему почудилось, будто из-за спины его выглядывает человек с его собственным лицом, только совсем призрачный, туманный.
– Вам не придется ничего требовать от него, – вкрадчиво соблазнял Исаак Ландауер. – И не надо ничего ему навязывать. Я хочу только одного, реб Иозеф Зюсс, чтобы вы доставили его в Вильдбад. Вы бы могли послать своего молодого человека, этого самого Пфефле, он наверняка найдет его. А я возьму вас компаньоном в дела с графиней.
Зюсс стряхнул с себя оцепенение, овладел собой. К окружающему миру вернулись краски, формы, ясность, определенность. Призрачное лицо за его спиной исчезло. Все его колебания – вздор. Ведь он же не мечтательный, глупый юнец. Ну да, в тот раз, когда ему предложили креститься при курцфальцском дворе, у него еще были резонные основания для отказа. Правда, сейчас он и сам толком не понимал, почему не последовал примеру брата, когда это был такой простои способ добыть себе престиж, положение и баронский титул. Как бы то ни было, он не пошел на это тогда, не пошел бы теперь и никогда, ни для какого дела на свете. Но что особенного было в том, чего требовал от него сейчас умный и ловкий старый хитрец? Никто ведь не требует, чтобы он продавал загадочного, угрожающе зловещего рабби. Опять необузданная и чересчур стремительная фантазия едва не ввела его в заблуждение. Только вызвать старика – вот и все, что он должен сделать. А за это – связи с графиней, с герцогом, с принцем Евгением. Дураком надо быть, чтобы не схватиться за такое дело, хотя от этого и становилось немного – он искал подходящего слова, – немного не по себе.
Запинаясь и не договаривая, он ответил, что послать-то за рабби, пожалуй, можно… Исаак Ландауер тотчас ухватился за его согласие. Но тут Зюсс потребовал себе такой доли в делах с графиней, на которую тот никак не мог пойти. Ожесточенно торгуясь, принялись они обсуждать мельчайшие подробности соглашения. Упорно отвоевывая каждую пядь, Зюсс в конце концов отступил.
Когда они окончательно договорились, Зюсс с головой ушел в это предприятие, дышал и жил им одним. Рабби Габриель канул для него в область заповедного, едва он отослал слугу.
Никлас Пфефле поехал в почтовой карете. Никому не бросался в глаза тучный молчаливый путник; с виду равнодушный, рассеянный и сонливый, он скрывал свою неутомимость под меланхолично-ленивой личиной. Взяв на себя какую-нибудь задачу, он впивался в нее цепко и хладнокровно.
След незнакомца вел вдоль и поперек по всей Швабской земле, без видимой цели, произвольно. Затем терялся и вновь обнаруживался в Швейцарии. Бледнолицый толстяк следовал за ним, добросовестно, шаг за шагом, неотступно, невозмутимо.
Странно путешествовал этот незнакомец. Обычно люди так не ездят. Редко случалось, чтобы он выбрал прямую дорогу, а все больше сворачивал на боковые колеи, и чем круче была тропа, тем казалась желанней ему. Во имя чего нужно было человеку устремляться в каменистые, обледенелые пустыни, преданные проклятью божьему?
Редко попадавшиеся в здешних местах крестьяне, охотники, дровосеки были непонятливы, немногословны. Когда незнакомец взбирался выше их самых высоких пастбищ, они хоть и смотрели на него, но так же медлительно и безучастно, как их скотина, и так же медлительно и безучастно отводили взгляд, когда он удалялся. Незнакомец ничем не привлекал внимания: одежда на нем была плотная, темная, довольно старомодного покроя, какой носили в Голландии лет двадцать назад. Невысокий, коренастый, немного сутулый, он шагал твердо, тяжелой поступью. Здесь в горах, куда редко забираются путешественники, Никлас Пфефле без труда находил его след. Зато внизу, на равнине, где население гуще, мудрено, казалось бы, не потерять из виду невзрачного человечка. Однако нечто своеобразное, трудно определимое позволяло, при всем отсутствии каких-либо отличий, проследить его путь. Люди не умели назвать словами это нечто, оно было неуловимо и все же неповторимо, присуще ему одному, и говорили об этом всегда одинаково пугливым шепотом. Путь его отмечался воздействием его личности; кто видел его, тому становилось труднее дышать, смех обрывался в его присутствии, голову сжимало тесным обручем.
Никлас Пфефле, бледнолицый, толстый, хладнокровный, не доискивался причин. Ему важно было напасть на след.
Высоко в горах лепились три крестьянских двора, при них деревянная часовенка. Еще выше пасся скот. А дальше ничего, только лед да камень.
Незнакомец карабкался по краю пропасти. Внизу, пронзительно звеня, стремился ручей, можно было проследить взглядом вплоть до того места, где он из-под глетчеров и валунов вырывается наружу. С другой стороны кедры в одиночку упрямо взбирались вверх, с трудом пробиваясь меж камнями. Вершины, сияя белизной, слепя глаз искристым снегом, врезали причудливые зубцы в сверкающую синеву, замыкали застывшим полукругом плоскогорье. Незнакомец карабкался неторопливо, осторожно, не очень умело, но упорно. Переправлялся через быстрые ручьи, ледяные поля, оползни. Но вот он уже на выступе, перед полукружием ледяных стен. Под ним высовывался широкий, голый, потрескавшийся язык одного глетчера, сбоку примыкал другой; и все терялось в каменистой пустыне, беспорядочно разбросанные обломки скал сливались в таинственно вздыбившиеся ломаные линии. А вверху дразнил своей недосягаемостью сверкающий на солнце, горделиво-нежный изгиб оснеженных вершин.
Незнакомец присел на корточки, огляделся, склонился на руку широким, безбородым, бледным лицом. Блекло-серые глаза над небольшим приплюснутым носом были слишком велики для срезанного сверху, мясистого лица и полны глухой неизбывной тоски. Выпуклый, невысокий лоб тяжело нависал над густыми бровями. Опершись локтем на колено, а щекой на ладонь, незнакомец сидел на корточках, оглядывался.
Здесь ли было то, что он искал? Одно вытекает из другого, низший мир из высшего, у каждого человеческого облика должно быть свое подобие в частице природы. Он искал ту частицу мира, из которой на него глянет возвеличенным, проясненным, облагороженным один человеческий лик, лик человека, которому он обречен. Он искал поток, который связует того человека, а значит, и его самого с звездным миром, со Словом, с бесконечностью. Он совсем съежился и забормотал про себя нараспев глухим, неблагозвучно ломаным, картавым голосом стихи тайного откровения. Кожа, плоть, кости и жилы суть одежда, оболочка, а не сам человек. Но тайны высшей мудрости заключены в строении человеческого тела. Взгляни, кожа подобна небесам, что простираются надо всем, все окутывая точно покровом. Взгляни, плоть подобна материи, из коей построено мироздание. Взгляни, кости и жилы – это колесница и престол божий. Это орудия воли божией, по слову пророка. Но все это лишь оболочка; каков же земной человек внутри, таков внутри и человек небесный, и низший мир ничем не отличается от мира высшего. Как на небосводе, что замыкает в себе землю, звезды и созвездия стоят и вещают нам сокровенное и тайну великую, так на покрове нашего тела начертаны морщины и борозды и знаки и линии, и они суть звезды и созвездия тела, и в них заключена своя загадка, и мудрец читает ее и толкует ее.
Приди и взгляни! Дух резцом высекает себе лицо, и посвященный узнает его. Духовные начала и души высшего мира, созидаясь, обретают образ и точные очертания, кои впоследствии отражаются на лицах человеческих.
Он умолк. Прочь эти мысли. Они не должны быть мыслимы, чтобы не стать вымыслами. Есть тайны, которые надо лишь созерцать или совсем не касаться их.
Это ли тот лик, который он искал? Пустыня, лед и камень, дразняще сверкающая синь над ними, ручеек, что с трудом пробивается наружу? Обломки скал на потрескавшемся льду образуют зловещие линии; это ли тот лик, который он искал?
Он углубился в себя. Он заглушил всякое движение души, чуждое тому, что он искал. Три борозды, четкие, глубокие, короткие, отвесно перерезали его лоб над переносицей, образуя священную букву Шин, зачинающую имя божие – Шаддаи.
Тень большой тучи омрачила глетчеры, а несказанно нежные очертания искрящихся снегом вершин ласково дразнили своей недосягаемостью. Коршун чертил в голубом мареве плавные круги над окаменелым хаосом горной долины.
Человек, скорчившийся на выступе, ничтожный посреди безграничного простора, впитывал в себя все очертания – камня, пустыни, потрескавшегося льда. Нежный, дразнящий блеск, тучу, полет птицы, мрачное и дикое своеволие скалистых глыб, отзвуки людей внизу и скота на пастбищах. Он затаил дыхание, он созерцал, гадал, разгадывал.
Наконец он поднялся, почти шатаясь от напряженной неподвижности, обессиленный, полный глубокой примиренной печали, стер со лба бороздивший его знак. С трудом передвигая онемевшие ноги, спустился в долину.
Внизу, от первого из трех дворов, к нему навстречу шел незнакомый ему бледнолицый толстяк, пытливо, но с невозмутимым видом поглядел на него, протянул письмо и хотел заговорить. Рабби Габриель не дал ему произнести ни слова.
– От Иозефа Зюсса, – сказал он так просто, словно давно был предупрежден и о посланце и о письме, словно подтверждал получение того, чего он ждал.
Никлас, не удивившись, что незнакомец знает его, поклонился.
– Я приеду, – сказал рабби Габриель.
После десяти дней бешеной деятельности графиня застыла в тупом ожидании. Обессилев и ослабев духом, сидела она среди ляпис-лазури и позолоты: вся она расплылась, упругие щеки обрюзгли, руки повисли вдоль тела. Прежде ни одну мелочь домашнего обихода она не оставляла без указания и проверки, теперь же она безучастно подчинялась камеристкам, когда они массировали ее, наводили на нее красоту, облачали в пышные наряды. Она велела привести к себе ночью Каспару Бехершу, слывшую чародейкой и вещуньей; но старуха в просаленных лохмотьях, перепугавшись и обомлев от окружающей роскоши, лепетала лишь какую-то нелепицу. А мага и каббалиста, обещанного Исааком Ландауером, все не было и не было.
Гонцы из Неслахского охотничьего замка сперва доносили все одно и то же. Герцог охотится, бражничает, спит с венгерской танцовщицей. Но затем сразу наступила перемена, и, перегоняя одна другую, полетели сенсационные вести. Тайный советник Шютц, льстивый и настойчивый, проник к герцогу. На другой день в Неслах прибыл изящный прелат Вейсензе, просвещенный дипломат из парламентского совета одиннадцати. Герцог два часа совещался с Шютцем, венгерку тут же отослали в Людвигсбург, а в довершение всего, вечером Эбергард-Людвиг принял прелата Озиандера, меднолобого горлана, пламеннейшего приверженца герцогини.
Едва это известие достигло Вильдбада, как графиня перестала владеть собой. Ах так, Озиандер у герцога. Озиандер! Она бушевала. Когда она в свое время пожелала быть включенной в заздравную молитву, этот чурбан, этот подлый пес осмелился заявить, что она, мол, там уже упоминается: «Очисти нас от всякий скверны!» И ухмылялся во весь рот, упиваясь одобрительным хохотом целой империи. Герцог не решился отставить популярнейшего в Вюртемберге человека, только перестал принимать его. А теперь он в Неслахе громит ее по-мужицки грубыми шутками. Нет, нет! Выжидать? Вздор. Она задохнется, если и дальше будет со стороны смотреть на происходящее. Даже высидеть в карете у нее не было терпения. Градом посыпались приказания: пусть управляющий, секретарь, камеристки, лакеи едут за ней следом. Сама же она с одним конюхом, верхом, помчалась в Неслах, не позволяла себе остановиться, чтобы перекусить, скакала, как вестник сатаны.
Налетела на герцога, с шумом и гамом объезжавшего лошадей под поощрительное гиканье шумливых рыцарей святого Губерта. Эбергард-Людвиг в полной растерянности остановился посреди умолкших, склоненных в почтительном поклоне, исподтишка скалящих зубы кавалеров, а затем, весь красный, смущенно лебезя и сопя мясистым носом, повел графиню в замок принять ванну и подкрепиться. Бес, а не баба! Что за скачка! Вот так Христль! Просто бес, а не баба.
Графиня, как была, в амазонке, разгоряченная ездой, покрытая густым слоем пыли, сразу же приступила к нему с объяснениями. Лишь бы теперь не сплоховать. Удержать. Прижать. Крышкой рассудка приглушить бурлящее сердце. Зорким взглядом пронизать туманную мглу; только не горячиться: стоит недоглядеть, и все пойдет прахом. Снова захватить, крепко взять в руки это колеблющееся, извивающееся, увиливающее, ненадежное, неискреннее существо. Завладеть им сейчас, когда он застигнут врасплох, не может вывернуться, когда никто посторонний не вмешивается в разговор, не подсказывает ему умных, смелых, решительных мер. Потише, натянутые нервы. И ты, буйное сердце, потише.
Она начала непринужденным тоном, отпивая глоточками лимонад, подтрунила над его непритязательностью: губертовские кавалеры, юная танцорка – невысокие у него требования. Затем пошли мягкие упреки. Озиандера ему не следовало принимать. Она, конечно, понимает, ему просто хочется позабавиться грубыми шутками старого дурня, но истолковать это могут ложно. Эбергард-Людвиг в отчаянном смущении не знал, куда укрыться от стального блеска ее глаз, громко сопя, извивался, потел под толстым сукном кафтана. Вот так женщина! Вот так Христль! Эдакая дьявольская скачка! Раз-два – и примчалась, и внесла ясность в неразбериху его колебаний и шатаний. Потом она спросила напрямик: ведь толки насчет примирения с герцогиней и прочего – чистый вздор? Или нет? Он гулко откашлялся, – разумеется, пустая болтовня. Они оживленно поужинали, выпили вдвоем, без губертовских рыцарей. Ни намека на Шютца и на Озиандера. Графиня заполнила всю комнату своей беззаботной, шумной веселостью, целиком окутала ею освободившегося от гнета Эбергарда-Людвига. Черт возьми! Что за скачка! Что за женщина! Бес, а не женщина!
Графиня проспала всю ночь без грез, глубоким, блаженным, долгим сном. Когда она пробудилась, герцога не было. Он улизнул тайком на рассвете. Надавав пощечин елейному, пожимающему плечами, втайне ухмыляющемуся кастеляну, графиня вне себя кинулась вслед за герцогом, загоняя коней. В Людвигсбургском замке – пустота. Ни намека на герцога. Герцог уехал в Берлин с ответным визитом королю. Предписанная церемониалом свита нагонит его на границе.
Обезумев, размахивая хлыстом, неузнаваемая от ярости, мимо жмущихся по стенам лакеев ринулась она через пустые залы. Только в последнем покое, у письменного стола герцога, между бюстом Августа и Марка Аврелия, перед картиной итальянского художника, изображающей ее самое со знаками герцогского достоинства, – человек в сановничьем парике, бесконечно учтивый, почтительно склоненный, со слащавой улыбкой: Шютц. Андреас-Генрих Шютц, ее креатура, ее Шютц, которого она возвела в дворянское достоинство, сделала тайным советником. В мундире самого последнего покроя, с пряжками на башмаках из одних только полудрагоценных камней, по новейшей парижской моде, дипломат раз за разом клевал в церемонных поклонах огромным крючковатым носом, усердно шаркал ногой и, привычно гнусавя, заверял на изысканно-витиеватом французском диалекте, что господь якобы вселил в его светлость предчувствие о прибытии вашего превосходительства, но его светлость, не имея, к несчастью, возможности ждать, осчастливил своего покорнейшего слугу поручением отобедать с вашим превосходительством и при сем случае сделать одно сообщение. Графиня, побагровев и захлебываясь от злости, крикнула ему, чтобы перестал кривляться и по-немецки, без экивоков, объяснил, что происходит, а не то – и она угрожающе взмахнула хлыстом. Но тайный советник, неколебимо-учтивый, твердо стоял на своем – ему, мол, прискорбно ослушаться своей высокой покровительницы, но он связан строгими указаниями.
Наконец за столом он передал ей, сдобренный множеством комплиментов, приказ герцога, предписывающий ей покинуть столицу и поселиться в своих поместьях. Она разразилась громким хохотом.
– Что ты за шутник, Шютц! Что за шутник! – повторяла она, продолжая неудержимо хохотать. Старый дипломат, по-прежнему невозмутимо учтивый, зорким ясным взглядом наблюдал, как она вскочила с места, как заметалась из угла в угол. Втайне он дивился ей, – до чего же натурально, без малейшего надрыва звучит ее смех, до чего удачно она играет.
Графиня осталась. О! она и не собирается уезжать из Людвигсбурга. Минутами она впадала в неистовство, обрушивалась на слуг, била фарфор; Шютц пожимал плечами – он, мол, только исполнил свою обязанность, передав ей приказ его светлости, и в пространных, изысканных выражениях заверял ее, что для него честь и счастье как можно дольше пользоваться ее присутствием, но только пусть сама на себя пеняет, ибо за такую задержку ей не миновать высочайшего гнева и грозной немилости. Они встречались за трапезами. Старый, прожженный интриган, умевший удержаться при любом режиме, непритворно симпатизировал графине за ее дерзновенный взлет и как знаток восхищался замысловатыми деловыми махинациями, с помощью которых ее евреи преспокойно переправляли за границу награбленные ею богатства. Высохший, как мощи, покончивший со страстями кавалер никогда бы не поверил, что способен столь искренне и пылко ухаживать за толстой, немолодой женщиной. Они вели за столом пикантные, сдобренные смелыми намеками беседы, и он с интересом ждал, до каких пределов доведет она ослушание строгому приказу Эбергарда-Людвига.
Герцог недолго пробыл в гостях. Шютц не замедлил сообщить графине, что герцогиня получила приглашение в замок Теинах. Туда же вызваны депутаты ландтага, а также посланники Баден-Дурлаха, курфюршества Бранденбургского и Касселя. Герцог желает примириться со своей супругой перед лицом народа и империи. Долго молча смотрела графиня на тайного советника, который не спускал с нее серьезного, внимательного взгляда. Затем она попыталась вскочить и со слабым, сдавленным криком упала без чувств. Он поспешил ей на помощь, позвал ее служанок. Вечером он снова велел доложить о себе, спросил, каковы будут ее распоряжения. Она, воплощение величавой покорности, заявила, что едет в свой замок Фрейденталь, к матери, которую поселила там пять лет назад. Шютц спросил, не предоставить ли ей конвой, ибо он опасается вспышек народного гнева. Она, откинув голову, сжав губы, отказалась.
Наутро она с челядью выехала из Людвигсбурга. В шести каретах. Пока лошади трогали, тайный советник Шютц стоял, склонившись в глубоком поклоне, у балюстрады замка. Из-за драпировок на высоких окнах, ухмыляясь, поглядывали герцогские лакеи. Горожане смотрели ей вслед молча, не кланяясь, глумиться они не решались. Но визгливый смех уличных мальчишек летел за ее каретой.
Она послала вперед целый обоз мебели и предметов убранства. Замок остался опустошенным после ее отъезда. Даже драгоценная чернильница герцога исчезла, и бюсты Августа и Марка Аврелия стояли совсем оголенные перед помпезным портретом кисти итальянского художника, на котором графиня была изображена со всеми знаками герцогского достоинства.
Шютц, улыбаясь, дал ей полную волю.
Из четырех комнат, которые Зюсс занимал в вильдбадской гостинице «Звезда», ему пришлось уступить две. Принц Карл-Александр Вюртембергский,[15] имперский фельдмаршал и губернатор Белграда, прибыл ранее назначенного срока, и ему понадобились эти комнаты. Принц совершенно не терпел графиню. Он был чужд предрассудков. «Хорошая шлюха – дело доброе, – говаривал он, – но корыстная шлюха – это исчадие ада». А графиню он считал корыстной шлюхой. Поэтому он хотел дождаться ее отъезда, чтобы не встретиться с ней. Но раз она убралась раньше, он тоже мог сократить пребывание в Вюрцбурге.
Посетители курорта с любопытством глазели на карету принца. Шутка ли – Карл-Александр, победитель при Петервардейне, правая рука принца Евгения, имперский фельдмаршал, в большой чести при венском дворе! Повсюду в Германии, а особенно в Швабии висела картина, изображающая, как он при осаде Белграда с семьюстами алебардщиками под градом турецких ядер штурмует укрепление. Захватывающее зрелище. Настоящий герой! Большой полководец! Браво! Эввива! Впрочем, политически – полный нуль, захудалый отпрыск побочной княжеской ветви. Абсолютно безвреден. Но зато галантный кавалер, компанейский человек, добрый малый. Все сердца стремились к нему, дам увлекала преимущественно его военная доблесть, а дочь посла Генеральных штатов даже бросила ему в окно кареты лавровую веточку.
Въезд его был не слишком пышным. Громоздкая, несколько потрепанная дорожная карета. Сам принц, правда, крайне элегантен, по случаю дороги без парика, и длинные, красивые белокурые волосы обрамляют открытое, жизнерадостное лицо, рослая статная фигура весьма представительна в богатом мундире. Но свита крайне убогая: лейб-гусар, гайдук, кучер, и больше никого. Толькооднабросающаяся в глаза изысканная деталь: на запятках чернокожий, молчаливый, внушительного вида молодец, мамелюк, или что-то в таком роде, – должно быть, военная добыча принца.
Зюсс с Исааком Ландауером стояли среди глазеющей, кричащей «ура» толпы, когда принц подъехал к гостинице. Зюсс с завистью смотрел на стройного, элегантного великана. Mille tonnerre![16] Вот это поистине принц и большой вельможа! Какая мелкота по сравнению с ним были все, кто слонялся тут по Вильдбаду. Чернокожий тоже произвел на него впечатление. Но Исаак Ландауер дал пренебрежительную и добродушно-соболезнующую оценку экипажу и ливрее:
– Ваш господин фельдмаршал попросту – голоштанник. Верьте мне, реб Иозеф Зюсс, он и двух тысяч талеров не стоит!
Принц пребывал в превосходном настроении. Вот уж три года, как он не был в западной Германии, долгое время жил среди полудиких язычников подвластной ему Сербии, дрался с кем попало, только что не с самим чертом. И теперь он, мужчина в соку, – ему только что стукнуло сорок пять лет, – с наслаждением вдыхал воздух отечества.
После долгого пути он прежде всего выкупался, велел лейб-гусару Нейферу натереть ему настоями хромую ногу – воспоминание о битве при Кассано – и уселся у окна в шлафроке, весело болтая с камердинером, меж тем как чернокожий примостился у его ног.
Жизнь порядком потрепала принца. С двенадцатилетнего возраста он был солдатом, дрался в Германии, в Италии, в Нидерландах, в Венгрии и Сербии. После принца Евгения, которому он был предан душой, он считался первым полководцем империи. В Венеции и в Вене он прошел школу высшего светского тона, а обходительность манер, добродушный, несколько грубоватый юмор снискали ему любовь женщин, собутыльников и охотничьей братии. Он достиг всего, что достижимо для захудалого отпрыска побочной княжеской ветви. Он
– близкий друг принца Евгения, действительный тайный советник, имперский фельдмаршал, наместник его величества в Белграде и во всем Сербском королевстве, шеф двух имперских полков, кавалер Золотого руна.[17]
В Белграде его постоянно окружал хоровод офицеров и женщин. Ему по душе была бесшабашная жизнь, превращавшая Белградскую крепость в походный лагерь, а с его незатейливым обиходом вполне справлялись лейб-гусар Нейфер и чернокожий.
Наместничество в Белграде ему исхлопотал его друг принц Евгений. Он и в самом деле обеспечил за этим округом такую оборонную мощь, что его методы приводились как назидательный пример во всех военных академиях. Что до управления страной, то тут он – черт побери! – больше руководствовался наитием, чем осведомленностью, но в столь угрожаемой местности настоящий человек, хотя ему и случалось ошибиться, был все же куда полезнее какой-нибудь канцелярской крысы из Военного совета при венском дворе. Если когда-нибудь забота и брала за горло веселого, полного жизни вояку, то всегда одна и та же: деньги. Жалованье у него было скудное, княжеский апанаж ничтожный. А натура широкая. Ведь он, императорский наместник, имел дело с чванными венгерскими баронами и турецкими пашами, которые богатством, пожалуй, не уступали царице Савской. Он не был избалован, ему случалось жить как простому солдату, кормиться такой дрянью, что кишки выворачивало наизнанку, и спать на мерзлой грязи. Но не мог же он сажать своих собутыльников за пустые столы, водить своих любовниц в лохмотьях и держать на конюшне ободранных кляч!
При венском дворе такие жалобы пропускали мимо ушей или пожимали на них плечами. Господи, если принцу не нравится наместничество, в имперских землях достанет вельмож и богачей, мечтающих занять этот важный пост и готовых оплачивать представительство из собственного кармана. Венские банкиры прежде выручали принца мелкими суммами; теперь они стали несговорчивы, почти что наглы.
Настоящее участие он встретил лишь в Вюрцбурге у князя-епископа.[18] Он знал этого жизнерадостного толстяка давно, с молодой венецианской поры. Там они – принц, теперешний князь-епископ и Иоганн Эвзебий, ныне князь-аббат в Эйнзидельне в Швейцарии, крепко сдружились. Трое юношей, все трое захудалые побочные отпрыски владетельных родов, были посланы в Венецию учиться жизни и политике. Стареющая республика, давно клонящаяся к закату, точно кокотка, которая не желает сложить оружие, все еще держала тон мировой державы, имела послов при всех дворах, ее синьория раскинула сеть интриг над Европой и Новым Светом, судорожно цепляясь за фикцию большой влиятельной политики. Действие машины было тем исправнее, что работала она на холостом ходу, и вся знатная молодежь Европы обучалась в правительственных кругах республики навыкам высшей дипломатии.
Оба молодых великосветских прелата, как истые ценители, восхищались совершенством этого механизма и с ревностным пылом погрузились в изучение его, недаром они прошли школу иезуитов. Но швабский принц растерянно смеялся, глядя на окружающую суету; за что он ни брался, все от него ускользало; тогда он решил отдаться шумной, блестящей светской жизни в маскарадах, клубах, театрах, игорных домах, борделях. Молодые иезуиты от души забавлялись его наивной, солдатской прямолинейностью, искренне полюбили его, как большого добродушного неуклюжего щенка, и вменили себе в обязанность, без ущерба для него, провести славного, неотесанного юношу сквозь водоворот разнузданной, полной подвохов венецианской жизни.
Молодые клерикальные дипломаты, тонко усмехаясь, недоумевали, как можно быть таким откровенно беспечным, так доверчиво с головой окунаться в развлечения. Значит, это еще встречается! Вот живет человек, делает визиты, танцует, играет, любит, вращается в кругах политических деятелей, и при этом не преследует никакой цели, явно не собирается делать карьеру. И они прониклись к нему непритворным, хоть и чуть презрительным расположением.
Вот на какой основе выросла дружба принца и двух иезуитов. Те стали теперь прелатами, – перед ними трепетали, они находились в самом центре большой политики. Он же, принц, сидел в сторонке, на восточной границе империи, слыл отважным полководцем, но господа, вершившие судьбы Германии, смотрели на него с легкой снисходительной усмешкой. Он не замечал этой усмешки, он безмятежно и прямо шел своим путем, и единственное, что ему досаждало, были денежные недохватки.
В Вюрцбурге, за трапезой, где присутствовал и князь-аббат Эйнзидельнский, он откровенно пожаловался обоим друзьям на свое стесненное положение. Безденежье, наглые кредиторы, вечная канитель. За столом было много съедено и порядком выпито, князья церкви вышли освежиться, а принц даже расстегнул мундир.
У епископа было правило никогда не давать ответа сразу. Он обещал подумать.
Когда принц удалился, прелаты остались в парке и, сидя в тенистом уголке, смотрели на город и виноградники. Принцу надо, разумеется, помочь; ничего не стоит помочь ему. Пожалуй, можно помочь ему и в то же время послужить правому делу. Они переглянулись с улыбкой, мысли их совпадали. Они часто водили принца в Венеции, в Вене и теперь в Вюрцбурге на католическую мессу и радовались его наивным восторгам перед торжественностью службы со всем ее великолепием и волнами ладана. Конечно, он – захудалый отпрыск побочной княжеской ветви, слишком многое отделяет его от престола. Не бог весть какая находка! Однако если один из членов исконно протестантской династии Вюртембергов будет приведен в лоно римской церкви, генерал ордена зачтет этот успех, не переоценивая его.
Понятно, нельзя, чтобы такое дело было шито белыми нитками. Нет, тонко, по всем правилам искусства. Так, словно иначе и быть не могло. Отцы церкви, люди опытные, столковались полунамеками. Путь очень прост, сами обстоятельства подсказывают его. Прежде всего, надо посоветовать Карлу-Александру пойти по евангелическим инстанциям: скажем, обратиться к кузену его, герцогу, – тот под башмаком у графини; затем к ландтагу – там сидят трусы и скряги; на всякий случай можно нажать, чтобы они отказали наверняка. При дворе князя-епископа имеется один господин, тайный советник Фихтель,[19] дока в швабских делах, он уж, конечно, все уладит. Когда же после этого принц окажется в тисках, без гроша и затаит наивную злобу на евангелическую скаредность, тогда надо будет откуда-нибудь выкопать принцессу-католичку, например регенсбургскую богатую наследницу Турн и Таксиса, и церковь встретит новообращенного золотом, славословием и воскурениями.
С достоинством и благожелательством, небрежными полунамеками сплели свою интригу прелаты: сидя в тенистом уголке парка, смакуя мороженое, смотрели они на прекрасный город и осиянные солнцем виноградники.
Итак, князь-епископ ссудил Карла-Александра небольшой суммой, и принц, чтобы выкрутиться года на два – на три, обратился к Вюртембергскому ландтагу с просьбой увеличить ему апанаж или по крайней мере выдать под него приличный аванс. Прошение было толково и обстоятельно написано тайным советником Фихтелем, а потому принц считал, что успех обеспечен. И вот теперь он пребывал в Вильдбаде с твердыми видами на получение денег и был в отличном расположении духа. В окна к нему глядел холмистый ландшафт, с уютными лесными порослями. Ванна и массаж хромой ноги приятно освежили его, после грязи и неряшества сербских и венгерских деревень городок казался ему вдвойне аккуратненьким и опрятным, и он предвкушал веселое времяпрепровождение.
Пока он благодушествовал, глядя в окно, а Нейфер брил его, явился гайдук от принцессы Курляндской с любезным приглашением на костюмированный бал в стиле сельского праздника, который принцесса устраивала завтра. У Карла-Александра не было соответствующего костюма, Нейфер обратился к хозяину, тот указал на гоф-и-кригсфактора Иозефа Зюсса Оппенгеймера, – это человек, который наверняка выведет из любого затруднения. Оппенгеймер? Что гоффактор еврей, было принцу безразлично, как ни кривился его камердинер. Но Оппенгеймерами прозывались и венские банкиры, которые так плохо обошлись с ним. Однако проворный хозяин успел тем временем побывать у Зюсса и вернулся с вполне подходящим к случаю костюмом венгерского крестьянина, который Нейферу не трудно будет пригнать по фигуре принца. Карл-Александр послал Зюссу через Нейфера дукат, которым тот, в свою очередь, отблагодарил Нейфера. Принц не знал, избить ли ему еврея или посмеяться. Так как он был хорошо настроен, то решил посмеяться.
На празднестве он был окружен всеобщим любопытством и восхищением. Принцесса, наряженная хозяйкой фермы, казалась ему моложе и соблазнительнее, чем можно было ожидать от этой перезрелой дамы, а ее расположение и благосклонность к высокому гостю далеко выходили за пределы вольностей, допустимых на костюмированном балу.
Принц еще ни разу не видел маскарада в сельском вкусе – эта блажь лишь с полгода назад вошла в моду при дрезденском дворе, – но ему были по нраву и деревенские наряды, и простецкая развязность мнимых поселян, и весь грубоватый тон этого праздника. Он радостно упивался почтением мужчин и задорными авансами женщин. Потом было устроено шествие парами, и какой-то тюбингенский профессор и поэт, одетый точильщиком, приветствовал каждую пару скабрезными стишками, игривую непристойность которых встречали веселыми криками и гоготом. Даже чванливый саксонский министр с кислой улыбкой принял предназначавшийся ему ком грязи; один молодой лорд Сэффольк, в богатом наряде римлянина, вскипел было, но его урезонили. В паре с принцем была хозяйка, курляндская принцесса. Принца виршеплет приветствовал на серьезный лад и под восторженные клики гостей назвал его вюртембергским Александром, швабским Скандербегом, германским Ахиллом.
Карл-Александр заметил, что всех гостей попотчевали эпиграммой, кроме одного. То был моложавый, на редкость статный господин, как и некоторые другие – в полумаске. Он был одет флорентийским садовником, должно быть по уговору со своей дамой, дочерью посла Генеральных штатов, чья широкополая шляпа с лентами вполне соответствовала его костюму. Он, видимо, не очень удивился, что его не включили в шествие пар мимо виршеплета, с достоинством принял такое явное неуважение и, скромно укрывшись в оконной нише, наблюдал за происходящим. Принц осведомился, кто этот господин. Это еврей, франкфуртский фактор. Иозеф Зюсс Оппенгеймер, – презрительно пожали в ответ плечами.
Ах, так это тот, что живет с ним в одной гостинице и одолжил ему такой удачный костюм, – словом, тот, с дукатом. Принц выпил и был настроен на благодушный лад. Пожалуй, следует сказать еврею несколько слов, вон как он скромно стоит совсем один. Может быть, удастся раздразнить его, позабавиться на его счет. Принц направляется к Зюссу, взгляды гостей следуют за ним.
– Известно еврею, что я чуть было не прибил его за проделку с дукатом?
Зюсс тотчас снимает маску, кланяется, улыбается, смотрит на принца снизу вверх с какой-то льстивой наглостью.
– Мне бы тогда довелось попасть в неплохую компанию. Насколько я знаю, великий визирь падишаха тоже получил трепку от вашего высочества, равно как и маршал Франции.
Принц разражается хохотом:
– Смотри-ка, еврей остер на язык, как будто обучался острословию в Версале.
Дама в флорентийском наряде протискивается ближе, подхватывает:
– Он и в самом деле был в Версале, ваше высочество.
– Да, я знаком с маршалом, который получил трепку, – добавляет Зюсс со скромной кичливостью. – Он говорит о вашем высочестве с глубочайшим респектом. Я знаком также с друзьями вашего высочества, со славным принцем Савойским.
– Еврей не из рода венских Оппенгеймеров? – заинтересовался Карл-Александр.
– Я прихожусь им троюродным братом, – отвечал Зюсс. – Но я не люблю своих венских родичей, они не умеют по-настоящему чтить высокопоставленных особ. Они только и заняты своими подсчетами.
– Еврей мне по душе, – принц хлопнул Зюсса по плечу и, кивнув ему, повернулся к гостям, кольцом обступившим их, – он был на голову выше большинства.
Карл-Александр пил, танцевал, говорил дамам плоские комплименты. Позднее он очутился у игорного стола, шумнее, чем принято, воспринимая выигрыш и проигрыш. Банк держал молодой лорд Сэффольк, чопорный, изысканно-вежливый, молчаливый, сдержанный в движениях. Принц выигрывал, все крутом были в проигрыше. Под конец он один остался понтировать против англичанина. Он горячился, в голове стоял туман. Разом, в несколько приемов проиграл всю наличность. Очнувшись, рассмеялся несколько натянуто. Столпившиеся вокруг зрители затаили дыхание. Все ждали, что англичанин предложит играть в кредит. Но тот, учтивый, корректный, молча сидел перед разгоряченным, растерянным принцем. Выжидал. Внезапно над плечом принца склонился Зюсс и почтительно-вкрадчиво шепнул: не угодно ли его высочеству оказать ему великую честь. Принц взял деньги, выиграл.
Перед уходом он сказал еврею, что дал распоряжение Нейферу допустить его к утреннему приему.
Зюсс склонился, глубоко переведя дух, и облобызал руку принца.
Исаак Ландауер вместе с Зюссом улаживал дела графини. Проникшись уважением и сочувствием к графине за ее неутомимость и упорство в борьбе с герцогом, он всячески изощрялся, чтобы возможно хитроумнее и успешнее произвести ликвидацию.
Ловким расчетом, вселившим в Зюсса почтительное изумление, он умудрился вовлечь в эту грандиозную кредитную операцию самых ярых противников графини, так что как раз ее враги оказались денежно заинтересованными в сохранении графских поместий. Зюсс хоть и восторгался коммерческим гением Исаака Ландауера, однако избегал часто встречаться с ним. Он считал, что старик компрометирует его в глазах принца. Тот громогласно высмеивал лапсердак и пейсы и при случае даже спросил Зюсса, не прислать ли к его другу Нейфера расчесать парик. А Ландауер, в свою очередь, усмехаясь, качал головой:
– Вы же такой деловой человек, реб Иозеф Зюсс. Зачем же вы теряете время и деньги на голоштанника, который не стоит и двух тысяч талеров?
На это Зюсс затруднился бы ответить. Спору нет, принц для него был образцом аристократизма. Безусловная уверенность в себе, шумливо-повелительная повадка при неизменном добродушии, княжеская пышность при скудости средств импонировали ему. Но это, по существу, ничего не объясняет. Многие другие тоже нравились, импонировали ему, однако из-за этого он не стал бы ухлопывать деньги на такого ненадежного клиента. То, что влекло его к принцу, было иного порядка, глубже. Зюсс не был игроком по натуре. Но в нем жила уверенность, что счастье – это прирожденное качество. Кто не наделен даром тайного знания, кому не дано в мгновенном озарении непреложно, неоспоримо осознать, что такое-то предприятие, такой-то случай, такой-то человек принесет счастье, тому лучше вовсе отказаться от дел и бросить надежду на всякий успех в жизни. И непреложное чутье влекло его к Карлу-Александру. Принц был его кораблем. Пускай корабль сейчас без снастей, пусть он убог и непривлекателен, пускай мудрые финансисты, вроде Исаака Ландауера, воротят от него нос, – он, Зюсс, знал, что корабль этот предназначен ему, и безоговорочно доверял невзрачному судну самого себя и все свое имущество.
Карл-Александр обходился с ним дружелюбнее, чем другие власть имущие, но случалось, в зависимости от настроения, грубо потешался над ним. Зюсс не пропускал ни одного утреннего приема. Однажды, когда Нейфер впустил его запросто, какая-то девушка испуганно нырнула под одеяло. Фельдмаршал, которого чернокожий окатывал ушатами воды, смеясь и фыркая крикнул, чтобы она не стеснялась обрезанного, и из-под перинки выглянуло смущенное и сияющее личико юной служанки, с которой Зюсс тоже спал не раз.
Зюсс принимал знаки дружелюбия герцога как подарки и не обижался на его выпады. Если принц, назначив ему прийти днем, передавал через Нейфера, что нынче ему не по нутру иудейская вонь, он являлся вечером с той же улыбчивой, заискивающей услужливостью. Еще ни один человек на свете не привлекал его до такой степени, как Карл-Александр, он с сосредоточенным вниманием изучал малейший его жест, дружелюбие его почитал для себя счастьем, за грубость испытывал уважение; словом, все, что бы ни сделал принц, лишь крепче привязывало к нему еврея.
Между тем возвратился Никлас Пфефле с сообщением, что рабби Габриель приедет.
Графини уже не было в Вильдбаде, для своих дел Зюсс больше не нуждался в каббалисте, деловые связи с графиней, участие в предприятии Исаака Ландауера установилось и без того. Зюсс в данную минуту был вполне счастлив и даже не помнил истинного повода, ради которого вызвал рабби Габриеля, однако твердо знал, что в письме указал лишь один повод – настоятельную потребность заглянуть ему в глаза, послушать слова, произносимые его устами. Он представлялся себе благородным и великодушным оттого, что решился коснуться заповедного, и старался начисто забыть, что в действительности вызывал загадочного, зловещего старца совсем для другой цели.
Но когда рабби Габриель очутился перед ним, его блистательный, изысканно-увертливый апломб сразу же непонятным образом исчез. Он успел только подумать: что за старомодный у него вид! Но подумал это уже как-то вскользь, неуверенно. Его заполонило жуткое, гнетущее чувство, от которого нельзя было укрыться в присутствии рабби Габриеля, как от воздуха, которым дышишь.
– Ты вызвал меня ради девочки? – прозвучал скрипучий, сердитый голос.
Зюсс хотел ответить резкостью, возмутиться, он заготовил много бойких, красивых фраз, но безысходная печаль, струившаяся из блекло-серых глаз, опутала его, точно тенетами.
– А может быть, не ради девочки? – И хотя голос звучал уже устало и без настойчивости, он резал как укор, и Зюсс, при всей своей гордой осанке, при всей роскоши наряда, казался необычайно маленьким и приниженным перед приземистым, невзрачным стариком, которого можно было принять за крупного чиновника или бюргера.
А ведь обычно он умел говорить так уверенно и внушительно. Ах, до чего же проворно слетали у него с губ слова и атаковали собеседника, отыскивая малейший пробел, малейшее слабое место. Почему же теперь его слова падали так вяло и неуверенно, что он умолк, не закончив фразы? Разумеется, он не отрицает, что обещал взять дитя к себе. Но сейчас это не годится. Ни для него, ни для девочки. У него бессчетное множество дел, ни минуты покоя, беспрерывная суетня. А у рабби Габриеля за Ноэми совсем другой присмотр, и хотя он сам, Зюсс, очень высоко ставит образование и духовное развитие, для девочки менее важны светские правила, чем те познания, в которых дядюшка куда сильнее, нежели он.
Он подбирал эти аргументы поспешно, лихорадочно и беспомощно. Наконец умолк. Увидел перед собой блекло-серые глаза, небольшой нос на широком бескровном лице, тяжело нависающий лоб, который прорезали над переносицей три борозды, резкие, глубокие, короткие, и увидел, что борозды эти образуют священную букву Шин, зачинающую имя божие – Шаддаи.
Рабби Габриель не счел нужным отвечать на его доводы. Он только медленно поднял на него застывший, вещий взор блекло-серых глаз и промолчал.
И во время этого молчания внезапно и мучительно вскрылось заповедное и обнажило тот год, тот чудесный и непостижимый отрезок жизни, год в голландском городке, который Зюсс нарочито, но с затаенной гордостью скрывал от себя и от всего света, как помеху, как нечто в высшей степени неподходящее. Он увидал бледное, замкнутое лицо женщины, самозабвенно любящее и все же несказанно чуждое, он увидел трогательное, покорное тело, он увидел покойницу, которая угасла, едва загоревшись, как только затеплился новый огонек. Он увидел дитя и самого себя в блаженном и все же мучительно гнетущем смятении. Он увидел дядю, вот этого самого, загадочного и зловещего, который возник внезапно, как будто так и надо, и, как будто так и надо, исчез во мраке вместе с ребенком, лишь изредка с промежутками в несколько лет появляясь вновь.
– Девочке уже минуло четырнадцать лет, – сказал наконец рабби Габриель.
– Она знает отца с моих слов. Нехорошо, чтобы действительность так расходилась с моими словами. Я уподобляюсь языческому пророку Валааму, – продолжал каббалист с неодобрительной усмешкой, – мне надлежало бы клясть, говоря ей о тебе, а я благословляю. Я привезу ее сюда, чтобы она увидала тебя, – заключил он.
Испуг пронзил Зюсса до глубины души. Дитя! Вот перед ним сидит человек и говорит ему как ни в чем не бывало: «Я переверну вверх дном твою жизнь. Я втолкну в самую гущу твоей жизни, полной блеска, суеты и женщин, твое дитя, дочь Ноэми. Я нарушу строй твоей жизни, я вскрою заповедное. Я разрушу строй твоей души».
– Я еще побуду здесь, чтобы приглядеться к тебе вблизи, – сказал каббалист. – А когда я привезу ее, и куда и как привезу, – я скажу тебе потом.
Рабби Габриель ушел, оставив Зюсса в бессильном бешенстве. Даже мальчишкой он никому не позволял, чтобы его так распекали и оставляли в дураках. Но он еще выскажет все старику, – он найдет нужные слова, он сорвет гнев на этом старом колдуне в потертом допотопном кафтане.
Однако в тайниках души он знал, что и в следующий раз будет сидеть перед ним так же тихо и смиренно.
В замке Фрейденталь перед графиней стояла ее мать, огромная жирная туша, которой даже двигаться было трудно. Древняя старуха с землистым крестьянским лицом и белыми как снег волосами, жестким алчным взглядом надзирала за замком и угодьями, притесняя челядь и крестьян и загребая деньги, размеренно, алчно, ненасытно.
Дав себе волю, графиня бесновалась и стонала:
– Конец, мать, всему конец! Прогнали. Удалили от двора. В Штутгарте на глазах у всего света он лобызает старую, тощую гусыню. Он хочет прижить с ней ребенка. Прогнали. Через тридцать лет прогнали, как шлюху, которая больше не годна для постели.
– Прижми его, дочка, – сдавленно-сиплым басом крикнула старуха. – Высоси из него все соки. Он платил, пока пылал, пусть платит больше, когда охладел. Прижми его! Выкачай из него все до последнего геллера.
– И Фридрих приложил к этому руку! – кипела графиня. Фридрих-Вильгельм был ее брат. – Задай ему, мать! Проучи его! Согни его! Прибей!
– Я его вызову, я послушаю, что он скажет, я его проучу, – обещала старуха. – Но это не так важно, – заключила она и застыла на месте, вся расплывшаяся от жира, огромная, точно азиатский идол, а землистое лицо лоснилось под белыми как снег волосами. – Ты прислала фуры с добром. Это хорошо, дочка. Шли побольше. Шли за границу. Иметь – в этом все. Владеть. Деньги иметь, добро иметь. Вот что важнее всего.
Графиня ждала, терзалась. Исаак Ландауер явился, отчитался, представил бумаги. Все денежные дела сошли блестяще, без заминки. Она спросила о каббалисте. Да, он как раз находится на пути в Вильдбад. Диктовать ему нелегко. Ее превосходительству надо набраться терпения, недели через две-три он доставит колдуна в Фрейденталь.
Едва старик уехал, как пришло известие о встрече герцогской четы в Тейнахе. Обставлено все было пышно и торжественно, совсем как при бракосочетании.
Затрапезная Элизабета-Шарлотта сшила себе и своим фрейлинам – кунсткамера огородных пугал, язвила графиня – богатые наряды. Были приглашены посланники иностранных дворов, заслужившие расположение герцогини, так же как малый совет парламента и весь кабинет министров. Ее брат, брат графини, увертливый, ехидный гад произнес тост за парадным обедом. Придворный оркестр играл:
Враг изгнан; от напасти Бог в добрый час избавил нас.
И ее брат, ее собственный брат стоял обнажив голову с постной миной, а Шютц, расчувствовавшись, клевал крючковатым носом. В тот же вечер давали балет «Возвращение Одиссея». Ах, как они все, должно быть, зубоскалили, когда злую Цирцею поглотила огнедышащая гора и как, должно быть, утирали слезы старые придворные перечницы, когда показывали добродетельную Пенелопу за прялкой. Но им придется ждать, долго ждать, чтобы ее поглотила огнедышащая гора. Затем герцогская чета удалилась, и во время супружеских объятий перед дверью опочивальни играл итальянский квартет. Приятного аппетита, Луке! Ну, как – вкусно? Ничего подобного тебе давно не случалось отведать. Смотри не наколись на кость! На следующий вечер был дан фейерверк, шипящие ракеты чертили на небесах огненные инициалы герцогини, а народ, набив брюхо даровыми герцогскими колбасами и налив пузырь даровым герцогским вином – без ее хозяйского глаза эконом прикарманит самое малое сто восемьдесят гульденов, – народ умиленно задирал носы вверх и орал: да здравствует герцогиня!
Получив донесение, графиня заперлась у себя и настрочила письмо, которое отослала с курьером в Штутгарт. Письмо, адресованное камердинеру герцога, включало чек на триста гульденов и обещание еще восьмисот, если он добудет ей крови герцога.
Письмо это было опрометчиво и нелепо, спустя несколько часов после отправки курьера графиня уже пожалела о нем. Никогда она не выпускала из рук таких документов. Впервые в жизни не дала она отбушевать, безрассудному гневу, прежде чем начать действовать. Виноват еще и Ландауер со своим несносно медлительным каббалистом.
Камердинер Эбергарда-Людвига, получив письмо, прикинул, что выгоднее. До празднества в Тейнахе он, пожалуй, выполнил бы волю графини. Теперь же, после тейнахской церемонии, не подлежало сомнению, что с графиней покончено. Из нее еще только и можно что выжать восемьсот гульденов или сотни на две больше, а кроме этого – ровно ничего. Герцог же рад избавиться от графини и будет благодарен за предлог изгнать ее из страны. Отсюда ясно, на какой стороне выгода. И камердинер отправился к председателю ландтага, стребовал с него за такую доблесть тысячу гульденов, а затем вручил письмо герцогу.
Эбергард-Людвиг, грузный, полнокровный человек, был так ошеломлен, что на мгновение застыл на месте. Потом резким жестом приказал слуге удалиться и зашагал взад и вперед по комнате, пыхтя, задыхаясь, сопя. Каждая кровинка закипала в нем глухой яростью. Значит, он обманут. Он, он, герцог, тридцать лет был обманут окаянной ведьмой и потаскухой. Все остальные: и бюргерская сволочь, сварливые торгаши из ландтага, и попы из консистории с мертвечиной и преснотой их проповедей, и плюгавый прусский король, и вечно обиженная, кислая как лимон Иоганна-Элизабета – все были правы, тридцать лет, тридцать лет! были правы в противовес ему, герцогу.
Гром и молнии! За свою жизнь он перебрал женщин всех мастей: белокурых, черноволосых, русых. Пленялся грудями маленькими, остроконечными, и пышными, расплывшимися; бедрами грузными и мальчишески стройными; ляжками тонкими, длинными, глянцевито-смуглыми и мягкими розовато-пухлыми. Он обладал томными, ленивыми, вялыми женщинами и неистовыми, пробиравшими до мозга костей. В него без памяти влюблялись многие женщины, великолепные, окруженные поклонением красавицы. А что ж, черт возьми! Он мужчина хоть куда, бравый, пылкий и к тому же в ореоле славы и величия. Ему предавались душой и телом и всей кровью, блаженно стонали в его объятиях. И были среди них получше, черт подери, куда лучше, чем Христль. Но ни одна не опутывала его так. Он брал их, смеялся и проходил.
Откуда именно Христль въелась ему в плоть и кровь, откуда же эта удручающая покорность, этот гнет, эта невозможность вырваться, если не от нечистой силы? А он ничего не замечал и жил, пропитанный ядом и дьявольскими чарами. Ах она потаскуха, ах чертовка! Строки давнишнего дознания лезли на него, превращались в чудовищные, уродливые образы. Черная корова с отрубленной головой, оскопленный козел. Наверное, она сделала себе куклу с его обличием, так называемый тераф, чтобы колдовскими чарами вселить в это изображение его сердце и живую кровь, и одному дьяволу девятихвостому известно, какие бесовские нечестивые действа творила она над заклятым.
Но теперь он открыл ее козни. Теперь конец всяким чарам и дьявольскому колдовству. Он ей покажет, что до последней капли изъял из себя ее адские отравы и сатанинские зелья.
Он написал указ, запечатал, созвал советников, офицеров. Поднялась торопливая, таинственная, сосредоточенная суета.
И уже на рассвете следующего дня в селении Фрейденталь появился отряд гусар. Солдаты подскакали к замку, заняли все выходы. Командир, полковник Штрейтхорст в сопровождении адъютанта прошел мимо трясущегося кастеляна в вестибюль. Тут его встретил дворецкий, за всеми дверьми взволнованно шепталась перепуганная и любопытствующая челядь. Ее превосходительство не принимает, торопливо заявил дворецкий, ее превосходительство еще в постели. Тогда он подождет минутку, невозмутимо возразил офицер и уселся. Сиятельная графиня нездорова, она просит извинения, она вообще никого принять не может, – настойчиво лепетал дворецкий. Если же господин полковник привез распоряжения его светлости, пусть благоволит передать их секретарю. Полковник по-прежнему корректно и сухо заявил, что очень сожалеет, но ему дано указание во что бы то ни стало лично переговорить с сиятельной графиней.
Тут появилась мать графини. Древняя старуха с землистым лицом гигантской тушей загородила дверь в покои дочери. Полковник отдал честь, невозмутимо и деловито повторил поручение. Старуха сиплым басом крикнула ему, чтобы убирался: он не хуже своего господина знает, что ее дочь – владетельная графиня, подчиненная одному императору. Офицер пожал плечами, он не законовед, ему дан такой приказ, и он предоставляет графине полчаса на одеванье, после чего велит взломать дверь. Осыпая полковника бранью, старуха как огромная глыба надвинулась на него: это нарушение законного порядка, они призовут в защитники швабское имперское рыцарство, и господин его жестоко поплатится за это, а его с позором отрешат от должности. Осталось всего двадцать шесть минут, был ответ полковника.
Графиня тем временем в лихорадочной спешке металась по комнатам, жгла бумаги, сортировала, запечатывала, отдавала секретарю. Она лежала в постели в роскошном ночном наряде, когда офицер ворвался к ней, и вскочила
– образец оскорбленной невинности. Слабым голоском спросила, чего от нее надобно. Господин фон Штрейтхорст извинился, но ему дан строгий наказ от самого сиятельного герцога препроводить ее превосходительство отсюда под эскортом. Визг камеристок, яростная, хриплая ругань старухи, обморок графини. Полковник непоколебим. Меж тем как старуха обзывала офицера убийцей, графиня, придя в себя, прошептала надломленным детским голоском, что она в его власти и что, конечно, он постарается увезти ее прежде, чем имперское рыцарство успеет оказать вооруженное сопротивление. Она очень серьезно больна, а это насилие совсем доконало ее, и если он будет настаивать на том, чтобы увезти ее в таком состоянии, она не выживет. Говорила она с трудом, задыхаясь, вокруг причитали камеристки. Четыре часа потребовалось полковнику, чтобы водворить ее в карету и увезти под конвоем всадников. День был хмурый, дождливый. Мать и две камеристки сопровождали графиню. На пути стояли, тупо глазея, ее крестьяне. Но фрейдентальские евреи собрались в своей молельне в великом страхе за живот и добро и молились о своей заступнице.
Графиню препроводили в Урах и там содержали в почете как особу высокого ранга, однако без права выхода из замка и парка. Она вела себя заносчиво, безжалостно тиранила или непомерно награждала слуг. Комиссарам герцога она отказывалась давать какие-либо показания под предлогом, что титул владетельной имперской графини дает ей право держать ответ перед одним императором. Когда же в дело вмешалось швабское имперское рыцарство с заявлением, что арест графини в вольном имперском рыцарском поместье Фрейденталь означает попрание его привилегий, тогда пришла очередь графини торжествовать, и ее поверенный подал в Вене жалобу в таком тоне, в каком еще никто не осмеливался выступать против Вюртембергской династии. По всей империи агенты ее сеяли слухи о том, сколь ненадежна законность в герцогстве, раз даже особе рыцарского достоинства свобода в нем не обеспечена. Исаак Ландауер, потихоньку покачивая головой, заявил послу Генеральных штатов, что при таких обстоятельствах крайне неразумно держать капиталы в Вюртемберге; слова его разнеслись по конторам крупных финансистов и оказали пагубное влияние. А в герцогской канцелярии тайный советник Шютц с величайшим вниманием и восхищением следил за уловками графини. Долгое время он давал ей полную волю; затем с помощью ее собственного брата разом и резко затянул поводья. Для начала нужно было утихомирить имперское рыцарство. Герцог ненавидел эту касту, как препону своим самодержавным правам, и постоянно враждовал с ней; кровь бросалась ему в голову при одном лишь упоминании о ней, и в приливе слепого бешенства он самолично вычеркнул из церковного песнопения «О дух святой, воззри на нас» следующие слова: «Благую силу в нас вдохни и рыцарством своим соделай». Но на сей раз ему пришлось побороть себя и уступить. Если рыцарство – сам черт, то уж графиня не иначе как чертова бабушка. Итак, он принял во внимание жалобу рыцарства, учтиво, по всей форме принес извинения и, кроме того, изъявил готовность удовлетворить ряд других требований, в частности пойти рыцарям навстречу в спорном вопросе об освобождении их от налога на вино. Рыцари поняли, что, упорствуя, они спасут только честь, а уступив, сберегут около семидесяти тысяч гульденов, и взяли назад свой протест. Тем самым потеряла смысл и жалоба, поданная в Вене.
Счастье отступилось от графини, рвение ее приверженцев стало дружно спадать. Шютц не замедлил воспользоваться этим спадом, чтобы окончательно разделаться с ней. Графиню перевезли в крепость Гоген-Урбах, где ее содержали в строгом заточении, не допуская никого из ее друзей. Одновременно были сняты плотины, долго сдерживавшие народный гнев. Теперь графиню повсюду поносили в пасквилях и карикатурах. В Каннштадте куклу с ее чертами под улюлюканье черни сперва понесли в публичный дом, а потом высекли и сволокли на живодерню. Тем временем мать посетила старшего сына. Увертливый, как угорь, холодно-надменный министр сидел, точно напроказивший шалун, пока старуха мать распекала его. Он оправдывался тем, что заносчивость и политическое честолюбие сестры всех их в конце концов привели бы к беде, а потому он решил вмешаться. Теперь, когда ее политическая роль кончена, он сделает все возможное, чтобы безболезненно обставить ее уход со сцены. Он отнюдь не посягает на ее имущество.
И действительно, графине с самого начала были предложены выгодные условия. Тут выяснилось, как тонко оборудовал дело Исаак Ландауер. Множество людей оказались заинтересованными в том, чтобы спасти вюртембергскую недвижимость графини. Этому содействовали и посол императора, и ее собственный брат, и управляющий удельными именьями – словом, все причастные к делу лица. Правда, ей пришлось уступить имения Брейц, Гохсгейм, Штеттен, Фрейденталь. Правда, ее обязали не предъявлять более никаких претензий к правящей династии и никогда более не переступать границ герцогства; но Исаак Ландауер напоследок вытянул для нее такую гигантскую сумму, о размерах которой даже ее евреи решались говорить только шепотом. И помимо того, за ней сохранили право пожизненно пользоваться доходами с целого ряда имений. Таким образом, она уезжала из герцогства одной из состоятельнейших дам в Римской империи. Усиленный военный конвой эскортировал ее за пределы страны. Вдоль всего пути стояли толпы, провожавшие ее улюлюканьем и комьями грязи. Впереди нее, позади бесконечной вереницей тянулись фуры с одеждой, утварью, произведениями искусства.
Лишь когда последняя подвода пересекла границу, в отдельной карете, гигантской неподвижной тушей проследовала ее мать, старуха с землистым лицом.
К гирсаускому прелату Филиппу-Генриху Вейсензе, советнику консистории и члену малого парламентского совета, прибыл гость, тайный советник Фихтель, приближенный князя-епископа Вюрцбургского. С давних пор были они друзьями
– изящный светский вельможа-протестант и невзрачный католик с узким и умным лицом, дипломат князь-епископского двора.
Оба – страстные любители ловких ходов, непроницаемые для окружающих, они лишь друг другу открывали тайны своих махинаций, как знатоки восхищались тонким и сложным механизмом вюртембергско-протестантской парламентской политики и придворно-католической дипломатии. Оба – выученик иезуитов и протестантский прелат – увлекались политикой как таковой, конечная цель мало трогала их, гораздо важнее было им ловкими, искусными ходами добиваться ее.
В герцогстве ценили Вейсензе, но большинству он внушал неприязнь. Непринужденная учтивость и подернутое скепсисом превосходство его разносторонне образованного ума создавали тонкую стену отчужденности и недоступности между ним и бесчисленными знакомыми, наполнявшими его просторные уютные покои. Он был превосходным математиком, был близким другом двух лучших в западной Германии богословов: скромного, вдумчивого, подлинно благочестивого Иоганна-Альбрехта Бенгеля и прямодушного, несгибаемого Георга-Бернарда Бильфингера.[20]
Его комментированное издание Нового завета, хотя и вышло в свет пока только частично, славилось далеко за пределами Вюртемберга, его мнение было решающим в малом парламентском совете.
Но его разносторонней деятельности недоставало огня. Правда, все, за что он ни брался, он выполнял с исчерпывающим знанием дела и добросовестностью. Но будь то Новый завет, или доклад в ландтаге, или разведение нового сорта плодов – ко всему он относился поверхностно, все ограничивалось игрой нервов, а не задевало его за живое.
По обширным покоям с длинными белыми занавесями на окнах бродила дочь его, Магдален-Сибилла, рослая, скромная девятнадцатилетняя девушка. Лицо у нее было смуглое, не по-женски смелое, большие синие сосредоточенные глаза поражали контрастом с темными волосами. Мать умерла рано, ровной, безразличной приветливости отца она чуждалась. Дружба с дочерью советника по юридическим делам при Штутгартском ландтаге Беатой Штурмин и чтение книг Сведенборга.[21] вовлекли одинокую девушку в пиетистские круги[22]
Надо сказать, что в эту пору страна кишела библейскими обществами, молитвенными собраниями. Невзирая на запреты и кары, в герцогстве то и дело объявлялись пророки и ясновидящие, порождение тяжелых времен. Правда, в маленьком Гирсау не водилось святых, вроде штутгартской приятельницы и наставницы Магдален-Сибиллы, слепой Беаты Штурмин, которая молитвой единоборствовала с богом, приставала к нему с обетами, требуя, чтобы он внял им, вымогала у него прорицания, открывая наугад библию. Зато в этом тихом городке проживал некий магистр Якоб-Поликарп – Шобер, читавший сочинения де Пуаре, Беме, Буриньон, Лид, Арнольда,[23] а также запретные книги о вечном евангелии и обществе филадельфов, человек безобидный и чудаковатый, который кротко совершал свой жизненный путь и любил длинные, мечтательные прогулки. Он-то и организовал в Гирсау библейское общество, в которое вошла и Магдален-Сибилла, дочь прелата. Погрузившись взглядом больших синих глаз, осененных темными волосами, в далекую мечту, сидела она, рослая и красивая, с лицом не по-женски смелым и смуглым, среди набожных, убогих, обездоленных, худосочных, одряхлевших членов Collegium Philobiblicum,[24] искала прорицаний в открывшихся наугад местах библии, молитвой единоборствовала с богом, дабы он просветил ее отца своей благодатью.
Вюрцбургский тайный советник был ей глубоко противен, и она горевала, видя, что отец подпал под его мирское языческое влияние. Католик привез с собой новомодного зелья, придуманного каннибалами. Называлось оно кофе, и тайный советник требовал, чтобы ему из этого зелья приготовляли черный напиток с крепким запахом. Испуганным, возмущенным взглядом смотрела Магдален-Сибилла, как отец тоже отведывает дьявольского питья, и ревностно молилась, чтобы господь не попустил его отравиться.
Итак, оба друга сидели за этим напитком или за вином и без конца толковали о суетных делах государства и нечестивого Вавилона – церкви, о политике и деньгах, о конституции, о званиях и военных чинах, о тяжбах. Хотя им, как слугам Христовым, более приличествовало бы славить всемогущество божие.
Естественным образом тайный советник упомянул и о Карле-Александре, который недавно гостил у князя-епископа. Вейсензе тоже знал принца. Весьма галантный кавалер. Имя его гремит от нижнего Дуная вплоть до Неккара. Прекраснейший побег на Вюртембергском кедровом древе. Тайный советник заговорил о финансовых затруднениях принца, он даже как будто подал в ландтаг ходатайство об увеличении ему апанажа. Да, Вейсензе читал ходатайство, слог показался ему знакомым. Уж во всяком случае не в канцелярии принца составлялся этот документ; теперь только ему пришло в голову, что некоторые обороты напоминают стиль его высокочтимого друга, заключил он с улыбкой.
Друзья благодушествовали в вечерней прохладе, попивали кофе, но едва речь зашла об этом деле, ответы и вопросы замедлились, стали обдуманней, а под маской равнодушия притаилась настороженность. При теперешней ситуации, осторожно нащупывая почву, начал Вейсензе, стоит подумать о том, чтобы выдать прославленному принцу небольшое вспомоществование.
По человечеству, это, конечно, очень порадовало бы епископа, медленно отвечал тайный советник Фихтель, и на его узком умном лице было написано, как продуманно строит он фразы, чтобы в них ничего не говорилось и все подразумевалось. Епископ ведь большой друг принцу. Но епископскому престолу как таковому абсолютно – пусть его высокочтимый друг верно истолкует смысл этих слов, – абсолютно не важно, окажет ли ландтаг помощь принцу или нет. Епископская казна не страдает недостатком средств, и его преосвященство уступил вюртембергским парламентариям честь помочь принцу в нужде единственно из учтивости и ни по какой иной причине. Тайный советник умолк, отхлебнул кофе.
Вейсензе пристально поглядел на него и молвил мягко:
– Если я верно вас понял, дорогой мой, епископу действительно не важно, дадим ли мы деньги или нет.
Они поглядели друг на друга внимательно, приветливо. Потом заговорил католик:
– Если бы я заседал в совете, то голосовал бы против. Именно сейчас, после того как пала Гревениц, не надо никаких поблажек правящей династии.
И оба дипломата учтиво, понимающе, одобрительно улыбнулись друг другу тонкими, узкими губами.
Когда просьба принца была поставлена на обсуждение в совете ландтага, ее совсем уж собрались удовлетворить. После отставки графини одиннадцать избранников были настроены на снисходительный и великодушный лад. Докладчиком выступал грубоватый, горластый бургомистр Бракенхейма Иоганн-Фридрих Егер. По его мнению, принц Карл-Александр – большой вельможа и фельдмаршал, поддерживает во всем свете престиж Вюртемберга и насаждает трепет перед швабской отвагой и швабским кулаком среди арапов, турок и прочих язычников; а тут еще и герцог сплавил распутную рябую тварь. Отчего же не сделать широкий жест и не ассигновать принцу просимую им тысячу-другую гульденов. Таково приблизительно было настроение и у остальных. Но тут поднялся Вейсензе и обычным своим мягким вкрадчивым голосом как бы вскользь заметил, что великодушие и широта взглядов его почтеннейших коллег достойны всяческой похвалы и доблестному герою деньги, конечно, дать следует. Вопрос только в том, целесообразно ли именно сейчас идти навстречу кому-либо из членов герцогской семьи. Герцог наконец-то покончил с графиней – превосходно. Но ведь, в сущности, он только исполнил свой прямой и священный долг, и если мы поспешим отблагодарить его особой предупредительностью, мы тем самым признаем, что это было с его стороны одолжение, а не обязанность, и задним числом санкционируем упорство, которое он проявлял тридцать лет кряду.
Члены совета покачали тугодумными головами, заколебались и тут же согласились с Вейсензе. Он нащупал самое слабое место. Да, правильно! Покажем герцогу: ни малейшей уступки. Наши привилегии – не только на бумаге, мы пользуемся ими. Это чего-нибудь да стоит.
Просьба его высочества принца Карла-Александра, имперского фельдмаршала, была отклонена.
Рабби Габриель жил в Вильдбаде тихо и уединенно. Перед вечером он обычно совершал прогулку по окрестностям. Погода стояла теплая, но сырая и дождливая. Он шагал тяжелой поступью, сутуля спину, подняв голову, устремив взгляд в пространство. Хоть он и был невзрачен, но при виде его люди умолкали, дивились, терялись. Молва неслась ему вслед, толки о Вечном жиде возникли вновь. Власти трижды проверяли документы бесстрастного, хмурого гостя. Все было в порядке. Он был натурализован Генеральными штатами, как мингер Габриель Оппенгеймер ван Страатен, в его паспорте стояла просьба ко всем властям оказывать ему всяческое содействие.
До принца Карла-Александра, понятно, тоже дошли слухи о странном приезжем и о том, что он как-то связан с его придворным евреем, с Зюссом. А принца мало-помалу начали одолевать скука и нетерпение, уж очень долго ждал он денег от ландтага. В Венеции, да и в других местах он, подобно многим знатным господам, увлекался астрологией и прочей магией; а главное, друг его, князь-аббат в Эйнзидельне, в свое время усиленно предавался такого рода занятиям. В последний раз в Вюрцбурге он тоже рассказывал о маге, которого держал у себя при дворе и в чье искусство очень верил. Поэтому принц напрямик потребовал от Зюсса, чтобы тот доставил к нему каббалиста. Зюсс всячески отвиливал. Он знал, что рабби Габриель ни за что не согласится на такое представление. Под конец он нашел выход. Он известит принца, когда рабби будет у него. Если принц соизволит заглянуть в это же время, то они встретятся как бы невзначай. Карл-Александр, смеясь, выразил согласие.
Каббалист заявил Зюссу:
– Итак, я привезу девочку в Швабскую землю. Поблизости от Гирсау я нашел совсем уединенную усадьбу. Вели купить ее. Дом расположен посреди леса, вдали от людей. Никакое зло не настигнет ее там.
Зюсс молча кивал.
– Хорошо бы и тебе удалиться от здешней жизни и всяких дел, – продолжал рабби Габриель обычным скрипучим голосом. – Когда ты пристанешь к спокойному берегу, тогда и сам увидишь, что вся эта шумливая суетня – попросту кружение в пустоте. Впрочем, глупо с моей стороны уговаривать тебя, – заключил он сердито. Он увидал лицо Зюсса, увидел мясо, кости и кровь, но света не увидел, и досада поднялась в нем, что глубокая, таинственная зависимость именно от этого человека обрекает его терпеть все новые поражения. Сколько же потоков должно совершить кругооборот, прежде чем из этого камня забьет жизнь!
Только он собрался уйти, как дверь распахнулась, и мимо вытянувшихся в струнку слуг в комнату, прихрамывая, шумно ворвался принц:
– А, у еврея гости? – С этими словами он бросился в кресло.
Рабби Габриель поклонился, не очень низко, без суетливости, и бесстрастным внимательным взглядом окинул принца, меж тем как Зюсс замер в низком поклоне. Под взглядом спокойных блекло-серых глаз каббалиста принц утратил обычную шумливую самоуверенность, тягостное молчание сковало всех троих, пока Зюсс не прервал его:
– Дядя, это его высочество, принц Вюртембергский, мой августейший покровитель.
И так как рабби Габриель молчал по-прежнему, принц сказал, смеясь, и смех его звучал не очень естественно:
– Верно, ты и есть таинственный незнакомец, о ком здесь все болтают? Ты
– алхимик, умеешь делать золото, да?
– Нет, – невозмутимо отвечал рабби Габриель. – Я не умею делать золото.
Принц снял перчатку и похлопывал себя ею по ляжке. Ему было не по себе от пристального взгляда горящих тоскливо тусклым огнем огромных черных глаз на широком безбородом лице с небольшим приплюснутым носом. Он представлял себе мага совсем иным; ему припомнилось, какое щекочущее любопытство обычно возбуждало в нем то, что происходило на сеансах черной магии. А тут ощущается такой гнет, словно из комнаты понемногу выкачивают воздух.
– Я очень интересуюсь алхимическими экспериментами, – сказал он немного погодя. – Если бы вы поселились у меня в Белграде, – он перешел на более вежливое вы. – Я хоть и не богат, ваш племянник знает это, вероятно, лучше меня, но приличное годовое содержание обеспечить мог бы.
– Я не алхимик, – повторил каббалист.
Снова молчание, которое струей томительной тоски заполняло комнату, обволакивало, сковывало людей, вытесняло их уверенность, беспечность. Внезапно, резким движением, точно желая силой разрубить путы, принц поднес левую руку к самым глазам каббалиста.
– В этом-то вы мне отказать не можете, маг! – загремел он с натянутым хохотом. – Что вы по ней читаете? Говорите же! – И ткнул ладонью ему в лицо. Рука и в самом деле была необыкновенная. Узкая, длинная, волосатая и костлявая с тыльной стороны, а ладонь мясистая, пухлая, короткая.
Рабби Габриель невольно бросил взгляд на эту руку. Едва подавив движение страшного испуга, он отступил на полшага. Жуть, спускаясь серым туманом, сгущалась, давила.
– Говорите же! – настаивал принц.
– Прошу вас, увольте меня! – едва владея собой, ответил каббалист.
– Если вы предскажете мне дурное, неужто, по-вашему, я упаду без чувств, как худосочная девица? Я побывал в сотнях сражений, я дрался на дуэли через носовой платок, смерть не раз просвистала на волосок от меня.
– Он попытался засмеяться. – Неужто, по-вашему, я не выдержу, если старый еврей напророчит мне беду? – И так как рабби Габриель по-прежнему молчал:
– Да не прячьтесь вы за свое упрямство, точно улитка в свою раковину. Я жду, мой Калхас, мой Даниил.[25]
– Прошу вас, увольте меня! – повторил каббалист. Он не возвысил голоса, но глаза его застывшими озерами глянули на принца так, что тот на миг онемел. Резко, глубоко врезались три короткие борозды в широкий лоб рабби, точно чуждая, зловещая буква; Но тут принц заметил Зюсса, который испуганно и настороженно держался в стороне, и его взорвало, что он в таком смешном и приниженном виде стоит перед стариком, и, вновь ткнув руку ему в лицо, он повелительно крикнул:
– Говори!
Рабби Габриель заговорил, и его ворчливый будничный тон так зловеще диссонировал с возбуждением принца, что никакие высокопарные жесты и магические пассы не могли бы сравниться с этим.
– Я вижу первое и второе. Первого я вам не скажу. Второе – княжеская корона.
Принц фыркнул, явно пораженный:
– Mille tonnerre! Вы не скупитесь, господин маг. Одно только золото и пурпур. Не то что у иных прочих хиромантов и астрологов: великий почет, престиж и прочее и прочее. А тут прямо, просто и ясно – княжеская корона. Черт побери! Не завидую моему кузену.
Рабби Габриель ничего не ответил.
– Я уезжаю нынче вечером, – обратился он к Зюссу. – Как я тебе сказал, так и будет. – Он поклонился принцу и ушел.
– Твой дядюшка не очень-то учтив, – сказал Карл-Александр Зюссу и попытался смехом спугнуть растерянность.
– Будьте снисходительны к нему, ваше высочество, – поспешил ответить еврей, силясь тоже совладать с волнением. – Он брюзга и чудак. Пускай манеры его достойны порицания, тем приятнее то, что он сказал, – заключил Зюсс, совсем оправившись и став самим собой.
– Да, – заметил принц, глядя вдаль и водя шпагой по рисунку паркета, – а то, о чем он умолчал…
– У него довольно дикие понятия, – успокоительно заметил Зюсс. – То, что для него невесть какое страшное событие, над тем мы, люди со здравыми взглядами на жизнь, можем только посмеяться. Княжеская корона – это нечто реальное. Беда же, о которой он не пожелал говорить, нам бы, без сомнения, показалась бредом и заумной материей.
– Княжеская корона! – смеялся принц. – Твой дядя заглядывает чересчур далеко. Смерти придется основательно поработать, чтобы расчистить дорогу для меня. Пока что мой кузен и его взрослый сын оба живы и вовсе не собираются на тот свет. Наоборот, герцог даже помирился со своей герцогиней, чтобы прижить с ней побольше здоровых детишек. – Принц встал, потянулся. – Ну-ка, еврей! Не выдашь ли мне закладную под вюртембергский престол? – И с громким хохотом хлопнул Зюсса по плечу.
Тот благоговейно заглянул ему в глаза:
– Я всегда готов служить вашему высочеству всем, что имею. Всем, что имею, – повторил он.
Принц оборвал хохот и поглядел на финансиста, который стоял перед ним с серьезным и еще более почтительным, чем обычно, видом.
– Довольно шуток! – вдруг промолвил Карл-Александр, повел плечами, словно сбрасывал чуждый и докучный груз, и выпрямился. – Моя козочка просила купить ей турецкие туфельки с голубыми камешками, – сказал он привычным тоном. – Добудь мне такие, еврей! И самые лучшие! – Он направился, чуть прихрамывая, к двери. – Только не сдери с меня больше трех дукатов, – бросил он на ходу и громко захохотал.
Рабби Габриель выехал из Вильдбада обыкновенным почтовым дилижансом. Приземистый, чуть сутулый, в добротном кафтане старомодного покроя, какой носили в Голландии двадцать лет назад, он напоминал ворчливого бюргера или угрюмого чиновника. До его появления в дилижансе шла легкая живая беседа, теперь же все смущенно притихли, а сосед рабби Габриеля незаметно отодвинулся от него.
Едва дилижанс выехал из города, как ему повстречался пышный кортеж. Это Регенсбуржец, князь Ансельм-Франц Турн и Таксис с великой помпой и большой свитой переселялся в снятый им лесной замок Эрмитаж. Князь, изящный пожилой господин, с удлиненным, весьма аристократическим черепом, по форме напоминавшим голову борзой, был вдовцом и ехал в сопровождении единственной своей дочери, Марии-Августы. Принцесса, чья красота славилась далеко за пределами Германии, изображением своим на бесчисленных картинах и пастелях воспламеняя почитателей, сидела подле отца с безучастностью красивой женщины, знающей, что множество глаз следит за каждым ее движением. С томным любопытством заглянула она в окно переполненного дилижанса, и ее легкая, чуть насмешливая, высокомерно приветливая улыбка не померкла перед взглядом каббалиста. Отец в своей обычной деликатной манере заранее намекнул ей, что по прибытии в Вильдбад ей придется принять важное и, как он надеется, приятное решение. И вот теперь она ехала в блистательной карете, склонная ответить скорее да, чем нет на любую перемену, молодая, томная и все же жадная до жизни. Из-под блестящих черных волос грациозно, по-ящеричьи, выглядывало матовое личико цвета старого благородного мрамора; овал был заостренный, глаза продолговатые, ясный, нежно очерченный лоб, нос тонкий с горбинкой, а рот маленький, пухлый, насмешливый.
Вильдбадские дамы были вне себя от прибытия новой гостьи. Курляндской принцессе и дочери посла Генеральных штатов ничего не оставалось, как заявить, высокомерно скривив рот, что эта Турн и Таксис кокетка, падкая до мужчин. А та, высоко подняв грациозную головку, с томной, загадочной улыбкой шла своим путем через ряды почитателей.
Тот вечер, когда принцесса Мария-Августа впервые предстала перед обществом, оказался счастливым вечером для Иозефа Зюсса. В отличие от других кавалеров, он подчеркнуто не сделал ни малейшей попытки быть представленным регенсбургским высоким особам. В то время как, например, молодой лорд Сэффольк, обезумевший, обмирающий от внезапной страсти, казался смешон, Зюсс не покидал забытых теперь дам, за которыми ухаживал и прежде и которые нынче вдвойне благоволили к нему. Изредка лишь, украдкой от дам, устремлял он свои большие карие глаза на принцессу, и тогда его очень белое лицо принимало выражение такого раболепно-благоговейного восторга, что Мария-Августа с бесцеремонным любопытством поглядывала на стройного, элегантного кавалера. Вообще же она грациозно, с обычной, чуть насмешливой, волнующей улыбкой, двигалась посреди всеобщего поклонения.
Тот, кто прежде бывал центром подобных празднеств и на кого заранее постарались обратить ее внимание, Карл-Александр, принц Вюртембергский, фельдмаршал императора, герой Белграда, Петервардейна и многих других баталий, против ожидания, на вечер не явился.
Гневный, сидел он у себя в комнате в гостинице «Звезда», а на столе горела одна свечка. Он сидел в шлафроке, раненая подагрическая нога, которая особенно ныла сегодня, была обернута одеялами, он сидел перед строем бутылок и графинов. Из темноты время от времени появлялся камердинер Нейфер, чтобы наполнить стакан, а в сторонке примостился на корточках чернокожий. Принц сидел, пил, бранился. Бранными словами на всех языках, отборной солдатской руганью честил он ландтаг. Днем он обыкновенной почтой получил послание парламентского совета, в котором прямо, без обиняков отклонялась его просьба о ссуде.
Карл-Александр кипел. Ведь он был популярен в герцогстве, его портрет висел чуть не во всех горницах, народ встречал его криками «ура»! А эти парламентские канальи, эти зажиревшие сопляки и кичливые плебеи шлют ему такую пакостную мазню.
Так он сидел, пил, бранился. Потом вдруг сорвал меховую полость, которой Нейфер обернул ему ногу, и зашагал взад и вперед. Корона! Старый жид предсказывал ему корону! Вот шарлатан! Хороша корона! Он, Карл-Александр, – босяк и проходимец, раз чернь смеет швырнуть ему в лицо такую пакостную писанину. Он бранился так люто и кощунственно, что возвращавшийся с празднества Зюсс, перепугавшись, тут же ночью пристал с расспросами к камердинеру. Но Нейфер, не терпевший еврея, не пожелал ответить.
Назавтра, среди дня, после двукратных тщетных попыток, Зюсс наконец был допущен к принцу. Он бесшумно вошел в комнату, на нем были новые чулки особого фасона, которые ему хотелось показать принцу; его высочество всегда изволили интересоваться вопросами моды. Кроме того, он хотел рассказать о вчерашнем празднике. Но таким гневным он еще никогда не видел принца. Голым колоссом стоял Карл-Александр посреди комнаты, а Нейфер и чернокожий лили на него ушатами воду и растирали его. Он швырнул Зюссу послание ландтага, и пока тот, притихнув, пробегал письмо, принц, отплевываясь и отряхиваясь, накинулся на него:
– Хорош маг твой дядюшка! Здорово ты мне удружил им. Недурная у меня корона!
Зюсс был искренне возмущен грубым ответом ландтага и принялся было в изысканных выражениях высказывать принцу свое негодование по поводу подобной наглости и свою готовность служить ему. Но принц, озлобленный против всех, увидав, как франтоватый Зюсс стоит и держит в руке подлое письмо, неожиданно приказал:
– Нейфер! Отман! Окрестите еврея! Пусть учится плавать!
Камердинер и чернокожий немедленно выплеснули на Зюсса целый каскад мыльной воды, а собачонка принца, тявкая, бросилась на него, и перепуганный еврей поспешно ретировался в насквозь промокших штанах и новых чулках, в попорченных башмаках, под громкий хохот принца и слуг.
Зюсс даже не подумал обижаться на фельдмаршала. У знатных господ всякие бывают причуды, так уж оно повелось. Они имеют на это право, и роптать тут не приходится. Снимая мокрую одежду, он решил, что в следующий раз явится еще более покорно свидетельствовать свой решпект и, наверно, будет лучше встречен.
В тот же день прибыл вюрцбургский тайный советник Фихтель. Невзрачный человечек, с узким и умным лицом, тут же, не мешкая, посетил принца.
Да, до вюрцбургского двора уже дошла весть о неожиданном и неслыханном афронте, учиненном ему ландтагом. Светлейший князь-епископ полон гнева и презрения по поводу мелочного и беспардонного скопидомства, коим глупые и наглые плебеи осмелились оскорбить столь великого и славного полководца. Но в премудрости своей владыка нашел другое средство помочь принцу, в назидание зазнавшимся выскочкам и к вящему их конфузу.
Прежде чем изъясниться точнее, тайный советник попросил милостивого соизволения приготовить себе кофейный напиток, к которому он привык. Сидя за горячим черным отваром, вдвойне невзрачный на вид рядом с рослым принцем, он осторожно и обстоятельно принялся излагать проект брака с принцессой Турн и Таксис, первой красавицей Римской империи и вдобавок богатейшей наследницей. К тому же дерзкие смутьяны-парламентарии позеленеют от досады, если принц перейдет в католичество. Разумеется, светлейший князь-епископ готов оказать поддержку принцу, даже в случае его отказа от такого альянса. Но этот выход он считает наилучшим и от души желает его высочеству получить большое приданое и красавицу жену, а парламентариям позеленеть и почернеть от досады. И тайный советник продолжал мелкими глотками безмятежно потягивать свои излюбленный напиток.
Когда Фихтель удалился, Карл-Александр зашагал взад и вперед по комнате, голова у него трещала после одинокой ночной попойки, он тяжело переводил дух, запустив руку в свои густые белокурые волосы. Вот уж хитрецы так хитрецы! В католики хотят его обратить. И это Шенборн, это Фридрих-Карл, славный, веселый закадычный друг-приятель. Ну и хитрец!
Он расхохотался. Черт возьми! Ловкий фортель. Большинство высшего офицерства – католики, а католики лучшие солдаты. Он, со своей стороны, после Венеции стал очень терпим в религиозных вопросах, католическая месса всегда ему нравилась, для солдата католичество – с ладаном, образами, облачениями, – пожалуй, самое подходящее дело. А если он таким образом угодит своим вюрцбургским и венским друзьям, тем лучше. Себе он так или иначе ущерба этим не нанесет. Красивая, богатая принцесса. Конец вечным ламентациям и мучениям из-за каждого дурацкого талера. И что за превосходную, ехидную шутку он тем самым сыграет над строптивым ландтагом! Гром и молнии? Во всяком случае, надо поглядеть на регенсбургскую красотку.
Когда Зюсс явился на другой день, принц был в отличном настроении и встретил его громогласным вопросом:
– Высох, еврей? Крещение пошло на пользу?
– Да, – отвечал Зюсс, – если ваше высочество развлеклись им.
– А если я теперь потребую тридцать тысяч гульденов, дашь ты мне их?
– Только прикажите!
– А потом возьмешь меня за горло, выжмешь из меня все соки? Эге! Я нашел теперь такого, что даст мне денег без единого гроша процентов!
– Вы взяли себе другого финансиста? – испуганно спросил еврей.
– Нет, – благодушно засмеялся принц. – Пока что ты мне нужнее, чем прежде. Я пробуду здесь еще не меньше двух недель; но только мне хочется выбраться из этой дыры, именуемой гостиницей. Найми для меня виллу Монбижу. Оборудуй все, мебель и штат, так, чтобы и в Версале ни к чему не могли бы придраться. Я назначаю тебя моим гоффактором и казначеем.
Зюсс поцеловал принцу руку и рассыпался в благодарностях.
Карл-Александр послал чернокожего в замок Эрмитаж спросить, когда он может явиться с визитом. Отправился он туда, несмотря на краткий путь, в своей громоздкой карете, которая хоть и была заново полакирована, однако имела довольно устарелый вид; но Нейфера и кучера Зюсс успел нарядить в новые ливреи.
В Эрмитаже фельдмаршалу был оказан весьма любезный прием. Кроме князя и Марии-Августы, при этом присутствовали еще главноуправляющий турн-и-таксисовскими владениями и тайный советник Фихтель. Франц-Ансельм фон Турн и Таксис был человек поживший и многоопытный, заядлый скептик. Благожелательный, живой и любопытный, с чинными безукоризненными манерами, он любил общество, был не прочь позлословить и не верил ни в бога, ни в черта. У них с принцем нашлось много общих знакомых при венском дворе, в Вюрцбурге, в армии, среди международной аристократии. Князь бросал короткие язвительные замечания, Карл-Александр говорил много и оживленно, подтверждал, оспаривал. Князь учтиво склонял изящную, удлиненную, как у борзой, голову, слушал внимательно. Карл-Александр понравился ему. Конечно, он грубоват, часто несдержан, что не полагается; и суждения его не всегда правильны. Но он обладает темпераментом и, mon Dieu, он фельдмаршал, герой, от него требуют побед, а не ума.
Мария-Августа сперва говорила мало. Она восседала весьма величественно в сизо-сером бархатном платье, жеманно и скромно, как требовал этикет, придерживая пухлыми, холеными ручками верхние складки широко раскинувшейся робы. Белоснежные округлости рук, обнаженных до локтя, выступали из-под венецианских кружев. Матовым сиянием старого благородного мрамора светились прикрытые кружевами плечи, грудь и обнаженная стройная шея. Грациозно, по-ящеричьи, выглядывало из-под блестящих черных волос пастельно тонкое личико. Своим уклончивым, но живым и внимательным взглядом она с нескрываемым благосклонным любопытством озирала принца, который рядом с ее субтильным отцом казался особенно широкоплечим и мужественным.
Тайный советник Фихтель напомнил об одном из геройских подвигов Карла-Александра. Мария-Августа рассказала, глядя при этом на принца, как она была в Вене на итальянской опере «Герой Ахилл» и как Ахилл, повергнув врага, долго пел что-то весьма благородное и задушевное.
– Да, – заметил князь, – античные герои вообще отличались величием души.
Карл-Александр заявил, что он действует всегда под влиянием момента и, пожалуй, не слишком склонен к великодушию. На что принцесса, вперив взгляд в смутившегося гостя, с усмешкой возразила, что речь шла вовсе не о нем. Все засмеялись.
Тут подали прохладительные напитки, а для невзрачного вюрцбургского тайного советника кофе.
Белокурому вюртембуржцу чрезвычайно понравилась чернокудрая принцесса. Mille tonnerre! Если этакая женщина будет хозяйкой бала в обширном Белградском дворце, то-то вытаращат глаза все турки и венгры и разные тамошние дикари. Такой губернаторшей можно щегольнуть и в Вене и где угодно. А кстати, она принесет в приданое дукаты, потребные для реставрации разоренного Белградского дворца. Верно, что хитрец этот вюрцбуржец, этот Шенборн, но и друг, черт подери, истинный друг и добрый приятель, раз откопал для него такую диковинку. И ведь она не только импозантна. Бесенок – тут его не проведешь. Что за глаза, что за рот! Лакомый кусочек для постели. Он сиял и еле удерживался, чтобы не прищелкнуть языком. Вся целиком – истая принцесса, начиная с изящной пряжечки в черных глянцевитых волосах – видно, денег у этих регенсбуржцев до черта – и кончая атласным башмачком, который время от времени выглядывает из-под пышной бархатной робы. Да, принцесса и вместе с тем женщина хоть куда! Совсем не то, что дурлахская кислятина, жена его кузена-герцога. Здесь не потребуется вмешательства императора и всей страны, чтобы приживать с ней детей. И как рассудительно щебечет! А как язвит, бесенок, и дразнит его и поводит глазами! До чего же красиво они получатся вместе на картинах. То-то вытаращит глаза Эбергард-Людвиг. Ему, Карлу-Александру, не придется разоряться на какую-нибудь шлюху. Его законная супруга будет красивей и аппетитней в постели, чем самая дорогая заграничная метресса, и к тому же наполнит, а не опустошит его кошелек.
А парламент! А окаянные бюргерские канальи! У него перехватило дыхание от восторга. Да ведь они скиснут, позеленеют и скиснут от досады. Прямой смысл стать католиком.
Он поглядел на Марию-Августу, – князь был поглощен беседой с двумя другими гостями, – поглядел на нее оценивающим, беззастенчивым, неприкрыто плотоядным взглядом солдата, привыкшего без долгих церемоний швырять женщину на кровать, и принцесса растворилась в этом взгляде вместе со своей неизменной, еле уловимой загадочной улыбкой.
Уходя, Карл-Александр твердо решил стать католиком.
Иозеф Зюсс обставил замок Монбижу весьма пышно, особенно гордился он маленькой галереей и смежной с ней желтой гостиной. Впрочем, мебель для этой гостиной раздобыл Никлас Пфефле, толстяк флегматично перевернул вверх дном лавки и мастерские по всей округе. И вот новое жилище фельдмаршала заблистало во всей красе; принц похлопал Зюсса по плечу:
– Ты прямо колдун, Зюсс. А на сколько ты меня при этом надул?
Чернокожий очень удачно выделялся на таком фоне. Принц сиял от удовольствия, и даже Нейфер, который имел зуб против еврея и постоянно старался поддеть невозмутимого Никласа Пфефле, даже Нейфер вынужден был признать, что и он не сделал бы лучше.
Не поскупился на похвалы и тайный советник Фихтель, которому Карл-Александр показал свои новые апартаменты, прежде чем задать там первый бал. Но про себя нашел во всем душок безвкусицы, претенциозности и посоветовал принцу кое-что убрать и снять. Своему повелителю, князю-епископу, он сообщил, что принц доверился вкусу некоего иудея; не удивительно, что меблировка у него в несколько восточном вкусе, и его Вильдбадский замок скорее смахивает на Иерусалим, чем на Версаль.
То же самое отметил про себя и старый князь Ансельм-Франц во время празднества, устроенного Карлом-Александром. Правда, старый князь, придававший большое значение наружности, был сильно раздосадован тем, что его светло-желтый кафтан не имеет никакого вида на фоне бледно-желтой гостиной Монбижу. Карл-Александр предложил вниманию гостей маленькую комическую оперу «Месть Цербинетты», зная, что Мария-Августа большая охотница до комедии, музыки и балета. Зюссу пришлось, через посредство матери, проживавшей во Франкфурте и сохранившей связи с театральным миром, наспех сколотить и доставить из Гейдельберга маленькую труппу.
Общество собралось небольшое, но изысканное. Принц хотел было исключить из него Зюсса, но в силу природного добродушия не устоял перед голодным, по-собачьи покорным взглядом своего фактора, и к величайшей досаде Нейфера еврей явился тоже. Гибкий и сияющий в затканном серебром светло-коричневом кафтане, скользил он среди гостей. Как будто весь праздник только для него и устроен, шипел про себя Нейфер.
Но ярче всех блистала в темно-малиновом атласе и парче Мария-Августа. Лента фамильного ордена герцогов Турн и Таксис горделиво вилась по ее груди, буфы на рукавах были украшены алмазным знаком звезды, пожалованным ей императором за какой-то патронат. Говорила она мало. Но принцессе Курляндской, а также дочери посла Генеральных штатов, которых она приветствовала с церемоннейшей учтивостью, как старших, – чудилось, будто изо всех углов доносится только ее томный детский голосок. Они дали себе слово не показываться нигде в обществе вместе с регенсбуржанкой, да и вообще они намерены уже на днях покинуть Вильдбад. Решение это они приняли независимо друг от друга, и Зюсс каждой из них одинаковыми словами выразил свое отчаяние.
Беседа шла о последней новости, дошедшей из Штутгарта: герцогиня как будто ощутила признаки беременности. Повивальные бабки и врачи поддерживали ее в этой надежде, консистория распорядилась уже читать молитвы о ее здравии, а любопытные ездили осматривать эйнзидельнский боярышник, который посадил Эбергард Бородатый[26] по возвращении из Палестины и который сейчас неожиданно дал новые побеги. Счастливый знак! Тайный советник Фихтель отпускал грубоватые скабрезные остроты, намекая на беднягу Эбергарда-Людвига и его скучные супружеские утехи по указке императора: от дружбы с Бранденбургом Вюртембергу всегда бывало не сладко, и тут тоже прусский король выступил в роли посаженого отца. Затем начались рискованные сравнения между физическими достоинствами герцогини и отставной любовницы Гревениц. Кавалеры, столпившиеся в сторонке вокруг тайного советника, фыркали, лицо старого князя покрылось похотливыми морщинками. Дамы заинтересовались причиной такого веселья. Зюсс осведомил их. В ответ – хихиканье. Кто-то подтрунил над евреем по поводу побегов палестинского боярышника. В ответ – оглушительный хохот. Даже загадочная улыбка на пастельном личике Марии-Августы вылилась в откровенный звонкий смех.
– Недурной маг твой дядюшка! – язвил Карл-Александр, – наследный принц благополучно женился, старый герцог производит на свет второго наследника. Недурно вы с дядюшкой-чародеем провели меня.
Мария-Августа никогда так близко не видала настоящего еврея. Она допрашивала с пугливым любопытством:
– Он убивает детей?
– Случается, только изредка, – успокаивал тайный советник Фихтель, – обычно он предпочитает знатных господ.
Нахмурив лоб, принцесса старалась себе представить, такими ли были евреи, распявшие Христа. Тайный советник поспешил ее уверить, что этот уж во всяком случае при сем не присутствовал.
Зюсс придерживался мудрой тактики: не навязывался принцессе и довольствовался тем, что на почтительном расстоянии пожирал ее пылкими взглядами выпуклых глаз. После оперы она пожелала, чтобы его представили ей. И была польщена его раболепной покорностью.
– Он совсем как все люди, – удивленно сказала она отцу.
Карл-Александр выиграл в ее глазах благодаря своему приятному и галантному придворному еврею. И даже под волнующим впечатлением его первого поцелуя, когда он еще весь был напоен теплом ее полных сладострастных губок, она, расправляя платье, с улыбкой заметила:
– Что за потешный придворный еврей у вашей милости!
Вслед за тем они возвратились из будуара в залу.
Кстати, у принца возникло смутное, безотчетное ощущение, будто этот искусный и жгучий поцелуй – отнюдь не первый в ее жизни.
В парламентском совете одиннадцати царило мрачное настроение. Беременность герцогини оказалась обманом, а тут вдобавок пришло известие о предстоящей женитьбе принца Карла-Александра и его обращении – возвращении, как дерзко заявляли иезуиты – в католичество. А главное, говоря по совести, приходилось признать за собой долю вины за столь досадное обстоятельство, как перемена религии популярнейшим в стране лицом.
Прелат Вейсензе, с первых же донесений о знакомстве принца с регенсбургским семейством, понял, что вся эта затея – дело рук его приятеля Фихтеля и вюрцбургского двора. Усмехаясь, отдал он должное их ловкой тактике; но так как политика была для него всего лишь игрой, да и то не очень увлекательной, он и к вероотступничеству принца отнесся довольно безучастно. Конечно, он предвидел, что в малом совете на него будут смотреть косо, потому что в отклонении ходатайства принца был действительно повинен он. Но он рассчитывал, что в силу своего превосходства, хоть и возбуждавшего неприязнь коллег, теперь, как и всегда, возьмет над ними верх, и старательно приготовился к защите. Впрочем, он и сам искренне полагал, что переход принца в католичество вряд ли может иметь реальное значение. Хотя надежды на беременность герцогини лопнули как мыльный пузырь, на дороге принца к престолу оставалось еще много преград. Вейсензе серьезно усомнился в том, стоило ли иезуитам ради таких туманных перспектив тратить столько трудов на обращение принца. Что поделаешь, герцогству и его парламенту надо считаться с обстоятельствами и в политике своей не заглядывать далеко вперед, не то что католической церкви – он подавил завистливый вздох, – этой древней несокрушимой твердыне; хорошо иезуитам – свою политику они могут строить на века, имея в виду позднейшие поколения. Прежде всего совет одиннадцати обрушил на принца поток грубой, злой и бессмысленной брани. Наконец, Иоганн-Генрих Штурм – председатель и первый секретарь, разумный, степенный, положительный человек пресек нелепое и бесцельное сквернословие и предложил перейти к деловому обсуждению. Грубоватый бургомистр Бракенгейма напрямик брякнул, что настоящий виновник – Вейсензе, значит, он, черт возьми, и обязан исправить то, в чем сам же навредил.
Вейсензе, невозмутимо улыбаясь, заметил, что особого вреда он тут не усматривает. Раз принц так, здорово живешь, принял католичество, значит, истинная вера не много с ним потеряла. Католикам его обращение важно лишь в целях пропаганды, за фельдмаршала надо только порадоваться, что он избавился от вечных недохваток и не должен больше клянчить у ландтага. О каких-либо иных реальных последствиях, надо полагать, никто из досточтимых коллег даже не помышляет.
Но грубиян бракенгеймец стоял на своем: хотя герцогская чета, слава богу, еще полна сил и не лишена надежд на потомство, хотя наследный принц жив и здоров, но раз Рим ведет политику такого дальнего прицела, надо вовремя принять встречные меры.
Что ж, пожалуй, небрежно бросил Вейсензе. Можно, например, без каких-либо обязательств и под строгим секретом вступить в переговоры с братом Карла-Александра, Фридрихом-Генрихом. Просто так, на всякий случай, чисто академически. От этого благочестивого и кроткого принца никак нельзя ожидать угрозы ни свободе сословий, ни свободе евангелического вероисповедания.
В среде одиннадцати смущение, молчание, нерешительность. Не отдает ли это государственной изменой? Конечно, только чисто академически, только на всякий случай, только без каких-либо обязательств. И тем не менее?..
Штурм, председатель и первый секретарь, человек прямой и честный, был всей душой предан своему отечеству и не терпел таких иезуитских уловок, однако с глубоким прискорбием сознавал, что без них не обойтись. Но только когда уж никакого, решительно никакого иного выхода нет.
Советник ландтага по правовым вопросам, асессор вюртембергского верховного суда Вейт-Людвиг Нейфер – тот и слышать ни о чем подобном не желал. Нейфер, сравнительно еще молодой человек, с хмурым, испитым лицом и копной косматых черных волос над низким лбом, прежде был ярым противником монархов и пламенным поборником народных свобод. Со своим двоюродным братом, камердинером принца Карла-Александра, он самым демонстративным и оскорбительным образом порвал отношения, хотя они дружили с детства, вместе резвились и обучались наукам. Теперь же, увидев изнанку жизни, он впал в брюзгливую покорность: зло неотвратимо, и он с какой-то циничной жестокостью жаждал все больше и больше зла в подтверждение своего горького опыта. А тут, в связи с пребыванием принца в Вильдбаде, он столкнулся с двоюродным братом – камердинером; честно говоря, он сам искал этой встречи и помирился с ним, но по-своему – сварливо, язвительно и злобно. Оказалось, что тот прав.
По-видимому, так и должно быть, таков закон природы: немногие счастливцы возвышаются над всеми, а удел остальных – подличать и пресмыкаться. На вюртембергский престол может взойти католик? Тем лучше, на то и самодержавие и воля божья, а народ – черт с ним, с народом, пусть покоряется.
Увертливый Вейсензе все так же осторожно и невозмутимо развивал свою мысль. Белград далеко, и речь идет о чисто отвлеченных предположениях, о гарантиях на случай самого неправдоподобного стечения обстоятельств. Разумеется, письменных улик никаких быть не должно. А Corpus Evangelicorum,[27] безусловно, можно считать своим союзником.
Тупые мозги ворочались туго и опасливо. Самая отдаленная возможность иметь герцогом католика представлялась несуразной, немыслимой, выводила из равновесия! Католический государь рисовался не иначе как деспотом, тираном. А тем паче Карл-Александр при его связях с венским двором, этим исконным противником всякой свободы исповеданий, всякой парламентской независимости. Благодатные свободы! И носителями этих свобод были именно они, одиннадцать избранных, которые тут сидели, судили и рядили. Для них самих, для них лично, католический принц являлся угрозой.
Решено было, что Вейсензе вступит в переговоры с братом фельдмаршала, с кротким, безобидным протестантом, принцем Фридрихом-Генрихом. Но только совсем приватно, без каких-либо обязательств и под строжайшим секретом.
В Регенсбурге, в соборе, во время венчания Карла-Александра – колокольный звон, клубы ладана, блистательное общество. Император прислал своего представителя, папский нунций Пассионей явился с собственноручным рескриптом святого отца, присутствовали князь-епископ Вюрцбургский и весь цвет императорской армии, в том числе ближайший друг Карла-Александра, генерал Франц-Иозеф Ремхинген, питомец иезуитов, его багровое, одутловатое, огрубелое лицо лоснилось от винных паров под пудреным париком.
Прекрасней пары не сыщешь во всей империи. Принц высок и строен, точно кедр, в руке сверкает маршальский жезл, на груди – орден Золотого руна. Грациозное личико Марии-Августы цвета старого благородного мрамора сияет над белой парчой и атласом, грудь обвита лентой фамильного ордена Турн и Таксиса, на буфах рукавов – матово-золотая императорская звезда, на обнаженной шее – крест папского ордена. Мягкой, эластичной поступью вступила она в собор, неся свою юную, загадочную улыбку под венчальным убором, чудом ювелирного мастерства, – Зюсс исколесил всю Европу, по частям собирая его.
Держалась она весьма непринужденно, стараясь даже в этом благолепном торжестве отыскать крупицы комизма. Своим уклончивым взором она с томным любопытством оглядывала присутствующих, и пока епископ прославлял ее за то, что она вернула истинно христианской католической церкви великого победителя турок, бесстрашного льва в бою, она думала, что в течение всего пиршества тайный советник Фихтель будет, наверно, мечтать только о своем кофе. А как смешно, что еврей с торжественной миной тоже стоит в соборе. Впрочем, он очень мил и забавен и совсем не похож на страшилище, какими она раньше представляла себе евреев. По правде говоря, манжеты у него даже гораздо больше a la mode,[28] чем у ее мужа. Как смешно, – у нее теперь, значит, есть муж! Должно быть, еврей сейчас пожирает своими большими крылатыми глазами ее прикрытую фатой шею, и лицо у него белое-белое.
А праздничные свечи полыхали, орган гудел, ладан клубился, и хор мальчиков возносил в небо свои звонкие чистые голоса.
На другой день, пока серебряные фанфары сзывали на пиршество, новобрачные уже взошли на яхту, подаренную им князем, которая должна была везти их вниз по Дунаю. Ехали они с большой свитой егерей, слуг, гайдуков, камеристок. На носу примостился чернокожий Отман, скрестив ноги и устремив вдаль по течению бездонный взгляд довременного зверя.
На берегу стояли князь, вюрцбургский епископ, тайный советник Фихтель, а немного отступя, между ними и челядью, – Иозеф Зюсс. Веял легкий ветерок, погода была ясная, бодрящая, настроение у всех веселое. Пока подымали якоря, стоявшие на берегу и на палубе обменивались шутками. Мария-Августа в красивом красочном дорожном наряде стояла, заслонив глаза рукой, и глядела на удаляющуюся пристань. Князь и тайный советник уже отвернулись, последнее, что она увидела, была лукавая, довольная физиономия иезуита и элегантная, склоненная в позе раболепной покорности фигура еврея.
– Никогда не думала, – с улыбкой обратилась она к Карлу-Александру, – что можно быть таким элегантным и при этом таким смиренным, как твой славный евреи.
– Славный еврей! – оглушительно захохотал принц. – Города и села можно купить на то, что он с нас содрал. – И при виде ее изумленного лица деловито пояснил: – Это его законное право. На то он и еврей. Но человек он полезный, – одобрительно добавил принц, – он может снабдить чем угодно: драгоценностями, мебелью, деревнями, людьми. Даже алхимией и черной магией. – Смеясь, рассказал он ей историю с рабби Габриелем. – Недурно он меня провел, твой славный еврей. Корона! Между ней и мною стоят еще двое претендентов. Наследный принц здоров, как бык. Он прислал мне поздравление с охоты. А герцог… пусть его герцогиня и кислятина, все равно, если дьявол попустит, она народит ему ребят, как крольчат. – Он громко захохотал и похлопал ее по руке, в то время как судно под легким ветерком скользило по сине-зеленым волнам между красочными берегами.
Впереди примостился чернокожий и не отрываясь смотрел на восток. Перед взором принцессы маячили последние впечатления родины, лукаво торжествующий иезуит и раболепно элегантный еврей.
Не успели они достичь сербской границы, как их настигла эстафета Зюсса.
– Не терпится твоему еврею, – усмехнулась Мария-Августа, – что ему понадобилось так спешно продать?
Карл-Александр вскрыл депешу, прочел. Наследный принц скоропостижно скончался во время бала при штутгартском дворе.
Он протянул бумагу принцессе. Кровь бросилась ему в голову, он услышал скрипучий сердитый голос, сквозь кровавую пелену увидел над блекло-серыми, окаменевшими в тоске глазами три короткие, глубокие борозды, угрожающие, зловещие, словно чуждая сокровенная буква.
ЧАСТЬ ВТОРАЯ НАРОД
Семьдесят два города насчитывалось в герцогстве Вюртембергском и четыреста деревень. Зрели хлеба, плоды и лозы. Прекрасным редкостным садом почиталось герцогство в Римской империи. Горожане и крестьяне были веселы, общительны, покорны и сметливы. Они терпеливо сносили правление своих государей. Если государь был хорош, они ликовали; был он плох, значит, такова воля небес, наказание, ниспосланное господом богом. Десять золотых гульденов подати вносил в герцогскую казну каждый вюртембержец – мужчина, женщина, ребенок.
Был ли герцог хорош, был ли герцог плох, все равно – случалось ведро, случался дождь, зрели злаки, зрели лозы, благодатная страна раскинулась широко.
Но нити тянулись со всех сторон, руки подбирались, глаза зарились, со всех сторон паутина опутывала страну.
В Париже сидел пятнадцатый Людовик со своими министрами. Кусок Вюртемберга, графство Мемпельгард, было окружено его владениями, он только и ждал, как бы его проглотить. В Берлине сидела графиня, строила козни заодно с имперским рыцарством, старалась напоследок выкачать что возможно, во Франкфурте и Гейдельберге, Исаак Ландауер и Иозеф Зюсс подстерегали случай зажать герцогство в тиски, статс-секретарь папы плел нити, протягивая их из Рима в Вюрцбург к князю-епископу, с целью подчинить страну тиаре, в Вене советники императора наседали на новоявленного католика, наследного принца и имперского фельдмаршала, вымогая новые договоры, связующие Штутгарт с Веной, в Регенсбурге старый князь Турн и Таксис жадно поглядывал на герцогство, а в Белграде фельдмаршал Карл-Александр и Ремхинген,[29] его друг и генерал, строили обширные планы.
Все они сидели в ожидании вокруг Вюртемберга, подозрительно косились друг на друга, набрасывали свои огромные безмолвные тени на страну.
Случалось ведро, случался дождь. Зрели злаки, плоды, лозы. Широко раскинулась благодатная страна.
В первых числах ноября умер, так же внезапно, как обычно решал, действовал и жил, Эбергард-Людвиг, божьей милостью герцог Вюртембергский и Текский, римского императорского величества, Священной Римской империи и славного швабского округа генерал-фельдмаршал, а также шеф трех полков кавалерийских и пехотных.
И вот теперь он лежал на величественном катафалке, с лицом иссиня-желтым от удушья, в парадной форме, со множеством орденов, среди которых ярким блеском выделялись датский орден Слона и прусский Черного Орла; вокруг него горело множество свеч, в головах и в ногах несли почетный караул два лейтенанта. Жалобно пригорюнилась в большом безмолвном зале замшелая унылая Иоганна-Элизабета – герцогиня. Торжество ее длилось недолго, прошло всего несколько месяцев, и вот ее муж, завоеванный упорным ожиданием, кровавым потом, лежит здесь посиневший, мертвый, удушенный, и накликала это мекленбуржанка, ведьма, тварь. Но здесь сидит она, она одна, а не та. Кто теперь будет править в Вюртемберге – ей безразлично. По-всей вероятности, католик со своей надменной, ветреной, расфуфыренной женой. Но она сама так опустошена, что ее это не трогает. У нее на этом свете осталось только одно дело: утолить до конца свою упорную жажду мести. Родственники той твари еще сидели в герцогстве на хлебных местах, сама тварь купалась в богатстве и роскоши и всеми возможными способами через управляющих своими поместьями, через своих проклятых евреев высасывала из страны последние соки. Теперь же, когда Эбергард-Людвиг умер, у нее не осталось защитника, с ней больше нечего церемониться. Теперь она, герцогиня, может наново выступить против нее с тяжким обвинением перед новым государем, перед императором и всей страной. Эта тварь посягала на ее жизнь, она колдовством извела наследного принца и самого герцога. Она, герцогиня, не будет действовать сейчас сгоряча. Но противнице своей не даст покоя; кричать она не будет, но ее скорбный голос не умолкнет, доколе та не останется ни с чем, в нищете и поругании. Так сидела она у горделивого катафалка, серая и жалкая, перебирая про себя убогие остатки своей жизни, а между тем пышные оранжерейные цветы благоухали, и толстые свечи оплывали, и лейтенанты со шпагами наголо несли почетный караул.
Когда герольды возвещали о смерти герцога, горожане снимали шляпы, искренне скорбя. Теперь, после того как герцог умер, они помнили только его гордую стать, обходительность, воинскую доблесть, пышность и тонкий вкус и были склонны все бедствия его правления приписать исключительно графине и ее колдовским чарам. Ей вменяли в вину не только бессовестное ограбление страны – на ее голову призывали все беды и проклятия за то, что по ее милости было подорвано искони утвердившееся в Германии почтение к правящей династии и утрачена возможность при случае добиваться новых прав и привилегий. Вместо этого приходилось действовать осторожно, с оглядкой, дабы не прогневить императора, а вдобавок, в критические минуты, государственная казна неизменно оказывалась пуста. И образ графини все глубже втаптывался в грязь, а герцог поднимался все выше в глазах своих подданных. Женщины утирали глаза: и какой же он был нарядный – просто заглядение, и для каждого находил ласковое слово, что и говорить – добрый, прекрасный был государь!
И бежали скороходы, ехали, скакали курьеры. Один во Франкфурт – там Исаак Ландауер покачал головой и, потирая зябкие руки, сказал: «Ой, теперь реб Иозеф Зюсс задерет нос и станет заправлять большими делами». Один в Берлин – там у графини остановилось сердце, и она, потеряв сознание, упала навзничь. Еще один в Вюрцбург – там толстый веселый князь-епископ улыбнулся и призвал к себе тайного советника Фихтеля. И еще один в Белград
– там принц Карл-Александр, ныне герцог, да, да, герцог, перевел дух и представил себе, как он идет войной в самое сердце Франции, как руки его вращают колесо истории. Но над всем этим он в то же время увидел блекло-серые глаза и услышал ворчливо скрипучий голос: «Я вижу первое и второе. Первого я вам не скажу!» И он задумчиво разглядывал свою руку. В самом деле – необыкновенная рука: ладонь мясистая, пухлая, короткая, тыльная же сторона – узкая, длинная и костлявая.
А Мария-Августа стояла перед зеркалом, как стояла часто, совсем обнаженная, и улыбалась. Глазами с поволокой, осененными гладким покатым лбом, разглядывала она свое тело, нежное и стройное, цвета старого благородного мрамора. Она плавно потянулась, склоняя маленькую ящеричью головку, улыбка красных губ стала явственнее. Как хорошо будет герцогиней въехать в Штутгарт в золотой карете, сквозь восторженные толпы народа. Здесь, в Белграде, тоже хорошо было царить над дикими, вожделеющими, благоговеющими варварами. Но еще приятнее будет теперь при императорском дворе и при других немецких дворах чувствовать себя окруженной поклонением, точно волнами фимиама. Она будет носить корону без парика, это, правда, не по моде, но зато как гордо небольшая, высокая корона будет сидеть на ее блестящих черных волосах! И обнаженная женщина обрядовым жестом не то жрицы, не то бесстыдной вакханки подняла руки под углом к голове, так что обнаружились темные завитки под мышками, и, улыбнувшись влажными губами, изгибаясь, точно в пляске, прошлась по комнате. При ее дворе будет много кавалеров, немцев, итальянцев, французов, не таких полудикарей, как здесь; ведь должна же там ощущаться близость Версаля! А те, что полудерзко-полувосторженно глядели на принцессу, – с каким восхищением будут они теперь глядеть на герцогиню! И придворный еврей будет по-прежнему поклоняться ей на расстоянии, а ведь он на редкость галантный кавалер, игриво усмехнулась она. Ах, как хорошо быть красивой, как хорошо быть богатой, как хорошо быть герцогиней! Как чудесно, что на свете есть мужчины, и красивые наряды, и короны, и огни, и празднества! Как прекрасен мир, и как прекрасна жизнь!
В замке Винненталь, только в четырех часах езды от Штутгарта, брат Карла-Александра, кроткий принц Генрих-Фридрих пришел в глубокое смятение, узнав о смерти своего кузена. Он мирно жил в своем красивом маленьком замке, читал, музицировал. Не так давно он взял себе в возлюбленные дочь мелкопоместного дворянина – спокойное создание с мягкими движениями, прекрасными умиротворенными глазами, темно-русыми волосами и туповатым, недоразвитым умом. Когда к нему приехал прелат Вейсензе и предложил возвести его на престол вместо перешедшего в католичество брата, мечтатель обеими руками схватился за этот план. Но проницательному прелату скоро пришлось убедиться, что принц, этот слабовольный фантазер, видит в политике одну лишь отвлеченную красочно-туманную игру воображения. Нет, подобного претендента нельзя противопоставить деятельному, напористому Карлу-Александру. После кончины наследного принца, когда отвлеченный вопрос о престолонаследии вот-вот мог превратиться в осязаемую действительность, из Белграда пришло послание – бог знает откуда весть об интригах достигла фельдмаршала, – в котором Карл-Александр недвусмысленно, со всей решительностью советовал брату воздержаться от подобных козней и гнусных затей. Испугавшись и оробев, кроткий принц отказался от каких-либо притязаний и в страхе стал даже избегать общения с Вейсензе. Теперь, когда он узнал о смерти герцога, красочные, фантастические мечты воскресли с новой силой. Обливаясь потом, дрожа всем телом, в сильном возбуждении метался при бледном свете утра этот беспомощный человек по замку и рисовал себе, как все могло бы сложиться, если бы у него достало предприимчивости, как бы он захватил в свои руки власть, как писал бы императору, назначал и отставлял министров, заключал договоры с Францией, держал пламенные речи к народу. Горестно вздохнув, вернулся он к себе в спальню, тихо и осторожно разделся, чтобы не разбудить свою возлюбленную, улегся рядом с ней, сокрушаясь о своей слабохарактерности, ощупью обнял ее пышные теплые груди, и когда она открыла свои прекрасные глупые глаза, он утешился ее юной свежестью и наконец уснул, вздыхая задумчиво и удовлетворенно.
Прелат Вейсензе, получив скорбную весть, в тревожном возбуждении шагал по своим обширным покоям с белыми занавесями на окнах. Сколько проблем, осложнений, конфликтов. Католический государь в исконной протестантской стране: новая, неожиданная и небывалая для западной Германии конъюнктура. Он, Вейсензе, своевременно занял соответственную позицию, возможностей много, и ни при одной из них он не окажется лишним. Нигде не выставляя себя напоказ, он всюду успел завести связи. Теперь он шагал взад и вперед, составлял проекты, отбрасывал их, наслаждаясь деятельным возбуждением – подлинным счастьем для великого мастера интриг и хитрых махинаций.
А дочь его, Магдален-Сибилла, сидела в задумчивости, и голубые ее глаза на смуглом, смелом лице то вспыхивали, то меркли. Католик, язычник на престоле. Теперь в стране начнется смута и великая скорбь. Помоги нам, господь Саваоф, дабы устояла страна против искушений, которыми постарается совратить ее идолопоклонник, против угроз, которыми он постарается отторгнуть ее от истинной веры. Языческий властитель шествует в блеске и великом почете, он победил во многих битвах и снискал благоволение императора, его супруга держится спесиво и нескромно. Помоги нам, господь Саваоф, дабы народ устоял против всех мук и искушений. И отец, ее, Магдален-Сибиллы, отец стоит в первых рядах борющихся, ему назначено быть щитом Евангелия, над которым занесен меч. Ах, она не хотела грешить против четвертой заповеди, но ее одолевал великий страх, что у него не хватит истинной твердости перед богом и людьми. Как всегда в трудную минуту, она прибегла к богу, открыла библию и стала молить господа ниспослать ей пророчество. Но ей попалось такое изречение: «Всякую чистую птицу можете вкушать, гнушайтесь только орла и страуса, и сокола, и пеликана». Долго вдумывалась она в прочитанное, но при всем своем навыке истолковывать пророчества не могла установить связи между бедствиями страны, заботой о крепости и стойкости отца в вере истинной и страусом и пеликаном, которых запрещалось вкушать иудеям. Она решила показать пророчество своей подруге, слепой Беате Штурмин, ясновидящей, святой из штутгартского библейского общества. Пока же, с печатью мучительного раздумья на смуглом, не по-женски смелом лице, она наблюдала, как отец, ничуть не удрученный, а, наоборот, приятно взволнованный, шагает из угла в угол и как оживлены его тонкие подвижные черты.
Уже за полчаса до начала заседания все одиннадцать членов малого совета собрались в здании ландтага. На повестке дня стояли самые безобидные вопросы, но все было так смутно, так темно, что хотелось хоть ощутить присутствие соседа в этом мраке, услышать чей-то голос.
Ах, зачем было отказывать принцу в займе, ах, зачем было снюхиваться с его младшим братом! Вот теперь и сели в лужу, попали в беду. Принц должен быть святым, чтобы теперь, оказавшись у власти, не отомстить ландтагу. А он совсем не святой. Нет, он солдат, военачальник, привыкший к слепому повиновению. Ходили слухи, что он в Белграде далеко не мягко обходился со своими советниками и частенько яростно пререкался с прикомандированными к нему лицами, пускал в ход непотребную брань, неистовствовал, не терпел никаких противоречий и, случалось, бил посуду и разные хрупкие предметы о головы своих советников. Словом, был деспот, не лучше любого языческого кесаря. Много придется еще принять горя и адских мук от этого Левиафана.
Никто из них не желал поступиться хотя бы малой толикой своих прав и привилегий. Ах, сладость власти! Они, эти одиннадцать мужей, снимали пенки с конституции. Остальные члены парламента существовали лишь для того, чтобы утверждать их решения. Они же, эти одиннадцать мужей, властвовали над страной, заседали при закрытых дверях, как венецианская синьория, они интриговали, спорили, барышничали между собой и связывали руки герцогу и его министрам. Как было приятно и сладостно чувствовать свой вес и свою власть! Пусть кто-нибудь попытается покуситься на нее! Они стеной встанут на защиту страны от тирании и католического рабства. У них найдется твердая опора и прочная охрана. Ибо тверд и прочен закон, согласно которому герцог должен присягнуть в том, что будет охранять права их и протестантской церкви. Под этот закон не подкопается Рим, несмотря на все свои самые лукавые ухищрения. Этой твердыни не подточит самый ловкий иезуит. Пусть-ка тот язычник и свирепый тиран попробует огрызнуться. О такой железный затвор он обломает себе зубы. Слава непреложному закону! Слава благословенным религиозным реверсалиям![30] Слава твердой, прочной конституции и Тюбингенскому соглашению![31] Слава благодетельной предусмотрительности мудрых отцов, которые припасли такие намордники для зубастых герцогов.
Ровно в десять часов председатель Иоганн-Генрих Штурм объявил заседание открытым, но не успели еще приступить к обсуждению вопросов, стоящих на повестке дня, как перед огорошенными членами совета предстал Филипп-Якоб Нейфер, брат законоведа, и предъявил бумагу, из которой явствовало, что Карл-Александр, в осуществление законных прав наследования, вступает на вюртембергский престол, а впредь до своего прибытия в герцогство поручает руководство государственными делами советникам фон Форстнеру и Нейферу, для чего уже назначил их министрами.
Далее новый министр с улыбкой учтиво заявил совершенно растерявшимся господам членам совета, что герцог осведомлен о возникших у парламента опасениях касательно вопросов вероисповедания и сословных свобод. Он счастлив, что может сразу же успокоить господ членов совета, передав от имени его светлости соответствующие заверения и подтверждения. Будучи еще принцем, герцог имел случай обсуждать с некоторыми членами малого совета ту ситуацию, которая тогда была лишь предположительной, ныне же претворилась в жизнь, и господа члены совета сочли такого, рода заверения крайне желательными, дабы между герцогом и ландтагом установилось взаимное доверие, необходимое для общего блага.
Молча, в глубоком смятении выслушали эту речь девять членов из одиннадцати. Даже председателю Штурму, несмотря на неизменное спокойствие и самообладание, стоило большого труда выдавить из себя несколько слов – признав полномочия господина советника, а ныне члена кабинета министров, поблагодарить за врученные бумаги и обещать, что они будут внимательно изучены.
Министр удалился, оставив почтенных мужей совершенно пришибленными, во власти бессильной злобы и взаимных подозрений. Значит, в их среде есть предатели, интригующие на свой страх и риск? Соседи чуть приметно отодвинулись от Нейфера и Вейсензе.
А тем временем второй Нейфер, ныне министр, явился в военный комиссариат и на основе полученных от герцога полномочий потребовал, чтобы ему отрядили взвод солдат, который и был ему предоставлен после запроса в ландтаге. Ворвавшись в здание совета министров, он именем Карла-Александра, хотя прах старого герцога еще не был предан земле, арестовал всех главарей партии Гревениц и приказал отправить их в Гогентвиль, как они ни бесились, ни грозили, ни протестовали. В тюрьму Фридриха-Вильгельма, брата графини, обер-гофмаршала и председателя совета министров, как лед холодного политика, который устранил от власти сестру ради прочности собственного положения, в тюрьму обоих его сыновей, обер-шталмейстера и члена совета министров! Под арест их мелких приспешников и клевретов – председателя церковного совета Пфейля, тайного рефендария Пфау, государственных советников Фольмана и Шейда и всю их многочисленную клику. Как они важничали раньше! Как чванились, как задирали носы, еле кивали, отвечая на поклоны. Теперь они сидели в строжайшем заточении, и ни одна собака не вспоминала о них.
После этого Нейфер отправился к герцогине и сообщил ей, торжествующей, воссиявшей из праха и унижения, обо всем, что произошло. Через посредство герольдов и расклеенных на стенах указов, он возвестил, что Карл-Александр взял в свои руки бразды правления и в ближайшее время прибудет из Белграда; что против бесчестных чиновников, притеснявших народ ради собственной выгоды, им, государем, уже приняты меры и что он заранее своим крепким и верным княжеским словом гарантирует неприкосновенность всех свобод, в особенности же свободу религии.
В народе ликование. Вот это государь! Этот взялся за дело, не считаясь ни с кем. Совсем как на картине, где он штурмует Белград. Подайте ленты, подайте еловые ветви, чтобы украсить картину! Воистину властелин и герой! С ним не пропадешь.
Близ Гирсау от проезжей дороги отходила дорога поуже, проселочная. От нее ответвлялась пешеходная тропинка, которая, теряясь в лесу, упиралась в крепкий высокий забор. Деревья мешали взору проникнуть дальше. Из местных жителей доступ сюда имели только садовник и старик поденщик, который исполнял всякие поручения, оба – люди угрюмые, не склонные отвечать на расспросы любопытных. Известно было только, что какой-то голландец приобрел у наследников прежнего владельца маленький развалившийся домик. Властям он назвался мингером Габриелем Оппенгеймером ван Страатен и предъявил паспорт, выданный Генеральными штатами. Покупка была оформлена законным порядком, все требования полиции и казначейства выполнялись в высшей степени добросовестно. Голландец жил в домике вместе с какой-то молоденькой девушкой, с ее горничной и одним слугой. По округе ходил назидательный рассказ о громиле, который попытался пробраться в этот уединенный домик. Его будто бы поймали, связали. Голландец ничем не покарал видавшего виды отпетого головореза, только запер его на целую ночь в комнате, полной книг. Наутро бродяга будто бы, весь дрожа, в полном смятении выбрался из лесу и навсегда покинул здешние края.
Временами выплывали слухи, будто голландец и есть Вечный жид, но скоро снова умолкали. Он почти не показывался в городке, совершал уединенные прогулки по лесу, встретить его можно было очень редко. Мало-помалу к нему привыкли. Где-то в лесу за высоким забором и развесистыми деревьями живет голландец, и пусть даже он делает что-нибудь недозволенное, но шума не производит и никого не беспокоит.
Здесь же в Гирсау проживал и магистр Якоб-Поликарп Шобер, тот самый, что руководил собраниями библейского общества, в котором состояла Магдален-Сибилла. Упитанный, толстощекий молодой человек, который тихо совершал свой жизненный путь и любил длинные мечтательные прогулки, однажды, машинально следуя за птицей, перелетавшей с дерева на дерево, дошел до высокого забора, без долгих размышлений и без особого труда перелез через него, миновал изгородь, образованную высокими деревьями, внезапно очутился у начала просеки и увидел дом голландца посреди тюльпанов и идущих уступами клумб с другими, ему незнакомыми и тщательно выхоженными цветами. Странное впечатление производил этот дом – ослепительно белый кубик, залитый лучами солнца. А перед домом был раскинут примитивный навес, и под ним лежала, потягиваясь в полудреме, одетая на чужеземный лад девушка с матово-бледным лицом под иссиня-черными волосами. Магистр замер в изумлении и благоговейном восторге, потом на цыпочках удалился. Впоследствии в его мечты о небесном Иерусалиме неизменно проникал образ девушки под навесом перед белоснежным домом среди тюльпанов.
Рабби Габриель предоставил девушке полную свободу. Ноэми расцветала, тихая и нежная, не ведая больших страстей. При ней был старый, дряхлый, молчаливый слуга и вывезенная из Голландии горничная, преданная, добродушная, болтливая Янтье, которая долгие годы заботливо за ней ухаживала. Порой девушке хотелось повидать людей, но раз дядя держал ее в уединении, значит, так было лучше. Да и порожденные мечтами, вычитанные из книг люди были лучше живущих где-то там, внизу.
Она наслаждалась книгами, которые дядя читал вместе с ней. Это были по большей части древнееврейские книги, а среди них загадочные, таинственные книги Каббалы. Она не вдумывалась в них, она их видела. Каббалистическое древо, небесный человек были для нее зримы и осязаемы. Буквы-числа, составляющие имя божие, двигались в священной пляске, пестря переливчатыми значками, многообразные фигуры священной науки непрерывно шевелились, треугольники карабкались вверх, квадраты ползли вниз, пятиконечная звезда перелетала с вершины на вершину. А семи – и девятиугольники вытягивали свои острые углы, одного грозили проколоть, другого ласкали своем прикосновением. И все сплеталось в многоликом стройном танце. Дядя учил: в каждом стихе, в каждом слове, в каждой букве писания заключен сокровенный смысл. Он открывается тебе, когда ты сравниваешь эти слова с другими местами писания, когда ты преобразуешь числовое выражение букв. Взгляни, вот бумага и на ней – немножко черной краски. А между тем она живее любого живого человека, она – уста, говорящие для вечности. Разве это не чудо из чудес? Много тысячелетий тому назад кто-то продумал, прочувствовал эти слова. Мертвы уста, впервые произнесшие их, мертв мозг, впервые подумавший их. Но рукой своей человек написал их, и пока он их писал, дух божий вселился в них, и ныне ты через многие тысячелетия так же продумываешь и постигаешь их. В том, что написано, присутствует бог. Буквам даны жизнь и движение, буква переходит в число, число в звук, на веки вечные. То, что написал человек, отделяется от него и живет далее собственной жизнью и становится внятным всякому другому. Но лишь посвященный ощущает бога во всем, что написано.
Так учил рабби Габриель. Ноэми слушала, силясь понять его слова. Но события священной истории не надолго принимали строгую форму отвлеченных мистических понятий, в которую втискивал их дядя. Очень скоро они вновь облекались плотью, расцвечивались яркими красками и волновали девичью кровь очарованием пестрых сказок и доблестью легендарных подвигов.
Она читала в Песни Песней: «Возлюбленный мой начал говорить мне: Встань, моя пастушка! Прекрасная моя, выйди! Вот зима уже прошла. Цветы показались на земле, время пения настало, и голос горлицы слышен в стране нашей. Встань, моя пастушка! Прекрасная моя, выйди! Голубица моя! Голубица в ущелье скалы, под кровом утеса! Покажи мне лицо твое! Дай мне услышать голос твой. Потому что голос твой сладок и лицо твое приятно!»
Она сидела, воплощение нежности и внимания, и проникновенным взором скользила по большим, массивным древнееврейским буквам. Лицо у нее было как у отца, очень белое, горделиво изгибалась стройная шея, в глазах затаились грезы, древние грезы прародителей, голову она оперла на ладони, и плавно округленные руки переходили в нежную покатость плеч.
Рабби Габриель объяснял, что прочитанное ею иносказательно говорит о сотворении мира, цветы – это праотцы, и голоса юношей, изучающих тайны писания, споспешествуют тому, что мир стоит и праотцы являют себя потомкам. И он с большим знанием и мудростью все расчленял и снова собирал, а затем умолкал и задумывался. Она слушала его и верила ему, но едва он кончал, как цветы вновь становились цветами и ей слышался несложный и ласковый напев: «Вот зима уже прошла; дождь миновал, перестал. Цветы показались на земле, время пения наступило, и голос горлицы слышен в стране нашей». И она закрывает глаза и внимает манящему голосу, прислушивается, не смеет вздохнуть: вот-вот сейчас из-за деревьев появится пастух, чьи дивные слова звенят серебряными переливами. Но никто не идет.
Конечно, библейские герои и благочестивые мужи были таковы, какими показывал их рабби Габриель. Но когда он уходил, Ноэми смотрела на них собственными глазами.[32] Она сама была Фамарь, любившая Амнона, она была Рахиль, бежавшая с Иаковом, была Ревекка у колодца. И Мириам, плясавшая под напев победной песни над потопленными господом египтянами, – тоже была она. Но никогда не была она Иаилью, вбивающей кол в висок Сисаре, и не была Деборой, которая была судьей во Израиле. Тех немногих людей, которые ее окружали, она перевоплощала в героев библейских легенд: Агарь походила на болтливую служанку Янтье, у пророков были блекло-серые, окаменевшие в скорби глаза дяди и его приплюснутый нос, и говорили они его скрипучим сердитым голосом.
Но у героев – у всех была осанка отца, его лицо, его глаза, выпуклые, крылатые, его вкрадчивый, убедительный голос. Отец! Яркий, блистательный! Ах, почему он так редко приезжает! Повиснуть у него на шее – вот в чем жизнь, а прочее только ожидание его приезда. Всех героев священного писания она видела в его образе. Самсон, что сразил филистимлян, был одет в его оливковый кафтан и стремительно шагал, ослепительный и опасный, в его позвякивающих шпорами ботфортах. Давида, что поверг Голиафа, она видела в красном, изящно скроенном фраке, в котором отец приезжал в последний раз, и поднятая с пращой рука откидывала аккуратно наплоенные манжеты. Но, увы! волосы, которыми Авессалом запутался в ветвях дерева, были густые каштановые кудри отца, она замирала от сладострастного ужаса, видя это, а когда Давид взывал: «О Авессалом! Сын мой!» – он стенал скрипучим голосом дяди, и те глаза, что закрывал он навеки, были огненные любимые глаза отца.
Торжественно плыл новый герцог вверх по Дунаю на яхте, подаренной ему тестем. Не шевелясь, с непроницаемым взором, примостился на носу чернокожий. Подле герцогини грузно восседал Ремхинген, и лицо его, лицо пьяницы, багровело под пудреным париком; пыхтя, жеманничая и на австрийский манер растягивая слова, ухаживал он за красавицей. Он сиял, сотни безрассудно-дерзких планов зрели в его солдатской голове. Первое, что сделал герцог, – назначил друга председателем Военного совета и главнокомандующим вюртембергской армией.
Пышный прием в Вене. Их величества весьма милостивы. Торжественная месса. Банкет во дворце. Опера. Старый Князь Турн и Таксис выехал в Вену навстречу зятю; и оба друга-прелата не отказали себе в удовольствии принести герцогу поздравления еще до въезда в Вену. Когда яхта причалила, на берегу стоял князь-епископ Вюрцбургский со своими тайными советниками Раабом и Фихтелем, стоял и эйнзидельнский князь-аббат, они радостно и сердечно облобызали герцога, подмигивая, погладили руку Марии-Августы.
После оперы их величества и герцогиня удалились во внутренние покои, а Карл-Александр, князь Турн и Таксис и оба прелата остались за столом. Густое золото токайского маслянисто поблескивает в бокалах, герцог привык к нему в Белграде и пьет его большими глотками, меж тем как иезуиты едва прихлебывают. Воздух насыщен свечным чадом и винными парами.
Перед такими верными друзьями и наперсниками Карл-Александр выворачивает наизнанку душу. Нет, он никак не намерен плесневеть в своей стране каким-то заурядным князьком. Для его честолюбия недостаточно радеть о том, чтобы подданные его усердно возделывали виноградники, ткали холст, утирали своим ребятишкам носы и держали в чистоте их рубашонки. Управлять страной он предоставит своим советникам, сам же будет властвовать. Не зря он столько лет провел в походных лагерях. Он солдат, герцог-солдат. Раз он до сих пор сражался и побеждал для другой, хотя и дружественной династии, как же ему не сражаться и не побеждать для самого себя? Людовик Четырнадцатый завоевал немало земель, крохотная Венеция поглотила добрую часть Греции, Карл Двенадцатый пронес свои знамена из Швеции через половину Европы, в Потсдаме идет подготовка к завоеваниям. Он чувствует, что призван увеличить свое маленькое государство, а если богу будет угодно, то и сделать его великим. Во всяком случае, такой, как сейчас, он страну не оставит. Там можно набить себе синяки и даже убиться насмерть обо все углы, внутренние и наружные, там просто некуда податься. Как недурной стратег и знаток военного искусства он отдает себе отчет в том, что, по своему положению, его маленькая страна служит ядром для большой. Стоит только продвинуться вперед к границам вюртембергских владений по ту сторону Рейна, в направлении графства Мемпельгард, которое вклинилось во Францию, оттуда уж можно идти и дальше: база для полководца идеальная. А потом вся эта мелкота в самом герцогстве и по его границам, имперские города Рейтлинген, Ульм, Гейльбронн, Гмунд, Вейль, – непонятно, почему его предшественники позволили им разрастаться и процветать. Уж он позаботится о том, чтобы они не лежали камнем в герцогском желудке, а превратились бы в полезный корм.
– У вашей милости избыток отваги, – усмехнулся старик Турн и Таксис и тонким носом борзой потянул аромат токайского. Благожелательно выслушивал он рискованные планы зятя. Он считал их чистейшей утопией и не верил, что они хоть в какой-то мере осуществимы. Но, боже мой! Герцог ведь солдат, от него нельзя требовать политической осведомленности. Очень мило и забавно, что он так по-солдатски лезет напролом; но поживет месяца два в своей резиденции, и его пыл остынет.
Оба князя церкви внимательно прислушивались к горячим речам Карла-Александра. Они очень ревностно занимались в свое время обращением его в католичество, во-первых, потому, что всегда следует помочь заблудшей душе обрести свет истины, во-вторых, потому, что обращение Вюртембергского принца было хорошим средством пропаганды, но больше всего из любви к искусству. Они вполне искренне не преследовали этим больших политических целей. Ну а если господь бог ниспослал такую милость и столь возвысил новообращенного, то можно, ухмыляясь, выслушивать бесчисленные похвалы своей мудрой предусмотрительности. А главное – извлечь всю возможную пользу из неожиданной удачи. Тот огонь, что раздувает герцог, – всегда благодетелен. С его помощью можно заварить любую кашу.
Первым осторожно начал толстый вюрцбургский князь-епископ. Друг герцог строит обширные планы, на которые его, конечно, благословит всякий истинно католический и христианский государь. Но он забывает, что господь избрал его для управления мятежным и упорствующим в заблуждениях Вавилоном. Окаянные протестанты, подобно крысам, обгрызли богом дарованные немецким государям права, так что после всяческих ущемлений от них остались убогие обрывки.
Герцог в ответ: вюртембержцы народ не плохой, они послушны законам и государям верны. Вся беда в окаянной парламентской шайке, в беспардонной клике жадных ослов, которая в свое время отказалась утвердить ему апанаж, в этих откормленных баранах, которые пошли на государственную измену, снюхавшись с его братом. Но он всегда был начеку и не позволил, чтоб у него из-под носа утащили престол, а теперь, придя к власти, он с ними расправится и доймет их до кровавого пота. Не будь он государь и солдат, если не наступит ногой им на загривок.
Аббат усмехнулся на это: дело не так просто. Прежде всего друг герцог уже связал себя заверениями касательно религии и еще всякого рода реверсалиями.
– Только на бумаге, на бумаге, на бумаге, – завопил хмельной и взбешенный герцог.
А иезуит невозмутимо:
– Конечно, но все же это обязывает. И библия ведь только бумага, и тем не менее ею держится Рим и весь мир.
В разговор вкрадчиво вмешался вюрцбуржец: мощь и мудрость самого Карла-Александра, поддержка и ловкость друзей, его войско и правота его дела в конце концов уничтожат пресловутую бумагу. Обращение страны в католичество – истинная основа и краеугольный камень всех планов, – конечно, задача нелегкая, но неосуществимой ее назвать нельзя. Стоит вспомнить мудрый пример успешного обращения в католичество Пфальц-Нейбурга. Для начала офицеры и солдаты в армии – только католики. Этому никакой ландтаг не может препятствовать. Затем мало-помалу к католикам переходят все места при дворе и наконец все государственные должности. Протестанты увольняются поголовно. Ох, как стремительно обратились тогда в Пфальце все души к истинной вере! Сколько их таким легким способом было избавлено от мук вечных. Сперва чиновники, обремененные семьей, которые больше всего боялись за свое положение. Ох, как быстро убедились они в благодетельности истинной веры и отреклись от протестантской ереси, ох, как спешили эти добрые, честные души впопыхах броситься в лоно католической церкви!
Собеседники посмеялись, выпили. Намечались заманчивые перспективы. Князь-епископ пообещал поручить своему архимудрому советнику Фихтелю выработать методы воздействия, применительно к Вюртембергу. Все разошлись возбужденные, полные надежд.
На следующий день к герцогу явились три императорских советника побеседовать с ним по поводу войны с Францией, которую опрометчиво начал император. Карл-Александр, до сих пор выступавший перед императорскими советниками в роли назойливого просителя, наемного генерала, разважничался вовсю оттого, что теперь заискивают в нем. Небрежно, широким жестом швырнул министрам подачку в двенадцать тысяч солдат, о которых они робко просили его. За это ему со всяческими оговорками и туманными намеками, в секретном соглашении с императорским правительством была обещана защита его суверенных прав на случай посягательств Вюртембергского ландтага.
Покидая Вену, герцог на глазах двора и народа был удостоен его римским величеством поцелуя в обе щеки.
Когда Иозеф Зюсс узнал о смерти Эбергарда-Людвига, у него перехватило дыхание, вся кровь прилила к сердцу, и он застыл на месте, полуоткрыв ярко-красный рот, подняв левую руку, точно обороняясь от чего-то. У цели. Он у цели. Совершенно неожиданно достиг он вершины. Он так жаждал этого и своим заносчивым видом силился убедить себя и людей, будто давно уж находится на вершине, но в душе его всегда терзали и раздирали сомнения. И вот оно свершилось! Словно по наитию из сотни тысяч билетов он вынул единственный выигрыш и теперь стоит гордый, уверовавший в свой гений, перед умным Исааком Ландауером, который прежде покачивал головой и, потирая зябкие руки, подсмеивался над его верой в захудалого принца.
О, отныне он гордо и властно зашагает вперед. Сотни блестящих зал откроются перед ним. В один миг взлетел он наверх. И теперь, как равный среди равных, будет сидеть за парадными столами с сильными мира сего; те, что недавно с презрением от него отмахивались, будут гнуть перед ним спину, те, что заставляли его томиться в приемной, будут дожидаться у его дверей, пока он их впустит. И женщины, белоснежные, великолепные, знатные, те, что милостиво принимали его любовь, будут подобострастно предлагать ему свое гордое тело. С лихвой вернет он теперь все полученные пинки. Он будет восседать на самой вершине, он окружит себя ореолом истинного вельможи и покажет власть имущим, что еврей может держать голову в десять раз выше, чем они.
Он продал свои дома в Гейдельберге и Маннгейме, выпустил составленную в вызывающем тоне публикацию о том, что всякий, у кого в Пфальце есть к нему какие-либо претензии, может их предъявить. Одновременно он негласно через посредников приобрел у обедневшей дворянской семьи дворец в Штутгарте, на Зеегассе, реставрировал и обставил его со сказочной роскошью, пополнил свой штат, гардероб, конюшню. Сейчас он готовился во всем блеске торжественно выехать навстречу герцогу.
Исаак Ландауер застал его за этими хлопотами. Невзрачный, неопрятный, в неудобной, угловатой позе сидел в большом кресле могущественный финансист и потирал костлявые бескровные руки, невыразимо раздражая Зюсса своими пейсами, лапсердаком, всем своим неряшливым еврейским обличием. Зюссу пришлось с досадой и разочарованием признать, что у старика не заметно ни зависти, ни восхищения.
– Вам повезло, реб Иозеф Зюсс, – сказал он, благодушно и чуть насмешливо покачивая головой. – А могло бы повернуться и плохо, тогда вы потеряли бы все свои денежки на этом голоштаннике.
– Теперь он, во всяком случае, не голоштанник, – уязвленным тоном возразил Зюсс.
– Вот это я и говорю, – с готовностью согласился тот и добавил по-дружески наставительно: – А на что вам этот блеск и парад и вся эта возня? Послушайтесь старого дельца, это невыгодно, это только приносит вред. Чего вы пыжитесь и стараетесь быть на виду? Нехорошо еврею мозолить всем глаза. Послушайтесь старого дельца, еврею лучше всего держаться в тени. – Он засмеялся своим гортанным смешком: – Долговое обязательство в шкатулке лучше, чем золотой галун на кафтане. – И добродушно, с мягкой насмешкой он пощупал шитье на рукавах Зюсса, меж тем как тот почти с отвращением старался стряхнуть его руку.
«Вот такова эта молодежь, – думал Исаак Ландауер, уйдя от Зюсса. – Они скатываются все ниже и ниже, чуть не до уровня гоев. Они хотят шума, блеска, расшитых кафтанов. Они ищут себе признания у других. Тонкое затаенное торжество в лапсердаке, при пейсах, непонятно им, этим пошлякам».
А Зюсс язвил про себя: «Вот уж трус! Вечно прятаться. На что же власть, если не выставлять ее напоказ? Глупые, недостойные, отжившие свой век предрассудки. Только бы не обратить на себя внимание христиан. Только бы укрыться в тень. А я хочу стоять на ярком свету и всем прямо смотреть в глаза».
Он отправился во Франкфурт с великой пышностью, желая показаться матери во всем блеске. Пожилая красавица – от нее он унаследовал очень белое лицо и выпуклые крылатые глаза – жила в покое и довольстве, но пустой жизнью. Ах, как полны были раньше ее дни! На взмыленных конях носилась актриса Микаэла Зюсс по Германии, и весь ее путь был усеян мужчинами, любовными интригами, страстями, триумфами, огорчениями и бурями. Теперешнюю же свою жизнь она старалась расцветить чисто внешними впечатлениями, раздувая каждую мелочь, чтобы сохранить иллюзию деятельной суеты, заполняла время уходом за своим телом, поддерживала разнообразную бурную переписку, вмешивалась в жизнь своих бесчисленных знакомых. Зюсс важничал и рисовался перед ней, а она наслаждалась его блеском и млела, совсем потерявшись от его шумливого и неумеренного хвастовства. А он еще пуще чванился перед этой благодарной, восторженной слушательницей.
Но цветистый фейерверк их речей прервал рабби Габриель. Зюсс только что с похотливым самодовольством рассказывал о женщинах, которые толпились в его покоях, а Микаэла жадно ловила его слова. И вот широкое, каменное, угрюмое лицо старца как глыбой придавило все эти легкие пестрые видения. Да, ему известно, что новый герцог уже покинул Вену и скоро прибудет домой. Зюсс, конечно, направляется к нему. Он говорил с такой холодной усталой насмешкой, что все достигнутое сразу стало пустым и сомнительным. Потом он мимоходом спросил, когда Зюсс приедет в Гирсау, девочка тоскует по нем. Услышав, как Зюсс виляет и отлынивает, он больше не настаивал, только три борозды резче обозначились на его лбу. Он переводил взгляд с матери на сына, с сына на мать. И скоро ушел. При нем Микаэла металась и трепетала, как глупенькая птичка. Зюсс ни разу не видел ее в присутствии рабби Габриеля.
Сам он с трудом собрал свою разлетевшуюся во все стороны спесь и великую гордыню. Вяло и не вполне уверенно взлез он снова на ходули и попробовал робко посмеяться над стариком. Но мать не поддержала его, и отбыл он далеко не столь лучезарным и самодовольным, как явился.
Спешным порядком направился он в Регенсбург. Шумно и весело встретил его герцог. Багрово-красный под белым париком, обрушился на него грубыми остротами Ремхинген; он ненавидел евреев, а этот был ему вдвойне противен своими сверхучтивыми, вкрадчивыми манерами. И старик Турн и Таксис был крайне сдержан; он не простил еврею, что тот своей бледно-желтой гостиной в Монбижу затмил его бледно-желтый фрак.
Зато весьма благосклонной, игривой улыбкой встретила его герцогиня. Грациозный стан и задорное личико красовались над широчайшей синей бархатной робой, в складках которой совсем затерялась малюсенькая комнатная собачонка. Мария-Августа милостиво протянула еврею пухлую, холеную ручку для поцелуя, жеманно и скромно, как требовал этикет, придерживая другой верхние складки робы. Ах, какие смутные и греховные мысли вдохнул в нее еврей своим поцелуем. И глаза у него такие же красноречивые и выражают ту же самозабвенную покорность, что и прежде. И притом он ни на волосок не отступает от моды. Забавно всегда иметь при себе такого еврея, который сто очков даст вперед самому галантному версальскому кавалеру, а свое злобное еврейское сердце, где, без сомнения, копошится лютая и ядовитая нечисть, искусно скрывает под изящным светло-коричневым кафтаном.
Позже, когда они остались вдвоем, герцог стал расспрашивать Зюсса о настроении в стране. Спрашивал он небрежно и свысока, но Зюсс мысленно посмеялся над его наивными уловками, сразу почувствовав, что герцог далеко не спокоен и придает большое значение его ответу. Он вмиг сосредоточился, настроился на деловой лад и призвал на помощь все свое чутье. Хитроумный финансист сидел теперь настороженный, нервы у него были натянуты как струны, он пустил в ход весь механизм расчетов и подсчетов. Прежде чем говорить, быстро и точно разделил все «за» и «против», довел их до полной ясности, подсчитал, взвесил, прикинул и выведал у герцога больше, чем тот у него.
Он понял, что именно хочется услышать герцогу: первое – что народ ждет его как избавителя от всех своих бед; далее, что он, герцог, – величайший из германских полководцев и вправе требовать от страны, чтобы она предоставила ему возможность создать внушительную военную мощь, и, наконец, что парламент – это шайка скаредных, своекорыстных, закоренелых злодеев и смутьянов. Зюсс так ловко повернул свои ответы, что они полностью подтвердили эти предпосылки.
Неожиданно герцог хлопнул его по плечу:
– А ты с твоим магом все-таки не надул меня, чертов жид.
Зюсс вздрогнул, ответил вяло, против обыкновения принужденно, как бы нехотя, что он тоже немало потратился на каббалистические вычисления; не удивительно, что они оказались вескими и оправдали себя. Герцог заметил выжидательно и тоже неискренне, с напускной беспечностью: но ведь рабби предсказал плохой конец. Если вычисления столь вески, зачем же Зюсс связывает себя с ним, отдает ему свои деньги и услуги. Зюсс ответил, немного помолчав: то, что рабби считает хорошим или дурным, относится совсем к другой сфере, и людям положительным, как его светлость и он, незачем ломать себе головы над подобными метафизическими тонкостями.
Он внезапно замолчал, у него перехватило дыхание, голова склонилась набок. Ему почудилось, будто из-за спины его выглядывает человек с его собственным лицом, только совсем призрачный и туманный. Герцог тоже умолк. Все окружающее потеряло для него свои краски, как-то странно поблек и еврей. Ему привиделось, что он скользит в каком-то странном, фантастическом танце, перед ним, держа его за руку, скользит в хороводе тот зловещий маг, рабби Габриель, другую руку его держит Зюсс.
Из мира видений его вырвал еврей. Перевел разговор на другое. Герцог вначале с презрением и горечью, упомянул о своем брате, принце Генрихе-Фридрихе, и о его сговоре с ландтагом. За эту тему схватился теперь Зюсс, деликатно посмеялся над кротким безвольным заговорщиком, потом заговорил о его возлюбленной, о тихом темно-русом, глупеньком создании. Герцог слушал с интересом, насмешкой и злорадством. Черт побери! Должно быть, для девчонки скромный Генрих – постная еда, вроде пресного жаркого без приправы. Он оглушительно захохотал, в его глазах зажглись опасные лукавые огоньки. Еврей, наверно, знает девчонку, пусть же расскажет о ней. Зюсс принялся осторожно описывать ее, как знаток по косточкам разобрал дочку мелкопоместного дворянина, ее кроткую тяжеловесную белокурую красоту, жаркую негу ее юности. Герцог ловил каждое слово с жадным мстительным любопытством и был явно удовлетворен; по-видимому, у него окончательно созрел какой-то план.
– Ты знаток, еврей, – смеялся он. – Ты, плут, знаешь толк в христианском мясе.
Оставшись один, Зюсс усмехнулся глубокомысленно и победоносно и вновь продумал свою линию поведения. Все ясно. Льстить герцогу во что бы то ни стало, не боясь хватить через край. Добывать ему деньги, а с помощью денег
– женщин, солдат, славу. Больше, как можно больше. Наживать на этом не чрезмерно, но развернуть дела в таком масштабе, чтобы разбогатеть, даже если к рукам прилипнет самая малая толика. К ландтагу – полное пренебрежение. Ясно и твердо стать во враждебную к нему позицию. Всячески третировать его. Главная цель – деньги для герцогской казны.
Он правильно подошел к Карлу-Александру. И мудро поступил, купив дворец в Штутгарте. Покидая Регенсбург раньше герцога, он был уже тайным советником по финансовым делам при герцоге Вюртембергском. Вместе с этим званием он, декретом герцогини, получил должность управляющего ее личными доходами.
В Штутгарте – грандиозные приготовления к приему нового государя. Три триумфальных арки с гордыми латинскими изречениями и множеством аллегорических фигур, бессчетные флаги, гирлянды. Вдоль улиц – толпы людей, разрумяненных бодрящим декабрьским морозцем. Разносчики повсюду продают оттиски знаменитой картины, на которой герцог весьма воинственно под градом пуль, во главе семисот алебардщиков, штурмует крепость Белград. Зюсс приказал отпечатать эту картину во многих тысячах экземпляров, герцогу и народу на радость, а себе в заслугу, и вот теперь горожане и крестьяне дерутся за это дешевое, патриотически умилительное стенное украшение. Весь город гудит от музыки, пушечной пальбы, кликов. Наконец показывается растянувшийся на две мили торжественный поезд; чиновники, офицеры, солдаты, пешие и конные, скороходы, пажи. Запряженная восемью парами лошадей парадная карета герцога. Так въехал он в столицу по сверкающим от снега улицам, под лучезарно-голубым декабрьским небом, и тысячи пестрых флагов развевались в живительном воздухе.
С разинутыми ртами и раскрытыми ему навстречу сердцами, любовались штутгартцы своим импозантным повелителем, который сидел в карете, распахнув шубу на широкой, увешанной звездами груди, любовались его крупной головой и властным взором, а еще больше – красавицей герцогиней, которая грациозно поднимала из белых мехов украшенную диадемой своеобразную ящеричью головку и с томным любопытством, улыбаясь, поглядывала на них. Ах, как насмехалась она втайне над швабами, восторженно приветствовавшими ее, ах, сколько комичного нашла она в представителе Тюбингенского университета, толстом, смущенном профессоре, который потел и надрывался, с швабским акцентом декламируя превыспренние стихи, сложенные в честь княжеской четы. Но серьезно и внимательно слушала она, когда он говорил о народах, которые герцог призван объединить под своим скипетром, когда он патетически восклицал, что имя Карла-Александра объемлет все сказанное о Карле Великом и о других Карлах, все то, что греки в Александре так высоко ставят, а божьи племена в Самсоне славят, чем обладал Геркулес, и под конец сравнил его с римским Цезарем. И даже тогда не выразила она иронии, когда он провозгласил герцога славным в веках, хотя бы за то, что, подобно принцу Итаки, он прилепился душой к Ментору. Но мысленно она задала себе вопрос, кто же этот Ментор – маленький ли, осмотрительный тайный советник Фихтель, любитель черного кофе, или по-лисьи хитрый и галантный щеголь – еврей?
Тот как раз скромно и подобострастно стоял где-то позади, в углу, смешавшись с челядью. Он счел благоразумным появиться в Штутгарте тихо и без большой помпы; он поселился в своем роскошном доме и сначала почти не привлек к себе внимания. У его камердинера, спокойного, флегматичного Никласа Пфефле, нельзя было выведать ничего путного, кроме того, что хозяин его – знатный господин из придворного штата герцога. Но мало-помалу стало известно, что тайный советник по финансовым делам, хоть по виду и манерам ничем не отличается от всякого другого знатного вельможи – попросту поганый, некрещеный еврей. Собственно говоря, евреям в герцогстве жить не разрешалось. Потому и господа парламентарии весьма косо смотрели на новоявленного советника и охотно выпроводили бы его за пределы страны; им только не хотелось по такому ничтожному поводу сразу вступать в пререкания с новым герцогом. Народ с любопытством и недоверием глазел на еврея. Однако, принимая во внимание запутанное положение государственных финансов и происки евреев, управляющих гревеницким имуществом, пожалуй, не следовало оспаривать у герцога право иметь собственного придворного еврея. Кроме того, приходилось признать, что новый еврей вел себя пока что весьма прилично и скромно; вот и тут во время торжества принесения присяги законному монарху он, несмотря на свое важное звание и пышный мундир, держался незаметно, в сторонке.
Но спустя три дня, во время приема членов ландтага, он вел себя уже по-иному. Гордый, холодный, строгий стоял он среди министров и с презрительным равнодушием взирал на толпу парламентской черни. Члены кабинета, включая еврея, в пестрых блестящих мундирах стояли маленькой кучкой, высокомерно обособленной от густой темной толпы парламентариев. Четырнадцать прелатов и семьдесят представителей городов и цехов насчитывал ландтаг. Очень немногие, и в том числе умный и хитрый Вейсензе, а также умудренный горьким опытом законовед Вейт-Людвиг Нейфер, держались независимо. У остальных же лица были озабоченные, озадаченные и потные, и они, смущенно, но упрямо потупясь, сносили холодные взгляды горделивой группы министров. Среди последних находились председатель совета Форстнер и двуличный льстивый Нейфер, которые еще при жизни старого герцога были сторонниками Карла-Александра и помешали сговору ландтага с принцем Генрихом-Фридрихом. Тут же виднелся длинный крючковатый нос Андреаса-Генриха фон Шютца, в прошлом клеврета графини Гревениц, человека, способного удержаться при любом правительстве. Ничего хорошего не ждали депутаты от этой троицы, ничего хорошего не ждали они и от еврея, который одним своим присутствием на торжественном приеме, казалось, бросал им вызов. А как заносчиво и кичливо держится этот выскочка! Видит бог, это кровная обида достославному ландтагу. Ну, ничего, они еще научат его приличному обращению.
Только к одному из министров чувствовали представители сословий доверие, и то, что герцог назначил его в кабинет, примиряло их и с Нейфером и с евреем. Министр этот был Георг-Бернгард Бильфингер, философ и физик. Карл-Александр узнал этого жизнерадостного толстяка с открытым мясистым энергичным лицом, когда пригласил его проверить расчеты и проекты крепостей. И как ни велико было его недоверие ко всякой философии, он не мог противостоять искушению включить в свой кабинет не юриста, а почтенного математика и строителя.
Обе группы, маленькая, составленная из министров, и большая – из парламентариев, – стояли друг против друга как два враждующих зверя, один большой, неуклюжий, темный, беспомощный, другой – маленький, переливчатый, красочный, подвижной, опасный. Но хотя, казалось, дистанция была резко подчеркнута, от одной группы к другой уже протянулись нити – от парламентария Нейфера к его брату, министру, от положительного, честного и ревностного патриота – председателя ландтага Штурма к положительному, честному и ревностному патриоту, тайному советнику Бильфингеру, и даже от впечатлительного, утонченного, любопытствующего дипломата Вейсензе к диковинному, непонятному, увертливому, щеголеватому новому финансовому советнику – еврею, иудейскому вельможе.
Собравшиеся ждали. Ждали очень долго, около часа сверх назначенного времени. Но все еще не слышно было ни торжественного марша, ни команды «на караул» стоящим в аванзале гвардейцам, и двери и личные апартаменты герцога все еще были закрыты.
Обливаясь потом в чрезмерно натопленном зале, ворча, угрюмо переступали с ноги на ногу представители народа, да и министры начали проявлять беспокойство. Никто не ожидал, что герцог с первой же минуты проявит такую небрежность к парламенту. Что это – злонамеренность? Каприз? Случай? Забывчивость?
Только один человек знал это. Еврей стоял улыбаясь. Как посвященный смаковал своеобразное торжество, подготовленное для себя Карлом-Александром. Члены ландтага были в сговоре с его братом? Отлично, пусть же стоят и ждут его теперь до тех пор, пока у них ноги не отсохнут, а он тем временем будет предаваться любовным утехам с подругой своего брата, с кротким, темно-русым невозмутимым созданием.
Тайный советник Андреас-Генрих фон Шютц по пунктам зачитывал конституцию, которой герцогу надлежало присягнуть с добавлением тех заверений и подтверждений, которые Карл-Александр, еще в бытность свою принцем сразу же после кончины Эбергарда-Людвига, передал господам парламентариям через Нейфера. Бумага была составлена крайне обстоятельно, осторожно, многословно. Не очень громко, ровным, хорошо поставленным голосом, слегка гнусавя на французский манер, читал господин фон Шютц нескончаемый документ, в зале стояла невыносимая жара, жужжала зимняя муха, воздух был насыщен испарениями, дыханием, тихим сопением множества людей в тяжелых одеждах. Угрюмо, сердито смотрел Карл-Александр на тупые будничные лица, которые силились казаться торжественными, угрюмо, сердито внимал он сухому высокопарному стилю этой грамоты, каждое слово которой означало стеснение его воли, дерзкое, наглое, возмутительное насилье. А гнусавая речь тянулась долго, долго. Он с трудом удерживался, чтобы не прервать ее, не зевнуть громко и досадливо. Он только что оторвался от любовных утех, он еще всеми порами ощущал нежную теплоту темно-русого создания, он слышал еще безудержный, тихий, неуемный плач, увлажнивший ему лицо, руки, грудь, он весь был полон сытого, грубого злорадства. Члены ландтага были глубоко уязвлены, слушая, как он глухим хриплым голосом – следствие только что испытанного наслаждения – с отдышкой, непереносимо равнодушно и явно думая о другом, повторял формулу присяги. «Я подтверждаю и свидетельствую моим верным княжеским словом, по зрелом и благом размышлении и от самого чистого сердца». И звучало это так, словно говорит он своему камердинеру, что вода для бритья остыла.
Депутаты удалились подавленные и полные тревоги. Обругай он их, как покойный государь, как Эбергард-Людвиг, накинься на них как тот с непотребной бранью, они на все скорей нашли бы ответ, чем на этот бесцеремонный, презрительный, неслыханно небрежный тон. Сколько времени продержал он их в ожидании, словно докучливых попрошаек! С каким равнодушием, презрительно рыгая, произносил он слова присяги. О пленительная свобода! Какую жестокую борьбу придется выдержать за тебя! О благословенная власть стоящих у кормила почтенных родов, не мало обид и огорчений придется претерпеть, отстаивая тебя!
После ухода депутатов Карл-Александр потянулся, опустился в кресло в отличном расположении духа. Здорово он их приструнил. Как они улепетывали, поджав хвост! Он засопел, весьма довольный собой. Хорошее начало, хороший день. Сперва насолил этому тихоне, этому двуличному смутьяну Генриху-Фридриху, а затем спровадил и дерзкую, жадную потную чернь, и она ретировалась, ошарашенная, давясь проглоченной обидой.
Он не задерживал и министров, а отпустив их, улыбнулся Зюссу:
– Мне еще нужно пойти утереть слезы белокурой красотке. Знаешь толк, лицемер, знаешь толк больше, чем я предполагал. – Громко расхохотавшись, он хлопнул по плечу польщенного Зюсса.
– Я хочу править сам, – заявил он одной из штутгартских депутаций. – Я хочу сам выслушивать свой народ и помогать ему во всем.
На него обрушился целый поток прошений, и он самолично принимал их.
– Я и тебе и себе хочу помочь, – сказал он одному просителю. Он велел объявить по всей стране, что не остановится ни перед какими трудами и тяготами, дабы споспешествовать истинному преуспеянию и процветанию герцогства, он позаботится, чтобы дела вершились повсюду без подвохов, интриг и затяжек на основе издревле прославленной вюртембергской честности и справедливости. Всякому имеющему обиду на кого-либо из чиновников или иную претензию такого же рода, надлежит обстоятельно изложить свою жалобу на бумаге и вручить ее герцогу в собственные руки.
Три воскресенья кряду эта воля нового государя провозглашалась со всех амвонов; в напечатанном виде она была прибита в каждой общине к дверям ратуши. Народ ликовал: вот это государь! он не доверяет дела правления своим чиновникам, он правит сам. Как снег в мае, таяло число приверженцев графини Гревениц. Кто сам спешил убраться, кого изгоняли или сажали в крепость. «Уж он сдерет шкуру с этих живодеров!» – ухмылялись крестьяне. Расцветала на бедах клики Гревениц унылая вдовствующая герцогиня. Картина же, на которой Карл-Александр со своими алебардщиками штурмует Белградскую крепость, была нарасхват, а когда вышел рескрипт, воспрещающий коленопреклонение просителей перед герцогом, ибо одному богу подобает оказывать такие почести, Зюссу пришлось заказать новую огромную партию оттисков, и в герцогстве не осталось ни одного крестьянского или бюргерского дома, где бы на самом почетном месте не красовалась эта картина. А господа парламентарии только косо смотрели на происходящее.
Герцог всячески старался ускорить вынесение приговора бывшему гофмаршалу Гревеницу и его сестре, но без особого успеха. Правда, некогда всемогущий сановник сидел в крепости Гогентвиль; но чтобы не навлечь на себя обвинение в насилии и пристрастии, герцогу надо было действовать осмотрительно и не спеша. Сама же графиня находилась за пределами страны, протестантские княжеские дворы служили ей опорой против герцога-католика, а умелая рука Исаака Ландауера всякий раз потихоньку распускала сети, в которые вюртембергские советники не очень ловко пытались поймать графиню. Правда, дело графини слушалось в особом присутствии уголовного суда, и лучший юрист герцогства, известный на всю Германию своей неподкупной честностью, тюбингенский профессор Мориц-Давид Гарпрехт[33] предъявил к ней тяжкие обвинения в двоемужестве, в двойном, повторном и многолетнем прелюбодеянии, в троекратном покушении на жизнь супруги Эбергарда-Людвига, в оскорблении величества, в вытравлении плода, в подлогах, мошенничестве, обмане, а суд вынес ей смертный приговор. Специальный дипломатический представитель барон Цех был послан из Вюртемберга в Вену, чтобы провести там утверждение и осуществление этого приговора, он истратил сто сорок три тысячи гульденов на подкуп императорских советников. Но то ли Исаак Ландауер истратил еще больше, то ли он действовал более умело, процесс затянулся надолго и в результате привел к сложному запутанному денежному и деловому полюбовному соглашению.
Герцогу эта история, как и вообще вся канцелярщина управления страной, скоро показалась скучной и противной. Он издал много прекрасных манифестов, завоевал любовь своего народа, а советники его – шумливый генерал Ремхинген, увертливый дипломат Шютц, хитрый финансист Зюсс – уверяли его изо дня в день, что все беды теперь миновали и для Вюртемберга наконец наступил золотой век. Где в Германии найдется второй, столь преданный своему долгу, государь? Преисполненный гордости перед богом, людьми и самим собой, кичась сознанием, что имя верного пастыря и услады рода человеческого, которым наградил его в приветствии Тюбингенский университет, вполне им заслужено, он предоставил своим советникам осуществлять все обещания, а сам, в предвкушении солдатского житья и в чаянии приумножить свою славу, выехал к армии.
Зюсс пригласил тайного советника Бильфингера и профессора Гарпрехта на совещание в связи с процессом против брата и сестры Гревениц. Все трое сидели в перегруженном роскошью рабочем кабинете Зюсса, еврей – стройный, элегантный, вюртембержцы – грузные, ширококостые. Процесс принял неблагоприятный оборот. В Вене ясно дали понять, что бывшего гофмаршала следует выпустить на волю и заключить с ним полюбовную сделку: он предлагал уступить по низкой цене свои вюртембергские владения. Смертную казнь графине в Вене тоже не склонны были утвердить и предлагали ограничиться денежной компенсацией. Такое компромиссное решение оба вюртембержца находили неудовлетворительным и наносящим урон достоинству государя. Зюсс, наоборот, полагал, что наиболее осязательным следует считать тот успех, который выражается в крупных цифрах, а для такой деловой особы, как графиня, нет кары чувствительней, чем крупный денежный штраф. Пусть только поручат урегулирование финансового вопроса ему, он, безусловно, сумеет угодить герцогу. Положительные и справедливые вюртембержцы сочли эту точку зрения легкомысленной и чисто еврейской. К тому же они знали, что Зюсс вел какие-то дела с графиней, и не доверяли ему. Но ведь вюртембергский посланец вернулся из Вены ни с чем, следовательно, оставалось только согласиться на компенсацию, которую еврей проведет, конечно, лучше всякого другого, а герцог безусловно верит в его удачливость и ловкость рук. Им пришлось с досадой согласиться на то, чтобы все дальнейшие переговоры вел Зюсс.
Покончив с этим, Зюсс обратился к законоведу за некоторыми разъяснениями касательно спорных правомочий ландтага. Это был вопрос, который взволновал обоих вюртембержцев до глубины души. Законовед Гарпрехт, человек медлительный, степенный, осторожный, привыкший обстоятельно, всесторонне рассматривать каждую проблему, и Бильфингер, близкий друг знаменитого философа Вольфа, прославившийся на всю Европу своей ученой деятельностью в Петербурге, склонный подходить к каждой проблеме с высокопринципиальной точки зрения, оба истинные патриоты, оба спокойные серьезные люди, не могли не сознавать, что конституция стала наследственным вотчинным владением отдельных, наиболее влиятельных бюргерских семей, в среде которых места народных представителей наравне с домами, мебелью, векселями передавались в наследство или служили предметом торга; они знали, что знаменем свободы злоупотребляют единицы, отрывая от него лоскутья для своих личных выгод. Но тем не менее они были глубоко и вполне искренне убеждены, что конституция и свобода, коими пользуются сословия, суть подлинные столпы государства, и толковали все спорные вопросы взаимоотношений между монархами и народом, исходя из принципов свободолюбия и высокой ответственности, в духе которых была составлена конституция, завещанная первым вюртембергским герцогом, воистину великим государем малой страны. И первый его принцип был – обеспечение народных вольностей, – а его пароль: «Attempto! – Дерзаю!» И пусть конституция порой препятствует государю в осуществлении даже полезных начинаний, это, на его взгляд, было зло ничтожное, если сравнить, какое великое благо творит конституция, своими ограничительными законами избавляя монарха от многих тяжких промахов.
Речь шла о стоявших в явном противоречии к духу конституции проектах и предложениях Зюсса касательно пошлин и монополий; но текст конституции был настолько туманен, что находчивый и недобросовестный толкователь мог без труда найти в нем лазейки. Гарпрехт, а за ним и Бильфингер с горячностью возражали, а Зюсс слушал учтиво и внимательно. Но вдруг ученый заглянул в глаза финансиста, в эти большие, выпуклые, алчные, умные, настороженные, бессовестные, хищные глаза. Не в первый раз видел он их, но лишь сейчас прочел то, что было в них написано. Что в его глазах значили свобода, конституция, совесть, народ? Средство для всякого рода маклаков взобраться туда, где находится он, стрясти плоды с того дерева, на котором сидит он, с его дерева – с герцога. Ученому стало ясно, что для этого человека конституция и ее представители – всего лишь конкуренты, и ненавидит он их неумолимой ненавистью конкурента. Под его умным, алчным, хищным, захватническим взглядом, не облагороженным светом идей, все высокие понятия превращались в ребяческие бредни, оказывались замаранными, осмеянными. Ученый почувствовал, что говорить с этим торгашом о духе закона, о его прекрасном и благородном значении – попросту глупо, все равно что обращаться к раскрашенной картонной маске. Еврей наверняка выбирает из его слов лишь годное на потребу своим нечистоплотным, своекорыстным проектам. Гарпрехт неожиданно замолчал, менее экспансивный Бильфингер хоть и не сразу, но все же понял, что смутило его друга. Скоро оба вюртембержца откланялись холодно и хмуро, а неизменно учтивый Зюсс почтительно проводил их.
У дверей им повстречался Исаак Ландауер в лапсердаке и с пейсами. Зюсс пригласил его, чтобы урегулировать финансовые дела графини. Они поняли друг друга с полунамека. Нужно было составить договор в таких выражениях, чтобы по виду он был выгоден для герцога, а на деле – для графини. Ожесточенно торгуясь, они наступали друг на друга. Каждый защищал еще и собственные интересы, ибо у каждого были претензии как к герцогу, так и к графине. В конце концов Зюсс якобы выторговал в пользу герцога триста двадцать три тысячи гульденов, но на деле получалось так, что герцог должен уплатить графине сто пятьдесят восемь тысяч гульденов. При передаче этой суммы Зюсс, правда, удержал с графини, за какие-то ссуды и займы, тридцать тысяч гульденов, а герцогу поставил в счет за услуги в этом деле еще пять тысяч гульденов.
Итак, любовная история графини, повергшая на многие годы в смятение и тревогу все герцогство, закончилась значительной прибылью в пользу тайного советника по финансовым делам Иозефа Зюсса Оппенгеймера. Графиня прочно обосновалась в Берлине и вела блестящую шумную жизнь. Унылая вдовствующая герцогиня прихварывала еще смолоду, состояние ее здоровья все ухудшалось, и врачи не могли постичь, откуда у нее берутся силы. Она же, с неприкрытой, унылой, застарелой ненавистью взирала на Берлин, на свою соперницу, на эту тварь, и умерла лишь через три недели после графини.
Карл-Александр объезжал крепости, фортификационные работы, военные лагеря, скакал верхом, колесил в экипаже, издавал приказы – словом, был весьма деятелен. Радостно отпраздновал он сердечную встречу со старым главнокомандующим, принцем Евгением, человеком очень умным, но несколько жестким и суховатым. Осторожный принц отступил перед превосходными силами французов и расположился в укрепленном лагере под Гейдельбергом. Французы опять очутились на вюртембергской земле, назначали контрибуции, реквизиции. Однако подкрепления, полученные имперской армией, главным образом стараниями Карла-Александра, принудили французов отступить за Рейн. Ретиво и неутомимо занялся теперь герцог обеспечением безопасности границ. Строились крепости, рылись окопы, герцог постоянно совещался с Бильфингером. С полной ответственностью и знанием дела приступили они к осуществлению весьма дальновидного и поистине гениального в стратегическом отношении плана. Решено было на расстоянии между Роттвейлем и Роттенбургом в нескольких местах эскарпировать горы, дабы сделать тут границу совершенно неприступной, кое-где вырыв небольшие шанцы, затем провести линию укреплений от Шильтаха до Оберндорфа, вплоть до самого Неккара и загородить Гейбергский перевал. Чтобы нести гарнизонную службу в этих укрепленных пунктах, вполне достаточно пяти батальонов и от десяти до двенадцати эскадронов. И при помощи таких относительно малых средств можно создать швабские Фермопилы,[34] о которые каждый галльский Ксеркс неминуемо разобьет себе голову.
Сначала ландтаг не противился планам Карла-Александра. В правление Эбергарда-Людвига герцогство так сильно страдало от французских вторжений, контрибуций, грабежей, хищничества, убийств и насилий, что оно, естественно, от всей души было признательно своему нынешнему государю за сильную, умелую военную защиту. Но как только французы были отброшены за Рейн и непосредственная опасность миновала, представители сословий стали менее сговорчивы. Они донимали герцога постоянными мелочными и назойливыми жалобами. То и дело к нему являлись депутации с протестом против его мероприятий, связанных с набором и военными приготовлениями; его злили их упитанные, осовелые, мещанские лица, их упрямая чванливая тупость. Рогатки на каждом шагу. Пополнение армии производилось до крайности медлительно, лошади, снаряжение, провиант доставлялись с явной неохотой и всегда в меньшем, чем требовалось, количестве. Военные налоги поступали туго, сборы производились нерадиво, кассы пустовали. Герцог, подозрительный по натуре, усомнился в своих советниках, предположив, что втайне они заодно с ландтагом. Он вытребовал в лагерь своего еврея.
Зюсс напряженно следил за каждым, самым незначительным событием в вюртембергской политике, взвешивал, оценивал и давно с вожделением ждал этой минуты. Он точно, ясно и трезво наметил себе конечную цель, как всегда досконально рассчитал каждый свой шаг, малейшую пядь пути, так что поле его действий лежало перед ним, словно начерченная с математической точностью географическая карта.
Во всеоружии и во всем своем великолепии направился он в лагерь. Карл-Александр тотчас же принял его. Была ночь. Горели свечи, в углу примостился чернокожий. Герцог сидел с Бильфингером над чертежами. Громогласно и гневно излил он накипевшую в нем досаду, перед этими двумя слушателями он не считал нужным сдерживаться. Его недоверие к министрам, в особенности к Нейферу и Форстнеру, еще возросло. Именно они в свое время, когда он был еще принцем, убедили его подписать пресловутые реверсалии и торжественные обещания ландтагу, чтобы тем самым в момент междуцарствия пресечь всякие происки в пользу принца Генриха-Фридриха. Теперь он внушил себе, что эти обязательства подписывать вообще не следовало, а вдобавок оба советника обманули его. Они стакнулись с коварным и мятежным ландтагом, в чистовом экземпляре кем-то пропущен или изъят один лист; текст чистового экземпляра не совпадает с черновиком, который ему показывали раньше. С испугом и негодованием слушал Бильфингер эти безосновательные и бессмысленные обвинения, которые отрывисто, чуть не рыча от ярости, выкрикивал герцог. Бильфингер взял себя в руки и постарался успокоить герцога, логически доказывая ему, что подписал он лишь то, чего так или иначе от него требует конституция и в чем, после Тюбингенского соглашения, присягали все его предшественники. Из этого следует, что, заблаговременно подписав соответствующий документ, он сделал всего лишь красивый жест; однако, принимая во внимание настроение умов, это было не только целесообразно, но и попросту необходимо. Настойчивые увещевания Бильфингера принудили Карла-Александра замолчать, но не убедили его. Зюсс ограничился тем, что внимательно слушал; в мерцании свечей его многозначительно улыбающееся лицо своей белизной и спокойствием резко контрастировало с красными возбужденными лицами государя и строителя крепостей. Карл-Александр неожиданно обратился к нему:
– А ты что думаешь, еврей?
Зюсс, пожав плечами, выразил недоумение, как это ясные и мудрые приказы герцога могут выполняться так плохо и неточно. Весьма вероятно, что тайные советники втихомолку шушукаются с непокорными парламентариями; изменники они или нет, сказать трудно, но во всяком случае, судя по неудовлетворительным результатам, они бездарные нерадивые крючкотворы. Что же предлагает он, спросил герцог. На основании своего опыта военных поставок в Австрии, Зюсс порекомендовал налагать крупные денежные пени за всякое проявление злостной пассивности. Денежными штрафами можно многого добиться. Горожанин, как и крестьянин, больше всего дорожит своей собственностью, он скорее пожертвует жизнью, чем деньгами. Герцог сказал, что обдумает этот план, а Зюсс пускай тем временем разработает соответствующие предложения. Еврей заявил, что это уже сделано, и положил на стол пачку документов и подсчетов. Бильфингер снова начал приводить пространные доводы против подозрений герцога, советуя ограничиться более мягкими и осторожными мерами. Карл-Александр прервал его злобным взглядом и заговорил о лежавших перед ним чертежах.
Уже на следующий день он отдал Ремхингену приказ строжайше проводить в жизнь проект Зюсса. Итак, они стали работать совместно: генерал воплощал силу, еврей – мозг. Ремхинген издевался над евреем, преследуя его грубыми, циничными, пошлыми шутками. Зюсс ненавидел и презирал генерала, но сдерживался и на грязные солдатские шутки отвечал неизменной равнодушно-учтивой улыбкой. Зато его поразительная деловитость и сметливость, неиссякаемый запас фортелей и уловок вызывали у генерала невольное ворчливое и насмешливое восхищение. Общим у этих двух людей было только честолюбивое желание во что бы то ни стало угодить герцогу, добыть для него как можно больше солдат и денег, общим было и глубокое органическое убеждение, что народ принадлежит монарху наравне с его конями и псами, и потому малейший намек на непокорность монаршей воле представлялся им преступной дерзостью.
Как по волшебству явилось теперь все, чего раньше нельзя было добыть ни уговорами, ни силой. Если прежде барабану вербовщика, несмотря на самый раскатистый грохот, с трудом удавалось собрать весьма неказистую компанию тысячи в две добровольцев, главным образом отпетых проходимцев, то теперь казармы еле вмещали рекрутов. В ремонтных конюшнях топотали кони, цейхгаузы были переполнены амуницией, кассы ломились от денег и векселей, в амбарах и на складах не хватало места для поступающего зерна и наваленного горами провианта. Свежий, стремительный, бурливый поток сменил унылое мелководье. Повсюду обильный подвоз, запасы. Торжествующий Карл-Александр расцветал и открыто прославлял талант и ловкость своего тайного советника по финансам.
Но над страной навис свинцовый, удушливый гнет. Правда, и раньше случались принудительные наборы, но только для бездомных бродяг, для молодых здоровых лентяев, которые ложились бременем на общину. Теперь же рекрутская повинность распространилась на всю холостую молодежь страны. Кто хотел откупиться, тот уплачивал огромную сумму. Семейные были освобождены от набора, а кто, не достигнув двадцати пяти лет, желал вступить в брак, с того взимался налог в размере пятой части его имущества. Все лошади подлежали осмотру, годные – реквизировались, правительство расплачивалось долгосрочными обязательствами. Торговля и ремесла были обложены тяжелыми военными податями, пошлины взыскивались строго.
Ох, как быстро исчезли венки и ленты с портретов герцога! Лучшая молодежь с проклятиями напяливала солдатский мундир. Матери, жены, невесты обливались слезами и шли по рукам в отсутствие мужей. Из-за того что молодым людям запрещали жениться, росло количество внебрачных детей, участились случаи вытравления плода, детоубийства. Поля обрабатывались кое-как, не хватало людей, лучшие лошади были угнаны силой. Угрожала дороговизна, исчезли съестные припасы и другие товары. Все громче звучали гневные возмущенные голоса. Издавались грозные приказы, под страхом телесного наказания и смертной казни воспрещавшие всякие неодобрительные отзывы о герцогских распоряжениях и подстрекательство к мятежу. Для примера какие-то брюзги и ворчуны были арестованы и преданы суду. Громкое возмущение стихло, но гневный ропот по-прежнему слышался там, где не приходилось бояться наушников. Женщины в тупой тоске смотрели на запад, куда со скрежетом зубовным ушли сыновья и возлюбленные, которых схватили и втиснули в окаянные нелепые мундиры. Крестьяне ворчали, глядя на плохо обработанные пашни.
– Где они, наши славные, гладкие, откормленные кони! Запрягут их в эти дурацкие пушки, и обратятся они в тощих одров!
Зюсса такое настроение ничуть не трогало. Когда он вводил в Курцфальце гербовую бумагу, он успел привыкнуть к скопищам перед своим домом, к бранным выкрикам и пасквилям; все это отскакивало от него, как горох от стены. Кто посмел бы затронуть его? Он стоял у кормила власти, он был первым советником государя, никто не умел так угодить ему, как он. Никто не был способен, как он, раболепно, со смиренным видом сносить гневные вспышки необузданного сумасброда, привыкшего к военной субординации, и спустя час после того, как его выгнали, вернуться будто ни в чем не бывало. Герцогским чиновникам было предписано во всех денежных вопросах безоговорочно подчиняться его, гоффактора, советам, ни одно распоряжение в области финансов не издавалось без его ведома и воли. А что так или иначе не связано с деньгами? Кто управляет финансами – управляет страной.
Раздув ноздри, Зюсс сладострастно вдыхал атмосферу власти, в которой теперь жил. Со времени своих успешных мероприятий, направленных на пополнение войска, он по существу был властелином в Вюртемберге. Он взобрался высоко, он добрался почти до вершины, дрожь охватывала его, стоило ему взглянуть вниз, где копошились всякие козявки, силясь вскарабкаться наверх. Нередко, когда его приемная была полна робевших просителей, он шагал один по своему рабочему кабинету, полураскрыв в улыбке пунцовые губы, ярким пятном выделявшиеся на белом лице, прислушивался к приглушенному шепоту, вздыхал полной грудью, усмехался и отсылал всех ожидающих аудиенции, не приняв никого. Ах, какая отрада, отрада и гордость сознавать свою власть над людьми!
С щекочущим сладострастным чувством ощущал он скрытую бессильную ненависть тех, что раболепно льстили ему в лицо, а за спиной оплевывали его. Ему передали остроту, ходившую в народе; ее автором был приземистый свиноглазый толстяк, булочник Бенц, который любил поговорить с приятелями на политические темы в трактире под вывеской «Синий козел»: «При прежнем герцоге страной правила шлюха, а при нынешнем жид». Зюсс призвал к себе булочника, толстяк трусливо отводил глаза, потел, отпирался. Тогда Зюсс собрал всех своих слуг и перед этой хихикающей, подталкивающей друг друга челядью, которая отлично знала, что словцо пустил Бенц, заставил апоплексического толстяка поклясться совестью, честью и Христом-спасителем, что он ни о чем ведать не ведает и никогда не позволил себе ни одного непочтительного слова о его превосходительстве, после чего его отпустили, и он удалился, поцеловав руку ухмыляющемуся Зюссу, пыхтя и пятясь назад. Зюсс же не преминул кротко пожаловаться герцогу, что своей верной службой его светлости навлекает на себя недовольство народа.
Дом свой он обставил по-княжески. Для внутренней отделки он пригласил сицилийского архитектора маэстро Убальдо Райнери, который прославился и вошел в моду благодаря заказам французской знати. Покои Зюсса изобиловали драгоценными коврами, гобеленами, вычурной резной мебелью, лепкой, ляпис-лазурью и позолотой, вазами и бюстами. Архитектор, не то по простоте сердечной, не то насмешки ради, поставил наряду с Гомером, Солоном и Аристотелем бюсты Моисея и Соломона. На плафоне столовой в многофигурной фреске было изображено торжество Меркурия. А на потолке спальни Леда в томной неге предавалась любовным утехам с лебедем; по поводу огромной роскошной кровати, откровенно и нагло возвышавшейся посреди зеркал, обыватели, громко и грубо смеясь, болтали в трактирах, а девушки, слушая, прыскали как от щекотки. Он гордился тем, что первый ввел в западной Германии процветавшую в Париже моду на экзотику. Китайские статуэтки, маленькие звенящие пагоды плохо уживались с Моисеем и Солоном, с Гомером, Соломоном и Аристотелем. Но особенно удивлял и занимал дам сидевший в золоченой клетке попугай Акиба, который хрипло выкрикивал: «Bonjour, madame» или: «Как ваша светлость изволили почивать?» или: «Ma vie pour mon souverain».[35] Стол у Зюсса был такой изысканный, как ни у кого другого в стране, ел он только на золоте и серебре, и люди диву давались, откуда он добывает что ни месяц то новые, невиданные в Швабии сорта мяса, устрицы, креветки, заморские плоды и фрукты, а булочник Бенц злобно косился на сладкие слоеные пироги и торты, на изящные произведения искусства из мороженого и фруктов, которые с неиссякаемой изобретательностью изготовлял француз – кондитер еврея.
Темно-малиновая с серебряными пуговицами ливрея Зюсса скоро стала известна повсюду. Он держал секретаря, библиотекаря, скороходов, гайдуков, повара и виночерпия. По дому расхаживал, надзирая за штатом, полный, бледнолицый, флегматичный и безучастный на вид Никлас Пфефле, все замечал, налаживал, приводил в порядок. У камердинера Зюсса работы было немало, журнал «Mercure galant» он должен был знать наизусть. Тайный советник по финансовым делам хотел во что бы то ни стало слыть самым элегантным кавалером в герцогстве, его гардероб пополнялся каждые две-три недели. Он питал настоящую страсть к драгоценностям. Солитер, который он носил на пальце, был знаменит, пряжки на башмаках и перчатки были, по последнему слову моды, осыпаны драгоценными каменьями. У него в будуаре, а также в парадной спальне стояли витрины с драгоценностями, которые постоянно пополнялись новыми искусными изделиями благодаря его связям с амстердамскими и некоторыми итальянскими ювелирами. Этими драгоценностями из витрин он имел обыкновение одаривать своих посетительниц, равно как дам из высшей аристократии, так и девушек из простонародья. Над ним издевались, его поносили, открыто высмеивали за то, что он вынужден прибегать к таким средствам; он же только улыбался, он знал, что против его метода устоять нельзя, что одаренная им женщина привязывается к нему узами корысти. Зато мужчинам он охотно перепродавал свои драгоценности, ожесточенно и упорно торгуясь. Он особенно любил этот вид коммерции. Как приятно пропускать сквозь пальцы целый водопад маленьких сокровищ, обменивать маленький камешек на груду золота, а груду золота – на новый маленький камешек и сознавать при этом, сколько могущества таится в маленьком камешке.
Его конюшня была невелика, но составлена из самых породистых коней. Он вел обширную торговлю лошадьми вплоть до самой Голландии, покупал, перепродавал знатным господам, выменивал. Добыл трех арабских копей для герцогини. А для личного пользования у него была арабская белая кобыла Ассиада, что значит – Восточная. Ему продал ее левантинец Даниэль Фоа, она была из конюшен калифа. Он, собственно, не питал любви к своей кобыле, однако холил ее; он знал, какой у него царственный вид верхом на этой небольшой, нервной грациозной лошадке. Даже крикун Ремхинген вынужден был признать, что верхом он может сойти за человека «из общества».
Получить доступ к Зюссу было труднее, чем к герцогу. Сколько требовалось рекомендательных писем, беготни и хлопот, чтобы добиться аудиенции, и при этом он иногда в последнюю минуту отказывался принять ожидающего. Он был герцогским банкиром и носил звание тайного советника по финансам, и только; ни под одним политическим актом не стояло его подписи. Согласно конституции, еврею возбранялось занимать какую-либо государственную должность, и Зюсс был настолько умен, что довольствовался пока властью как таковой, без официального чина. Он знал, что не министры и даже не герцог, почти постоянно находившийся при войске, а он, он один правит герцогством. К нему являлись на поклон именитые иностранцы. Когда он собирал у себя тесный круг гостей – от пышных празднеств он пока благоразумно воздерживался, – люди куда больше жаждали получить приглашение к нему, чем на раут к любому министру. Вскоре образовалась целая партия его сторонников, которая постоянно сопровождала его на верховых прогулках, повсюду превозносила его гениальные способности и заслуги перед герцогом и народом – словом, окружала его, точно придворный штат. Тюбингенский юрист Иоганн-Теодор фон Шеффер, прекрасный знаток государственного права, одним из первых открыто стал на его сторону, советники Бюлер и Мец из герцогской канцелярии последовали за ним, равно как и попечитель сиротского приюта Гальвакс, статс-секретарь по приему прошений Кнаб, советники Кранц, Тилль, фон Грунвейлер. Начальник удельного ведомства фон Лампрехтс послал даже двух своих сыновей на службу к советнику по финансовым делам, чтобы они, состоя при нем пажами, обучились манерам и светскому обращению. Этот придворный штат окрестили еврейской гвардией. Такую кличку придумал управляющий казенным имуществом Георги, – Зюсс ему этого не простил, – и град дешевых острот посыпался на еврейских прихвостней. Но очень скоро обнаружилось, что еврейские прихвостни верно учуяли, откуда ветер дует, ибо с каждым днем все яснее становилось, что дом на Зеегассе – подлинная резиденция герцогства. Огромный крючковатый нос тайного советника Шютца тоже замелькал теперь в гостиных Зюсса, а мрачный, озлобленный законовед Нейфер искал в окружающей Зюсса атмосфере новых сокрушительных доказательств человеческой подлости, и со светски непринужденным видом принюхивался к этой атмосфере вылощенный Вейсензе – любопытствующий мудрец.
Женщины, проходившие мимо дворца на Зеегассе, со щекочущим любопытством заглядывали сквозь широкие створки портала в вестибюль, где внушительно возвышался швейцар в темно-малиновой ливрее с серебряными пуговицами. Когда Зюсс верхом на белой арабской кобыле во всей своей красе проезжал по улицам, многие женские взгляды с похотливым трепетом стремились ему вслед. Из уст в уста шепотом передавались нелепые, жуткие, любострастные россказни о еврее, о том, как неистово он насилует женскую плоть, нечистыми средствами въедается женщинам в кровь и предает их дьяволу. Герцог больше доверял вкусу своего еврея, чем прочих приближенных, и Зюсс обязан был под разными предлогами посылать в лагерь к ненасытному сластолюбцу все новых и новых женщин. Когда Ремхинген принимался злословить по поводу оргий «обрезанного», завистливо негодуя, как может приличная христианка лезть в постель к еврею, не иначе как тот пускает в ход черную магию, тогда герцог в ответ раскатисто смеялся, уверяя, что благообразное лицо и крепкие бедра действительнее всякой магии. Тому же Зюссу он доверил подбирать женщин для оперы и балета и часто шутил, что еврей – гурман и многими блюдами лакомится до него. И правда, через зеркальную спальню, под фреской с пышнотелой Ледой, прошла длинная вереница женщин, юных и зрелых, белокурых и черноволосых, немок и француженок, холодных и пылких. Но еврей, во всем прочем склонный к самохвальству, здесь упорно молчал и не заикался ни об одной из своих побед, ни о трудных, которыми гордился, ни о бесчисленных – очень легких. Среди толпы шумных, хвастливых кавалеров он один хранил молчание, и ни циничная настойчивость Карла-Александра, ни учтиво-вкрадчивое любопытство Вейсензе, ни грубые насмешливые приставания Ремхингена не могли сломить его любезную уклончивость. Но если все-таки при дворе, в кабаках, в казармах осмеивали, оплевывали, обсуждали, обмусоливали многие пикантные, необычайные, безусловно не выдуманные подробности альковной жизни Зюсса, то вина падала на тех женщин, которые, гордясь близостью к этому опасному мужчине, непохожему на других, окутанному ореолом женского любопытства, всхлипывая и хихикая, открывали приятельнице свою сокровенную тайну и при этом заклинали ее молчать.
Когда еврей закончил меблировку своего дворца, к нему, уступая его настойчивым и почтительнейшим просьбам, пожаловала сама герцогиня в сопровождении Ремхингена. Она кокетливо проносила по сверкающим покоям свою грациозную головку, будто изваянную из старого благородного мрамора, щурилась продолговатыми с поволокой, ящеричьими глазами на китайские безделушки, улыбаясь послушала, как попугай Акиба прохрипел: «Ma vie pour mon souverain», – тонкими холеными пальчиками потрогала колокольчики миниатюрных пагод, приняла в подарок от Зюсса не слишком ценное, но очень оригинальное по форме кольцо с ядом, плавно ступая крохотными ножками, проследовала мимо низко склонившихся темно-малиновых лакеев к конюшням и собственноручно дала кусочек сахару кровной белой кобыле Ассиаде. С удовлетворением принимала она раболепную покорность Зюсса. У других были маленькие негритята или взрослый чернокожий слуга, да хотя бы даже китаец, но еврея с собственным дворцом и попугаем и чистокровной белой кобылой – этого, santa madre di Loretto![36] не водилось и в Версале.
Уже садясь в карету, пока толпа глазела на нее, обнажив головы, она сказала обычным своим медлительным дразнящим голосом низко склонившемуся над ее рукой советнику по финансовым делам:
– Все красиво, еврей, все прекрасно. Но комнаты, где убивают христианских младенцев, ты мне так и не показал. – И, засмеявшись своим легким серебристым, игривым смехом, она уехала.
А Зюсс все стоял с обнаженной головой у своего дома, и народ глазел на него и шушукался, он же ничего не замечал и смотрел вслед ее карете выпуклыми, крылатыми, выразительными глазами, и пунцовые губы на его белом лице были полуоткрыты.
Когда подошла весна, рабби Габриель, как всегда совершенно неожиданно, покинул белый домик, окруженный цветочными клумбами. Он путешествовал незаметно, без слуги, его широкое, массивное лицо показывалось то здесь, то там; он никогда не спешил и нигде у него не было особых дел; но нигде он и не отдыхал, он ехал безостановочно, и хотя дорога его шла зигзагами, она вела его все вперед, словно по какому-то предначертанному пути.
Вот он скрылся в горах. Провел два дня в крестьянском доме у мостика, перекинутого через горный ручеек, смотрел, как стволы деревьев уносились бурлящим потоком, сталкивались, перекрещивались, задерживались и плыли дальше по набухшему ручью. Ночи напролет прислушивался к беспрерывному позвякиванию колокольчиков – это стадо уходило на горные пастбища. Поднялся вверх по трудному перевалу, ведущему к югу. Дул южный ветер, недавно прошел дождь, воздух навис влажной тяжестью, горы отливали темной голубизной. Путник пешком стал взбираться выше, а экипаж, скрипя, потащился за ним следом. По мокрой, искрящейся на солнце тропинке крупная улитка волокла свой домик; рабби Габриель торопливо и бережно отстранился. Спустя четверть часа ее раздавила его же коляска. Увязая в снегу, он перевалил через кручу. Навстречу ему пахнуло вольным весенним теплом. Вся в цвету широко раскинулась благодатная страна. Он достиг огромного озера. Остановился. Долгие часы сидел на берегу, неподвижный, грузный, как залитый солнцем камень. Густо зеленели сочной листвой апельсинные деревья, а дальше карабкались по береговым склонам серебристо-воздушные оливы.
Тем временем Зюсс ехал в Гирсау. С тех пор как дядя привез девочку в страну, со времени его безмолвного, язвительного напоминания, Зюссу уж не удавалось так прочно, как прежде, замкнуться от заповедного. Веяния оттуда проносились по бумагам, когда он считал, прокрадывались в его сны, реяли над ним, когда он, блистательный и всем ненавистный, проезжал по улицам на своей белой кобыле Ассиаде, и даже лошадь, учуяв их, начинала волноваться, становилась на дыбы, ржала. Случалось, что он, этот расчетливый делец, судивший о вещах прямо и трезво, зная положенный им предел, не боясь называть их настоящим именем, вдруг среди бела дня испуганно вздрагивал, тяжко вздыхал и, словно обороняясь, передергивал плечами; чье-то лицо выглядывало из-за его спины, призрачное, туманное, и лицо это было его собственное.
Его давно уже тянуло в Гирсау в белый домик, окруженный пестрыми, приветливо праздничными цветочными клумбами. Он сам себе не признавался, что его всегда удерживала близость рабби Габриеля, тяжкий, зловещий гнет этих всевидящих, усталых, требовательных блекло-серых глаз.
Он и теперь не признавался себе, что именно отсутствие старика побудило его так быстро и внезапно решиться на поездку. Он ехал к Ноэми, ехал только в сопровождении Никласа Пфефле, и на душе у него было так легко и беззаботно, как никогда. Он ехал повидать свое дитя, мысленно он уже видел свое дитя, и все его расчеты, и политика, и власть, и тщеславие остались позади как ненужный тлен. Он глядел на свежую пашню, вдыхал ее аромат и не высчитывал, какой урожай даст это поле и какие можно будет выжать налоги с продажи этого зерна, нет, он видел только нежную окраску зеленеющих всходов и вдыхал ветерок, проносившийся над полем. Проезжая лесом, он радовался стройным великанам деревьям и не думал прикидывать смету лесничества, радовался зеленому мху и, совсем уж по-детски, радовался белкам, хотя с точки зрения финансово-экономической – это был никудышный товар. А увидев, как крестьянский парень обнимает стан своей возлюбленной, он приветливо кивнул им, и только в самом отдаленном уголке его мозга шевельнулась мысль о хитроумной затее обложения налогом ранних браков. Он ехал повидать свое дитя и сердцем уже был там, где его дитя. Когда же наконец он увидит белоснежный кубик дома и цветочные клумбы перед ним, а в нем свое дитя? Вот уже узкая колея ответвляется от большой дороги. Он выходит из экипажа, сворачивает, все ускоряя шаг, на пешеходную тропинку. Вот забор, он открывает потайную калитку, вот высокие деревья, вот клумбы, а вот, задыхаясь и замирая, девочка в самозабвении прильнула к нему.
Молчит. Молчит долго, целую вечность молчит. Прильнула к нему, растворилась в нем, цепляется за него, впитывает его образ своими огромными проникновенными глазами. А Зюсс стоит перед ней, отбросив все напряжение, настороженность, все охотничьи повадки, и бездумно отдается течению этого блаженного часа.
Как прекрасна его дочь! Она совершенство. Ни единой черточки в ней, ни малейшего движения, ни волоска, ни колебания голоса не хотелось бы ему изменить. Прекрасна его дочь перед всеми женщинами, нежна она и чиста, чистым светочем пламенеет она, пламенем своим очищает его. Вместе с нею он, ласково усмехаясь, глядит на старую, переваливающуюся с ноги на ногу, всей душой преданную ей служанку Янтье; он, для кого любое растение и животное были холодными, мертвыми предметами, теперь учится понимать язык каждого цветка, каждый из них говорит ему что-то; своим нежным дыханием напоила она все кругом, и он во всем ощущает ее жизнь.
При рабби Габриеле он чуть не робел перед девочкой, тот стоял между ними как стена. Теперь он дает волю желаньям и мечтам, которые раньше молчали, притаившись, как побитые псы. Зачем прятать девочку от людей? Пусть блистает перед всем светом, как царица Савская, как царица Эсфирь, пусть ее домогаются владетельные князья, пусть молят его отдать им свое дитя в жены, пусть принцы из сказочных царств сложат к ее ногам золото и ароматы и все сокровища Эдома.
Но вот он пришел с Ноэми в библиотеку. Повсюду доски с магическими фигурами и астрономические таблицы, и вдруг ему почудилось, будто глаза старика где-то здесь, в комнате, будто они глядят на него, блекло-серые, хмурые, гнетуще скорбные, и золотые грезы, которыми он только что окутывал свое дитя, вдруг обратились для него в грязь и мерзость.
Но вот Ноэми заговорила. Тоненьким детским голоском заговорила о каббалистическом древе, о небесном человеке, о священных буквах-числах, составляющих имя божие, ее огромные проникновенные глаза сияли благочестием на белом как снег лице, и тяжелой гнетущей атмосферы – как не бывало.
И Зюсс уже не пытался, как у себя за письменным столом, с игривой иронией противопоставлять знакам Каббалы вполне реальные числа, наполняющие его приходо-расходные книги, уже не оборонялся с глухим бессильным упрямством, как при рабби Габриеле, чье присутствие действовало на пего так гнетуще. А она, оживившись и с самозабвенным обожанием глядя на отца, заговорила о героях Ветхого завета, и смелым шагом, гордо подняв голову, вошел в комнату Давид с пращой в руке, ворвался Самсон, направо и налево круша филистимлян, преисполненный священного гнева изгонял Иуда Маккавей[37] язычников из храма. И все они воплотились в нем, слились с ним, от него заимствовали силу, красоту, пыл и рвение. Но вдруг она замолчала, и лицо ее омрачилось. Она увидела Авессалома, запутавшегося густыми волосами в ветвях. По ее плечам пробежала дрожь; в испуге широко раскрыв глаза, она схватила руку отца, прижалась к ней, теплой и живой, прижалась крепко, крепко. Он ответил на пожатие, но даже отдаленно не понял, что так взволновало ее.
Так прожил он три дня, беспечный, свободный от кипучего вихря своей повседневности. На третий день, когда он был в комнате один, а перед ним стоял полный, невозмутимый на вид Никлас Пфефле, все оставленное где-то там во внешнем мире внезапно нахлынуло на него. Он увидел груды бумаг, ожидающих подписи, увидел кипучую жизнь, – и кипела она без него. Чиновники, дельцы – все спешили наперегонки, карабкались вверх, пытались взобраться на его место, угрожали ему, а он не направлял своей волей этот водоворот, он сидел здесь вдали, ни о чем не заботясь. А сколько всего тем временем могло быть упущено или обращено против него. Непонятно, как он спокойно сидел здесь, непонятно, как он все эти дни не думал ни о чем. Цветы уже ничего не говорили ему; живое дыхание природы не доходило до него; числа и фигуры священной науки превратились в пустые бредни. Перед ним встали подсчеты доходности тех или иных предприятий, герцогские рескрипты, парламентские интриги, сложные дела, жизнь, власть. Рассеянно глядел он на свою дочь, которая, замирая, лежала в его объятиях. Он оторвался от нее, и вот ужо далеко позади остались, ненужные, и девочка, и белый домик, и празднично приветливые цветочные клумбы; над заповедным вновь захлопнулась крышка.
Когда он поспешно шел по лесу к проезжей дороге в сопровождении Никласа Пфефле, он увидел вдруг, что под деревом у края просеки сидит девушка, лицо у нее смуглое, смелое, руки закинуты за голову, ярко-синие, редко встречающиеся при темных волосах большие глаза смотрят вверх сквозь стволы деревьев. Но поза у нее не спокойная, а какая-то судорожно напряженная. Он прямо направился к ней; она была прекрасна, совсем не похожа на других девушек в здешних краях, на смуглом смелом лице запечатлелись странные, не обычные для швабок, мысли. Только когда он совсем близко подошел к ней, неслышно ступая по мягкому мху, она заметила его, вскочила, взглянула на него расширенными от страха зрачками, закричала:
– Дьявол! Дьявол ходит по лесу! – и убежала.
Хладнокровный, всеведущий Никлас Пфефле объяснил удивленному Зюссу:
– Это Магдален-Сибилла Вейсензе. Дочь прелата, пиетистка.
Сидя в карете, Зюсс решил, что разумно будет мимоездом лично покончить некоторые дела с франкфуртскими финансистами. Но это был просто предлог, которым он обманывал самого себя. Ему нужно было не личное обсуждение финансовых вопросов; после нереального, зыбкого бытия в домике с цветочными клумбами, ему настоятельно нужно было утверждение своего «я», своей власти, своего успеха, ему нужна была громкая, прочная слава. Он послал за секретарем, за слугами. Въехал во Франкфурт во всем величии и блеске.
Франкфуртские евреи дивились и волновались, они шушукались, покачивая головой, прищелкивали языком от изумления и умиления, вздевали красноречивые руки; Ай, вот вам и Иозеф Зюсс Оппенгеймер! Ай, вот он, вюртембергский придворный фактор и тайный советник по финансам! Ай, как он далеко пошел! Отец у него был актер, мать певица, правда – красавица, правда – франтиха, но особа легкомысленная, не большая честь для еврейства; дед его, реб Зельмеле, да будет благословенна память праведника, был честный человек, кантор, благочестивый, уважаемый человек, но все-таки человек маленький, бедный. А посмотрите-ка на Иозефа Зюсса, какой он знатный, блестящий, могущественный, куда важнее своего брата, дармштадтского выкреста, который крестился, чтобы стать бароном. Ай, как явно отличил его господь! Хоть он и еврей, а гои срывают шапки перед ним и кланяются ему до земли, и стоит ему свистнуть, как сейчас же сбегаются советники и министры, словно он сам герцог.
Зюсс упивался всеобщим восхищением. Он сделал такое крупное пожертвование на нужды синагоги и на бедных, что все диву дались. К нему пришли попечитель общины и раввин, рабби Якоб Иошуа Фальк, невысокий, строгий, сосредоточенный человечек с морщинистым, испещренным вздутыми жилами лбом и запавшими глазами; оба выразили благодарность, а на прощание раввин благословил его.
Потом он стоял перед своей матерью, и красивая глупая старая женщина расстилала ему под ноги свое тщеславное восхищение, словно пушистый ковер. Он нежился в этом теплом потоке безудержно изливающегося на него обожания; сотни зеркал дурманили отражением того, что уже достигнуто. Из самых затаенных уголков души выкапывал он сокровеннейшие свои мечты перед этой восторженной слушательницей, которая, блаженно улыбаясь, гладила его руку. Полный упрямой решимости, сбросив с себя чары белого домика, до краев переполненный головокружительно смелыми планами, поспешил он назад в Штутгарт.
Война окончилась, Карл-Александр вернулся домой в свою столицу. Он был в прескверном расположении духа. Непосредственной цели ему, правда, удалось достичь, удалось оградить свою страну от вражеских набегов и бесчинств. Операции были проведены последовательно, по всем правилам военного искусства, все тактические задачи разрешены безупречно, ему удалось доказать, что он величина, что с ним нужно считаться как с полководцем, к тому же имеющим в своем распоряжении собственное внушительное войско. Но, в сущности, результаты получились довольно мизерные и весьма далекие от той славы, о которой он мечтал. Мрачно сидел он в карете, боль в хромой ноге усилилась, мучила астма.
Навстречу попался почтовый дилижанс, почтительно обогнул герцогскую карету и остановился. Среди слинявших от смирения лиц Карл-Александр узнал лицо хмуро и спокойно поклонившегося ему человека. Лицо широкое, бледное, приплюснутый нос, под нависшим лбом – блекло-серые глаза. Он слегка вздрогнул, ему почудился скрипучий голос: «Первого я вам не скажу». Гнетущее чувство сковало его. Ему привиделось, что он скользит в беззвучном призрачном танце, впереди рабби держит его правую руку, Зюсс позади – левую. А вот там, далеко впереди, сплетенный с ним целой цепочкой рук, – разве это не веселый толстяк Фридрих-Карл, не Шенборн, вюрцбургский епископ? Как он жутко комичен. И все так тускло, туманно, бесцветно. Герцог поехал дальше еще более мрачный.
В Штутгарте его со всех сторон обступили неприятности. Герцогиня радостно поздоровалась с ним; однако ночью, лежа в его объятиях, она спросила своим обычным слегка насмешливым тоном, много ли ценной добычи вывез он из Версаля; ведь она еще невестой мечтала, что он сорвет парик с головы французского Людовика и принесет ей в качестве трофея. Конечно, это было невинное подтрунивание, но его оно глубоко уязвило.
Дальше на сцену выступил малый парламентский совет со своими скучными, назойливыми, действующими на нервы придирками и претензиями. Уже во время второй аудиенции члены совета настойчиво и беззастенчиво потребовали немедленно распустить солдат ввиду заключения мира. Герцог побагровел, от ярости у него дух захватило. С большим трудом принудил он себя выслушать депутацию, не набросился на нее с кулаками, не приказал арестовать ее, заковать в кандалы. В конце концов он не выдержал и, задыхаясь от кашля и астмы, выкрикивая проклятия и ругательства, самым грубым и бесцеремонным образом выгнал вон растерянных, насмерть перепуганных депутатов. И призвал к себе Зюсса.
У того, как обычно, в кармане лежал уже готовый проект. Карл-Александр принял его после ванны, в шлафроке, Нейфер растирал герцогу хромую ногу, чернокожий бегал взад и вперед с полотенцами, гребнями, щетками. Почтительно улыбаясь, Зюсс изложил свой хитроумный каверзный проект. О таком важном деле его светлости недостаточно договориться с одиннадцатью членами парламентского совета. Совет должен быть пополнен другими депутатами.
Что же будет этим достигнуто, спросил герцог, не сводя властных голубых глаз с его красиво очерченного, улыбающегося, подвижного рта.
При таком пополнении, бойко и плавно продолжал Зюсс, понятно, следует привлечь только тех депутатов, чья верность и преданность государю вне всяких сомнений.
Карл-Александр напряженно ловил каждое его слово, продумывал, взвешивал. Сообразил наконец, что таким способом оппозиция будет безболезненно изгнана из парламента и ландтаг превратится в сборище беспомощных шутов. Подскочил так, что камердинер Нейфер, растиравший ему хромую нору, пошатнулся.
– Ты гениален, Зюсс! – радостно завопил он и, как был, босой на одну ногу, забегал в возбуждении по комнате. Чернокожий, забившись в угол и медленно вращая глазами, следил за каждым движением своего господина. Так же внезапно Карл-Александр остановился в нерешительности и с сомнением спросил, откуда они узнают, на каких депутатов можно положиться? Скромно и вместе с тем самоуверенно усмехнувшись, Зюсс ответил, что просит герцога поручить это ему и пусть он со стыдом и позором будет изгнан из Вюртемберга, если среди выбранных им депутатов окажется хоть один бунтовщик.
В тот же вечер Зюсс начал переговоры с Вейсензе. Сообщил ему, что герцог считает необходимым, ввиду важности вопроса, увеличить состав совета; кто из парламентариев, по мнению прелата, способен настолько постичь высокие задачи Карла-Александра и оценить, сколь велик в Европе его авторитет, чтобы в интересах герцога, а значит, и в интересах народа, ими, этими парламентариями, стоило бы пополнить совет одиннадцати? Вейсензе слушал настороженно, вставляя похвалы дальновидности и щепетильности герцога, наконец, после многих оговорок, осторожно и нерешительно назвал два-три имени. И тут же переменил тему, непринужденно заговорил о чем-то постороннем. Зюсс вежливо поддержал разговор, а затем как бы случайно, мимоходом, заметил, что председатель церковного совета, на взгляд герцога, совсем одряхлел и стал непригоден, и неужели же он, Вейсензе, собирается всю жизнь просидеть в Гирсау, когда человек с его дипломатическим кругозором, с его опытом и ученостью был бы таким полезным советником в Штутгарте? От вожделения у прелата раздулись ноздри, он не устоял против соблазна, и когда Зюсс снова заговорил о созыве ландтага, он, горестно усмехаясь собственной слабости и вероломству, со вздохом назвал несколько имен, и таким образом в лице не названных предал конституцию и ее приверженцев. Увы, наш мир – совсем не лучший из миров, как утверждают некоторые модные философы, это очень плохо устроенный, гнусный мир. Только простак может соблюсти себя в чистоте; кто умен и многогранен и не хочет остаться совсем в стороне от мимотекущей жизни, тот неминуемо должен замарать свою душу и стать предателем.
Был назначен созыв ландтага. По списку Вейсензе все депутаты оппозиции были исключены, их протесты оставлены без внимания. В некоторые города и округа явились уполномоченные герцога с сильным военным эскортом, они самочинно составляли пожелания, поручения и обязательные наказы депутатам якобы от имени народа.
В такой атмосфере собрался ландтаг, которому надлежало разрешить вперед на десятки лет один из важнейших вопросов швабской политики – вопрос о содержании значительной постоянной армии. Сессия кургузого парламента происходила не в здании ландтага в Штутгарте, герцог пожелал, чтобы она ради облегчения контакта с его особой состоялась в его Людвигсбургском замке, у него на глазах. Крохотный городок был переполнен солдатами, во время заседаний депутатов охраняли усиленные военные наряды, за малейший намек на оппозицию их тут же арестовала бы собственная охрана. Герцог после развязной речи на открытии сессии больше вообще не появлялся; он принимал парады, устраивал в окрестностях военные маневры; в то время как его министры небрежно и снисходительно давали уклончивые, надменные ответы на робкие запросы депутатов.
Не мудрено, что, при сложившейся обстановке, ландтагом была утверждена грандиозная военная программа герцога, а также удвоенные ежегодные налоги и сдача тридцатой доли урожая всех плодов. Таковому положению о налогах надлежало оставаться в силе впредь до конца тяжелых времен и исчерпания возможностей страны. Под дулом солдатских мушкетов господа депутаты, обычно столь осмотрительные и готовые торговаться из-за всякого пустяка, не осмелились уточнить эту существеннейшую оговорку, а когда во время неофициального обсуждения они робко поставили вопрос, кто же будет уполномочен судить о тягости положения и ресурсах страны, Зюсс и Ремхинген перешли на такой грубый, нетерпимый и даже угрожающий тон, что депутаты, присмирев, не стали требовать уточнения этого важнейшего пункта. Еще никогда, за все время существования конституции в стране, ни одному вюртембергскому герцогу не удавалось добиться от парламента таких уступок, как Карлу-Александру и его еврею.
Спустя две недели после сессии гирсауский прелат Филипп-Генрих Вейсензе стал председателем высшего церковного совета в Штутгарте.
Вскоре после этой победы Зюсса над парламентом брат герцога принц Генрих-Фридрих скончался в своем родовом замке Вивиенталь. С той поры, как Карл-Александр завладел его возлюбленной, а затем глумливо и высокомерно отослал ему назад плачущую и униженную женщину, слабовольный принц изводился в бессильных и дерзновенных мечтах о мщении. Он начал было нерешительные и довольно бессмысленные переговоры с парламентом. Но господа депутаты сочли его неподходящей фигурой и не пошли ему навстречу. Он часто устремлял тоскующий затравленный взор на кроткое, темно-русое создание, вся жизнь которого теперь была едва скорбная мольба о снисхождении. Однажды он обхватил слабеющими потными руками ту прекрасную полную, крепкую шею, сдавил, попытался придушить и вдруг с испугом отпустил, погладил:
– Ведь ты ни при чем, ты ведь ни при чем! – Он рисовал в своем воображении дикие фантастические сцены мести: как он закалывает свою возлюбленную, перекидывает через седло ее труп и скачет по всей стране, призывая народ к отмщению. Или как он захватывает брата в плен, заставляет его целовать ноги своей возлюбленной, как затем убивает их обоих, ее приказывает похоронить как королеву, а брата зарыть в землю как собаку. Сам же он парит над происходящим, словно театральный бог мести. Но осуществить он не мог ничего, он мог только изводиться и умереть.
Узнав о смерти брата, Карл-Александр немедленно послал министра Форстнера и военного советника Дилдея в замок Винненталь опечатать вещи умершего и, главное, изъять его переписку. Как раз во время сессии кургузого парламента он узнал о новых интригах брата с членами ландтага и загорелся желанием получить документальные доказательства, уличающие некоторых оппозиционных парламентариев в измене. Ох, как ему хотелось их прихлопнуть, как хотелось стереть их в порошок, свернуть шею гидре!
Его посланные застали в тихом замке немногочисленную, растерянно бродившую по комнатам прислугу, а у тела покойного в тупом отчаянии застыла белокурая девушка. Они не привезли герцогу ничего, кроме безобидных бумажек.
Карл-Александр вскипел. Он не сомневается, что члены малого совета были в тайном сговоре с покойным, замышляли вознести его на престол. Он с яростью накинулся на посланцев, которые добыли ему только ненужный хлам. Наверное, они украли, сожгли все компрометирующие бумаги, умышленно упустили и загубили прекрасный случай раскрыть вражеские козни.
Зюсс разжигал и подстрекал его. Лучшей возможности уничтожить ненавистных интриганов не дождешься. Он припомнил давние нелепые подозрения герцога. Ведь эти же самые люди в свое время наседали на Карла-Александра с злополучными реверсалиями, гарантирующими свободу вероисповедания, и прочли ему в Белграде черновик, совсем непохожий на позднейший штутгартский чистовой экземпляр. Кто, как не они подменили листы и всунули подложную страницу в окончательный текст? От нашептываний Зюсса герцог-солдат, как дитя неискушенный в вопросах дипломатии, наново распалялся застарелой злобой. Эти господа, видно, наловчились утаивать важные бумаги. И нынешние безуспешные поиски заведомо существующих письменных доказательств измены лишний раз подтверждают предосудительность их прежних поступков и уличают их в тайном сговоре с мятежным парламентом.
Зюсс вполне понимал мудрого государя, которому надоело править страной при таком двуличном кабинете, состоявшем если не из государственных преступников, то в лучшем случае из тугодумов, крючкотворов, педантов, трусов, оппортунистов, двурушников. Министры Форстнер, Нейфер, Негенданк, Гарденберг впали в немилость и получили отставку. Уцелел один Бильфингер. Благоразумный Зюсс не решился посягнуть на широко известного за пределами Вюртемберга неподкупного ученого. Впрочем, тот не очень мешал ему, будучи поглощен своей наукой, а в политике, хоть и был внушительной и устрашающей фигурой, предпочитал держаться в тени. Кстати, и герцог настолько ценил беседу этого специалиста по постройке крепостей, что Зюсс вряд ли чего-нибудь добился бы.
Вместе с другими опала постигла и управляющего казенным имуществом Георги, того самого, что пустил когда-то словечко о еврейской гвардии. Этот человек, озабоченный службой ради хлеба насущного, слишком поздно раскаялся в своей злосчастной шутке, слишком поздно попытался подладиться к Зюссу. Еврей торжествовал, наблюдая его неловкие попытки к сближению. Он измывался над недалеким, неповоротливым чиновником, то проявляя к нему особую предупредительность – и Георги уже надеялся, что можно вздохнуть свободно, еврей, верно, не слышал его остроты или позабыл о ней, – то пугая его каким-нибудь намеком или скрытой угрозой. В конце концов Зюсс сам вручил управляющему казенным имуществом отставку, для чего пригласил его к обеду. Хозяин и немногочисленные гости сидели под красочным плафоном с триумфом Меркурия, ели на золотой и серебряной посуде изысканные пряные кушанья, из драгоценных кубков пили крепкие иноземные вина. Насытившись, сидели отяжелевшие, пыхтели, переваривали обильные яства. И тут-то еврей светски непринужденным тоном выразил управляющему казенным имуществом сожаление, что государь так мало ценит теперь его просвещенные услуги; увы, его светлость с некоторых пор вообще не любит и даже просто не терпит старой гвардии. А уж к новой управляющего казенным имуществом никак не причислишь. Георги в полном смятении взглянул на него, что-то пролепетал и тупо уставился в землю, тряся головой, а немного погодя поплелся восвояси.
Это был честный, но ограниченный человек с узким кругозором, в плену у всяческих условностей, отец семерых детей и бедняк. И вот теперь он впал в немилость, с позором отставлен от должности. Придя домой, он повесился.
Началась смена чиновников. До сих пор высокие посты занимали простодушные, мирные, медлительные, благонамеренные швабы; теперь на их места потянулись ловкие, расторопные люди, в большинстве иностранцы, изворотливые, многоречивые, способные распутать любое щекотливое дельце, клевреты Зюсса, всякие Шеферы, Тили, Лауцы, Бюлеры, Мецы, Гальваксы. Они сидели на всех ответственных постах, они занимали все подступы к герцогу. Но сам Зюсс по-прежнему отказывался от официального чина, у него было только звание тайного советника и обер-гоффинанцдиректора, а также управляющего личными доходами ее светлости герцогини; однако при всех дворах знали, что он – истинный правитель государства, его рука, хоть и без перстня с печатью, держала кормило власти.
Облегченно вздохнула страна, потянулась в сладостном ожидании. Конец войне. Сыновья, мужья, возлюбленные возвратятся теперь домой. Мирно, спокойно потечет теперь жизнь, а не рывками, с вечной нуждой, голодом и притеснениями. Не будет недостатка в мужчинах, молодых, здоровых, в сильных руках для работы, в хозяйском глазе, в мужниной ласке. Теперь можно правильно распределить работу, а не жить изо дня в день как попало. Не будет недостатка в славных, крепких конях, хоть и замученными вернутся они, но можно снова выхолить, выходить их. Все поля можно будет обрабатывать как раньше, следить, чтобы виноградники не глохли, а дома – не прогнивали и не пропадали. У городских ремесленников будут, как до войны, средства к жизни, сырье для работы, будет в изобилии продовольствие и вино. Все взоры обращены на запад, откуда возвратятся войска, возвратятся мужчины, лошади, палатки, телеги, обоз, провиант, все отнятое, оплакиваемое, недостающее, возвратится и дух и сила. Все взоры устремлены на запад, как в засуху на заволакивающие небо тучи.
И вдруг – жестокое разочарование – ландтаг постыдно капитулировал, армия не будет распущена. В огонь, на помойку портреты герцога, и Белград, и семьсот алебардщиков! Отчаяние прорвалось наружу, поднялись бунты, более грозные, чем в начале войны, но подавленные еще быстрее и решительнее. От постоев за недостатком казарм не освобождали никого. На каждые две семьи приходилось по солдату – как в домах горожан, так и в крестьянских домах. Всюду сновали шпионы; кто роптал или слыл подозрительным, на того накладывались двойные тяготы. Раз уж могущественные парламентарии мигом присмирели перед герцогской солдатней, естественно, что простые обыватели были совсем запуганы постоянным присутствием большого количества солдат и наглостью пришлых офицеров-католиков.
Кругом мирно расцветали государства и вольные города, в герцогстве же мир оказался хуже войны. Если во время войны Карлу-Александру деньги требовались только для армии, то теперь они были ему нужны и на содержание постоянного войска, и на содержание двора, где уже не знали предела роскоши.
Зюсс каким-то чудом, прямо колдовством, добывал деньги. Он чуял каждое потайное местечко, откуда можно их выкопать, словно обладал волшебным жезлом. Во время войны он только приладил тиски, теперь же медленно, со зловещим спокойствием и сноровкой, завинчивал их. Придавленная тяжелой пятой военщины, страна не кричала под нестерпимым гнетом, а лишь стонала, мучительно задыхаясь, истекая кровью и последними соками, погибала. Бесконечные поборы, штемпельные пошлины на все, даже на башмаки и сапоги. Кто-то пустил ядовитое словцо: скоро и у людей будут выжигать штемпеля на ладонях или на пятках – по четыре гроша за пару.
При Эбергарде-Людвиге и графине Гревениц торговля чинами и должностями была обычным явлением. Зюсс эту систему усовершенствовал, учредил для нее особую инстанцию, наградное ведомство, где каждое освободившееся место открыто, как на аукционе, отдавалось тому, кто дороже платил, где с той же целью создавались новые должности и звания. Предметом торга были все места, от советника экспедиции и ниже, вплоть до деревенского старосты и судьи, даже до сторожа при купальнях и штатного живодера. Никаких преимуществ для получения вакантной должности вюртембержцам не давали ни преемственность, ни выдающиеся способности: у кого не было денег, тому приходилось перебиваться кое-как или искать счастья за границей.
В Пруссии уроженец Штутгарта Кристоф-Маттеус Гейдегер быстро преуспел, меж тем как в Вюртемберге никого не трогало, что его деды и прадеды целое столетие были судьями. Впавшему в нищету Фридриху-Кристофу Коппенгеферу даже горячая рекомендация Бильфингера не помогла получить место профессора в Тюбингенском университете; этому замечательному швабскому физику пришлось добиваться заслуженного признания в Санкт-Петербурге, у гиперборейцев. Зато теперь на самых видных местах в герцогстве сидели понаехавшие со всего света ловкие дельцы. Можно ли было требовать, чтобы чиновник знал свое дело и успешно справлялся с ним, если у него не было других оснований получить должность, кроме уплаченного им крупного куша, и других стремлений, как только с лихвой окупить затраченный капитал?
Но самой прибыльной коммерческой аферой, самыми исправными тисками была юстиция. Здесь система Зюсса отличалась гениальной простотой. Право расценивалось по принципу его торговой рентабельности. У кого были деньги, тот мог добиться, чтобы за ним письменно, с печатью, утвердили любое право. У кого денег не было, тому не помогло бы самое непреложное доказательство его прав.
Зюсс с присущей ему ловкостью извлек всю возможную пользу из рескрипта, данного Карлом-Александром при вступлении его на престол. Этим рескриптом предписывалось предать суду всех чиновников из клики Гревениц, учредить особые комиссии для повсеместного пресечения лихоимства и хищений; народ восторженно приветствовал появление такого указа, в коем зримо проступает светлый лик Фемиды, по слову придворного пииты. Несколькими, поистине мастерскими штрихами Зюсс превратил лик богини в наглую ухмылку толстощекого бога Мамона. Для осуществления герцогского указа было учреждено фискальное ведомство. По всей стране разъезжали шпионы, а иные добровольно предлагали свои услуги для выискивания богатых и состоятельных людей, не имевших связей и не состоявших в родстве с придворными или членами парламента. Против них возбуждали дело за незаконное приобретение имущества и угрозами, вымогательствами, лжесвидетельствами доводили самых безупречных до того, что они выплачивали требуемую сумму, лишь бы избавиться от судебного разбирательства. Даже против покойников возбуждали дело, если они оставили порядочное состояние.
Большую огласку и за пределами Вюртемберга получил процесс надворного советника и начальника податного ведомства Вольфа. Его, человека независимого и неуступчивого, без всякого повода привлекли к суду. Советник экспедиции Гальвакс, клеврет Зюсса, предложил Вольфу полюбовную сделку, тот не согласился и продолжал отстаивать свою правоту. Делу дали ход, отсудили у Вольфа биссингскую мельницу. Когда ему объявили о конфискации его виноградников, он вспылил и бросился душить герцогского уполномоченного, принесшего это распоряжение. Вслед за тем у его сына отняли данное ранее разрешение вступить в брак и забрали молодого человека на военную службу. Взбешенный отец не смирился, проник к герцогу, у которого происходило заседание совета министров, и перед всеми собравшимися обрушился с яростными нападками на фискальное ведомство; в конце концов его силой увела швейцарская стража. Карл-Александр был не на шутку озадачен и потребовал к себе все документы по этому делу, но правитель дворцовой канцелярии Шефер успел внушить ему, что все делается по справедливости и закону, а Вольф попросту буян и сутяга. После этого дело приняло еще более неблагоприятный оборот, Вольфа приговорили к тюремному заключению. Он бежал за границу, где кончил жизнь в нищете. Все его имущество было конфисковано фискальным ведомством. За год эта судебная инстанция выжала в пользу герцогской казны шесть с половиной бочонков золота. Из них кассиры Зюсса насчитали бочонок с четвертью издержек и процентов, сверх того больше чем полбочонка Зюсс сам удержал за поставленные герцогу драгоценности.
Хотя Зюсс по-прежнему не занимал никакой официальной государственной должности, в Штутгарте давно всем было известно, что управление страной сосредоточено не во дворце, и не в людвигсбургской резиденции, и не в здании ландтага. Нет, все эти окаянные каверзные рескрипты, такие безобидные и даже благодетельные с виду, а на самом деле жерновом висевшие на шее, так что люди задыхались, изнемогая, – все, все они исходили из дома на Зеегассе. Теперь перед этим домом люди сжимали кулаки, бормотали проклятия, плевались, какой-нибудь смельчак отваживался даже приклеить пасквиль, но все это ночью, таясь, оглядываясь. Ибо лейб-гусары и шпионы еврея сновали повсюду, и всякий, кто провинился перед ним, мог невзначай очутиться в Нейфене или в гогенаспергском каземате, крест-накрест закованным среди вечной тьмы. А в трактире под вывеской «Синий козел» собирались обыватели потолковать о политике, пошушукаться; среди них бывал и булочник Бенц. Только он держал язык за зубами, боясь вторично попасть впросак. Но теперь и без него все было ясно, теперь стоило кому-нибудь сказать: «Да, да, при прежнем герцоге страной правила шлюха», – как другой подхватывал: «А при нынешнем правит жид». И поднимался ропот, лица искажались бессильной ненавистью, а у кондитера Бенца только поблескивали свиные глазки над жирными лоснящимися щеками.
Тяжко вздыхала, судорожно билась страна под удушающим гнетом. Зрели злаки, зрели лозы, трудились и созидали ремесленники. Герцог со своим двором и войском бременем лежал на стране, и она терпела его. Двести городов, тысяча двести деревень стонали, исходили кровью. Герцог выжимал из них все соки руками еврея. И страна терпела его и еврея.
В евангелические братства, молитвенные собрания, библейские общества пиетистов собирались труждающиеся и обремененные. Они тянулись к богу, как побитые собаки, лизали ему ноги. Несмотря на строгие запреты и кары, в герцогстве повсеместно обнаруживались пророки и ясновидящие. В Битингейме проповедник Людвиг Бронквель, последователь Сведенборга и Беаты Штурмин, уже однажды, в бытность викарием в Гросс-Ботваре, заслуживший порицание консистории за свои еретические взгляды на тысячелетнее царство и обращение евреев, теперь величал Зюсса долгожданным бичом божьим. Если собаку избивать целый день, проповедовал Бронквель, она убежит и станет искать другого хозяина. Простой люд подобен такой собаке. Избивает его герцог, избивают солдаты, избивают чиновники, офицеры, но самая главная палка – еврей Зюсс. И вот когда народу становится невмочь, он убегает и находит себе другого господина – Христа. Правда, проповедник был отрешен от должности и в лютой нужде скитался потом по Германии. Однако слова его учения не заглохли, и пиетисты собирались, чтобы возблагодарить господа за еврея, как за бич, коим он загоняет их к себе.
Девица Магдален-Сибилла Вейсензе осталась в Гирсау, когда ее отец перебрался в Штутгарт. С тех пор как она узрела в лесу дьявола, его образ преследовал ее. Она чувствовала себя призванной бороться с дьяволом, обратить его к богу. Тоска, сочетание ужаса и сладострастия, неудержимо влекла ее в лес, однако дьявола она больше не встречала.
Как ни странно, но она не решалась рассказать об этой встрече братьям и сестрам по библейскому обществу. Она утаила это видение даже от слепой Беаты Штурмин, от наставницы, от ясновидящей, от святой. Ей самой предназначено бороться с дьяволом, это ее миссия, ее призвание. Теперь, в воспоминании, его выпуклые глаза пылали еще более пожирающим пламенем, а губы еще чувственнее, еще искусительнее алели на очень белом лице. Люцифер был прекрасен, и в этом была его великая сила и соблазн. Взять его за руку, держать не выпуская, привести к богу, – вот торжество, от которого можно умереть. Хотелось закрыть глаза, чтобы полнее прочувствовать радость от такой победы.
А бедные братья и сестры по библейскому обществу что-то лепетали о ничтожных посланцах Вельзевула, о герцоге, о еврее. Магдален-Сибилле было даже жалко слушать их. Еврей, герцог-католик – что за мелкие безобидные бесенята рядом с самим дьяволом во плоти, которого она узрела и которого ей суждено побороть.
И у магистра Якоба-Поликарпа Шобера тоже была своя тайна. Даже братьям и сестрам по библейскому обществу, которые мирно свершали свой жизненный путь и не отличались большой наблюдательностью, бросалось в глаза благочестивое сияние на кротком, толстощеком лице молодого человека во время пения псалмов о небесном Иерусалиме. В эти минуты он видел навес перед белым домом среди цветочных клумб и девушку, потягивающуюся в полудреме, одетую по чужеземному обычаю, видел матово-белое лицо под иссиня-черными волосами. Он еще не раз с замиранием сердца перелезал через высокий забор и однажды снова увидел девушку, но это случилось в ненастный день поздней осени, девушка была одета во что-то темное, и прежнее неземное яркое, солнечное видение заслонило ее нынешний облик.
Спустя некоторое время штутгартское евангелическое братство предложило ему хлопотать о месте герцогского библиотекаря, но дело сорвалось, так как у него не было нужной суммы, которую требовало наградное ведомство за предоставление этой должности. В глубине души он был очень рад, что мог оставаться в Гирсау и в грезах витать вокруг леса и белого домика.
Между ним и Магдален-Сибиллой в библейском обществе установилась удивительная душевная близость. Братья и сестры смиренно и умиленно вздыхали о тяжких и блаженных временах скорби и просветления, о жестоком еврее, которого господь ниспослал герцогству, магистр же видел божественную девушку, а Магдален-Сибилла видела Люцифера, и их мечты возносились над всем окружающим, пронизывали наивные песнопения, поглощали все и заполняли собой голую, убогую, низкую комнату.
Белая кобыла Ассиада, что значит Восточная, скоро привыкла к мягкому швабскому воздуху; но ей не нравились швабы, не нравились их руки, их мелочность, угрюмая ограниченность, косность. Она была рождена в Йемене, в уплату дани попала на конюшню калифа, помощником казначея была продана левантинцу Даниэлю Фоа, а тот, в свой черед, уступил ее своему коллеге Зюссу. Зюсс заботливо ухаживал за кобылой, потому что она была его собственность и потому что верхом на ней он имел весьма представительный вид. Но он не любил ее. У него тогда еще не было сознания, что во всем живущем есть частица его самого; это сознание возникало в нем смутно и тягостно, когда с ним говорил рабби Габриель, оно блаженным током проходило по его крови, когда он видел Ноэми. Но пролетали краткие счастливые часы, и сознания этого как не бывало.
Зато оно было у белой кобылы Ассиады. Она знала поступь своего господина, руку его, запах, колени, стискивающие ее бока. Легко и грациозно ступая под ним, она думала: он меня не любит. Но он прекрасная ноша. Его совсем не чувствуешь. Он словно часть меня самой. Он поднимается и опускается с моим дыханием, с игрой моих мускулов. Когда другие смотрят на меня, у меня щемит сердце, и они мне чужие. А он часть меня самой. Взор его безбрежен, и мне хочется мчаться и лететь, когда он смотрит на меня. Когда его рука похлопывает меня, во мне прибывает уверенности, спокойствия и силы. Я с ним одно, мне не нужно иной родины, когда я с ним. И она вскинула голову и заржала звонко и торжествующе навстречу встрепенувшимся обывателям: «Берегитесь! Он едет! Он!»
Ибо Зюсс теперь открыто выставлял на свет свою власть, кокетничал и кичился своими совершенными светскими и придворными навыками. Только одна из новомодных аристократических забав была ему ненавистна: облава на лесного зверя. Ему казалось невыразимо глупым и гнусным сгонять животных в кучу, смотреть, как они мечутся, и стрелять по ним, беззащитным. При виде убитых зверей к горлу у него подступала тошнота, и, как ни страшны ему были бесцеремонные насмешки придворных, он не мог себя переломить и отведать этой убоины. Пусть мясники убивают быков, телят, баранов и свиней; это почтенное и полезное ремесло, которым, однако, никто не занимается потехи ради, и на мясников все-таки не смотрят как на благородных кавалеров. Зюсс никак не мог взять в толк, почему убой теленка
– дело мелкого ремесленника, а убой согнанных в кучу козуль – рыцарская забава. Вообще же он стремился быть центром всех увеселений при дворе. Каждый знатный иноземец, приехав в Штутгарт, спешил засвидетельствовать почтение всемогущему фавориту. Он увеличил свой домашний штат, так что из его лейб-гусаров в темно-малиновых ливреях можно было составить чуть не целую роту. Министров и высших чиновников он держал в рабском подчинении. Они боялись его едва ли не больше, чем самого герцога; стоило ему свистнуть, как они прибегали сломя голову. При малейшем противоречии он грозил им кандалами, плетьми, виселицей. Зюсс сам был точно вихрь. И его окружал постоянный вихрь. Коммерция, политика, дворцовые празднества, женщины. Он вызывал к себе кого хотел, и никто не смел ослушаться. При желании он бывал воплощенной любезностью, и все сердца таяли перед ним.
Герцога он всецело держал в своей власти. Карл-Александр чувствовал себя связанным таинственными узами с этим человеком, который первым уверовал в его счастье и этой утлой ладье доверил всю свою жизнь, а теперь словно волшебными чарами сметал с его пути все преграды, непреодолимые для него самого и для его советников. В искреннем восхищении, с примесью суеверного ужаса, смотрел он, как еврей из ничего добывает все, что от него требовали: деньги, женщин, солдат. И он слепо следовал всякому совету своего финанцдиректора.
С самой ранней юности Зюсс чувствовал безграничную уверенность в себе. Однако теперь он минутами сам бывал потрясен тем, какую задачу взвалил на себя и как легко, играючи, справлялся с ней. И раньше крупным финансистам из числа его соплеменников приходилось решать задачи огромного масштаба и в своих руках нести полный до краев сосуд власти. Но эти люди держались в тени или крестились, как его родной брат. Он же, еврей, один стоял перед целой Европой на опасной высоте и улыбался и был элегантен и самоуверен, и даже самый прозорливый взгляд не мог бы со злорадством подметить у него хоть малейшую дрожь.
Для того чтобы жить по-княжески, чтобы всецело держать герцога в руках, ему нужны были деньги, деньги в несметном количестве, постоянно в обороте, постоянно наготове. У своих родственников Оппенгеймеров, императорских банкиров в Вене, он научился оперировать крупными цифрами. Теперь же через его руки проходили дела всего герцогства, в полном его распоряжении находилась казна двадцати городов и тысячи двухсот деревень. С присущей ему кипучей энергией он бросал эти средства в самые разные предприятия, ни минуты не давал им лежать мертвым капиталом. Он завел связи со всеми европейскими банкирами, через его бесчисленных агентов, в большинстве случаев евреев, швабские деньги шли по самым запутанным каналам, на засеивание плантаций в Нидерландской Индии, на приобретение лошадей в Берберии, на охоту за слонами и черными невольниками у африканских берегов. Его основным принципом, его главной целью был непрерывный головокружительный оборот. Он не гнался за большой прибылью в каждом отдельном случае, а в итоге получалась гигантская прибыль, потому что от всех дел к его рукам прилипала малая толика. Итак, он старался быть участником всех денежных операций в Империи, он держал под своим контролем промышленность и торговлю во всех концах, во всех закоулках Европы, и значительная часть всех германских денежных средств проходила через его кассы.
У него были несметные личные доходы. Всякий, кто хотел чего-либо добиться при вюртембергском дворе, задабривал его презентами и знаками внимания. Герцог, которого осведомил об этом Ремхинген, рассмеялся: «Пусть наживается, шарлатан. Каждый его профит – для меня профит вдвойне». Его торговля кровными лошадьми приняла широкие размеры, но больше всего разрослась его торговля драгоценными камнями. Он с давних пор питал фанатическую страсть к драгоценностям; однако до сих пор при каждой крупной сделке ему поперек дороги становился некий дон Бартелеми Панкорбо, португалец, долговязый, тощий, молчаливый, загадочный человек с ввалившимися щеками и глазами, с лицом точно маска мертвеца. Казалось, он каким-то оккультным путем узнавал, где можно раздобыть по-настоящему ценное украшение, и сразу же там появлялась его фигура в старинной, нескладной, плохо прилаженной придворной португальской одежде. Он был в чинах и почете при курцфальцском дворе, благодаря своим дипломатическим связям держал в руках амстердамский рынок, а отсюда и всю германскую торговлю драгоценными камнями; Теперь Зюсс пустил в ход все свое политическое влияние, чтобы избавиться от ненавистного конкурента. Еврей боролся страстно, с остервенением; хладнокровно, цепко, коварно держась за каждую пядь, отступал тощий, загадочный португалец. Однако он был неистребим, его тень всегда ложилась на сделки Зюсса; но только лучшие и самые редкостные камни теперь сначала предлагались Зюссу, и приобрести некоторые уникальные драгоценности можно было лишь через него.
Торговля камнями была для Зюсса главным образом увлекательной игрой и наряду с крупной прибылью приносила и немалые убытки; зато он постарался обеспечить себя постоянным и верным доходом из целого ряда других источников. Он умудрялся устроить так, что всякий раз, как наступал срок значительных платежей, выдачи жалованья чиновникам и военным, – в герцогской казне не оказывалось наличных денег. Зюсс выдавал нужную ссуду из собственного капитала, удерживая в свою пользу по грошу с гульдена. Горожане и крестьяне видели в этой явно жульнической махинации источник всех своих невзгод, и никакая нужда, никакие лишения не угнетали их так, как этот отнятый евреем грош.
Он взял на откуп и чеканку монеты, но пренебрегал наживаться на неполноценности денег. К таким примитивным и низменным приемам он прибегал поневоле в период договора с Дармштадтом, когда был еще совсем безвестной и ничтожной пешкой и когда ничего другого ему не оставалось. Теперь же куда дальновиднее было зарабатывать на повышенном обороте полноценных денег. Итак, монета, которую он чеканил, была лучшей из всех германских разменных монет, наиболее ходкой и ценимой. Но, главное, ему не терпелось выпуском доброкачественной монеты заткнуть глотку своим врагам. Он понял, что именно на этом противники постараются поймать его, что именно здесь он споткнется при малейшем неверном шаге; если же, наоборот, он в этом покажет свою честность, его кредит неимоверно возрастет. Он с нетерпением ждал каких-либо нападок, даже старался поскорее вызвать их. Тугодум Ремхинген, в числе многих других, столь же наивных в финансовых вопросах, не мог объяснить себе растущее богатство Зюсса иначе, как только трафаретным предположением, будто еврей чеканит фальшивую монету. Он подзуживал герцога до тех пор, пока тот не приказал произвести расследование. Тогда Зюсс, со смиренно торжествующей улыбкой, представил письменные свидетельства агентов о том, что вес его монет слишком велик, а посему на них ничего не заработаешь, и расцвел еще пышнее в лучах собственной непорочности.
Он участвовал, кроме того, в целом ряде соглашений и откупов. Повсюду у него были разбросаны амбары и склады товаров, а герцогским указом он был освобожден от пошлин и акцизных сборов; кроме того, государственные чиновники, городское и окружное начальство облагали население трудовой и гужевой повинностью для его личных нужд. Он исхлопотал себе привилегию на устройство лотерей и обчищал карманы приманкой выигрыша в лотерее или в игорном доме. Он оплел всю страну широко разветвленной сетью многообразных предприятий. Он блаженствовал и упивался своим могуществом. Но порой ему казалось, что не от него исходит весь этот сверкающий вихрь. И не раз, точно обороняясь, как в ознобе, передергивал плечами. Его вдруг охватывало какое-то гнетущее чувство. Все предметы вокруг него как-то странно блекли; ему чудилось, будто он скользит в беззвучной, призрачной кадрили, рабби Габриель держит его за правую руку, герцог за левую. Они выделывают замысловатые фигуры, отвешивают поклоны. А там, дальше в цепи танцующих, сплетенный с ним множеством рук, разве то не Исаак Ландауер? Как зловеще комичен он в лапсердаке и с пейсами, при этом строгом, молчаливом, размеренном танце, поворотах и поклонах.
Но мрачная призрачная картина терзала его лишь краткие мгновения. Она таяла перед озаряющим его светом, рассеивалась в ничто, распылялась. А ему оставалось золото, которое можно взвешивать и считать, женская плоть, которую можно осязать и ласкать, стискивать, брать. Это было и оставалось. Блеск, власть, вихрь, жизнь.
В Урахе имелась полотняная фабрика, которая принадлежала семье Шертлин. Шертлины начали дело с малого при Эбергарде-Людвиге, а теперь пустили корни по всей стране. Их предприятие процветало, у них были филиалы в Маульбронне, а в Штутгарте шелковая мануфактура. В свое время, когда фабрика была еще мала и незначительна, Кристоф-Адам, энергичный, умелый и удачливый глава семьи Шертлин, добился ее преобразования в акционерное общество и уступил графине Гревениц часть паев по цене много ниже номинала. Таким простым маневром могущественная фаворитка была вовлечена в интересы предприятия, она добывала компании заказы и всяческие привилегии. Позднее, когда графиня впала в немилость и была вынуждена ликвидировать свое имущество, находящееся в Вюртемберге, Кристофу-Адаму. Шертлину удалось, договорившись с Исааком Ландауером, скупить ее акции по дешевой цене. Теперь он удалился от торговых дед, покинул пределы герцогства, приобрел и реставрировал патрицианский дворец в вольном имперском городе Эслингене. Там он был избран в члены муниципалитета и достойно доживал свой век в довольстве и почете.
Дела штутгартской, урахской и маульброннской мануфактур вел теперь Иоганн-Ульрих Шертлин, дельный, решительный, предприимчивый человек, один из виднейших швабских промышленников. Он взял себе в жены француженку из эмигрантской колонии Пинаш, основанной вальденсами в конце прошлого столетня в Маульброннском округе,[38] молодую женщину, отличавшуюся своеобразной красотой, маленьким ярко-пунцовым ртом на белом лице в надменными продолговатыми глазами под ореолом рыжеватых волос. Друзья и родственники не знали, как держать себя с ней. Женщина она была видная, спору нет, но только дьявольски высокомерная, отвечала скупо и кратко, а большей частью молчала со скучающим видом; да и говорила она, хоть и родилась в Германии, почти всегда на романском наречии, а по-немецки с запинкой. Но Иоганн-Ульрих Шертлин, при своем богатстве и видном положении, мог себе все позволить; у него были собственные дома и в Штутгарте и в Урахе, не считая фабрик. Так мог же он, черт подери, взять себе в жены и ввести в свой дом, кого хотел! И он гордо проходил по жизни об руку с любимой женой, и семья и дело его процветали.
А у Зюсса был приятель, связанным с ним деловыми отношениями, некий Даниэль Фоа, который жил в Венеции и добывал ему из стран Леванта деньги, лошадей, драгоценности, ткани и вина. Белую кобылу Ассиаду доставил тоже он. Этот Даниэль Фоа был знаком Зюссу еще по Пфальцу, где оказал ему весьма существенную поддержку в борьбе с доном Бартелеми Панкорбо. Левантинец, смелый, способный делец, наладив широкую торговлю тканями вверх и вниз по течению Рейна, решил теперь, воспользовавшись влиянием Зюсса, пробраться и в Швабию.
Он получил всяческие льготы и привилегии, однако натолкнулся на конкуренцию шертлиновских мануфактур, которые снискали себе добрую славу по всей стране. Желая оказать услугу левантинцу, Зюсс с присущим ему холодным расчетом принялся безжалостно устранять эту конкуренцию. Начались придирки к шертлиновским фабрикам, их права оспаривались и постепенно сводились на нет, их договоры с казной расторгались, акциз и пошлины на их товары были настолько повышены, что они уже не могли выдержать конкуренцию. К тому же сам финанцдиректор, в качестве подставного лица, на свое имя открыл для Даниэля Фоа фабрику, а податное ведомство не осмеливалось начислять на всесильного временщика налоги в указанных грандиозных масштабах, и товары его облагались либо совершенно ничтожными сборами, либо вовсе не облагались.
В дальнейшем начались притеснения и самой семьи Шертлинов. С одним из них фискальное ведомство по самому ничтожному поводу затеяло тяжбу, из которой он никак не мог выпутаться, двое младших Шертлинов были призваны в армию, несмотря на предложенный ими большой выкуп. Добраться до старика Кристофа-Адама, проживавшего в вольном городе Эслингене, правда, не удавалось, Иоганна-Ульриха пока тоже не смели тронуть, но произвол еврея тягчайшим гнетом навис над этой семьей, и Иоганн-Ульрих изнывал от горя, что дело его погибает, от стыда, что двое молодых Шертлинов силой забраны в армию, и от скорби, что он не может окружить свою прекрасную супругу княжеской роскошью, о какой мечтал для нее.
Тут наконец Зюссу подвернулся капкан, в который он мог поймать Иоганна-Ульриха. Один из молодых Шертлинов, что был солдатом, получил отпуск для поездки в Эслинген к деду и не вернулся оттуда. Переговоры между герцогом и вольным городом по поводу выдачи дезертиров шли давно, но пока ни к чему не привели. По настоянию маститого члена магистрата город отказался выдать юношу. В это время лейб-гусары Зюсса перехватили письмо Иоганна-Ульриха, в котором тот поддерживал старика в его намерении не выдавать дезертира герцогским комиссарам. Это уж было преступление против военных законов, государственная измена.
Зюсс, имея на руках все козыри, приступил к делу осторожно, не торопясь. Сначала Иоганну-Ульриху было предложено явиться к герцогскому военному следователю. Но так как самолюбивый купец ответил гневным отказом, его арестовали и заключили в гогентвильский каземат. Ходили толки, что его будут судить военным судом и приговорят к пожизненной каторге.
В опустевшем доме сидела бледная как смерть француженка. Строго сжав полные пунцовые губы, она безмолвно принимала любопытствующее сочувствие родни и друзей. Когда же все устали утешать гордячку, которая ни при ком даже не соблаговолила всплакнуть, и оставили ее в покое, к ней пожаловал советник Бюлер из фискального ведомства, состоявший в отдаленном свойстве с Шертлинами. Те всегда открещивались от него, считая его креатурой Зюсса. Теперь он явился с важным видом, едва скрывая свое торжество: разыграл комедию снисходительного сострадания, нашел, что француженка очень авантажна в своей немой высокомерной скорби, посоветовал ей обратиться к Зюссу. На того наговаривают, будто он крут в делах, это и вполне естественно, однако он не мстителен.
Любила ли француженка своего мужа, этого не знал никто, не знала и она сама. Но так как близился суд, она отправилась к Зюссу.
Она была из хорошей семьи, в их роду сохранились навыки французской придворной жизни, пышных аристократических традиций. Она увидела апартаменты еврея, его темно-малиновых лакеев, пажей. Увидела ковры, статуи, китайские безделушки. Это было не похоже на добротное убранство в доме Шертлинов. Здесь было то великолепное изобилие, то излишество, что превращает жизнь из тяготы, из обузы в усладу, в упоение, в нечто желанное и милое сердцу. Зюсс был настроен на веселый лад, и гостья ему приглянулась. Он обошелся с ней как со знатной дамой, говорил только по-французски, заметив, что ей это больше по душе, окутал ее лаской светских комплиментов, ни словом не обмолвился о ее горе. Это была ее атмосфера; приди она не в роли просительницы, она досталась бы ему шутя. Но теперь, когда он неожиданно, с циничной развязностью перебросил мостик от ее просьбы к своему вожделению, она, смертельно побледнев, на миг застыла, ошеломленная. Очнувшись, она крикнула ему негодующим тоном, что стыдится своего поведения, ей следовало раньше вспомнить, что она имеет дело с евреем. В ответ он спокойно, не поведя бровью, улыбнулся, отвесил глубокий поклон: «Нет так нет!» – почтительно проводил ее до двери и на прощанье поцеловал руку.
Он освободил Иоганна-Ульриха из тюрьмы и удовольствовался тем, что предоставил окончательное решение вопроса фискальному ведомству. Иоганн-Ульрих отделался денежным штрафом, настолько, однако, высоким, что предприятие его было подорвано навсегда.
Встреча с Зюссом оставила в душе француженки жгучий след. До сих пор она не знала, любит ли мужа или нет. Теперь осознала, что презирает его. Его долг был преуспевать. Он был недостоин ее, если не преуспел. Она презирала его за то, что он не мог предоставить ей блеск, изобилие, и темно-малиновых лакеев, и китайские безделушки, как мог Зюсс, презирала за то, что он был побежден Зюссом, что она ради него стояла перед Зюссом в такой жалкой роли. Она презирала его за то, что ради него отклонила домогательства Зюсса. Зюсс – это высший свет, он сродни ей, Иоганн-Ульрих
– ничтожный мещанин. Обо всем этом и даже о своем визите к еврею она не обмолвилась Иоганну-Ульриху ни словом. Он кипел против еврея, кричал, грозил кровавой местью. Но все это было праздное пустословие. Ее продолговатые глаза с холодным, надменным равнодушием глядели на него, и он знал не хуже ее, что он сломлен, раздавлен и ничего никогда не сможет сделать.
Он опускался все ниже и ниже. Фабрика в Урахе была продана с торгов, проданы и филиалы в Штутгарте и Маульбронне. Приобрел их левантинец. А Шертлину, как постыдную подачку, предложили место управляющего на одной из принадлежащих ему фабрик. Возможно, что он и согласился бы, если бы жена резко и решительно не отклонила предложения, почуяв тут руку Зюсса. Другие члены семьи Шертлин тоже были вовлечены в катастрофу. Пошли с молотка дома в Урахе и Штутгарте, земли и виноградники. Уцелел только старик Кристоф-Адам в Эслингене. Он еще выше держал свою крупную старческую голову, еще сильнее ударял оземь бамбуковой тростью, крепко сжимая золотой набалдашник сухой, но не дрожащей рукой.
По примеру очень многих из тех, кто потерял во время правления Зюсса добро и кров, Иоганн-Ульрих решил примкнуть к партии переселенцев, собравшихся в Пенсильванию. Француженка воспротивилась. Произошла короткая и жестокая борьба. Он избил ее, но остался на месте. Он открыл в Урахе мелочную лавку, скатился на самое дно, проводил время в кабаках, напивался, кощунственно клял герцога и окаянное жидовское хозяйство. Хотя других тяжко карали за такие крамольные речи, его не трогали. А его мелочной лавке власти явно покровительствовали. Им, по-видимому, были даны соответствующие указания из влиятельного источника.
Француженка, хотя и бедно одетая, держала себя по-прежнему надменно. Ее продолговатые глаза бросали вокруг высокомерные взгляды. Если покупатель пытался вступить в пространный разговор, она отвечала скупо и кратко. Большей частью она молчала со скучающим видом. Да и говорила она, хоть и родилась в Германии, почти всегда на романском наречии, а по-немецки – с запинкой.
По роскошным апартаментам Зюсса прохаживался Исаак Ландауер, в неизменном долгополом кафтане, на рукаве он упорно носил вюртембергский значок для евреев – латинское «S» с рогом, – чего никто от него не требовал. Блестящие зеркала, обрамленные позолотой и ляпис-лазурью, отражали его облик, умное, сухощавое лицо с пейсами и с козлиной рыжеватой седеющей бородкой. Финанцдиректор показывал ему свой дом. Старик в долгополом кафтане постоял перед вазами, гобеленами, звенящими пагодами, с обидной насмешливой улыбкой оглядел торжество Меркурия, костлявой холодной рукой потрепал белую кобылу Ассиаду, прошел мимо двух пажей, сынков начальника удельного ведомства Лампрехтса, которые стояли навытяжку у входа во внутренние покои. Пощупал богатую обивку на мебели, с поразительной точностью определил ее цену. Остановился, покачивая головой, перед бюстами Моисея, Гомера, Соломона, Аристотеля и заметил: «Таким наш учитель Моисей сроду не был». Тут как раз попугай Акиба прохрипел из своей клетки: «Как изволили почивать, ваша светлость?»
Зюсс давно поджидал Исаака Ландауера. К этому визиту он готовил свой дворец тщательнее, нежели к визиту любого государя. Он старался уловить на лице гостя изумленное, восторженное одобрение; ему страстно, мучительно хотелось поразить человека в долгополом кафтане, именно его. Но Исаак Ландауер только покачал головой, потер зябкие руки, улыбнулся, заметил:
– К чему это, реб Иозеф Зюсс?
В кабинет из любопытства заглянула Софи Фишер, дочь обер-прокурора Фишера, которая уже две недели открыто числилась метрессой финанцдиректора и проживала у него в доме. Это была рослая, видная девушка, белая, пышная, с рыжеватыми кудрями и очень красивым, но грубоватым лицом. Когда Зюсс выбранил ее за непрошеное появление, она отговорилась первым попавшимся предлогом, оглядела, поджав губы, Исаака Ландауера и удалилась.
– К чему это, реб Иозеф Зюсс? – повторил Исаак Ландауер. – К чему непременно тридцать слуг? Вы разве лучше едите, лучше спите, когда у вас тридцать слуг вместо трех? Я понимаю, что вы держите при себе эту девку, я понимаю, что вам хочется иметь красивую столовую, мягкую широкую кровать. Но к чему вам попугай? Зачем еврею попугай?
Зюсс молчал, до корней волос пылая злобной досадой, Это уже не чудачество, это насмешка, прямая, явная насмешка. Ни один министр не отважился бы на то, что с самой невозмутимой самоуверенностью позволял себе старик в долгополом кафтане: открыто потешаться над ним. А он был бессилен перед этим стариком, он нуждался в нем и мог лишь молчать. Того и гляди чудак опять вытащит на свет божий старые, затхлые истории, которые давно утратили всякий смысл и никого больше не интересуют, например равенсбургский процесс о ритуальном убийстве и прочую ерунду.
И он, Зюсс, обязан все это выслушивать. Без Исаака Ландауера никакие финансовые операции невозможны. Эх, хорошо бы устранить компрометирующего чудака! А вместо этого надо радоваться, когда он хотя бы подпускает к себе. Пока что обойти его нет возможности.
Хозяин и гость говорили о неотложных делах, явно не доверяя друг другу и торгуясь. В сущности, Зюсс всегда был дающей стороной; однако ему приходилось тратить гораздо больше слов, чем его собеседнику, и при всей своей чванливости он неизменно чувствовал себя в роли обороняющегося. Взгляда Исаака Ландауера не выдерживала даже самая искусная маскировка, он сразу проникал в суть вещей, всякое притворство было бессильно перед ним; недоверчиво покачивая головой, отметал он мишуру красивых слов и своими зябкими руками выхватывал самую сердцевину зюссовских дел – цифры. Чем больше хорохорился Зюсс, тем мучительнее вскипало в нем недовольство собой и досада. Он не хотел сознаваться себе, что им вертят, как марионеткой, что он пляшет под дудку старика в долгополом кафтане.
Когда дела были закончены и бумаги подписаны, Исаак Ландауер заговорил на сей раз не о равенсбургском детоубийстве, а о другой еврейской истории из вюртембергских анналов. Речь шла об известном еврейском художнике Аврааме Калорно и о генеральном консуле Маджино Габриели, и случилось это лет сто тому назад, при герцоге Фридрихе Первом. Герцог привлек обоих итальянских евреев в свою страну весьма заманчивыми обещаниями. Он был прямо околдован приятными манерами, ученостью, финансовой сноровкой и талантом еврейского художника, питал к нему неограниченное доверие, решительно и сурово отклонял все протесты духовенства и ландтага и даже ради евреев изгнал за пределы герцогства епископа Озиандера, меж тем как Авраам Калорно и его сородичи привольно и пышно проживали в Штутгарте. Но и эта история окончилась бедой и злосчастьем, одних евреев подвергли мучительным казням, других голыми и босыми прогнали из страны, и въезд в герцогство был евреям на долгое время запрещен.
– Они обзывают нас гложущими червями, – сказал Исаак Ландауер. – Пусть так, а сами они разве не гложут друг друга? Все, что живет, – гложет. Один гложет другого. Теперь ваш черед, реб Иозеф Зюсс. Обгладывайте, что можно и пока можно! – И он засмеялся обычным своим гортанным смешком.
Покинув наконец финанцдиректора, который нехотя слушал его, старик в долгополом кафтане прошел через аванзалу мимо насмешливо и злобно шушукающейся толпы просителей. В дверях он столкнулся с новыми гостями: с председателем церковного совета Вейсензе и его дочерью. Магдален-Сибилла, увидев Исаака Ландауера, приняла его за Зюсса. Таким вот, плюгавым, неопрятным, в долгополом кафтане и с пейсами, какими изображались евреи на лубочных картинках, рисовала она себе и мерзкого посланца Вельзевула.
Когда прелат Вейсензе, получив пост председателя церковного совета, явился к Зюссу с благодарственным визитом, тот очень любезно и непринужденно сказал ему, что слышал, будто у господина председателя весьма авантажная дочь. Было бы обидно, если бы цвет швабских девиц красовался вдали от столицы; Людвигсбург и Штутгарт не столь богаты, чтобы отказать себе в обществе дамы таких достоинств, какими, судя по описаниям, обладает мадемуазель Вейсензе. Прелат угодливо повел носом, польщенный интересом его превосходительства. Ему гораздо скорее, чем он ожидал, удалось убедить дочь поехать с ним в Штутгарт, чтобы представиться Зюссу. В просьбе отца она усмотрела перст судьбы. Где же еще было ей выполнить свое предназначение, где же легче вновь встретить дьявола, как не у его мелких посланцев, у герцога и у еврея? И она настороже и во всеоружии поехала с отцом в резиденцию.
Когда она поняла, что Исаак Ландауер не тот еврей, она была несколько разочарована, но ожидание стало еще напряженнее. Их приняли раньше других. Мимо вытянувшихся в струнку лакеев она прошла впереди отца в кабинет, увидела Зюсса, узнала в нем дьявола, покачнулась и упала без чувств. Очнувшись, она услышала мягкий бархатный голос:
– Я совсем обескуражен, что этот прискорбный инцидент приключился в ту минуту, как мадемуазель впервые переступила порог моего дома.
Ее отец что-то ответил. К ее носу поднесли флакончик с нюхательной солью. Не надо открывать глаза, чтобы не говорить с ним, не смотреть ему в лицо. Когда ей волей-неволей все-таки пришлось вернуться к жизни, она увидела, что глаза Вельзевула, крылатые, пламенные, выпуклые, скользят по ее груди и бедрам, и у нее дух захватило от нестерпимого сладостного стыда.
Пока девушка лежала без чувств, Зюсс успел оглядеть ее с ног до головы и оценить ее цветущую, девственную красоту. Ее обморок – следствие потрясающего впечатления, которое он, очевидно, на нее произвел, утешил его и поднял в собственных глазах после неприятного разговора с Исааком Ландауером. Как она лежит и дышит! Как прекрасен очерк ее матово-смуглого и не по-женски смелого лица, как волнует взлет густых бровей! Пока лакеи бегали за лекарствами и за врачом, Зюсс обдумывал, можно ли отважиться расшнуровать ей корсет. С Вейсензе, старым подобострастным царедворцем, церемониться было нечего.
Но тут она открыла глаза, такие неожиданно синие при темных волосах. Он помог ей подняться, он увивался вокруг нее, лаская ее взглядом, звуком голоса, нежными прикосновениями, почтительный, галантный, покорный, пуская в ход все свое искусство, изощренное долгим опытом. Когда девушка обратила к нему бледное смуглое лицо и полуугрожающий-полувосторженный взгляд смятенных глаз, он легкой, светски изысканной беседой уравновесил ее бессвязный лепет. В распоряжение гостей он предоставил носилки, экипаж, врача. Ни одним словом не пытался удержать председателя церковного совета. Сам под руку проводил Магдален-Сибиллу до экипажа, мимо отвешивающих подобострастные поклоны просителей. В то время как они проходили через вестибюль, им навстречу попалась Софи Фишер. Лениво проплыла мимо них белокурая пышнотелая девушка, искоса, злобно, с любопытством взглянула на Магдален-Сибиллу.
Перед домом на Зеегассе – толпа зевак. Ночь, слякоть, дождь пополам со снегом, порывы ветра теребят одежду, пробирают насквозь. Люди тесно сгрудились, ждут, смотрят, как, громыхая и прорезая огнями тьму, подъезжают кареты на костюмированный бал к Зюссу.
У подъезда пылают смоляные плошки. Все окна ярко освещены. Двери распахнуты настежь, темно-малиновым монументом высится швейцар с булавой, три лакея открывают дверцы экипажей.
Нескончаемый поток карет. Это не один из тех балов для широкой публики, из которых Зюсс делает предмет наживы и где он по спискам проверяет, кто из придворных, чиновничества или горожан посмел не явиться. Теми своими публичными празднествами он вынудил столицу и герцогскую резиденцию Штутгарт более пышно, чем раньше, справлять карнавал, чтобы ее обитатели за один раз прокутили и просадили в его пользу столько денег, сколько обычно тратили за несколько недель; теперешний же костюмированный бал был устроен единственно для того, чтобы избранным показать его величие и великолепие. Лишь самые знатные кавалеры, лишь прекраснейшие дамы из приближенных герцога были званы на этот бал.
Из-за шеренги лейб-гусаров Зюсса и городских стражников обыватели вытягивают шеи, чтобы под верхним платьем разглядеть костюмы подъезжающих гостей. Прибывают министры, генералы, двор. Вот тощий тайный советник Шютц в костюме испанского гранда; его крючковатый нос кажется вдвое больше, выступая над брыжами. А багровый громоздкий Ремхинген еще по дороге вспотел в тяжелой меховой шубе русского боярина. Его настроение портится еще сильнее, когда он у дверей сталкивается с господином де Риоль, одним из тех бродячих кавалеров, которые при всех дворах чувствуют себя как дома, разносят по Европе сплетни об аристократии всех стран, заправляя и торгуя великосветской молвой. Женщины в толпе громко фыркают; даже полицейские скалят зубы при виде вертлявого господинчика, наряженного китайцем, по оставшегося в пудреном парике. И правда, смешно смотреть на этого карлика с развратным, состарившимся детским лицом, когда он семенит подле рослого Ремхингена. Генерал, звеня шпорами, величаво и грузно шагает рядом с низеньким фатоватым иностранцем; однако он знает, что герцогиня либо из жажды разнообразия, либо чтобы позлить его, и сегодня, как все последние дни, предпочтет ему глупого французского болтуна.
Сквозь толпу, пешком, протискивается Нейфер, советник ландтага по юридическим вопросам, одетый в непонятный зловещий ярко-красный костюм; ему вслед несется ропот и брань; из членов парламента приглашен только он и Вейсензе. Его обгоняет весьма аристократическая, подчеркнуто скромная карета старого князя Турн и Таксис. Князь прибыл вчера в гости из Регенсбурга; его узкая изящная голова, похожая на голову борзой, выступает из темно-малинового костюма генуэзского вельможи, он предвкушает удовольствие впервые показаться сегодня в этом наряде, который придает ему особенную стройность. Но ему явно не везет с этим евреем. Тогда, в замке Монбижу, бледно-желтая гостиная убила его бледно-желтый кафтан, а теперь эта еврейская бестия вырядила весь свой штат в темно-малиновые ливреи, так что его, князя, можно принять за лакея, и весь эффект его темно-малинового костюма бесповоротно пропал. Рядом с раздосадованным князем плетется маленький невзрачный толстяк – тайный советник Фихтель, приехавший на два дня в Штутгарт с письмами от вюрцбургского епископа; в шароварах и турецком кафтане он напоминает мяч, его хитрая физиономия весело выглядывает из-под фески, мясистой ручкой он игриво машет толпе, недовольно шушукающейся при виде католиков.
Вот подъехала расхлябанная темная карета, на запятках один-единственный лакей в потрепанной старомодной ливрее, из кареты как-то особенно бесшумно вышел и проскользнул к двери сквозь затихшую толпу зевак курцфальцский тайный советник дон Бартелеми Панкорбо, с сизым, костлявым лицом; сам герцог вынудил Зюсса пригласить торговца драгоценностями, который обосновался в Штутгарте на продолжительный срок. Дон Бартелеми Панкорбо явился в обычном своем виде, обтянутый кожей череп торчал из болтающейся на нем, плохо прилаженной допотопной придворной одежды, другого костюма ему для маскарада и не требовалось.
Точно в назначенный час подъехала герцогская карета. Из нее, на сей раз только слегка прихрамывая, вышел Карл-Александр, одетый античным героем, величественный, импозантный; Мария-Августа изображала богиню Минерву, ее стройная талия, подобно стеблю, поднималась из пышных сине-зеленых фижм, а ящеричья головка грациозно поворачивалась направо и налево. Сегодня на ней был парик, над ним изящный золотой шлем, грудь облегало подобие тонкого золотого панциря; один паж нес за ней щит, другой – сову.
Фанфары собрались уже грянуть навстречу герцогской чете, на пороге парадной залы уже появился Зюсс, а гости уже чинно расступилась, когда герцог почему-то замешкался в вестибюле. Он увидел рядом со своим председателем церковного совета высокую статную девушку, наряженную флорентийской цветочницей; когда она, снимая плащ и поправляя гигантскую, всю в лентах соломенную шляпу, на миг сбросила маску, он разглядел не по-женски смелые очертания смуглых щек, ярко-синие глаза, странно контрастирующие с темными густыми бровями. Его охватило волнение, какого он давно не испытывал при виде женщины, ноги у него подкосились, под ложечкой засосало. Герцогиня, мило улыбаясь, переводила быстрый взгляд с Карла-Александра на девушку, которая поспешила вновь надеть маску.
– Я полагаю, ваша милость, нам следует войти в зал, – сказала Мария-Августа.
К ним как раз приближался Зюсс, стройный и элегантный в костюме сарацина.
– Кто эта дама? – спросил Карл-Александр.
– По моему разумению, девица эта – дочь Вейсензе, – отвечал еврей. – Мадемуазель Магдален-Сибилла Вейсензе.
Затем высокие гости проследовали в зал. Приветствуя их, низко склонились все присутствующие, фанфары загремели.
Так как герцогиня обожала театральные представления, Зюсс начал вечер с маленькой итальянской оперы «Развратник поневоле». В этом спектакле впервые выступала новая певица, неаполитанка Грациелла Витали, миниатюрная бойкая толстушка с загорелым, хорошеньким и пошловатым личиком и резвыми глазками. Зюсс рассчитывал, что она произведет впечатление на герцога, который был падок до женщин такого пошиба. На этом основании он обнадежил певицу заманчивыми перспективами, и когда после спектакля ее представили герцогу, она принялась заигрывать с ним, на глазах у всех жестами и взглядами предлагала ему себя, рассчитывая, что он тут же удалится с ней в какой-нибудь укромный будуар. Но Карл-Александр проявил к ней рассеянный, мимолетный интерес, пробормотав что-то вроде: «Потом, потом!» На уме у него сегодня явно была другая. Неаполитанке стоило большого труда сохранить маску развязной веселости, зато, улучив минуту, когда они остались вдвоем с Зюссом, она от злости чуть не выцарапала ему глаза.
Магдален-Сибилла и во время представления не решалась снять маску, пряча под ней и под большой соломенной шляпой судорожно подергивающееся лицо. Она охотно склонилась на уговоры отца приехать сюда; но теперь мужество ей изменило. У нее нет сил противоборствовать дьяволу. Лучше бы ей никогда не переступать порог этого зала. Она совсем истерзана и разбита выпавшей на ее долю миссией. Лучше бы ей остаться в Гирсау, лучше бы не встречать дьявола. Ей не по зубам этот жесткий кус, как она ни бьется, ни изводится, стараясь его проглотить. Суетна и дерзновенна была ее мечта своими слабыми руками привести дьявола к престолу божьему. С тех пор как она узнала, увидела в Зюссе дьявола, душу ее грызет злая тоска. Как взывала она к богу! Но бог безмолвствовал. Книги смирения, познания, самоотречения – бумага, и только бумага. Она обращает взор к небесам, чая раствориться в боге; но небеса пустынны, никто не сходит к ней, дабы вознести ее ввысь, все кругом тускло, голо, тупо и мертво. В сочинениях Сведенборга написаны слова, но они не звучат для нее, они ее не захватывают, она бежит к Беате Штурмин, к слепой, к святой, но та бессильна что-нибудь сказать ей; святая – всего лишь жалкая, больная старая дева, окруженная душной атмосферой безысходной скуки.
С того раза она еврея больше не видела. Он несколько раз осведомлялся о ее здоровье, посылал ей цветы и даже однажды навестил ее отца, но она уклонялась от встречи с ним. Только раз она видела его, – он во всем своем великолепии проезжал по Дворцовой площади на белой кровной кобыле Ассиаде. Проклятия, ненависть, зависть неслись ему вдогонку, но не доносились до него, Люцифер даже не оглядывался. И она смотрела ему вслед и чувствовала себя еще бессильнее, чем проклинавшие его народные толпы. Те хоть выражали свою ненависть словами, у нее же от собственного бессилья сжималось сердце, немели уста и сгибались плечи.
Она долго колебалась, прежде чем решилась пойти на бал. И в самом деле
– этот вечер принес ей одно разочарование и тяжкую обиду. Зюсс нимало не интересовался ею, у него нашлось для нее лишь несколько равнодушно-учтивых слов приветствия. Откуда было ей знать, что это тонкий расчет, она видела только, что Люцифер ни разу на нее не взглянул. Она сбросила маску со смелого смуглого, а сейчас жалко растерянного, подергивающегося лица: Люцифер на нее и не взглянул. Этот удар был для нее больнее, чем поражение.
Зато не он, а другой теперь вторично увидел смуглое растерянное лицо и смотрел на него долгим, опытным, сладострастным взглядом, пристально смотрел и ярко-синие, вдумчивые глаза, странно контрастирующие с темными волосами. Какова, черт возьми, девица Вейсензе! Значит, такие водятся и среди швабок, среди его подданных. Да, эта швабка не чета другим. Никогда не подумал бы Карл-Александр, что у Вейсензе, у старого лиса, в доме распустился такой цветок. Он ехал на этот праздник с какой-то смутной беспредметной жаждой новизны. Он хорошо поработал, потом отдохнул и чувствовал себя бодрым. Вот оно, новое и ни на что не похожее! Теперь празднество приобрело для него смысл. Итальянская актриса, о которой ему столько напел Зюсс, лишь сильнее разожгла в нем аппетит к этой свежей, юной, невиданной швабке.
После оперы гостей приглашают к столу. Ужин роскошно сервирован, одни кушанья сменяются другими. Маски сбрасываются, открывая разгоряченные лица, одновременно чуждые и знакомые, и маскарадный костюм делает их еще завлекательнее. Пряные блюда, крепкие иноземные вина, задорные тосты.
Из гигантского пирога – чуда кулинарного искусства – выскакивают четверо детей – Парис и три богини; но ни одной из них Парис не отдает яблока, а преподносит его герцогине. Тайный советник Фихтель, круглый, как шар, в своем турецком наряде, произносит застольную речь, написанную бойким александрийским стихом, и полную лукавых и язвительных нападок на ландтаг, после чего офицеры-католики устраивают шумную овацию герцогу.
В зал врывается хоровод гномов, они опустошают витрины с драгоценностями и, паясничая, подносят дамам сверкающие дары, которые приготовил им Зюсс. Внимательно наблюдает дон Бартелеми за тем, как они раздают камешек за камешком, цепочку за цепочкой, пряжечку за пряжечкой. Нелепо вздернув правое плечо и вытянув из парадных брыжей старинного португальского костюма жилистую шею, долговязый человек с костлявым сизо-багровым лицом неутомимо рыщет по сторонам прищуренными щелочками глаз. Глубоко залегли они в глазницах сплюснутого черепа, зорко выглядывают оттуда. Курцфальцский тайный советник и главный коммерческий директор табачных фабрик просил дам показать ему подарки и точно определял их цену. С глубокой неприязнью слушал Зюсс глухой, бесстрастный тягучий голос, который так часто забивал его на торгах, перехватывал у него сделки, не давал ему выйти в люди. Содрогаясь от безотчетного ужаса и омерзения, следил он, с какой старческой страстью дон Бартелеми пропускает искристые каменья сквозь длинные сухие посиневшие пальцы. Они смотрели друг на друга искоса, словно два готовых к нападению коршуна – один старый, облезлый, умудренный опытом, другой меньше, моложе, азартнее в игре.
– Хорошие камни, отличные камни, – говорил дон Бартелеми, – но по сравнению с солитером – все они дрянь. Дайте-ка взглянуть на ваш солитер, – сказал он, обратясь к Зюссу.
И, с нежностью сжав камень паучьими пальцами, он пролаял глухим басом под молчание насторожившихся гостей:
– Сколько вы хотите за камень, господин финанцдиректор?
– Я его не продаю, – ответил Зюсс.
– Хотите пфальцские табачные фабрики? – настаивал португалец.
– Я его не продаю, – резко повторил еврей.
Нехотя возвратил дон Бартелеми перстень, а герцогиня заявила:
– Ну, теперь мой еврей надевает на палец пфальцские табачные фабрики.
Но тут подали десерт. На сей раз француз-кондитер превзошел себя, у булочника Бенца на целую неделю пропал бы от зависти сон, если бы он увидел мастерские сооружения из теста и мороженого, изображавшие крепости, завоеванные Карпом-Александром; но еще замечательнее, по общему признанию, был торт – копия Меркурия, трубящего в победный рог тут же на плафоне столовой.
После ужина начался бал, а герцогская чета вместе с самыми избранными гостями расположились в зимнем саду. Мария-Августа злословит с господином де Риолем, который здесь, среди тропических растений, в этом широком кимоно смахивает на переряженную обезьяну своим безбородым, подвижным, похотливым лицом. Дон Бартелеми постукивает по мрамору и ляпис-лазури, царапает лепку и позолоту, рассматривает витрины с драгоценными безделушками. Тайный советник Фихтель потягивает кофейный напиток и ведет со своим другом Вейсензе дипломатическую беседу, сотканную из намеков и оговорок. А Ремхинген вымещает на Зюссе свою обиду на герцогиню, донимая невозмутимо вежливого хозяина грубыми и сальными остротами.
В сторонке сидит герцог с Магдален-Сибиллой.
Сразу после ужина он, сильно подвыпив, намекнул Зюссу, чтобы тот предоставил ему свою спальню и будуар и под каким-нибудь предлогом привел туда Магдален-Сибиллу. Зюсса эти слова кольнули точно острой и тонкой иглой, он вспомнил первую их встречу в лесу, когда девушка, увидев его, вскрикнула и убежала, и как потом она упала в обморок у него в кабинете и лежала бледная, беспомощная и такая юная; собственно говоря, Магдален-Сибилла принадлежит одному ему, не нужно быть слишком проницательным, чтобы понять, какой беззаветный порыв толкает к нему девушку, – и теперь, когда Карл-Александр заговорил о ней, Зюсс почувствовал неистовое желание обладать ею. Но он раз навсегда приучился к тому, что на первом плане – дела и герцог, а уже потом женщины, сладострастие и сантименты, и без минуты колебания ответил с обычным раболепно-преданным взглядом, что рад служить его высочеству. Однако считает своим долгом почтительнейше предуведомить его светлость, что девица, насколько ему известно, святоша, пиетистка, а следовательно, неподатлива и вдобавок подвержена обморокам; к тому же, по его разумению, эта бочка еще не почата.
– А ты уже пробовал? – зычно захохотал герцог. И повторил снова: – Ты уже пробовал? – Сегодня его как раз тянет на такое блюдо, а святость ее – особо пикантная приправа. И он игриво и благосклонно кивнул Вейсензе, который неподалеку вел изысканную беседу с Фихтелем и Шютцем.
И вот, сидя теперь с ней в зимнем саду, он подсмеивался над ее пиетизмом. Хотя сам он католик и, значит, отпетый еретик, – однако и государственный церковный совет, во главе с ее отцом, безусловно компетентный в такого рода вопросах, никак не согласен с этим сумасбродным вероучением; как раз вчера ему пришлось подписать рескрипт, под страхом строгой кары воспрещающий некоей фрау фон Мольк устройство сектантских собраний. Однажды ему случилось встретиться с их святой, с Беатой Штурмин, главой всего движения, и он про себя подумал, что близость к ангелам, по-видимому, не придает женщине шарма; однако теперь, познакомившись с ней, с Магдален-Сибиллой, он убедился, что общение с богом и ангелами имеет и положительную сторону. Не согласится ли она просветить его? Магдален-Сибилла с тоской выслушивала пошлые шутки. Она боялась Карла-Александра, боялась его воспаленного лица и похотливых глаз. Его скабрезности ее не раздражали, она чувствовала, что бог отступился от нее, иначе она не потерпела бы такого богохульства и неустрашимо бросила бы в лицо этому свирепому Навуходоносору свое негодующее презрение. А сейчас она ощущала лишь гадливость, она была полна усталости и печали, а бог пребывал во мраке, бог не удостаивал ее ответа, бог отринул ее.
Зычный голос Карла-Александра назойливо терзал ей слух. Она ошибается, если полагает, что он совсем несведущ в таких вопросах. В Венеции он водил знакомства с духовидцами; Сведенборга он, правда, не читал, зато он и здесь в Германии знает одного мага, который предсказывает будущее и на самой короткой ноге с отцом небесным. Но это всего лишь старый еврей, и Магдален-Сибилла ему, герцогу, куда приятнее, так что если впредь он вздумает спросить совета у господа бога, то, с ее разрешения, обратится прямо к ней. При этом он снял маску, и его алчные, наглые глаза с неприкрытым вожделением впились в нее.
В зимнем саду было невыносимо жарко, диковинные деревья и цветы шевелились в сиянии свечей, точно люди, волнующие звуки музыки плыли издалека, у Магдален-Сибиллы мучительно болела голова, взгляды и речи герцога резали ее точно остро отточенным ножом. Она видела, как слова срывались с его полных, похотливых страшных губ, налетали на нее, кололи ее, щипали, царапали покровы ее души. Она чувствовала, что ее напряжение достигло предела, вот сейчас она совершит что-нибудь дикое, безумное; но тут в последний миг ее спас паж герцогини, передав ей приглашение представиться ее светлости.
Мария-Августа сидела среди целого сонма приближенных; подле нее были Зюсс, господин де Риоль, тайный советник Шютц, актуарий Гетц, в костюме пастушка, белокурый, тупой, румяный, родовитый юноша с матерью, тайной советницей Гетц и с сестрой, Элизабет-Саломеей. Обе дамы, мать и дочь, до смешного походили друг на друга, они казались сестрами, обе хрупкие, стройные, очень привлекательные, с пышными светлыми волосами, нежным цветом лица и большими, мечтательными, глупыми глазами. Они сидели среди гостей, белокурые, миловидные, в довольно шаблонных, вышедших из моды костюмах пастушек, звонкими, наивными голосами и ласковыми, неумными глазами выражая герцогине свои приторные восторги. Только что, возвращаясь в зимний сад, лениво пронесла мимо них свои роскошные формы красивая пышная метресса Зюсса, Софи Фишер, и Мария-Августа не могла отказать себе в удовольствии подтрунить над своим придворным евреем. Он, видите ли, должно быть в награду за дочь, добился производства ее отца, государственного прокурора Фишера, в советники экспедиции. Зюсс стоял перед дамами, мужественно стройный и элегантный в костюме сарацина; бойко, без тени смущения, он ответил в тон, что, спору нет, девица Фишер была для него очень приятной и удобной экономкой, но после того как его светлости было благоугодно возвести ее отцу столь важный чин, он не вправе пользоваться и впредь ее услугами; дочь такого высокопоставленного чиновника, – помилуйте, на что это похоже! Он улыбнулся и с наглой беспечностью добавил, что завтра же отпустит ее домой. Присутствующие были ошеломлены той циничной откровенностью, с какой он барственно-небрежным жестом увольнял и удалял свою метрессу. Герцогиня искренне забавлялась, господину фон Шютц явно нравилась эта светская непринужденность, а юный, глупый актуарий Гетц не знал, как держать себя: он придавал большое значение соблюдению приличий и недоумевал, следует ли ему высказать Зюссу одобрение иди одернуть его, и наконец решил молча изобразить на лице воинственный протест. А хрупкие, лилейные дамы Гетц, мать и дочь, изумлялись, с каким неподражаемым изяществом этот кавалер порывал амурную связь, и глядели на него с восхищением и нежным любопытством.
К этому кружку подошла теперь Магдален-Сибилла. Герцогиня заметила, какое внимание уделял ей Карл-Александр; ей и самой нравилась наружность девушки, ее смуглое смелое выразительное лицо и странное сочетание ярко-синих глаз и темных волос. Марии-Августе не терпелось рассмотреть поближе, в чем ее обаяние. Она благожелательно протянула ей руку для поцелуя и окинула ее небрежным и бесцеремонным взором. Магдален-Сибилла искоса робко взглянула на Зюсса. Когда она подошла, он отвесил глубокий поклон, а теперь держался строго официально. Она была счастлива, что избавилась от разговоров герцога, она ощущала флюиды благожелательности, исходившие от герцогини, но равнодушно официальное выражение на лице Зюсса снова смутило ее. Она молча сидела в кругу гостей, продолжавших беспечный и бессодержательный разговор, и вдруг страх, напряжение, досада, обманутое ожидание разрешились неудержимыми слезами, бросившими ее к ногам герцогини. Озадаченные гости иронически усмехались, а герцогиня ласково гладила изящной, пухлой ручкой большую холодную руку девушки. Зюсс же поспешил ловко воспользоваться случаем, сказав, что берет на себя заботу успокоить ее и увел смущенную, содрогавшуюся от рыданий девушку. Китаец Риоль хихикнул, усмехнулся испанец Шютц, маскарадный пастушок Гетц опять не придумал ничего лучше, как принять воинственный вид. А герцогиня, все так же весело болтая, искала глазами своего супруга и с удовлетворением отметила, что он подмигнул Зюссу, когда тот проходил с девушкой мимо него.
В комнате, куда еврей привел Магдален-Сибиллу, было прохладно по сравнению с залами, разогретыми пламенем свечей, винными парами и людским дыханием. То была комната перед опочивальней, из-за портьеры виднелась парадная кровать с золотыми амурами. Сюда, чтобы освободить место для маскарада, снесли из остальных покоев все хрупкие вещи: фарфор, китайские безделушки, клетку с попугаем Акибой. Шум празднества был здесь едва слышен, после сутолоки в залах свежий воздух, пустота, тишина, прохлада маленькой комнатки оказывали благотворное успокоительное действие.
Магдален-Сибилла сидела на низком диване, дыхание ее стало ровней, поза спокойней. Разгоряченная, томная после всех треволнений этого вечера, она была очень величава, и Зюсс стоял перед ней с вкрадчиво-предупредительной миной, страстно желая обладать ею. Какая досада и незадача, что сейчас придет другой, который, надо полагать, и не оценит, какой деликатес ему достался.
Девушка подняла на стоявшего перед ней мужчину свои большие, вдумчивые глаза. Зюсс счел приличным ответить ей одним из тех взглядов раболепной преданности, на которые был великий мастер, сдобрив его ради особого случая небольшой позой отеческого участия. Бедный Люцифер! думала Магдален-Сибилла. Он такой заблудший и несчастный. Не надо горячиться и набрасываться на него с неистовыми и страстными заклинаниями. Я тихонько возьму его за руку и буду наставлять его ласковыми речами, пока он не найдет путей к богу. Как могла я сомневаться, хватит ли у меня сил для моего призвания? Он только ведь и ждет, чтобы кто-нибудь пришел и примирил его с богом.
– Я в отчаянии, сударыня, – говорил между тем еврей своим бархатным ласкающим голосом, – что с вами в моем присутствии всегда приключаются неприятные инциденты. В первый раз, когда я имел счастье лицезреть вас под деревом в лесу близ Гирсау, вы убежали от меня. Затем, когда вы с вашим досточтимым родителем оказали мне честь своим визитом, вам стало нехорошо. Нынче я надеялся, что сделал все доступное мне по моим скромным силам для увеселения приглашенных гостей. И что же? К великому своему огорчению, я вижу, что опять не угодил вам. Неужто моя физиономия столь гнусна и богопротивна, сударыня? Или я могу надеяться, что это всего лишь фатальные совпадения?
И он склонился над величавой девушкой, зардевшейся от смущения.
– Довольно притворяться, господин финанцдиректор, – неожиданно сказала она, набравшись храбрости, и посмотрела на него открытым и суровым взглядом фанатички. – Я отлично знаю, что вы Люцифер, сын Велиала, и вы знаете, что я послана и явилась, дабы вступить с вами в единоборство и привести вас к престолу божию.
У Зюсса накопился большой опыт в обращении с женщинами, он привык к сюрпризам, его трудно было смутить и озадачить. Но слова Магдален-Сибиллы явились для него такой неожиданностью, что он на миг утратил дар речи и впервые в жизни не нашел ответа. К счастью для него, Магдален-Сибилла, очевидно, и не ждала ответа, а, переведя дыхание, заговорила дальше. Ей вполне понятно, что он боится быть отвергнутым своим противником, богом; разумеется, неимоверно трудно отказаться от тысячелетнего заблуждения. Однако, как только он перестанет упорствовать в этом злостном заблуждении, душа его, словно очищенная от смрадных струпьев, омоется в боге, как в ласковой, теплой, прозрачной воде. В таком духе она говорила еще долго, настойчиво и в пылу увлечения протянула ему руку.
Зюсс со свойственной ему гибкостью мигом настроился на пиетистский лад, схватил ее руку, начал излагать наспех состряпанное объяснение, и дело совсем бы сладилось, если бы в комнату внезапно не вошел герцог. Испуганно, ища защиты, с трудом переводя дыхание, Магдален-Сибилла расширившимися зрачками глядела на Зюсса. Но Зюсс учтиво заявил, что должен вернуться к гостям, и вот она очутилась одна с герцогом, и попугай завопил «Ma vie pour mou soverain», а в соседней комнате откровенно, на ярком свету стояла наглая парадная кровать. Хриплым, придушенным голосом Карл-Александр бросил какое-то шутливое замечание. Она видела его красное потное лицо, видела его глаза, потемневшие, бешеные от животной страсти, вдыхала его хмельной разгоряченный дух. Она пробормотала какое-то извинение и, с трудом передвигая ноги, направилась к двери, чтобы нагнать Зюсса и вернуться к гостям. Но дверь была заперта. Карл-Александр засмеялся сиплым смехом, молча, так что слышалось одно ее дыхание, неторопливо отстегнул драгоценный античный панцирь. Со зловещей вкрадчивостью подошел к ней, зажал ее руку в своей, очень странной руке, тыльная часть была узкая, длинная, костлявая, волосатая, а ладонь – мясистая, жирная, короткая. Силы возвратились к девушке, бешено, хоть и безнадежно, оборонялась она против грузного, сильного, возбужденного мужчины.
Обрывки музыки донеслись издалека, девушка закричала; хрипло кряхтя, заметался в клетке попугай.
А за стенами комнатки неистовствовал маскарад, сбрасывая последнюю узду установленных светом правил, из каждого укромного уголка несся визг, гогот, возбужденные вскрики. Господин де Риоль одобрительно заметил господину фон Шютцу, что даже при польском королевском дворе веселье не достигает такого размаха.
Зюсс, вернувшись в зал, с каким-то злобным пылом бросился в водоворот маскарада. Он постарался улизнуть от герцогини, которая с легкой, сладострастно игривой улыбкой спросила его о самочувствии Магдален-Сибиллы, и принялся с такой свирепой настойчивостью ухаживать за матерью и дочерью Гетц, которыми тоже интересовался герцог, что актуарий Гетц, чьи грозные мины явно не производили впечатления, молча забился в угол и напился до бесчувствия, меж тем как его мать и сестра принимали циничные комплименты еврея с самозабвенным и приторно-глупым восторгом. Неаполитанская актриса, миниатюрная, загорелая, развратная толстушка, присоседилась к старому князю Турн и Таксис. Она сделала вид, будто не знает, кто он такой, будто заигрывает с ним, ластится и льстит ему, только пленившись элегантностью и аристократизмом его наружности и манер. Старый князь оживился, увидев, что и в темно-малиновом костюме, хоть и одинаковом с ливреями лакеев, он все же производит впечатление; досада его сразу улеглась. А к тому же Ремхинген тоже увивался вокруг актрисы, но она живо дала ему отставку, предпочтя корректного богатого старика князя сильно подвыпившему генералу, который пожирал ее осоловевшими глазами. А из своего угла актуарий Гетц тоже пялил на актрису восторженные глаза, отуманенные влюбленностью даже больше, чем винными парами; и неаполитанка, удерживая на расстоянии генерала, очаровывая старого князя, ухитрилась тут же одним-единственным, но бесконечно красноречивым взглядом навсегда приковать к своей колеснице юного, глупого, белокурого и румяного пастушка.
Вейсензе, законовед Нейфер и вюрцбургский тайный советник Фихтель сыграли с Шютцем и господином де Риоль в фараон. А теперь Фихтель попивал свой кофе, Вейсензе и Нейфер отдавали должное густому темно-красному канарскому вину, которое изо всей западной Германии водилось у одного только Зюсса; разговор шел о политике. Нейфер, возбудивший немало насмешек своим нелепым и нескладным кроваво-красным костюмом, с жадным и мрачным любопытством вслушивался в абсолютистские теории, которые мягко, ненавязчиво, но вполне авторитетно развивал иезуит. Однако Вейсензе не был всецело поглощен беседой. С выражением беспокойства на умном сухощавом лице, он все время оглядывался, спрашивал всякого и каждого, не видел ли кто его дочери; но Магдален-Сибиллы не видел никто. И узкие, изящные руки Вейсензе стали потными, а глаза скептика тревожно бегали по сторонам.
Едва увидев Зюсса, он извинился перед собеседниками, с непривычной поспешностью бросился к нему в своей развевающейся венецианской мантии и спросил о дочери. Зюсс ответил небрежно, что у мадемуазель Вейсензе немного заболела голова и она уединилась в более тихую и прохладную комнату. Председатель церковного совета, едва владея собой, пожелал пройти к ней. Но Зюсс нашел, что будет лучше не беспокоить барышню; тем более что заботу о ней, насколько ему известно, соизволил взять на себя сам герцог. Говоря это, он в упор глядел на Вейсензе с невозмутимой развязно-учтивой улыбкой. Тот задрожал и принужден был сесть. Зюсс после минутного молчания, с прежней улыбкой, как бы невзначай добавил, что герцог необычайно милостиво отозвался о новом председателе церковного совета и орден, а также повышение в чине не заставят себя долго ждать. Вейсензе как-то странно, безучастно, по-стариковски кивнул несколько раз головой, уставился с судорожно-любезной улыбкой на праздничную суету, потом внезапно хриплым и нетвердым голосом заговорил, не глядя на Зюсса, о своем обширном доме в Гирсау. Он нарисовал картину мирной и уютной жизни в этом поместье: виноградники, праздник жатвы, образцовое хозяйство, сельский покой; как усердно он там трудился над комментарием к Новому завету, а водоворот жизни бурлил где-то вдали, пенистые брызги лишь изредка долетали до него, и он смаковал их с наслаждением знатока; и как спокойно, скромно, рассудительно, вдумчиво жила там его дочь.
Прервав свои мечтания, предназначавшиеся скорее для себя, чем для Зюсса, он умолк так же внезапно, как и заговорил. Он сразу весь поник, одряхлел, элегантная венецианская мантия вяло и безжизненно повисла на нем, точно свернутые крылья летучей мыши. Еврей, стоя перед ним, беззащитным, сломленным, покорившимся судьбе, оглядел его с ног до головы и, беспечным трезвым звонким голосом врываясь в его молчание, насмешливо произнес:
– Я никогда бы не подумал, что вы можете быть настолько сентиментальны.
– Да нет, ничуть, – запротестовал Вейсензе, стараясь овладеть собой. – Мне, ваше превосходительство, несвойственно убегать от жизни. Ни разу на своем веку не уклонялся я от самых рискованных похождений. Любопытство – вот основа, на которой я строил свое существование. – Он попытался вызвать на лице привычную, легкомысленную усмешку. – Я, видимо, родился под беспокойной звездой. Она никогда не оставляла меня в покое, она влекла меня в заморские края и подзадоривала совать нос в дела творений божьих и дьяволовых. О, сладостные воспоминания!
Но в то время как он силился воскресить эти воспоминания, белое, улыбающееся лицо еврея с выпуклыми карими глазами и чувственным ртом вдруг потускнело перед ним, и он вдруг ясно представил себе, что в нескольких шагах от него, за крепко запертой дверью, безнадежно борется и выбивается из сил его дитя. Он видел ее, видел, как отливает краска от смуглых, смело очерченных щек, как закатываются, застывая и стекленея, ее ярко-синие глаза под темными волосами. И посреди этого кошмара прозвучал дедовой четкий голос Зюсса:
– Судя по обстоятельствам нынешнего вечера, я могу с полной уверенностью обещать вам орден и повышение в чине.
Как ни странно, он даже не испытывал ненависти к человеку, стоявшему перед ним с наглой и обязательной улыбкой. Одна мечта, одно видение маячили перед ним: еврей сидит, такой же растерянный, истерзанный, а он, Вейсензе, стоит над ним с холодной улыбкой. Дальше он вел себя совсем как обычно, только все было мучительно нереально, он говорил и действовал словно марионетка, словно во сне. Он продолжал вежливо и приветливо раскланиваться, ответил на шутку герцогини, обменялся обдуманными и дипломатичными репликами с советником Фихтелем, на ошеломляющую и очень тонкую непристойность господина де Риоль откликнулся еще более тонкой и циничной остротой. Но голоса были какие-то неживые, деревянные, люди двигались неестественно, как заводные куклы в паноптикуме. Когда в залу, грузный, огромный, прихрамывая заметнее чем обычно, вялой и развинченной походкой вошел герцог, даже он сквозь туманную дымку показался Вейсензе восковой куклой.
Однако при виде герцога ему все же удалось раздуть в душе искру надежды. Он отогнал свои видения, он заглушил свое знание, он не хотел признать его истиной. Торопливым неверным движением подхватив венецианскую мантию, он загородил дорогу герцогу, всем своим видом являя настойчивый страстный вопрос: может быть, все-таки это не случилось? Но герцог не заметил его, он явно не хотел его замечать, он не удостоил его взглядом; несмотря на то что Вейсензе стоял совсем близко, он прошел мимо, уставясь в пространство и нарочито громко отрыгивая, чтобы скрыть явное смущение.
И Вейсензе сразу почувствовал себя безмерно старым и усталым. Он оглянулся, ища укромного уголка, и попал к столу, у которого в одиночестве сидел и выпивал актуарий Гетц. Тому очень польстило общество господина председателя церковного совета, он церемонно поднялся, хотя был уже нетверд на ногах, и стал отвешивать низкие поклоны по всем правилам этикета. Потом они сидели вместе за столом: один – старый, утонченный, истерзанный печалью, другой – молодой, неуклюжий, беспомощно барахтающийся в туманных мечтах; оба молча созерцали разгар праздничного веселья и пили.
А Карл-Александр проходил по залу, довольный, гордый и ублаготворенный. Правда, минутами у него вырывался смущенный и упрямый смешок, как у школьника, который напроказил и храбрится, чтобы подавить стыд. Но таким своим поведением он умышленно и недвусмысленно показывал, что сейчас только оторвался от любовных объятий. Встретив вопросительный взгляд жены, он приветствовал ее широким жестом, который она свободно могла истолковать как горделивое признание. Он остановился у карточных столов и стал уверять игроков в фараон, почтительно поднявшихся с мест и в пылу азарта раздосадованных помехой, что нынче вечером ему особенно, ну прямо особенно весело. Жадно, залпом выпил он два больших бокала токайского и сильно опьянел. Подойдя к своему тестю и увидев, что старик совсем разомлел от близости неаполитанки, он отнесся к этому с покровительственным одобрением, несколько раз облобызал старика князя, умильно приговаривая:
– Ах, ваша милость, ваша милость! Как хорошо, что вы, ваша милость, сохранили свежесть чувств! – и принялся самодовольным и сентиментальным тоном рассказывать о своих молодых годах в Италии, хвастать своим Ломбардским походом и венецианскими авантюрами.
За Кассано ему, правда, пришлось заплатить хромотой, но это, по совести, была недорогая цена. Ах, Венеция, Венеция! Бесконечные блуждания по городу с маской на лице, и женщины, и дуэли, и секреты высокой политики, и алхимики, и духовидцы, и лагуны, и дворцы, и простертая надо всем незримая рука совета Десяти.[39] Недаром все это сейчас пришло ему на память. Ведь она, Грациелла Витали, – настоящий огонь, от нее так и веет дивным, живительным ароматом Италии. И он опытным глазом оценил скрытые достоинства неаполитанки.
– Вашей милости повезло, – лепетал он, – да и мне везет. Suum cuique! Suum cuique![40] Обоим нам господь бог отвел в этой навозной яме, именуемой землей, теплое и мягкое местечко на солнышке. – И он одобрительно похлопал голую загорелую и дряблую руку актрисы и поздравил старика со славной курочкой, которую тот собирается ощипать.
Зюсс всячески избегал встречи с герцогом. Он завидовал и злился, он знал, что Карл-Александр начнет сейчас же, не стесняясь в выражениях, обстоятельно и подробно описывать ему эпизод с Магдален-Сибиллой, а он вовсе не был расположен выслушивать описание любовных утех, которые, в сущности, полагалось вкусить ему первому. Стараясь уйти от этих мыслей, он ринулся в бурный поток своего пиршества. Ради него, ради того, что он явился на свет, ради дня его рождения зажжены эти огни, пышно убраны столы и покои и съехались на пир прекрасные дамы и знатные кавалеры. Высоко поднялся он, ни один еврей в Германии никогда не достигал такой высоты и блеска, как он. А поднимется он еще выше. Просьба о возведении его в дворянское достоинство уже находится на пути в Вену, ко двору императора; титул ему обеспечен – Карл-Александр с каждым днем все больше в долгу перед ним и обязан исхлопотать ему дворянство. А сам он не такой дурак, как Исаак Ландауер, он не ходит в долгополом кафтане и с пейсами; но и не собирается последовать примеру брата и таким дешевым способом, как перемена веры, добиться чинов и положения. Лишь благодаря своему таланту, благодаря своей счастливой звезде и таланту достигнет он самой вершины. Он вовремя сделал ставку на герцога, когда тот был еще мал и ничтожен. Неужели же не поднимется он и на те немногие ступени, которые ему осталось одолеть? Он будет, как был, евреем и все же будет – и в этом его торжество
– дворянином и первым министром и займет подобающее ему место в герцогстве вполне официально на глазах у всего света.
Кругом танцевали. Он напитывал душу, взор и слух разноголосым шумом, как славословием себе. Его мечты возносились в напевах скрипок, гром литавр утверждал на весь зал его власть, женщины – красотой, кавалеры своим атласным великолепием славословили ему. Он упивается зрелищем своего праздника, вплетает в него свои честолюбивые мечты, пунцовые губы на белом лице полуоткрыты в блаженней улыбке. Но вдруг нечто незримое стирает это выражение самодовольного торжества. Сметена переливчатая, игристая пена, омрачен пестрый блеск праздника; он видит, как усердствуют музыканты, но музыки не слышит. И вот уже ему представляется, будто он скользит в ином, призрачном, жутко карикатурном танце. Перед ним, держа его за руку, выступает его дядя, рабби Габриель, за ним, ухватившись за другую его руку, герцог сильнее, чем обычно, волочит хромую ногу. А там, совсем впереди, сплетенный с ним множеством рук, – разве то не Исаак Ландауер, тощий, в нескладном долгополом кафтане, качая головой, семенит в такт ногами?
Очнувшись, он видит перед собой дона Бартелеми Панкорбо в старомодном португальском одеянии, из глубоких впадин, точно выслеживая добычу, глядят на него коварные глаза, тягуче ползет ему в уши глухой, замогильный голос:
– Ну что же вы решили, господин финанцдиректор? Я готов прибавить к табачным фабрикам еще акциз на водку за целый месяц: уступаете мне солитер?
А праздник шел своим чередом. Никлас Пфефле, с виду сонный, невозмутимо и методично управлявший всем сложным механизмом бала, ко второй половине вечера приготовил сюрприз. Плафон, на котором было изображено торжество Меркурия, вдруг раскрылся, и оттуда на летательной машине спорхнул малютка Купидон, он парил над гостями, осыпал их розами, в искусно отшлифованных александрийских стихах воздал хвалу герцогской чете и поздравил Зюсса с днем рождения. Мальчик был очень способный, он очень мило продекламировал стихи, а если у Купидона и чувствовался швабский акцент, это все-таки лучше, как во всеуслышание заметил Ремхинген, чем если бы акцент у него был еврейский.
Вслед за тем танцы возобновились, и тут произошел небольшой конфуз. Подозрительного вида оборванец очутился вдруг посреди зала и стал произносить речь. Собравшиеся вокруг него гости весело смеялись, думая, что выступление его – маскарадная шутка, только поэтому он и попал сюда. Но очень скоро выяснилось, что свои необузданно дерзкие речи против еврейской юстиции и алчного мерзкого пагубного еврейского хозяйничанья он произносит всерьез.
Изрыгающий хулы оборванец был Иоганн-Ульрих Шертлин. Он приехал в Штутгарт по какому-то мелкому торговому делу, зашел в трактир под вывеской «Синий козел» и напился там в компании ропщущих обывателей; среди них был и булочник Бенц, который все время молча, ехидно и одобрительно слушал и только раз изрек: «При прежнем герцоге страной правила шлюха…» В ответ раздался дружный ропот и ржание. А Иоганн-Ульрих Шертлин давно уже не чувствовал себя так хорошо, как там, потому что за ним не следили продолговатые, полные укоризны и презрения глаза француженки; он сильно подвыпил и отправился в дом к еврею отвести душу. Некоторые из его собутыльников потянулись за ним, но остались на улице под снегом и ярким светом, падающим из окон праздничных залов; кучера господских экипажей, приехавшие за хозяевами, присоединились к ним, и все вместе стояли и ждали больше из любопытства, чем из сочувствия, когда Иоганна-Ульриха в кандалах поведут в тюрьму. А тот, весь грязный, оборванный, пропахший винным перегаром, стоял в это время среди разряженных гостей и отчаянно сквернословил. Его собирались уже отдать в руки полиции; однако Зюсс, узнав, что это Шертлин, приказал запереть его до утра в дом для умалишенных, а назавтра отослать к жене в Урах.
И праздник пошел своим чередом. Карл-Александр, совсем пьяный, почти не заметил и оставил без внимания эпизод с Иоганном-Ульрихом. Вот наконец ему удалось завладеть Зюссом, он садится с ним в сторонке, сгорая желанием рассказать сведущему собеседнику о пережитых наслаждениях. Он сипит и сопит, он действительно совсем пьян, впопыхах он неправильно застегнул костюм античного героя, он сидит, разгоряченный, красный, грузный, одурманенный винными парами, он заикается и захлебывается от хохота и хлопает по колену почтительно и подобострастно внимающего ему еврея.
– Лакомый кусочек! – причмокивает и прищелкивает он языком. – Молодец, еврей, угодил мне своей гостьей. Ну и я не останусь в долгу и отблагодарю тебя щедрым презентом. Германский государь не привык скупиться. Да, кусочек лакомый! – Он описывал Магдален-Сибиллу выразительными жестами своих красных, неповоротливых рук, странных рук с узкой тыловой частью и короткой мясистой ладонью, чертил в воздухе контуры ее тела, бедра, груди.
– Молодая кобылица без узды! Брыкается, бьется, норовит укусить, кипит. А когда приходится подчиниться – холодна как лед. – Он указал на миниатюрную, загорелую, живую неаполитанку, которая, не переставая заигрывать со старым князем, улучала время лукаво стрелять глазами и в него, похотливо водя кончиком языка по губам. – Вот эта вся порыв, огонь, ароматное дуновение. На здоровье моему светлейшему тестюшке. – Он презрительно хохотнул. – А вот моя дама сердца, это, черт побери, не какая-нибудь иноземная потаскуха! Не кривляется и не кидается в объятия первому встречному. – Он мечтательно и элегично откинулся на спинку кресла. – Моя – словно озеро в лесу, – сказал он с неопределенным жестом, похожим на взмах руки гребца. – Словно озеро в лесу, – повторил он, запинаясь, покачнулся вперед, закрыл глаза и засопел.
Разъяренный Зюсс собрался уже осторожно и почтительно удалиться, но Карл-Александр заговорил снова, деятельно и красноречиво жестикулируя:
– А глаза-то у нее, у стервы! Глаза! Знаешь кого они мне напомнили? Не угадаешь! Никогда в жизни не угадаешь. – У него вырвался смех, сперва тихий, утробный, потом все громче и громче, с хрипом, с клокотанием. Под конец он весь трясся от хохота: – Твоего мага, твоего чародея-дядюшку, вот кого. Да уж глаза у нее, у стервы! Как это он, маг: «Первого я вам не скажу…» – Его вдруг охватил гнев: – Не скажет, чертов пес, окаянный, зловредный! Чтобы он поперхнулся, чтоб он подавился этим и издох, колдун жидовский, проклятущий…
Зюсс побледнел, в испуге отшатнулся, тяжело дыша, и поднял руку, как бы обороняясь и заклиная. Но Карл-Александр, пьяный и гневный, с трудом поднялся, попытался принять гордую живописную позу полководца, как на картине с семьюстами алебардщиками и с Белградом, зарычал, отрыгнул, рявкнул:
– Пусть мне пророчат что угодно. Я ничего не боюсь. Attempto! Дерзаю! Я, Карл-Александр, герцог Вюртембергский и Текский! Божьей милостью! Я властвую над судьбой! Германский Ахилл! Божьей милостью! – Он застыл на месте как свой собственный монумент.
Но вскоре снова упал в кресло.
– Словно озеро в лесу, – пролепетал он, блаженно улыбаясь, посопел, поохал, заснул и захрапел.
А праздник шел своим чередом. Разнузданный, как жеребец, что скачет по полю без всадника и поводьев. Праздничный шум доносился на улицу, по которой вели отрезвевшего, усталого, бледного Иоганна-Ульриха в сопровождении шушукающихся собутыльников; праздничный шум разносился по городу, по всей стране, которая спала, кряхтела, извивалась, металась из стороны в сторону, вскидывалась со сна, что-то ворчала, брюзжала. И снова засыпала и дальше несла свое бремя.
ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ ЕВРЕИ
В городах, на побережье Средиземного моря и Атлантического океана, жили евреи вольно и богато. Они сосредоточили в своих руках обмен товарами между Востоком и Западом. Они простирали свою власть за океан. Они помогали снаряжать первые корабли в Вест-Индию. Они наладили торговлю с Южной и Центральной Америкой. Открыли путь в Бразилию. Положили начало сахарной промышленности в Западном полушарии. Заложили основу для развития Нью-Йорка.
Но в Германии жили они безрадостно и скудно. В четырнадцатом столетии более чем в трехстах пятидесяти общинах они были почти поголовно перебиты, потоплены, сожжены, колесованы, повешены, заживо погребены. Большинство из оставшихся в живых перекочевало в Польшу. С той поры в Римской империи их оставалось немного. На шестьсот немцев насчитывался один еврей. Жили они тесно, скудно, беспросветно, терпя всякие измывательства от народа и властей, беззащитные перед произволом. Им был закрыт доступ к ремеслам и свободным профессиям, притеснения чиновников толкали их на извилистый и запретный путь торгашества и ростовщичества. Их ограничивали в покупке съестных припасов, не позволяли стричь бороду, вынуждали носить смешную, унизительную одежду. Загоняли их в тесные пространства, загораживали и наглухо запирали на ночь ворота их гетто, сторожили все входы и выходы. Жили они в неимоверной скученности; они размножались, но отведенное им пространство не расширялось. Не имея права раздаваться вширь, они громоздились вверх, надстраивая этаж на этаж. Улички их становились все уже, мрачней, извилистей. Нигде ни деревца, ни травки, ни цветочка; они прозябали, заслоняя друг другу свет, без солнца, без воздуха, в невылазной, распространяющей заразу грязи. Они были отрезаны от плодоносной земли, от неба, от зелени. Свежий ветер застревал в их унылых вонючих уличках, высокие, напоминающие коробки дома закрывали вид на бегущие облака, на небесную высь. Мужчины их ходили согбенные, их прекрасные женщины рано увядали, из десяти рожденных ими детей семеро умирали. Они были подобны мертвой застойной воде, отгороженные плотиной от бурного потока жизни, от языка, искусства, духовных интересов остальных людей. Они жили в удушающей тесноте, в нездоровой близости, каждый знал тайну каждого, среди вечных сплетен и недоверия терлись они, вынужденные паралитики, друг о друга, до крови раздирали друг друга, один другому враг, один связанный с другим, ибо ничтожнейший промах и незадача одного могли стать несчастьем для всех.
Однако со свойственным им чутьем ко всему новому, к завтрашнему дню они учуяли иные веяния во внешнем мире, замену власти рождения и знатности властью денег. Они познали одно: от ненадежности, от бесправия, от превратностей судьбы есть единственный щит, посреди колеблющейся, уплывающей из-под ног почвы единственная твердыня: деньги. Еврея с деньгами сторожа не задержат у ворот гетто, еврей с деньгами не воняет, никакой чиновник не напялит ему на голову смешной остроконечный колпак. Государи и власть имущие нуждались в нем, без него они не могли воевать и править; благодаря графине Гревениц и швабским герцогам оперились и стали большими людьми Исаак Ландауер и Иозеф Зюсс, под эгидой бранденбургского курфюрста процветали Липман, Гомперц и Соломон Элиас, а при дворе императора – банкиры Оппенгеймеры.
Но вся толща угнетенных, бесправных, и могущественные единицы, горделивые евреи Леванта и больших приморских городов, державшие в руках торговые пути Европы и Нового Света и у себя в конторах вершившие дела мира и войны, и нищие, захирелые, пришибленные, смешные евреи немецкого гетто, евреи – лейб-медики и министры калифа, шаха персидского, марокканского султана, пребывающие в великой славе и блеске, и втоптанная в грязь вшивая чернь еврейских местечек в Польше, банкиры императора и владетельных князей, которые внушают трепет и ненависть, и еврей-разносчик, которого травят собаками, преследуют гнусными издевательствами уличные мальчишки и полицейские, – все, все они были связаны одним твердым затаенным знанием. Многие не осмысливали его, немногие могли бы выразить его словами, некоторые, быть может, отреклись бы от него. Но у всех в крови, в тайниках души жило оно: глубокое, затаенное, твердое сознание бессмыслицы, непостоянства и тщеты власти. Столько веков ютились они, убогие и жалкие, среди народов земли, раздробленные на мельчайшие, до смешного ничтожные атомы. Они познали, что сила и смысл не в том, чтобы властвовать и быть подвластными. Разве не крушат друг друга всесильные гиганты? Они же, бессильные, дали миру свой облик.
И учение это о суетности и ничтожестве власти знали великие и малые среди евреев, знали вольные и обремененные, дальние и ближние. Не в ясных словах, не в осязаемых понятиях, но всей кровью и духом. Именно оно, затаенное знание, нежданно запечатлевало на их губах ту загадочную, кроткую, снисходительную улыбку, что вдвойне бесила их врагов, потому что они толковали ее как сокрушительную дерзость и потому что все их пытки, все измывательства не имели власти над ней. Именно оно, затаенное знание, сливало евреев воедино. Ибо в нем, в затаенном знании была суть Книги.
Да, Книги, их Книги. У них не было ни государства, объединяющего их, ни страны, ни земли, ни короля, ни общего жизненного уклада. И если они все же были слиты воедино, крепче слиты, чем все другие народы мира, то спаяла их Книга. Евреи темные, светлые, черные, смуглые, большие и малые, блистательные и убогие, нечестивые и набожные, безразлично, просидевшие ли и прогрезившие всю жизнь взаперти, или пестрым, золотым вихрем гордо проносящиеся над миром: все глубоко в душе таили речения Книги. Многолик мир, но все в нем суета и томление духа, един же велик бог Израиля, предвечный, всевидящий Иегова. Порою жизнь заслоняла то слово, но оно гнездилось в каждом из них, и в часы, когда они держали ответ перед собой, и когда жизнь их достигала зенита, оно было с ними, и когда они умирали, оно было с ними, и током, соединяющим их, было то слово. Молитвенными ремнями привязывали они его ко лбу и к груди, они укрепляли его на своих дверях, с ним на устах они начинали день и с ним кончали; первым, чему учили младенца, было Слово, и с последним хрипом выдыхал умирающий Слово. Из Слова черпали они силу сносить тяготы своего скорбного пути. С бледной, затаенной улыбкой созерцали они власть Эдома, неистовства его и тщету его суетных стремлений. Все было преходяще; единым сущим оставалось Слово.
Сквозь два тысячелетия пронесли они с собой Книгу. Она была им народом, государством, родиной, наследием и владением. Они передали ее всем народам, и все народы склонились перед ней. Но лишь им, им одним, дано было по праву владеть ею, исповедовать и хранить ее.
Шестьсот сорок семь тысяч триста девятнадцать букв насчитывала Книга. И каждая буква была исчислена и изучена, проверена и взвешена. Каждая буква была оплачена кровью, тысячи людей пошли на муки и смерть за каждую букву. И Книга стала их собственностью. У себя в молельнях, в дни величайшего своего праздника, все они – и горделивые, свершающие свой путь во славе, и ничтожные, гонимые, приниженные, все, как один, утверждали и возглашали: ничего нет у нас, кроме Книги.
Карл-Александр посылал Магдален-Сибилле роскошные подарки, фландрские и венецианские гобелены, золотые флаконы испанской работы, наполненные персидским розовым маслом, подарил ей арабскую верховую лошадь и жемчужные серьги. Он не был скрягой и не скупился на дары Магдален-Сибилле, которую считал своей официальной метрессой. Камердинер Нейфер являлся к ней ежедневно и по поручению герцога церемонно осведомлялся о самочувствии барышни.
Магдален-Сибилла принимала все это холодно и безмолвно. Она молча бродила по дому, точно мертвая; не по-женски смело очерченное, прекрасное лицо окаменело, губы были сжаты, руки ей не повиновались. Она не выходила из дому, кроме как «доброе утро» и «добрый вечер» не произносила ни слова, обедала и ужинала одна, о хозяйстве не заботилась совсем. Никому, даже отцу, она ничего не сказала о том, что произошло у нее с герцогом; случалось, она целыми днями не видела отца.
Вейсензе и не пытался вывести ее из оцепенения. Он получил дворянство и новый чин конференц-министра. Он совсем утратил равновесие и был глубоко несчастен, со стороны коллег по малому парламентскому совету он чувствовал скрытое недоверие, ему хотелось объясниться с Гарпрехтом, юристом и с Бильфингером, который был справедливый, честный человек и ему друг. Но у него не хватало смелости.
Магдален-Сибилла часами сидела неподвижно, уставясь в одну точку. Она потеряла себя, она была растоптана, истерзана, опустошена. Разве это ее руки? Когда она уколется, разве это ее кровь? Но страшнее всего было то, что она не чувствовала к герцогу никакой ненависти. Она выбивалась из сил, стараясь восстановить в памяти то, что произошло. Мысленно она вдыхала запах пота и винного перегара, исходивший от Карла-Александра, видела, как к ней тянется что-то красное, омерзительное – это были его руки и лицо. Иногда от гадливости у нее поднималась чисто физическая тошнота. Последующее она уже не могла осознать. Знала только, что герцог не был ей ненавистен. Он казался ей животным, – конем или быком, – горячим, огромным, непонятным. Порой, глядя в глаза такого животного, видишь, как оно тебе чуждо, как бесконечно непохоже на тебя, порою же чувствуешь себя близким ему, но ненависти к нему не испытываешь никогда. И вот то, что он был животным, которое нельзя даже ненавидеть, было для нее страшнее всего, от этого сознания рушился весь ее внутренний мир, ничего не оставляя, кроме груды жалких, никчемных обломков. Значит, сама она такое же животное, может быть менее грубое, не такое красное, потное и сопящее, но все же животное. И все ее мечты о боге, о том, чтобы раствориться в нем и парить в вечном блаженстве – все оказалось глупой ребяческой фантазией, ни с чем не сообразным вздором и нелепицей. Какой ты цветок, животное ты, а не цветок!
Она пошла к Беате Штурмин. Она слушала благочестивые, умиротворенные, уверенные речи стареющей святой девушки и с трудом сдерживалась, чтобы не рассмеяться холодно и дерзко. Что знала она! Она была по-настоящему слепа. И проповедь ее – наивные бредни. Ты вот жила свято, целомудренно, радея о вечном блаженстве, и ни единая нечистая мысль не касалась тебя. И вдруг является зверь, красный, смрадный, сопящий, растаптывает тебя и сквернит тебя своей липкой грязью, а ты не испытываешь к нему ненависти. Объясни же это! Истолкуй как-нибудь!
Герцог пригласил Вейсензе с дочерью к себе. Вейсензе нерешительно сказал об этом Магдален-Сибилле. Она ничего не ответила и не пошла. Герцог повторил приглашение. Магдален-Сибилла не повиновалась и на сей раз. Герцог через Нейфера выразил председателю церковного совета свое нетерпение и недовольство. Вейсензе не осмелился рассказать дочери об этом. Он решил действовать через Беату Штурмин, намекнув ей, как обстоит дело, но святая девушка в простоте своей не поняла его намеков. Тем не менее она призвала к себе Магдален-Сибиллу и, ссылаясь на то, что, по словам ее отца, герцог благоволит к ней, стала уговаривать ее пойти к нему и вразумить его, дабы он перестал упорствовать в своем заблуждении. Что, если господь посылает ее, как послал Эсфирь к Артаксерксу? Магдален-Сибилла безудержно и злобно расхохоталась. Слепая с кротким недоумением обратила на нее незрячие глаза. Однако Магдален-Сибилла пошла, она пошла к зверю, движимая тупым любопытством. Все представлялось ей какой-то нелепой буффонадой. Люди тормошились, напускали на себя важность и сами себя убеждали, как нужно и важно им суетиться, а на самом деле смысла во всем не было никакого и толку не больше, чем от возни майских жуков, которых мальчишки посадили в коробочку.
Она пришла к Карлу-Александру. Сказала:
– Здравствуйте, ваша светлость, – села, поднесла ко рту чашку с шоколадом. Он заговорил с ней приветливо, весело, добродушно, как с малым ребенком. Она отвечала безразлично, машинально. Все, что она делала и говорила, было как-то искусственно, словно не имело к ней отношения. Он продолжал обхаживать ее. А она думала, что он скорее тяжеловесный конь, чем бык, и спокойно, со смесью отвращения и любопытства, ждала, возьмет ли он ее. Он же, видя, что время идет, а ее никак не расшевелишь, разозлился. Конечно, девица должна сперва пожеманиться, а потом делать вид, будто обижена, так уж заведено. Но в конце концов чего-нибудь да стоит быть его, герцога Вюртембергского, дамой сердца. Ни одна еще так не церемонилась, как эта, с такой замороженной недотрогой ему не доводилось иметь дело. Он вспылил. Она посмотрела на него, не с укором и не надменно; но в ее взгляде было столько беспредельного, язвительного презрения, что он смешался и почувствовал себя проштрафившимся офицеришкой. Снова перешел на приветливый, ласковый тон. Она молчала. Наконец он ее взял. Она равнодушно подчинилась, и он не испытал наслаждения. Когда он провожал ее вниз по лестнице к экипажу, усмешка застыла на лицах у лакеев – Магдален-Сибилла была похожа на покойницу или на безумную.
В дальнейшем она тоже не противилась тому, что он поставил ее в положение своей официальной метрессы. Она являлась по его первому зову. Показывалась с ним публично. Народ радовался, что у его государя такая приличная, красивая и аккуратная любовница, к тому же местная уроженка и славится благочестием. То, что у Карпа-Александра наряду с красавицей супругой была такая красивая и приличная любовница, да еще швабка, хотя и не вполне примиряло народ с его евреем, но сглаживало многое из того, что шло в ущерб популярности герцога. Горожане снимали шапки перед Магдален-Сибиллой, а иные даже приветствовали ее криками «ура».
Подобное настроение было весьма на руку самому Вейсензе. Его влияние возросло, даже в парламенте. И хоть в совете одиннадцати частенько ворчали против него, однако все, за очень малым исключением, не прочь были оказаться на его месте и от души завидовали его удаче. Нейфер, тот даже проявлял к нему своего рода угрюмую почтительность, как к герцогскому тестю с левой руки.
Медленно, постепенно приходила в себя Магдален-Сибилла. Точно замерзший человек, которого возвратили к жизни, болезненно чувствует, как наново начинает циркулировать по всему его телу кровь, она столь же болезненно ощущала, как ненависть и вожделение волнами поднимаются в ней, наводняют ее, неудержимо заполняют все поры. Карл-Александр по-прежнему был для нее безразличным, чуждым и непонятным животным, которое она терпела не без отвращения, но все ее помыслы и желания устремлялись к другому, вились вокруг другого. Герцог! Ну, что он знает! Что он понимает! Он – ее несчастье. Его нельзя ненавидеть, как нельзя ненавидеть яблочную кожуру, из-за которой случилось поскользнуться на улице. Но тот, другой, он за все ответствен, он все зная лучше и видел яснее, чем кто угодно, все взвесил и рассчитал, и он-то достоин ненависти, он поистине дьявол и воплощение зла. Недаром ее так жестоко потрясла встреча с ним тогда, в Гирсауском лесу, это было верное чутье, это было благодетельное предостережение. И он, этот дерзкий, скользкий, хитрый, нечестивый, как лед холодный дьявол, он знал не хуже ее, что за одно искреннее, теплое слово она блаженно предалась бы ему, что все ее ребячливые, таинственные, туманные мечты о боге и дьяволе претворились бы в пылкое, человеческое чувство, если бы у него только хватило мужества отстоять свое чувство, не поступиться сердечным влечением ради улыбки герцога, ради денежной подачки, ради чина. Ведь он любил ее. Так не смотрят, не говорят и не склоняются перед женщиной, если нет настоящего чувства. Когда человек, следуя своим инстинктам, принудительно вербует солдат, разоряет своих подданных, насилует женщин – в этом сказывается его звериное начало, он за это не ответствен. Но тот, другой, торговал ведь своим чувством. Тьфу, тьфу! Вот где обнаружилась его еврейская, дьявольская сущность.
Она не знала, с каким смешанным чувством, примешанным к тысяче других, Зюсс думал о ней. Возможно, что на сотую долю мгновения для него действительно и совершенно искренне существовала она одна; но он слишком разбрасывался и разменивался на тысячи всевозможных желаний, был слишком человеком минуты, чтобы сохранить в целости такое чувство, даже если бы ему этого и хотелось. А поставить из-за женщины на карту основной смысл своей жизни – близость к герцогу, – самая мысль об этом показалась бы ему несуразной.
Однажды она увидела его. Сердце у нее замерло: что он сделает? Вдруг он осмелится заговорить с ней! Но он не заговорил. Только низко поклонился и взглянул на нее спокойно, серьезно, почтительно. И она возненавидела его вдвойне.
Герцогиня с первого же вечера заинтересовалась Магдален-Сибиллой. Марии-Августе понравилась рослая девушка с лицом не по-женски смелым, и она искала сближения с ней. Она отлично видела, что та вполне равнодушна к герцогу, что он ее не понимает, а она через силу терпит его ласки и сама остается холодна. Этого Мария-Августа не могла постичь и потому с удвоенным любопытством приглядывалась к девушке, чьи синие глаза так странно контрастировали с темными волосами. Магдален-Сибилла чувствовала благожелательство Марии-Августы, но оно явно не трогало ее. А герцогиня, точно одержимая, ластилась и льнула к ней, ища ее близости, держала себя с ней как младшая сестра, нежно обнимала за талию и, изменив своей привычке злословить насчет всех других женщин, в сознании собственного превосходства, открыто высказывала дружеские чувства прекрасной даме сердца своего супруга.
Она ребячилась, жеманничала, надувала губки. Ах, она ведь глупа, как малое дитя! Магдален-Сибилла должна все объяснять ей. Она такая ученая, она занималась всякими глубокомысленными вопросами, вроде бога, тысячелетнего царства и общества филадельфов. Как приятно иметь такую ученую подругу!
Конечно, сама Мария-Августа ходит, как все верующие, в церковь и к исповеди. Но о боге она знает, собственно, лишь то, что учила в катехизисе, и по-настоящему сведуща только в светских делах и в модах. Кстати, Магдален-Сибилле лучше носить рукава покороче и попышнее, от этого выиграют ее красивые смуглые руки. Да и прическу ее она не вполне одобряет.
Она клала маленькую пухлую ручку на большую теплую руку Магдален-Сибиллы и улыбалась плутовской, шаловливой улыбкой.
– А кстати, дорогая, вчера, когда у лорда Сэффолька съехало набок жабо, вы заметили, что у него волосатая грудь? Совсем как у герцога.
Мария-Августа была в ту пору прекраснее, чем когда-либо. Черным атласом отливали ее волосы, матовым блеском драгоценной пастели сияло ее лицо и глаза с поволокой под ясным лбом. Походка была спокойным, радостным парением, и жизнь ее была полна и покойна, единственное, чего она желала,
– всегда жить именно так. При ней состоял Ремхинген, вспыльчивый и мужественный, очень забавно и немного страшновато было его злить; однажды он чуть-чуть не прибил ее. И еще состоял при ней молодой, скупой на слова лорд Сэффольк: неотложные обязанности призывали его на родину, а он тратил свою жизнь на то, чтобы упорно, не отводя глаз, смотреть на нее. Может быть, она когда-нибудь и осчастливит его. Почему бы не смилостивиться над юношей, который дает такие серьезные доказательства своих чувств? Или лучше быть с ним жестокой, чтобы он застрелился, – это, пожалуй, даже интересней. А еще при ней состоял господин де Риоль, он был восхитительно уродлив и тихим тоненьким голоском отпускал преехидные шутки, главным образом по адресу толстых женщин. И, держась на должном расстоянии, состоял при герцогине ее еврей, им она очень гордилась, он умел с величайшей почтительностью говорить ей самые циничные комплименты.
Она разжигала мужчин. И охотилась и устраивала празднества, и смотрела представления и сама участвовала в представлениях, и каталась по окрестностям и ездила на воды, и в Регенсбург, и в Вену. И была очень счастлива.
А Магдален-Сибилла смотрела на нее, как на шаловливую кошечку. Ах, хорошо так резвиться по жизни, хорошо, когда ничто не задевает глубоко, хорошо на все смотреть легко и беспечно улыбаться.
Когда посевы поднялись, когда поля, луга, цветочные клумбы приобрели краски и очертания, из почвы герцогства выросли письмена. Произошло это дружно, словно по тайному сговору. На окраинах городов, вокруг деревень, крестьяне посеяли на пашнях, лугах, в садах семена васильков, мака, клевера и семена более редких цветов, так чтобы они составили определенные письмена. И вот они взошли, из темной почвы вышли на свет божий, кое-где неуклюжие, кое-где изящно очерченные и теперь кричали красными маками, синими васильками, желтым львиным зевом и грациозными белыми лилиями: «Зюсс поганый жид». Или «Иозеф Зюсс поганый жид и губитель».
Кое-где в дело вмешались власти, но, вопреки обыкновению, вяло и не слишком строго. Люди подсмеивались, герцог хохотал. Мария-Августа нарочно поехала за город осмотреть особенно искусно сделанную куртину. То, что увидела, она потом подробно описала Магдален-Сибилле, которая под каким-то предлогом отказалась сопровождать ее.
На большой поляне у опушки леса подле Гирсау, неподалеку от деревянного забора, которым был отгорожен дом среди цветочных клумб, какой-то крестьянин посеял ту же надпись. Это был молодой человек, принадлежавший к братской общине магистра Якоба-Поликарпа Шобера. Здесь, в библейском обществе, после ухода Магдален-Сибиллы стало пусто и скучно. Правда, собирались здесь люди тихие, смиренные и скромные. Однако присутствием в своей среде дочери прелата они как-никак гордились, и теперь, без нее, их маленький кружок совсем приуныл. К тому же из резиденции доходили удивительнейшие слухи о Магдален-Сибилле, и, хотя благочестивые души не хотели помыслить дурное о своей бывшей сестре, тем не менее эти слухи давали пищу ненависти и отвращению к ироду-герцогу и его телохранителю, еврею, который был явно сам сатана во плоти. Движимый истинно христианским возмущением, молодой крестьянин тщательно и добросовестно вывел на лесной поляне надпись из цветов: «Иозеф Зюсс поганый жид и сатана».
Для самого магистра Якоба-Поликарпа Шобера с отъездом Магдален-Сибиллы исчез благой, целительный свет. При всем своем смирении и приниженности, он чувствовал, что их с Магдален-Сибиллой связывает сокровенное знание, возвышая его, Шобера, над остальными. Она, без сомнения, догадывалась о его великой, сладостной тайне, и потому кроткому, упитанному, толстощекому молодому человеку ее присутствие давало тихую возвышенную радость. Какая отрада сознавать, что рядом есть кто-то, проникший в твою заветную тайну, а если от этого чувствуешь себя выше других, то разве можно такое чувство считать неугодной богу гордыней? Магистр любил уединение в боге, но ему очень недоставало Магдален-Сибиллы, и лишь теперь он искренне подосадовал на то, что наградное ведомство потребовало слишком большую сумму за место герцогского библиотекаря, почему его кандидатура провалилась, и наряду с общим возмущением против Зюсса у него зародилась чисто личная ожесточенная ненависть, за которую он сам порою смиренно корил себя, почитая ее неподобающей христианину. Но избавиться от нее он не мог, а во время своих задумчивых прогулок по лесу часто останавливался перед цветочной надписью и не без удовлетворения окидывал взглядом очертания букв: «Иозеф Зюсс поганый жид и сатана».
Однажды неудержимая сила вновь привела его туда, и сердце остановилось у него в груди, когда он увидел подле надписи другого посетителя – черноволосую, матово-бледную девушку, принцессу из небесного Иерусалима. Она лежала на земле, заливаясь слезами. Полная, добродушная на вид женщина растерянно и беспомощно хлопотала около распростертой почти без памяти девушки.
У мягкосердечного магистра все внутри перевернулось от жалости. Колебаний тут быть не могло: христианская заповедь любви повелевала ему поспешить на помощь ближнему. Однако немало времени прошло, пока он преодолел робость перед этим неземным видением, втайне дрожа от страха, как бы принцесса не оправилась прежде, чем он наберется храбрости заговорить с нею. Но в конце концов он взял себя в руки, спотыкаясь о корни, подошел ближе, снял шляпу и, отвешивая низкие церемонные поклоны, произнес:
– Сударыня, сударыня!
Толстуха в испуге обернулась, принцесса медленно обратила к нему взор, который блуждал где-то далеко и не замечал его. Он не был большим психологом, но понял, что расстройство девицы связано с цветочной надписью, и, обрадованный этой догадкой, поспешил осведомиться с нежнейшей и почтительнейшей интонацией:
– Разве и вас, сударыня, гнусный жид оскорбил чем-нибудь? Да, он в самом деле губитель и смердящий сатана.
Но его речь, подсказанная самыми благими побуждениями, вызвала ошеломляющую реакцию: нежная дева вскочила на ноги, испепелила его взглядом и с неожиданной силой закричала:
– Клеветник! Ехидный, трусливый, низкий клеветник!
Перепуганный магистр неуклюже отскочил назад; но тут у девицы вновь хлынули слезы, и она пролепетала совсем другим, полным нежной укоризны тоном:
– И цветы, невинные цветы замараны низкой клеветой.
При виде безудержных слез прелестной девы из небесного Иерусалима магистр Якоб-Поликарп Шобер впал в смятение и великую растерянность.
– Ведь у меня не было злого умысла, сударыня, – неуверенно забормотал он. – Его уличают собственные его деяния, сударыня. Это известно по всей стране, сударыня. – Он заново начал отвешивать церемонные поклоны, черноволосая красавица плакала между тем беззвучно и безудержно, а полная особа утешала ее и пыталась увести. Поддерживая и успокаивая плачущую девушку, она наконец оторвала ее от злополучных цветов.
Однако магистр не мог примириться с клеймом злостного клеветника. Он плелся следом за женщинами, продолжая взволнованно оправдываться тем, что это ведь известно по всей стране и у него не было злого умысла. Но девушка страстно возмутилась, а глаза ее казались при этом огромными и безумными на очень белом лице:
– Сатана! Он, он – сатана! Он бел и румян, лучше десяти тысяч других. Голова его – чистое золото, кудри его волнистые, черные, как ворон, щеки его – цветник ароматный, гряды благовонных растении, губы его источают текучую мирру, руки его – золотые кругляки, усаженные топазами, живот его
– как изваяние из слоновой кости, обложенное сапфирами.
И когда она говорила, улыбка на ее устах и ясное чело излучали священный восторг и глубокую убежденность.
Якоб-Поликарп, услышав библейские стихи, тотчас же почувствовал себя уверенней и спокойней. Теперь он начал понимать ее смятение. Ага! Она была одной из тех, кого еврей обольстил своим колдовством и бесовскими чарами. Ведь любовными напитками, нечестивыми приемами, черной магией можно смутить и завлечь в объятия дьявола даже самую чистую душу. Против корня мандрагоры не могло устоять ни одно самое невинное сердце, тут он и за себя не поручился бы. Еврей весьма падок до женщин. Конечно, в россказнях про Магдален-Сибиллу нет и крупицы правды, однако можно не сомневаться, что еврей испытывал на ней силу колдовских чар. И она, эта принцесса из небесного Иерусалима, была, несомненно, одной из его жертв. Сколь она чиста и непорочна, явствует из того, что даже сейчас из глубин заблуждения и падения она цитирует библию. Как пленительно сладостно звучат из ее уст слова священной книги! Должно быть, Вельзевул, когда соблазнял ее, принял чистое, ангельское обличье.
Толстощекий магистр от этих размышлений чуть не воспарил к небесам. С отъездом Магдален-Сибиллы его жизнь, в сущности, стала крайне тоскливой и убогой. Теперь господь в милости своей ниспосылает ему благодетельную задачу вырвать эту нежную и прекрасную принцессу из когтей сластолюбивого и ненасытного сатаны. Он начал осторожно, издалека, упомянул о радостях, которые ждут на небесах обратившихся к богу грешников, затем перешел к кающейся Магдалине и, наконец, заговорил о хитро и ловко расставленных сетях, от которых не уберечься самым чистым и нежным душам. Ибо враг, сатана и соблазнитель…
Но тут гнев девушки вторично и сильнее, чем в первый раз, обрушился на него.
– Мой отец – не сатана и не соблазнитель, – вспыхнула она, меж тем как толстуха испуганно и настойчиво старалась ее удержать. – Все это черная, низкая, подлая клевета.
Приветливое, толстощекое лицо магистра разом пожелтело и поблекло. Еврей – ее отец! Покрытая мхом почва заколебалась под ним, деревья повалились прямо на него, впились в него, придавили его. Еврей – ее отец! Весь его мир, бог, дьявол, откровение – все перевернулось вверх дном.
Когда к нему наконец вернулась способность мыслить и соображать, он подумал, что многое из того, о чем толкуют и шушукаются про еврея – не что иное, как выдумки и коварные наветы, раз у него такая дочь. Люди злы, и языки подобны отравленным кинжалам, из кого только не делали Ирода и Варраву, а потом оклеветанный оказывался не хуже любого из нас. Однако же нельзя упускать из виду и то обстоятельство, что его, человека смирного и богобоязненного, не взяли на место библиотекаря только за отсутствием у него денег. А ввел такой порядок не кто иной, как еврей. И пусть обитающая здесь дева чиста и непорочна, многие другие плоды его дел пагубны и нечестивы, и на них тоже надо смотреть открытыми глазами, как на этот, спору нет, белоснежный ангельский лик.
От девушки не укрылось замешательство магистра.
– Ага, – воскликнула она, – теперь вы испугались, когда услышали, что он мой отец. Не боитесь! Он слишком велик, чтобы хотя бы пальцем пошевелить ради своих ничтожных врагов и клеветников.
Но этого уже Якоб-Поликарп Шобер не мог стерпеть. Он, конечно, человек смиренный и ничтожный, возразил он, но страх перед людьми ему неведом. И пусть господин еврей, отец барышни, – сам лютый Навуходоносор, могущий ввергнуть его в печь огненную, он все же не перестанет славить господа бога.
За этими разговорами они незаметно дошли до деревянного забора, и толстуха сказала, что ему пора уходить. Она отвела его в сторону и несвязно, запинаясь, выговаривая слова на иноземный лад, стала умолять его, чтобы он не верил девочке. Вовсе она не дочка финанцдиректора, она только себе это вообразила! Упаси его господь кому-нибудь заикнуться об этом. Магистр и вообще соображал довольно туго, а от всех перипетий голова у него совсем пошла кругом, однако он понял, что все блаженство через минуту окончится навсегда, и тут неожиданно принял отнюдь не робкое решение. Он считает своим христианским долгом, заявил он, убедить барышню, что он не подлый клеветник, и с этой целью ему необходимо еще раз обстоятельно побеседовать с ней. Только при этом условии он обязуется хранить тайну. Толстуха нерешительно обещала исполнить его просьбу через несколько дней и скрылась в доме вместе с принцессой, которая не переставала сетовать:
– Так испортить цветы, бедные, неповинные цветы!
А Якоб-Поликарп Шобер с этого дня пребывал в особо торжественном и приподнятом состоянии духа. Бог поставил его у рычага великих и трудных свершений. Очевидно, принцесса все-таки дочь иудейского превосходительства, и толстуха попросту налгала ему, но он не так прост, его не проведешь глупой болтовней. Ему назначено спасти душу девственницы, а быть может, на этом пути он столкнется и с самим евреем и сподобится пробудить в нем совесть; ибо отнюдь не установлено, что у евреев совесть отсутствует вовсе. И если господь Саваоф ниспошлет силу его речам, то, может быть, через него все герцогство избавится от жестокого гнета.
В таком приподнятом и просветленном состоянии духа ожидал обещанной встречи толстощекий магистр. Настроение его не омрачилось и после того, как он услышал, что место библиотекаря предоставлено кому-то совсем недостойному, у кого, кроме талеров, не было никаких соответствующих должности качеств. Милость божья теперь уже явно снизошла на него, речь легко и плавно текла с его уст, и случалось, что слова сами укладывались в рифмованные строки. Так, вскоре после известия о том, что место библиотекаря занято другим, он сочинил песню, которую озаглавил «Забота о хлебе насущном и упование на бога»; начиналась она такими стихами:
Доколь живет на свете ворон, Доколе жив и воробей; Доколе мир зверьми весь полон, Себе твержу я: не робей.
Коль те насыщены вполне – Ужель господь откажет мне?
А другая называлась «Иисус – лучший математик» и гласила:
Иисус все числа знает, Слагает, умножает, Хоть были б там одни нули.
Обе песни были встречены в библейском общество умиленным восторгом. Братья и сестры выучили их наизусть и пели во всех случаях жизни, и когда пребывали в большой скорби, и когда с выгодой продавали товар, и когда умирали, и когда рожали детей. При всем смирении Якоба-Поликарпа Шобера это очень льстило ему и утешало его в утрате Магдален-Сибиллы.
Янтье, толстуха служанка, сокрушенно доложила рабби Габриелю о злосчастном происшествии. Рабби молча, знаком, приказал ей удалиться.
После ухода служанки еще сильней омрачилось и окаменело хмурое лицо, еще резче обозначились три борозды прямо над переносицей. Пресечь вопросы. Нельзя, чтобы девочка спрашивала. Да убережет его небо и все благие ангелы от ее вопросов. Лгать ей он не хотел. Разбить созданный ею сияющий образ отца он бы не побоялся, но тогда бы от него ускользнуло последнее… А чем пойти на это, лучше превратить свои цветочные клумбы в навозные кучи.
И серафимы и архангелы охранили скорбного угрюмого человека. Ноэми не спросила. Правда, он видел, как один раз с ее уст уже готов был сорваться вопрос, как уже затуманились ее глаза. Но она промолчала. Разве вопрос не был бы сомнением? Нет, отец ее был прекрасен и стоял так высоко, что клевета язычников и филистимлян не марала даже его подошв. Массивные буквы древнееврейских книг слагались в краеугольный камень его славы. Он был Самсоном, избивавшим филистимлян, он был Соломоном, самым мудрым среди людей, он был, и этот образ чаще всего посещал ее сны, он был Иосифом, кротким, разумным: фараон поставил его над всем народом, и он облагал народ податью в предвиденье голодных лет. Но люди были неразумны и не понимали его мудрости. Ах, хоть бы он приехал поскорее. Прильнуть бы к его груди! От взгляда его огненных очей превратится в пепел и развеется как дым болтовня толстощекого незнакомца.
А рабби Габриель читал в писаниях учителя Исаака Лурия Ашкинази,[41] каббалиста: «Бывает так, что в теле человеческом не одна душа должна свершать новое земное странствие, а две души и даже более соединяются с этим телом для нового странствия. Цель такого слияния в их взаимной поддержке для искупления вины, за которую осуждены они свершать новое странствие».
Подперев щеку рукой, сидел он, размышлял, воскрешал в памяти то, что видел и понял во время своих странствий. Перед ним вставал безграничный горный простор, пустыня, камень, потрескавшийся лед, над ними – нежный дразнящий блеск озаренных солнцем вершин, туча, что омрачила их, полет птицы, мрачное и дикое своеволие скалистых глыб, разбросанных по льду, отзвуки людей внизу и скота на пастбищах. Он силился понять, чему подобен лик человека, которому он был обречен. И комнату и книги перед ним словно заволокло туманом, так углубился он в созерцание того лица. Он изучал черту за чертой, видел выпуклые глаза, небольшой чувственный рот, густые каштановые волосы. Он видел кожу, мясо, волосы, и ничего больше. Тогда повел он плечами и поник, усталый, приземистый, тяжело дыша и хрипя, точно вьючное животное, которому не под силу с такой ношей взобраться на кручу.
Неподалеку от Гейльбронна, посреди виноградников уютно расположился замок Штетенфельз. Проживал в нем граф Иоганн-Альбрехт Фуггер, питомец иезуитов, ревностный католик, друг вюрцбургского князя-епископа. Замок входил в число поместий Швабского имперского рыцарства, и граф владел им, а также имением Группенбах и селеньем у подножья замка, как ленник герцога Вюртембергского. Еще при Эбергарде-Людвиге настойчивый вельможа многократно испрашивал разрешения отправлять у себя в замке католическую службу. Его просьбу всякий раз отклоняли. Теперь же, при герцоге-католике, он преспокойно приютил у себя в замке капуцинов и принялся строить на ближней горе обширный монастырь с церковью. Князь-епископ Вюрцбургский оказывал ему поддержку, при всех католических дворах собирали пожертвования в пользу его затеи, он снискал себе громкую славу, как деятельный и отважный поборник святой церкви.
Открытое нарушение законов, буря в парламенте, грозный запрос кабинету с требованием воспрепятствовать дерзкому бесчинству. Герцог разъярен, но у него связаны руки. В своем пресловутом манифесте о свободе вероисповедания он обязывался ни при каких обстоятельствах не вмешиваться в такого рода вопросы, возложил управление делами церкви на кабинет министров и по всей форме отказался от епископских прав над евангелической паствой и от личного участия в клерикальных спорах. Нигде в герцогстве – как торжественно заверил он – не будет разрешено возводить католические церкви, а католическое богослужение может совершаться только в дворцовой капелле для него и членов его семейства.
Случай вполне ясен. Юристу Гарпрехту предлагалось сделать доклад на заседании кабинета, содокладчиком выступал Бильфингер. Оба они, люди честные и прямолинейные, были искренне рады, что вопрос этот изъят из компетенции герцога. С глубоким сокрушением наблюдали они стремительное падение нравов в стране, продажность и беспринципность чиновников. Они не покинули своих постов лишь потому, что не хотели допустить, чтобы им на смену пришли зюссовские клевреты. Но вот наконец случай, где не властны вмешаться никакой герцог и никакой еврей; вот когда можно доказать евангелическим братьям, что страна, в каком бы упадке она ни находилась с виду, в делах совести, в религиозных вопросах, останется тверда, честна и незапятнанна.
Наперекор нерешительным и колеблющимся Шютцу и Шеферу, Гарпрехт и Бильфингер провели постановление о посылке к графу в Группенбах, с целью ревизии ленного владения, следственной комиссии во главе с советником Иоганном-Якобом Мозером,[42] известным публицистом, который совсем недавно в речах, делах и писаниях показал себя непреклонным протестантом. Ему были даны широкие полномочия.
Однако надменный и упрямый граф не обнаружил никакой склонности к подчинению. Он заставил правительственную комиссию долго дожидаться перед замком под ветром и непогодой и встретил ее сухо и неприветливо. Когда члены комиссии указали на возведенные вплоть до башен стены монастыря и церкви и спросили, как он позволил себе, в нарушение закона и вопреки предупреждению кабинета министров, сооружать на герцогской земле католический монастырь и храм, подвижной, худощавый, щуплый владелец замка смерил комиссию злобным, суровым, высокомерным взглядом, а затем небрежно и вызывающе бросил, что это его новые хозяйственные постройки. Осмотра зданий вблизи он не допустил. Тут чинно парами вышли капуцины. Граф с прежней иронией пояснил, что это новая ливрея его штата, и высказал пожелание, чтобы эта мода как можно скорее распространилась на всю страну. Комиссия вернулась в Гейльбронн ни с чем. Спустя некоторое время она все же добилась осмотра построек. С судебным приставом отправила графу составленный в крайне грубой форме решительный приказ снести до основания монастырь и церковь, к исполнению чего приступить не позднее трех дней. Граф собственноручно сбросил посланного с лестницы, а затем натравил на него собак. Тогда снова с целым отрядом солдат явился Мозер, представительный важный фигляр, приказал срыть церковь и монастырь и отбыл лишь после того, как граф, охрипнув от брани, оплатил до последнего гроша не только всю работу, но и расходы по карательной экспедиции. В камне, замурованном при закладке монастыря, найдена была грамота, гласящая, что сей штетенфельзский монастырь сооружен во имя распространения единой истинной католической веры через искоренение ереси на вюртембергской земле.
Ликование в стране и парламенте. В малом совете тяжеловесный, грубый бургомистр Бракенгейма гремел:
– Чего-нибудь мы еще стоим. Захотим – так заставим еретических псов жрать собственное дерьмо.
А угрюмый Нейфер назидательно изрек:
– Много препон на пути государя, но они лишь разжигают вкус к власти, а преодоление их придает ей особую остроту.
В народе неприкрытое злорадное торжество. В трактире под вывеской «Синий козел» булочник Бенц, заказав лишний стаканчик вина, зубоскалил:
– Значит, бывают еще дела, в которые не смеет вмешаться никакая шлюха и никакой жид.
Искреннейшая радость среди людей типа Гарпрехта и Бильфингера. Тихое смиренное благодарение, вознесенное ко господу, во всех филиалах библейского общества пиетистов.
Святая Беата Штурмин, слепая дева, все это знала заранее. Наугад раскрыв священное писание, она прочла: «Проклят, кто сделает изваянный или литой кумир, мерзость пред господом, произведение рук художника, и поставит его в тайном месте!» В гирсауском библейском обществе благочестивый хор трижды пропел песню магистра Якоба-Поликарпа Шобера «Иисус – лучший математик».
И далеко за пределами Швабии, во всей Германской империи штетенфельзская история сильно взволновала умы. Вюрцбургский князь-епископ через своих советников Фихтеля и Рааба подал герцогу официальную жалобу. Герцог не на шутку разгневался, решив, что его умышленно хотели опорочить и унизить в глазах его единоверцев. Однако мудрый вюрцбургский епископ не пожелал воспользоваться таким умонастроением. Он знал, что Карл-Александр озабочен другими вопросами, и приберег более решительное вмешательство на будущее.
А у Карла-Александра и правда была куча разных мелких щекотливых дел. Зюсс надумал во что бы то ни стало получить дворянство. Положение его достаточно упрочилось, и, обладая всей полнотой власти, он пожелал теперь добиться и внешних ее атрибутов, он лелеял мысль официально занять место первого министра. Стоило ему только креститься, как все уладилось бы в один день. Но для него было вопросом чести перед лицом императора и всей Германской империи получить самый высокий в герцогстве пост, оставаясь евреем. А герцог, после того как Зюсс у себя на маскараде свел его с Магдален-Сибиллой, поддержал ходатайство своего гоффактора через вюртембергского посланника в Вене, тайного советника Келлера, прося о возведении его в дворянство и предлагая за это тысячу дукатов. Однако не только вюртембергский парламент, но и коллеги Зюсса по кабинету министров интриговали против него при венском дворе, и решение этого вопроса все тормозилось. Желая показать, сколь он незаменим, и тем самым подхлестнуть герцога, Зюсс устранился от помощи Карлу-Александру, испросив себе заграничный отпуск, под, предлогом неотложных личных дел. И тотчас же разладилось дело с рекрутским набором, поступления денежных средств для армии прекратились, женщины стали менее сговорчивы, тысячи мелких забот, от которых избавляла герцога ловкость его финанцдиректора, встали теперь перед ним во всей своей неприглядности. Перестало хватать денег на покрытие его огромных личных расходов, искусственно раздутых Зюссом, а также на оплату военных поставок. Ко всему еще Карла-Александра раздражала упорная неподатливость Магдален-Сибиллы, да и дамы Гетц, как мать, так и дочь, ловко и незаметно руководимые издалека Зюссом, оказывали непредвиденное сопротивление. Ремхинген ему наскучил, Бильфингера он избегал, недовольный его ролью в штетенфельзском инциденте, француз Риоль, на его взгляд, был слишком вертляв и остер на язык. Он вздыхал о своем еврее. Если бы тот был здесь, несомненно и штетенфельзская история приняла бы другой оборот; какой позор, что его министры не способны без помощи еврея достойно уладить христианские дела.
Путешественника встретили дома с распростертыми объятиями. Он успел побывать в Голландии, в Англии. Во Франкфурте его чествовали, в Дармштадте он поиздевался над братом, над бароном, над выкрестом: он, мол, достигнет того же и не таким презренным способом. К тому же в Нидерландах он познакомился с одной португальской дамой, сеньорой де Кастро, рыжеватой блондинкой, видной, моложавой, изящной, неприступной с виду и по манерам. Она была весьма состоятельной вдовой португальского резидента в Генеральных штатах. Зюсс хотел на ней жениться. Она не отвергла его; однако поставила условием получение им дворянства. А пока что обещала в ближайшем будущем посетить его в Штутгарте. Мария-Августа, услышав об этом проекте, звонко расхохоталась. Герцогу предполагаемое супружество его придворного еврея пришлось не по душе. Черт возьми, он ведь не препятствует ему иметь метресс.
– Ты, еврей, все равно лакомишься изо всех моих тарелок, – ворчал он. Однако Зюсс, при всей своей улыбчивой подобострастности, не отказался от этого намерения и, сломив сопротивление герцога, добился посылки в Вену нового ходатайства о возведении его в дворянство. Карл-Александр собственноручно написал настойчивую просьбу. Он подчеркнул, что от одного своего придворного еврея видит больше пользы, нежели от всех прочих советников и чиновников, что в силу своих талантов и отменной деловитости еврей успешно справляется с любым важным начинанием, а посему он, герцог, почитает прямой своей обязанностью отблагодарить его единственным достойным княжеского престижа образом, а именно дворянской грамотой. После такого послания Зюсс решил, что дело слажено.
Он проезжал по улицам на своей белой кобыле Ассиаде и казался на десять лет моложе своего возраста. Он был первым кавалером во всей Швабии. Ловко, складно, легко сидел он верхом на лошади, ярко-пунцовые губы на белоснежном лице были полуоткрыты, каштановые волосы легкими волнами выбивались из-под широкополой шляпы, хлыст сверкал драгоценными каменьями, из-под ясного лба глядели выпуклые крылатые глаза. Женские головы стремительно поворачивались ему вслед: «Он снова здесь!» Дамы Гетц высунулись в окно и, когда он, проезжая мимо, почтительно им поклонился, залепетали с приторным восторгом: «Он снова здесь». – «Снова он здесь!» – ворчал народ, невольно любуясь им. А дон Бартелеми Панкорбо, увидев на руке, приветственно помахавшей ему, огромный сверкающий солитер, усмехнулся тонкими губами: «Снова он здесь!» – и поверх чопорных брыжей старомодной португальской придворной одежды жадно и настороженно скосил упрямые, бегающие щелочки-глазки вдогонку статному всаднику.
А кобыла Ассиада высоко вскидывала голову и звонким, горделивым ржанием возвещала насторожившимся горожанам, злобным, завистливым кавалерам и замирающим от сладострастного волнения женщинам: «Он снова здесь!»
Пребывание герцогской четы в Людвигсбурге завершилось парадным представлением. В представлении участвовала сама герцогиня, а также молодой Гетц, успевший получить чин советника экспедиции, и тайный советник по финансовым делам Зюсс. Самые трудные и неблагодарные роли исполняли певцы и актеры придворной труппы.
Блистательное сборище. Согласно предписанию – мужчины в париках с буклями, дамы в низко декольтированных туалетах. Начиная с четвертого ряда из-за леса громадных пышных париков, в просвете над обнаженным женским плечом, можно было лишь с превеликим трудом увидеть кусочек сцены.
На подмостках – герцогиня. Как она хороша в испанском наряде! Золотой гребень выгодно оттеняет блестящие черные волосы над тонким профилем цвета старого благородного мрамора. При виде ее у Ремхингена вырвалось что-то вроде звериного рычания, герцог еле удерживался, чтобы не прищелкнуть языком, а лорд Сэффольк смертельно побледнел.
Играют пьесу великого испанского драматурга былых времен. Вещь эта прошла через много рук, странствующие итальянские комедианты переиначили ее на свой лад, введя пение и танцы, а теперь над ней поусердствовал тюбингенский придворный пиита, переведя весь текст добросовестным, гладеньким александрийским стихом. Но миниатюрная смуглая неаполитанка, которой, понятно, была поручена самая ответственная и трудная роль, настояла на том, чтобы главные свои сцены играть и петь по-итальянски. Швабский стихотворец в досаде устранился, а вездесущий Зюсс спешно раздобыл среди знакомых своей матери другого поэта и режиссера, и теперь одни сцены исполнялись по-немецки, другие по-итальянски, что вносило разнообразие и заведомо избавляло зрителей от скуки. Впрочем, это и сама по себе была живая, увлекательная комедия. На подмостках стоял герой – доблестный рыцарь и страстный любовник. Его ремесло – война и любовь. Только он отличался грустной особенностью – едва овладев женщиной, он уже был пресыщен ею.
Краса, что нас влечет, – Пленительное чудо; Доступная краса Нам мерзостнее блуда, –
признавался он, и зрители прочувствованно кивали париками в знак согласия. Однако герой на подмостках и в поведении своем следовал этому правилу, предавался безудержному распутству, в каждом действии соблазнял и бросал женщин, закалывал их вздыхателей. Лишь герцогиня, по благородству своей натуры, не уступала соблазнителю и весьма решительным образом давала ему отпор, как оно и подобает столь возвышенной особе. Мария-Августа превосходно вошла в роль; но господин де Риоль, самый наблюдательный в таких делах зритель, подметил, что она потихоньку подсмеивается над своей ходульной и жеманной добродетелью. Едва уйдя за кулисы, она игриво толкнула в бок советника экспедиции Гетца:
– Недурно я его отделала, а?
Советник экспедиции вместо ответа принялся отвешивать низкие почтительные поклоны. По ходу действия он был уже мертв, так как играл одного из соперников героя, и тот заколол его в самом начале представления. Но актеру – исполнителю главной роли пришлось при этом очень несладко: господин Гетц не желал умирать без сопротивления, а, как приличествует молодому швабскому дворянину знатного рода, пустил в ход все свое фехтовальное искусство и едва всерьез не поранил актера, так что Гетца пришлось силком уволочь за кулисы, иначе пьеса затянулась бы до бесконечности.
Между тем представление продолжалось. Герой никак не мог добиться успеха у герцогини. Он решил похитить ее. Но миниатюрная, смуглая неаполитанка, покинутая им в неприступных горах, хоть и попала в плен к маврам, однако была своевременно освобождена, и драматург так искусно сплел интригу, что герой вместо герцогини по ошибке в темноте похитил ее и снова увез в горы. Там он обнаруживает обман и в ярости решает продать бедняжку маврам. Миниатюрная смуглянка на коленях, обливаясь слезами, умоляет его сжалиться над ней. Это была самая лучшая сцена в пьесе, великий испанец вложил в нее все свое мастерство, и, даже претерпев множество переделок, порядком засоренная и опошленная, она все-таки сохранила свою силу. Итак, упав на колени перед грубо загримированным актером, который со скучающей и презрительной миной принимал картинные позы, при свете масляных ламп, на фоне трех бурых зубцов, выпиленных из дерева и долженствующих изображать неприступные горы, неаполитанка произносила свой монолог:
– Ты клялся взять меня в супруги, но ныне ты этого не хочешь, и я готова освободить тебя от клятвы. Заточи меня навеки в монастырь! Или возьми к себе служанкой: чтобы служить тебе, я рада стать рабыней. Лишь счастье буду я вымаливать тебе у бога. Пойдешь ты на войну, в твоей палатке я буду готовить тебе пищу, одежду чистить. А хочешь, поведи меня к своей любимой и заставь служить ей! Когда в твоем присутствии я стану расчесывать ей косы, не бойся – ни роптать, ни дергать ее за волосы не осмелюсь. А если ты начнешь ей говорить слова любви, те ласковые, нежные слова, что говорил когда-то мне, я только стисну зубы и молча претерплю горчайшую судьбу, какая может выпасть женщине, – рабыней буду счастливице, любимой моим любимым. Лишь маврам не продавай меня! Не продавай!
Произнося эти слова, она уже не была смуглой, вертлявой, распутной толстушкой, нет, роль увлекла ее и перевоплотила в несчастную, беспомощную, обиженную, плачущую женщину.
В зале стало очень тихо, слышно было, как масло из ламп каплет на просцениум да жужжат горящие свечи в жирандолях у стен.
Белокурые, лилейные, хрупкие дамы Гетц были глубоко растроганы, дочка громко всхлипывала, но плакать по-настоящему остерегалась, потому что, когда краснеет нос, сразу становишься дурнушкой.
А сеньора де Кастро, которая не знала, принять ли ей предложение Зюсса, но все же осуществила свое намерение посетить Штутгарт и тут тоже сделала для себя практические выводы как особа с практическим складом ума, привыкшая извлекать пользу из всего, что видела, слышала и наблюдала: да, все мужчины таковы. Пока ухаживают, они сулят что угодно. А после первой ночи становятся нестерпимо грубы. Прежде чем выйти за него замуж, я на всякий случай сохраню за собой право единолично распоряжаться моим собственным состоянием, а за свои милости назначу такую высокую плату, что ни при каких обстоятельствах не буду внакладе. Впрочем, я еще как следует прикину все плюсы и минусы этого дела.
Что верно, то верно. Женский пол надо держать в узде, размышлял герцог. Однако этот молодчик уж очень бесчинствует. Я бы его попросту выпорол. А итальянка хороша. Она мне сразу приглянулась. Сам не пойму, отчего я до сих пор не дал команды прислать ее ко мне в постель. Конечно, виновата Магдален-Сибилла. А я, осел, из-за одной недотроги ни на кого больше не смотрю. Сегодня же ночью надо наверстать упущенное.
Ремхинген уставился на актрису плотоядным взглядом. Он уже разок попользовался ею, но по скаредности мало заплатил, и она стала несговорчива. Придется раскошелиться еще на несколько дукатов, со вздохом подумал он. Ну, ничего. Заставлю еврея возместить убытки. Пусть возьмет меня в долю при поставке новой партии сапог. Ведь он, окаянный, во всем виноват. До того разбаловал бабье, что теперь ни одна не подчиняется сразу и заламывает невесть какую цену за то, что ей самой ничего не стоит.
А в самом дальнем углу стоял чернокожий. Он смотрел на сцену поверх париков и даже поднимался на носки, чтобы получше видеть. Своими большими звериными глазами он пожирал распростертую в бессильном отчаяния женскую фигуру. И не мог подавить глухой хриплый гортанный стон при заключительных словах актрисы.
– Мой сладчайший повелитель! Мое блаженство! Божество мое! Опомнись! Стань самим собой! Обрети себя, пока еще есть время. Раскаяние не преступление, а заслуга! Ибо иначе небо, звезды, месяц, животные и люди, леса, деревья, горы и самые стихии откажутся служить тебе, восстанут, не стерпев такого святотатства! Внемли мне! Образумься! Сеньор Гомес Ариас! Сжалься надо мной, простертой в прахе. Не продавай меня ты маврам в Бенамеги!
Последние слова она произнесла нараспев тихим, трогательно слабым голоском. Ремхинген и некоторые другие господа связывали ее волнение со своей персоной; никто и не подозревал, что актриса думала при этом о неловком белобрысом советнике экспедиции Гетце.
Вслед за тем на сцене появился Зюсс. Он играл мавританского принца, которому негодяй испанец продал неаполитанку.
– Ну, конечно, если речь зашла о купле-продаже, еврей тут как тут, – буркнул Ремхинген своему соседу.
Но Зюсс проявил поистине рыцарское благородство. Страстно любя женщину, купленную им и ставшую его рабыней, он не притронулся к ней.
Презренна мне любовь, Когда я ей не мил, Когда восторг утех Насильно я добыл, –
продекламировал он.
Весь он сверкал драгоценными каменьями и вид имел весьма авантажный, правда, на его шелковые мавританские шаровары были нашиты фландрские кружева.
Чернокожий радовался, что мусульманин так благородно ведет себя на сцене.
– В жизни мой еврей не стал бы разводить такие церемонии, – смеялся герцог.
А дон Бартелеми Панкорбо думал: вон он стоит и распинается перед этой бабенкой и клянется, что ничего не пожалел бы для нее. Я на ее месте потребовал бы один только солитер, и, конечно, он стал бы отвиливать. При этом португалец вытягивал жилистую шею, и глубоко запавшие щелочки-глазки на костлявом сизо-багровом лице не отрывались от солитера.
На шертлинской фабрике, в Урахе, в свое время служил некий Каспар Дитерле, мужчина лет сорока; у него было одутловатое лицо, выцветшие голубые глаза, рыжеватые тюленьи усы, плоский затылок. Когда фабрика перешла к компании Фоа-Оппенгеймер, Дитерле был оставлен ткацким мастером. Внешне он держался подобострастно и смиренно, а втихомолку поносил еврейское хозяйничанье. При случае старался вызвать вспышки недовольства. Сам раболепствовал, а других подстрекал. С подчиненными был жесток и груб. В конце концов, когда его двурушническое поведение открылось, он был уволен.
Он не решался искать работы за пределами родины. Опускался все ниже и ниже. Еле существовал ничтожной торговлей вразнос и случайной продажей контрабандных товаров. Неоднократно попадал в тюрьму, однажды даже подвергся телесному наказанию.
Он взял к себе сиротку-родственницу, которая вместе со старым псом возила тележку с товарами и вообще помогала Дитерле как могла; это была пятнадцатилетняя девочка, низкорослая, ширококостая дикарка, неопрятная, дерзкая, хитрая, упрямая, вороватая и на свой примитивный лад кокетливая. Он плохо обращался с ней, отчаянно колотил ее, так что иногда она, избитая до крови, не могла держаться на ногах. Однако, когда вмешались власти и хотели отнять у него девочку, она встала на его сторону, отрицая дурное обращение, и не пожелала расстаться с ним. Дело в том, что он жил с этим неряшливым, лохматым подростком как с женой. Девочка привязалась к нему, любила его по-своему, его грубость и бахромчатые тюленьи усы были для нее символом мужественности, она любила его, когда он бывал с нею нежен и когда бил ее. Мало-помалу она стала ему необходима, на ярмарках и базарах он теперь только пьянствовал да горланил и бранился с прижимистыми покупателями и с теми, кто у него ничего не покупал, так что забота об их существовании легла целиком на ее плечи.
Когда она увидела, что ему без нее не обойтись, она стала перечить ему, издеваться над ним, особенно нравилось ей дразнить его, когда он был пьян. Все чаще случалось, что он избивал ее до полусмерти. Раза два она убегала; но всегда возвращалась обратно – ведь он был единственным человеком, над которым она имела некоторую власть и который был к ней привязан.
Таким вот образом бродяжничала по большим дорогам эта странная чета, кое-как перебиваясь воровством и торговлей. Каспар Дитерле умел отчаяннейшим образом браниться, второго такого сквернослова не сыскать было по всей стране. Это внушало девушке необыкновенное почтение и казалось ей признаком особой силы и мужественности. Но лучше всего у него выходило, когда он ругал евреев. Из-под рыжеватых усов изливались целые водопады яда и грязи, на испитом лице под выцветшими глазами набухали мешки, и девушка восхищенно внимала ему. Иногда, будучи в хорошем настроении, он, чтобы развлечь ее, изображал евреев, ходил сгорбившись, говорил с еврейским акцентом и, к великому восторгу благодарной зрительницы, пытался закручивать усы вокруг ушей наподобие пейсов. Но истинным праздником бывали его стычки с евреями на базарах и ярмарках. Правда, в областях, подвластных герцогу, стражники, под давлением Зюсса, хотя и весьма неохотно, брали евреев под свою защиту. Но в вольных городах он мог как угодно обижать беззащитных, разыгрывать над ними самые злые шутки, какие только в состоянии был родить его убогий мозг.
Большие надежды возлагали оба на пасхальную ярмарку в Эслингене. Однако там появился еврей Иезекииль Зелигман, который прежде пользовался покровительством графини Гревениц, а ныне проживал в бывшем гревеницком поместье Фрейденталь, с молчаливого согласия властей. Он торговал изделиями мануфактуры Зюсс-Фоа и, имея гораздо больший выбор товаров, был непобедимым конкурентом для Каспара Дитерле, торговавшего всякой завалью. Иезекииль Зелигман из Фрейденталя был пожилой, сухощавый, сутулый, некрасивый человек. Каспар Дитерле изыскивал тысячи способов поизмываться над ним, мазал скамью его лавочки свиным салом, пачкавшим ему кафтан, натравливал на него детей, заставлял его прыгать и кричать: гоп, гоп, и досужие зеваки всегда были на стороне шутника. Еврей все сносил, только казался еще худее, некрасивее, несчастнее, а когда ему наконец удавалось вздохнуть свободно в своей лавчонке, он улыбался жалкой вымученной улыбкой. Хотя люди и находили удовольствие в этих шутках и вместе с Каспаром Дитерле изрядно потешались над евреем, но покупали все же у него, ибо, несмотря на чрезвычайные налоги, товары эго были дешевле и разнообразней, чем убогое тряпье конкурента. Каспар Дитерле разгорелся глухой бешеной злобой на Иезекииля Зелигмана и решил ночью избить и изувечить его до полусмерти, но у него не хватило денег уплатить за ночлег хозяину постоялого двора при ярмарке, где наряду с другими евреями жил и Зелигман, и он вынужден был убраться из города до закрытия ворот. Им пришлось ночевать в чахлом лесу. Оба, мужчина и девушка, были страшно раздражены и озлоблены. К тому же пошел дождь, им стало холодно, захотелось есть. Он пообещал ей купить на ярмарке в Эслингене коралловое ожерелье, и она отложила для этой цели полученную ею ничтожную выручку, но он отнял у нее деньги и купил водки. Она потребовала, чтобы он по крайней мере дал отхлебнуть и ей. Он принялся издеваться над ней, обвинял в том, что из-за нее, вшивой потаскухи, они так мало заработали. Она огрызалась в ответ, грозила донести, что он ее изнасиловал, что он грабитель и вор и ему не миновать виселицы. Он ударил ее, она не унималась и кричала пуще прежнего; он ударил сильнее, она укусила его. Несмотря на побои, она все ожесточеннее впивалась в него зубами, пока он наконец, рассвирепев, не ударил ее бутылкой по голове. Она упала, вытянулась, застыла в неподвижности. Это случалось и раньше, а потому он не обратил на нее внимания и с удовлетворением перевел дух. Высосал остатки из бутылки. Накрылся каким-то тряпьем и уснул, как чурбан, громко храпя. Однако дождь промочил его насквозь, и он проснулся. Икая, потребовал, чтобы она пододвинулась к нему ближе и дала ему другое одеяло, согрела бы его. Ответа не последовало, он толкнул ее, выругался. Но так как она и тут не шевельнулась, он поднялся, окоченев от холода, и пихнул ее ногой. Наконец, после долгих тщетных попыток, он, вздыхая и икая, зажег тусклый, разбитый фонарь. Сверху донизу осветил неподвижное тело. Увидел ее, мокрую, застывшую, с отвисшей челюстью и широко раскрытыми глазами.
Долго стоял он под дождем, в чахлом лесу, озябший, растерянный, обезумевший, один с покойницей и с тихо воющей собакой. Ветер тотчас же загасил фонарь, было холодно и темно. С дерева, к которому он прислонился, капало ему на жалкий плоский затылок и за спину, а с его рыжеватых тюленьих усов тоже капало равномерно. Так стоял он долго и все не мог уразуметь, как и почему Бабетта, единственное близкое ему существо, ни с того ни с сего умерла. Вдруг он завыл трусливо, отвратительно, пес принялся подвывать ему, он поднял ногу, чтобы ударить собаку, но остановился.
Немного погодя он опустился перед трупом на колени; не без труда раздел окоченевшее уродливое, грязное тело, торопливо и деловито надрезал во многих местах кожу. При этом пользовался он осколками бутылки, хотя ножом это было легче сделать. Затем, под проливным дождем, взвалил голый, изувеченный труп на тележку, тщательно накрыл одеялами и всяким тряпьем и с помощью пса поволок тележку в город. Добрался туда к утру, когда открылись ворота. Стражнику у ворот он сказал, что у него остались дела с евреем Зелигманом. Его пропустили.
Он потащил тележку к корчме, где проживал еврей Иезекииль Зелигман из Фрейденталя. Все это он проделывал с какой-то бессознательной хладнокровной целеустремленностью. Оставил тележку во дворе корчмы. Продал за бесценок свой последний скарб. Выпил. От времени до времени наведывался к тележке. Наконец, улучив минуту, когда во дворе под проливным дождем остались одни поросята, кое-как закопал труп в мусорной яме. Затем снова вернулся в кабак. Выпил еще. Вытащил одежду девушки. Принялся рассказывать целую историю. Медленно, сбивчиво, отрывочно. Да ведь все слышали, как вчера он и Бабетта ссорились с евреем Иезекиилем Зелигманом из Фрейденталя. Под конец еврей обещал девочке коралловое ожерелье. Она потом все хотела уйти к еврею. Он, Каспар, не пускал ее. Отколотил. Ночью – еврей, должно быть, ее чем-нибудь опоил – она вдруг исчезла. Человеку надо же поспать, а тогда ему не уследить за другим, да-с. А теперь вот он нашел под товарами еврея, во дворе, узелок с одеждой, и оказалось, что одежда-то Бабетты. Теперь, верно, девчонка бегает голая, в одном коралловом ожерелье. Да, а теперь у евреев как раз пасха.
Вот что рассказывал Каспар Дитерле, пропивая свое последнее достояние. Он без конца повторял свой рассказ, и с каждым разом его слушало все больше людей. Слушали его затаив дыхание, и все напряженней, все испуганней впивались взглядом в рот человека с бахромчатыми рыжеватыми усами, с гнилыми почерневшими зубами, который слезливо и коварно вместе с винным перегаром изрыгал свой жуткий рассказ.
А потом в мусорной яме нашли искромсанный труп, свиньи уже начали объедать его. Разукрашенный фантастическими ужасами, словно на крыльях летучей мыши, облетел рассказ о преступлении весь город. Толпами сбегались люди, работа в домах и на улицах приостановилась, городские ворота закрылись, собрался муниципалитет. Ужас, безумие и ужас! Невинное христианское дитя гнусно замучено евреями, кровь его выцежена для пасхальной мацы, изувеченный труп отдан на съедение свиньям.
Вот до чего довело жидовское хозяйничанье вюртембергского герцога, если в свободном имперском городе Эслингене, к стыду и позору всего Швабского округа, могло совершиться столь мрачное злодейство!
Гнев и возмущение во всем городе. За последние сорок лет, нет, точнее, за последние сорок три года такого жестокого злодеяния не знала Римская империя. Только в книгах приходилось читать об этом. В здешних местах со времен равенсбургского детоубийства ничего подобного не случалось. Поистине мудры были предки, изгнавшие евреев за пределы Эслингена! Со времени Соломона, гехингенского врача, никому из них с их отродьем не разрешалось портить благодатный воздух прекрасного города. Когда император требовал, чтоб ему вносили налог на евреев, можно было гордо и громогласно отвечать, что за последние два столетия ни один еврей не жил в здешних стенах. А нынешний герцог, ирод, еретик, напустил в страну этих мошенников, этих черномазых убийц, которые завлекают невинных христианских детей и выцеживают у них кровь. Всплывают все новые подробности, одна ужасней другой. Матери в страхе предостерегают детей. Что сегодня случилось с чужим ребенком, может завтра случиться и с моим собственным. Отныне напуганные малыши еще долгие годы будут убегать от всякого незнакомца, потому что им всюду будут мерещиться страшные бороды, кровь и ножи.
Еврей Иезекииль Зелигман из Фрейденталя обходил между тем предместье, заканчивая свои торговые дела. Его арестовали как раз в ту минуту, когда он кротко и настойчиво требовал свои деньги с очень неаккуратного должника. Он понятия не имел, в чем его вина, и все время клялся, что вчера не бранился ни с Каспаром Дитерле и ни с кем другим, да и вообще не раскрывал рта. Ибо таков был излюбленный метод борьбы против еврейского конкурента: словом или действием вызвать у еврея возмущенный отпор, а затем засадить его в тюрьму по обвинению в дерзком поношении христиан и надругательстве над их верой. Но стражники не дали ему договорить, схватили и связали его. На улице хилым, дрожащим, перепуганным человеком завладела толпа, он увидел поднятые руки и неистово орущие рты, грязь и камни полетели в него, его повалили, топтали, плевали ему в лицо, вырывали волосы и бороду. А он по-прежнему силился оправдаться перед своими мучителями, едва дыша после всех истязаний, с выступившей в углах рта кровавой пеной клялся, что не говорил никаких обидных слов и вообще не говорил ни слова. Только из выкриков какой-то женщины, которая все норовила ткнуть ему в пах острым веретеном, он понял, в чем его обвиняют, и потерял сознание. Так, беспамятным, его уволокли в тюрьму.
А среди ратманов царило великое злорадное торжество. В ужасном злодействе попались герцогские жидовские приспешники. Вот когда они им пропишут, вот когда отведут душу. Наконец-то можно будет утереть нос герцогу и еврею. Вечно из-за них приходится терпеть скандалы и неприятности! Когда герцогские дикие кабаны и олени и прочее зверье портят пашни, наглый еретик обвиняет эслингенских горожан в браконьерстве, – а что же им остается? – и сажает их под арест. А разве не придирается он постоянно к эслингенским дорогам, которые якобы плохи, несмотря на договор? Ну-ка, высокие господа! Что значит выбоина на дороге по сравнению с таким ужасающим убийством? Да и по вопросу о Неккаре с ним никак не столковаться. А разве не наложил он лапу на доходы эслингенского госпиталя, поступающие из Вюртемберга? А чего стоит один его еврей, этот наглый злодей и шельмец! Ведь город только для проформы, чтобы добиться некоторых уступок, расторг покровительственный договор с герцогом. И что же? Этот вшивый поганый жид решил принять дело всерьез и распорядился поступать с эслингенцами, как с чужестранцами, словно покровительственного договора и не бывало! На каждом шагу чинит им преграды. Нет такого ратмана, который по его милости не поплатился бы несколькими тысячами талеров. Ну, подожди-ка, господин еврей! Теперь тебе отомстят! Все выместят на твоем черномазом нечестивом единоверце! В испанские сапожки втиснут его, выжмут из-под ногтей кровь, раскаленными клещами будут вырывать у него куски мяса. Уж и сейчас ратманы, живущие близ базарной площади, предвкушают, как его будут торжественно сжигать, и заранее оставляют за родными и друзьями места у окон. Жаль только, что придется ограничиться одним родом казни. Надо бы его одновременно и повесить, и колесовать, и четвертовать, и сжечь.
Старейшим из ратманов был Кристоф-Адам Шертлин, который основал некогда урахскую мануфактуру, а теперь на старости лет вынужден был наблюдать из своего Эслингенского патрицианского дворца, как неотвратимо приходит в упадок его дело, ускользая в руки еврея, как погибают и опускаются на дно его сыновья. Ему было далеко за семьдесят. Какую безмерную, негаданную радость послала ему судьба на краю могилы! Из глубины души черпал он жестокие слова против еврейского беззакония, перед всем муниципалитетом швырял их в лицо, увы, отсутствующему недругу. Уверенным шагом ходил он по улицам, высоко подняв свою крупную дряхлеющую голову, с ожесточением, словно пронзая ею тело врага, ударял об землю бамбуковой тростью, крепко сжимал золотой набалдашник сухой, но не дрожащей рукой.
А в корчме при ярмарке сидел между тем Каспар Дитерле. У него не было теперь нужды продавать что придется себе на водку. Его все время окружало кольцо людей, обмирающих от страха и любопытства. Тот, кого раньше не пускали на порог, как проходимца и бродягу, стал теперь важной персоной и пользовался всеобщим вниманием. Он расцвечивал свой рассказ все новыми подробностями и давно уже уверовал сам, что гнусные жиды злодейски прирезали его последнюю опору. В качестве наиболее веского аргумента он приводил то обстоятельство, что девочка родилась в сочельник, и все как зачарованные глубокомысленно смотрели ему в рот, когда он, многозначительно закатывая выцветшие глаза, приводил этот довод. Ибо давно доказано и прописано во многих книгах, что тот, кто родился в сочельник, подвергается особой опасности погибнуть от руки евреев.
Больше всего жалели Каспара Дитерле женщины. Недаром его печальный пример побудил их тщательнее оберегать своих деток. Они без конца пичкали его печеным и вареным, ветчиной и пышками в сале. Его одутловатые щеки зарумянились, рыжеватые тюленьи усы были расчесаны и подстрижены; только гнилые, почерневшие зубы остались прежними. И вдова булочника серьезно подумывала выйти замуж за осиротевшего горемыку, над которым так зло надругались евреи.
Лейб-медик доктор Венделин Брейер осмотрел герцога. Это был тощий долговязый человек, невообразимо усердный, трусливый и предупредительный, с округлыми виноватыми жестами, с глухим, напряженным голосом, словно выходящим из недр груди. Он все время робко улыбался, без конца просил прощения, старался смягчить свой диагноз застенчивыми, беспомощными шуточками. Герцог был трудным пациентом; другого врача, Георга-Буркгарда Зеегера, он однажды избил до полусмерти шпагой плашмя и, кроме того, имел привычку колотить бутылки с лекарствами о головы своих докторов.
– Ну как? – грубо спросил герцог.
Доктор Венделин Брейер суетливо и неловко ретировался от греха в дальний угол.
– Goutte militaire, – заикаясь, промямлил он своим напряженным голосом.
– Совсем легкая, незначительная goutte militaire. – А так как герцог мрачно молчал, он поспешил прибавить: – Вашей светлости не следует из-за этого впадать в меланхолию и настраиваться на мрачный лад. Подобная goutte militaire не имеет ничего общего с тяжким венерическим недугом, именуемым французской болезнью. Ибо в то время как вышеназванная болезнь происходит от яда, находящегося в женском влагалище и внедренного туда дьяволом, недомогание вашей светлости следует рассматривать как нечто преходящее, если можно так выразиться, вроде легкого насморка высочайшего мочевого пузыря. Вы, ваша светлость, с божьей помощью, избавитесь от этой болезни самое большее в три месяца. Я позволю себе еще почтительнейше добавить, что упомянутое легкое недомогание было присуще всем великим полководцам христианского мира. Согласно летописям, великие герои древности Александр и Юлий Цезарь тоже страдали им.
Герцог мрачным жестом отпустил врача, и тот удалился с округлыми виноватыми поклонами.
По уходе лекаря Карл-Александр засопел и в гневе расколол маршальским жезлом фарфоровую статуэтку. В юношеские годы ему случалось дважды заполучить эту гадкую болезнь, но тогда он не знал от кого. На сей раз он знал. Этакая дрянь, этакая мерзавка! А со сцены казалась такой хорошенькой, аппетитной, так бойко стреляла глазками, так волнующе и похотливо водила по губам кончиком языка – словом, соблазнительная была бабенка. Вся порыв, миг, ароматное дуновение. А в теле скрывала мерзость и яд и дьявола. Шлюха, окаянная! Высечь ее надо, палками выгнать из страны!
Но удовольствовался он тем, что приказал запрячь ее в телегу с навозом, как это принято делать с женщинами, изобличенными в распутстве. Миниатюрную, пухленькую, загорелую неаполитанку, одетую в грубый балахон, провели по всему городу; с трудом тащила она телегу с навозом, растерянно и запуганно глядели ее живые глазки, большой ярлык с надписью «шлюха» висел у нее на груди. Горожане прищелкивали языком, сожалея, что упустили свое; винцо было, наверно, превкусное, пока не скисло, каждый не отказался бы нацедить себе кружечку. Зато женщины плевали ей в лицо, закидывали отбросами. А затем ее, больную, без гроша денег прогнали из города.
Кстати, той же болезнью, что герцог, страдали и генерал Ремхинген и чернокожий.
Ремхинген и Карл-Александр дружно кляли женщин. Герцог изводил Зюсса грубыми остротами. Тот, надо полагать, первый попользовался ею, но счастливо отделался с помощью черт его знает каких еврейских колдовских чар.
А белобрысый советник экспедиции Гетц пребывал в безнадежном отчаянии. Ему одному был доподлинно известен весь ход событий. Он заполучил болезнь от служанки из «Синего козла», в свою очередь передал ее по наследству неаполитанке, которую чистосердечно почитал своей возлюбленной повелительницей. Если бы дело обстояло иначе, он счел бы своим непременным долгом исправить зло, быть может, даже вступив в брак с неаполитанкой. Теперь же, когда при дворе с почтительной улыбкой шептались о легком секретном недуге герцога, когда ему наконец стало ясно, что именно он, смиреннейший и покорнейший верноподданный, навлек на своего государя эту докучливую и постыдную напасть – весь его внутренний мир рухнул. Его сразило сознание, что он, при всей нелицемерной преданности, учинил своему монарху такую досаду, что вообще возможно без вины быть повинным в подобном деянии. Сперва он решил застрелиться. Затем надумал, что, собственно, всему причиной одна неаполитанка; из-за нее он так жестоко провинился перед особой своего богом данного господина, и он снял с себя всякую вину, взвалив ее на певицу, и с жестоким удовлетворением смотрел, как она тащила тележку с навозом.
А между тем неаполитанка искренне любила беспомощного белобрысого молодого человека. Она не выдала его, хотя этим могла бы, пожалуй, спасти себя. В то время как ее, поруганную и несчастную, вели по улицам, она думала только о нем. Она шевелила губами, народ думал, что она молится, а она беззвучно и почти бессознательно шептала те слова, которые декламировала со сцены: «Мой повелитель! Мое блаженство! Божество мое! Сжалься надо мной, простертой в прахе! Не продавай меня ты маврам в Бенамеги!» Ей грезились старые сказки о принце, который женится на нищенке. Вот сейчас, сию минуту, он явится, и все страшное, тяжелое окажется кошмарным сном. Только когда ее переправили через границу, а он не замолвил за нее ни словечка, она окончательно пала духом.
Слухи о болезни герцога просочились повсюду. В библейских обществах шептались, что это божья кара, и поминали Навуходоносора, который перед жестоким концом своим осужден был жрать траву, точно бык. Но при дворе этот галантный недуг только увеличил уважение к герцогу. Тюбингенский придворный пиита преподнес ему поэму, в которой говорил, что за победы в царстве Амура иногда приходится расплачиваться царапинами, которые, однако, не менее почетны, чем раны, полученные на поле брани. В колчане Амура попадаются отравленные стрелы. И так как стихотворец затаил на неаполитанку обиду за то, что она не пожелала произносить со сцены его александрийские вирши, он не преминул уподобить ее всякой ползучей и летучей нечисти и присовокупить, что от иноземки, презревшей германскую музу, он с самого начала не ждал ничего хорошего. В заключение он восклицал, что победитель турок и французов победит и эту мелкую напасть, и швабский Александр скоро вновь станет швабским Парисом.
Герцогиня же усматривала в болезни своего супруга перст судьбы и предопределение свыше. При ней все еще состоял молодой лорд Сэффольк с выражением беззаветной влюбленности на своем красном, наивном лице. При отечественном дворе и у себя во владениях он в силу длительного отсутствия утратил всякий престиж, ее он обожал безмолвно, упорно и безнадежно, следовательно ему ничего больше не оставалось, как покончить с собой. Не перст ли это судьбы, что ее супруг не может теперь приходить к ней? И она сжалилась над бедным, неизменно верным юношей, улыбаясь своей обычной игривой улыбкой.
Однако юный англичанин явно родился под несчастливой звездой. Карл-Александр вообще совсем не был склонен к ревности, ему и в голову не приходило, что можно обманывать его, его! Но либо болезнь сделала его недоверчивым, либо кто-нибудь вселил в него подозрение, только он неожиданно появился в покоях герцогини; молодому лорду едва удалось скрыться в довольно непрезентабельном виде, полуодетым. Герцог учинил грандиозный скандал, перебил зеркала и флаконы с духами, изорвал шпагой драгоценное кружево на белье, обозвал Марию-Августу непотребными именами и даже ударил по грациозному, тонкому ящеричьему личику цвета старого благородного мрамора. Герцогиня в слезах, негодуя, рассказала об этом Магдален-Сибилле, с театральным пафосом клялась в своей невинности, но очень скоро в ее негодование прокралась легкая игривая улыбка, она принялась шаловливо изображать бурный гнев герцога, очень веселилась, повторяя незнакомые ей неприличные слова та стараясь перевести их на французский или итальянский. В заключение она заметила, улыбаясь, что это очень странно, но если бы к ней пришел Риоль или Ремхинген, она не сомневается, что ни один из них не попался бы и в двадцать четвертый раз; а бедный, неловкий мальчик, конечно, попался в первый же раз, едва вкусив прелесть объятий и обнаружив полную неопытность.
Так как монарху не подобало драться с лордом, то англичанина на всякий случай, виновен он или нет, должен был вызвать на дуэль Ремхинген. Ремхинген ворчал про себя, что, в сущности, и у него есть для этого все основания. Однако когда дело дошло до развязки, он особого рвения не обнаружил. В конце концов англичанин уехал, отнюдь не тайно, а вполне открыто, с полным комфортом, но усомнившись в боге, потеряв веру в себя и людей и оплакивая свой разбитый чистый идеал. Мимолетное наслаждение глубоко потрясло его, он ничего уже толком не помнил, единственное, что сохранилось у него в памяти, были несколько поношенные подвязки герцогини, из-за которых, право же, не стоило ставить на карту жизнь, доброе имя и положение на родине.
У Карла-Александра было множество улик, но ни одного прямого доказательства неверности Марии-Августы. При других условиях он, несомненно, скоро бы успокоился; теперь же вызванное болезнью воздержание сделало его сварливым и желчным. Мария-Августа, которой скоро прискучили подозрения и постоянный надзор, сперва разыграла из себя угнетенную невинность, но потом возмутилась и решила противопоставить грубостям мужа обидное спокойствие и колкую насмешку, а в конце концов пригрозила, что вернется к отцу. На это Карл-Александр нагло ответил, что прикажет ради такого дня звонить во все колокола, стрелять из мортир и каждому подданному поднести вина и жареного мяса.
Старому, изящному князю Турн и Таксис эта размолвка была очень не по душе. Допустим, его дочь немного развлеклась с молодым англичанином. А почему нельзя развлечься с англичанином? Они неинтересны в разговоре, и фигуры у них деревянные, но перед французами у них то преимущество, что они здоровее, неискушеннее, а главное, умеют хранить секрет. Будь он женщиной, он непременно остановил бы свой выбор на англичанине. Незачем поднимать из-за этого такой конфузный скандал. Но, правда, его уважаемый зять – полководец, а посему привык к шуму и грому. Правда и то, что от стратега можно требовать побед, а не тонких манер. Так с сокрушением писал он своему другу, князю-епископу Вюрцбургскому, присовокупляя просьбу как можно скорее уладить эти ребяческие ссоры.
Умному, хитрому толстяку такая миссия была очень на руку. Он не забыл штетенфельзского инцидента, поражение церкви задело его за живое, он приютил графа Фуггера у себя при дворе и ждал только повода как бы невзначай отправиться в Штутгарт и самолично подготовить почву для скорейшего подчинения страны римскому владычеству. Итак, его преосвященство не заставил себя долго упрашивать и в скорости целым цугом великолепных карет покойно, приятно и комфортабельно въехал в Штутгарт, сопровождаемый тайными советниками Фихтелем и Раабом.
С легкой усмешкой осведомился он у герцога о его недомогании, – рад был услышать, что оно почти излечено, дружески посоветовал взамен токайского пока что употреблять столь любимый его советником Фихтелем кофейный напиток, отечески похлопал белую пухлую ручку герцогини, по-детски надувшей губки. Очень скоро ему удалось настолько примирить супругов, что они радостно согласились между собой, тотчас же по исцелении герцога, подарить стране, себе и церкви наследника.
Князь-епископ непременно желал поглядеть вблизи на знаменитого тайного советника по финансам и придворного еврея. Карл-Александр крайне неохотно пошел на это. Он очень боялся, как бы кто-нибудь не сманил к себе его незаменимого еврея. Но не мог же он решительно отказать другу в такой скромной просьбе. Зюсс появился перед князем-епископом, с привычным ему выражением раболепной преданности поцеловал епископский перстень, рассыпался в тонких комплиментах всемирному оракулу, некоронованному государю, вдохновителю и кормчему европейской политики. Но вюрцбургское преосвященство не так-то легко шло на удочку. Оба лиса одобрительно обнюхивали друг друга, но взаимного доверия не было. Непринужденно, весело, простодушно шла беседа между лукавым тучным епископом и лукавым стройным евреем, но взаимной симпатии не было.
Князь-епископ и его советники с неутомимой энергией спешили провести в жизнь свои планы. Они неотступно разжигали герцога и Ремхингена. Вели открытые и тайные совещания с Вейсензе, с монахами всяческих орденов, которые тайно, вопреки конституции, под затаенный ропот страны, обосновались в Вейле-городе и во всем герцогстве. Когда князь-епископ, вполне удовлетворенный, покинул герцогство, он смело мог считать, что расквитался за Штетенфельз, успел наладить большие дела, а для больших заложить фундамент. Часовня в Людвигсбургском дворце была теперь приспособлена для католического богослужения, состав придворного католического духовенства значительно пополнен, монашеские ордена официально допущены в страну. Католические полковые священники открыто служили обедню, крестили детей. Кроме того, подробнейшим образом был разработан католический военный устав, придумано хитроумное, чисто юридическое, толкование пресловутых религиозных реверсалий, которое фактически сводило к нулю все парламентские свободы, и, наконец, подготовлено уравнение в правах католической и лютеранской религий. Тридцать лет тому назад подобное равноправие привело в Курцфальце к полному подавлению протестантства.
Тайный советник Фихтель в письме к брату Ремхингена, камерарию при папском дворе в Риме, с радостным рвением повествовал на изящном латинском языке обо всем, чего удалось достигнуть, благодаря посещению Штутгарта князем-епископом. Упомянув о поводе для поездки, – болезни герцога, он заключил: «Итак, ты видишь, высокочтимый господин и брат мой, что божье провидение часто пользуется странными средствами, дабы споспешествовать святой католической церкви в распространении истинной веры».
Зюсса снедала и томила тревога. Получение дворянства оказывалось сложнее и затягивалось дольше, чем он предполагал. Император задолжал венским Оппенгеймерам крупные суммы. Эммануил Оппенгеймер торопил, а императору нечем было платить. Не удивительно, что венская дворцовая канцелярия не спешила даровать баронский титул еще одному Оппенгеймеру. Да и уполномоченный вюртембергского парламента как мог тормозил дело. Сеньора де Кастро была по-прежнему холодна, и Зюссу никак не удавалось убедить умную, расчетливую женщину решиться на брак.
Замыслы князя-епископа Вюрцбургского тоже портили Зюссу настроение. Он, конечно, заметил, что ему не удалось снискать доверие его преосвященства и что в том грандиозном плане, который, в сущности, поставлен во главу угла швабской политики на ближайшее десятилетие, ему места не отведено. Правда, ему показывали тот или иной проект, иногда даже совещания происходили у него в доме. Но Ремхинген всегда грубо высмеивал его предложения, и вообще очевидно было, что католические вельможи намеревались пользоваться услугами Вейсензе, как главного доверенного лица. Зюсс и сам не чувствовал себя столь сведущим и твердым в этой области, как во всех прочих. Он вообще неохотно занимался религиозными проблемами; вопросы, которые так серьезно обсуждались, с его точки зрения были пустяками, недостойными взрослых людей. Своим ясным, деловым умом он превосходно понимал, что за этим кроются в высшей степени реальные дела, как-то: уничтожение конституции и парламента и военная автократия герцога; для него только было непостижимо, почему даже в среде посвященных считалось обязательным прибегать к смехотворным уловкам, ограничиваться отвлеченными рассуждениями и намеками. Его средства и пути были много прямолинейнее, быстрее и проще, он не мог освоиться с осторожными, усыпляюще медлительными методами иезуитов. Он с удивлением отмечал, что эти господа и в самом тесном кругу старались не называть вещи своими именами, что они, даже оставаясь с глазу на глаз, скромно и благочестиво пробавлялись всяческими смиренными и нравоучительными иносказаниями и бросали кроткие неодобрительные взгляды, когда он или Ремхинген выражались прямо и точно, без экивоков.
Итак, еврей чувствовал, что ему не очень доверяют, и потому искал подтверждения своей власти.
Он добился от Карла-Александра, чтобы тот ему лично поручил отвезти Магдален-Сибилле особо ценный подарок от имени герцога. Накануне он послал предуведомить мадемуазель Вейсензе о своем визите, прибыл весьма торжественным поездом, с пажами и скороходами и со всяческой помпой. Магдален-Сибилла обидела бы герцога, если бы обошлась неучтиво с таким важным посланцем. Она приняла его.
Магдален-Сибилла жила теперь в маленьком замке близ города. Золотые амурчики свешивали с потолков гирлянды, на драгоценных гобеленах скакали кавалькады великосветских охотников, сверкающие зеркала отражали богатые покои, наполненные предметами роскоши, подобающими знатной даме. Две кареты, сани, портшезы, верховые лошади были к ее услугам. В вестибюле сверкал многоцветными каменьями сделанный из золота и серебра павлин – символ благосостояния. В коридорах праздно и чинно зевала многочисленная челядь. Карл-Александр был щедр в отношении своей дамы сердца; даже король польский не мог бы окружить свою метрессу большим блеском и комфортом.
Магдален-Сибилла жила среди этого великолепия, ко всему безразличная, точно замороженная. Она выезжала, принимала гостей, смеялась и вела светскую беседу, но все это машинально, как марионетка. Пышность безжизненно повисла и застыла вокруг нее; замок был подобен мавзолею торжественно погребенной покойницы.
Она приняла Зюсса с холодной вежливостью. Величественное, лиловато-коричневое парчовое платье, длинные, плотно облегающие рукава, небольшой вырез. Смуглому лицу с синими глазами придано выражение учтивой важности, словно перед ней баден-дурлахский поверенный в делах, с правительством которого отношения сейчас натянутые; черные волосы чинно спрятаны под напудренным париком. Сперва Зюсс попытался преодолеть ее холодность непринужденной, светски игривой болтовней, изысканной галантностью. Она отвечала кратко и презрительно. Увидев, что так ему не удастся растопить ледяную броню бесстрастия, он переменил тактику. Сделал попытку вызвать в ней раздраженный протест, начав с жаром благодарить за то, что она соблаговолила принять его. Она ответила, что только послушалась приказания его светлости. Немного помолчала и, не сдержавшись, добавила, что после всего ею перенесенного она может вытерпеть и это.
Теперь Зюсс почувствовал под ногами почву. Перенесла! Вытерпела! Быть дамой сердца герцога Вюртембергского, скажите какое несчастье! Дочери всей швабской аристократии жаждут этого. Роскошный замок, сотня слуг, охоты, ассамблеи по первому ее желанию, бедняжка, ах, сколько ей приходится терпеть!
Магдален-Сибилла сбросила маску. Итак, он желает дать бой, он, по-видимому, думает, что она все позабыла, со всем свыклась, и он, проклятый жид, торгаш, может начать прямо с того места, где остановился перед тем, как продал ее герцогу. Она резко поднялась и так небрежно смахнула на землю модную азиатскую собачонку, подаренную Карлом-Александром, что та затявкала. Нечего ему притворяться. Он отлично знает, о чем идет речь, какое зло он ей причинил.
– Один вы всему виной! – воскликнула Магдален-Сибилла, сверкая глазами, и к ее смуглым, не по-женски смело очерченным щекам прилила кровь, так что нежный пушок на них ожил.
Зюсс видел крепкую, гладкую шею, видел, как бурно поднимается и опускается ее грудь. Вот теперь он довел ее до того, до чего хотел. Почему она себя недооценивает, сказал он вкрадчивым, ласкающим, волнующим голосом. Она сама воспламенила его светлость, его помощь для этого не понадобилась. Но если даже предположить, что он и вправду всему причиной,
– и он оглядел ее с ног до головы, дерзко и многозначительно усмехаясь, – чем он, собственно, ей повредил? Им ведь ни к чему пользоваться словарем мещанских моралистов, они могут изъясняться смело и открыто, как подобает людям высшего круга. Говоря откровенно, чем он так уж ей навредил?
Она тяжело дышала, делала резкие движения, мало соответствующие чопорно-торжественному платью, врожденная вспыльчивость прорвалась наружу. Чем навредил? Ах он лицемер и наглый жид! В ложь и притворство превратил он каждое ее слово, каждое движение! Задушил в ней живое дыхание божье!
– Кто виной тому, что слова священного писания, заветные слова поблекли для меня и потеряли всякий смысл? Вы, вы тому виной! Вы иссушили и убили их! – восклицала она.
Но сказать ей хотелось вовсе не то. Почему же она лжет, почему боится обнажить его подлую низость и продажность его чувства? Почему, во имя всего святого, почему она лжет?
Зюсс сразу же уловил фальшь в ее словах. Зачем она так говорит? Уж с ним-то ей незачем так говорить. Все это пустые отговорки и самообман, сказал он. Гирсауское библейское общество, и дыханье божье, и сны, и видения – все это ведь притворство и маскарад, это годно для бессильных, бесплотных, немощных мужчин и для худосочных уродливых старых дев. Он оглядывал ее с ног до головы наглым, настойчивым, оценивающим взглядом.
– Кто так сложен, как вы, – воскликнул он, – у кого такие глаза, сударыня, такие волосы, хотя вы их и скрываете, – тому не нужен бог. Будьте правдивы! Не лгите себе самой! Святость была только личиной, пока вы жили ожиданием.
Она оборонялась, она парировала удар.
– Вы могли украсть у меня то, чем я обладала, – сказала она. – Однако своими подлыми дьявольскими чарами вам не осквернить мое прошлое. Говорите же! Изрекайте свои жалкие кощунства и непристойности. Всей вашей болтовней вам не удастся низвести моего бога до бредовых фантазий похотливой дурочки.
Она вызвала в памяти вдохновенные часы за книгой Сведенборга, наивное благочестие братской общины, забытые картины вновь обретали краски, она попыталась ощутить молитвенную атмосферу, окружавшую слепую деву, на один миг стала, как прежде, ясна и тверда в своей вере, и в душе ее ожил бог.
– Пусть он даже отринул меня, – воскликнула она, и Зюсс был поражен молитвенным экстазом, звучавшим в ее голосе, – бог жив! Бог жив! – повторила она, и он действительно воскрес для нее.
Но увы! только на миг. Еврей молчал, наслаждаясь ее рвением и пылом. А затем одним ударом спустил ее на землю.
– Если так, – произнес он небрежно, – почему же вы убежали от меня тогда в Гирсауском лесу? И почему ваш бог не уберег вас от герцога? Я не считаю себя очень верующим; но я верю, что нельзя приобрести власть над женщиной, которая принадлежит богу! Будь Беата Штурмин даже красавицей, никакой генерал, ни даже сам герцог не посмел бы подступиться к ней. Но будь она красива, – усмехнулся он, – она не жила бы мыслями о боге!
И, в то время как свет угасал в ее лице, в то время как она беспомощно глядела вслед своему отлетающему богу, он подошел к ней ближе и сказал то, чего она боялась, и говорил он мягко, самым своим вкрадчивым голосом:
– Вот что я скажу вам, Магдален-Сибилла. Я скажу вам, почему вы убежали от меня тогда в лесу. Потому что вы любили меня. И все, что с тех пор вы делали, что чувствовали – ненависть, и отчаяние, и оцепенение, и скорбь, – все это оттого, что вы меня любили. И еще я скажу вам: у меня тоже с той поры не было дня, когда бы ваше лицо не стояло передо мной, точно живое.
Магдален-Сибилла думала, что сердце у нее разорвется, когда он произнесет эти слова. И вот он сорвал покровы с ее высоких чувств, дал настоящее название всему тому ничтожному и смешному, что скрывалось за ее ревностным стремлением вернуть сатану к престолу божью. И в самом деле, очень легко подвести все под простой и пошлый шаблон: глупенькая швабская провинциалка влюбилась в первого светского человека, который попался на ее пути, а видения и религиозный пыл были всего лишь вульгарной и жалкой чувственностью. Однако, как ни странно, она не умерла, когда он открыто высказал ей это. Нет, наоборот, она вся вспыхнула, она возмутилась против него и вдруг нашла в себе силы заговорить, и обрушилась на него в искреннем гневном порыве: да, она, может быть, и таила свое чувство, но он совершил самое низкое, самое подлое, самое отвратительное, на что способны одни евреи, – он свое чувство продал.
Он же извлекал из ее слов лишь тот мед, которого жаждало его самолюбие, и с тщеславным удовлетворением видел только одно – что вся она полна им. Ему хотелось совсем приручить ее, чтобы еще горделивее покрасоваться перед ней. Как ловкий софист, к тому же заранее подготовленный к этой беседе, он сразу выдвинул те доводы, которые неминуемо должны были обезоружить и укротить ее. Льстиво и умело повел он свою речь: как она к нему несправедлива. Да, конечно, ему легко было бы тогда завладеть ее чувством, и она безропотно отдалась бы ему. Но он – враг легких методов. Вскружить голову швабской провинциалке при его власти и блеске – слишком дешевая это была бы для него победа. И когда герцог пожелал ее, он увидел в этом волю провидения. Теперь она вкусила власти, теперь они стоят, как равный перед равным, и он может честно помериться с ней силами. Он и сам был восхищен тем, с какой виртуозной ловкостью повернул дело в свою пользу.
В глубине души Магдален-Сибилла знала, что это фразы, пустая светская болтовня. Однако слова его ласкали ее, слишком долго она боролась и теперь блаженно отдавалась обману. Он же воодушевлялся все сильнее, опьяняясь собственными речами. Он не видел, или не хотел видеть, кричащего противоречия между искренней, безыскусной, прекрасной своем непосредственностью провинциальной девушкой и навязанным ей придворно-чопорным изощренным великолепием. Не видел он и того, что вместе с упрятанными под парик темными волосами исчезло нечто очень ценное в ней, что тесный корсаж и пышные фижмы из лиловато-коричневой парчи превратили живую, дышавшую полней грудью девушку в светскую куклу, что теперь, когда благонравно обузданы и умерены стройная гибкость движений и невинный, вольный пламень ее глаз, она сама уподобилась многим другим. Он хотел ее видеть такой, какой она была нужна ему, возвеличить себя перед ней, и через нее утвердить себя в собственных глазах и в глазах всего мира. Он поднялся и, облокотясь на спинку кресла, перегнулся к ней, заговорил тихо, привычным ему настойчивым, вкрадчивым голосом, не спуская с нее пылкого взгляда выпуклых глаз.
– Разве вы не поняли теперь, что значит обладать властью? Попробуйте-ка вернуться в свое библейское общество! Сушите на досуге груши, вяжите чулки! Ну, попробуйте-ка! Нет, вы уже на это не способны! – заключил он торжествующе. – Вы теперь вкусили того, в чем ваше назначение.
Она встала и, прерывисто дыша, словно обороняясь, подняла руку. Собачонка боязливо забилась в угол. Противясь, не веря, а теперь, когда он умолк, страстно желая слушать дальше, вся дрожа, стояла Магдален-Сибилла напротив него в другом конце маленькой, заставленной безделушками комнаты, большую часть которой заполнила она своей пышной робой. Стройный, гибкий, неслышно ступая по пушистому ковру, приблизился он к ней.
– Отбросьте ваши наивные грезы, Магдален-Сибилла! Они были хороши для Гирсауского леса. Ваша действительность теперь – Людвигсбургский дворец. Взгляните же ей прямо в глаза! Крепче держитесь за нее! Это благодатная, прекрасная действительность. Я горд тем, что открыл вам ее.
Он подошел к ней вплотную, и она, словно ища спасения, отступила в угол.
– Магдален-Сибилла! – заклинал он ее и сам уже почти верил своим словам, а главное, видел, что она с самого начала только того и ждала, чтобы он убедил ее, что слова его падают на благодарную почву. – Магдален-Сибилла! Видит бог, не выгоды ради отдал я вас герцогу. Я поступил так вам во благо. Чтобы вывести вас на широкую дорогу. У нас с вами, Магдален-Сибилла, одна дорога; имя ей – власть.
И в то время как она, спрятав остатки недоверия в самые отдаленные уголки души, глядела на него боязливо и восторженно, как на канатного плясуна, он рисовался перед ней. Вызвать восхищение у матери, которая всегда верила в него, было не трудно, это не требовало усилий. А завоевать эту, недоверчивую, строптивую, – вот что заманчиво, вот что будет настоящим торжеством, принесет желанное, необходимое самоутверждение. Как талантливый актер на залитой огнями сцене, раздраженный холодной равнодушной публикой, изо всех сил старается увлечь именно этих неподатливых зрителей, так и он воодушевлялся все сильнее, упиваясь своим собственным «я», неосторожно высказывая самые свои сокровенные желания, взгляды и суждения, которые лучше было бы таить про себя. Он шагал из угла в угол, опьяняясь собственными речами, наводя все больше блеска на свое зеркальное отражение, тщеславный комедиант, играющий самого себя.
Молча слушала она, как он говорил:
– И вот наконец мы как равные стоим друг перед другом, Магдален-Сибилла. И вы и я, каждый из нас держит руку на рычаге власти. Не герцог имеет на вас права. Кто он такой, этот герцог?
В пылу красноречия он обнаружил то пренебрежение к своему господину, в котором никогда не сознавался даже себе, а впоследствии, когда отрезвился, сам испугался такой откровенности.
– Да, уж этот герцог! Воображает, что можно управлять страной по военному артикулу. Ничего не смыслит в политических тонкостях. Не имеет ни собственных взглядов, ни мыслей, ни даже чувств. Меряет наслаждение количеством женщин, количеством бутылок. Считает дурацкий гогот своего Ремхингена вакхическим весельем. Ведь это счастливый случай, что он напал именно на вас. Он не замечает, не понимает вашего очарования. Я один имею на вас право, я один. Я добыл вам то положение, которое вы занимаете. Я с первой минуты отметил вас, я знаю вам цену. Я взбирался наверх самостоятельно пядь за пядью, шаг за шагом, я, еврей, презираемый, ничтожный, и возвышаюсь теперь над этими швабскими остолопами, как моя кобыла Ассиада над их тяжеловозами. И вас я тоже поставил выше других добродетельных, доморощенных, честных швабских девиц. Итак, я стою перед вами, равный перед равной. И предъявляю на вас права и требую вас. Если бы вы очутились в моей постели неопытной и бесчувственной, какой явились прямо из лесов Гирсау, такая победа была бы слишком легка и принесла бы одно разочарование. Теперь же, изведав жизнь и зная, кто я и кто вы, вы должны сделать решительный шаг. Теперь вы должны сказать мне: я твоя, я иду к тебе.
Она стояла, потрясенная до глубины души, и молчала. Он же, не желая повторением ослабить воздействие своих слов, мудро сменил страстную пылкость на холодный светский тон. И не успела она прийти в себя, как он уже церемонно приложился к ее руке и оставил ее одну в растерянности и смятении.
Живой, веселый вернулся он вместе со свитой в город. Он получил то подтверждение своей власти, в котором нуждался, и вновь чувствовал себя сильнее и увереннее тех, кто угрожал ему. Ого! Пускай потягается с ним теперь неуклюжий Ремхинген или дородный князь-епископ. Их козырь – происхождение, его – женщины. И первое достигается меньшим трудом. Он сильнее их.
И кобыла Ассиада чувствовала, что он стал легче, окрыленное, нежели по дороге туда. Что за наслаждение нести его на себе. И она звонко заржала, возвещая городу его славу.
Эслингенское детоубийство вызвало много толков и волнений по всей империи. Нагромождая ужас на ужас, молва разносила подробности о том, как еврей истязал девушку, выцеживал у нее кровь и запекал в мацу, чтобы таким путем приобрести власть над всеми христианами, с которыми у него были дела. Снова ожили старые россказни, легенды о святом младенце Симоне, трирском мученике,[43] также убитом евреями, и об отроке Людвиге Эттерлейне из Равенсбурга. Образ умершей девочки становился все лучезарней; что это была за кроткая, ангелоподобная юная девственница! Бродячие музыканты воспевали в кабаках ее мученический конец, а летучие листки и газеты живописали его в грозных стихах и кровожадных картинках.
В народе уже зародилась мысль отомстить евреям действием. У ворот гетто собирались толпы; кто осмеливался показаться, того встречали каменьями, грязью и грубой бранью. Торговля затихла, должник-христианин издевался над заимодавцем-евреем, выщипывал ему бороду, плевал в лицо. Суды до бесконечности затягивали процессы. В Баварской земле, в окрестностях Розенгейма, на большом торговом тракте, ведущем из Вены на запад, какой-то перекупщик зерна, которому евреи стали поперек дороги, вместе с беглым писарем организовал шайку, подстерегавшую торговцев-евреев и грабившую их транспорты. Курфюрстское правительство относилось к этому равнодушно и даже благожелательно. Только гневные протесты из Швабии и решительные представления венских властей положили конец бесчинствам.
При дворах и в министерствах тоже с большим интересом следили за эслингенской историей. Ни для кого не было тайной, насколько слабы и шатки подобранные улики, всех забавляло, каким примитивным способом, избрав орудием убитую девочку, имперский город собрался насолить вюртембергскому герцогу и его финанцдиректору. Однако многие не без злорадства считали, что вся сила обвинения именно в его нелепости. Главным козырем обвинителей было народное поверье, согласно которому детям, родившимся в сочельник, угрожает особая опасность от евреев, а убитая девочка, по счастливой случайности, родилась в рождественскую ночь.
Тяжелые, гнетущие, свинцовые тучи собирались над евреями. Испуганные, приниженные, забились они по своим углам, вперив взоры в то неведомое, что надвигалось неотвратимо. Ой! Ой! Всегда, когда одного из них забирали по такому гнусному и глупому обвинению, остальных вслед за ним тысячами убивали, тысячами жгли, вешали, десятками тысяч расшвыривали по всему свету. Объятые ужасом, притаились они в своих углах, вокруг них сгущалась тишина, жуткая, смертоносная, неотвратимая, неосязаемая, безыменная, словно из их улиц выкачан весь воздух и они тщетно силятся вздохнуть. Мучительнее всего была первая неделя. Ой, это ожидание, это страшное оцепенение, бездействие и неизвестность: кто? где? как? Самые почтенные обращались к властям. Обычно, когда в них была нужда, за ними ухаживали; теперь их даже не принимали. Ой, это пожимание плечами в прихожих, это злорадство при виде их страха, эта выжидающая усмешка, это вероломство, это безразличие к беззащитным. Ой, эти власти, которые раньше брали большие деньги за охранные грамоты, а теперь у них вдруг нет времени, когда их евреям грозит настоящая беда. Ой! Эти два невооруженных и нерадивых стражника у ворот гетто, какая они охрана от тысячной орды грабителей и убийц! Ой, кто ж не видит, что все начальство и все ратманы закрывают глаза и уши, а руки кладут за спину, чтобы чернь могла беспрепятственно напасть на беспомощных людей. Ой, какая ужасная беда! Одно спасение – всемогущий бог, да будет благословенно его имя! Ой, ты, несчастный Израиль! Ой, беззащитные, отданные на растерзание шатры Иакова!
На черных крыльях хищного коршуна леденящая сердца весть облетела все еврейские общины от Польши до Эльзаса, от Мантуи до Амстердама. Сидит пленник в Швабской земле, в Эслингене, в злом городе, в питомнике злобы и низости. Говорят гои, будто убил он одного из их детей. Ополчается Эдом, хочет напасть на нас, сегодня, завтра, кто знает когда. Слушай, Израиль!
Побледнели, поседели тут мужи, позабыли о делах, испуганно, с растерянными, обезумевшими глазами забились в углы их прекрасные, нарядные жены и с верой глядели на мужей, готовые слепо выполнить все, что прикажут они. Затаило дух все еврейство Римской империи и далеко за ее пределами. У себя в молельнях собирались евреи, били себя в грудь, каялись в грехах, постились в понедельник, в четверг и потом опять в понедельник, с вечера до вечера. Не пили, не ели, не прикасались к женщинам. Тесной толпой стояли они в своих душных молельнях, завернувшись в молитвенные одеяния и саваны, с истовым рвением раскачивались всем телом. Взывали к богу, сзывали к Адонаи Элохим, взывали пронзительными, исполненными отчаяния голосами, напоминавшими пронзительные, режущие слух звуки бараньего рога, в который они трубят под новогодний праздник. Они перебирали свои грехи, они взывали: «О господи, смилуйся над нами не ради нас, не ради нас! Смилуйся над нами во имя прародителей наших». Они перебирали нескончаемый перечень предков, умерщвленных за прославление имени господня, замученных сирийцами, затравленных римлянами, убитых, удушенных, изгнанных христианами, безвинно погибших в польских общинах и в общинах Трира, Шпейера и Вормса. Они стояли, завернувшись в белые саваны, посыпав головы пеплом, в молитвенном экстазе раскачиваясь до изнеможения всем телом, они спорили и торговались с богом, когда занимался день, и когда день угасал и склонялся к ночи, они все стояли и кричали неблагозвучными, осипшими голосами: «Припомни союз твой с Авраамом и принесение в жертву Исаака!» Но через тысячи окольных путей все молитвы вновь и вновь сливались в один неистовый пронзительный хор: «Един же велик Адонаи Элохим, един же велик бог Израиля, всевидящий, предвечный Иегова».
А женщины были отделены решеткой, не видимы мужчинами. Трепеща от страха, широко раскрыв глаза, точно птицы в клетке на этой жердочке, сидели они рядом, тихо, набожно и бессмысленно лепетали слова из своих молитвенников, в которых древнееврейскими буквами, на какой-то помеси немецкого и еврейского языков, были изложены библейские истории и другие священные легенды.
Во всех храмах и молельнях от Мантуи до Амстердама, от Польши до Эльзаса стояли так мужи, молились, постились. В одно и то же время, когда занимался день и когда он склонялся к ночи, все евреи, завернувшись в саваны, обратясь лицом к востоку, в сторону Сиона, с молитвенными ремнями на голове и на груди, стояли и молились: «Ничего не осталось нам, кроме Книги», стояли и взывали: «Един же велик бог Израиля, всевидящий, предвечный Иегова».
Однако когда миновали первые дни великого смятения, обнаружилось, что имперский город Эслинген медлит с процессом еврея Иезекииля Зелигмана из Фрейденталя. То ли по политическим причинам, ожидая подходящего случая с помощью процесса оказать нажим на герцогское правительство, то ли просто из желания растянуть мучительство, то ли в надежде добыть еще какие-нибудь более веские улики, но так или иначе проходили месяцы, а еврей все еще томился в тюрьме, и дело его не подвинулось дальше предварительного следствия и первой ступени пыток.
Евреи же, за тысячелетия привыкшие ко всяческим преследованиям, когда миновал первый ошеломивший их испуг, забегали, засуетились, в каждом уголке отыскивали себе тайники, куда бы укрыться, когда грянет беда. Добывали подтверждения своих охранных грамот, нанимали вооруженных людей и городских стражников для охраны, по всем дорогам мчались гонцы с предложениями объединиться для совместной защиты, при всех дворах, во всех магистратах их агенты старались склонить благорасположенных сановников к принятию нужных мер; большая часть капиталов в векселях и кредитных письмах для верности препровождалась за границу.
Однако над всем, что они думали и делали, тяготела свинцовая туча. Надвигавшийся ужас нарушал их сон, превращал их пищу в пресное безвкусное крошево, вино – в воду, отнимал аромат у их пряностей, лишал жизни их острые, пылкие, страстные, увлекательные диспуты о Талмуде, так что они умолкали на полуслове, почуяв запах крови и бессмысленно вперяя взгляд в пространство. Да, свинцовая туча нависала и над великолепием субботнего дня, который обычно по-княжески справлял беднейший из их нищих, грезя о блеске разрушенного царства и о грядущем мессии.
Все меры безопасности были приняты, но они были ненадежны, как еловые и пальмовые ветви на крышах их кущ. Туча не рассеивалась, от тучи не спасало ничто. Когда они занимались будничными делами и когда справляли праздники, из каждого угла глядел на них гнетущий страх.
Франкфуртский раввин рабби Иаков Иошуа Фальк сидел над священным писанием. И худые, морщинистые руки его, помимо воли, развернули ту главу из пятой книги Моисея, что содержит самое ужасное проклятие, какое только мог измыслить человеческий разум. То проклятие, которое еврей боязливо старается пропустить в Книге, то проклятие, которое кантор во время ежегодного чтения священного писания поспешно и пугливо бормочет вполголоса, дабы не накликать его. Но взор старого рабби не мог оторваться от грозных неуклюжих букв, и он читал:
«Пошлет господь на тебя проклятие, смятение и несчастие во всяком деле рук твоих. С женой обручишься, и другой будет спать с нею; дом построишь, и не будешь жить в нем. Предаст тебя господь на поражение врагам твоим; одним путем выступишь против них, а семью путями побежишь от них. Враг твой будет главою, а ты будешь хвостом. И он будет теснить тебя во всех жилищах твоих, и ты будешь есть плод чрева твоего, плоть сынов твоих и дочерей твоих, которых господь бог твой дал тебе, в осаде и в стеснении, в котором стеснит тебя враг твой. Женщина, жившая у тебя в неге и роскоши, которая никогда ноги своей не ставила на землю по причине роскоши и изнеженности, будет безжалостным оком смотреть на мужа недра своего и на сына и на дочь свою. И не даст им последа, выходящего из среды ног ея, чтобы не съели его прежде нее при недостатке во всем, тайно в осаде и стеснении, в котором стеснит тебя враг твой в жилищах твоих. И рассеет тебя господь по всем народам: но и между этими народами не успокоишься, и не будет места покоя для ноги твоей. И господь даст тебе там трепещущее сердце, истаивание очей и изнывание души. И будешь трепетать ночью и днем и не будешь уверен в жизни твоей. Утром ты скажешь: о, если бы пришел вечер! А вечером скажешь: о, если бы наступило утро. От трепета сердца твоего, которым ты будешь объят, и от того, что ты будешь видеть глазами твоими».
Так читал старик, и сердце его было исполнено темного страха, и покрыл он голову молитвенным одеянием, чтобы не видеть больших грозных букв, и плакал он и стенал. Жена его, которая не осмеливалась тревожить мужа во время чтения, стояла в испуге у дверей, и старое сердце ее билось от страха так сильно, что удары его отдавались в иссохшей шее. Но она не осмеливалась тревожить мужа.
А рабби Иаков Иошуа Фальк плакал, и все молитвенное одеяние его было мокро от слез, что лились из его впалых, престарелых глаз.
Председатель церковного совета Филипп-Генрих Вейсензе, ныне фон Вейсензе, очень изменился с той самой ночи, когда герцог овладел Магдален-Сибиллой. Правда, и теперь не было во всей империи, а особенно и Швабской земле, ни одной политической комбинации, которая прошла бы мимо его сладострастно принюхивающегося носа и его тонких, ловких пальцев. Но к его живости примешалась теперь какая-то зыбкость и безучастная рассеянность. Случалось, что этот благовоспитанный светский человек и превосходный собеседник останавливался среди разговора и начинал говорить о чем-либо постороннем. Или же вовсе замолкал на полуслове и тряс головой, бормоча что-то невнятное. А то еще бывало, что он, обычно одетый очень тщательно, по самой последней моде, вдруг появлялся без подвязок или вообще допускал какую-либо необъяснимую погрешность в туалете. Весьма примечательно было его обращение с женщинами. Он говорил и держал себя с ними в высшей степени галантно, но, при всей учтивости, мог сказать им такую непристойность, которая приводила в замешательство даже генерала Ремхингена. Кроме того, ему приписывались теперь амурные связи, о чем раньше не было слышно. И по странной случайности, он предпочитал тех дам, которые заведомо прошли через руки Зюсса.
К Зюссу он льнул теперь еще больше, нежели раньше. Это всех удивляло. Ибо среди приближенных герцога ни для кого не было тайной, что сейчас еврей не так уж всемогущ, как несколько месяцев назад. Да и при том доверии, которым пользовался Вейсензе в качестве руководителя католического проекта, он вовсе не нуждался в подобном прислуживании и подлаживании к финанцдиректору. Тем не менее он не упускал случая поговорить с ним, потереться возле него и настолько открыто проявлял свою симпатию, что подозрительный Зюсс усмотрел тут желание войти к нему в доверие, а затем свалить его, и потому был с Вейсензе сугубо настороже. А иногда председатель церковного совета позволял себе вдруг неподобающие выпады, связанные с еврейским происхождением Зюсса, от чего раньше решительно воздерживался; например, ни с того ни с сего спрашивал у Зюсса значение каких-нибудь еврейских слов, и хотя тот с явной досадой подчеркивал, что давно растерял свои скудные познания в древнееврейском языке, Вейсензе продолжал настаивать, особенно если разговор происходил в большом обществе.
Как-то вечером председатель церковного совета неожиданно и в очень настойчивой форме пригласил к себе Бильфингера и Гарпрехта, своих старых друзей. Они не замедлили явиться, озабоченно и услужливо осведомляясь, что случилось. Но оказалось, что не случилось ничего; Вейсензе придумал какую-то явно несостоятельную отговорку. Гости растерянно переглянулись, взглянули на него, поняли, как ему тоскливо, и остались. Так они сидели втроем, трое школьных товарищей, все трое много пожившие, все трое одаренные от природы и по своему времени широкообразованные, к тому же люди уважаемые, занимающие высокое положение. Они сидели, потягивая вино, и гости, широкоплечие, дородные, были немногословны, меж тем как стройный, изящный Вейсензе говорил много и остроумно на общие темы, всеми силами избегая молчания. Бильфингер вдруг обратился к нему с вопросом, подвинулась ли его работа по составлению комментария к библии. Труды на эту тему Андреаса-Адама Гохштетера, Христиана-Эбергарда Вейсмана, Иоганна-Рейнгарда Гедингера не идут, в лучшем случае, дальше добросовестной посредственности, и потому сочинение их друга было бы очень кстати. Жалко, растерянно усмехнувшись и безнадежно махнув рукой, Вейсензе ответил, что, пожалуй, лучше было бы ему не покидать никогда Гирсау и всю жизнь посвятить своей работе.
– Да, – сказал Гарпрехт, как будто совсем не по существу, – время грязное, и все пути грязны, и черт знает как трудно соблюсти себя в чистоте.
Политическое положение Вейсензе становилось все сложнее. Он совмещал несовместимое. Он заседал в парламентском совете одиннадцати, формулировал и выправлял протесты демократов против деспотического правления герцога и вместе с тем был незаконным тестем и доверенным того же самого герцога. Он был в контакте с Зюссом, с иезуитами, с генералами и одновременно сочинял превыспренние хвалы конституции и протестантским свободам. Его горшки стояли на всех очагах, его силки были протянуты по всем лесам. Прежний Вейсензе был бы счастлив стать рычагом и средоточием такого количества комплотов, интриг, заговоров, сложных комбинаций, чувствовал бы себя как рыба в воде посреди этой суетливо-хлопотливой, безостановочной, многообразной и высокоответственной деятельности. Председатель церковного совета, правда, и теперь не выпускал из поля зрения ни одного начинания, но внезапно в самый разгар событий он, удивив всех, заявил, что нуждается в отдыхе, и засел в своем пустынном гирсауском доме за комментарий к библии.
Работа его не подвигалась. С неприязнью глядел он на толстые труды всяких Вейсманов, Гедингеров, Гохштетеров, которые добросовестно и честно обрабатывали ту же пашню. Ах, студентам придется еще долго ломать себе зубы об эту неподатливую премудрость. Ах, много утечет воды, пока он сумеет вдохнуть в это гигантское тело живую душу.
Нет, работа все не подвигалась. Правда, лампа горела далеко за полночь, освещая книги, но глаза его не видели ни витиеватых греческих букв, ни острых немецких, ни массивных еврейских. Глаза его видели черты той, кого здесь не было – смуглые, покрытые пушком, не по-женски смело очерченные щеки, ярко-синие глаза, странно контрастирующие с темными волосами. Видел ее в тихом свете лампы, замкнутую, с ребячески важным выражением лица. Днем он бродил по комнатам, – какие они стали большие и пустынные! – бродил в домашних туфлях, без парика, небрежно одетый, обнюхивал все углы, нежно проводил тонкой, высохшей рукой по какой-нибудь скатерти, по спинке дивана, улыбаясь рассеянной, кривой усмешкой.
Как-то раз он приказал позвать к себе магистра Якоба-Поликарпа Шобера. Тот страшно испугался. Председатель церковного совета, наверно, притянет его к ответу за его верования, обвинит в сектантстве, предаст суду, засадит в темницу, обречет на вечное скитание по миру. Теперь, когда его собственная дочь уже не состоит в библейском обществе, ему незачем церемониться. Толстощекого магистра прошиб пот, его смиренные детские глаза от испуга округлились; сопя от волнения, бегал он мелкими шажками взад и вперед по комнате. Но вскоре он совладал со страхом. Если господу угодно обречь его на мученичество, он будет благодарен за такой высокий удел. Итак, он отправился к прелату, хоть и потея заметно, но все же бодро и мужественно, и сразу вызывающим тоном заговорил «о трех отроках в пещи огненной». Однако Вейсензе, удивившись, скоро прервал его и приветливо пояснил, что вызвал его не по официальной надобности, а просто хотел повидаться и побеседовать со старым другом своей дочери. Магистр, вздохнув с облегчением, заговорил простодушно, сердечно и почтительно о Магдален-Сибилле и о том, как всем членам кружка недостает благочестивой, благородной, отмеченной перстом божьим сестры. Вейсензе жадно слушал, а магистр совсем растаял в мысленно корил себя за то, что мог столь учтивого господина почитать за тирана и Олоферна. На председателя церковного совета весьма благотворно действовала бесхитростная болтовня магистра, они теперь встречались часто, даже совершали вместе прогулки по лесу. Однажды Шобер расхрабрился и заговорил о своих стихах, продекламировал свою поэму «Забота о хлебе насущном и упование на бога» и другую, об Иисусе – лучшем математике. После того как Вейсензе внимательно его выслушал и даже намекнул на возможность напечатать его творения, молодой человек был окончательно покорен благожелательством столь маститого ученого. В избытке чувств доверил он прелату свою тайну о принцессе из небесного Иерусалима и об ужасном еврее, ее отце.
Вот когда насторожился Вейсензе. Куда девалась его вялость, рассеянность. По целым дням бродил он теперь по лесу с магистром, который весь сиял от этой чести, подолгу простаивал у деревянного забора, без конца переспрашивая мельчайшие подробности. Интересовался стариком голландцем, мингером Габриелем Оппенгеймером ван Страатеном. Сопоставлял факты. Хотя ему ни разу не удалось увидеть Ноэми, но из пестрой мозаики сведений он вывел довольно правильное представление о ней.
И теперь до поздней ночи горела у него лампа. Но прелат уже не бродил неверными старческими шагами; упруго, как молодой, шагал он по своим большим, белым покоям, и его возбужденная фантазия наполняла их людьми и грядущими событиями. Затаенная, сладострастная улыбка скользила по его тонким и подвижным губам, и порой он сам, как персонаж своих фантазий, произносил вслух: «Voyons done,[44] господин тайный советник по финансовым делам!» – «Ай, ай, ну кто бы это подумал, ваше превосходительство?»
Да, кто бы это подумал! Он ли не был старым лисом, своим тонким нюхом проникавшим в сущность жизни и людей! Он ли, казалось, не умел читать в человеческих лицах! И вдруг пришлось признать, что на гигантских подмостках жизни гораздо больше грима и фальши, чем мог бы предположить самый безнадежный скептик. Кто бы это угадал? Он вызвал образ еврея сюда, в ночную тишь своей одинокой комнаты. Он закрыл глаза и разглядывал черту за чертой: чувственный, очень красный рот, белые, твердые, тонко очерченные щеки, волевой жесткий подбородок, зоркие, быстрые, крылатые глаза, гладкий, невозмутимый лоб, выпуклости над бровями – признак математического склада ума. Кому пришло бы в голову за холодным, как лед, и, как лед, прозрачным обликом дельца и властолюбца заподозрить сентиментальную идиллию Гирсауского леса! Ай, ай, милейший господин финанцдиректор! Помните, как вы стояли передо мной в тот недобрый вечер у вас во дворце? Какая оживленная, надменно-циничная физиономия была у вас тогда! Ай, ай, милейший господин иудей, верно, что мне следовало лучше владеть собой. Верно, что я был в тот вечер несколько смешон и болтлив и держался не так, как подобало бы светскому кавалеру. Верно, что я сидел в кресле несчастный, совсем уничтоженный, вы же красовались предо мною бодрый и бравый, и судорога пробирала меня до мозга костей. Н-да, мне очень бы хотелось поглядеть, как вы, ваше превосходительство, стали бы вести себя при подобных обстоятельствах.
Председатель церковного совета Филипп-Генрих фон Вейсензе прервал свои блуждания по комнате. Лампа мирно освещала просторный покой. Назойливо билась о стекло ночная бабочка. Безмолвно и невозмутимо стояли на своих местах бесчисленные книги, через открытое окно вливалось ароматное дыхание ночного леса. Неужели его увлекли мечты о мести? Неужели он замыслил отомстить? Fi done, он не унизится до таких пошлых мещанских чувств. Ему просто… ну, просто любопытно, как будет вести себя еврей. Так же ли он опустится, постареет сразу, и вообще что он будет делать? Ну да, это будет крайне интересно, в высшей степени поучительно, много забавнее всего, что пишут в романах и разыгрывают на сцене.
– Voyons done, ваше превосходительство! Eh voila,[45] милейший господин тайный советник! – промолвил про себя изысканный, изящный прелат, затаенно и сладострастно улыбаясь. Воодушевившись, уселся он за комментарий к библии; насмешливо и пренебрежительно скользнул взором по обстоятельным трудам Гохштетеров, Вейсманов и Гедингеров, этих честных, добросовестных ученых мужей, и работа его пошла теперь быстро и ладно.
Между тем уполномоченные епископа Вюрцбургского исподтишка упорно продолжали свое дело в Штутгарте. На первом плане стояли теперь новые люди, по большей части военные, который мало считались с Зюссом, внешне как будто ладили с евреем, но не скрывали своего презрения к нему. Был среди них генерал, обербургграф фон Редер, невоспитанный, грубый человек, затем комендант крепости Асперг, подполковник фон Бувиггаузен, затем целая орава шумливых офицеров в пестрых мундирах – полковники Торнака и Лаубски, ротмистр Буков. Они плотным кольцом окружали теперь герцога. Еще был один офицер, к которому Зюсс чувствовал особенную неприязнь, майор фон Редер, двоюродный брат бургграфа, командир штутгартской национальной конной гвардии – городского кавалерийского отряда, – человек с крикливым голосом, низким лбом, жестким ртом, грубыми лапами, особенно бесформенными в перчатках. Но больше всего ненависти и отвращения внушал еврею дон Бартелеми Панкорбо, курцфальцский тайный советник, главноуправляющий табачными фабриками и табачной монополией, торговец драгоценными камнями, который снова выдвинулся на сцену в неизменной старомодной чопорной португальской придворной одежде, правое плечо всегда комично вздернуто, над пышными брыжами сизо-багровое, костлявое лицо с провалами вместо щек, с ястребиным носом и крашеными усами, упрямые щелочки-глазки из-под морщинистых век неотступно следят за Зюссом.
Все они, а вместе с ними и старые враги – Ремхинген, камердинер Нейфер,
– деятельно участвовали в католическом проекте. Хотя Зюссу весь план был ясен в полном его объеме, много яснее, чем неотесанным, чванливым, недалеким офицерам, однако он чувствовал, что его всячески стараются оттереть. О самых важных обстоятельствах он узнавал случайно или вовсе не узнавал; только когда была нужда в его чисто деловом финансовом опыте, ему нехотя, свысока, мимоходом сообщали кое-какие данные. Однажды, когда он осторожно попытался нащупать суть плана, герцог грубо одернул его, приказав раз и навсегда оставить шпионские замашки. Когда приспеет время, ему – и то не наверняка – сообщат, что нужно.
Карл-Александр, оправившись от болезни, скорее, чем сам ожидал, был очень деятелен и превосходно настроен. Кстати, и примирение с Марией-Августой, достигнутое хлопотами вюрцбургского епископа, дало желанные последствия: герцогиня забеременела. Страна восприняла эту новость весьма холодно. Если бы герцог умер бездетным, к власти опять пришла бы протестантская ветвь; теперь же страна на долгие времена отдана на произвол Риму и иезуитам. Предписанные начальством молебствия о здравии герцогини посещались очень слабо; приходили те, кто не мог уклониться.
Но сам герцог неумеренно выражал свою радость. Он всем рассказывал об ожидаемом наследнике, причем его мясистое, полнокровное лицо расплывалось от восторга, он отпускал грубые шутки, окружал Марию-Августу неуклюжими заботами. Ей же самой беременность пришлась совсем не по душе. Она боялась, как бы не была обезображена ее фигура, боялась, что ребенок явится для нее помехой, с содроганием думала о родах; и материнство само по себе казалось ей чем-то до крайности докучным, плебейским, неподобающим аристократке. Она подумывала даже избавиться от беременности и делала подобного рода намеки доктору Венделину Брейеру. Но медик либо не понимал, либо не хотел понять. Глухим напряженным голосом, подкрепляя слова широкими виноватыми жестами, он распространялся о радостях материнства, ссылался на античный мир, упомянул о матери Гракхов и о другой матери героя, той, что предпочитала увидеть сына на щите, нежели без щита. Вздохнув и вспомнив примитивную, чисто солдатскую точку зрения герцога, Мария-Августа смирилась.
Зато она жадно и со скрытым страхом выслушала рассказ Зюсса о повелительнице демонов Лилит, первой жене Адама. Она, эта длинноволосая, крылатая первая жена Адама, не поладила со своим супругом, плотская близость с ним не дала ей тех радостей, которых она желала. Тогда она с помощью колдовства, произнеся запретное имя божье, улетела в Египет, страну злых чар. С той поры, возненавидя Еву и всякое здоровое супружество, она стала накликать на рожениц и на младенцев проклятия и злые напасти. Но в Египте ее настигли посланные богом ей вослед три ангела
– Сеноп, Сансеной и Семангелоф. Сначала они хотели ее утопить; но потом отпустили на свободу, заставив поклясться клятвой демонов, что она не станет приносить вред ни роженице, ни младенцу, охраняемым именами трех ангелов. Вот почему иудейские роженицы имеют при себе амулеты с именами трех ангелов.
Сладострастно содрогаясь, герцогиня по секрету спросила Зюсса, не может ли он достать ей такой амулет. Конечно, может, с почтительной готовностью ответил он. При случае она рассказала об этом своему духовнику, патеру Флориану. Тот принялся резко и настойчиво отговаривать ее. Но она все же решила запастись амулетом. Лишняя предосторожность не помешает, а покаяться никогда не поздно.
В целом она воспринимала свою беременность, как и все на свете, легко, чуть иронически. Она держала себя, как человек, который, попав в легком летнем наряде под проливной дождь, сменяет промокшее платье на крестьянскую одежду и сам очень забавляется этим маскарадом.
Хрупкая, изящная, сидела она в канун рождества посреди тесного круга приближенных, вся в воздушных белых кружевах, над которыми нежно и шаловливо склонялась ее ящеричья головка с лицом цвета старого благородного мрамора под блестящими черными волосами. Только избранное общество было приглашено на празднование сочельника. Герцог не хотел звать Зюсса. Но между Марией-Августой и ее галантным, занятным придворным евреем протянулись нити скрытой, молчаливой симпатии с того дня, как он рассказал историю об амулете против Лилит, и герцогиня не желала мириться с его отсутствием в этот вечер. При той отчужденности, какую он ощущал, это приглашение было для него настоящим бальзамом. В знак своей глубокой признательности он презентовал герцогине очень красивую гемму, на которой был вырезан спеленатый младенец, а также изящную китайскую погремушку из фарфора и слоновой кости, чрезвычайно тонкой работы; человечки с длинными косами и подвижными головками карабкались вверх по ее ручке, а крохотные пагоды позванивали и постукивали. Третьим подарком, который он подал ей с таинственной и почтительной улыбкой, был маленький золотой футляр; она поняла, что в нем находится амулет.
Остальные гости, недовольные тем, что Зюсс по-прежнему в фаворе, встретили его в этот вечер особенно неприязненно и всячески изощрялись в грубых и злобных насмешках по его адресу. Герцог, подхватив какую-то шутку Ремхингена, убеждал Марию-Августу не заглядываться на еврея, чтобы у Вюртемберга не оказался горбоносый герцог. Мария-Августа только улыбалась.
Втихомолку поглаживала она золотой футлярчик: втихомолку, незаметно для других, вынула амулет, принялась разглядывать его – узкая полоска пергамента, испещренная красными массивными еврейскими письменами; между ними переплетались зловещие замысловатые фигуры, комично и грозно гнездились первобытные птицы.
Зюсс между тем с неизменной выдержкой терпеливо и вежливо сносил все шпильки и грубые выпады, направленные против него. А затем, обратившись к герцогу и Вейсензе, заметил, что слышал однажды, как они обсуждали вопрос о католическом и лютеранском тексте рождественского евангелия, решая, какое толкование правильнее, лютеранское ли: «в человеках благоволение», или католическое: «людям доброй воли». Он радуется возможности в качестве скромного рождественского подарка внести свой вклад в дело разрешения этой проблемы. Герцог и председатель церковного совета растерянно воззрились на него, все остальные тоже притихли, недоверчиво и насмешливо прислушиваясь к словам Зюсса, который учтиво и хладнокровно продолжал: со времен профессора Баруха д'Эспинозы,[46] который был всемилостивейше приглашен блаженной памяти курфюрстом Пфальцским в Гейдельбергский университет, его единоверцы прилежно занимались изучением также и Нового завета. Он, Зюсс, обратился по поводу вышеупомянутого текста к одному из своих амстердамских коллег и получил следующий ответ: «В греческом тексте стоит слово eudokias,[47] что вульгата, принятая у католиков, правильно толкует как bonae voluntatis[48] – доброй воли». Эразм же печатал свою библию по рукописи, в которой по ошибке eudokia было написано без s, и, руководствуясь этим, Лютер перевел его словом «благоволение». Эразм, конечно, заметил бы ошибку, если бы не так торопился. Но для него вопросом чести было напечатать библию раньше кардинала Хименеса. А посему, при всем уважении к учености господина председателя церковного совета, следует признать, что лютеранское рождественское евангелие здесь несколько уклоняется от истины и правильный текст дан его светлостью.
Зюсс привел свои пояснения скромно, учтиво и обстоятельно. Все, что он говорил, было настолько вразумительно, что даже кое-кто из офицеров понял его; а Мария-Августа пришла в восторг от образованности своего придворного еврея. Но все прочие были возмущены тем, как это еврей позволяет себе в сочельник с таким апломбом разъяснять евангелие, а Ремхинген горланил, что теперь, значит, евреи торгуют не только векселями и драгоценностями, но и словом божьим. Вейсензе принялся рассуждать о роли женщин в Ветхом и Новом завете. Под влиянием всего мучительно перечувствованного и пережитого за последнее время он со страстным упорством развивал эту тему в своем комментарии к библии. В Новом завете – мадонна; в Ветхом – тысяча жен Соломона. Он говорил, как всегда, гладко, изящно, вкрадчиво, деликатно. Но в его голосе звучала такая затаенная враждебность, что Магдален-Сибилла побледнела как полотно и руки у нее похолодели.
Красивая и величавая, сидела она подле грациозной, капризной герцогини. Герцогиня держала и поглаживала ее руку, ей приятно было гладить своей холеной, пухлой ручкой крупную руку девушки. Магдален-Сибилла вновь всем существом мучительней прежнего стремилась к Зюссу. Политическая конъюнктура не была ей ясна, зато ей было ясно, что он очень одинок, что вокруг него одни враги, он представлялся ей стройной, гибкой пантерой среди неуклюжих, косматых медведей. И вместе с тем она улавливала какую-то таинственную зависимость между ним и герцогом и между ним и ее отцом.
Зюсс игриво заметил, что дамы как Ветхого, так и Нового завета не в его вкусе. Одни для него слишком героичны, другие не в меру сентиментальны. И он перевел красноречиво нежный взгляд с герцогини, чье благосклонное и похотливое любопытство его приятно волновало, на Магдален-Сибиллу, которая была ему нужна для уверенности в себе и самоутверждения, с рыжекудрой эффектной сеньоры де Кастро, умной, расчетливой особы, которая, явно к нему охладев, все же не вполне отказалась от мысли о браке с ним, на лилейных дам Гетц, на мать и дочь, которые все еще не сдавались герцогу.
Ремхинген схватился за тему о Ветхом завете. С тягучим венским акцентом, который он, хоть и был уроженцем Аугсбургской земли, выработал в себе, считая его более аристократическим, генерал заявил, что, судя по теперешнему еврейскому говору, священное писание в подлиннике должно звучать мерзким и отвратительным кваканьем и карканьем.
– А как вы полагаете, ваше превосходительство, – с подчеркнутой учтивостью спросил его Зюсс, – на каком диалекте господь бог разговаривал в раю с Адамом, на венском или на еврейском?
Герцогиня рассмеялась, довольная острословием своего еврея и провалом Ремхингена, украдкой погладила футлярчик с амулетом и бросила в наступившее молчание тонкий и нежный звон колокольчиков на погремушке. Но бургграф Редер счел нужным поддержать Ремхингена. Обратившись к герцогине, он выразил удовлетворение, что ее светлости еще не приспела пора разрешиться от бремени. Детям, рождающимся в нынешнюю ночь, не сладко придется. Наконец-то разговор перешел на ту тему, к которой давно уже стремились перейти все, и вот все принялись подробно, обстоятельно и сосредоточенно обсуждать эслингенское детоубийство, меж тем как Зюсс упорно молчал. Для офицеров самым убедительным был тот аргумент, что девушка родилась в рождественскую ночь. Один лишь господин де Риоль, слывший вольнодумцем, заметил, что если действительно евреи угрожают всем родившимся в рождественскую ночь, то Иисусу из Назарета следовало выбрать другую ночь для своего рождения; тогда он был бы избавлен от креста, а мы все – от христианства.
Тем временем тайный советник Панкорбо обратился к герцогине с просьбой разрешить ему полюбоваться на подарки Зюсса. Сухими сизо-багровыми, подагрическими пальцами ощупывал он их, подносил к ястребиному носу, к глубоко запавшим пытливым щелочкам-глазкам, затем деловито и обстоятельно объяснил, сколь малоценен материал, из которого сделаны гемма и погремушка, и добавил, что среди торговцев ювелирными изделиями существует обычай такие вещицы давать бесплатно, в виде премии. А в противовес тут же коварно подчеркнул ценность солитера на пальце у самого Зюсса, и, выглянув из глубоких орбит, алчно покосились на перстень узкие глазки, прикрытые морщинистыми веками. Но Мария-Августа встала на защиту своего еврея. Это далеко не все, что он ей подарил, заметила она своим небрежным, томным, слегка насмешливым голосом, вынула амулет и рассказала легенду о Лилит, повелительнице демонов. С щекочущим любопытством слушали присутствующие ее рассказ, разглядывали первобытных грозных птиц и массивные зловещие буквы пергамента. В конце концов Карл-Александр постарался рассеять всеобщее оцепенение, добродушно-грубовато пошутив с громким, несколько принужденным смехом: герцогиня, видно, собирается стать еврейкой; счастье ее, что ей не придется подвергнуться обрезанию.
Но после ужина он отвел Зюсса в сторону, хлопнул его по плечу и милостиво заговорил с ним. Вот молодчина, как это у него ловко вышло с двумя текстами, и откуда только ему удалось выкопать такое простое и очевидное объяснение! И затем без всякого перехода припер польщенного Зюсса к стенке вопросом, нельзя ли как-нибудь опять раздобыть мага. Ясное дело – зачем: насчет того, о чем он тогда не пожелал говорить. Зюсс, явно растерявшись, уклонился от отпета. Карл-Александр не настаивал, сказал, что понимает, как трудно добиться мага, дядюшка его не из покладистых. Но пускай Зюсс достанет ему от мага хотя бы гороскоп, чтобы он знал, чего ему ожидать на будущее время от женщин – зла или добра. После камуфлета с неаполитанкой, после всех недоразумений с герцогиней, да еще когда мать и дочь Гетц разводят бесконечную дурацкую канитель, надо же ему добиться ясности на этот предмет. Зюсс по чести обязан раздобыть у каббалиста такой гороскоп. Раз он достал герцогине амулет, он и ему не может отказать в этом одолжении, а раз он сладил с такими трудностями, как толкование библейских текстов, это для него, уж конечно, сущий пустяк. Зюсс не посмел уклониться, заколебался, согласился.
Скоро все разошлись. Высокопоставленные католики пожелали еще пойти в дворцовую часовню ко всенощной. Вейсензе попросил у Зюсса разрешения проводить его.
Они отослали кареты, а сами пошли пешком. Ночь была теплая, дул сильный, неприятный ветер. Вейсензе вернулся к своей теме, заговорил о том, как странно, что восточные легенды прочно укоренились во всем мире. Привел, к примеру, как забавно, когда вдруг в германских лесах вырастает восточное строение. Какой-то голландец осуществил эту оригинальную затею в его местности, в Гирсауском лесу. Беседуя таким образом, они дошли до дворца на Зеегассе, и председатель церковного совета распрощался с Зюссом особенно церемонно и учтиво. Как только будет готов его комментарий к библии, в котором особо почетное место займет любезно приведенное сегодня Зюссом сообщение, он почтет для себя честью прежде всего поднести экземпляр господину финанцдиректору.
Зюсс пересек слабо освещенный вестибюль. В ушах его звучало: «О счастливые, о блаженные, благословенные дни рождества!» Мягко ступая, появился камердинер, спросил, можно ли помочь его превосходительству раздеться? Зюсс знаком велел слуге удалиться. Ему не хотелось спать. Неужели южный ветер так взбудоражил его? Ведь разговоры этого старого лиса о Гирсау как будто вполне безобидны, да и в домике дяди нет ничего восточного; а все-таки в словах Вейсензе слышался какой-то скрытый намек.
Он уселся за дела. Однако цифры не глядели на него, как обычно, с бесстрастной деловитостью. В них вплетались вьющиеся растения со стен белого домика в цветах. Он отбросил прочь перо и зашагал по кабинету из угла в угол, растревоженный неприятными мыслями, а кругом раздавался звон церковных колоколов.
Исаак Ландауер в некрасивой, неудобной позе сидел в роскошном кресле у Зюсса. Деловой разговор был закончен, и Зюсса теперь явно тяготило присутствие неопрятного гостя. Однако Исаак Ландауер и не собирался уходить, он расчесал пальцами седеющую рыжеватую бородку и сказал:
– Ну вот, значит, через месяц начнется процесс Иезекииля Зелигмана из Фрейденталя. Неприятная штука, реб Иозеф Зюсс. Для вас особенно неприятная. У вас тут и лакеи, и китайщина, и шитый золотом кафтан, и попугай. А эслингенцы плюют на все это и собираются прикончить реб Иезекииля Зелигмана из Фрейденталя. – Так как Зюсс молчал, старик продолжал свою речь: – Когда я рассказывал вам о равенсбургском детоубийстве, у вас лицо было до того важное, прямо как у гоя, и вы говорили: старые басни. А теперь вы видите, что это вовсе не старые басни, теперь и вас уже беда хватает за горло.
Но Иозеф Зюсс по-прежнему упорно молчал. Когда пришли первые вести об эслингенских кознях, он, конечно, сейчас же понял, что они направлены против него, только против него. Он собрался было заявить протест. Но усилием воли заставил себя образумиться и спокойно обдумать все плюсы и минусы вмешательства. Если он примет сторону Иезекииля Зелигмана, то поставит под угрозу свое дворянство и альянс с сеньорой де Кастро, вызовет бесконечные прения с парламентом, должен будет, в виде компенсации эслингенцам, пожертвовать целым рядом льгот. Эти соображения легли в основу его тактики. Он не знал еврея Иезекииля Зелигмана. Если эслингенцам угодно опорочить свою юстицию явно несправедливым приговором, лишь бы досадить ему, – пускай срамятся. Их дело. Он не станет вмешиваться, он предпочитает хранить строгий нейтралитет и молчать.
Соответственно этим решениям он и поступал. Ограничился необходимыми мерами безопасности для допущенных им в герцогство евреев и для охраны их несколько сомнительных прав. А во всем прочем никакие уколы и насмешки не могли вывести его из бездействия.
И на речи Исаака Ландауера, как они ни раздражали его, он не пожелал отвечать. Но тот упрямо твердил свое:
– Я, еще с некоторыми другими, скупил все долговые обязательства города Эслингена. Будут эслингенцы настаивать на процессе, я за неделю явлюсь к ним со своими документами. Уступят они – уступлю и я. Нажмут они – нажму и я. Но что тут можно знать заранее, – заключил он озабоченно и потер зябкие руки. – У этих гоев столько злобы и глупости. Когда дело касается еврея, им нужнее кровь, чем деньги. А что же вы, реб Иозеф Зюсс? – спросил он в конце концов напрямик, видя, что иначе из Зюсса слова не вытянешь.
У Зюсса ответ давно был готов:
– Я не знаю еврея Зелигмана. В своем округе я сумею себя защитить, – сухо промолвил он.
Тут Исаак Ландауер вспылил:
– Он не знает Зелигмана! Сумеет себя защитить! Что ж это такое! Сидит себе здесь со своими лакеями, со своим золотым кафтаном, с китайщиной – и не знает! Сумеет себя защитить! Послушайте, что вам скажет старый делец: нужен вам весь этот хлам, кого удивит этот хлам, кому вы им голову заморочите, если вы не можете спасти реба Иезекииля Зелигмана из Фрейденталя? – Он в запальчивости размахивал руками перед самым носом Зюсса, полы его кафтана гневно развевались. – Попугай, гобелены, каменные истуканы! Нужны вам каменные истуканы? – злобно язвил он. – Пророк Моисей и царь Соломон сроду не были похожи на ваших белых истуканов. И глаза у них не были закрыты. А то бы они не преуспели так. – Выведенный из себя невозмутимым молчанием собеседника, он сердито уставился в пространство. – Ни один честный еврей не захочет в будущем вести с вами дела, – ехидно попробовал он козырнуть напоследок.
Однако Зюсс только пожал плечами:
– Шантажом меня не проймешь, – и отвернулся с враждебно-надменным видом. Исааку Ландауеру ничего не оставалось, как уйти. Он удалился, ворча себе под нос и ожесточенно теребя свою жидкую бородку.
Несколько недель спустя, перед самым эслингенским процессом в приемной у Зюсса ожидали десять еврейских мужей. Возглавлял депутацию Якоб Иошуа Фальк, низенький, высохший, престарелый франкфуртский раввин с ввалившимися глазами, при нем – попечитель и трое наиболее почтенных членов франкфуртской общины, а также депутация фюртских евреев, в том же составе. Они съехались в Фрейденталь, где со времен Гревениц существовала небольшая еврейская община, посетили жену Иезекииля Зелигмана; однако она совсем отупела и не была доступна никаким утешениям. Затем, под злобный ропот народа, они направились в Штутгарт и остановились на еврейском постоялом дворе, где их весьма неохотно принял хозяин. Строго соблюдая устав, они молились утром, после полудня и вечером, ибо десять мужей уже составляют общину, в которой может быть соблюден весь чин богослужения, вплоть до самых тонкостей. Они торжественно стояли перед свитком священного писания, который возили с собой, они лобызали его; взволнованные и сосредоточенные, закутавшись в молитвенные одеяния, стояли они с ремнями на груди и на голове, обратив лица к востоку, к Сиону. Так молились они руками, устами, всем существом своим в великой трепетной скорби и уповании. И вот, измученные и взволнованные, с пейсами, в тяжелых кафтанах, в остроконечных еврейских шляпах, со знаком на рукаве, стояли они в приемной Зюсса среди бюстов, лепных украшений, гобеленов, позолоты и ляпис-лазури. Они обливались потом и только изредка приглушенными хрипло-гортанными голосами переговаривались между собой. Часы с музыкой отбили полный час и отзвонили нежную, журчащую серебром мелодию, а они все ждали, пока господин тайный советник по финансовым вопросам соблаговолит их принять.
И в этот день по всей Германии постились все евреи, достигшие тринадцати лет, числом до восьмидесяти тысяч.
Зюсс предпочел бы вовсе не допустить к себе депутацию. До чего безрассудны эти люди! Должны же они понять, что если бы он захотел вступиться, то не стал бы ждать их совета. А таким путем они могут только скомпрометировать его. Парламент все решительнее напоминал о формально действующих, хоть и давным-давно не соблюдающихся законах, согласно которым пребывание в герцогстве разрешалось евреям в исключительных случаях и с бесконечным количеством оговорок. От герцога Зюссу удалось добиться лишь заявления, что коль скоро дело коснется самого финанцдиректора и евреев, допущенных им в страну, он, Карл-Александр, не позволит связывать себе руки; в остальном же закон менять незачем. Вслед за этим парламент, придравшись к эслингенской истории, поспешил заново настойчиво подтвердить прежние строгие предписания. Как ни странно, но наиболее деятельно добивался этого в парламенте Вейсензе. Может быть, он думал воспользоваться борьбой против евреев как ширмой для своих католических интриг?
Во всяком случае, при таком положении дел еврейская депутация была неуместна и даже вредна. С другой стороны, в состав ее входили и желали говорить с ним самые уважаемые мужи германского еврейства; принять их, конечно, было необходимо. Если бы он мог исполнить их просьбу, ему бы даже лестно было преклонить благосклонный слух к их мольбе о защите. Теперь же он принял их неохотно, твердо решив ограничиться неопределенным обещанием.
Десять еврейских мужей вошли степенно, тяжеловесно, шаркая, покашливая, заполнив целиком маленький кабинет. Стройный, элегантный, невозмутимо строгий стоял Зюсс перед неуклюжими, сопящими, раскачивающимися на ходу людьми.
Первым заговорил Якоб Иошуа Фальк, франкфуртский раввин:
– Все еврейство, все мы объединились и пытались действовать деньгами и дарами. Но старания наши оказались бесплодны. Народ успели возбудить против нас, и эслингенский муниципалитет решил истребить своих евреев; многое, конечно, делается вам назло, ибо вы пользуетесь такой властью при своем герцоге. Велика ярость нечестивцев, коварный Эдом грозно подымается на детей Израиля. Он пожирает золото, но не смягчается.
И так как Зюсс, не отвечая, выжидательно молчал, заговорил фюртский раввин, обрюзгший, обросший бородой человек:
– Больше негде искать спасения, реб Иозеф Зюсс, как только у вас. Реб Иезекииль Зелигман из Фрейденталя – подданный Вюртемберга. Мы просим вас, чтобы вы потребовали выдачи его герцогу, дабы судили его по вюртембергским законам. Другого спасения нет, – настойчивым, повелительным, гортанным голосом заключил он, подступая вплотную к Зюссу.
Тот стоял, опираясь на письменный стол, вежливый, элегантный, невозмутимый.
– Еврей Иезекииль Зелигман, – ответил он деловым тоном, – не имеет от меня формального дозволения, его нет в моих списках; весьма сомнительно, чтобы он был вюртембергским подданным. Город Эслинген будет апеллировать к его величеству императору в Вену, парламент тоже возбудит протест. Мне невместно требовать его выдачи.
– Невместно! – горячился фюртский раввин.
Но низенький кроткий престарелый франкфуртский раввин перебил его:
– Вы много сделали для нас. А потому мы надеялись, что вы и на этот раз поможете нам, дабы не пролилась невинная кровь.
Однако толстый, вспыльчивый фюртский раввин не мог угомониться.
– Невместно! – волновался он. – Спасти человеческую жизнь, спасти еврея, повинного единственно в том, что он еврей, – невместно!
– Вам видна всегда только одна сторона, рабби, учитель наш, – отвечал Зюсс, оставаясь учтивым и спокойным и называя его как положено по чину. – Я же должен смотреть глубже, дальше, предусматривать связь событий. Представим себе, что я мог бы спасти реб Иезекииля Зелигмана, но за это спасение мне пришлось бы заплатить уступками Эслингену, императору? Такое мягкосердечие я не могу себе позволить. Вы руководствуетесь простым и ясным принципом: вот еврей, который не должен умереть. Я же не смею рассуждать так прямолинейно, я должен рассчитывать, оценивать, взвешивать. У вас одни только ваши еврейские заботы, у меня тысяча других.
Кротким, дрожащим голосом ответил ему Якоб Иошуа Фальк, франкфуртский раввин:
– Сколько сынов Израиля отдали бы все свое достояние и даже больше того, дабы предотвратить пролитие невинной крови. Вы же можете воспрепятствовать этому одним росчерком пера. Не замыкайте сердца своего, реб Иозеф Зюсс.
А дородный фюртский раввин присовокупил:
– Неужто же вы бросите на произвол судьбы все еврейство из страха перед словопрениями парламентариев?
Зюсс все еще стоял, опершись о письменный стол, стройный, учтивый, элегантный, и его спокойствие служило плотиной против возбуждения тех, что, сопя и волнуясь, запрудили весь его маленький кабинет. Его выпуклые карие глаза метнули быстрый надменный взгляд на дерзкого, несдержанного рабби; но тотчас же, обуздав себя, он ответил невозмутимо:
– Я достаточно сделал для германского еврейства, и каждому ясно, что в добрых намерениях у меня недостатка нет. Стоило мне креститься, стоило мне отвернуться от еврейства, я был бы ныне первым человеком в империи после римского императора. Но я не совершил этого малодушия, я остался щитом еврейства, о своем происхождении я никогда не кричал, но никогда и не отрицал, что я еврей.
– Так заявите об этом сейчас! Сейчас, сейчас! – гортанно вопил фюртский раввин, выставив вперед косматую голову и настойчиво наступая на него.
Но Зюсс ледяным тоном ответил:
– Обычно вы умеете взвешивать и мерить. Измерьте! Взвесьте же! Взгляните вперед, дальше настоящей минуты! Вытребовать реб Иезекииля Зелигмана? Я держу в правой руке его смерть, а в левой все неприятности, нападки, угрозы, осложнения, которые обрушатся на меня, если я его спасу.
Он остановился, спокойно оглядел десять лиц, которые взволнованно, напряженно уставились в его лицо. Затем небрежно добавил:
– Я сейчас ничего не решаю. Но весьма вероятно, что, взвесив все, я не стану накликать на свою голову бурю из-за такой безделицы!
Вознегодовали десять мужей, яростно взметнулись кверху руки, раскрылись рты. Короткие возгласы: «Ой! Ой!» Возмущенная, отрывистая скороговорка. И, все покрывая, прозвучал гортанный, сердитый раскатистый пророческий голос фюртского раввина:
– Безделица! Такой же человек, как вы – еврей, ваш брат терпит пытку ни за что ни про что, ждет мучительной, позорной казни. У меня сердце останавливается в груди, когда я подумаю, что бессилен ему помочь. А вы пожимаете плечами: безделица! – Гневно сопя, надвинулся дородный раввин на Зюсса.
Но низенький франкфуртский раввин отстранил его. Старческим кротким голосом он произнес:
– Мы вас не принуждаем, реб Иозеф Зюсс, мы пришли только просить вас. Господь бог возвысил вас так, как не возвышал еще ни одного еврея в Германии. Он сделал так, чтобы сердце вашего герцога было точно воск у вас в руках: не давайте же собственному сердцу ожесточиться перед бедствием ваших братьев!
Все остальные притихли, в то время как старик негромким голосом произносил эти слова. Замолчал и фюртский раввин. Когда Зюсс после короткой паузы ответил старику, в его голосе не слышалось обычной твердости: он вовсе не отказывается вступиться. Но в том случае, если по зрелом размышлении он решит, что не может вмешаться, они должны вникнуть в его доводы, а не приписывать их злой воле.
С этим они ушли, и он учтиво проводил их через приемную.
Когда он остался один, в нем поднялась досада. Он был несдержан, что не входило в его намерения. В запальчивости он частично открыл им свои истинные побуждения. Из-за чего? К чему? Надо было до конца сохранить сдержанность и учтивость, что сотни раз удавалось ему в более важных и трудных случаях. А здесь ведь каждое слово напрашивалось само собой. Надо было дать побольше безответственных обещаний. Им чужды тонкие аргументы. Они упрямо, в каком-то ослеплении, уперлись на одном: спаси им во что бы то ни стало их поганого Иезекииля Зелигмана.
Все больше и больше раздражаясь, шагал он взад и вперед по кабинету. И как это они ничего не смыслят! Разве он не посылал им во Франкфурт огромных пожертвований? Разве не поддерживал, как мог, их торговлю? Всюду и везде добивался для них послаблений. Если теперь, вопреки законам страны, несколько сотен евреев проживают в герцогстве, за это они должны благодарить его одного. Тогда, во Франкфурте, как они лебезили перед ним, чуть не молились на него! А теперь все это забыто, обесценено, они не признают его заслуг только потому, что в одном каком-то случае он не может исполнить их волю. Вот уж неблагодарные! Они не понимают и никогда не поймут, какую жертву он приносит им, не отрекаясь от еврейства. Право же, право, стоило бы креститься, хотя бы им назло.
Спору нет, приятно было бы лишний раз щегольнуть перед ними своим могуществом. Как глупо, что нельзя без долгих слов вырвать у эслингенцев их еврея. Совершенно ясно, что отныне он будет меньше импонировать всему еврейству. Эта мысль не давала ему покоя.
Он твердо решил больше об этом не думать. С головой окунулся в работу. Закружился в вихре новых любовных авантюр. Однако ночи его не были спокойны. Ему снилось, что мимо медленно и торжественно движется процессия: это ведут на казнь еврея Иезекииля Зелигмана из Фрейденталя. Он, Зюсс, скачет вслед на своей белой кобыле Ассиаде, хочет остановить процессию. Но хотя она движется медленно и непосредственно перед ним и хотя он пришпоривает свою резвую кобылу, настичь процессию ему никак не удается. Он кричит, бешено размахивает ходатайством о помиловании. Но дует сильный ветер, и процессия движется и движется вперед. Вдруг появляется дон Бартелеми Панкорбо. Высунув костлявое лицо из пышных старомодных брыжей, вздернув одно плечо, стоит он перед ним и говорит, что остановит процессию, если Зюсс отдаст ему свой солитер; Зюсс соглашается, весь вспотев от волнения. Но когда он делает попытку снять кольцо, оно не снимается, оно словно вросло в палец, и дон Бартелеми говорит, что нужно отрубить руку.
На этом Зюсс проснулся, разбитый и с головной болью. Как бы он ни был утомлен, он боялся теперь ложиться спать. Ибо реб Иезекииль Зелигман из Фрейденталя, который не тревожил его в дневные часы, заполненные работой и женщинами, прокрадывался в его краткие, безрадостные ночи.
Перед испуганным, затаившимся в себе самом Зюссом сидел, нахмурившись, рабби Габриель. Сидел приземистый, скорбный, на лбу – три резких отвесных борозды. Рассказывал скупо, пугающе многозначительно, употребляя старинные обороты.
Итак, значит, до девочки дошли слухи, злые, тягостные слухи о Зюссе. Девочка ничего не говорит, но покой ее нарушен, смущен. Что же он может сделать, испуганно, робко спросил Зюсс. А рабби Габриель отвечал хмуро и сурово: ни словами, ни тем паче оправданиями делу не поможешь. Пусть он предстанет на суд девочки. Пусть она все прочтет в его лице. Быть может, прибавил он насмешливо, девочке откроется больше, чем ему – рабби. Быть может, она увидит в лице своего отца больше, нежели плоть, кожу и кости.
По уходе рабби Зюсс то возносился ввысь, то падал в бездну. Взбудораженный до глубины души, он метался из стороны в сторону. При этом, в сущности, решение его было принято с самого начала. И угрожающий презрительный вызов рабби был для него, в сущности, желанным знаком и озарением.
Предстать перед судом девочки, явить девочке лик, чистый и сияющий внутренним светом! Хотя для него, закоренелого скептика, существовало лишь то, что можно видеть и осязать, но подобный призыв и именно в такую минуту должен и самому неверующему послужить знаком и указанием. Он не подлец, отнюдь нет, он может держать ответ перед кем угодно и когда угодно, и если действительно существует бог, который проверяет и ведет счет и выдает векселя, то ему нечего беспокоиться и нечего бояться ни итогов, ни расплаты. И все же не так-то легко предстать сейчас перед судом девочки, – ведь у нее глаза особенные, они видят одни лишь цветы да ясное небо, им неведома сложность людских дел, и они, быть может, увидят позор и грязь там, где на наш взгляд и сердце и руки почти что без пятнышка. И если к девочке уже дошли слухи, если она уже заранее трепещет и боится, тогда, конечно, надо еще раз как следует очиститься, прежде чем явиться к ней.
Он шагает, опустив голову, закусив чувственные губы, напрягая мускулы рук. Он, черт побери, не таков, чтобы приносить жертвы. Он одаривает всех направо и налево, он сыплет деньгами, ибо он щедр, как подобает настоящему вельможе и кавалеру. Но жертвы? Ему тоже еще никто не приносил жертв, в жизни всегда идет борьба, не на живот, а на смерть, а кто робеет, кто мягок сердцем, тот остается внизу и сносит обиды и плевки. Он же не робеет ни перед ропщущим плебсом, ни перед наглыми вельможами, ни перед парламентом, ни перед господом богом, если таковой существует. И все-таки принести жертву в этом одном случае – вот что дало бы мучительно-сладострастное наслаждение, вот когда можно было бы предстать перед девочкой белым как снег, и даже глаза, привыкшие лишь к цветам да к ясному небу, не усмотрели бы на тебе ни малейшей пылинки.
Но сколько всего обратится в прах, если он принесет эту жертву! Как бессмысленно, а с точки зрения политической просто безумно, спасать Иезекииля Зелигмана только затем, чтобы рассеять какие-то нелепые девичьи фантазии. В прах обратится альянс с сеньорой де Кастро, в прах обратится дворянство, в прах обратится добрая половина того фундамента, на котором он стоит. Нет! нет! Пусть это даже указание свыше и знак – он не уступит и ради детской причуды не отмахнется от всего того, что завоевано кровавым потом.
Но в глубине души он знал, что уступит. В глубине души он знал это с того мгновения, как увидел рабби Габриеля. В то время как он себя жалел и слезливо сокрушался над тем, какой от него требуют жертвы, где-то в самом заповедном тайнике он ощущал величайшее облегчение. И ему надо было крепко держать себя в узде, чтобы те смутные мечты, которые непрерывно зарождались в нем, не превратились в определенные ясные представления: как популярен он будет впредь во всем еврейском мире, как его будут превозносить и восхвалять по всей Европе, называя первым из евреев Римской империи, как он, еврей, добьется небывалого и невообразимого, – один вырвет обреченного на смерть человека у целого христианского города.
И в то время как эти кичливо-суетные мысли захлестывали его, он сам с трудом представлял себе все тяжкое величие такого жертвенного решения.
На следующий день он отправился к герцогу. Он подошел к вопросу без обычных околичностей, был менее подобострастен, требовал настойчивее. Он подчеркнул, что герцогу по его сану не пристало отдать своего еврея на произвол эслингенцам; кроме того, и его, Зюсса, авторитет страдает от насмешек и уколов, какие непрестанно позволяют себе предерзкие эслингенцы. Карл-Александр грубо прервал его, заявив, что просит не докучать ему дурацкими еврейскими делами, у него уж довольно из-за этого дрязг с парламентом, он и без того на всю империю прослыл еврейским приспешником, так что Зюссу лучше попридержать свой наглый язык. Однако Зюсс, вопреки обыкновению, не сдавался, настаивал на своем и приводил, несмотря на повторный окрик герцога, все новые доводы. Он требовал, чтобы, на худой конец, Иоганн-Даниэль Гарпрехт, лучший в стране юрист, дал свое заключение по поводу подсудности данного дела эслингенскому суду, если герцогу угодно, чтобы он, Зюсс, продолжал свою многотрудную, чреватую опасностями работу на пользу его светлости. Ибо, если эслингенцам и впредь будет дозволено подрывать его авторитет, ему придется всепокорнейше просить об освобождении его от исполняемых им обязанностей. Карл-Александр, побагровев и засопев, рявкнул, чтобы он убирался вон.
Зюсс удалился, удовлетворенно посмеиваясь. Он знал, что это пустые фразы; завтра герцог сделает вид, словно ничего и не было. Карл-Александр не может обойтись без него и принужден будет уступить, принужден будет исполнить его просьбу. Посему он на следующий же день сообщил рабби Габриелю, что ему почти наверняка удалось добиться освобождения Иезекииля Зелигмана, и при этом чванился и похвалялся, какую непомерную тяжесть взвалил тем самым на себя. В то время как он пространно и напыщенно разглагольствовал на эту тему перед застывшим в молчании рабби Габриелем, в кабинет шумливо и бесцеремонно ввалился герцог, прямо с парада, в мундире с лентами и орденами. Случайно ли столкнулся он здесь с магом? Или прослышал о его приезде и хотел, как тогда в Вильдбаде, встретиться будто невзначай? Так или иначе он явился и наполнил кабинет гамом, громом и блеском. Ах, какой он недоступный, с напускной веселостью крикнул он каббалисту. А может, он вообще отказывается составлять гороскопы для необрезанных? Зюсс вмешался, стараясь все сгладить. Дело идет о гороскопе по поводу женщин, он ведь уж много раз настойчиво писал об этом дяде. В действительности же он написал лишь один раз, и то осторожно, полунамеками; но рабби Габриель понял, о чем идет речь. Однако он безмолвствовал. Смотрел в лицо нетерпеливо насупившемуся герцогу и молчал. Тогда Карл-Александр с прежней нарочитой самоуверенной шутливостью спросил, имеют ли связь его амурные приключения с тем роковым концом, о котором маг упомянул или, вернее, умолчал при их встрече. Герцог не ожидал ответа на этот вопрос, да и Зюсс был уверен, что дядя постарается отмолчаться. Однако рабби Габриель, не сводя окаменелых глаз с герцога, ответил одним сердитым, скрипучим, недвусмысленным: «Да». Карл-Александр не ожидал, что услышит столь ясный приговор, он схватился за сердце, ловя воздух, в комнате повисла душная, гнетущая тишина. Отдышавшись и все еще силясь шутить, Карл-Александр заметил, что наконец-то приговор ему произнесен, и тотчас же заговорил о другом. Он обратился к Зюссу: да, вот он для чего, собственно, зашел – он поручил Гарпрехту дать заключение по делу этого поганого эслингенского еврея. Черт знает сколько неприятностей и пакостей приходится терпеть из-за него! Приказал подать карету и удалился, расстроенный, бросив на прощание неудачную, злобную остроту по поводу бюста Моисея.
После ухода герцога Зюсс опять стал бахвалиться. Итак, значит, он счастливо избавил еврея Иезекииля Зелигмана из Фрейденталя от рук Эдома. Ему, Зюссу, посчастливилось достичь того, чему не было еще примера в Римской империи. Неужто и теперь дядя считает, что жизнь его и тяжкие труды – суета и томление духа?
Нехотя ответил рабби Габриель ненасытному честолюбцу: его, Зюсса, жизнь вовсе и не жизнь, а нелепая суетня, в чаянии убежать от себя и собственной пустоты.
Сперва Зюсс обиделся, по-детски надулся и не ответил ни слова. Избегая встречаться взглядом с упорно молчавшим рабби Габриелем, он так же молча шагал по комнате и выкапывал изо всех закоулков своего сознания убедительные доводы. Ах, так? А кто же, как не он, только что принял великодушное решение и осуществил его ценой огромных жертв? Его насыщенная трудами, плодотворная жизнь – всего лишь нелепая суетня? И ему осмеливаются сказать это, перед лицом богоугодного деяния, только что совершенного им? Да разве такое деяние не может наполнить смыслом целую жизнь? А что, если это деяние – лишь одна из жемчужин целого ожерелья? И если посмотреть на его жизнь с этой точки зрения, то, быть может, вся она
– лишь самопожертвование и достижение предуказанной свыше священной цели?
Он вдруг остановился и ухватился за эту мысль. Ему, человеку минуты, великому актеру в жизни, пришлось по вкусу поглядеть на себя в таком сентиментальном плане. Ему показалось соблазнительным истолковать свое повседневное существование не как возню впустую, а как возвышенное житие великого праведника. Ах так, его жизнь столь бессмысленна, что можно с презрением отмахнуться от нее? Все его тщеславие возмутилось в нем. Огромным усилием воли вырвался он из того гнетущего заколдованного круга, в котором держало его присутствие рабби Габриеля. Он принудил самого себя поверить в глубокий, предопределенный, священный смысл своей жизни, усмотреть в своем возвышении назидание и символ. По-прежнему стремительно шагая взад и вперед, он таинственным шепотом вкрадчиво убеждал своего молчаливого слушателя. Со всем присущим ему увлекательным, убедительным адвокатским красноречием, с тем рвением, с каким обычно выступал в защиту дел государственной важности, сжигал он перед рабби блестящий фейерверк благочестивой гордыни.
Если бы он старался только сделать карьеру, зачем бы ему было оставаться евреем? Почему он не крестился, как его брат? Нет, дядя несправедлив к нему, считая его жизнь такой ничтожной и достойной презрения. Отнюдь не из жажды денег или власти стоит он на своем высоком посту, окруженный завистью и опасностями.
Он цеплялся за эту мысль, она льстила ему, он внушал ее себе, чтобы получше внушить ее рабби Габриелю. Он нашептывал ее каббалисту как великую тайну и, пожалуй, даже больше, чем для него, играл для самого себя в предопределение, в наитие, в призвание. А что, если он избран отомстить Эдому за Израиля? Ведь не слепым случаем вознесен он, точно Иосиф, которого отличил фараон? Если он теперь поднялся так высоко и пребывает в таком блеске, что те, кто обычно оплевывает и попирает ногами сынов Израиля и брезгливо отряхивается, когда им случится задеть еврея, они принуждены гнуть перед ним спину и лизать прах от ног его – разве это уже не месть? Вот теперь он, еврей, царит над страной, сосет ее кровь и жиреет от ее соков. И если кого-нибудь из его братьев притесняют, стоит ему простереть над ним руку, как Эдом уползет, поджав хвост, как побитый пес. Разве этого недостаточно, чтобы стать смыслом, сутью и основой целой жизни?
Но рабби Габриель молчал, и когда Зюсс поглядел на молчавшего рабби, его крылатые слова повисли в воздухе и наконец упали наземь. Он притих и стоял, точно школьник, плохо выучивший урок и не знающий, чем ему закончить, и слова его стали похожи на плохие, дурно пахнущие румяна; которые быстро засыхают и облупливаются.
Каббалист ни словом не ответил на длинную, пылкую и чувствительную речь Зюсса. Он поднялся и сказал:
– Прежде чем показаться на глаза девочке, поезжай во Франкфурт к матери.
С этими словами он ушел. Когда Зюсс остался один, в душе его бушевала глухая ярость. Ну вот, он переломил себя и принес жертву. Чего же еще хочет от него старик? Что еще должен он сделать? Почему замалчивал он его жертву своим высокомерным и уничтожающим молчанием? А как понять его слова о Франкфурте? Ну, конечно, он поедет во Франкфурт, к матери. Франкфуртцы лучше оценят все, что он сделал. Мать будет благоговейно прислушиваться к его словам. А франкфуртские евреи – мудрый рабби Якоб Иошуа Фальк и попечитель и все другие – как будет он взыскан их славословием, благословением, хвалой и восторгом. Пусть рабби Габриель молчит, тем громче заговорят десятки тысяч других уст, свидетельствуя о нем и о его деянии.
В кабинете профессора Иоганна-Даниэля Гарпрехта хозяин дома, поверх кипы актов и документов, с мягким и мудрым сокрушением улыбался своему другу, тайному советнику Бильфингеру. Просторную, солидно меблированную комнату пересекал столб солнечных лучей, сотканный из бессчетных пылинок.
И профессор и тайный советник, оба люди положительные, внимательно обсудили вюртембергские дела; особо остановились они на подробно и старательно изложенном прелатом Вейсензе решении парламентского совета, постановившего ни при каких условиях не вмешиваться в эслингенский конфликт.
– Вы, друг и брат мой, должны понять, – сказал Гарпрехт и положил руку на широкие плечи Бильфингера, – насколько самому мне приятнее было бы бросить еврея Иезекииля на произвол судьбы, насолить Зюссу и тем самым доставить торжество Вейсензе. А как я подумаю, какой куш придется нам отвалить за выдачу этого вонючего жида, сколько побочных доходов и законных прибылей придется швырнуть в жадную пасть несговорчивых эслингенских лавочников, и взамен прослыть по всей империи еврейскими приспешниками, вам, друг и брат мой, разумеется, понятно, что при мысли об этом горечь и досада поднимаются во мне. Но герцог потребовал у меня заключения юридического, а не политического. И хотя мне это крайне прискорбно, и хотя я с радостью отхлестал бы еврея по его наглой роже всеми компендиями и комментариями – тем не менее Иезекииль подсуден нам; а когда поставлен вопрос о праве и законе, тогда отпадают всякие мелкие формальности, которые с помощью юридических уловок можно толковать в обратном смысле. Как юрист я обязан дать такое заключение: Иезекииль подсуден вюртембергскому суду и должен быть выдан герцогским властям.
Бильфингер склонил массивную голову. Он знал это, все это знали; знал это, несомненно, и герцог, и когда он затребовал суждение Гарпрехта, дело было уже, в сущности, решено. И все-таки как было бы хорошо, если бы Гарпрехт сделал другой вывод! Герцог, надо думать, все равно потребовал бы выдачи арестованного, но Зюсс получил бы чувствительный щелчок.
– А теперь он стоит себе спокойно, – проворчал Бильфингер, – и посмеивается, глядя сверху вниз, как мы надрываемся, чтобы ему угодить.
Но больше он не делал попыток повлиять на Гарпрехта, он знал, что юрист скорее даст себе руку отрубить, нежели решится вставить в юридическое заключение хоть слово, на волосок уклоняющееся от буквы закона. Он простился с другом, уныло и безнадежно, но с крепким и теплым рукопожатием.
Оставшись один, Гарпрехт не нашел в себе сил приняться за дела. Он вновь наполнил стакан вином, посмотрел на танцующие в косом столбе света пылинки. Задумался. Он привык к широкому охвату происходящего. Он определил место этого случая в цепи фактов, он раздвинул границы герцогства, и дело ничтожного еврея-разносчика предстало перед ним как одна из волн в потоке явлений и событий общеевропейского масштаба.
Ибо ничтожный еврей-разносчик, замученный пытками, ложно обвиненный в убийстве, и Зюсс, окруженный завистью, всемогущий финанцдиректор, видная фигура, входящая в расчеты всех европейских дворов, качаются на гребне одной волны. Как странно переплелись судьбы этих двух людей! Если бы Зюсс не стоял так высоко, в таком великом блеске, эслингенцы, несомненно, отпустили бы бедняка еврея на все четыре стороны. А если бы Зюсс не стоял так высоко, в таком великом блеске, он не мог бы спасти бедняка еврея. Что же связало финанцдиректора с мелким разносчиком? Общность крови? Глупости! Общность веры? Пустая болтовня! Ничего между ними не было общего, кроме одного: ненависти, которая отовсюду захлестывала и могущественного еврея, и его ничтожного собрата.
Задумчиво перелистывал Гарпрехт хроники, исторические работы Габельковера, Магнуса Гессенталера, Иоганна-Ульриха Прегицера, приказы, рескрипты, решения ландтагов, которые грудами лежали перед ним. Там можно было прочесть, как в стране обращались с евреями до сих пор, там были постановления швабских герцогов и парламентов касательно евреев, там была вся история швабских евреев и их прав.
С давних времен расселились они в стране. Их бесконечное множество раз обвиняли в убийстве, в отравлении колодцев, оскорблении святынь, а пуще всего в несносном зловредном лихоимстве. Их бесконечное множество раз избивали, а все их иски объявляли недействительными и в Кальве, и в Вейле-городе, и в Булахе, Тюбингене, Кирхгейме, Горбе, Нагольде, Эрингене, Каннштате, Штутгарте. Но бесконечное множество раз их призывали вновь. Один из императорских приказов гласил: повсюду в империи надлежит отнимать у них имущество, а также и жизнь, истребляя их всех, за исключением малого числа, кое оставить в живых, дабы сохранилась память о них. В другой раз в резолюции консистории указывалось, что у христиан, после дьявола, нет злее врагов, нежели евреи. В соглашении между германским государем и Ульрихом Многолюбимым были оговорены строжайшие меры, во внимание к разнообразным жалобам на евреев, кои, по свойственному им жестокосердию, лихоимством своим бессовестно и несносно угнетают имперских подданных, как лиц духовного звания, так и мирян, и в других делах держат себя так грубо и непотребно, что отсюда проистекают рознь, войны и несогласия. А в завещании графа Эбергарда Бородатого евреи именовались отверженными и мерзкими творениями, враждебными всемогущему богу, природе и христианскому духу, гложущими червями, пагубными и несносными для простолюдина и подданного, а посему, во славу господа всемогущего и всеобщего блага ради, им строго и решительно воспрещалось пребывание в стране.
Но отчего же, судя о них так, их снова впускали и даже часто призывали обратно в герцогство? Отчего защищал их Эбергард Сварливый и граф Ульрих? Отчего же, если Эбергард Бородатый, герцоги Ульрих, Кристоф, Людвиг их изгоняли, Фридрих Первый и Эбергард-Людвиг звали их назад в страну? Заклеймить именем проклятого, богом отринутого народа – очень просто, но почему нельзя оставаться к ним равнодушными, как к другим чужеземцам, скажем, к французам-эмигрантам? Почему они либо отталкивают, либо притягивают – а то бывают одновременно и омерзительны и привлекательны?
Оторвавшись от бумаг, Иоганн-Даниэль Гарпрехт поднял голову. В косом столбе солнечных лучей, где танцевали бессчетные пылинки, ему примерещился образ герцога и образ еврея, один в другом, один таинственно переходящий в другой. Оба были бедствием. Против герцога существовала защита – конституция; но защита была худая и прок от нее небольшой. Против евреев существовали законы, рескрипты; но они были бесполезны. Гложущие черви – так говорилось в резолюциях, в запретах. Страна приходила в упадок, росла бедность, нужда, озлобление, обнищание, отчаяние. Гложущие черви сидели в стране, питались мозгом ее костей. Глодали, жирели. Вверху, свившись в один клубок, герцог и еврей, кичливые в своей наглой, сытой наготе, лоснящиеся, раздобревшие.
Мысли путались в голове положительного, трезвого, деловитого человека. Так трудно встать здесь на твердую почву; евреи и все, что с ними связано, так сбивает с топку, задает столько загадок. Изгонять их бесполезно, раз их снова приходится призывать обратно, даже самое простое средство – истребление их – вопроса не решало. Загадка продолжала мучать и задним числом; да и сами они внезапно всплывали на поверхность там, где их меньше всего можно было ожидать.
Вот, скажем, еврей-разносчик: бродит он по дорогам, колченогий, уродливый, грязный, запуганный, приниженный, лукавый, неприглядный телом и духом, ты испытываешь к нему отвращение, остерегаешься прикоснуться к его засаленному кафтану; но вдруг из глаз его благостно глянет на тебя и смутит твой покой древний мир с его вековой мудростью, и вшивый еврей, который, казалось тебе, недостоин того, чтобы, топча его в грязь, ты замарал новые башмаки, поднимается как облако, парит над тобой, улыбаясь с недосягаемой высоты.
Тягостно и неприятно думать, что такой вот грязный еврей-тряпичник произошел от семени Авраама. Досадно и неловко, что прославленный на весь мир мудрец Бенедикт д'Эспиноза принадлежал к этому же проклятому племени. Казалось, будто природа хочет на примере этого племени наглядно показать, на какую звездную высь может подняться человек и в каких низинах может он погрязнуть.
Гложущие черви. Гложущие вредоносные черви. Профессор Иоганн-Даниэль Гарпрехт принудил себя вернуться к архивным документам, но что это? К нему, рассудительному спокойному человеку, точно к какому-нибудь мечтателю, слетели видения. Самые буквы превратились в червей с головами герцога и Зюсса, и черви эти ползали, гнусно увертливые, влажные, липкие. Гложущие черви, гложущие черви. Он скривил рот. Сплюнул.
Сделал попытку перенестись мыслями в ту область, где легче всего обуздать фантазии и видения, в самую близкую ему область, в политическую экономию. Евреи продолжают существовать в силу экономической необходимости. Мир перестроился заново. Раньше вес человека определялся его званием и происхождением, теперь он определяется деньгами. Когда евреям – презренным и ненавистным – дано было монопольное право распоряжаться деньгами, им тем самым был брошен канат, по которому они взобрались вверх. Теперь деньги стали живой кровью государства и общества, а евреи – важнейшим колесом в мудреном механизме денежного оборота, его осью и главным рычагом. Стоит изъять их оттуда, как рухнет общество и государство. Герцог – эмблема и символ старой власти, власти звания и происхождения, и еврей – эмблема и символ новой власти, власти денег, – протягивали друг другу руку, были нерасторжимо связаны между собой, дружно тяготели над народом, высасывали мозг его костей один для другого.
Гложущие черви, гложущие черви. Со вздохом вернулся Гарпрехт к своей работе. Взял себя в руки, и омерзительная нечисть обратилась в ясные четкие буквы, и он деловито, старательно, добросовестно и подробно изложил свое заключение.
Эслингенцы, выторговав себе крупную компенсацию а для вида отчаянно бранясь, а в душе ликуя, передали в руки герцогского правосудия еврея Иезекииля Зелигмана. Вюртембергский суд спустя несколько дней освободил его. Разбитый, потерянный, невменяемый, обезумев от ужаса, от страха смерти, от пыток, Иезекииль вернулся в Фрейденталь, навсегда до мозга костей потрясенный всем пережитым. С ним часто случались нервные припадки, его трясло, сводило плечи, руки смешно дергались в разные стороны, лицо искажалось, часто он неожиданно принимался стонать, тихо, по-звериному завывал. Другие евреи заботились о нем и в конце концов переправили его за границу, в Амстердам.
Перед тем как выехать за пределы Германии, он обратился с письмом к финанцдиректору, прося разрешения явиться к нему, чтобы поблагодарить его. Зюсс подумал, заколебался. Конечно, торжество немалое – показать штутгартцам добычу, которую он вырвал у эслингенцев. Но, с другой стороны, у добычи был настолько жалкий и общипанный вид, что штутгартцы хоть и поостереглись бы громко поносить его, но грубые шутки, конечно, себе бы позволили, а кроме того, он не решился, показывая Иезекииля, еще пуще разозлить герцога, которому вся эта канитель и без того нестерпимо надоела. Итак, он великодушно уклонился от личной благодарности освобожденного. Однако, по теперешнему своему обыкновению, не сознался себе самому в истинной причине отказа и только полюбовался сам собой. Уж теперь все увидят, что совершил он этот поступок не благодарности ради, а единственно из чистых и благородных побуждений.
Зато он сполна удовлетворил свое тщеславие во Франкфурте. О, как толпились на улицах гетто евреи, чтобы только увидеть его, гортанными возгласами выражали свой восторг, призывали на его голову благословения, высоко поднимали детей, чтобы в их своеобразно-прекрасных, удлиненных глазах запечатлелся его священный благодатный образ. Точно по ковру шествовал он по их беспредельным восторгам и добрым пожеланиям. Ой, какого спасителя и великого праведника господь, да будет благословенно имя его, послал Израилю в его великом бедствии. Он стоял в синагоге, и его вызвали читать священное писание, и тогда жужжание, которое обычно раздавалось в переполненном зале, сразу стихло, так что напряженная тишина, воцарившаяся среди избавленных от безумного страха людей, казалось, готова взорвать стены, и престарелый раввин дрожащим голосом излил на его голову слова прекрасных, сладостных, древних благословений, как теплую благовонную воду из драгоценной чаши.
Но та, от кого он ждал самых больших восторгов, менее ревностно и раболепно слагала их к его ногам. Его мать, самая покорная и смиренная его поклонница, на сей раз была сдержанна, боязлива, словно скована. Правда, у нее и теперь не иссякали хвалы и славословия его величию и блеску, стройности, богатству, благородству, изяществу, уму, учености, могуществу и тому, как щедро одарен он всеми благами мира, и деньгами, и талантами, и красотой осанки, и добротой, и женскими ласками. Однако она не растворялась в нем целиком, как обычно. Ее большие бездумные глаза на белом прекрасном лице порой пугливо отрывались от него; руки, ласкавшие умного, изящного, могущественного сына, вдруг беспричинно застывали. Красивая, веселая, болтливая, ветреная пожилая дама, против обыкновения, была чем-то явно обеспокоена, растеряна, угнетена.
В то время как они сидели вдвоем, тяготясь этой напряженной атмосферой, рабби Габриель неожиданным своим приходом прервал их разговор. Микаэла вскочила с легким криком и, точно умоляя и обороняясь, подняла к нему руки.
– Ты ему дала их? – спросил каббалист.
Микаэла, помертвев и широко раскрыв глаза, отступила на шаг.
– Отдай сейчас же! – сказал рабби, не повышая голоса, но так, что сопротивление тотчас замерло. Микаэла вышла, вся поникнув, тихонько всхлипывая.
– Что это значит? – спросил озадаченный и раздосадованный Зюсс. – Зачем вы ее мучаете? Чего вы хотите от нее?
– Ты мне сказал, – отвечал рабби, – на чем покоится смысл и оправдание твоей жизни, с которым ты хочешь предстать перед девочкой. Я же возьму в руки твое оправдание и покажу его тебе таким, каково оно есть.
Едва волоча ноги, словно через силу вошла Микаэла. Принесла связку бумаг, по-видимому писем. Робко положила их перед недоумевающим сыном.
– Остаться мне здесь? – произнесла она с трудом, в чуть слышном голосе ее звучал страх.
– Можешь идти, – почти ласково сказал рабби.
После того как она поспешно удалилась, Зюсс неторопливо потянулся за письмами, подержал их в руке и нерешительно начал читать. Любовные письма, несколько устарелые по форме, не слишком увлекательная материя. Он удивлялся и недоумевал. Что это значит? Наконец уловил какую-то связующую нить, стал торопливо сопоставлять факты, и вдруг, ошеломленный внезапным, потрясающим открытием, поднял глаза от писем, поднял их на рабби Габриеля. Но того не оказалось, он был в комнате один.
Тогда он встрепенулся, вскочил, тяжело ступая, принялся шагать по комнате. Глаза его то загорались, то темнели, то снова загорались. Налетевшие тучи, и снова солнце, потом снова мрак застилает лицо. Беспорядочные, неритмичные взмахи рук, шаткие, как у пьяного, шаги. Обрывки слов, лепет, затем, когда все тело напрягается, – отчетливая фраза. И вот он уже опять поник, невнятно что-то бормоча, ноги и руки словно перебиты. Человек, всегда полный самообладания, превратился вдруг в актера, когда тот работает над ролью, то возносясь к звездам, то низвергаясь в пропасть. Наконец он точно мешок свалился в кресло, внутри все кипит и бурлит, а лицо и тело неподвижны. Долгий, как вечность, миг он недвижим, точно мертв.
Вот, значит, как одно сплетается с другим. Вот как сразу освещаются таинственные, мрачные закоулки. Значит, проклятый колдун рабби заодно с матерью подло, низко, бессовестно обманывали его, так долго скрывая и утаивая правду. Что за скверная шутка, что за коварная, чисто еврейская плутня – так долго связывать его с этой мерзкой, низкой, подлой, смешной и презираемой нацией! Впрочем – благодарение богу, его талант и благородство крови не дали ему остаться в тени. Его природные способности расцвели пышным цветом, несмотря на чинимые ему подлые преграды и препоны. Каких нестерпимых, отравляющих душу обид не знал бы он, какими унизительными окольными путями не плутал бы, сколько нелепых, ненужных граней и углов было бы для него выровнено и сглажено, если бы преступная воля незаконно не привязала его к этому низменному плебейскому положению и вероисповеданию.
Но как же это? Потише! Только не горячиться! Потихоньку все взвесить и обдумать! Разве теперь его путь так уж прям и ясен?
Итак, отцом его был не скромный кантор и комедиант Иссахар Зюсс. Можно без труда неопровержимо доказать, что Георг-Эбергард фон Гейдерсдорф,[49] барон и фельдмаршал, был его отцом. Он не плохого рода, его манеры, его стать, его темперамент не были нарочито усвоены им, не были искусственными и заученными. Его аристократические наклонности, его возвышение, его барственное благородство вполне понятны, они естественно прорвались сквозь все препятствия; ибо их источником была порода, внутренняя сущность. Он по рождению христианин и вельможа.
Незаконнорожденный? Ну что ж, самыми способными и удачными были дети, зачатые на ложе запретной, необузданной страсти, где между цветом и плодом не возникали охлаждающие и отрезвляющие практические соображения. Повсюду в Европе, если не на престоле, то на самых его высоких ступенях сидят незаконнорожденные. Честь и хвала его отцу, что он пожелал иметь сына не от какой-нибудь затхлой аристократической девы, а от красавицы еврейки.
Гейдерсдорф – его отец, Георг-Эбергард фон Гейдерсдорф. Громкое имя. Беспокойное имя. Кровавое, истерзанное, несчастливое имя. Он видел портреты этого человека. В отважном бесстыдстве мать оставила на стене своей спальни его портрет, даже когда сам он был обесславлен и обездолен. Как часто в детстве стоял он перед портретом блестящего генерала, на этом имени мать учила его говорить, сложное имя Георг-Эбергард фон Гейдерсдорф было первое, что не по летам развитой ребенок научился произносить без запинки; когда мальчику в первый раз удалось это, мать сунула ему в рот конфетку. Ага, значит, от него унаследовал он и каштановые волосы, и величавую барственную осанку, значит, это отцовский горделивый красный мундир всегда грезился ему и увлекал дальше вверх по тому пути, по которому он поднялся так баснословно быстро и легко.
Георг-Эбергард Гейдерсдорф – вот кого судьба триумфально вознесла ввысь и еще стремительней сбросила вниз. Фельдмаршал, блистательно отличившийся в турецких войнах, комтур Тевтонского рыцарского ордена в Гейльбронне, комендант Гейдельбергской крепости во время войны с Францией. Завистливые клеветники подвели его после падения крепости под военный суд. Он якобы по трусости поспешил сдать крепость, меж тем как должен был продержаться, пока не подоспеет Людвиг Баденский. Смертный приговор. Император милует его. Но как! Мальчиком Зюсс видел на картинках, как было осуществлено это помилование. Он и посейчас ясно видит все подробности в изображении летучих листков. Мстительный маркграф построил войска вдоль всего правого берега Неккара. Как истукан высится он на своем поджаром коне. А это, значит, его отец, которого везут вдоль всего фронта императорских войск. Бесконечный фронт; шеренги солдат тянутся через весь листок. А отец его сидит в телеге смертников, с позором изгнанный из Тевтонского рыцарского ордена, лишенный чинов и отличий, и везет его гейльброннский палач с подручными.
Видел он и другие гравюры, картинки и листки. Но те меньше запечатлелись у него в памяти. Он помнит довольно ясно, как на одной из них кто-то переламывает шпагу. Это, надо полагать, тот момент, когда фельдмаршалу перед полком, носящим его имя, читают смертный приговор и замену казни изгнанием. Как подлый изменник осужден он на изгнание из Австрии и Швабии. Палач срывает висящую у него на боку шпагу, трижды ударяет ею по лицу приговоренного и ломает ее. А затем громко стенающего изгнанника в лодке перевозят через Неккар.
Дальнейшее известно только но слухам. Говорят, что он бежал к капуцинам в Неккарсульм и умер капуцином в Гильдесгейме. Мать, конечно, знает все точнее. Во всяком случае, теперь уже позор снят с его имени. Теперь известно, что приговор был продиктован завистью и несправедливостью. Гейдерсдорф-солдат слывет героем, Гейдерсдорф-монах – мучеником.
Вот каков, следовательно, его отец. Беспокойное имя, беспокойная судьба. По неверной звезде его отца каббалист, должно быть, узнал многое из того, что сулит рок ему самому. Что ни говори, а тут во всем, вплоть до мелочей, тянутся таинственные нити. Отец его – капуцин, а он участвует в католическом проекте Карла-Александра. Отец его – солдат, значит, он неспроста таинственными узами связан с герцогом-солдатом.
Ну, довольно мечтаний! Надо действовать. Что дальше? Что будет дальше? Как ему теперь поступить?
Взять документы. Пойти к герцогу, потребовать, чтобы его христианское происхождение было узаконено. Может быть, самому поехать в Вену. Теперь ему легко добиться дворянства и вполне официально получить звание обер-гофмейстера, а также председателя кабинета министров. Все это так. Хорошо, а потом? Разве сам он изменится потом? Ну да, ему будет легче вмешиваться в осуществление католического проекта. Князь-епископ Вюрцбургский не станет больше таиться от него, наглецы офицеры рта не посмеют разинуть. К фактической власти присоединится соответствующий сан и почет. Хорошо, ну а потом?
Разве он потом будет значить больше, чем сейчас? Нет, меньше. Таких государственных деятелей, каким он станет тогда, в империи наберется с полсотни. Тот ореол исключительности, неповторимости, необычайности, что окружает его теперь, улетучится. Теперь он министр-еврей. Это не шутка. Над этим смеются, издеваются, прикрывая смехом удивление и даже восхищение. Когда аристократ становится министром, чему тут дивиться? А вот еврей, который одиноко взбирается на самый верх, – это будет позначительней, чем целая свора аристократов. И этим пренебречь? Зачем? Для чего? В конце концов он ведь давно мог креститься. И, пожалуй, достиг бы большего, чем достигнет теперь, заявив о своем христианском происхождении. Быть христианином – значит быть одним из многих. Но на шестьсот христиан приходится один еврей. Быть евреем – значит быть презираемым, преследуемым, гонимым, но вместе с тем быть единственным, сознавать, что все взоры обращены на тебя, быть всегда собранным, натянутым, точно струна, всегда настороже, в полном обладании всех чувств.
Почему рабби показал ему эти документы ни с того ни с сего теперь, когда он давно уже перевалил за первую половину жизни? Чтобы не дать ему насладиться триумфом, который принесло ему дело Иезекииля Зелигмана? Чтобы вероломно лишить его законной доли священного достояния? Чтобы лукаво, издевательски посягнуть на высшую его ценность – единство со своим народом?
Искусный делец почувствовал, что его вовлекли в такую комбинацию, где с цифрами и выкладками далеко не уйдешь, где даже его испытанное знание людей отказывается ему служить. На какого дьявола понадобилось рабби именно теперь подсунуть ему эти письма? Что за цель он преследовал? Допустим, он, Зюсс, объявит себя христианином, какая же в этом будет выгода для рабби Габриеля? Он не мог отрешиться от привычной деловой точки зрения, согласно которой человек из каждого начинания стремится извлечь выгоду для себя и нанести ущерб партнеру.
Когда польские евреи, даже самые что ни на есть ничтожные и поганые, соглашались креститься, они получали дворянство. Почему же они не шли на это? Почему они, эти хитрые торгаши, отвергали выгоду, которая давалась им так легко? Что побуждало их предпочесть ей смерть? Благочестие? Вера? Убеждения? Значит, эти слова имеют какой-то смысл? И возможно ли, чтобы такому вот поганому польскому еврею было ведомо то, что сокрыто за этими глубокими, гулкими словами? Возможно ли, чтобы такое низшее существо было умнее в своем примитивном разумении, было лучше подготовлено к неведомому потустороннему миру, нежели он в своей многообразной премудрости? Он почувствовал себя ребенком, неустойчивым, беспомощным и одиноким.
Ныне он первый среди германских евреев. На его пути детей поднимали вверх, чтобы они увидели его, ревностно и выразительно жестикулируя, призывали на его голову все блага небес. Он вспомнил, как стоял в синагоге посреди трепетного молчания по природе шумливых и подвижных людей, а раввин кротким, дрожащим голосом изливал на него благословения, и умиленная, сладостная истома овладела им при этом воспоминании. Много потребуется решимости, крепко придется стиснуть зубы, чтобы от всего этого отказаться. Когда он добивался какого-нибудь успеха, конечно, приятно было красивым жестом швырнуть его в искаженное злобой лицо врага, приятно было порисоваться им перед женщинами, перед Магдален-Сибиллой, но полнее не было торжества, как предстать победителем перед Исааком Ландауером, посреди еврейского гетто, перед матерью. Здесь можно, не опасаясь язвительных слов и взглядов, спокойно насладиться своим успехом, просмаковать его до конца, зная, что и другие искренне радуются заодно с тобой. Здесь чувствуешь себя дома, здесь можно дать себе волю, не контролировать ни игры лица, ни жестов, ни слов. Здесь – мир и покой.
Да, мать. Значит, она – как это говорится? – преступила закон. Странно, что он из-за этого ни на волос не изменился к ней. Презирать, пожалуй, следовало того, кого он считал своим отцом – добродушного, деликатного, живого, приветливого, обходительного певца и актера. Удивительно, что и к нему Зюсс не испытывал иного чувства, кроме нежности. Как должен был этот человек любить его мать, чтобы ни разу не попрекнуть ее незаконным младенцем. Никогда не слышал он в детстве, чтобы тот сказал матери хоть одно грубое слово. А как нежно, внимательно, по-отечески обращался он всю жизнь с ним самим. Иначе как отцом Зюсс не мог даже и теперь мысленно называть его.
А благородные побуждения в истории с Иезекиилем Зелигманом, а жертва – неужели все это лишь выдумка, самообман? Комедия, которую он разыграл перед самим собой? В нем вспыхнул протест. Неужели же подъем, который он ощутил, одержав победу, то блаженное самозабвенное упоение, размягченность, жертвенность – все это только ложь и тщеславие? А злоба на Эдом, месть Эдому – пустая болтовня, пышные фразы, рассчитанные на то, чтобы поразить рабби Габриеля? Но ведь все это возвысило его, вывело из обычных узких пределов, подняло над самим собой! Ведь он верил, он знал, что в этом правда. А дитя? Значит, если бы ему не показали писем, он предстал бы с этой ложью на устах перед дочерью, веря в эту ложь, и тем самым вовлек бы в ложь и дитя! Нет, нет, это было бы невозможно. Так, значит, когда он решил выступить представителем Иудеи, ее мстителем и защитником против Эдома, это было неподдельным, искренним чувством. Уж и тогда оно было подлинным смыслом и рычагом его жизни. Он сын своей матери, а не отца.
Но как объяснить, что блеск и власть – поистине его стихия? Что ж, это вполне законно, это от рождения заложено у него в крови – все должно быть покорно ему! По праву наследства золото и блеск и власть достались ему так просто, пришлись ему точно платье, пригнанное по мерке. Потому-то герцога и влекло к нему, что он по наитию с полным доверием отдавал ему свое сердце. Он сын своего отца. Его право и долг выйти из рядов униженных и презренных, гордо стать на самом виду и предъявить свои законные притязания на имя, наследие и положение.
Мысли его путались. Как быть? Чего держаться? Золотыми нитями притягивала к себе власть; однако соблазн стоять в рядах презренных манил к себе ласково, но упорно. Заманчиво совсем сбросить броню, но и красоваться в золотых латах – тоже великое искушение и утеха.
Тот сон, что часто грезился ему наяву, возник снова. Ему привиделось, будто он скользит все в том же призрачном танце, герцог держит одну его руку, рабби – другую. А там впереди, разве то не отец его, фельдмаршал с сорванными эполетами, позвякивает в такт сломанной шпагой и размахивает родовыми грамотами? А тот монах позади, тот капуцин, ведь тоже его отец! Странно, что никак не распознать – сломанная ли шпага или четки висят у него сбоку? Но кто это там впереди с жиденькой бородкой, кланяется ему, так смешно подпрыгивая в долгополом кафтане? Должно быть, Исаак Ландауер. Нет, это не Исаак Ландауер, а Иезекииль Зелигман. Он пришел поблагодарить, он отвешивает шутовские поклоны, низко приседает и целует полу его кафтана, у него такой комичный и жуткий вид, когда он улыбается изувеченным пыткой лицом и, приседая, метет кафтаном землю.
Усилием воли Зюсс стряхнул с себя сумеречное оцепенение. Надо увидеть мать. Решать сразу нельзя; цифры и расчеты здесь ни при чем. Надо отдохнуть от этих мыслей, опомниться от этих глупых снов, надо поглядеть в лицо матери.
Он направляется к ней, но на пороге его встречает рабби Габриель. Широкое лицо кажется не таким каменным, как обычно, не так глубоко врезаны над приплюснутым носом три борозды, даже суровость его кажется мягче, теплей, человечней.
– Ты, должно быть, собираешься донести на меня? – спрашивает он насмешливо. – Твоя карьера только выиграет, если ты предашь меня церковному суду за то, что я так долго удерживал в ложной вере христианина по рождению.
И, видя, что Зюсс сделал решительный шаг вперед: – Или ты собираешься свести счеты с матерью? Побранить за то, что она так долго молчала? Поблагодарить за отца-аристократа?
Дикая, безумная ярость закипает в душе Зюсса. Как смеет этот человек предполагать, что он поспешит шмыгнуть под крылышко христианства?
Сколько иронии в его блекло-серых глазах, взирающих с недоступной высоты – так смотрит наставник, уличивший своего глупого питомца в нелепой, неискусной лжи. Уж не думает ли он оспаривать его еврейское происхождение, отмести, точно суетный обман, его жертву, его великие чаяния, коварно лишить его священного достояния?
Его возмущение против рабби, хоть и смутное, было искренне. Впервые он чувствовал, что прав перед ним без всяких уловок, впервые тот издевался над ним без оснований. Исчезла гнетущая скованность, которую обычно он ощущал в присутствии каббалиста, и вот внезапно явилось решение – долго неосознанным таившееся во мраке, возникло ясно и точно, как нечто должное, непререкаемое.
Ровным, деловым тоном он сказал:
– Я еду в Гирсау. К Ноэми.
Старик в изумлении рванулся к Зюссу. Лицо прояснилось, и с недоверчивой, но почти добродушной насмешкой он спросил:
– Мстителем Эдому?
Зюсс был невозмутим. Без горячности, убежденно и твердо он ответил:
– Она хочет меня видеть. Я предстану на ее суд.
Рабби Габриель взял его руку. Увидел его лицо. Увидел нечистое, неправедное, суетное. Но под этим увидел иное. Под кожей, мясом, костями впервые увидел иное, увидел свет.
– Да будет так! – сказал он, и голос его снова звучал сердито. – Поедем, пусть увидит тебя дитя!
ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ ГЕРЦОГ
По берегу Тивериадского озера прогуливался с любимым учеником своим, Хаимом Виталем, калабрийцем, учитель Каббалы, рабби Исаак Лурия. Из Мариамского источника напились мужи и выехали на озеро. Рабби говорил о своем учении. Умы их витали над озером, челн не шевелился. Воистину чудо, что он не тонул, ибо тяжесть жизни миллионов лежала на учителе и его слове.
Назад к источнику Мариам возвратились мужи. И напились снова. Тут вдруг струя изменила течение. Она взлетела в воздух дугой из двух отвесных лучей и одного поперечного. Внутрь дуги вступил рабби третьим отвесным лучом. Так из него, вкупе с источником, образовалась буква Шин, зачинающая имя бога всевышнего, Шаддаи. И буква все росла и простиралась над озером и простиралась над миром. Когда ученик Хаим Виталь опомнился от смятения, струя била по-прежнему, но рабби Исаака Лурия не было.
И это среднее звено священнейшей буквы было единственное, что он запечатлел из своего учения. Ибо слова его учения падали с уст его и были точно снег. Вот он здесь, он бел, он сверкает и дает прохладу; но удержать его нельзя. Так падали с уст его слова учения, и удержать их было нельзя. Рабби их не запечатлевал и не потерпел бы, чтобы другой запечатлел их. Ибо запечатленное есть искажение и смерть изреченного. Так и писание не есть слово божие, а личина и извращение, оно подобно валежнику перед живым деревом. Лишь в устах мудреца оно восстает и оживает.
Однако после исчезновения рабби ученик не мог устоять от соблазна и начертал слова его на бумаге болтливыми лживыми письменами. И так написал он книгу о древе жизни и еще написал книгу о превращениях души.
О, сколь мудр был учитель, что не осквернил познания своего письменами, что не исказил слова свои злыми чарами букв. Видения его посещал Илия-пророк, сны его – Симон бен Иохаи.[50] И явствен был ему язык птиц и деревьев, и огня и камня. Души тех, кто покоится в гробах, мог видеть он, и души живых, когда они в вечер субботний возносятся к небесам; и еще мог он видеть душу человека по лицу его, брать ее и говорить с ней, а потом отпускать ее к хозяину. Каббала раскрылась ему, ясна стала ему суть вещей, в одном теле видел он и разум и душу; воздух, вода и земля были полны голосов и образов, он видел в мире промысел божий, ангелы являлись ему и вели с ним беседу. Он знал, что все исполнено тайны, но перед ним тайна открывалась и ластилась к нему, как послушный пес. Чудеса цвели на пути его. Древо Каббалы проросло сквозь него, корни его уходили в недра земли, а крона овевала в небесах лик божий.
Увы, как исказилась эта мудрость в книгах ученика! Дикой порослью сплетались в них глупость и познание. Лжепророки и мессии вырастали из букв, колдовство и сумятица, молитвенный восторг и чудеса, и блуд и дурман власти, и подвижничество изливались из них в мир. Бледный лик Симона бен Иохаи глядел из этих букв, и в чаще его серебристой бороды укрывались и спасались мириады праведников и святых, и на письменах тех же книг бесстыдно расцветали голые груди Лилит, и от сосков ее питались, хмелея и лепеча и теряя разум, дети похоти и власти.
А вот слова тайного учения рабби Исаака Лурия Ашкинази:
«Бывает так, что в одном теле человеческом не одна душа осуждена свершать новое странствие, но что две души и даже более соединяются с этим телом для нового земного странствия. Может быть, что одна из них бальзам, другая же – яд; может быть, что одна жила в звере, другая же в священнике и ревнителе веры. И вот они обречены быть едины, принадлежать одному телу, как правая и левая рука. Они проникают и впиваются друг в друга, они взаимно оплодотворяются, они слиты, точно струи воды. И все равно, будут ли они крушить или укреплять друг друга, но, соединившись, души находят помощь себе для искупления вины, за которую осуждены они свершать новое странствие».
Вот слова из тайного учения рабби Исаака Лурия, орла среди каббалистов, что был рожден в Иерусалиме, семь лет отшельником предавался умерщвлению плоти на берегах Нила, принес мудрость свою в Галилею и творил чудеса меж людей, ни разу не осквернив учение свое письмом и бумагой, и таинственно исчез у Тивериадского озера на тридцать восьмом году жизни.
Князь-епископ Вюрцбургский с приятностью путешествовал по благодатной стране. Откинувшись на мягкие подушки рессорного экипажа, толстяк блаженно вдыхал легкий аромат первого плодового цвета; все вокруг купалось в весеннем солнце, точно нежный пушок покрывала молодая зелень землю, лес, кустарник. Епископ ехал в Штутгарт на крестины наследного принца. Он был в превосходном расположении духа. Что за дивная страна! Богатая, благодатная страна! Теперь она прочно закреплена за католической церковью и Римом.
Фридрих-Карл фон Шенборн, князь-епископ Вюрцбургский и Бамбергский, первый из клерикальных дипломатов, превозносимый католиками как величайший в мире оракул, как германский Улисс, поносимый и хулимый протестантами, как коварный змей, как Аман и Ирод, был веселый упитанный мужчина. Отличаясь живостью и светскостью манер, он был как дома при венском и папском дворе, объездил много стран, в силу многообразного опыта питал гуманное презрение к людям, видал благо мира в гуманном абсолютизме, в жизнерадостном католицизме. Чернь тупа, глупа и скучна, так угодно богу, такой создал ее господь, житейская мудрость гласит, что с этим нужно мириться. Очень прискорбно, что на свете столько горя – как же не оплакивать его? Впрочем, достаточно кое-когда вздохнуть над ним; вечно напускать на себя по сему случаю печаль либо в мрачной сосредоточенности помышлять об изменении естественного порядка вещей пристало глупцам и сомнительным мечтателям. Он же, Шенборн, провел лучшие свои годы в Италии, обучался дипломатическим навыкам в Венеции, он любил ясный южный воздух и у себя в Вюрцбурге, по счастью, тоже мог наслаждаться им. Католицизм его был глубоко органичен, он пил и ел, стоял и ходил по-католически. Он видел церковь такой, какой впитал ее всеми своими порами в Италии. Коллекции Ватикана были частицей ее, венецианская дипломатия была частицей ее, даже Альбанские горы были частицей ее. Все, что было прекрасно в мире, а такого, слава богу, немало, – мессы, и храмы, и вино, и произведения искусства, и государственные перевороты, и удачная проповедь, и хорошо сложенная женщина, – все красочное и радостное в мире шло от Рима и католичества. А все тусклое и смутное, туманное и пыльно-серое было евангелическим, саксонским, прусским. Не то чтобы он ненавидел протестантизм, ибо не было ничего в мире, что бы он ненавидел. Но протестантизм откровенно претил ему. Эта скучная трезвая церковная служба, это бледное, путаное, затхлое вероучение было дурно пахнущей простонародной мудростью и бесплодной болтовней. Сами апостолы, сойди они нынче на землю, ничего бы не поняли в той материи, о которой спорили так называемые богословы. Дышать было трудно в этой затхлой, пыльной атмосфере. Но, gloria in excelsis![51] – веселые швабские долы ныне освобождались от туманной пелены, и он, Фридрих-Карл, немало потрудился, чтобы впустить в страну свежий, католический воздух, столь соответствующий ее природе. А сейчас он ехал крестить будущего герцога по обряду истинной веры. Эх, хорошо все-таки устроен мир! Эх, хорошо в нем живется! И он радостно вдыхал теплый воздух, и шутил со своими мудрыми советниками, и раздавал ребятишкам монеты из окна экипажа, и благосклонно щурился на смазливую служанку трактира. Его тучный живот ублаготворенно колыхался, а от круглого умного лица шло окрест веселое сияние.
Но над страной он всходил, точно кроваво-красный зловещий диск месяца. Увы, победа, одержанная во время штетенфельзского инцидента, оказалась кратковременным просветом. Теперь стало ясно, что страна окружена кольцом, что плотно пригнаны петли сети. Чего стоили всяческие ограничения и рачительные реверсалии перед дьявольски хитрыми уловками вюрцбургских советников! И даже если бы удалось одолеть их, тщательно, пункт за пунктом опровергнуть их толкование герцогских обязательств, прок вышел бы небольшой; ибо за вюрцбуржцев стояла военщина, стояли штыки герцогской армии. После того как еврей отнял живот и добро, явился католик пожрать душу. Католичество означало отказ от собственной воли, отказ от всех личных и политических свобод. Оно означало военный абсолютизм, удар по всем гражданским доблестям и добродетелям, оно означало разнузданный произвол кучки растленных царедворцев над огромной безответной массой рабов. Католичество означало власть Вельзевула, бессовестный разгул, самовластие, непотребство, бражничество. Страна была подобна гусенице, пытающейся пробить кокон. Но билась она бесплодно. Еврей хорошо подготовил почву, католику оставалось пожать плоды. Запуганные наглым хозяйничаньем чиновников, пинками офицеров-католиков, покорно и тупо жались по кабакам обыватели, и единственным их откликом на предстоящий приезд вюрцбуржца было бессильное тупое зубоскальство. Дождались! Допрыгались! Но больше ни во что не выливался их гнев, и все они трусливым злопыхательством уподобились теперь свинорылому булочнику Бенцу.
Тайные советники Гарпрехт и Бильфингер оказывали веское и внушительное противодействие замыслам герцога. Но если им и удавалось кое-что отстоять в делах управления – это мало чего стоило. Они и сами понимали, что главная опасность надвигается с другой стороны – армия последовательно обращается в католичество. И эту угрозу они не властны отвратить, Не мудрено, что вюрцбургские советники, господа Фихтель и Рааб, невозмутимо и насмешливо проницательным оком следили за тщетными усилиями вюртембержцев, и, случалось, даже с иронически учтивым благожелательством делали им некоторые поблажки. Право же, забавно наблюдать, как напрасно выбиваются из сил честные тугодумы-протестанты, меж тем как сами господа католики выжидают, чтобы время помогло созреть их планам. Как за апрелем идет май, так за их замыслом неотвратимо должно последовать его осуществление.
Лишь один чувствительный афронт потерпели католики. Парламентский совет одиннадцати воспользовался легким недомоганием Вейсензе, чтобы заменить двоедушного хитреца стойким протестантом и демократом, государственным советником и публицистом Мозером, который столь примерно отличился при штетенфельзском инциденте. И вот теперь эти одиннадцать мужей сидели, злобствовали, неистовствовали, кляли. Бесстрашно и продуманно защищал интересы страны председатель совета Штурм, непотребно и грубо бранясь, ярились бургомистры Бракенгейма и Вейнсберга, патетически разглагольствовал Мозер, и с презрительно-мизантропической усмешкой в уголках губ мрачно давал свои заключения законовед Нейфер. Да, Нейфер уже не сидел на ступенях трона. Он увидел, что жестоко заблуждался – власть не мчится ураганом с громом и молниями, все сметая на своем пути; нет, она действует мелкими каверзами, ее орудия – недостойные увертки и убогие лазейки, – словом, с ней дело обстоит отнюдь не лучше, чем со свободой. И здесь и там от смрада не продохнуть, и будь то тирания или свобода, самодержавие или демократия – то и другое лишь лоскутное одеяло, мишурная мантия, которой драпируются подленькие, мелкие, ничтожные страстишки и чувства. Так уж лучше вернуться туда, откуда пришел, где твое место по праву рождения. Мрачно, с презрительно-мизантропической усмешкой отвернулся Нейфер от придворных интриг и вновь отдал весь свой вымученный напыщенный фанатизм на служение народу, парламенту и протестантам.
Но был ли протест деловитым, продуманно-веским, как у Штурма, или исполненным мрачного пыла, как у Нейфера, или выливался в площадную ругань, как у бургомистров Егера и Беллона, – плодов он почти не приносил. На многократные, обстоятельные претензии, жалобы, петиции, всеподданнейшие представления парламента из герцогской канцелярии либо отвечали высокомерно краткой отпиской, либо не отвечали вовсе. Зато до парламентариев доходили грубые речи герцога, в которых он грозился послать к ландтагу батальон гренадер, дабы вразумить парламентских каналий, как уже однажды вразумил их один из его предшественников. Неоднократно выражался он в таком духе, что вскоре размозжит голову этой вероломной и мятежной гидре. Одна из претензий парламентского совета касательно вопроса об опеке была составлена особенно заносчиво и неумно. Получив ее, Карл-Александр пожелал, чтобы тайный советник Фихтель, признанный лучшим знатоком конституционных законов, своим авторитетным словом подтвердил, что никакому ландтагу не дозволено заявлять протесты и возражения в столь оскорбительной для особы государя форме, составитель подобного документа заслуживает того, чтобы ему сняли голову с плеч. Аудиенции представителей ландтага у герцога приводили к таким же плачевным результатам. Грубиянские выпады бургомистра города Бракенгейма однажды довели Карла-Александра до такого бешенства, что он ринулся на невежу, дабы шпагой плашмя поучить его, как подобает вести себя верноподданному; насмерть напуганному депутату едва удалось улепетнуть.
Так обстояли дела, когда Иоганна-Якоба Мозера избрали в совет одиннадцати на место Вейсензе. Он был самым молодым членом совета, но, хотя ему едва перевалило за тридцать, он немало насмотрелся на своем веку; вспыльчивый, самонадеянный, обуреваемый авантюрной жаждой перемен, любитель трескучих фраз и патетических жестов, бойкий писака и страстный полемист, этот неутомимый человек с юных лет набивал себе голову множеством разнообразных знаний. Семнадцати лет от роду он уже печатал полемические статьи, в девятнадцать умудрился так поразить герцога Эбергарда-Людвига своей бойкой самоуверенной сметливостью, что был назначен экстраординарным профессором в Тюбингенский университет. Двадцати лет пристроился к венскому двору, получил звание государственного советника и успел втереться к самому императору. Во избежание сплетен его отозвали в Вюртемберг. Но с этим твердолобым честолюбцем не было никакого сладу, вскоре он уже очутился в Пруссии, стал ректором провинциального захудалого университета во Франкфурте-на-Одере, очень быстро оставил эту неблагодарную должность и при Карле-Александре возвратился в Штутгарт. Все эти годы он строчил и говорил беспрерывно целыми каскадами, не было темы, злободневной или всемирно-исторической, на которой он не испробовал бы свое красноречие и перо. При этом у него, поначалу скептика, а затем деиста, хватило досуга предаться пиетизму и встать в ряды Лютеров, Арндтов, Шпенеров и Франке.[52]
Своим стремительным и дерзким вмешательством в штетенфельзский инцидент он привлек к себе всеобщее внимание и отныне считал себя призванным спасти Вюртемберг. Полагаясь на свой ораторский дар, он решил прямым путем пойти к герцогу, как пророк Патан к Давиду, и настойчиво, убедительно воззвать к совести государя, к его человеческим чувствам. Уверенный в могущественном воздействии своей личности, он испросил себе аудиенцию и в превосходном расположении духа, вооруженный всеми своими публицистическими, юридическими и пророческими навыками, отправился к герцогу, взвинтив и настроив себя на высокий лад, как актер перед выступлением в удачной роли.
Но аудиенция обернулась самым неожиданным образом. Карл-Александр принял его в присутствии Зюсса. Мозер не смутился этим обстоятельством. Он говорил с воодушевлением, научно обоснованно, приводил нравоучительно-богословские аргументы, примеры из священной, а также древней и новой истории, сочетал доводы государственной законности с доводами житейской справедливости, черпал сравнения из мира природы – словом, сам находил себя неотразимым. Герцог и еврей слушали внимательно; более того, когда Мозеру, в пылу красноречия шагавшему взад и вперед, попалось на дороге кресло, герцог собственноручно отодвинул его, чтобы тот не споткнулся. Но когда оратор после двадцатиминутной речи остановился, подняв картинным жестом руку, герцог похлопал его по плечу и сказал одобрительно:
– Если ребенок, которого ждет герцогиня, будет мальчик, преподавать ему риторику придется тебе.
Зюсс же сделал ряд замечаний по поводу различия между принципами немецкой и французской декламации. И когда Карл-Александр, ухмыляясь, отпустил вспотевшего огорошенного оратора, тому оставалось только мысленно возопить: «Несчастная страна! Несчастное отечество! Даже я бессилен помочь тебе».
Таким образом, у вюрцбургского князя-епископа были все данные для наилучшего настроения, когда он въезжал в Штутгарт. Обстоятельства складывались столь благоприятно, что крестины швабского наследника означали победу католического дела не только в пределах Вюртемберга. В связи с этим обряд крещения был совершен весьма торжественно при большом стечении представителей католических династий и аристократических родов. Сам папа по этому случаю послал герцогине через своего легата рыцарский крест Мальтийского ордена.[53] Только две дамы, кроме нее, имели этот крест – испанская королева и римская княгиня Учелла.
Мария-Августа грациозно покоилась на гигантской парадной кровати, тонкое личико ее стало совсем прозрачным. Амулет Зюсса с первобытными, грозными птицами и массивными, зловещими буквами лежал у нее под подушкой, невзирая на запрет духовника; она лукаво улыбалась, представляя себе, как бы злобствовал патер, знай он об этом. Она была твердо убеждена, что спас ее только амулет, ибо разрешение от бремени было длительным и тягостным. Теперь, когда роды прошли, она очень боялась, как бы фигура ее не была испорчена надолго, и медикам, доктору Венделину Брейеру и доктору Буркарду Зеегеру, приходилось без конца заверять ее, что ни единая отметина или складка не будут порочить тело ее светлости. Но скорее чем врачам, верила она уговорам бабки Барбары Гольц, которая с крайним апломбом подтверждала слова врачей, ссылаясь на свой богатый опыт. Вообще же Мария-Августа находила положение весьма комичным. Она с любопытством разглядывала человечка, которого произвела на свет. Итак, она – да! да! она – подарила стране наследника, и она с не меньшим любопытством созерцала самое себя в зеркале, оправленном в раму чеканного золота: значит, теперь она в полном смысле слова мать отечества. Курьезно, очень курьезно.
Карл-Александр еще толком не знал, как себя вести; он засыпал жену подарками без особого разбора, проявляя больше добрых намерений, чем хорошего вкуса. Когда герцогине разрешили принимать посетителей, она переводила томный взгляд с Ремхингена на Риоля, наслаждаясь замешательством мужчин, непривычных к детям и с трудом выжимавших из себя восторженные замечания по поводу августейшего младенца.
А князь-епископ Вюрцбургский совершил обряд крещения над наследным принцем Вюртембергским и Текским, наследным графом Мемпельгардским, наследным графом Урахским, наследным сеньором Гейденгеймским и Форбахским и прочая и прочая, и нарек его именем Карл-Евгений.
Пушечная пальба, колокольный звон. Парадный банкет, фейерверк. За поздравление потчуют жарким, за благие пожелания – вином. И как ни клял народ наследного принца-католика, к середине дня от жаркого не осталось ни кусочка, а в бесчисленных бочонках – ни глоточка вина.
Зюсс держался совсем в тени все время празднеств. Прежде он любыми способами подлаживался к вюрцбургскому епископу и его свите, теперь же как будто намеренно избегал их. Вюрцбургские дипломаты и военные всецело завладели католическим проектом, лежавшим отныне в основе швабской политики. И если раньше господа католики готовились всеми возможными хитростями и уловками отстранить финанцдиректора, то теперь им пришлось убедиться, что он сам, как это ни странно, уклоняется от всего связанного с этим вопросом.
Теряясь в догадках, они искали тут подвоха и подозревали, что еврей воздействует прямо на герцога. Но и у Карла-Александра Зюсс не показывался без зова. Герцог все еще не мог простить еврею, что, вмешавшись по его милости в эслингенскую историю, навлек на себя насмешки всей империи, и при встречах либо вовсе не замечал Зюсса, либо всячески показывал свое раздражение и досаду, а тот, против обыкновения, держался невозмутимо и независимо и даже не пытался вновь завоевать доверие государя.
В своей деятельности он строго ограничивался управлением финансами.
Прежде он, на правах финанцдиректора, проверял каждый винтик правительственного механизма, ибо все так или иначе связано с деньгами; теперь же он отклонял почти все, что предлагали ему на рассмотрение, как непричастное к его ведомству. Государственные мужи поглядывали на него с недоверием, стараясь разнюхать его скрытые коварные побуждения, и ежились в страхе, как бы такое подчеркнутое бездействие не оказалось подготовкой к неожиданному наскоку.
На сей раз, правда, уход еврея от дел не сказался, как было однажды, задержкой притока денег, и за это герцог мог благодарить курцфальцского советника, дона Бартелеми Панкорбо, которого теперь почти не отпускал от себя. Тощий португалец с сизо-багровым костлявым лицом звериной хваткой впивался во все, что выпускал из рук Зюсс, неумолимо, будто до скончания веков, завладевал каждым местечком, которое освобождал тот, жадно пожирал все, что не успел поглотить Зюсс. Трудным, крайне сложным и разветвленным финансированием католического проекта он ведал почти единолично; а в связи с этим к нему перешел и верховный надзор за государственными делами.
Да, он вторгся в сферу, непосредственно подлежавшую ведению Зюсса. Так, например, обстояло дело с табачной монополией. После ряда неудачных попыток некая еврейская компания открыла наконец в Людвигсбурге табачную фабрику. Предприятие это пользовалось особым покровительством Зюсса и было поставлено на широкую ногу, филиалы его имелись не только в Штутгарте, Тюбингене, Теппингене и Бракенгейме, но и за пределами страны. А в Курцфальце табачная монополия принадлежала дону Бартелеми Панкорбо, и он, как знаток этого дела, нашептал герцогу, что с евреев слишком мало взимают в казну за монополию, и предложил вносить больше. Зюсс уступил без боя при первом же нажиме, с большим для себя уроном удовлетворил притязания еврейских компаньонов и отдал образцово налаженную фабрику озадаченному и злорадствующему португальцу.
Зюсс усмирил и светский вихрь, который вился вокруг него. Теперь случалось, что он затевал любовную интригу и обрывал ее, соскучившись и утомившись прежде чем достигнет цели. Среди бесчисленных женщин, деливших его ложе, покинутых и в большинстве своем позабытых им, иные подхватывали любую клевету, маравшую его; иные хранили пережитое в памяти, как нечто запретное, щекочуще-сладостное, точно украшение, которым, увы! можно любоваться перед зеркалом, лишь запершись на ключ, и эти молчали, если заходила речь о нем; иные стояли на его дороге, когда он проезжал мимо, улыбались, не отводя глаз, стояли, пока он не исчезал из виду, не пеняли на него за то, что он так скоро бросил их, не уставали мысленно благодарить его за краткие часы счастья и, как драгоценный дар, берегли в памяти слова, которые он говорил бог весть скольким из них и которые сам давно успел позабыть.
В ту пору у Зюсса раскрылись глаза на его слугу и секретаря Никласа Пфефле. Он всегда хорошо относился к медлительному, неутомимому, хладнокровному толстяку, как относятся обычно к таким исключительно полезным, надежным слугам. Но что у этого слуги, помимо полезности и надежности, есть и другие свойства, что у него есть побуждения и переживания, независимые от его господина, это теперь впервые стало понятно Зюссу.
Он почти не изменил своего обращения с Никласом Пфефле. Совершенно невозможно и даже немыслимо было бы заговорить с бледнолицым толстяком о чем-либо, не относящемся к делу. Но тон его стал другим, взгляд стал другим, отношение стало теплее, человечнее.
И кобыла Ассиада чуяла, что господин ее другим человеком сидит на ней. Быть может, не гарцевал он теперь так величаво, как прежде, быть может, в народе проведали, что его рука не одна держит кормило власти; но только кобыла Ассиада чуяла, что она для него теперь не просто вещь, как его кафтаны, украшения, домашняя утварь; нет, теперь он видит ее глаза и сознает, что единая жизнь струится в нем и в ней.
Вскоре после происшествия с табачной монополией, в то время как в Штутгарте и Людвигсбурге велась лихорадочная подготовка к осуществлению католического проекта, шел сговор с другими католическими дворами и государями, заключались военные соглашения и делалось все возможное, чтобы очернить парламент перед императором и всей Германией, а также умиротворить протестантские дворы, в то время как Панкорбо, в поисках новых денежных источников, все глубже внедрялся в области, подвластные Зюссу, он – этот непостижимый человек – внезапно совсем устранился от дел, испросил себе отпуск, поручил хранение всех ценностей Никласу Пфефле и один, без провожатых, покинул столицу с неизвестными намерениями.
Он поехал в Гирсау. В этом непривычно одиноком путешествии он самому себе рисовался необычайно благородным и возвышенным. Подумать только, что одним-единственным словом, одним признанием он мог окончательно привлечь на свою сторону герцога, самому стать центром католического проекта, а злобных, радостно зубоскаливших соперников отшвырнуть в сторону. Подумать только, что он просто разжал руки и точно мусор выбросил великими трудами завоеванную, ни с чем не сравнимую, для всех на свете вожделенную цель. До чего он благороден, до чего далек от мирской суеты, до чего бескорыстен! Он постарался придать лицу выражение суровой отрешенности и жреческого бесстрастия, он приневолил свое ловкое изящное тело к величавой медлительности, а крылатые, беспокойные глаза к задумчивой грусти.
Если прежде он для своих посещений выбирал время, когда каббалист отсутствовал, то теперь он стремился встретиться с ним. Самозабвенная преданность девочки казалась ему естественным, почти заслуженным ответным даром судьбы. Хотя лицо, голос, повадки отца уже при первом его посещении показали Ноами, сколь пусты и шатки наветы магистра, она была теперь несколько смущена его новым обликом. Она видела в отце Самсона, сокрушающего филистимлян, Давида, сокрушающего Голиафа. Новый его облик не совсем подходил к этим представлениям, и пусть мимолетно, но назойливо на передний план, дразня и угнетая, выступало другое лицо, лицо Авессалома, чьи пышные волосы запутались в ветвях, а черты сливаются с чертами отца.
Зюсс был глубоко уязвлен, что каббалист не оказывает ему того уважения и почтения, какого он теперь, казалось бы, заслуживал.
– Ты понял, что должен искать правильный путь, – сказал ему однажды рабби Габриель. – Это уже не мало. Но пути ты пока что не нашел.
В тиши белого домика с цветочными клумбами Зюсс вернулся мыслями к судьбе своего отца, обдумывал ее, разглядывал со всех сторон. Прежние сомнения осаждали на досуге его беспокойную душу. Если он объявит себя христианином по отцу, кто посмеет его осудить? Разве он не убедительно доказал, что умеет смиряться? И разве этот искус не дал ему права восстать из смирения к величию, подобающему ему? Что, если он перережет веревку, которая тянула его вниз, к отверженным, едва он поднимался хотя бы на одну ступень? Что, если он стряхнет с себя грязь и брезгливое презрение толпы, которые облепляли его, потому что он был евреем? Что, если он возьмет за руку свое прекрасное дитя, как арабский калиф откинет маскарадные лохмотья и во всем блеске, так что врагам его будет не до зубоскальства, предстанет перед ними, не только первым среди них по дарованиям, нет, равным им, как христианин и аристократ от рождения?
Тюльпаны величаво обступали его мечты, как ослепительно белый кубик стоял дом. Мимолетной тенью мелькали за его мыслями замысловатые очертания магических фигур, массивные еврейские буквы, схематическим силуэтом вырастал небесный человек, цвело каббалистическое древо.
Его отец… Жил в славе, докатился до позора, умер в монастыре. Да, счастье покинуло его, жизнь оттолкнула от себя, удача изменила. Что оставалось ему, как не погнаться за спасением души? Кому не было удачи, тому приходилось прятаться от мира, углубляться в себя. У него, Зюсса, дело обстоит по-иному. Удача ему благоприятствует. Жизнь покорно ластится к нему.
Он встрепенулся. Перед ним стоял дядя. Неужто он накрыл его? Вот соглядатай, вот шпион, который ловит каждую мысль, чтобы потом корить ею человека. Увы, так беспечно, как прежде, ему больше не жить. Осуществи он то, на что имеет полное законное право, объяви себя христианином, он всегда, как озноб по спине, будет ощущать леденящее презрение этого смешного, дурно одетого старика. Ах, хорошо бы жить по-прежнему! Принимать каждый день таким, каков он есть! К чему эти нелепые ненужные колебания? Только бы вытравить из жил ядовито-приторный гнилостный соблазн, гнездящийся в этом доме, соблазн потустороннего мира, смирения и отречения.
Пришла Ноэми. И он сразу укрылся под личиной умиротворенности и бесстрастия.
Пока он метался между вымученным, кичливым смирением и лихорадочной жаждой деятельности и почестей, неожиданно явился Никлас Пфефле. Сообщил, что назначенная герцогом комиссия опечатала счетные книги и наличность Зюсса, чтобы произвести ревизию. Финанцдиректор заподозрен в грандиозных жульнических аферах, как приватных, так и по службе; отдан приказ начать уголовное следствие.
Враги Зюсса воспользовались его отсутствием для решительного натиска. Друзей, на которых он мог бы положиться, у него почти не осталось. Начальник дворцовой канцелярии Шефер и тайный советник Пфау открыто примкнули к военно-католической партии и публично нападали на него. Управляющий коронным имуществом Лампрехтс забрал своих мальчиков, состоявших у него пажами, под предлогом, что они уже вышли из такого возраста. Ремхинген, оба Редера – генерал и майор, полковники Лаубски и Торнака, камердинер Нейфер непрерывно наговаривали герцогу на еврея. Из приближенных герцога только Бильфингер и Гарпрехт не участвовали в травле. Посланцы иезуитов претили им еще больше, чем еврей.
А дон Бартелеми Панкорбо с давних пор пристально следил за зюссовской торговлей драгоценностями. Он доложил герцогу, что все покупки на ювелирном рынке еврей делает от имени герцога. Но дело в том, что цены на драгоценные камни весьма неустойчивы; когда они дешевеют, Зюсс, случается, год спустя объявляет скупленные по дорогой цене камни собственностью герцога; когда они дорожают, он мигом делает их своей собственностью. Таким образом весь риск и все убытки еврей сваливает на государя, а весь профит прикарманивает сам. Однако, к великой досаде португальца, Карл-Александр оставил его разоблачения без внимания; лишь равнодушно заметил, что Зюсс на то и еврей; впрочем, в дальнейшем надо будет последить за ним. Делать отсюда какие-либо серьезные выводы он отнюдь не собирался.
Как ни странно, но самое безобидное мероприятие Зюсса помогло его врагам подкопаться под него. Финанцдиректор издал приказ, согласно которому чистку печных труб берет на себя городское управление, и за это со всех обывателей взимается соответствующий налог. Это распоряжение вызвало смех и недовольство, а камердинер Нейфер подсунул Карлу-Александру живо состряпанный пасквиль – листок с мерзкими иллюстрациями и заголовком: «Всеподданнейший благодарственный адрес всех вкупе ведьм и чертей его иудейскому сатаничеству еврею Иозефу Зюссу Оппенгеймеру, составлен и вручен прабабкой всеобщей полуночной компании, Эндорской цыганкой».[54] В то время как герцог читал этот листок, старые видения встали перед ним. Ему привиделось, будто он скользит все в том же таинственном, подневольном танце, он слышал скрипучий, сердитый голос мага, он слышал, да, физически слышал его молчание, видел, как невысказанное надвигается на него многоруким, безликим чудовищем. Он хотел вырваться из окаянных колдовских пут. Зачем он держит при себе еврея? Сколько он терпит из-за него насмешек и неприятностей! Побагровев, пыхтя, сильно припадая на одну ногу, зашагал он взад и вперед по кабинету. Он с ним разделается, с шельмой, с жуликом, и с его плутовскими и колдовскими фокусами. Охрипнув от бешенства, продиктовал он приказ о ревизии и точной проверке книг и счетов финацдиректора.
И засуетился начальник канцелярии, и засуетились генералы, и засуетился португалец, высовывая из брыжей сизо-багровое лицо и словно нацелясь клюнуть ястребиным носом. Ревностно засели за дело ревизоры, потели, корпели, приглядывались, нацепив очки, скрипели перьями по бумаге. Вычисляли, выискивали, вынюхивали. Возводили колонны цифр, целые чащи цифр. Рассыпали их и снова собирали. Корпели, глазели, потели.
А между тем, загоняя и меняя на каждой станции коней, мчался в Штутгарт финанцдиректор. Это следствие против него, этот подкоп и удар были ему знамением. Счастие, рок хочет, чтобы его ловили, брали силой. Надо держаться за него всем существом, надо неотступно стремиться к нему всеми чувствами, всей волей, а не то оно отступится и отлетит. Если бы штутгартская шатия не почуяла его усталости, никогда бы она не отважилась на такое дерзкое и открытое нападение.
Поэтому он, под непосредственным впечатлением от вестей Никласа Пфефле, стремительно пустился в путь. Уж он не видел широкого окаменелого лица дяди, уже не помышлял о том, насмешка или скорбь глядит на него из блекло-серых глаз, торопливо и небрежно стер из памяти грусть дочери. Об одном лишь помышлял он, поспешая верхом, в экипаже, одно лишь обдумывал со всех сторон: как быть? как теперь быть?
То, что проделали его противники, было вопиюще глупо. Каким же ослом надо его считать, чтобы надеяться найти хоть малейшую неисправность в его счетах. Что за чурбаны эти гои – ни нюха, ни чутья! Зюсс невольно усмехнулся: ну, нет, он им не сродни.
Он быстро прикинул. Найти им ничего не удастся. Как же они тогда поступят? Признаются, что были к нему неправы? Ни за что! Скорее ухватятся за какую-нибудь дурацкую формальность и мягко поставят ему на вид высосанную из пальца погрешность в делопроизводстве. Более крутые меры, надо полагать, не входили в планы и самого Карла-Александра. Решено было проучить его, чтобы он не слишком зазнавался. Итак, дело ограничится легким порицанием. Пожалуй, разумнее всего будет с виду признать правоту герцога, который и не думает гневаться всерьез, молча выслушать его отеческое наставление, зато потом крепко прибрать к рукам все дела, сторицей отплатить противникам и любыми способами вмешаться в осуществление католического проекта.
И вот уже опять встал роковой вопрос: почему бы сразу не козырнуть своим происхождением? Нет, нет, все это было бы к лицу прежнему Зюссу. Теперешний – преисполненный смирения и отрешенный от мира, должен вести себя по-иному. Конечно, наглое вторжение противников в его дела было знамением и указанием свыше. Но он не из таких, чтобы позволить судьбе испытывать себя. Не тут-то было! Он сам вырвет у рока его загадку, заставит поднять плотно сомкнутые веки.
Решение твердо сложилось у него, когда загнанные лошади были уже в виду столицы. Каждый шаг его пути, каждое слово, которое он произнесет, лежали перед ним как на ладони. Не умом возьмет он, не деловитостью, не дипломатией. Он примет вызов судьбы. Пойдет к герцогу просить отставки. Даст ее государь, – что ж, такова воля рока. Он смирится, поселится в уединении, уйдет от мира, как его отец. Если же герцог его не отпустит, тогда, о, тогда, – мстителем, врагом будет он жить отселе. Дорогой ценой заставит заплатить за свое унижение. Схватить врагов за горло! Зажать! Сдавить! Придушить!
При дворе ожидали, что Зюсс будет защищаться увертливо, речисто, по-адвокатски; либо начнет припоминать свои заслуги, патетически отстаивать свою невинность; либо разъярится, разбушуется. Ничего похожего. Спокойно отправился он к герцогу. Ни словом не возразил на бешеные выкрики и град попреков. Лишь когда герцог остановился перевести дух, он в сдержанных, продуманных выражениях попросил об отставке. В возмещение случайных просчетов он оставляет все свое недвижимое и движимое имущество. Когда герцог, сперва онемев, а затем, заикаясь от злости, разразился неистовой бранью, он вежливо и невозмутимо повторил свои слова.
Видя, что Карл-Александр, хромая, с занесенной рукой устремляется на него, он ретировался, но напоследок повторил, что просит возможно скорее удовлетворить его тщательно продуманное всепокорнейшее ходатайство.
Тут призвал к себе Карл-Александр обвинителей. Сдавленным от бешенства голосом спросил, могут ли они предъявить доказательства. Хрипя, излил на запинающихся, отпирающихся дрожащих людей потоки нецензурной, грязной, площадной ругани. У еврея больше ума в заднице, чем в их напичканных дрянью головах. Ему самому непонятно, как он мог поддаться на их нелепые наговоры, подсказанные бессильной завистью и оголтелой злобой. Еврей ему куда милее, чем они – безмозглые христианские плуты. Сердито, без единого слова отослал он Зюссу его бумаги вместе с богатым презентом и дарственной на обширные поместья. Слиняв от страха, забились по углам враги. Почти без борьбы вернул себе Зюсс утраченные позиции. От католического проекта он по-прежнему держался в стороне; зато мертвой хваткой впивался там, где дело касалось его интересов.
И вот он восседал, облеченный прежней властью, натягивал поводья, и всякий в герцогстве чувствовал его руку. Все происшедшее за время его отсутствия было пересмотрено, исправлено. Распоряжение об очистке дымовых труб, которое успели отменить, теперь было окончательно узаконено. Летучие листки исчезли, только булочник Бенц в нужнике «Синего козла» показывал своим приятелям благодарственный адрес полуночной компании его иудейскому сатаничеству. А управляющий коронным имуществом Лампрехтс снова отправил сыновей на службу к еврею; он одумался, – они еще не слишком велики, чтобы быть пажами.
Таким образом, с виду положение Зюсса в Штутгарте было прежним. И снова он погрузился в шумную суету светской жизни. Только сам он держался более властно, не так предупредительно. Он позволял себе ядовитые, злые шутки и не давал спуску, когда потешались на его счет. Генерала Ремхингена, который принялся как-то, по своему обычаю, грубо издеваться над его происхождением, он оглядел с ног до головы и с головы до ног, и когда у генерала под его загадочным, пристальным, угрожающим взглядом пропала охота зубоскалить, еврей, в свою очередь, рассмеялся в лицо генералу жестоким и жутким смехом.
Мария-Августа с огорчением отметила, что ее придворный еврей уже далеко не так мил и забавен. Увы, и многое другое стало менее забавным!
Отношения между герцогом и Зюссом тоже изменились. Карл-Александр очень много времени проводил с ним, щедро расточая ему свое благоволение, дабы искупить недавнюю несправедливость. Однако про себя он часто думал, что хорошо бы избавиться от еврея. Но ничего не предпринимал в этом направлении, оправдываясь тем, что еврей слишком много знает и может ему порядком насолить; да и глупо выпускать его из страны, когда он до такой степени отъелся и разжирел на ней. Он сам себе не признавался, что его связывает с евреем и одновременно отталкивает от него более властный и таинственный внутренний голос.
И теперь случалось, что у Зюсса внезапно опускались руки, он погружался в себя, застывал, точно скованный, чуждый всему. И тогда из угла, куда его загнали, высовывал обтянутый кожей череп дон Бартелеми Панкорбо и острым взглядом из-под морщинистых век впивался в солитер на руке еврея. Щурился, протягивал к добыче крючковатые пальцы, точно когти хищника. Но теперь он стал очень осторожен и довольствовался тем, что высматривал и нащупывал.
Мария-Августа, обнаженная, стояла перед зеркалом, потягивалась и озирала себя. Тревожно, тщательно, черту за чертой, одну часть тела за другой. Вздохнула с облегчением, улыбнулась. Нет, нет, она не изменилась, она не изуродована. Она по-прежнему свежа, гибка и стройна. Маленькими пухлыми ручками она трогала, ощупывала свое тело. Оно было по-прежнему мягким и все же упругим. Томными с поволокой глазами пристально и беспристрастно разглядывала она в зеркале свое пастельное личико. Тяготы долгой беременности, адские муки родов не оставили по себе ни единой отметинки, ни единой морщинки. Ясный, безупречно гладкий лоб покато выступал из-под блестящих черных волос, ни единая складка не прорезала щек и не спускалась к ярко-красным губам. И обнаженная женщина обрядовым жестом не то жрицы, не то вакханки подняла руки под углом к голове, так что обнаружились темные завитки под мышками, и, улыбнувшись влажным ртом, изгибаясь, точно в пляске, прошлась по комнате. О, она еще струится по земле легким ручейком, тело еще покорно ей, а движения непринужденны и гармоничны. И она плавно потянулась, улыбка обозначилась явственнее. И день открывался перед ней лучезарный и беспечный.
Но в следующую ночь тревога вновь подкралась к ней, навалилась, сдавила, перехватила дыхание. И на другой день она еще дольше стояла перед зеркалом, еще дольше изучала каждый изгиб своего тела, упругость мышц и гладкость кожи. Болезненный, панический страх перед старостью томил ее. Страшно подумать, что волосы ее поседеют, кожа сморщится, мышцы станут дряблыми. И она будет ковылять через силу, кашлять, харкать. Мужчины будут рады поскорее отделаться от обязательного поцелуя руки и официальной беседы, женщины перестанут ей завидовать. Глаза ее туманились, когда она думала об этом, она была отравлена этими мыслями.
Едва ей приходило на ум, что ребенок ускорил ее увядание, как она начинала злиться на младенца. Он был ей чужд, он совсем не был частью ее, непостижимо, как могло это существо вырасти в ее чреве. А ребенок родился крупный, здоровый, от отца он унаследовал большой нос, оттопыренную нижнюю губу; и при этом казался миловидным и смышленым. По общим уверениям, ребенок был очень к лицу Марии-Августы и она в роли матери весьма авантажна и умилительна, но сама она не находила в себе более глубокого чувства к младенцу, чем к экзотическому карликовому пинчеру, который, как она знала, являет премилое зрелище, когда выглядывает из-под подола ее широкой робы.
День ее по-прежнему был до краев полон пестрым шумливым весельем. Но сама она стала беспокойней и раздражительней. Господин до Риоль понемногу прискучил ей, его едкое острословие уже не находило в ней отклика, еврей тоже стал менее забавен и не так покорно следовал любой ее причуде. Ремхинген и его неуклюжие сальности просто опротивели ей. Зато она теперь привлекла к своему кружку депутата Иоганна-Якоба Мозера и всеми силами пыталась стать Омфалой[55] этого видного мужчины и самовлюбленного оратора.
Для государственного советника это было большой удачей. Хотя у герцога и Зюсса достало благородства, не делясь с посторонними, про себя насладиться его поражением, однако его честолюбие потерпело тяжкий афронт. Теперь, в лучах милости и благоволения герцогини, он воспрянул, точно поникший колос в ясную погоду. Черт подери! Какой же он молодчина, если сама Мария-Августа, чья красота славится по всей Европе, первая дама в Германии, ему, противнику, так откровенно показывает свое расположение. Мелкие парламентские душонки, должно быть, негодуют, как это он, демократ, великий тираноненавистник, столь охотно бывает при дворе. Но пускай тупицы думают, что хотят: он чувствует себя подлинным Улиссом, способным устоять против швабской Цирцеи.
Итак, он, великолепный, самонадеянный гордец, боялся упустить каждый час, который ему было дозволено провести у герцогини. Он присутствовал на утреннем приеме, в то время как она принимала ванну, он сидел на деревянной покрышке, над которой выступала только ее голова. Он разглагольствовал бойко, с неизменным пафосом. Большие глаза его сверкали на тяжелом лице цезаревского типа, шпага ритмично раскачивалась, слова беспрерывным потоком лились с уст. И в пылу красноречия этот швабский Демосфен так потрясал своей крупной головой, что пудра осыпалась с парика. Он ораторствовал перед герцогиней на любые темы, читал ей статьи, предназначенные для газет, и более объемистые опусы и брошюры по теологии, юриспруденции и политической экономии, трактаты по вопросам дня, а также по эстетике, ботанике, минералогии; ибо Иоганн-Якоб Мозер был большой эрудит. И все он излагал с одинаковым жаром и с глубоким выражением. Обычно Мария-Августа слушала не очень внимательно; пока он говорил, она была поглощена своей куафюрой или маникюром и даже читала «Mercure galant», часто она не могла бы сказать, читал ли он по-немецки или по-латыни. Но равномерный шум, который столь виртуозно производил новый Цицерон, ласкал ей слух, кроме того, ее забавляло созерцание статной, подвижной фигуры этого самозабвенного фигляра и приятно щекотала мысль, что такой демократ и враг государей, наперекор своей воле, с юношеским пылом и скрежетом зубовным влюблен в нее. Порой, когда он устремлял на нее восхищенный и настойчивый взгляд своих больших, туповатых глаз, она отвечала ему долгим, уклончивым взглядом и смеялась, видя, как он краснеет и прерывисто дышит. Он же, возвратясь домой, обстоятельно и многословно рассказывал жене о красоте герцогини и ее явном благоволении к нему, меж тем как его сердце прикрыто тройной броней. И, упав на колени, он вместе с женой пламенно и весьма складно молился богу о ниспослании ему силы в случае чего бежать, оставив одежду свою в руках герцогини.
Из женщин Мария-Августа по-прежнему отличала своей дружбой одну Магдален-Сибиллу. Ей она льстила и, ластясь, обращалась к ней, как глупенькая младшая сестренка к всезнающей старшей сестре. Ах, какая Магдален-Сибилла умная и рассудительная, какое у нее знание жизни и чуткая совесть! В ее собственной головке мысли порхали пестро и сумбурно, точно яркие мотыльки, и все пережитое мигом улетучивалось, не оставляя следов. А Магдален-Сибилла бережно хранила в памяти все слова и события, обдумывала и усваивала их, проникалась ими. Потому и была она богата опытом и знанием, а сама герцогиня казалась перед ней несмышленым ребенком, хоть и носила корону и с полным правом звалась матерью отечества и даже была пожалована мальтийским крестом.
Магдален-Сибилла относилась к ней со сдержанным дружелюбием, силясь, насколько возможно, вникнуть в это неуловимое, непостоянное создание. Правда, порой ей становилось страшно при виде такой порхающей беспечности. Существует ли эта непостижимая женщина, живущая лишь во имя своего обожаемого тела, которую ничто не трогает, ни муж, ни ребенок, ни страна, существует ли она в действительности или она призрак, сотканный из воздуха, мираж, бездушная, красочная тень?
Рослая девушка со смелым очерком смуглых щек вдруг ощутила усталость. Померк глубокий блеск синих глаз, неправдоподобно необычных при темных волосах, по-женски плавными и вялыми стали движения крепкого тела. Она утомилась борьбой, перегорела, утихла и уже не склонна была яростно возмущаться и негодовать.
Она прошла через самоотречение и экстаз евангелического братства, ей были внятны слова и смысл Писания, она зрела бога, апостолы садились у ее постели и веди с ней беседу. А потом она увидала в лесу дьявола и, воспылав священным огнем, пустилась в путь, дабы одолеть лукавого. А тут явились герцог и еврей, затопили потоками грязи и опустошили ее сад. Все цветы и плоды, деревья и побеги заглохли и прогнили, а когда вода сошла, не осталось ничего, кроме мокрого бесплодного ила.
А затем подоспело объяснение с Зюссом. Несмотря на первое разочарование, она смотрела на него как на великое животворящее светило и всем существом раскрывалась ему навстречу, каждой клеточкой тела и души, с безоговорочной, беспредельной преданностью тянулась к нему. Но он был тем светилом, которое не греет, которое сурово, безжалостно и неприступно свершает свой путь. Все силы душевные она положила на то, чтобы его постичь, и, покоренная им, лучше чем кто-либо разгадала сложность его натуры, увидела, как он одинок, прочувствовала его борьбу, поражение, временное бессилие и новый подъем. Но страсть ее, как затаенная так и открытая, не встретила отклика; он держался с ней учтиво, доверчиво и дружелюбно, только сладострастный пыл в нем угас.
На этот раз она не впала в отчаяние: она примирилась. И продолжала идти своим унылым, безрадостным путем. Она рассуждала ясно, трезво и хладнокровно; ей бы следовало стать хозяйкой крупного поместья; дворянин-землевладелец, не чуждающийся света, но проще и уверенней чувствующий себя в деревне среди своих крестьян, был бы ей подходящий парой. Но злая звезда увлекла ее на ложную стезю. И сама она тут не без вины: Вельзевул не является незваным. Если бы она не томилась по нем в потаенных глубинах души – он бы ей не привиделся тогда в лесу. Как бы то ни было, поздно помышлять об этом. Она обречена участвовать в придворной жизни, которая представляется ей бессмысленной суетливой возней пестрых зверей, а единственный человек среди них, к кому ее влечет тысячью нитей, теперь из-за своей доверчиво дружелюбной учтивости стал ей, увы, куда более чужд, чем был когда-то дьявол в Гирсауском лесу.
Теперь она чаще ходила к слепой Беате Штурмин. Святая уж не была в ее глазах глупой старой девой; собственное одиночество и тишина, в которой замкнулась она сама, казались ей менее гнетущими в присутствии умиротворенной, благочестивой и по-своему мудрой женщины. Здесь она порой почти физически ощущала эту тишину, как мягкий и теплый плащ.
У Беаты Штурмин она нередко встречалась с городским деканом Иоганном-Конрадом Ригером, лучшим проповедником в Штутгарте, и с его младшим братом, Эмануэлем Ригером, советником экспедиции. Иоганн-Конрад – проповедник – не мог сдержать свое необузданное красноречие даже в мирной обители слепой. Человек он был незлобивый и честный, но к чему зарывать в землю талант, дарованный ему милостью божьей? И он расстилал перед слушателями, дабы усладить их, красивые, полнозвучные слова, точно драгоценный бархат. Магдален-Сибилле словоохотливый пастор напомнил Иоганна-Якоба Мозера, которого она иногда встречала у Марии-Августы, и однажды она простодушно и без всякой похвалы упомянула о публицисте и его ораторском искусстве. Но тут обычно незлобивый пастор запылал гневом и стал громить сатанинскую гордыню этого говоруна, понеже вообще светская риторика есть измышление и наваждение дьявола; слепая с трудом укротила его гнев против мирского конкурента, и он наконец, поворчав, смирился.
Эмануэль Ригер, советник экспедиции, почтительно и благоговейно слушал речи своего прославленного брата. Это был невысокий, худощавый, невзрачный человечек; чтобы придать своему юношески застенчивому лицу немного мужественности, он, вопреки моде, носил усы. По натуре своей он был склонен видеть в каждом человеке одно добро и очень огорчился, что брат его столь отрицательно отзывается о всеми уважаемом публицисте; но, по скромности своей, не осмелился выразить несогласие иначе, как еле заметным протестующим жестом. У него, усердного и добросовестного чиновника, была глубокая внутренняя потребность чтить великих людей, в этом был его отдых и единственная отрада, и прослыть в его глазах великим человеком не составляло груда. На свете встречалось немало людей, которых господь щедро наделил высокими дарами, а ему выпала доля с благоговением и непритворным восторгом смотреть на них снизу вверх и радоваться, что в доме святой ему доводится встречать столько поистине замечательных мужчин и женщин.
На Магдален-Сибиллу он взирал с раболепным обожанием, мысленно преклоняя колена. Вот это женщина! Вот это страстотерпица! Сколько ей, чистейшей из жен Швабской земли, пришлось выстрадать, сколько смертной муки принять, когда еретический монарх обратил на нее взор. Обратил на нее взор, другое выражение он не осмелился бы употребить в самых дерзновенных мыслях. И с каким достоинством носила святая жена, одаренная всеми телесными и душевными прелестями, свой терновый венец!
Изредка решался невзрачный робкий человечек сказать ей несколько слов. Он не говорил о своем беспредельном обожании, на это он бы никогда не отважился, он говорил об одном общем знакомом, магистре Якобе-Поликарпе Шобере из Гирсау. Магдален-Сибилла усмехалась легкой двусмысленной усмешкой. Ах, Гирсау! Ах, добродушный, толстощекий, упитанный магистр! Запах печеных яблок и благочестиво-унылые песнопения о небесном Иерусалиме сливались в ее памяти. А советник экспедиции Ригер продолжал говорить о магистре; смиренно, обстоятельно и с великим почтением рассказывал он о его стихах, о песне «Забота о хлебе насущном и упование на бога», а также о второй – «Иисус – лучший математик», и Магдален-Сибилла тихо и мирно внимала степенным речам советника экспедиции.
На нее целительно действовало безграничное, благоговейное обожание, которым непритворно дышало его существо. Придворная жизнь, хотя Магдален-Сибилла и старалась ограничиться обязательными визитами, все же сталкивала ее со множеством людей, которые чопорно и судорожно замыкались перед ней, держали себя неестественно, не умея найти верный тон, ввиду ее особого положения. Она была одновременно метрессой герцога и пиетисткой и подругой герцогини-католички, – все это никак не вязалось между собой, сбивало с толку. А потому в каждом, с кем ей приходилось сталкиваться, она вызывала смутное сочетание насмешки, смущения, неловкости, наглого любопытства и подобострастия, так что простых, искренних человеческих слов она почти не слыхала. Вот отчего наивное, непритворное обожание Ригера было ей отрадно.
Она все сильнее тосковала о покое и скромной жизни. Буйной и бесплодной суете двора, блеску и тяготам власти приписывала она то, что око души Зюсса было закрыто для нее, и придворные нравы становились ей все более противны. В ней смутно бродила исконная глухая ненависть ее предков к блистательным и беспокойным повелителям; в роду ее матери был один из вождей восстания Бедного Конрада,[56] преданный позорной казни. Все проще становился обиход ее дома близ городских ворот, сама она одевалась все солиднее и скромнее, когда только было возможно – не носила пудреного парика. Карл-Александр с самого начала не знал, о чем с ней говорить, и не порывал этой связи только потому, что считал ее полезной для себя и популярной в народе; теперь же он был в полном недоумении, но ограничивался тем, что растерянно покачивал головой, так как и герцогиню все это скорее забавляло, чем шокировало.
Но один человек с глубокой, бессильной горечью и скорбью следил за тем, как омещанивается Магдален-Сибилла, – ее отец, Вейсензе. Он никогда не искал доверия дочери, наоборот, в гирсаускую пору он даже тяготился строгой задумчивой девушкой. И все же она была его идеалом и тайной гордостью. Она была не той породы, что остальные люди. Она была выше, тоньше их. Ее окружала ей одной присущая атмосфера, и даже скептик, говоря с ней, хоть и улыбался, но становился невольно мягче и почтительней. Вейсензе, человек большого ума и трезвого суждения, сам знал, что у него, при всех дарованиях, нет подлинной внутренней силы, зиждительного ядра; а у Магдален-Сибиллы это ядро было, ее походка, дыхание, голос свидетельствовали о природной душевной полноценности, и он видел в ней свое завершение, усматривал оправдание себе в том, что она дитя его чресел. Он даже мысленно, про себя, не осмеливался критиковать ее. Кем бы она ни была: светской дамой или святой, – она все равно была недосягаемо далека от обыкновенных людей, она была другой, как смысл и цель более возвышенного недоступного мира. Когда же явился герцог и растоптал ее, как ни потрясло, ни подкосило это отца, ее образ у него в душе остался нетронутым. Она была Афина Паллада, в обличье швабской девушки сошедшая к смертным, или по меньшей мере полубогиня.
Но когда она стала все более омещаниваться в одежде, речах и образе жизни, рухнул и этот его заветный идеал, самый крепкий оплот и верный аргумент против укоров совести и гложущей неудовлетворенности. Да, она, эта женщина, не только представлялась мещанкой, она по сути своей была мещанка. А остальное все только личины: и фанатичка братства филадельфов, и мраморно-холодная герцогская метресса, пренебрегающая своим всемогуществом, ибо душой она обитает на другой планете. Рассудительная мещанка, живущая буднями и свыкшаяся с ними, – вот что оказалось окончательным ее образом, пошлой и смешной действительностью. Сделайся она актрисой, побродяжкой, герцогиней, девкой, святой, – ничто бы не поколебало его веру в нее. Только это ей не годилось, до уровня рядовых, честных, пошлых, скучных обывателей она опуститься не смела, это убожество, эта душная, затхлая атмосфера ей не годилась.
Тонким чутьем уловил он, что и в этом окончательном будничном воплощении Магдален-Сибиллы повинен еврей. Но и теперь он не поддался жажде дешевой мести. В нем лишь усилилось любопытство, утонченное, непонятное, щекочущее, сверлящее любопытство: как бы в подобном случае поступил Зюсс? Как бы изменилось его лицо, его поза, его руки? Это любопытство кололо Вейсензе точно иглой, захлестывало его, когда он засыпал, свербя и жаля всползало от крестца по позвоночнику, всецело завладевало им.
С верой в дочь рухнули и последние внутренние препоны. Он давно знал, что его положение при дворе и содействие католическому проекту в конце концов окажутся несовместимыми с участием в малом парламентском совете. Но все же, когда, придравшись к временному недомоганию прелата, его в очень деликатной форме исключили из совета одиннадцати, он был больно уязвлен. Теперь он, ни с чем не считаясь, открыто перешел на сторону герцогского правительства. Будучи умнее и принципиальнее грубоватого Ремхингена и алчного Панкорбо, он не принял участия в кознях против Зюсса, не поверив в мнимое безразличье и бессилье еврея. Зато теперь ему легко было стать связующим звеном между творцами католического проекта и финанцдиректором, без которого, очевидно, ни одно дело не могло сладиться.
На дому у Зюсса он встретился с капуцинами из Вейля-города, а также с одним итальянским патером и с уполномоченным князя-аббата Эйнзидельнского. Правда, отправляясь на такие встречи, Вейсензе порядка ради входил во дворец Зюсса с заднего крыльца, но происходило это среди бела дня и на виду у всех, так что самая таинственность носила характер вызова. От старых друзей – Бильфингера и Гарпрехта – он все более удалялся; и они серьезно, скорбно, но без ненависти следили за тем, как он погружается в омут нечестия и бесчестия.
С каждым днем Вейсензе все более вкрадывался в доверие к герцогу, без стеснения пользуясь щекотливым положением незаконного тестя. Пускал в ход все свое знание людей, чтобы угодить нраву Карла-Александра, и герцог, не простивший еще своим ближайшим советникам козней против Зюсса, с которым теперь тоже чувствовал себя неловко и неспокойно, благосклонно принимал льстивую угодливость Вейсензе. Те мелкие услуги, которые ранее были на обязанности еврея, как, например, оплату личных расходов, поставку и отставку женщин, незаметно и ловко взял на себя председатель церковного совета.
Вюрцбургский тайный советник Фихтель не мог нарадоваться, что его досточтимый друг стал подлиннейшим царедворцем: куда приятнее видеть, что доверенным и приближенным лицом при герцоге состоит милейший Вейсензе, а не двуличный еврей, с которым так трудно найти общий язык. Тайный советник считал, что председателю церковного совета вполне подобает пользоваться влиянием и властью, и, частенько посиживая вместе с ним и попивая горячий кофейный напиток, он осторожно, обиняками подавал своему другу советы, как поощрить и упрочить доверие к нему государя.
Чтобы крепче привязать к себе Карла-Александра, Вейсензе толкал его на путь извращенного утонченного распутства, и тот, сам по себе человек нормальный, хоть и не находил вкуса в такого рода наслаждениях и предпочитал пищу попроще, однако для своей репутации монарха и светского человека считал обязательным отведать и этих пикантных блюд. Прелат добывал ему женщин, которые ему, в сущности, не нравились, но зато были апробированы в пресыщенном Париже, добывал также французские секретные возбуждающие снадобья; все глубже заводил его в сад с отравленными плодами, и вскоре герцог не мог уже обойтись без своего ментора. Как ни странно, но герцогиня не одобряла этой дружбы. Она отнюдь не была строга в вопросах морали, она любила слушать рассказы на скользкие темы, и лицо у нее при этом принимало сосредоточенно задумчивое, мечтательное выражение; ей было по-своему дорого лицо ее отца, лицо многоопытного эпикурейца, покрытое сеткой порочных морщинок. Но физиономия Вейсензе, быть может оттого, что порочность его была не органической, а надуманной, принадлежала к тем немногим, которые отталкивали ее.
Карл-Александр имел обыкновение устраивать многолюдные, блестящие охоты и тратить на них огромные деньги. Так, он приказал вырыть в одном из своих лесов большой пруд, чтобы загонять в него дичь. Во время одной из таких охот Вейсензе предложил поехать поохотиться совсем маленькой компанией. Ведь охота вроде нынешней – это скорее повод для представительства, нежели увеселение. Герцог согласился с ним. Немного погодя председатель церковного совета как бы вскользь упомянул о превосходных, изобилующих дичью лесах вокруг Гирсау; пожалуй, не худо бы для разнообразия побыть там инкогнито несколько деньков, без удобств охотничьего замка, без свиты, отдохнуть от бремени власти, словно простому сельскому дворянину насладиться радостями охоты в обществе двух-трех кавалеров. А уж какая для него честь принять его светлость в качестве гостя в своем доме – об этом и говорить по приходится. Карл-Александр с готовностью ухватился за эту мысль, Вейсензе выбрал удачную минуту для своего предложения; вдобавок оказалось, что герцог всего два раза был в знаменитом монастыре. Поездку назначили на ближайшее время и для сохранения инкогнито решили держать ее в большом секрете.
Начиная с этого дня у Вейсензе обнаружилась необычайная предприимчивость и воодушевление. Он помолодел, походка сделалась гибче и живее, умные глаза его глубоким блеском взгляда пронизывали все окружающее. Он усиленно искал общества Зюсса, старался быть поближе к нему и с легкой циничной усмешкой на тонких, похотливых губах, наклонив узкую породистую голову, словно принюхиваясь, внимательно слушал, когда тот говорил. Незаметно для Зюсса окидывал его пристальным взглядом, жадно вбирал в себя его облик, и тот вздрагивал как в ознобе, не понимая, что с ним, терял пить рассказа и наконец умолкал.
Рабби Габриель покинул дом с цветочными клумбами и отправился в одну из своих одиноких поездок. С запада на восток пересек Швабию, побродил по торжественным старинным улицам Аугсбурга, сопутствуемый пугливым любопытством. Приехал, встреченный тупым недоверием, в живописную резиденцию баварского курфюрста. Свернул на юг в горы. У реки широко раскинулся пестрый, шумный базар. Дальше долина сжималась, шла зигзагами, и дорога следовала за бесконечными извивами быстрой, пенисто-зеленой реки. Вверху на лужайке между большими бурыми громадами камня виднелся охотничий замок курфюрста.
Дорога разветвлялась. Рабби Габриель вступил в густой, нескончаемый лес. Стал подниматься вдоль русла бурливой речки, которая становилась все уже и, звонко, весело журча, пробивала себе путь сквозь темную чащу. Каббалист перешел границу и вступил в императорские владения. Местность была пустынна, полна великого молчания; после двухдневного странствия он увидел там, где долина реки вновь расширялась, кучку убогих домишек вокруг маленькой церковки и заночевал в этом селении.
Несколькими милями дальше высокая гряда гор перегораживала долину, параллельно которой шла до тех пор. Немного раньше в стороны отходили три боковые долины, образованные горными ручьями, которые впадали в главный поток. Путник свернул в первую из этих долин. Она поднималась довольно отлого, манила уютом и покоем, лесистые склоны окружали ее. Он пошел второй. Она была очень коротка, поднималась вверх неприступной кручей и упиралась в полукруг гигантских, сурово обнаженных бурых скал. Он пошел третьей долиной. Эта была длиннее и шире остальных. Ручей, образовавший ее, падал менее отвесно, местами терялся совсем, уходил под землю. Рабби Габриель добрел до болота, поросшего ивняком. Выше виднелся заброшенный шалаш, – должно быть, последнее жилье в здешней местности.
День был облачный, нежаркий, но душный. Полный старик дышал тяжело, с трудом пробирался без дороги.
Позади шалаша долина внезапно расширялась. И тут рос клен, необычный для такой высоты. Дальше еще клены. Целая роща. Стройные старые деревья стояли очень тихо, не было ни ветерка, ни единый листик не шевелился. Сквозь сетку ветвей неясно проступали, широким охватом неумолимо замыкая долину, гигантские белые стены гор, таких высоких, что сквозь сотку ветвей не видно было их вершин. Душной пеленой нависал воздух, роща старых, величавых блекло-зеленых деревьев, казалось, волшебством была перенесена сюда, в горы, из южных краев; почти осязаемо стлалась глубокая, гнетущая тишина, вся недвижимая долина была зачарована, человеку отсюда не было выхода, точно он дошел до края света.
Рабби грузно, с легким стоном утомления опустился на землю под деревом. Он вынул письмо Зюсса, написанное древнееврейскими буквами и выдержанное в тоне оскорбленной невинности. Старик вглядывался в начертания букв, впитывал их в себя. Потом склонил голову к коленям, силясь вызвать перед собой образ человека, который гнался за его душой, человека, к которому он был прикован. Надо помочь ему! Помочь заблудшей душе обрести свет, чтобы собственной, связанной с ней душе легче дышалось.
Но в этой долине трудно было углубиться в себя. Ох, как тяжко давит грудь недвижимый воздух! Быть может, Самаил,[57] отец зла, наслал сюда своих могущественных духов, удручить его, отклонить от его задачи? Избави душу мою от меча и живот мой от власти нечестивого!
Зловеще недвижимо, точно мертвецы, стояли непривычные для здешних мест деревья. Повсюду демоны, бесформенные и в мириадах форм, окружают человека и смущают того, кто стремится к вышнему миру. Души умерших обречены во искупление грехов обитать в мире вещей, обречены обитать в звере, растении и камне. В жужжащей пчеле воплощена душа болтуна, во зло употребляющего слово, в полыхающем пламени – душа преступившего против целомудрия, в немом камне – душа злоречивого и клеветника. Рабби Исаак Лурия, мудрейший среди людей, видел души, что отлетели от тел, а также души живых, когда они в субботний вечер возносились к райским кущам.
О, если бы ему дано было увидеть душу того человека! Обратиться к ней, обратить ее, спасти ее. Душа человека, мятущегося на земле в погоне за одними земными благами, по смерти растекается водой. Не зная покоя, волнуется она в воде, распадаясь, дробясь, распыляясь каждое мгновение на тысячи частиц. Знали бы люди, какова эта мука, они бы плакали, не осушая глаз. Человек, беспокойный, мятущийся, одержимый! Думай, думай об этом, человек!
Тяжелее навалился на него гнет, стеснил дыхание, заставил встряхнуться. Отовсюду из листвы тысячи глаз смотрели на него, то были золотисто-карие, проникновенные глаза, то были – и сердце замерло у него – глаза Ноэми. И они взывали, молили настойчиво, жалобно заклинали его: «Спаси!»
«Спаси!» – взывали они все настойчивее, в смертной тоске молили его, не переставая ни на миг. Он провел рукой по лбу, чтобы прогнать видение, откинул голову, взглянул ввысь. Там обрывки облаков застыли, не уплывая, причудливыми очертаниями. И вдруг он увидел, что они образуют буквы, две еврейских буквы, гласящие: «Спаси!» Прочь отвел он лицо и увидел, что ветви дерева, под которым он сидит, образуют те же буквы: «Спаси!» То же и корни: «Спаси!» Тогда вскочил он, тяжело дыша, обливаясь потом, небо пересохло, по спине прошел мороз, все внутренности и грудь сдавило точно обручем. Он пошел назад. Ручейки по горным склонам, извивы потока повторяли те же буквы, вся безмолвная долина была точно одни уста, ее склоны, камни, воды молили, заклинали его, кричали в тоске и страхе: «Спаси!»
И полный старик в тяжелой одежде бегом стал спускаться из долины, едва переводил дух, спотыкался, падал и бежал дальше. Добрался до людского жилья, стремительно свершил обратный путь верхом на мулах, на лошадях, в экипаже. За спиной он ощущал испуганный, молящий взгляд золотисто-карих глаз, и, подгоняя, заклиная, взывая, в мозг впивались буквы: «Спаси!»
В Гирсау, у Вейсензе, в тихих просторных покоях с пышными занавесами вместе с хозяином сидели герцог, увертливый тайный советник Шютц с крючковатым носом и крикливый майор фон Редер с бесформенными, почти всегда затянутыми в перчатки лапами. Здесь еще витали детские мечты и видения Магдален-Сибиллы, отцу еще представлялось, как она сидит за книгой в мирном свете лампы, с детски сосредоточенным, замкнутым выражением лица. Она представлялась ему прежней: не по-женски смелый очерк смуглых, покрытых пушком щек, ярко-синие глаза, странно контрастирующие с темными волосами. Каким светом и упованием когда-то сияло ему это лицо! И, увы! Как леденяще уныло оно померкло.
В покое, еще полном его надежд, его трудов над комментарием к библии, еще полном девичьих грез, теперь бражничал и горланил в пьяной компании разошедшийся герцог.
Карл-Александр чувствовал себя молодым, свежим, несокрушимо здоровым. Зеленый мундир был широко распахнут, жилет расстегнут, белокурые с проседью волосы не покрыты париком. Гениальная мысль – приехать сюда поохотиться! В Людвигсбурге и Штутгарте дела превосходны, у католического проекта все шансы на успех. А в опере новая актриса, Илонка, которая ему весьма по вкусу: пожалуй, следовало прихватить ее с собой. Впрочем, нет, так лучше. Днем – только ветер в лицо, вечером – вино да добрая, сочная мужская беседа. Никаких баб! Никакой политики! Никакой парламентской сволочи! До чего же молодо себя чувствуешь! Совсем не замечаешь, mille tonnerre! своих пятидесяти лет. Еще можешь смеяться да радоваться клочку леса и удачному выстрелу.
Нейфер суетился, разливая вино. В полумраке, вдали от светового круга лампы, молча примостился чернокожий. Карл-Александр сидел, вытянув ноги, Много пил, гулко хохотал над грубыми сальностями Редера и тонкими остротами Вейсензе, над скабрезными анекдотами господина фон Шютца, которые тот преподносил с достойным видом, сильно гнусавя и пересыпая рассказ французскими словечками. Затем сам принялся рассказывать солдатские истории и приключения своей венецианской поры.
С угрюмым злорадством слушал Вейсензе. Ведь, в сущности, еврей виноват и в том, что ему приходится марать свои чистые покои этой похабщиной и несносным вздором. Ничего не поделаешь, раз хочешь что-то узнать, раз тебя донимает любопытство, так и плати за него. Оно стоит того, оно того стоит!
Когда гости, отяжелев от вина, собрались спать, Вейсензе сказал герцогу, что приготовил к завтрашнему дню сюрприз. Он всепокорнейше предлагает выспаться завтра как следует, потом со вкусом отобедать, а потом он поведет его светлость в лес и покажет свой сюрприз.
– Вейсензе! – захохотал герцог. – Старый лис! Превосходительный председатель! Я тобой доволен. Каждый день умудряешься откопать что-нибудь новенькое. Ты прелат хоть куда. – Он похлопал Вейсензе по плечу и, пошатываясь, отправился в опочивальню.
На следующий день, пыхтя от изобилия яств, дыша испарениями старых вин из погребов большого знатока Вейсензе, компания тронулась в путь. Сперва проезжей дорогой, затем в сторону – узкой колеей. Тут оставили экипажи, отправились пешеходной тропинкой и очутились перед крепким, очень высоким забором. Деревья мешали взгляду проникнуть дальше.
Итак, они стояли перед забором. Дул теплый ветер. Винные пары еще не совсем улетучились. Мужчины пыхтели, потели, острили. Значит, вот где запрятан сюрприз; а стоящий ли? Пусть бы Вейсензе хоть намекнул слегка. Тот убеждал не жалеть усилий и первым полез через забор. Остальные последовали за ним, кряхтя и отдуваясь. Пошли дальше, раззадоренные, возбужденные, заинтригованные.
Добрались до цветочных клумб, до белого кубика дома. Стояли, смотрели. Смутные представления вспыхивали в мозгу Карла-Александра: Венеция, Белград. В растерянности глазели все на эту странную белую штуку посреди швабского леса.
– Дом принадлежит магу, – сказал Вейсензе, – дядюшке господина финанцдиректора.
Озадаченные, тупо недоумевающие лица. У герцога поднялась легкая тошнота от вина, он почувствовал себя вдруг отяжелевшим, хромая нога давала себя знать после скверной, кочковатой лесной тропинки. С неосознанным смятением глядел он на дом, ему смутно почудилось, будто оттуда на него смотрят окаменевшие, блекло-серые глаза.
– Магу? Вот как? – сказал он хриплым, сдавленным голосом. – Верно! Сюрприз хоть куда.
– Это еще не все, – усмехнулся Вейсензе, растягивая тонкий, чувственный рот. – Не угодно ли вашей светлости подойти поближе?
Карл-Александр встряхнулся, откашлялся.
– Кстати, старый колдун кой-чего не договорил мне, – загромыхал он. – Вспугнем-ка филина в его гнезде!
Еще ближе подошли кавалеры, постучали и, так как никто не отозвался, ввалились в дом. Старый, дряхлый слуга вышел им навстречу: чего им надобно?
– Твоего хозяина.
– Он в отъезде. И все равно он никого не принимает, – хмуро добавил старик. Тогда они только осмотрят дом, заметил Вейсензе. Что это им взбрело на ум, сварливо заворчал слуга. Пускай убираются. Тут посторонним делать нечего.
– Заткни глотку! – рявкнул несдержанный майор Редер.
Но старик твердил упрямо и сердито:
– Тут посторонним делать нечего. Тут никто не может распоряжаться, кроме моего господина.
– И герцога Вюртембергского, – сказал Кард-Александр. И все проследовали мимо огорошенного слуги в дом. Пугливо и насмешливо оглядели фолианты, рисунки каббалистического древа, небесного человека, невиданные письмена. Обменялись ироническими замечаниями насчет всей этой ахинеи. Но таинственность комнаты сдерживала привычную шумливость, они невольно робели и говорили приглушенными голосами.
– Черт побери! – заорал вдруг Карл-Александр, пытаясь спугнуть смущение. – Ведь мы же не в церкви. Подай вина, Нейфер! Раз старого чародея нет дома, мы попробуем чарами доброго вина привлечь в свою компанию его духов.
– А не лучше ли будет сперва осмотреть другие комнаты? – предложил Вейсензе. – Может быть, набредем еще на что-нибудь. – И он принюхивался тонким длинным носом и шарил по углам умным беспокойным взглядом.
Пока Нейфер откупоривал вино, они осмотрели остальные несколько комнат маленького домика. Перед одной из дверей стояла Янтье, толстая болтливая служанка, она старалась удержать посетителей. Но они оттолкнули ее и втиснулись в комнату. Там в дальнем углу сидела девушка в восточном уборе. Ее огромные глаза выражали испуг, возмущение, протест. И посетители отпрянули перед прелестью матово-белого лица, иссиня-черных волос, красноречивых, проникновенных глаз.
– Ну тебя к дьяволу, – вполголоса выругался герцог. – Вот что припас себе мой еврей! Вот что он прячет от меня, шельмец! Один желает лакомиться таким деликатесом.
Между девушкой и посетителями по-прежнему было несколько шагов расстояния. Все затихли. Ноэми вскочила и стала позади кресла, забившись в самый угол. Мужчины, ошеломленные необычайностью этого явления, застыли подле дверей.
Молчание прервал учтивый, мягкий голос председателя консистории:
– Барышня – дочка господина финанцдиректора. – И в ответ на изумление разинувших рты кавалеров любезно усмехнулся: – Да, это и был мой сюрприз.
– Черт подери! Черт подери! – раскатисто повторил несколько раз кряду майор Редер; других слов он не находил. Но герцог, оправившись от удивления, загорелся энтузиазмом и, пожирая ее большими голубыми глазами, рассыпался в восторженно-галантных новомодных комплиментах:
– Чудо что за девочка! Головка будто вырезана из эбенового дерева и слоновой кости. Точно легенда полуденных стран.
Тайный советник Шютц находчиво подхватил:
– Финанцдиректор – несомненный гений; но порождение его чресел еще совершеннее всех плодов его ума.
Вейсензе молчал. А мог бы он, тонкий знаток, живописать красоту девушки на потребу герцогу куда ярче, чем сам Карл-Александр вкупе с холодным Шютцем и грубым Редером, который не успел подобрать иных похвал, кроме похожего на икоту: черт подери! черт подери! Но Вейсензе безмолвствовал. Он лишь глядел на девушку, оглядывал ее с головы до ног, и улыбка на его чувственных губах расплывалась все шире. Н-да, почтеннейший господин тайный советник по финансовым делам, это в самом деле сокровище, которое стоит беречь как зеницу ока. Восьмое чудо света! Иудейская Венера! Глаза прямо из Ветхого завета. И на вид такая, что на нее приятно не только смотреть. Магдален-Сибилле являлись апостолы и вели с ней беседы. А к этой, пожалуй, являются пророки. Вы были хитрее меня, господин финанцдиректор, и все-таки оказались недостаточно хитры. Вам следовало припрятать ее подальше и ненадежнее. Voila! А теперь посмотрим, какую курьезную мину состроите вы.
Тем временем остальные продолжали восхвалять красоту девушки. Даже господин фон Редер обрел красноречие и сказал:
– Кто бы подумал, что у старого лиса такой детеныш?
А Ноэми, натянутая как струна от ужаса и возмущения, по-прежнему стояла в углу и смотрела на мужчин.
– Как же ваше имя, мадемуазель? – спросил герцог. И, не получив ответа:
– Суламифь? Саломея? Прикажете положить чью-нибудь голову к вашим ногам?
Но Ноэми молчала, извиваясь от острого до боли ужаса и отвращения.
– Застенчивость она унаследовала не от отца, – изрек господин фон Шютц.
А майор фон Редер грубо и нетерпеливо рявкнул на нее:
– Отвечай, жидовское отродье, когда тебя спрашивает твой государь.
– Заткни глотку, Редер! – приказал Карл-Александр. И ласково, как с ребенком, заговорил с прижавшейся в угол, запуганной девушкой: – Я ничего тебе не сделаю, я тебя не съем. Ах ты пугливая газель! Мимоза! Что ж ты так жеманишься?
Янтье, служанка, тем временем пробралась к девушке; толстая, добродушная, стояла она рядом с ней в отчаянном страхе и растерянности.
– Я ведь в самом деле твой повелитель, – продолжал, теряя терпение, Карл-Александр, – твой и твоего отца благорасположенный герцог и государь. Скажи же наконец, как тебя зовут?
– Барышню зовут Ноэми, – отвечала вместо нее служанка.
– Добились-таки, – удовлетворенно проворчал Редер. – Ноэми – потешное имя! – и фыркнул при этом.
Но герцог потребовал:
– Подойди сюда, Ноэми! Поцелуй руку своему государю!
Служанка принялась нежно убеждать девушку, слегка подталкивая ее вперед. Медленно, опустив глаза в землю, шла она, словно ее тащили силой, и жадным взглядом в радостном возбуждении следил за ней Вейсензе.
Потом все отправились в кабинет выпить. Требовали, чтобы девушка чокалась с ними. На стенах цвело каббалистическое древо, переплетались массивные буквы и непонятные фигуры, застыл в созерцании небесный человек. Девочка пригубила. Но дольше удержать ее не удалось. Она убежала, заперлась у себя в комнате, трепеща, дрожа всем телом, холодея от страха.
А в кабинете, за выпивкой, господин фон Шютц, указывая на магические знаки, отметил:
– Раньше здесь пахло хедером и кладбищем. Теперь здесь пахнет Парижем, парфюмерией и «Mercure galant», а весь мистический дух выветрился. Удивительное дело: стоит появиться такому свеженькому созданию – и от чар самого премудрого мага не останется ни следа.
Затем компания тронулась в обратный путь. Редер и Шютц впереди, дальше герцог и Вейсензе, за ними Нейфер. Грузный герцог доверчиво опирался на тонкого, стройного Вейсензе.
– Это ты ловко подстроил, – одобрил он, – тут мы еще немало повеселимся. Что за хитрец и тихоня мой еврей! Ну, мы его так допечем, что он у нас будет краснеть и бледнеть.
Но не таковы были намерения Вейсензе. Уйти сейчас, а потом немножко подтрунить над евреем, только и всего? Не для того он старался. Еврей хитер, еврей знает, что за сокровище его дитя. Он отошлет ее за пределы страны, куда-нибудь подальше, и уж во всяком случае не привезет ко двору, как сделал он, Вейсензе. У еврея перед глазами назидательный пример, а если бы у него и явилось такое поползновение, старик маг удержал бы его. И если герцог сейчас уйдет, второй раз его в Гирсау не заманишь. И снедающее Вейсензе великое любопытство навсегда останется неудовлетворенным.
Председатель церковного совета представил себе девочку, как она забилась в угол, какой ужас и отвращение выражали ее большие глаза на матово-белом лице, и ласковое, нежное чувство поднялось в нем. Но это чувство распылилось в пожирающем его страстном любопытстве, которое, захватывая дух, поднялось откуда-то из самых недр и заполонило его всего.
Он замедлил шаг, посоветовал герцогу не утомляться, предложил сделать небольшой привал. У Нейфера оставалось еще вино, Вейсензе услужливо подливал герцогу. Тот пил. Вейсензе упорно переводил разговор на девушку; всегдашним своим учтивым вкрадчивым голосом он, как тонкий знаток, полунамеками восхвалял ее прелести, юные и все же созревшие для любви. В цвете лет еврейки прекрасны, никакие другие женщины не сравнятся с ними, это холодный пламень, подобный южному вину. Но их цвет недолговечен, они увядают и становятся отвратительны. Поэтому надо их брать такими робкими и страстными, как эта; кто первым отведает этого пенистого напитка, получит редкостное наслаждение, о котором не забудет до конца дней.
Так каплю за каплей вливал он в герцога свою тонкую отраву. Карл-Александр пил и чувствовал, как волнуется, бурлит и замирает в нем кровь. Вечерело, южный ветер обдувал его теплыми порывами, между деревьев клубился образ девушки, ее нежное, стыдливое тело; он тихо сопел.
– Такими, наверно, были те женщины, – грезил вслух Вейсензе, своими грезами разжигая герцога, – те женщины, которых держал у себя царь Соломон. Тысячу женщин держал он у себя. Вот каковы были цари из Ветхого завета. Из завета господина финанцдиректора. – И он засмеялся коротким тихим смехом.
Карл-Александр внезапно поднялся, отряхнул с мундира сучья и палую листву, хриплым голосом сказал Вейсензе, что хочет один немного погулять по лесу; пусть Вейсензе извинится за него перед остальными спутниками; им нечего дожидаться его, пусть едут домой, а ему пришлют экипаж; Нейфера он оставляет при себе. Председатель церковного совета поклонился и пошел прочь. Лишь очутившись один, он перевел дух, распростер руки, искривил в гримасу свое подвижное лицо, издавая странные мурлыкающие, кудахтающие звуки.
Между тем Карл-Александр в сопровождении камердинера шел назад по вечереющему лесу так скоро, как только позволяла хромая нога. Когда он приблизился к дому с цветочными клумбами, сумерки совсем сгустились, темными клочьями неслись быстрые облака, луны не было, резкие порывы теплого ветра захватывали дух. Славное приключение! Молодым чувствуешь себя, совсем молодым! Перелезаешь через заборы, крадешься ночью по лесу. Эх, до чего славно, куда лучше, чем спорить с вшивой парламентской сволочью о каких-то там параграфах. Будь на лице маска, прямо можно подумать, что вернулась молодая венецианская пора.
Что это – не собака ли залаяла? А может быть, старик начертал магические круги и заколдовал порог, чтобы всякий, кто ступит на него, застыл на месте?
Он оставил Нейфера позади, а сам, крадучись и приглядываясь, обошел вокруг дома. Он без труда запомнил его несложный план. Вон комната девушки, там темно. Свет горел в комнате с каббалистическими фигурами. Значит, она там? По шпалернику нетрудно взобраться наверх. А ну-ка, надо попробовать.
Кряхтя, полез он в окно. Да, она сидит там, опустив руки, притихнув, а глаза большие, испуганные, растерянные.
– Пст! – окликнул он ее вполголоса, лукаво ухмыляясь и подмигивая.
Она вздрогнула, увидела красное, одутловатое лицо, голубые, жадно выпученные глаза. Судорожно откинулась она назад и в ужасе уставилась на сопящего человека. Он засмеялся.
– Я тебя напугал? Глупенькая! Не бойся! – Он прыгнул в комнату и, весь потный, пыхтя, надвинулся на нее. – Что, ловко твой государь лазит в окна?
Она едва успела отбежать в дальний угол и вся сжалась, беззвучно бормоча несвязные молитвы. Он бросился за ней следом, ласково уговаривая ее, точно малолетнего ребенка; но от его зловещей вкрадчивости ей стало еще страшнее. Губы у нее побелели, глаза, точно оледеневшие озера, глядели на него; и вдруг он нетерпеливо, грубо рванул ее к себе, осыпал поцелуями похолодевшее лицо, нащупал груди. Но она выскользнула у него из-под рук, слабым, беззвучным, детским голоском стала звать дядю, вырвалась, бросилась к двери и помчалась вверх по лестнице. Лестница вела на крышу.
Очутившись наверху, она жадно, судорожно вдохнула ночной воздух. Теплый влажный ветер принял ее в объятия, помчал вперед. Она прислушалась – позади все было тихо. Она распростерла руки, почувствовала себя свободной, дядя помог ей, а влажный благодатный ветер развеял смрадное дыхание зверя. Легкими шагами, точно порхая, приблизилась она к краю пологой крыши. Что это – голоса из лесу? Глубокий, бархатный, ласкающий голос отца и скрипучий, сердитый и все же – ах, такой отрадный голос дяди. И она улыбнулась во тьму ночи.
Тут по лестнице раздался топот, сопение, приглушенные проклятия. Это он, зверь. Но теперь у нее не было страха. Оттуда, из лесу неслась колесница, запряженная воздушными конями, вот она остановилась у края крыши. Улыбаясь, скользящими шагами взошла в нее Ноэми.
Карл-Александр, добравшись до верху, не увидел ничего. А ведь она помчалась по лестнице вверх, и другого хода отсюда нет. Вот дьявольщина! Уж не обернулась ли она вон той ночной птицей, набравшись у старика колдовской премудрости? И не она ли это плывет обрывком черного облака и смеется над ним? Окаянная девчонка! Он стоял разочарованный и злой, резкий порыв ветра откинул полы его мундира и слипшиеся от пота волосы. Старый осел, вот он кто! Внизу надо было ему завладеть этим жидовским отродьем, этой кривлякой, швырнуть ее прямо на стол, невзирая ни на какие ужимки и увертки. На то он и монарх. А теперь к черту пошла вся ночь, и правы будут гирсауские приятели, если поднимут его на смех.
Сердито поплелся он вниз. Нога у него болела, и устал он, как пес. С трудом, осторожно, выбрался он через окно из дома. И тут услышал испуганный, трусливый, хриплый шепот камердинера.
– Она лежит в цветах! – Он подумал, что она там спряталась, и засмеялся.
– Ах плутовка!
Спотыкаясь, поспешил он сквозь неверную ночную полумглу в том направлении, куда указывал Нейфер.
Да, она лежала там среди цветов. Цветы раскачивались под ветром, взмахивали сотнями рук, она же лежала совсем неподвижно.
– Как ты сюда улизнула, плутовка? – игриво окликнул он ее. Не слыша ответа, он бережно взял ее руку, откинул ей голову, торопливо, испуганно ощупал ее. Понял, что она мертва, и совсем растерялся.
Клочья облаков мчались по небу. Почти не давая света, кривился медно-красный рог молодого месяца. Оробевший слуга держался в сторонке. А герцог Вюртембергский стоял, коленопреклоненный, перед трупом молодой еврейки, среди цветов, в глухой, беспомощной тоске, жалкий человечек, в ночи, на ветру.
Что, собственно, произошло? Оступилась она? Или умышленно бросилась вниз? Так или иначе, он был связан с умершей, был причиной ее смерти.
Ба! Он побаловался малость. Кто мог думать, что девица окажется такой недотрогой? С другими девицами ее возраста он еще не так расправлялся. И с какими! С дочерьми знатнейших швабских фамилий! Чего же было еврейке так церемониться и жеманиться? Бывает, что дети от одного недоброго слова бросаются в воду, накладывают на себя руки. Да, бывает. Из этого явствует, что они не в своем уме и непригодны для жизни. А значит, на том, кто был невольной причиной, вины нет.
И все же от гнетущей, давящей тоски он отделаться не мог. Еврей укрыл ее, далеко и надежно укрыл, а все же она лежит теперь немая, окоченевшая, и еврею при всей его хитрости не удалось уберечь ее. Подует бог весть откуда ветерок – и угас человек. Чудно это и очень сложно. Вот ведь сидела она недавно на свету, и глаза у нее горели жизнью, а теперь лежит в темноте ночи, и никакой теплый ветер не помешает смертному холоду сковать ее.
Кругом враждебной, полной тайны громадой чернел лес. Оттуда доносились голоса, пугающие и насмешливые. Человек, окутанный теплым дуновением, содрогнулся. Детские сказки всплыли в памяти, видениями зачарованного леса, наполненного отринутыми духами, повеяло на него, длинные призрачные руки тянулись к нему, теребили его за ворот, за волосы. И вот уж он снова скользит все в том же безмолвном, таинственном танце; впереди маг держит его за правую руку, Зюсс – позади – за левую. А там, изгибаясь и склоняясь, разве то не девушка скользит в хороводе? И он слышал скрипучий сердитый голос мага. Он явственно слышал каждый звук, силился понять слова, но понять ничего не мог. Это мучало его. И все вокруг было так тускло, туманно, бесцветно.
С гневным рычаньем вырвался он из сковавших его пут. Он устал, как пес, он пойдет спать. Тут на ветру лежит покойница. Так что ж! Мало он видел покойников? Когда он командовал в атаку, потом повсюду тоже лежали покойники, и он, в сущности, был тому причиной. Нелепость и заумная чушь так долго размышлять над этим. С какой стати больше задумываться над мертвой еврейкой, чем над доблестными христианскими офицерами и солдатами, которые тысячами умирали вокруг него и ради него? На то он и герцог. Богу так угодно, чтобы всюду, куда бы он ни ступил, расцветала жизнь или налетала смерть.
Итак, он пойдет спать. А девушка? Оставить ее тут? Ей, правда, никакой ветер и дождь не могут повредить. Уйдет он сейчас, и кончено с этим, finito.[58] Завтра утром прислуга найдет девушку, известит Зюсса. Тот голову себе сломает, почему и отчего она умерла. Но разнюхивать вряд ли станет. Поостережется. Зароет потихоньку свою девочку и словом не обмолвится. А те, что здесь с ним, Вейсензе и прочие item.[59] Кончено дело. Умерло, забыто, похоронено. Баста!
Итак, он пойдет… Нет, не пойдет. Ему – бежать? Ну, нет! Это значит показать, что он боится еврея. Прислугу он сейчас разбудит, к Зюссу пошлет верхового, дождется его здесь, скажет ему: славные истории затеваешь ты, шельмец! Твою девчонку находят тут мертвой, на ветру. Не запрячь ты ее, хитрец, ханжа этакий, привези ты ее в Штутгарт, никогда бы такого камуфлета не получилось.
Большим ударом будет это для еврея, тяжким потрясением. Окаянная, жуткая, загадочная порода! То делает из тебя всеобщее посмешище, вовлекая в проклятую эслингенскую историю. А то вдруг у него оказывается эта странная девочка, не успел к ней притронуться, глядь – она умерла. И не мог бы он на этом деле поставить точку, даже если бы попросту ушел сейчас и вернулся в Штутгарт и никогда никому не заикнулся о происшедшем. Лицо этой девочки забыть труднее, чем тысячи мертвых, искаженных, изувеченных солдатских лиц. Он представил себе лицо еврея, очень белое, с маленьким пунцовым ртом, с крылатыми выпуклыми глазами. Оно было таким же матово-белым, как и лицо девочки. Как он, подлец, с самого начала подбирался к нему, проник ему в душу своим окаянным, восточным, рабским, собачьим взглядом. Правду сказать, тогда из него почти нечего было извлечь. Захудалый принц, которому даже парламент отказал в грошовой субсидии, невеликие капиталы и барыши можно было из него выжать. А если в результате все обернулось иначе и Зюсс с лихвой вознаградил себя за свое доверие, то на пользу ему это предприятие не пошло. Если ему так дорог был какой-то еврей Иезекииль, насколько же дороже ему собственное, бережно взлелеянное дитя. А теперь оно лежит на земле пищей для червей, мертвое, лежит на ветру.
Избавиться! Избавиться от еврея. Он устранит его. Пусть беспрепятственно возьмет с собой весь свой капитал, и золото, и драгоценные камни, и дарственные, и все, что выжал из страны. Он пошлет ему в придачу пышный презент. Только пусть убирается! Пусть уезжает!
Нет, лучше пусть останется. А не то подумают, что ему, герцогу, неприятно, тягостно видеть его. Нет, он не устранит его.
Но теперь довольно! Все это можно обдумать потом. А теперь провалиться ему на этом месте, если он не пойдет спать. Он направился к дверям, постучал громко и резко. Указал открывшему дверь заспанному, угрюмому слуге на труп, без всяких объяснений прошел мимо оцепеневшего от ужаса старика. Вслед ему донесся звериный вой старого слуги, вопль, визг, выкрики обезумевшей служанки. Карл-Александр, ни на что не глядя, прошел в дом, гневно насупился в ответ на робкие возражения Нейфера, который боялся ночевать в заколдованном доме рядом с покойницей. Как был, одетый, бросился на тахту. Спал мертвецким сном, храпя и посапывая.
Когда он проснулся, в комнату глядел ясный день. Он чувствовал себя разбитым, неопрятным. Примостившись в углу, дремал Нейфер. Карл-Александр потянулся. Ух, надо поскорей убраться из этого жуткого дома, вернуться в Гирсау, в уютные покои Вейсензе, искупаться, хорошо подкрепиться. Потом подождать еврея, похлопать его по плечу, сказать несколько княжески милостивых слов утешения. И тем вопрос об этой охотничьей прогулке будет исчерпан; обидно только, что кончилась она не так приятно, как началась. Он затопотал так громко, что Нейфер подскочил со сна. И пока тот одевался, Карл-Александр прошел в кабинет. Там лежала покойница, окна были завешены, горели высокие светильники, каббалистическое изображение небесного человека тоже было завешено. А у изголовья девушки стоял рабби Габриель. Блекло-серые глаза над приплюснутым носом не поднялись на герцога. Рабби ничего не стал спрашивать, выведывать. Скрипучим, сердитым голосом сказал только:
– Уходите, господин герцог!
И герцог в смущении ушел. В нем не было гнева, одно лишь великое смятение и тоска, он покинул дом, не замечая, как праздничны и радостны цветы при свете дня, не разговаривая с Нейфером, который торопливо следовал за ним в жажде услышать звук человеческого голоса, он быстро шагал по лесу и до самой проезжей дороги, где дожидался экипаж, не проронил ни слова.
Рабби Габриель возвратился ночью, никем не извещенный. Он, по-видимому, не очень поразился, лишь сдвинулись густые брови, и три отвесные борозды еще глубже врезались в широкий невысокий лоб. Он произнес благословение, которое полагается произносить при виде умершего: «Слава тебе, Иегова, господь бог наш, судья праведный». Он уложил девушку, скрестил на груди окоченевшие руки, согнул указательный, средний и безымянный пальцы так, чтобы они образовали букву Шин, зачинающую священнейшее имя божие, Шаддаи. Он завесил окна, возжег светильники, завесил изображение небесного человека. Полил воды через плечо, вступив в комнату покойницы, полил воды в головах и в ногах девушки. Ибо вода отгоняет демонов, коих привлекает смерть. Лишь Самаил, дух зла, ангел смерти, не страшится воды. И рабби Габриель остался наедине с покойницей и с Самаилом, духом зла.
Меж колен склонил он голову, обратившись к земле, прочитал три гимна – гимн великого посвящения, гимн вознесения на третье небо, гимн воинства мертвых. И душа девушки была тут, и дух зла не мог похитить ее. Ах, рабби Габриель знал, что она еще тут, не может она прямо воспарить в вышний мир, ибо не выполнено еще ее назначение в мире низшем, потому-то дитя и призывало его. Он же был далеко, и она умерла, прежде чем он пришел к ней на помощь.
Маленьким, ничтожным комочком сжался полный старик в комнате, где властвовал Самаил, дух зла, и витала трепетная душа девушки. И он заговорил с ней своим скрипучим, неблагозвучным голосом; но сказать ей он не мог ничего, ибо она перешагнула уже за порог третьего мира, и удержать ее он не мог, как бы она ни жаждала этого.
И, почувствовав, что ее уносит все дальше и что дух зла заслоняет ее, он напутствовал ускользающую тень теми словами писания, которые так любила она: «Как была ты сладостна мне, Ноэми, дочь моя! Возлюбленная! Прекрасная моя! Лилия долины! Роза Сарона!» Тут ощутил он последний трепетный привет. Но Самаил был сильнее его и уносил ее все дальше. Тогда пал он на лицо свое, никогда не был он так отягощен плотью, как сейчас, и пролежал долгие часы, обессиленный горем. А светильники горели, и пальцы покойницы были сложены знаком Шин; но никакой знак не имел уже власти, комната была пуста, и он остался без опоры, в душераздирающей скорби, один с Самаилом, духом зла.
Герцог полунамеками, с недомолвками, рассказал Вейсензе о происшедшем. Верховой к Зюссу был давно в пути. Карл-Александр в ожидании еврея проявлял шумную веселость, много ел, пил, сквернословил, охотился.
Вейсензе понял одно – девочка умерла. В присутствии герцога ему удалось соблюсти учтивость и выдержку. Наедине он сломился окончательно. Еврей взял верх. Еврей победил снова. Девочка умерла. Она не была осквернена, оплевана, сломлена, она просто умерла; отлетела и непорочной тенью сладостно улыбалась с высот, и еврей не был смешным, приниженным, грязным сводником, как он, еврей был почти трагичен, он был мученик, его сокровище не потускнело, оно осталось незамаранным; когда нечистая рука протянулась за ним, оно растворилось в ясном горнем воздухе. Теперь уже неоткуда быть щекочущему любопытству, теперь его совсем не тянет заглянуть в лицо еврею. Поникнув, сгорбившись, сидел он в кресле, весь опустошенный, и почти бессознательно, непрерывно бормотал про себя: «Nenikekas, Iudaie! Nenikekas, Iudaie!»[60] Зюсс между тем мчался в Гирсау. Когда он получил сообщение, что герцог в Гирсау и приказывает ему, не мешкая ни минуты, ехать туда, у него от испуга похолодело внутри. Для него сомнений не было – над девочкой нависла угроза или с ней уже стряслась беда.
Но в Гирсау, у Вейсензе, ему сказали, что герцог выехал на прогулку в лес, и не угодно ли ему побеседовать с господином председателем консистории. Но Зюсс не стал дожидаться медлившего в беспомощном смятении Вейсензе и поспешил дальше, в лес. Пешеходная тропинка, деревянный забор, купы деревьев. Цветочные клумбы. Белый дом. Ни слуг. Ни герцога. Ни рабби. Словно влекомый какой-то силой, без малейших колебаний, сомнений и остановок, прямым путем направился он в обширный кабинет. Завешенные окна. Высокие светильники. Покойница – руки сложены на груди, указательный, средний, безымянный пальцы согнуты знаком Шин. Зюсс упал навзничь. Долгие часы пролежал без сознания.
Рабби стоял перед ним, когда он раскрыл глаза. Рабби увидел состарившегося, поседевшего человека. Гибкая упругая спина сгорбилась и согнулась, гладкие белые щеки опали и обросли, некрасивыми, тусклыми стали каштановые волосы. Рабби еще раньше набальзамировал покойницу. Теперь он ходил по комнате, возжигая новые свечи, лил воду, отгоняющую демонов.
После долгого как вечность молчания Зюсс спросил:
– Она умерла из-за герцога?
– Она умерла из-за тебя, – сказал рабби Габриель.
– Если бы я удалился с ней, – спросил Зюсс, – давно бы удалился в глушь, на покой, она бы не умерла?
– Она умерла из-за тебя, – сказал рабби Габриель.
– Можно говорить с мертвыми? – спросил Зюсс.
Рабби Габриель содрогнулся. Потом сказал:
– В книге о воинстве мертвых говорится: «Устремите мысль к умершему, и он явится вам. Умолите его в душе своей, и он придет, удержите его, и он пребудет. Если вы помышляете о нем с любовью или ненавистью – он чувствует это. Чем сильнее любовь, чем сильнее ненависть – тем сильнее он чувствует это. На каждом празднике, которым вы чтите умершего, присутствует он, вокруг каждого изображения, которым вы запечатлеваете его, реет он, внемлет каждому слову, которое раздается о нем».
– Могу я говорить с ней? – спросил Зюсс.
Еще сильнее содрогнулся рабби Габриель. Потом сказал:
– Будь чист, и она пребудет в покое. Если вольешься ты в третий мир, вместе с тобой и она погрузится в волны третьего мира.
Тогда Зюсс умолк. Он ничего не ел, ничего не пил. Спустилась ночь, занялся день, он не шевелился.
Рабби сказал:
– Герцог хочет видеть тебя.
Зюсс не отвечал. Вошел Карл-Александр. Отпрянул назад. Он еле узнал Зюсса. Этот человек, с темной, грязной щетиной вокруг рта и на щеках, с некрасивыми, тусклыми волосами, с ввалившимися, покрасневшими, неподвижными, слезящимися глазами, – это ли Зюсс, его еврей и финанцдиректор, блистательный кавалер, сладострастный идеал множества женщин?
Хриплым, осипшим голосом, то и дело откашливаясь и запинаясь, Карл-Александр сказал:
– Надо быть мужчиной, Зюсс! Нельзя зарываться в свое горе! Я видел девочку. Я знаю, какова она была. Мне понятно, чего стоит потерять ее. Но вспомни, сколько тебе еще осталось в жизни. Тебе осталась милость и любовь твоего герцога. Пусть они послужат тебе утешением.
С тихим, равнодушным, как бы замороженным смирением некрасивый, неряшливый человек ответил:
– Да, господин герцог.
Карлу-Александру стало не по себе от этой тихой покорности. Он предпочел бы, чтобы Зюсс высказал свою обиду, а он сам, герцог, вспылил бы слегка, и потом бы все уладилось. Такой монашеский тон был ему совсем не по нутру. Как выразился Шютц, это пахло хедером и кладбищем. Смутным напоминанием о скрипучем голосе мага, о том, чего он не сказал, повеяло на него. Довольно недомолвок, он будет действовать напрямик. С грубоватой, по-своему сердечной прямотой он сказал:
– Глупо, что это приключилось как раз при мне. Как произошло несчастье, не докопается никогда и никто, будь он еврей, христианин и даже маг. Я нашел ее, когда она лежала мертвая среди цветов. Ты, конечно, заподозришь, что я виновник этого прискорбного случая. Но, по моему разумению, ты пойдешь по фальшивому следу.
Так как Зюсс молчал, он добавил:
– Я искренне огорчен, еврей, поверь мне. Не следует почитать меня распутником, который coute que coute[61] добивается своего. Понятно, я немного приволокнулся за ней. Но предугадай я это, духу моего бы тут не было. Даже руки бы не велел ей поцеловать. Parole d'honneur![62] Ну, в самом деле, кто мог думать, что девочка совсем не понимает шуток.
С тем же тихим, замороженным смирением Зюсс сказал:
– Да, ваша светлость, кто мог так думать.
Карл-Александр растерянно умолк. Затем, собравшись с мыслями, начал вновь:
– На мой взгляд, я ничем не проштрафился перед тобой. Если ж да, прошу у тебя по всей форме прощения. Мне не хочется, чтобы между нами что-нибудь встало. Не затаи против меня зла! Служи мне так же верно, как доселе! Дай мне руку!
И Зюсс вложил свою руку, которая была холодна как лед, в большую руку герцога. Некоторое время они стояли так рука в руке, без пожатия, тяжкая, гнетущая скованность охватила обоих. Окна были завешены, в мерцании светильников шевелились и ширились каббалистические фигуры, Самаил, дух зла, присутствовал здесь. Так стояли они, воплощая одну из фигур того призрачного хоровода, который обоим являлся в туманных видениях.
Усилием воли вырвался герцог из оцепенения:
– Bien![63] – сказал он. – Похорони свою покойницу! А затем поспеши в Людвигсбург! Дела много.
И с тем удалился. Выполнив такую деликатную задачу, радостно вдохнул утреннюю свежесть. Видит бог, он вел себя как подобает государю с широкими взглядами и добрым сердцем. Веселый, довольный собой, сорвал он празднично нарядный цветок с клумбы. Оставил позади белый дом, насвистывая и радуясь солнечным бликам, зашагал по лесу и в превосходном настроении отбыл в свою столицу.
Подле покойницы примостился Зюсс. На бледных губах под уродливой щетиной застыла непонятная, лукавая усмешка. Без слов позвал он дитя, и дитя услыхало его. Он рассказал умершей, как был он хитер, рассказал о своей грядущей мести. Разве он не показал себя мужчиной? Разве он не обуздал себя и не был невозмутим? Не только не вцепился он в горло врагу, но говорил с ним дружелюбно, и язык не отнялся у него. Протянул ему руку и не удавил его, вдыхал его смрад и не задохнулся. Как растерян был тот, не мог взять в толк, никак не мог постичь, почему дитя ускользнуло, недолго думая скрылось, прежде чем он утолил свою августейшую похоть.
Что это он сказал напоследок? В Людвигсбурге много дела? Откупиться хочет от него делами, аферами оплатить смерть его ребенка! Вот глупец, семикратно ослепленный! Но ведь он-то остался спокоен, отвечал дружелюбно и смиренно и остался спокоен. А тот, верно, радовался, что отделался так дешево. Вот лежит дитя, комочек мертвой плоти, горсточка праха и улика преступления. Ну, верно, думал тот, раз уж он над телом умершей не вцепился мне в глотку, значит, и впредь нечего опасаться такого ничтожества. Ошибаетесь, господин герцог! Ошибаетесь, светлейший убийца! Не так примитивно прост ваш Зюсс, он не ландскнехт, не крестьянин и простак, чтобы удовлетвориться такой грубо-шаблонной местью. Его месть будет куда утонченней. Он сперва даст ей как следует навариться и отстояться.
Улыбка на бледных губах стала явственнее, так что обнажились зубы, обычно белые и блестящие, а теперь пожелтевшие, мертвенно-тусклые.
Рабби Габриель прошел по комнате тяжелыми, неспешными шагами.
– Ты на ложном пути, Иозеф, – неожиданно сказал он обычным своим скрипучим, сердитым голосом.
Зюсс взглянул на него враждебным взглядом. А! Опять он тут? Опять он станет перечить ему? Что другого осталось ему, кроме мести? Уж не своими ли возвышенными речениями поможет он ему? Брось человека в пропасть и прикажи ему: не падай! И он злобно взглянул на старика усталыми, воспаленными глазами. Но не вымолвил ни слова.
Молчал и рабби Габриель. Тихо сидели оба подле умершей. Мысли их шли разными путями. Но Самаил, дух зла, присутствовал здесь, и где бы ни витали их мысли, они неизменно возвращались к Самаилу, духу зла.
Все еврейские общины Римской империи облетела весть: у реб Иозефа Зюсса Оппенгеймера, министра и большого вельможи при герцоге Вюртембергском, спасителя Израиля в годину страшных, великих бедствий, умерло дитя. Была у него дочь, единственное его дитя. И умерло у него дитя. И возьмет он его и погребет во Франкфурте. Слава тебе, Иегова, господь бог наш, судия праведный.
И собрались мужи изо всех общин с востока и запада, с юга и севера на погребение дочери реб Иозефа Зюсса Оппенгеймера, спасителя Израиля от великих бедствий. Прибыли раввины из Фюрта, из Праги, из Вормса, и даже прибыл из Гамбурга учитель наш, рабби Ионатан Эйбешюц, внушавший людям вражду и страх, тайный последователь и потомок каббалистического мессии Саббатая Цеви.
В Гирсау, в белый домик с цветочными клумбами, прибыли франкфуртский раввин и с ним Исаак Ландауер, знаменитый финансист. Он крепко, без слов, сжал руку Зюсса. Собственно, ему следовало радоваться, что вюртембергский финанцдиректор утратил франтоватый вид и перестал быть похожим на гоя и светского кавалера; наоборот, небритый, с уродливой щетиной на щеках, в неопрятной помятой одежде он был в точности похож на еврея из гетто, и пахло от него, как пахнет в гетто. Но Исаак Ландауер, как ни велико было искушение, воздержался от всякого намека в этом смысле, он потер зябкие руки, покачал головой, расчесал рыжеватую, поседевшую бородку, кашлянул и промолчал.
А потом девочку положили в гроб. Рабби Габриель надел ей на шею маленький золотой амулет, где слово Шаддаи было окружено щитом Давидовым. Он позвал Зюсса, желтоватой, бескровной рукой приподнял голову покойницы и под блестящие черные волосы, которые все еще не застыли и не померкли, насыпал горсточку земли, тучной, черной, рыхлой земли, земли из Палестины, земли Сиона. Потом гроб заколотили; на своих плечах вынесли гроб четверо мужей – тучный рабби Габриель, исхудавший, обросший неопрятной бородой Зюсс, кроткий, ветхий Иаков Иошуа Фальк – франкфуртский раввин, и утонувший в широком кафтане Исаак Ландауер на своих плечах понесли покойницу из белого домика, мимо празднично радостных цветов, через лес, к деревянному забору. Там ждали другие еврейские мужи, они приняли у них легкую ношу и на своих плечах понесли ее дальше, а через полмили ждали другие мужи и еще через полмили другие. Так несли они дитя Иозефа Зюсса Оппенгеймера по всей стране и дальше, за ее пределы, в город Франкфурт. И маленький гробик не касался земли, и его не ставили на дроги, с одного человеческого плеча на другое человеческое плечо скользил он вплоть до города Франкфурта. Но за гробом ехала большая повозка. А на пути стояли толпами евреи, и когда безмолвная немноголюдная процессия проходила мимо них, они говорили:
– Слава тебе, Иегова, господь бог наш, судия праведный! – И каждый сыпал в повозку горсть земли, тучной, черной, рыхлой земли, земли из Палестины, земли Сиона. Она назначалась для собственной главы и для собственного гроба; но они сыпали ее в повозку и с охотой отдавали ее. Дабы покоилось только в родной священной земле дитя учителя нашего и господина, реб Иозефа Зюсса Оппенгеймера, который спас Израиль от великого страшного бедствия.
В городе Франкфурте место успокоения евреев было черно от народа, и эти суетливые, крикливые люди замерли в молчании, когда Иозеф Зюсс произнес над гробом: «Слава тебе, Иегова, господь бог наш, судия праведный». И в один голос ответили: «Суетен и многолик мир, и все в нем тлен и прах; един же и велик бог Израиля предвечный, всевидящий Иегова». А потом опустился маленький гробик в землю Сиона, и земля Сиона покрыла маленький гробик. И посреди безмолвной тысячной толпы Зюсс иссушенным, беззвучным голосом прочитал молитву, прославляющую имя божие. И все вырывали траву и бросали ее через плечо. И говорили: «Как трава, увядаем мы в сем мире». И еще говорили: «Памятуем мы, что прах мы!» А потом омыли руки в проточной, отгоняющей демонов воде и покинули кладбище.
И тридцать дней во всех еврейских общинах Римской империи читали прославляющую имя господне молитву по девице Ноэми, дочери Иозефа Зюсса Оппенгеймера, учителя нашего и господина.
Возвратясь в Штутгарт, Зюсс с неистовым ожесточением окунулся в работу. Без церемоний вмешивался он теперь в католический проект, урывал себе все, что хоть отдаленно соприкасалось со сферой его деятельности. Он уже не выезжал на низкопоклонстве и угодливости, а с безмерным, угрюмым, саркастическим высокомерием третировал окружающих, гонял министров, как лакеев. От него исходило мрачное, злобное презрение ко всему, что у людей принято звать честью, свободой и долгом. В издевательски жестоком задоре вынуждал он подчиненных к новым, ненужным унижениям, и когда они оказывались перед ним нагие, лишенные последних остатков человеческого достоинства, тогда он разил их молчаливой наглой насмешкой и тешил свое безмерное презрение к людям их терпеливым раболепством.
Совершенно открыто, в чудовищных размерах грабил он герцогскую казну. Он начислял себе огромные суммы за комиссию, по неслыханным ценам продавал герцогу ничего не стоящие ювелирные изделия. Новые тяготы взвалил он на стонущую, изнемогающую страну, и все выжатое таким путем цинично направлял в свою, а не в герцогскую сокровищницу. Раньше он угнетал страну планомерно, с определенной целью – выжать побольше денег, теперь же он душил и теснил ее лишь потому, что это доставляло ему утонченную радость. И творил он свое дело с беззастенчивой откровенностью, явно желая привлечь внимание Карла-Александра, всячески стараясь вывести его из терпения своим самоуправством. Но тот молчал.
И наружность еврея изменилась. Скользящая, пружинистая походка стала тверже, он теперь по-военному печатал шаг. Тверже, определеннее стали очертания щек, а пышные каштановые волосы, которые он раньше любил при каждой возможности выставлять напоказ, теперь были скрыты под гладким париком. Старше, суровее стал он весь. Глубокий голос утратил ласкающую вкрадчивость, часто слышался в нем гортанный, властный, неприятный призвук; «чисто еврейский акцент» – говорили враги. Выпуклые глаза остались живыми и зоркими, обычно даже светились раболепным усердием; но временами в них непроизвольно мелькало что-то желчное, колючее – с трудом подавляемый зловещий багровый пламень.
Тяжелее ступала под своим наездником кобыла Ассиада. Уж не блистательного, возбуждавшего вражду и невольное восхищение, светски непринужденного кавалера носила она, бремя носила она, беспощадного притеснителя, который самому себе в тягость, всех ненавидит и всем ненавистен.
Пышные пиры он задавал по-прежнему. Но пиры эти были отравлены и нерадостны гостям. Он любил при этом публично, по ходу разыгрываемого представления иди как-нибудь иначе, язвить людей меткими оскорбительными шутками, вскрывать семейные или общественные незадачи гостя и всегда без промаха попадал в самое больное место, так что многие из приглашенных весь вечер не помнили себя от мучительной тревоги – пощадит ли их хозяйское острословие.
С женщинами он был пренебрежительно и дерзко галантен. Была на свете одна женщина: лицо матово-белое, в глазах светились тайны тысячелетий; когда говорила она – голос соловья казался хриплым перед ее нежным голоском. Теперь она покоилась во Франкфурте: земля под нею, и над нею – земля. Зачем же существовали другие? Они дышали, болтали, хихикали и раздвигали ляжки, стоило только их попросить. Да, эти все были таковы, а ее, единственной, уже не было среди живых.
Вейсензе оправился от жестокого потрясения и теперь приглядывался и принюхивался к Зюссу. Что-то зрело в этом непостижимом, неукротимом человеке, который был не таким, как все, что-то нарастало, какая-то чудовищная, ослепительная и оглушительная катастрофа. Тот не был таким, как он, тот не умел терзаться и терпеть. Сладострастно вдыхал председатель церковного совета серный запах близкого взрыва, и лишь жажда быть его свидетелем поддерживала жизнь в опустошенном человеке.
А вызывающий задор Зюсса все рос. Он открыто держал себя властелином страны, не зная преград своему самоуправству. С этим периодом совпало и дело юного Михаэля Коппенгефера. Вот в чем оно заключалось.
После двухлетней поездки с образовательной целью по Франции, Фландрии и Англии юноша, племянник профессора Иоганна-Даниэля Гарпрехта, а также родня Филиппа-Генриха Вейсензе, воротился на родину, в Швабию, и поступил на службу к герцогу Вюртембергскому в качестве актуария. Очень рослый, с лицом смуглым, смелым, с ярко-синими глазами при темных волосах, двадцатитрехлетний юноша казался братом Магдален-Сибиллы. Из путешествия он вывез пылкие мечты о человеческой свободе и человеческом достоинстве и ярую ненависть ко всякому деспотизму; все эти юные, по-весеннему незрелые, бесхитростные мечты о более справедливом и гуманном общественном порядке и обновленном государственном строе неудержимо бурлили в пламенном юноше, чуть не разрывая ему грудь.
Жил он у Гарпрехта. Пожилой ученый, потерявший жену в молодых годах после нескольких месяцев брака, воспитал племянника, очень тосковал о нем во время его двухлетней заграничной поездки и теперь отдал юноше весь свой запас скупой на слова любви.
Путешествие научило Михаэля Коппенгефера вдвойне гордиться отечественной конституцией, такой либеральной по сравнению с государственным строем других германских княжеств. Правда, он был наслышан о военной автократии герцога, католической – вюрцбуржца и хозяйственной – еврея. Но одно дело читать об этом в письмах и брошюрах, а другое – самому вариться в этом котле, собственными глазами видеть наглое порабощение, откровенный издевательский произвол. Юноша наблюдал торговлю местами и должностями, сделки с правосудием, выжимание соков из народа. Ограблены и лишены крова урахские Шертлины, изгнан за пределы страны его двоюродный брат и друг – исключительно даровитый юноша Фридрих-Кристоф Коппенгефер; доведены до отчаяния и гибели начальник податного ведомства Вольф и управляющий казенным имуществом Георги. Разорена, выпотрошена изобильная, прекрасная, благодатная страна, под знамена согнаны тысячи, доведены до голода и нищеты десятки тысяч, растлены телом и духом сотни тысяч. Обнаглевший двор погряз в кутежах и распутстве, дерзкое насилие кичится пестротой мундиров, постыдное крючкотворство ехидно торжествует над ясными и благородными параграфами конституции. На подкупах зиждется власть, продажным стало правосудие, а свобода, драгоценная, прославленная свобода
– негодная ветошь, которой герцог, иезуит и еврей утирают себе задницы.
Священное, жгучее негодование наполняло юношу, придавало мужественную твердость его смелому, смуглому лицу, воспламеняло синеву глаз. Сколько логики в его юном красноречии! Сколько благородства в его гневе и возмущении! Снедающая скорбь по поводу нравственного упадка родины сильно подточила и сокрушила Иоганна-Даниэля Гарпрехта. Теперь стойкий, прямолинейный старик все свои надежды возложил на юношу, и его скучные одинокие вечера зазеленели и расцвели освежающим и бодрящим присутствием молодости.
Зюсс с самого начала невзлюбил молодого актуария. Его раздражал высокий рост, мускулистая, чуть угловатая фигура юноши, в которой, однако, не было ничего от деревенской неотесанности. Искренность и прямота политических убеждений Коппенгефера тоже злили его. Обычно за политической оппозицией скрывалась простая корысть или же недостаточная даровитость. В том, что этот юнец, идя по стопам дядюшки, объявляет себя демократом, ничего удивительного нет; но когда молодой человек, щедро наделенный живым умом и всеми качествами, нужными для преуспеяния, с таким пылом нападает на существующий строй, в ущерб своей карьере, – это уже свидетельствует о том, что в стране не изжиты самостоятельные политические взгляды – обстоятельство весьма малоутешительное. Однако до гирсауского несчастья Зюсс не обращал внимания на юную непримиримость актуария Михаэля Коппенгефера, опасаясь ее не больше, чем заученного пафоса публициста Мозера, и мятежный духом чиновник ни в малейшей мере не подвергался преследованиям.
Теперь же, после Гирсау, его отравленная душа сильнее разгорелась гневом при виде стойкой, вольнолюбивой молодой отваги. Остановив на юноше мрачный взор, Зюсс с коварством хищника приготовился к прыжку. Молодой человек держал себя столь неосторожно, что повод для сурового взыскания нашелся очень скоро.
Старик Иоганн-Даниэль Гарпрехт давно предвидел возможность подобных столкновений; однако у него не хватало духа остудить прекрасный пыл Михаэля. Законное право юности – быть неразумной, воевать с кривдой и выпрямлять ее, даже калеча себе на этом руки. Но сердце у него сжималось и к горлу подкатывал ком при мысли, что снова придется ему проводить тоскливые вечера в одиночестве без согревающего присутствия юноши. И все же он надеялся, что ради того уважения, каким пользуется он, Гарпрехт, Зюсс не посмеет принять против Михаэля слишком крутые меры.
Среди мерзости, в которой погрязло отечество, среди всеобщего падения нравов актуарию Михаэлю Коппенгеферу брезжила властная и нежная заря. То была девица Элизабет-Саломея из семейства Гетц. Ее белокурая лилейная прелесть глубоко запала в душу мечтательного энтузиаста. Когда он узнал, что она мягко, но упрямо противостоит домогательствам Карла-Александра, она стала для него символом человеческой свободы. Их образы сливались у него воедино и, говоря о любезной свободе и прелестной девице Элизабет-Саломее Гетц, он пользовался одинаковой терминологией.
Однако Зюсс теперь не находил нужным считаться и с Гарпрехтом. Юный Михаэль Коппенгефер был отставлен от должности за то, что, невзирая на предостережение, не проявлял к герцогу должного пиетета и вел против него неподобающие, кощунственные и поносительные речи. Лишь из особой милости и снисхождения его не предали суду. Тем не менее ему было предписано в двухнедельный срок покинуть страну и до конца жизни не переступать ее пределов.
Эта угроза давно висела в воздухе. Но удар все же оказался неожиданным и совсем сломил старика Гарпрехта. Неужели же ему опять сидеть одиноко и уныло в большой, опустелой комнате только с книгами да манускриптами! А единственное общество – это тени по темным углам. Сгущаясь, они превращаются в отощавших, согбенных переселенцев, в обездоленных нищих, или тянутся к тебе костлявыми, алчными пальцами еврея. И хватают за горло и душат тебя. А был бы здесь мальчик, задорный и живой, и стоило бы ему только вздернуть густые темные брови, как рассеялись бы тени, а ярко-синие глаза его прогнали бы из углов пугающий леденящий сумрак. Но нет его. Еврей изгнал его из страны. Еврей не пускает его сюда.
Поборов себя, строптивый старик решился пойти к герцогу. Никогда еще он не просил, он всегда требовал правого решения, он привык, чтобы с просьбами приходили к нему. Тяжко было ему, человеку прямолинейному, являться в роли просителя, и слова туго и нерешительно шли с его уст. Приговор справедлив и не слишком суров. Но да соблаговолит его светлость принять в соображение, что в стране действительно не все благополучно и что лучше молодому человеку открыто высказать недовольство, нежели, подобно другим, исподтишка затевать недоброе. Карл-Александр слушал мрачно, крепко пожал руку удрученному старику, нерешительно пообещал пересмотреть дело.
Сурово потребовал он отчета. Зюсс сам явился с докладом. Да, все было так, как изложил профессор. Только он, Зюсс, расходится с профессором во взгляде на ограждение княжеского престижа. Герцог досадливо попрекнул Зюсса, что тот поставил его в щекотливое положение, – ему приходится либо идти на попятный, либо отказать достойнейшему, почтенному человеку в первой и единственной просьбе. Он понимает, нагло и ехидно отвечал Зюсс, что его светлости труднее отклонить претензию швабского профессора, нежели еврея – тайного советника по финансам. А у него, у Зюсса, были еще другие весьма веские основания устранить актуария. Ибо причиной тому, что шансы герцога у дам семейства Гетц невысоки, с дерзкой фамильярностью добавил он, в первую очередь является молодой Коппенгефер, который стоит поперек дороги его светлости и мешает добиться успеха у девицы Элизабет-Саломеи. Герцог сердито поворчал себе под нос и умолк.
Оставшись один, он решил теперь уж ни за что не отправлять актуария в изгнание. Еврей беспардонно поглупел и обнаглел. Что же это! Прикажете ему, Карлу-Александру, бояться, как бы ничтожный демократ и смутьян раньше его не добился благосклонности девицы? Или еврей воображает, будто теперь, после Гирсау, он, герцог, робеет перед каждой девчонкой, будто он изверился в своей мужественности? Яростная похоть овладела им. Mille tonnerre! Недаром он зовется Карлом-Александром, герцогом Вюртембергским и Текским – уж он сумеет укротить и усмирить девицу, наперекор любым крамольным молокососам. Во всяком случае, конкуренции он не боится – и тотчас же отменит приговор.
Но когда он уже совсем собрался продиктовать указ, его взяло сомнение, и он решил подумать до завтра. На другой день он уехал в Людвигсбург. Спектакли, празднества, политические дела отвлекли его. Настал день, когда приговор должен был вступить в законную силу, а приказа об отмене так и не последовало. Юному Михаэлю Коппенгеферу пришлось, по примеру его кузена Фридриха-Кристофа, покинуть пределы страны, и вечера профессора Иоганна-Даниэля Гарпрехта стали унылы и безрадостны.
Карл-Александр не мог сразу же что-либо изменить в происшедшем. При мысли о дамах Гетц он даже радовался этому. Но сознаться себе в таких чувствах не желал. И кипел глухим бешенством против еврея. Тот всему виною; тот поставил его перед выбором: либо Гарпрехт, либо он, еврей.
Зюсс знал, что Карл-Александр, в сущности, никогда не шел на сознательную подлость; верно, и тут он утаивает от самого себя истинные мотивы изгнания Коппенгефера. Потому-то Зюссу и не терпелось показать этот приговор в таком свете, чтобы герцог непрестанно терзался им.
– Теперь авантюра с дамами Гетц пойдет как по маслу, недаром мы убрали молодого Коппенгефера, – как бы вскользь заметил он. Герцог собрался было накинуться на него, но ограничился тем, что пробурчал довольно нерешительно:
– Мы? Мы?
Зюсс улыбнулся и не ответил ни слова.
Но до врагов его дошел слух, будто герцог счел меры еврея против молодого Коппенгефера чересчур крутыми и нежелательными. Они не могли понять долготерпение герцога и воспользовались предлогом, чтобы ополчиться на такую непостижимую снисходительность. Они явились рассказать ему, как Зюсс высасывает и выжимает из страны все соки лишь в свою пользу, ничего не уделяя в герцогскую казну, как он на каждом деле обманывает и обворовывает герцога. Все их обвинения были подкреплены множеством цифр.
Они проговорили целых два часа, и Карл-Александр не прерывал их; он не только выслушал их до конца, но даже просил разъяснить кое-какие подробности, которые были ему непонятны: больше всего заинтересовали его показания дона Бартелеми Панкорбо о том, как бессовестно Зюсс обжуливает его на бракованных камнях. Когда доклад был окончен, он вежливо отпустил посетителей, однако воздержался от каких-либо суждений.
На другой день Зюсс, незваный, явился в резиденцию. Ему стало известно, сказал он, что против него затевают новые интриги. Он хотел бы оградить себя от вторичного унизительного для него копания в его бумагах. А посему он покорнейше и настоятельно просит об отставке.
– Слушай, еврей! – сказал Карл-Александр, – в октябре ты мне продал камень за пять с лишним тысяч дукатов. Что стоит этот камень?
– В настоящее время он и пяти сот не стоит, – сказал еврей. И, глядя на герцога в упор, добавил с вызывающей, зловещей улыбкой: – Да, цена на такие камни зависит от спроса, и стоимость их не постоянна.
– Так, – сказал Карл-Александр. И оба замолчали. Герцог позвонил и приказал незамедлительно явиться гофканцлеру Шеферу. Но прошло двадцать минут, пока канцлер явился, и за эти двадцать минут ни один из них не произнес ни слова. Они и не думали друг о друге. Глубокая, насыщенная тайной тишина царила в светлом, обширном пышном покое. Образы и видения проносились от герцога к Зюссу и от Зюсса к герцогу. Скрипучий голос мага звучал в этих видениях, и мертвая девочка была в них, с пальцами, согнутыми знаком Шин.
Наконец явился господин фон Шефер. Он считался теперь в числе врагов Зюсса, пот прошиб его при виде еврея, он подумал, что герцог хочет устроить ему очную ставку с евреем, а дьявольской ловкости этого хитреца противостоять нелегко.
Однако дело обернулось иначе. Не успел канцлер войти, как герцог приосанился и резко, холодно, тоном военной команды заявил огорошенному сановнику:
– Господин финанцдиректор, здесь присутствующий, жалуется, что его деятельность взята под подозрение, и ходатайствует об отставке. Во внимание к верной его службе, снискавшей наше полное и благосклонное одобрение, угодно нам, чтобы приняты были все меры, дабы удержать его. Соблаговолите, ваше превосходительство, немедленно составить документ, законодательный акт или разрешительную грамоту, называйте как хотите, – словом, герцогский рескрипт, согласно которому все действия господина финанцдиректора, как прошедшие так и будущие, не подлежат контролю.[64] Никому, кто бы он ни был, не разрешается требовать у него ответа за его поступки. Соблаговолите немедленно составить в надлежащей форме таковой документ и подать его нам на подпись, дабы он мог быть опубликован на ближайшей неделе в «Правительственном еженедельнике». Мы ждем.
Голос Карла-Александра во время этой речи звучал так холодно и размеренно, что перепуганный канцлер не посмел возражать. Ни герцог, ни еврей не вымолвили ни слова, пока Шефер составлял документ. Так же безмолвно подписал его Карл-Александр. И лишь затем, едва владея собой, крикнул канцлеру:
– В «Правительственный еженедельник» немедленно! – Дрожа, удалился министр.
Зюсс рассыпался в раболепных, смиренных изъявлениях благодарности за великую, незаслуженную милость и необычайное доверие. Но в глазах его не было признательности, в них был дерзкий вызов и насмешка. Молча, враждебно померились они взглядом, и Карл-Александр понял, что откупиться ему не удалось.
– Уходи, еврей! – яростно крикнул он наконец. И Зюсс пошел. Но не так, как Шефер. Медленно, с поднятой головой и с победоносной, злой, загадочной усмешкой шел он.
А герцог наедине бушевал и кипел. Из сил выбивался, до крови раздирал себя, пытаясь разорвать, расторгнуть незримые, несокрушимые узы, связующие его с евреем.
Белобрысый советник экспедиции Гетц, который, несмотря на крайнюю молодость, был выдвинут на пост особоуполномоченного тайной канцелярии, с беспокойством наблюдал, как герцог увивается за матерью его, тайной советницей Иоганной-Ульрикой Гетц и сестрой – девицей Элизабет-Саломеей. Он и сам не знал, как ему держать себя при этом. С одной стороны, ухаживания монарха лестны для дамы, и долг каждой подданной телом и душой принадлежать богом данному государю; и для его собственной карьеры каприз монарха мог быть только полезен. Но, с другой стороны, путь от герцога и к герцогу фатальным образом шел через еврея; ему даже казалось, что Элизабет-Саломея чуть не больше благоволит к еврею, чем к герцогу. Конечно, у Зюсса, от пребывания при дворе, несколько выветрилась еврейская вонь, однако для его, Гетца, амбиции довольно тягостно видеть сестру и мать в амурной связи с вышеупомянутым евреем. Вероятно, советник экспедиции не замедлил бы пресечь внутренние противоречия, подать в отставку и удалиться с матерью и сестрой в свое поместье под Гейльбронном. Но история с неаполитанкой и болезнь Карла-Александра внесли смуту в его душу, он считал себя неоплатным должником своего государя, и совесть не позволяла ему избрать такой выход. В беспомощной тоске он молча предоставил событиям развиваться своим путем.
Подвигались они пока что туго, рывками. Зюсс то и дело нажимал на тормоз и придерживал герцога. Тот, правда, тешился замыслом сорвать плод силой, как ему уже случалось не раз; но ему хотелось доказать еврею, что он одним только куртуазным орудием способен проложить себе дорогу в заповедник. Поэтому он выжидал, и длительное ожидание лишь сильнее разжигало его похоть.
Он посылал богатые подарки обеим дамам попеременно. Приносил их чернокожий, тот самый мамелюк, который всегда молчал и слыл в народе немым. Гибкий, с глянцевито-темной кожей, он нравился дамам, в нем было что-то чуждое, какая-то звериная печаль, он пользовался большим успехом у дворцовых служанок, а также у особ, стоящих много выше. Нежные, белокурые, лилейные дамы Гетц действовали на него очень возбуждающе; принося им подарки, он молча пожирал их лилейную прелесть своими глубокими глазами, из которых глядела вся тоска пустыни. Но девица Элизабет-Саломея, заметив его неподобающе настойчивые взгляды, только рассмеялась ему в лицо, по-ребячьи звонко и бесчувственно.
Зюсс вертел обеими женщинами, как хотел. Они были самозабвенно и безгранично влюблены в него, не питая при этом ревности друг к другу. Напротив, они даже подстрекали друг друга, восторгаясь его разносторонними достоинствами. В то время как мать превозносила его гениальность, – она давно поняла, что он, а не Карл-Александр правит герцогством, и не переставала дивиться, как он могуществен, грозен и при всей грозности полон такого обаяния, – дочь находила его мужественным, сильным, но отнюдь не грубым и неотесанным. Как не похож он на несдержанного Михаэля Коппенгефера, не похож и на шумливых, наглых офицеров. И, прижавшись друг к другу, точно сестры, они пели ему хвалы и упивались сознанием, что первые люди государства, герцог и еврей, волочатся за ними, а советник экспедиции хмуро молчал.
Захоти Зюсс, он мог бы овладеть обеими женщинами раньше герцога. Но он загадочно улыбался при мысли об этом, делал вид, будто недостоин коснуться их, не замечал их авансов и только, пользуясь своим влиянием на них, не подпускал к ним герцога.
Вышло так, что именно в это время какой-то голландский торговец драгоценными камнями продавал особенно редкостный камень, именуемый «райский глаз». Он был вывезен из Индии неким англичанином, искателем приключений, и приобретен, по-видимому, не совсем честным путем. Так или иначе, райский глаз был самым красивым и безупречным экземпляром этого рода во всей Европе. Великий визирь давал за него несметные деньги; но, прежде чем возвратить Востоку его сокровище, амстердамский купец решил узнать у властелинов христианского мира, не заплатит ли кто-нибудь из них больше язычника.
И вот однажды, когда дамы Гетц расхваливали подарки Карла-Александра, Зюсс упомянул о райском глазе и о том, что он теперь как раз продается. Кто сделает даме такой презент, тот докажет, что любит ее по-настоящему; перед такой щедростью не устоит ни одна дама.
Все случилось, как предвидел Зюсс. Кокетливо и будто вскользь девица Элизабет-Саломея в разговоре с герцогом упомянула о райском глазе. Карл-Александр спросил у дона Бартелеми Панкорбо, что это за камень и сколько он может стоить. О, это алмаз, и притом большой ценности, – загробным голосом объявил португалец и жадно вытянул тощую шею из огромных брыжей. Да и стоит же он! И он назвал сумму, которую предлагал великий визирь. Пять поместий с окрестными деревнями можно купить за эти деньги. Карл-Александр опешил, услыхав цифру, и воздержался от покупки.
Он догадывался, он понимал, кто заронил в изящную белокурую головку такую корыстную причуду. Но он-то не последний дурак, чтобы этакую уйму денег – сколько угодий и солдат можно приобрести на нее! – выбрасывать на бабенку, которую он и без того может швырнуть на постель; и кто посмеет пенять ему после того, как он столько времени, столько комплиментов и подарков ухлопал на это бабье. Вот только еврей будет почитать его скрягой и скопидомом. Будет, по своему ехидному, подлому обычаю, незаметно вдалбливать в их куриные мозги представление о нем, как о скряге и Гарпагоне. А сладострастный пыл его разгорался еще пуще. Вот дьявольщина! Разве может женщина с охотой покориться тому, кого выставляют перед ней мерзким скопидомом! Он вызвал дона Бартелеми и отдал приказ просиявшему от восторга португальцу приобрести камень.
Однако, когда Панкорбо впопыхах, обуреваемый жадностью, явился к торговцу, райский глаз был продан. Кому? Торговец не знал. Камень куплен через посредника, который, не торгуясь, согласился на цену, намного превышавшую ту, что давал великий визирь.
– Тем лучше! – ухмыльнулся герцог, рассказал о незадаче дамам Гетц и выразил сожаление, что лишен возможности побаловать их.
Два дня спустя Зюсс преподнес райский глаз девице Элизабет-Саломее. Это был непомерно дорогой презент, молва о нем пошла по всей западной Германии, а молодой советник экспедиции теперь уж совсем не знал, как ему быть.
Незваный предстал Зюсс перед мрачным как туча герцогом. В манере, привычной Карлу-Александру, принялся бесстыдно, смачно, обстоятельно, со всеми подробностями расписывать приятные качества девицы.
Взбешенный Карл-Александр грозной махиной надвинулся на еврея и занес кулак. Тот стоял, не шевелясь, и лишь смотрел на него.
И Карл-Александр остановился. Засопел, задыхаясь.
– Теперь мы квиты, еврей! – хрипло выдавил он.
Но еврей молчал. И герцог понял, что это еще не расплата.
Между тем во дворце князя-епископа Вюрцбургского состряпали особенно хитроумный, каверзный план. По образцу управления Австрийскими Нидерландами, предполагалось разделить Вюртемберг на двенадцать военных округов. В распоряжении начальника каждого округа должен находиться полк солдат, все ведомства подчиняются непосредственно ему. Это означало введение чисто военной власти в стране, окончательно узаконенную военную автократию.
Чтобы отнять у парламента последние остатки самостоятельности, был заготовлен указ, согласно которому в каждом заседании совета одиннадцати должен участвовать особо для того отряженный герцогом тайный советник. Этот чиновник обязан отстаивать предложения, выдвинутые герцогом, и, кроме того, брать на заметку тех лиц, которые высказываются против его проектов; ежели их мнение окажется толковым, можно и согласиться с ним, если же они возражают единственно из духа противоречия и по зловредности, придется кое-кого из смутьянов упечь в крепость.
Поглощая одну чашку кофе за другой, невзрачный тайный советник Фихтель при участии председателя церковного совета разработал тщательно продуманное, дьявольски хитрое заключение, долженствующее оправдать эти беззаконные действия в глазах императора, рейхстага и всего Corpus Evangelicorum. В тоне наивнейшего чистосердечия там был придан обратный смысл всем статьям конституции, а главное, с помощью артистического адвокатского приема в желательном духе истолкован следующий пункт: касательно договоров между государем и ландтагом следует придавать сугубое значение тому, в какие времена данный договор заключен; ибо то, что признавалось разумным когда-то, может сейчас оказаться непригодным. Тысячи рук действовали заодно. Император и папа давали благосклонно ободряющие указания, а давнишние туманные соглашения, подписанные венскими советниками и Карлом-Александром при его восшествии на престол, по которым он обязывался военной силой поддерживать императора в войне с Францией, а император обязывался оказывать ему помощь в борьбе за его суверенные права
– и тоже военной силой, – эти соглашения приобрели вдруг весьма грозный смысл для вюртембергской конституционной партии. Старый князь Турн и Таксис перебрался в Австрийские Нидерланды и оттуда руководил реорганизацией государственного управления в столице Вюртемберга. Военной реформой на свой грубо прямолинейный лад заправлял Ремхинген, финансовой – Зюсс, дипломатической – Фихтель; до конца разложить парламент и подорвать последние остатки его авторитета было поручено Вейсензе.
Карл-Александр развил неутомимую, лихорадочную деятельность: созывал конференции, собственноручно строчил бессчетные письма, устраивал смотры войскам. Он целиком окунулся в католический проект, словно в целительный источник. Никакие пиявки, никакие кровососные банки докторов Брейера и Зеегера не помогали ему, когда от скрытой злобы на еврея кровь густой и тяжелой волной приливала ему к голове. Теперь же у него было смутное чувство, что только католический проект избавит его от несносной зависимости. Герцог отнюдь не отличался благочестием. Богу известно, что не ради небесной девы Марии обратился он в католичество, а ради Марии-Августы Турн и Таксис и мешка дукатов в придачу.
Но хотя он и позволял себе время от времени вольнодумные шутки, однако был далек от новомодного убежденного и безоговорочного атеизма.
Обряды католической церкви пришлись ему по вкусу, он считал, что во многих смыслах военачальнику и монарху куда более пристала эта религия, тем паче что ее пышность соответствует богатству и великолепию столь любезных ему мундиров. Удобно также время от времени исповедаться перед кротким, покладистым патером Каспаром, хотя самые свои тайные греховные помыслы трудно высказать другому, когда и до собственного сознания их боишься допустить второй раз.
Теперь его нерадивая вера стала устойчивее, приобрела внутреннюю опору. Если прежде религиозные убеждения были для него политическим средством, обязательной формальностью, без которой император и папа не согласились бы поддержать швабскую военную автократию, или, в лучшем случае, пустым ритуалом, то теперь единодержавие приобрело для него некий мистический смысл, сделалось своего рода религией. Он считал, что призван послужить великой божественной идее; власть, за которую он боролся, превратилась в священный символ, а борьба за нее – в служение богу. На радость своему духовнику, отцу Каспару, и приятелям своим, князьям церкви, он стал заметно набожнее и тщательнее соблюдал обряды.
В действительности же, сам себе не сознаваясь, он таким ревностным служением богу как бы искупал свою загадочную, несносную, нерасторжимую связь с евреем. При помощи казуистических уловок, которым научили его иезуиты, он пытался доказать себе, что нуждается в еврее по чисто политическим причинам и лишь потому терпит его ненавистное присутствие. Но, едва достигнув цели, он схватит подлеца за шиворот и посадит в каземат. Иногда же он уговаривал себя, что, в награду за утверждение владычества церкви в Швабии, господь непременно расторгнет его мучительную зависимость от еврея.
Эх, не следовало ему домогаться предсказаний еврейского мага, не следовало их выслушивать! Второе он выслушал охотно, но ему по-прежнему не давали покоя слова: «Первого я вам не скажу». Он написал своему другу князю-аббату Эйнзидельнскому в Швейцарию с настоятельной просьбой прислать ему прорицателя и звездочета-католика, ибо и сам князь-аббат был знаменитейший астролог. Вскоре в самом деле явился присланный им маг. Он совсем не был похож на еврея-каббалиста. Тот обличьем и поведением ничем не отличался от обыкновенных людей, и все же каждому при встрече с ним становилось как-то не по себе. Зато маг, рекомендованный князем-аббатом, пожаловал с внушительным арсеналом опытного чернокнижника. Он привез сложные сооружения: треножники, подзорные трубы, реторты, чудодейственные подковы, потребовал, чтобы ему отвели уединенный покой в башне; еженощно, облачась в расписанный таинственными знаками балахон и творя загадочные заклинания, поднимался на крышу замка, приказывал принести ему земли с погоста, в полнолуние собирал влагу с запотевших окон, жег осиновые дрова, дожидаясь, чтобы они превратились в уголь, и проделывал еще множество столь же странных манипуляций. Часто около полуночи в его комнате раздавался дикий шум, и лакеям, которые, поборов страх, подслушивали у дверей, казалось, будто в окно, звеня колокольцами, врывается запряженная в тяжелую колымагу лошадь. Астролог обещал герцогу точнейшим образом определить по звездам самый благоприятный день и даже час для замышляемого им предприятия. Герцог вынужден был признать, что, невзирая на свои волшебные действа, этот чернокнижник производит на него гораздо меньше впечатления и внушает меньше доверия, нежели скромный, незаметный каббалист – одним своим присутствием; и когда Зюсс, открыто осмеивавший астролога, указал Карлу-Александру на пушку, присовокупив: «Ваша светлость, вот вам лучший прорицатель и звездочет», – герцог разразился громким хохотом. Однако совесть его успокоилась от того, что он призвал к себе мудреца-христианина; да, кроме того, у еврейского колдуна нельзя было больше ничего выудить.
Хоть Зюсс и опередил его, Карл-Александр не устоял от соблазна, в свою очередь, попользоваться дамами Гетц, которых еврей предоставил ему теперь с обидной небрежностью. Но ожидаемого наслаждения он не получил, – отчасти, должно быть, помешала мысль о еврее. С остервенением зарывшись в католический проект, он вскоре совсем покинул мать и дочь. И вот они сидели теперь униженные, и на лилейнокожных личиках явственно проступала скорбь; особенно заметно увяла и постарела мать. Советник экспедиции скрежетал зубами, мысленно твердил стихи из той комедии, в которой впервые увидел неаполитанку. «Продажная краса нам мерзостнее блуда», – и не знал, как себя держать. Он негодовал и теперь уже всерьез подумывал удалиться в свое поместье под Гейльбронном, и даже когда ему дали повышение, гнев не совсем улегся в нем.
Но больше всего печалился горестям белокурых лилейных дам чернокожий Отман, мамелюк. Он, как всегда, лежал на пороге, и в ту ночь, когда Иоганна-Ульрика пришла к герцогу, и в ту, еще горшую, когда к нему пришла Элизабет-Саломея. В ту вторую ночь он не спал, он примостился у порога и чутко прислушивался к малейшему звуку, а когда Элизабет-Саломея уходила из дворца, непроницаемое лицо его внезапно исказилось, и он поглядел в спину шумливо провожавшему ее Карлу-Александру с такой дикой звериной ненавистью, что тот невольно пригнулся, как бы обороняясь.
Чернокожему ясны были все хитросплетения. Он знал, от кого Элизабет-Саломея получила райский глаз, он понимал, что означает этот дар. Как ни странно, но к Зюссу он за это не питал ненависти, – наоборот, он испытывал своего рода удовлетворение, что тот, а не христианин овладел ею впервые. Но тем сильнее снедала его ненависть к герцогу.
Карл-Александр обращался со своим мамелюком, как с добродушным псом. Он и в самом деле думал, что чернокожий разумеет в его делах не лучше животного, и ничего не таил от него. Где бы ни был Карл-Александр, всегда, прислонившись, примостившись, скорчившись в каком-нибудь углу, стоял, сидел или лежал Отман; по ночам он даже спал на полу опочивальни или у порога. И был гораздо сметливее, чем предполагал герцог, – он все видел и слышал и отлично умел сопоставлять, казалось бы, ничем не связанные между собой факты. По своему обыкновению таинственно и бесшумно, он теперь время от времени являлся к Зюссу и, по своему обыкновению таинственно и негромко, как бы невзначай, сообщал ему секреты герцога, которые еврей не мог и не должен был знать. А потом оба смотрели друг на друга: выпуклые, теперь менее крылатые глаза одного проникали взглядом в непроницаемые звериные глаза другого, и в глазах обоих была одинаковая дикая, несокрушимая ненависть.
Зюсс воспользовался несколькими днями затишья, чтобы съездить в Гирсау. В белом домике теперь стояла тишина. При встрече рабби Габриель не произнес ни слова; оба лишь поздоровались и больше почти не видались. Наконец, много дней спустя, рабби вымолвил:
– Я вижу под мясом и костями лицо твое, Иозеф.
– Разве я стал другой? – спросил Зюсс. И добавил, нахмурясь: – Теперь я, должно быть, похож на самого настоящего еврея. Или же я все еще сын своего отца?
– Горе стирает подкраску с лица, – сказал рабби Габриель. – У тебя изгоревавшееся лицо, у тебя лицо еврея. Ты на ложном пути, Иозеф, – добавил он немного погодя, – тебе придется свернуть с него. – Но Зюсс промолчал, ни одна черта не дрогнула у него, так что нельзя было сказать, слышал он или нет. О девочке они не говорили.
Зюсс бродил вдоль празднично радостных цветочных клумб, которые любила девочка, вглядывался в изображения каббалистического древа и небесного человека, которыми она насыщала взор, вглядывался в крупные массивные буквы на страницах Песни Песней, которую она предпочитала всем другим книгам Библии, но нежные слова любви не звучали ему пленительным перезвоном, они опаляли его таким жгучим, страстным призывом, что он поспешил отвернуться от книги.
Случайно в лесу повстречался он с председателем церковного совета. Вейсензе вновь занялся своим комментарием к Библии, бродил по своим просторным покоям с белыми занавесами, вел глубокомысленные беседы с магистром Шобером. Он попросил у Зюсса разрешения сопутствовать ему. Так как еврей не ответил, он счел это за согласие и пошел с ним. Медленно, бережно, молчаливо шагал он с ним по окропленному солнцем лесу, последовал за ним, не встретив возражения, вдоль цветочных клумб в белый домик. Безмолвно, в непривычном смущении сидел с ним в комнате, расписанной каббалистическими фигурами. Немного погодя к ним присоединился рабби Габриель. И так, сгорбившись, задумавшись, сидели трое усталых людей. Они чувствовали себя старыми, они ощущали, как жизнь ускользает от них, уходит в прошедшее, миг за мигом, они ощущали это явственно, почти плотски, с горестным сладострастием, как расправляет утомленный человек наболевшие ноги, они ощущали, как тягота одного гнетет другого, они ощущали друг друга сквозь эту сладостно-томительную усталость.
На другой день рабби Габриель простился с Зюссом. Он намеревался навсегда покинуть страну. Зюсс был мягче, человечнее обычного. Хоть он и восставал против рабби, хоть и отрицал требование свернуть с ложного пути, глумливо обозвав это мягкосердечным вздором, однако ему было отрадно сознавать близость рабби. На лице толстого, некрасивого старика лежал отблеск Ноэми, грезы девочки гнездились за широким, невысоким выпуклым лбом, где тремя бороздами врезалась буква Шин. Когда рабби Габриель уедет, Зюссу будет очень одиноко, но в этом он не хотел себе признаться; он старался уверить себя, будто ему досадно, что не станет свидетеля, которому можно доказать, насколько правилен избранный им путь, что его изощренная месть – единственное средство вновь обрести свое дитя.
Он стоял перед каббалистом, растерзанный внутренним разладом, готовый услышать и произнести примиряющее слово. Но рабби был суров и сердит, как обычно. Все его книги и каббалистические принадлежности были уже отправлены. Скрипучим голосом он отдал старому слуге последние краткие распоряжения. Затем, обратясь на восток, к Сиону, он произнес молитву, которую полагается читать перед дальним путешествием, трижды в трех различных выражениях утверждающую упование на помощь Иеговы. Вновь обратил блекло-серые окаменевшие глаза к Зюссу, скрипучим голосом проворчал последний краткий привет: «Мир тебе». И ушел, в сопровождении Янтье, толстой, переваливающейся с боку на бок служанки, которую собирался отвезти к ней на родину. Зюсс видел, как его широкая, коренастая, чуть согбенная фигура в старинной одежде, мелькнув между цветочными клумбами, исчезла в лесу. В тайниках души он желал, чтобы рабби обернулся. Но тот шагал своей тяжелой, твердой, уверенной поступью, уходя все дальше, прочь.
Несколько дней спустя Зюсс со старым слугой тоже покинули белый домик. И маленькое, диковинное строение замерло в безмолвном, солнцем озаренном одиночестве. Комнаты были оголены, белые ставни угрожающе и зловеще заколочены, празднично радостные цветы увяли, и некому было обновить их. Слухи рождались вокруг покинутого, диковинного, надменного строения; ребячески кровожадные вымыслы сплетались над ним и ползли в столицу. В трактире под вывеской «Голубой козел» булочник Бенц, многозначительно выпучив свиные глазки, шепотом передавал приятно содрогающимся собутыльникам последнюю новость: где-то в лесу у его иудейского сатаничества запрятана колдовская кухня. Из крови христианских дев, которых он после всяких мучительств связанными свергает с крыши, так что они накалываются внизу на железные цветы, он варит дьявольское зелье, коим непрерывно подогревает расположение герцога. Сам сатана то и дело наведывается в это обиталище ведьм, приняв образ коренастого мужчины с хвостом, рогами и лошадиным копытом.
У служанки Янтье была старая кошка, самая обыкновенная кошка, темно-серой масти. Рабби Габриель ее терпеть не мог, и Янтье не решилась взять ее с собой в далекое путешествие. Размышляя, у кого кошке будет лучше всего житься, она вспомнила магистра Якоба-Поликарпа Шобера. Магистр при всяком удобном случае попадался на пути Ноэми, обращался к ней с кроткими, благоговейными речами и даже делал неоднократные робкие попытки обратить ее в свою бесхитростную, мечтательную веру; а главное, пытался спасти ее душу вдохновенной декламацией своих стихов. После того как она горячо и гневно отклонила его поползновения, он притих и довольствовался смиренным и радостным созерцанием ее ангельского лика. Когда же смерть столь внезапно похитила ее, толстощекий юноша долгое время места себе не находил от глубокой мучительной тоски, детские глаза его выражали птичью растерянность, он побледнел и мучился угрызениями совести от того, что недостаточно ревностно старался направить ложное, пагубное течение ее жизни в море божественной благодати. Он стоял на дороге с венком полевых цветов, когда выносили маленький гроб из белого домика, и был до глубины души оскорблен, когда четверо суровых мужчин, несших гроб и похожих на темных лжепророков, отклонили его искренний дар. Мрачно поплелся он домой, взял в руки перо и бумагу и сочинил «Надгробный плач, или нэнию, на смерть мадемуазель Ноэми Зюсс, еврейки, однако же достойной девицы», которая начиналась следующими строками: «И ныне злая смерть, сей бренной жизни цель, Похитила тебя, иудейска мадмазель». Поэму свою он продекламировал служанке Янтье, причем оба проливали горькие слезы.
Вот этому честному добряку и оставила Янтье свою серую кошку, тот охотно согласился взять ее с самыми успокоительными обещаниями. В связи с этим Зюсс увидал магистра. Перед тем как покинуть дом с цветочными клумбами и отдать его во власть белого безмолвия и забвения, еврей бродил вокруг, обуреваемый великим беспокойством. Подолгу простаивал среди тюльпанов, перед стеной, где был нарисован небесный человек и каббалистическое древо. Завидев магистра, он властным жестом подозвал его и задал ему несколько вопросов в резком и высокомерном тоне. Якоб-Поликарп Шобер, державший себя несмело и кротко с теми, кто был с ним приветлив, усмотрел в мрачной суровости еврея некое испытание, искушение, перед лицом которого счел нужным запрятать подальше свою прирожденную робость. Ввиду этого толстощекий юноша, несмотря на сильное сердцебиение, засопел, принял задорный вид и выпрямился, прижав к себе кошку, готовясь одним только метким и надежным орудием своей веры одолеть и вывести на праведную стезю сатанинского финанцдиректора. Зюсс, слыхавший о магистре от Магдален-Сибиллы, а также осведомленный о его встречах с Ноэми, некоторое время молча слушал его, без обычной насмешки, а скорее задумчиво, и тот, обнадеженный, удвоил свое усердие, но вследствие бурной жестикуляции упустил кошку. Пока он, не прерывая своей пылкой речи, силился поймать животное, финанцдиректор успел принять какое-то решение, он круто, но благодушно остановил магистра и перевел разговор на другую тему. Без труда удалось ему приручить юношу и вызвать его на откровенность. Немного погодя ему уже были известны многие обстоятельства личной жизни магистра, а также его желания, включая и должность библиотекаря, несправедливо предоставленную кому-то другому.
К изумлению Шобера, он показал себя отнюдь не свирепым Олоферном, каким его ославили повсеместно. Терпеливо выслушал он до конца многоречивого магистра, проявил интерес к его стихам, твердо обещал осчастливленному юноше напечатать его опусы, если только Вейсензе одобрительно выскажется о них. Хотя должность библиотекаря занята, однако можно найти другой выход, чем-то заменив ее. На следующий же день он вызвал Шобера к себе и предложил ему место своего личного секретаря; для исполнения этой обязанности требуется добросовестность и дар слова; как тем, так и другим качеством магистр наделен в превосходной степени. Якоб-Поликарп Шобер увидел в этом предложении чудесный промысел божий, который приведет его в столицу, где он будет дышать одним воздухом с сестрой Магдален-Сибиллой, посещать штутгартское библейское общество, святую Беату Штурмин, славного, благожелательного Эмануила Ригера. Он увидел возможность убедительными и благочестивыми речами наставить на путь истины еврея и даже самого заблудшего герцога; он услышал славословия ангелов в небесах и, сияя, дал согласие. Затем отыскал кошку, о которой в блаженном замешательстве позабыл вчера, и, бережно прижав к себе серую, некрасивую тварь, понес ее домой.
Но в Штутгарте, в пышном дворце на Зеегассе, вместо ожидаемого блаженства он узнал только смятение и гнет. Правда, в Магдален-Сибилле он не обнаружил ни малейшего высокомерия, все попытки оболгать и очернить ее оказались злыми наветами; но вместе с тем не осталось и следа от прежней непорочной и блаженной близости, от того ореола исключительности, который и его, Шобера, возвышал в собственных глазах. В ее присутствии он уже не расцветал душой, но оставался холоден и сир. А между тем она была безупречно чиста, исполнена достоинства и благочестия. Он не хотел сознаться себе в том, что именно отсюда и проистекает его разочарование. Но служба у Зюсса принесла ему несказанную муку и смятение. Досуга у магистра было достаточно; помимо него и Никласа Пфефле, финанцдиректор держал для своей обширной личной переписки еще двух секретарей. Поэтому он очень редко вызывал к себе Шобера. Но, вызвав, диктовал ему письма крайне вредоносного содержания, в которых даже самому неискушенному простаку наглядно открывались черные замыслы на погибель евангелической и парламентской свободы. Каждая строка этих писаний служила тяжким обвинением против герцога и финанцдиректора, давала в руки магистру ключи к самым секретным и важным подробностям католического проекта.
Голова шла кругом, все нутро переворачивалось у злосчастного Якоба-Поликарпа Шобера. Зюсс диктовал свои черные нечестивые тайны, а голос и глаза его были ясны и невозмутимы; очевидно, он питал неограниченное доверие к своему секретарю. Шобер обязался служить еврею. Как же ему теперь быть – нарушить слово и пойти разглашать свои сведения, хладнокровно обманывать доверие еврея? Правда, он всего лишь еврей, и все же любой негодяй и подлец будет тогда вправе обозвать его, Шобера, предателем и двоедушным прохвостом. Однако, если он будет молча смотреть, как вероломно и позорно удушают религию и свободу родины, как ввергают многие сотни тысяч евангелических душ в геенну огненную, в бездну адскую, разве не окажется он тогда еще большим подлецом и нечестивцем?
Сомнения, точно лютые псы, раздирали и терзали магистра. Тогда, в Гирсау, он вообразил себя истинным избранником божиим оттого, что у него зародилась чахлая надежда быть поставленным от бога к рычагу великих судеб и свершений. А теперь его дерзостная, суетная мечта сбылась, но каким жестоким и коварным образом! Лишь ценой собственной души может он спасти сотни тысяч швабских евангелических братьев. Жалостный, дрожащий, он напоминал только что остриженного пса. Он стал худеть; днем его то бросало в жар, то обдавало холодным потом, ночью он не находил покоя, вставал, спотыкаясь о старую уродливую кошку, и, стеная, бегал по комнате. Он отправился к Беате Штурмин и попросил ее загадать для него на библии. Слепая дева наугад раскрыла Книгу: «И сыны Израиля вышли из Рифмы и расположились на ночлег в Римон-Переце». Магистр долго ломал себе голову, что подразумевается под этим, и наконец понял: Рифма означает то, чего ему делать не следует, а Римон-Перец то, что он должен сделать. Но он никак не мог додуматься, надо ли под Рифмой понимать предательство против еврея, а под Римон-Перецом избавление евангелических братьев, – или наоборот. И он по-прежнему терпел лютую муку, обливаясь потом и терзаясь сомнениями, днем и ночью взвешивая спасение души многих тысяч соотечественников в своих бестолковых, нескладных и нерешительных руках.
Сухо, едва скрывая свое недовольство, отпустил Карл-Александр руководителей католического проекта, которых созвал на секретное совещание. Еврея он задержал нетерпеливым жестом.
– Отчего ты ни слова не сказал, еврей? – напустился он на почтительно выжидавшего Зюсса.
– Не стоило труда отвечать, – возразил тот, легким пожатием плеч отмахиваясь от всего, что говорилось на совещании.
Карл-Александр тихо сопел и постукивал костяшками пальцев по столу. Черт возьми! Вот свинство, что еврей опять прав. А тот, как всегда, ловил на лету его мысли и облекал их в слова.
– Господа политики крохоборничают, – говорил он обычным своим вкрадчивым, насмешливым голосом. – Вымеряют мельчайшие паутинные нити, а целого охватить не могут. Что они смыслят вообще! – В его тоне явно чувствовалось, как низко он ставит их ум и способности. – Будто суть в том, чтобы избитыми адвокатскими приемами изымать из конституции где запятую, где точку над «i». Что за жалкие, убогие, мелочные методы! Достаточно одного рескрипта, одного-единственного: «Мы, Карл-Александр, герцог Вюртембергский и Текский, возвращаем себе права, данные нам от бога и похищенные у нас подлым, коварным и изменническим способом. Отныне мы воистину будем хозяином страны. Вюртемберг – это мы!» Но перед таким шагом господа политики трусливо и беспомощно пятятся назад. Им это не по плечу, их заедают сомнения и колебания, они только и могут, что качать головой, прищелкивать языком да охать и ахать. Эта идея для них чересчур проста, по-княжески величественна, царственна.
При всей своей глухой ненависти к еврею Карл-Александр еще раз убедился, что тот один понимает его, один знает, в чем суть дела. Нехотя, с досадой дивясь его уму, он принужден был признаться себе, что только благодаря еврею и вместе с ним сможет он осуществить католический проект. Что бы ни попадало в сильные, чудодейственно ловкие руки Зюсса, все он лепил по своему произволу, точно податливую глину. Перед его фанатически пылким одушевлением смешным казалась кропотливо добросовестная старательность, с какой другие из кожи вон лезли, а добивались половинчатых результатов. Да что они смыслили, эти другие? Для них католический проект был просто делом, задачей – может статься, очень важной задачей. Но что в действительности это нечто большее, что в таком государственном перевороте для него, Карла-Александра, смысл и цель жизни, это знали и понимали только он сам да еврей.
Ибо так мало-помалу видоизменялся для него проект, таким он, при умелом подстрекательстве, под властным воздействием Зюсса, въелся ему в плоть и кровь. Сперва это был для него вопрос политики, ступень к власти, декорум, и ничего больше; потом проект превратился в мистический символ, в надежду на освобождение от пут, в религию, а теперь стал самой его жизнью и дыханием. Он должен быть одно со своей страной, и в этом смысл и венец его стремлений. Не слуга страны или ее властитель, не законодатель или полководец – это все жалкая безделица и вздор. Он так впитает в себя страну и так внедрится в страну, что он и страна будут одно. Страна сможет дышать, только когда дышит он, шагать вперед, когда шагает он, когда он остановится, остановится и она. Живой, осязаемой реальностью стало для него это представление. Штутгарт – его сердце, Неккар – сонная артерия, швабское плоскогорье – его грудь, швабский лес – его волосы. Он – Вюртемберг во плоти, Вюртемберг – это он, только он.
Но нельзя нечто столь грандиозное, сладостно и полнокровно живое сколотить мелочными адвокатскими приемами. Он ли это подумал? Еврей ли это высказал? Как бы то ни было, вот что говорил сейчас еврей:
– Один гениальный жест – и все готово. Надо, чтобы страна, проснувшись однажды утром, оказалась воплощенной в герцоге, в своем богом данном государе, оказалась бы государевой оболочкой, плотью его и кровью. Не надо мелких стычек, тайных козней и нелепых, унизительных шатаний. Нет, все должно свершиться самым естественным путем, как распускается почка, когда приходит ее пора.
Да, да, да! Прав еврей. Немыслимо и дико оспаривать и опровергать это. Если ж нет, значит, он попросту шут гороховый и пустомеля, и вся его жизнь
– мышиная возня, которая выеденного яйца не стоит. Но всяким Ремхингенам, Фихтелям, Панкорбо не понять этого. Они верные слуги, хорошие офицеры и ловкие дипломаты; но они не одарены гениально живым воображением, чтобы воспринять этот замечательный акт, как великое и неотвратимое таинство природы, им одарен – как там ни бесись, а против рока не пойдешь – одарен им только еврей. Все это не претворялось в слова ни у герцога, ни у Зюсса. Но оно током проходило между ними, невысказанным пульсировало и в том и в другом. Так было все последние недели. Одна жизнь билась в них, безмолвно, делом отвечал еврей на безмолвный, настойчивый вопрос Карла-Александра; казалось, герцог дышит тлетворным воздухом, который выдыхает Зюсс, они были частями одного тела, нерасторжимо связанными между собой.
Все яростнее разжигал еврей в своем господине страстное, томительное ожидание того дня, когда страна претворится в него и будет нерасторжима с ним, коварно поощрял его веру в свое богоподобие и его необузданно властолюбивые мечты, распаляя ему кровь своим ярым фанатическим пылом. Вкусивший отравы государь жадно искал поддержки и все нового поощрения в лукаво одобрительном взгляде еврея.
Порой он на мгновение опоминался от угара и задумывался над тем, куда же приведет его это дьявольское сообщество. Невыразимо страшно до конца дней иметь при себе такого зловещего соглядатая своих заветных помыслов и своих сокровеннейших тайн. Сам ведь не знаешь, сколько мути, сколько недоброго хранишь на дне души, стараешься подавить, когда оно просится наружу, таишь от самого себя.
Как же перенести, чтобы другой, в ком взошло столько семян твоего зла, смотрел на белый свет, жил, дышал. Пока что он нужен, без него проект не может быть осуществлен; вот и сегодняшнее заседание доказало это. Но едва проект осуществится, он зажмет ему рот, он заточит его куда-нибудь в крепость, навсегда погребет в неприступном каземате, как прячешь от мира непокорное, пагубное, первобытное злое начало собственной души.
Он бросил на еврея подозрительный, ненавидящий взгляд. Уж не угадал ли тот и сейчас его мысли?
– Можешь составить рескрипт по твоему усмотрению, – резко сказал он.
Зюсс учтиво, почтительно склонился перед тяжело дышавшим от возбуждения герцогом. Но в глазах его мерцало темное, злорадное, волчье, уверенное в победе торжество.
Страна металась, стеная, в томительном, напряженном ожидании. Всем было ясно, что католическая партия почти закончила приготовления и собирается в ближайшее время нанести удар.
Повсюду назревала угроза, не оставляя места для беспочвенных гаданий и убеждая даже самых беспечных людей в неотвратимости роковых событий. К границам стягивались чужеземные полки – баварские, вюрцбургские. Совет одиннадцати получил верные сведения, что герцогу из одного только Вюрцбурга обещано девятнадцать тысяч человек вспомогательного войска; их передовой отряд стоял уже в Мергентхейме, резиденции гроссмейстера Тевтонского ордена, ожидая приказа о выступлении. И в самом герцогстве появилось множество солдат, говоривших на чужеземных диалектах – баварском, франконском. По ночам они маршировали мелкими отрядами. Герцогские замки и форты были переполнены войсками. Все крепости: Асперг, Нейфен, Урах, Гогентвиль, укрепленный замок Тюбинген – приведены в боевую готовность всеми средствами современной стратегии; плохую дорогу на Асперг исправляли дневные и ночные смены рабочих, согнанных на барщину. Превосходно налаженная служба связи поддерживала с помощью особых курьеров и скороходов сношения между отдельными крепостями. Пороховые мельницы по всей стране, а в особенности крупный завод Ганса Земмингера, работали день и ночь, изготовляя затравочный и огнестрельный порох. Бесконечным обозом тянулись пушки и снаряжение; народ, при виде таинственных повозок, утверждал, что они сплошь нагружены четками ввиду предстоящего обращения; но наполняли их менее невинные ядрышки.
Один из таких скороходов, некий Бильгубер, затеял близ Нютрингена драку с Иоганнесом Краусом, сыном штутгартского мясника. Во время потасовки Краус отнял у курьера депеши с донесением о прибытии иноземных вспомогательных войск, явно уличавшие католиков в заговоре против государственной власти. Герцог отдал приказ арестовать Крауса. Но тот успел бежать в вольный имперский город Рейтлинген, а через несколько дней перебрался оттуда в имперский город Эслинген, где обосновалась довольно большая колония беглецов из Вюртемберга, подвергшихся преследованиям за верность конституции.
Перед бегством Краус отдал эти письменные улики штутгартскому бургомистру, а малый парламентский совет позаботился о том, чтобы их размножили и распространили среди населения. Это доказательство непосредственной угрозы вывело из равновесия самых миролюбивых граждан. Повсюду создавались религиозные общества и тайные союзы для ограждения веры, горожане и крестьяне потихоньку запасались оружием, славные цехи столичных башмачников и бондарей заимствовали пищали и дробовики у цеховых собратьев из свободного города Эслингена; даже из Штутгартского арсенала неоднократно загадочным образом исчезали большие партии оружия, а наименее воинственные обыватели, ухмыляясь, с боязливой гордостью неожиданно показывали друзьям припрятанные ружья.
Так сильно было возмущение в народе, что герцогу пришлось усилить свою личную охрану и отослать наследного принца за пределы страны, к деду его, князю Турн и Таксису, в имперские Нидерланды. Естественно, что при подобных обстоятельствах Карл-Александр счел необходимым произвести последовательное и принудительное изъятие оружия у всего населения страны; он заготовил соответствующий указ под предлогом борьбы с браконьерством. Однако ношение оружия входило в исконные права вюртембержцев и было оговорено в конституции; во избежание гражданской войны пришлось воздержаться от оглашения указа впредь до того, как будет осуществлен государственный переворот.
Пока что герцог потребовал, чтобы было прекращено военное обучение штутгартской конной национальной гвардии. Этим сильнейшим в герцогстве отрядом земского ополчения командовал майор фон Редер, один из ближайших друзей Карла-Александра. Он был добрым протестантом и одновременно вернейшим сподвижником Ремхингена по военной подготовке католического проекта. Для него, человека тупого и ограниченного, замышлявшийся государственный переворот был вполне в порядке вещей, он не понимал, чем вызвано такое возмущение, и повсюду видел подстрекательство и злонамеренность. Герцогу хочется дать больше простора католикам, почему бы и нет? Страна велика, места для церквей хватит. Конституция? Парламент? Свобода? Чушь! Зазнайство и леность крамольной черни, которая хочет побольше жрать и поменьше работать. Чего они там горланят? Ведь он-то, черт подери, добрый протестант, а ему никто не чинит помех. Всякий может ходить в церковь, когда и как угодно, а господа святоши – так именовал он прелатов и пасторов – достаточно, слава богу, дают волю языку, без каких-либо придирок и препон со стороны герцога и кабинета министров. Мир так просто устроен. Надо только быть мало-мальски добросовестным, честным, храбрым, а превыше всего покорным своему богом данному государю. Как ни странно, но господин фон Редер, несмотря на такие убеждения, на близкую дружбу с герцогом и руководящую роль в католическом проекте, приобрел большую популярность в народе. Его неуклюжие плоские шутки передавались из уст в уста, случаи, свидетельствующие о его грубоватом добродушии, вызывали одобрительный смех. Как бывает нередко, народ, без всяких видимых оснований, явно симпатизировал грузному человеку с низким лбом, жестким ртом, нескладными, неизменно затянутыми в перчатки руками и резким, хриплым голосом; из всех военных штутгартцы бесспорно предпочитали его. Лишь ввиду его популярности приказ прекратить военное обучение городских конников прошел безболезненно.
А между тем в каждом закоулке города царила глухая напряженная тревога. Высший орган церковной власти объявил неделю поста и покаяния. Многие писали завещание. В пятое воскресенье великого поста нахлынули такие толпы жаждущих принять причастие, что церкви были освещены до глубокой ночи.
Парламент озаботился бесперебойным получением известий, рассылал верховых по всей стране разведать, не вступают ли в ее пределы иноземные войска. И в самом деле, из Вимифена вскоре пришло известие, что епископский передовой отряд, расквартированный в Мергентхейме, выступил из владений Тевтонского ордена в направлении Эльвангена; такие же вести пришли из Гогенлойской округи.
В то воскресенье великого поста городской декан Иоганн-Конрад Ригер страстностью своей проповеди превзошел самого себя. Уподобясь пророкам, он громил нечестие тех, что покушаются разбить скрижали евангелической веры и христианской свободы, внушительными, проникающими в душу словами показал он верующим, какую страшную ответственность перед богом, людьми и Римской империей берут на себя те, кто злоумышляет подобное. Раскатисто и мощно прозвучала из его уст угроза, что и ничтожное оружие в руках слабейшего становится смертоносной силой, коль скоро его направляет господь. Под конец же, обволакивая благоговейно внимающую паству мягким бархатным звучанием своего глубокого голоса, он в таких патетических, прочувствованных выражениях призвал ее углубиться в себя и покаяться, что изо всех концов огромного собора послышались рыдания потрясенных богомольцев. В городе эта проповедь получила широкую огласку. Успех конкурента больно уязвил государственного советника Иоганна-Якоба Мозера, и в бессонную ночь он твердо решил в свой черед обратиться с речью к народу; но он не подумает избрать такой легкий и удобный путь, как пастор Ригер, не станет пользоваться благолепием храма, как выгодным фоном; нет, он будет говорить к согражданам прямо на площади, не страшась герцогских соглядатаев. Сочиняя речь, он шагал по своему кабинету из угла в угол, выразительно жестикулировал, округлял патетические периоды, сам себе представлялся по меньшей мере Гракхом, Гармодием или Аристогитоном, а то и Марком Юнием Брутом,[65] и жестом древнего римлянина откидывал складки воображаемой тоги.
Он до того разгорячился, что кровь бросилась ему в голову и пот прошиб его. Он приписал этот прилив крови несварению желудка; может статься, он за обедом злоупотребил черничной настойкой, желудок же у него и без того вялый, а теперь и вовсе откажется работать. Он пожаловался на недомогание жене, ибо привык печься о своем здоровье, и озабоченная супруга дала ему выпить раствор глауберовой соли. Затем он вновь занялся подготовкой речи, и связанные с этим бурные телодвижения помогли лекарству оказать желаемое действие.
Назавтра он с многозначительно загадочной миной собрал вокруг себя толпу людей. За последние дни страже неоднократно приходилось разгонять скопища недовольных и крамольников; и тут на собравшихся тоже грозно надвинулись офицеры герцогской охраны, пешие и конные стражники. Оратор уже представлял себе, как его хватают за шиворот и ввергают в вечный мрак темницы. Тем не менее он собрал все свое мужество и, судорожно борясь со страхом смерти, начал заготовленную речь, как вдруг почувствовал томление, резь и колики в животе. То ли вчерашнее лекарство оказало запоздалое действие, то ли истинная его натура прорвалась сквозь натужную отвагу, – так или иначе, ему пришлось покинуть площадь под насмешливыми взглядами герцогских приверженцев и без лавров, пожатых соперником. Назавтра, в фиолетовом будуаре Марии-Августы, он все же произнес свою речь перед ней и Магдален-Сибиллой, чтобы не пропало даром столько тщательно скопленного огня. Магдален-Сибилла сидела в кресле, спокойная, умиротворенная, немного расплывшаяся, а Мария-Августа, в белом воздушном пеньюаре, перелистывала «Mercure galant» и время от времени, шаловливо улыбаясь, исподтишка науськивала свою китайскую собачонку на оратора; но тот мужественно договорил до конца, только весь взмок от усердия.
Не видя исхода гнетущей тоске и тревоге, граждане решили вновь послать депутацию к герцогу, дабы твердо, но с верноподданническим смирением заявить свои претензии. Чтоб не раздражать Карла-Александра, к нему послали не членов совета одиннадцати, один вид которых приводил его в бешенство, а трех достойных, степенных бюргеров спокойного нрава и обхождения. Они поехали в Людвигсбург, где герцог заканчивал свои приготовления. Прежде чем отправиться во дворец, они подкрепились закуской и стаканом вина в трактире.
– Слабое подкрепление перед столь трудным шагом, – сказал один.
– Если герцог столь же мрачен, как нынешний день, – сказал второй, – то нам не дождаться солнца.
– Да поможет нам господь! – сказал третий.
У дверей зала, где Карл-Александр принимал их, примостился Отман, чернокожий. До него глухо донесся хриплый от бешенства голос герцога: «Еретики, убийцы, изменники!» – затем неистовый топот, мало-помалу затихший. Несколько минут спустя он увидал возвращающихся делегатов, сперва двоих, а затем третьего. Он ясно видел, как они растерянны и запуганны, он поглядел им вслед большими звериными карими глазами с чуть заметной, загадочной усмешкой. Торопливо сбежали они с лестницы, вскочили в ожидавшую их карету, не задержались даже, чтобы поднять слетевший у кого-то из них берет. Весь путь они сидели молча, лишь старший один раз в своей великой тоске обратился к богу:
– Господь Саваоф, из бездны взываем к тебе, ниспошли нам спасение с высот твоих.
В Штутгарте толпы народа дожидались возвращения делегатов. Увидав их лица, горожане разошлись по домам угнетенные, повесив головы.
Совсем по-иному, чем области, подвластные герцогу, отнеслись к проискам католиков вольные города. Особенно в Эслингене Карла-Александра теперь изо дня в день открыто порочили и поносили. Здесь была значительная колония эмигрантов из герцогских владений, людей преследуемых, незаконно ограбленных, изгнанных. Сюда бежал Иоганнес Краус, здесь обосновался молодой Михаэль Коппенгефер, а также старик Кристоф-Адам Шертлин, в ком жизнь поддерживалась только ненавистью. Сколько жгучего, разъедающего душу презрения в их язвительных, пламенных, страстных речах! Пугливо забились по своим углам малочисленные приверженцы герцога; католики, попавшие в город проездом, были избиты. Над советником экспедиции Фишером, прежним начальником фискального ведомства и отцом Софи Фишер, отставной метрессы Зюсса, приехавшим в город по делам, эслингенская молодежь собралась учинить расправу, предварительно устроив перед окнами его гостиницы кошачий концерт; с великим трудом удалось городской страже отстоять вскочившего со сна, полуодетого, смертельно напуганного толстяка и выпроводить его за черту города.
Открытый вызов был брошен герцогу в последний, воскресный день недели поста и покаяния. В предшествующую ночь несколько подростков, при попустительстве городской стражи, привязали к позорному столбу два соломенных чучела с лицами герцога и его еврея и налепили на них оскорбительные, непристойные надписи. Весь воскресный день город Эслинген от мала до велика созерцал позорное изображение, зубоскалил, горланил, насмехался, улюлюкал, свистел и хлопал себя от восторга по ляжкам. Под вечер был сложен костер, пугала торжественно водружены на него, вокруг разложены вымазанные в грязи картины, где герцог с семью сотнями алебардщиков штурмует Белград, и все вместе подожжено по строго выдержанному шутовскому церемониалу. Ярко пылали чучела, а ликующие зрители пронзительно орали, кружились, толкали друг друга в бок, извивались, захлебывались, визжали от восторга.
Среди народа стоял и молодой Михаэль Коппенгефер, ярко-синие глаза на смуглом лице горели воодушевлением, он глубоко вздыхал:
– Ах, если бы всем тиранам такой конец!
Стоял среди народа и престарелый Кристоф-Адам Шертлин, глухо клокотало у него в тощей груди, бамбуковой тростью постукивал он оземь в такт незримой пляске, его высохшее, потемневшее, выщербленное лицо пылало дикой ненавистью. Стояла среди народа и красавица чужестранка, жена Иоганна-Ульриха Шертлина. Одета она была убого, муж ее совсем опустился, спился, стал бродягой, но голову она держала так же высоко, и так же надменно была вздернута ее короткая пунцовая верхняя губа. Продолговатые глаза бросали высокомерные взгляды на шумливую, орущую толпу, которая жжет чучела, а перед теми, кого они изображают, исправно гнет спину; соседка заговорила с ней; она посмотрела сверху вниз отчужденным презрительным взглядом, не вымолвила ни слова и медленно, чопорной, величавой походкой удалилась с площади.
В большой строгой неуютной комнате Беаты Штурмин подле слепой девы сидели Магдален-Сибилла, пастор Иоганн-Конрад Ригер, его брат, советник экспедиции Эмануэль Ригер, и магистр Шобер. На Магдален-Сибилле было голубовато-серое платье из дорогой ткани, но очень скромное по покрою и отделке. Она расплылась, ярко-синие глаза потускнели, смуглые щеки опали, движения стали ленивыми. Она сидела, раздобревшая, с виду удовлетворенная, истая добропорядочная мещанка, и внимательно слушала соборного декана, который рассказывал о своей вчерашней проповеди, об оказанном ею сильном, благодетельном воздействии на паству и приводил из нее выдержки особо звучным голосом, пустив в ход все свое ораторское мастерство.
В укромном углу сидел Якоб-Поликарп Шобер. Несчастный, затравленный, исстрадавшийся от своей двусмысленной роли при Зюссе и от необходимости сделать выбор, он искал здесь покоя растревоженной душе. Он сочинил стихи, в которых сравнивал себя с умершим супругом Иоганны Безумной. Королева возила его в гробу по стране, в грудь ему были вложены часы, чтобы их тиканье заменяло биение живого сердца. Так и у него, Шобера, непрестанно тикала совесть; лишь в кругу смиренных, благочестивых братьев и сестер обретал он хоть на время покой. Из своего укромного угла он поглядывал на проповедника, который шагал по комнате, напыщенно декламируя; поглядывал на слепую деву, которая сидела и слушала, кроткая, серая, бесцветная; поглядывал на советника экспедиции Эмануэля Ригера, который благоговейно ловил слова своего важного, прославленного брата. Но из того же укромного угла магистр видел, как при всем почтении к брату тощий, робкий молодой человек, невзрачный, несмотря на пышные усы, то и дело отрывал от него взор и с преданностью домашнего животного смотрел на Магдален-Сибиллу, которая восседала степенно, настоящей матроной, лениво сложа крупные, ожиревшие и все же детские руки на мощных коленях, в складках серебристо-голубого платья. Он видел этот робко вожделеющий красноречивый взор, и постепенно перед ним открывалась возможность нелегкой, но угодной богу жертвой несколько утишить муки своей совести. Разве своим скромным и почтительным поклонением в течение долгих гирсауских лет он не приобрел известных прав на Магдален-Сибиллу? И вот теперь он готов отказаться от них, готов скрепя сердце наложить узду на свои желания, готов смириться и безропотно уступить дорогу брату и другу своему Эмануэлю Ригеру.
Между тем соборный декан покончил с рассказом и проповедью, и тут произошло нечто неожиданное. А именно – Магдален-Сибилла с большим апломбом, без колебания и жеманства объявила, что пример возлюбленного брата Якоба-Поликарпа Шобера побудил и ее сочинить стихи. Не угодно ли благочестивой сестре и братьям выслушать ее произведение. То, что она затем прочла, были прозаические, унылые, шаблонные, скудные и нудные, морализующие вирши. Но слушатели не замечали убожества поэмы, они были искренне и бесхитростно восхищены, а у советника экспедиции Эмануэля Ригера даже слезы потекли по усам от умиленного благоговения.
На обратном пути магистр вызвался проводить советника экспедиции. Тот, в привычных ему серых и скучных выражениях, восторгался Магдален-Сибиллой. Тогда Шобер собрался с духом, откашлялся и растроганно объявил другу о своем решении принести себя в жертву. Белесые глаза советника экспедиции увлажнились, тонким, от волнения совсем беззвучным голосом он спросил друга, неужто он может надеяться? Если он осмелится поднять глаза на столь величавую, почтенную, достославную особу, не отвернется ли она от него, возмутившись такой непростительной дерзостью? Но Шобер счел возможным ободрить его, и он расцвел.
Магдален-Сибилла серьезно, но без неудовольствия выслушала его косноязычное от робости предложение. Она попросила дать ей время на раздумье, а затем села за стол, чтобы ответить в стихах. Лучшие часы проводила она теперь, сидя вот так за письменным столом и прислушиваясь к ритму и рифмам. Это увлекательно, это возвышенно, и получается весьма складно. Иногда у нее мелькала смутная мысль: вначале было слово, и слово было богом. Какая отрада чувствовать, как несут тебя плавно текущие слова, и в непрерывных грезах, качаясь на волнах ритма и рифм, погружаться в бога! На свете нет порядка, меры и лада, в нем одно одичание, глупость, бессмыслица, грязь. Здесь же и смысл, и лад, и чистота. Здесь можно мягко скользить над мутью, над тиной, над зловещими глубинами, тихо плескаясь и грезя. Мерное, плавное покачивание остужает жар, отравлявший прежде кровь, превращает его в безобидное тепло. Вершины и бездны мирские сглаживаются, равняясь по плоским и гладким александрийским стихам.
Так сидела она и сегодня, сочиняя ответ Эмануэлю Ригеру. Ее мысли и ленивые желания мягко раскачивались вверх и вниз, постепенно закругляясь многосложными, обстоятельными, бездарными, глубокомысленными строфами в робкое поначалу, а затем более твердое «да». Рифмы скрепляли пространные и подробные аргументы «за» и «против», рассуждения о свободе и долге, славословия закону, порядку, покою и твердому самообузданию.
Правда, была минута, когда посреди всех этих несокрушимо здравых и честных доводов разума рифма и ритм отказались служить ей. Мышцы ослабели в безмерной истоме, она ощутила на себе жаркий взор выпуклых, крылатых глаз, настойчивый, вкрадчивый голос ласкающе заструился по ней благодатно-теплой волной, и на мгновение ей стало ясно, какая убого скудная замена – все ее глупое рифмоплетство. Но она поспешно, как от дурного соблазна, отмахнулась от этого сознания и с мрачной решимостью, с неудержимой фанатической тягой к трезвому спокойствию дописала стихи до конца.
Подобный альянс девицы Вейсензе, невзирая на ее явное опрощение, всех немало поразил. Герцогу было досадно, что отныне эдакий глупый школяр и чинуша на законном основании будет лакомиться его объедками. Однако скупостью он никогда не страдал и подарил ей к помолвке поместье Вюртингхейм, знаменитое своими великолепными плодовыми деревьями. Даже Зюсс очнулся от своей страстной одержимости. Вот каков мир: глупо, мелко, скудно, безвкусно и убого в самой своей сути все, что на первый взгляд манит сочностью и силой. Впрочем, ведь и она втоптана в грязь и тину будней Карлом-Александром. Ну что ж! Пусть это и не входит в его намерения, пусть он следует лишь собственному внутреннему велению и закону
– так или иначе, но он избавит мир от зловредного и опасного зверя. Ни на миг не явилась у него мысль, что в падении Магдален-Сибиллы повинен он. Он велел оседлать кобылу Ассиаду и с великим блеском отправился в замок Магдален-Сибиллы. Загадочная неукротимая мощь была в этом мужчине, истерзанном ненавистью и душевным разладом, когда он в последний раз испытывал силу своих чар на женщине. Магдален-Сибилла в течение многих дней не могла опомниться от глубокого смятения, в которое поверг ее этот поздравительный визит.
– Вашему превосходительству как будто не по душе выбор Магдален-Сибиллы? – чуть насмешливо спросила герцогиня у Вейсензе; слова, как всегда, резво слетали с ее пухлых губ. Внезапно повернувшись к нему грациозным ящеричьим личиком, которое под блестящими волосами сияло цветом старого благородного мрамора, она лукаво усмехнулась: – Неужели ей лучше было бы выйти за нашего придворного еврея?
– Да, ваша светлость, – отвечал Вейсензе. – Во сто раз лучше. – Это прозвучало из уст изысканного, любезного кавалера таким воплем горечи и злобы, что герцогиня с любопытством и некоторым смущением взглянула на него и, помолчав немного, перевела разговор.
В аванзале камердинер Нейфер затворил дверь за вошедшим в кабинет герцога Зюссом. Тут же за спиной финанцдиректора вся чопорная важность слетела с него, лакейская физиономия завистника исказилась грубой, жестокой, бессильной яростью. Еврей! Вечно еврей! Правда, как-то раз, пока Нейфер раздевал его, герцог, не помня себя от бешенства, грозился засадить еврея в крепость, три года продержать в кандалах, а затем повесить. Но какой в этом прок! Правителем государства все-таки был и оставался еврей. Герцог бранил его советы, хвалил советы других; когда же доходило до дела, он неизменно поступал по указке еврея.
В другом углу аванзалы на ковре примостился чернокожий. Он отлично видел, как с лица камердинера на миг сползла лакейская маска, и в глубине души посмеялся наивной откровенности христианского собрата. Но вслух не вымолвил ни звука, по-звериному застыв в ленивой позе, с непроницаемым лицом.
Тем временем Зюсс делал доклад герцогу. Через два дня, считая от нынешнего, заговорщики думают выступить; все приготовления закончены. По официальной версии, герцог сперва уезжает проинспектировать, в качестве имперского фельдмаршала, крепости Кель и Филиппсбург, а затем думает посоветоваться насчет больной ноги с данцигским медиком Гульдероном, знаменитым ортопедом. На время своего отсутствия Карл-Александр назначает временное правительство, во главе с герцогиней, – которая очень гордилась такой важной ролью, – и в составе министров Шефера, Пфау, государственного советника Лауца, генералов Ремхингена и Редера. Это правительство за время отсутствия Карла-Александра совершит государственный переворот: по занятии всех стратегических пунктов оно опубликует приказ об уравнении в правах католического и лютеранского вероисповедания, об изъятии оружия у населения, об отмене целого ряда параграфов конституции, о взимании платы за исповедь, об обязательной сдаче серебра в герцогскую казну и прочее.
Зюсс еще раз вкратце изложил главные положения: проект должен быть осуществлен в одну ночь без каких-либо заминок и препятствий. Карл-Александр покидает страну конституционным государем и спустя несколько часов возвращается абсолютным монархом. Стоит осуществлению проекта затянуться, возникнуть задержкам, препятствиям, кровопролитиям, как все пойдет прахом и малодушные маловеры окажутся правы. Ибо при всем искусстве иезуитов дальше уже немыслимо извращать конституцию. Единственный выход – уничтожить ее, это же делается не постепенно, а одним решительным натиском. Стоит чему-нибудь не заладиться, и уже самый факт применения силы будет истолкован как сознание герцогом и его сподвижниками собственной неправоты; Corpus Evangelicorum накинется на них, и рамки конституции станут еще теснее и несокрушимее. Если дело дойдет до прямой борьбы, у конституционной партии окажется много сильных приверженцев по всей империи. Лишь перед молниеносным успешным переворотом склонятся все: одни с усмешкой, другие со скрежетом зубовным. До сих пор, когда остальные рвались выступить открыто, лично он всякий раз стоял за осторожность и осмотрительность; в данном случае нужно только прямое, стремительное нападение, несущее в одном лоне торжество или погибель.
С несокрушимой логикой и четкостью Зюсс вновь привел герцогу все доводы, давая им научное обоснование. А затем еще вдохновенней и красноречивей стал доказывать, что, оставив в стороне практические соображения, он даже помыслить не может, как будет поругана Идея, прекрасная Идея, утверждающая, что княжеская власть дарована от бога, если ее затреплют и затаскают тяжбами, юридическими уловками, мелкими стычками с национальной гвардией и жалкой мизерной борьбой. Здесь воистину стоит вопрос – все или ничего. Герцогство естественным путем должно возвратиться в лоно своего государя, если же нет, – значит, вместилище недостойно столь великой идеи.
Задыхаясь, захлебываясь от скрытого гнева, внимал ему Карл-Александр. Еврей прав как всегда, и до чего же хорошо выразил он свою мысль! Но в какие глубины умеет он заглядывать! Прочь, прочь его, уничтожить навеки, ввергнуть во мрак! Как это он выразился: вместилище недостойно столь великой идеи? Какое вместилище? Конечно, быть не может, чтобы проект потерпел крах; но тем не менее – какое такое недостойное вместилище? Страна? Или же – и еврей посмел это вымолвить! – или же он сам, государь? Ну да, он все смеет! Под учтивой, раболепной образиной прячется измывательски наглое, презрительное, подзадоривающее сомнение. Долой бессовестно дерзкого мятежника! Он во сто раз хуже меднолобых, тупоумных парламентских смутьянов! Те просто завзятые ослы. Этот же ухмыляется, лебезит, а сам все видит, все понимает, его насмешливые, беззастенчивые сомнения отравляют душу. Прочь его! Уничтожить! Навеки ввергнуть во мрак!
– Ваша светлость изволили уже избрать пароль? – спросил невозмутимый, деловитый голос еврея.
– Да, – сказал Карл-Александр по-военному кратко и резко. – Наш пароль: Attempto!
Удивленно, с легкой одобрительной усмешкой взглянул на него Зюсс. Attempto! Дерзаю! То была смелая, наглая, почти гениальная шутка. «Attempto! Дерзаю!» – сказал Эбергард Бородатый и первый из германских государей даровал своему народу конституцию. Attempto! Дерзаю! – гласила надпись на кедровом древе, привезенном им из крестового похода. Не было дома во всем герцогстве, где бы не висел его портрет с этим атрибутом. Под этим отважным лозунгом он отрекся от большей части своих прав и возвратил их народу. И не было в стране человека, кто бы, даже не зная по-латыни, не понимал слова «Attempto!», ибо оно было основой конституции и всех гражданских свобод.
И это самое «Attempto! Дерзаю!» избирал теперь Карл-Александр паролем к уничтожению установленной его предком конституции, к захвату власти и водворению открытого абсолютизма на место широкой демократии. Черт побери! Тут мало было мужества, тут потребовалось и остроумие. Молодец Карл-Александр!
Торжествующий и окрыленный отправился Зюсс домой. Он, он сделал этого человека таким, каков тот стал теперь, он зажег в нем огонь, он превратил порывистое, похотливое, грубое животное в истинного государя. О да, он избрал правильный путь. Как недостойно и глупо было бы тогда прямо вцепиться ему в горло. Теперь же он выпестовал свою жертву, поднял ее достоинство и ценность. Священнослужителю и богу не угодно отощавшее животное. Жертва, чью кровь он готовится принести в дар, достаточно упитанна.
Он шагал у себя по кабинету радостно возбужденный: все свечи были зажжены даже в прилегающих комнатах. Как это говорил рабби Габриель? На каждом празднике, которым вы чтите умершего, присутствует он, вокруг каждого изображения, которым вы запечатлеваете его, реет он, внемлет каждому слову, которое раздается о нем. Всеми помыслами, всей кровью, всеми силами души призывал он умершую; но она не шла, лишь в туманной мгле она смутно виделась ему. Теперь же он уготовил ей праздник жертвоприношения, на который должна же она, должна прийти. Не только телесно принесет он ей в жертву герцога, но и душу его он так обработал, чтобы она рассталась с телом в самый тот миг, когда ее честолюбие распустится пышным цветом. А душа честолюбца воплощается в пламя, разметавшись пламенем, тысячекратно раздирается каждую секунду, на протяжении новой вечности. Приди, Ноэми! Приди, дитя, прекраснейшая, чистейшая лилия долины. Приди ко мне! Из обломков разрушенного королевства готовлю я тебе пир, настоящего монарха приношу я тебе в жертву, и душу его превращаю навеки в разметавшееся пламя! И вот я зову тебя, Ноэми, дитя мое! Приди! Голубица моя в ущелье скалы, под кровом утеса! покажи мне лицо твое, дай мне услышать голос твой, потому что голос твой сладок и лицо твое приятно.
Он остановился, опомнился. Ах да, он позабыл еще об одном. Он не хотел, ни в коем случае не хотел, чтобы кому-нибудь могло показаться, будто он сочетает свою месть Карлу-Александру с заботой о личной своей безопасности или даже прибыли. Ни в других, ни в самом себе не должен он допустить и тени подобного подозрения. Если из его замысла неожиданно возникнет польза для страны, то это дело второстепенное, которого он не думал ни добиваться, ни избегать, но для себя лично он заранее хочет уничтожить всякую возможность выгоды. Он существует ради того, чтобы напитать соком и туком душу князя вюртембергского, Карла-Александра, а когда она набухнет от соков, раздавить ее. Ради этого искупительного жертвоприношения он существует. А что будет потом, ах как это безразлично и ничтожно!
Он призвал к себе магистра Шобера. Тот явился, перепуганный, заспанный, в страхе, что финанцдиректор подвергнет его совесть новым испытаниям. Жалкий, в длинном до пят шлафроке, впопыхах не успев одеться, стоял он и глядел на своего господина круглыми, боязливыми ребячьими глазами. Зюсс был на редкость бодр, весел и добродушен. Он осведомился, почему медлит появлением в свет сборник стихов магистра, раз деньги уже давным-давно посланы в печатню. – Как изволили почивать, ваша светлость? – закричал попугай Акиба. Магистр пробормотал, что он уже правит корректуру и недели через две-три поэмы его выйдут в свет. Зюсс, без всякого перехода, положил ему руку на плечо, лукаво ухмыляясь, скривил рот, сказал фамильярно, игриво:
– Плохой ты протестант, магистр, черт меня побери! – Тот дрожа пролепетал что-то невнятное, а он продолжал: – Я по своей расчетливой еврейской морали на твоем месте решил бы так: если я предам еврея, то предам одного-единственного, и притом еврея; если же я не предам еврея, то предам целый миллион евангелических христиан. А потом пошел бы и все до мельчайших подробностей рассказал Штурму, или Егеру, или еще кому-нибудь из совета одиннадцати. Я нахожу твою верность и скрытность прямо-таки вопиющими, магистр.
Якоб-Поликарп Шобер весь дрожа стоял на ярком свету, не решаясь отереть холодный пот, который струился по бледным, пухлым ребячьим щекам, и уставясь пугливыми растерянными глазами на еврея.
– А теперь ты, верно, считаешь меня сумасшедшим? – после паузы добродушно спросил тот. – Нет, магистр, я совсем не сумасшедший, – сухо продолжал он, немного помолчав. – Во всяком случае, не больше, чем всякий другой.
В ярко освещенной комнате воцарилась мертвая тишина. Снаружи донесся тяжелый шаг ночного дозора. Зюсс сел, съежился точно в ознобе, хотя комната была жарко натоплена, и, казалось, совсем позабыл о замершем в странной, неестественной позе Шобере. Внезапно заговорил вновь:
– Я помогу тебе разрешить твои колебания. Ступай к господам парламентариям и скажи им: время – ночь на вторник, пароль – Attempto! – и если они хотят обойтись без кровопролития, да так, чтобы весь проект попросту рухнул, точно марионетка на перерезанной проволоке, пускай пошлют в понедельник вечером депутацию в Людвигсбург. Мамелюк будет ждать их у бокового входа в левое дворцовое крыло и проведет к герцогу.
Пока Зюсс все это излагал обстоятельно и деловито, у Шобера глаза на лоб полезли от напряженного внимания, недоумения и растерянности.
– Одного я требую от тебя, – продолжал Зюсс прежним деловито бесстрастным тоном, – ты должен клятвенно обещать мне, что никогда ни единая душа не узнает, что я сказал тебе об этом, а тем паче что я тебя послал.
– Ваше превосходительство, – пролепетал наконец Шобер, – я не понимаю вас, я ничего решительно не понимаю. Я так счастлив, что господь подвигнул вас на спасение евангелической веры. Но коль скоро еретический проект постыдно рухнет, а никто не узнает, что его провалили вы, тогда ведь, с позволения вашей милости, ландтаг прежде всего привлечет к ответу вас. Я, конечно, не силен in politicis,[66] но даже сам герцог не защитит вас тогда.
– Нет, герцог не защитит меня, – сухо сказал Зюсс. – Не надо тревожиться об этом, магистр, – добавил он мягко, приветливо, чуть не по-отечески. – Уж очень потешный получается камуфлет. Герцог-католик хочет обратить в католичество протестантскую страну, а еврей скорее готов идти на виселицу, нежели допустить это. Этому не придашь ладу, каким ни будь поэтом.
Колени подгибались у Якоба-Поликарпа Шобера, когда он после этой беседы, шатаясь и волоча полы шлафрока, брел по темным коридорам дома. А у себя в комнате он метался из угла в угол до самого утра. Все для него было неясно, смутно и туманно. Одно он осмыслил твердо: господь все-таки избрал и отличил его. Без устали шагал он по комнате, подол и кисти шлафрока подметали пол. Старая серая кошка проснулась и поплелась за ним следом. Это была избалованная старая кошка и желала, чтобы он взял ее на руки или, как обычно, положил с собой в постель, и потому мяукала. Но он шагал взад и вперед и не слышал ее.
А еврей, когда ушел магистр, потянулся, обнажил крепкие зубы. Перед висевшим над письменным столом портретом герцога, на котором Карл-Александр собственноручно, своим размашистым почерком, сделал очень милостивую надпись, он остановился, промолвил тихо: «Adieu, Louis Quatorze![67] Прощай, германский Ахилл! – И еще раз, резче: – Прощай, германский Ахилл! Adieu, Louis Quatorze».
Уже не дитя владело его мыслями. Это было сведение счетов между ним и герцогом, дитя тут было ни при чем. Зюсса несло по волнам темного, дымно-красного моря заполонившей ум и душу ненависти. Как оно бурлило! Как шумом своим проникало в уши и сердце! Какой у него был одуряюще сладостный запах! Он слышал вопль ярости насмерть обманувшегося герцога, видел налитый кровью взгляд человека, у которого он вырывал из рук цель всей его волевой, дерзновенной жизни, как раз когда тот со вздохом радости собрался впиться в нее пальцами. Какое торжество прижать коленом грудь врага, какое торжество и отрада сдавить пальцами горло врага, чтобы рот его ловил воздух, точно дар божий, стискивать все крепче, не спеша, вперив насмешливо-победный взгляд в угасающий взор врага! Вот это жизнь! Вот ради чего стоит жить!
В его безумные сладостные мечты внезапно пугающе беззвучно проскользнул живой человек. То был Отман, чернокожий. Он поклонился, доложил, что герцог отдал приказ генералу Ремхингену.
– Какой приказ?
– Список.
Ах, да, список подлежащих аресту, который был составлен самим Зюссом для герцога; но вряд ли Карл-Александр станет сообщать ему среди ночи такую несущественную весть. Мало вероятия. Скорее, у самого чернокожего есть более важные секретные донесения. Внимательно вгляделся Зюсс в его непроницаемое лицо. И вот уже тот начал перечислять имена. Иоганн-Георг Андрэ, Иоганн-Фридрих Белдон. Ага, список подлежащих аресту в строго алфавитном порядке. Но к чему это? Он и так все знает, ведь он же сам составлял список. Чернокожий перечислял дальше: Иозеф Зюсс Оппенгеймер. Зюсс не дрогнул. Фридрих-Людвиг Штофлен, Иоганн-Генрих Штурм. Дойдя до конца списка, чернокожий не произнес ни слова, поклонился, ушел.
Оставшись один, Зюсс почти весело засвистал сквозь зубы, улыбнулся. Приятно иметь еще одно подтверждение. Его это искренне позабавило. Бог свидетель, и шутник же этот Карл-Александр! Хоть бы он дал Ремхингену особый приказ о его аресте. А то так просто внести его в общий список, в его собственный, им составленный список – это… это поистине княжеская шутка. Он представил себе, как они оба, герцог и Ремхинген, сидят, нагнувшись над списком, как герцог неуклюжим размашистым почерком выводит: Иозеф Зюсс Оппенгеймер, финанцдиректор. И как потом они, государь и генерал, безмолвно переглядываются, герцог – злобно усмехаясь, Ремхинген – широко осклабясь. Гуманный Карл-Александр! Благожелательный, великодушный государь! Вот сидишь ты и потешаешься над своим глупым евреем, который исправно добудет тебе прямо с неба корону, а ты в награду засадишь его в крепость. Эге! Поздно спохватились, ваша светлость! Твой еврей взобрался на ступень выше, успел накинуть тебе на шею петлю и потешается над твоей наивной утехой. Эх ты, монарх! Великий государь и герой! Эх ты, похотливый, тупой глупец и насильник, убийца и негодяй!
Без устали шагал он по кабинету и лихорадочно думал. Припомнил, как однажды он играл с собакой, отнимая у нее пищу всякий раз, как голодный пес пытался схватить ее; и наконец тот пребольно укусил ему руку. Он ясно видел жгучую ненависть и кровавое бешенство в глазах животного, которое раздразнил, всякий раз обманывая его ожидания. С тобой, Карл-Александр, я играю более жестокую игру. У тебя я отнимаю более сочный кусок. Готовься к прыжку, как зверь, учуявший добычу! Пожирай ее алчным взором! Пиль, герцог! Пиль, государь мой и повелитель!
Двое суток, еще неполных двое суток; всего сорок пять часов. Улыбка явственнее обозначилась на его губах, одиноко шагал он по горящей свечами анфиладе зал. Вдоль стен белели мраморные бюсты Гомера, Аристотеля, Моисея и Соломона, под миниатюрными пагодами прогуливались китайцы с длинными косами, на потолке раскинулся многофигурный триумф Меркурия, витрины сияли драгоценными безделушками, а у себя в позолоченной клетке попугай Акиба кряхтел: «Bonjour, Madame?» и «Ma vie pour mon souverain!» Но одинокий человек, без устали бродивший по освещенным залам, не слышал, не видел ничего, до краев переполненный своими мыслями, видениями, мечтами.
А в тот же час мамелюк, воротясь во дворец и растянувшись на коврике в углу герцогской опочивальни, слышал, как в тяжелом сне стонет, мечется и хрипит Карл-Александр.
Был уже поздний вечер, когда учитель наш рабби Габриель Оппенгеймер ван Страатен прибыл в Гамбург в дом своего друга, учителя нашего рабби Ионатана Эйбешютца.[68] Дом был полон посетителей и почитателей, пришедших за советом, и, хотя ученики непрестанно втолковывали им, что рабби погружен в книги, в размышления и нет надежды, чтобы он принял их, они не отступали, в чаянии хотя бы лицезреть его. Многие издалека явились повидать его, из прежних его общин, Кракова, Меца, Праги, из еще более отдаленных мест, из Прованса и даже с берегов Черного моря. Ибо имя рабби Ионатана Эйбешютца, гамбургского раввина, благоговейно чтили вплоть до самых дальних краев.
Но и поносили и жестоко ненавидели его вплоть до самых дальних краев. Ой, как издевался над ним учитель наш рабби Якоб Гершель Эмден,[69] амстердамский раввин, как раздирал его в клочья холодной насмешкой, раз и навсегда заклеймив его, как врага Израиля, талмуда, раввинов и слова истинного. Рабби Ионатан Эйбешютц – это имя раскалывало пополам все иудейство; во всех школах, молельнях, на всех соборах имя это вызывало распри, благословения и славословия, насмешки и проклятия. Что же это был за человек? Был ли он из числа тех ученых талмудистов, которые рьяно, придирчиво, крикливо защищают обрядность, ожесточенно торгуются за каждую букву, в яростно упорных спорах пядь за пядью отстаивают высокую твердыню закона? Может быть, познания в философии, истории, математике, астрономии источили в нем подлинную, словом и делом освященную веру, научили презирать и осмеивать раввинские навыки? Действительно ли он верит в учение Каббалы, следует ему, признает себя тайным последователем и преемником мессии Саббатая Цеви,[70] благословляя, кляня и творя чудеса именем этого спасителя? Зачем же он тогда публично проклинает последователей Саббатая и торжественно предает их отлучению? И тут же посылает сыновей своих в Польшу к франкистам,[71] фанатичным последователям этого сомнительного мессии? Правда ли, что этот ревностный, правоверный учитель-талмудист шлет письма французским кардиналам, отцам иезуитам в Рим, прося их сделать его цензором древнееврейских книг? Если не в насмешку, то для чего же поручает он защищать от всяческих нападок свою строго раввинскую ортодоксальность не кому иному, как гельмштеттскому профессору Карлу Антону, бывшему своему ученику, ныне ставшему христианином и ревнителем христианского вероучения?
Низко склонились ученики рабби Ионатана перед рабби Габриелем. «Мир тебе!» – сказали они, и замкнутая дверь учителя распахнулась перед ним. Благостно сидел под светом лампы в своей рабочей комнате рабби Ионатан Эйбешютц, мудрейший и хитроумнейший из людей. Ласково, кокетливо, слегка иронизируя над самим собой, улыбнулся он из-за огромной, белой как кипень бороды, разросшейся скорее вширь, чем в длину, чуть заметно раздвоенной по обычаю каббалистов, и радостно приветствовал безбородого, окаменевшего в угрюмой тоске пришельца. Все в рабби Ионатане, несмотря на подчеркнутую величавость, было округлым и располагающим. Длиннополый кафтан тяжелого, драгоценного шелка мягко облегал его; из широкого рукава высунулась для приветствия очень маленькая белая, холеная рука. Из-за пышной белой волнистой бороды ласково улыбалось румяное, совсем не морщинистое лицо. Лишь над кругленьким носом и приветливыми, проницательными, лукавыми и все же глубокими, карими глазами отвесно врезались в белый, мясистый, выпуклый лоб три борозды, образуя букву Шин, зачинающую священнейшее имя божье: Шаддаи.
– Да не посетует и не прогневается на меня брат мой и господин! – приветствовал он гостя на древнееврейском языке. Он улыбнулся, и в улыбке его была мудрость, и безволие, и кокетство, и сознание вины, и даже капелька лукавства. Но все покрывала чарующая, умиротворяющая любезность.
Однако на рабби Габриеля его чары не действовали. Чересчур большие блекло-серые глаза над маленьким приплюснутым носом излучали беспредельную печаль, а от тяжелого, широкого и невысокого лба, нависшего над густыми бровями, исходила гнетущая скорбь. Но рабби Ионатану Эйбешютцу хотелось оградить себя от этой скорби.
– Читал ты, – спросил он беспечно, почти ласково, – читал ты, Габриель, новый памфлет этого, как бишь его, ну этого краснобая?
Речь шла о главном труде Якоба Гершеля Эмдена, амстердамского раввина, его яростнейшего противника. – Вот уж двенадцатый пасквиль – по одному на каждое колено Израилево, – которым разразился против меня этот милейший человек, – продолжал он, и карие, мудрые, лукавые глаза его засветились веселой насмешкой, – Якоб Гершель из Амстердама стал почитателем двенадцатиконечной звезды. – Маленькой холеной рукой перелистал он большие страницы памфлета. – Жалкий пошляк! – сказал он с сочувственной иронией. – Все-то ему должно быть понятно, просто и ясно как день! Ему, скудоумному, холодному насмешнику, не понять, что засушенный цветок становится сеном на потребу мулу! Строчит послания! Доказывает, что Зогар[72] – апокриф, что рабби Симон Бен Иохаи никак не мог его написать! Вопит: «Подделка!» – как будто важно, чья рука писала, а не чья душа направляла руку. – Он покачал головой, и хитрая усмешка мелькнула на благостном лице с белой как кипень волнистой бородой.
Но тон его не встретил отклика у рабби Габриеля.
– Почему ты отринул учеников Саббатая? – спросил он скрипучим голосом.
– Почему ты петляешь, увиливаешь, отпираешься? Почему ты поручил гою защищать тебя глупыми, нелепыми софизмами? Почему не сложишь с себя свое звание? Неужто тебе так важно быть гамбургским раввином и видеть свой дом полным людей? Почему ты, – и в голосе у него было сожаление и угроза, – почему ты отринул самого себя?
Ионатан Эйбешютц засмеялся коротким, располагающим смешком из недр своей благостной бороды.
– Брось, Габриель, – сказал он, – за два года ты не стал мягче, а я не стал суровее. Я мог бы возразить тебе: «Не все ли равно, кто он будет, еврей ли, или гой, или мусульманин, если ему открыт вышний мир?» Я мог бы возразить тебе: «Хорошо, Карл Антон, мой ученик, крестился; но разве не больше общности и близости у меня с ним, чем с реб Якобом Гершелем Эмденом, хоть он и правоверный еврей и хитроумная ученая голова, но при этом, к сожалению, ограниченный скучный человек, слепой к видению вышнего мира и глухой к голосам его?» Я мог бы возразить тебе: «Мессия Саббатай Цеви сам перешел в мусульманство во имя спасения идеи и принципа, а его ученик. Франк, крестился; почему же мне не позволено принять обличие неумолимого рабби, с угрозой на устах и улыбкой в сердце изрыгающего против самого себя бесплодные проклятия?» Я мог бы возразить тебе: «Быть мучеником легко, куда труднее, идеи ради, выставлять себя перед людьми в сомнительном свете». Вот что я мог бы возразить тебе. Но лучше я ничего не скажу. – Он встал, приветливый, величавый, в длиннополом шелковом кафтане, подошел к приземистому, хмурому, старомодно, по-чиновничьи одетому старику: – Я признаю, я слаб, я безрассуден и суетен, – очень ласково и как-то по-детски простодушно сказал он. – Рок был ко мне благосклонен, сделав меня сосудом великой мудрости, я мог бы стать тем руслом, по которому струятся могучие потоки от мира вышнего к миру низшему и веет дыхание божие. Но я оказался негодным, бренным сосудом. Никто глубже меня не сознает и всем своим нутром не ощущает, какой блаженный покой обретем мы в боге, сколь суетны, обманчивы и тленны блага низшего мира. Но я неустанно вновь и вновь стремлюсь назад, в этот низший мир. Знание прекрасно, знание по ту сторону от дел мирских; кто обрел знание и покой, тот огражден от новых тягостных воплощений души. Дела мирские безрассудны, дела мирские глупы, грязны, животны и оставляют по себе горечь и пустоту. Но я неустанно стремлюсь к делам мирским, к суетности и тщете. Позволь мне быть глупым, дорогой мой друг. Позволь мне быть грязным и уподобляться животному! Позволь мне больше заботиться о бороде своей, нежели о душе! – И закончил дерзновенной шуткой: – Душу свою я найду и отмою от скверны через мириады лет; но кто поручится мне, что я второй раз найду такую великолепную бороду?
Плавно текли эти кощунства с ласковых, елейных, красноречивых уст мудрого, легкомысленного, заблудшего рабби. Собеседник слушал их, хмурый, окаменелый, невозмутимый. И вдруг перед ним встала картина: камень, пустыня, потрескавшиеся льдины; нежный, дразнящий блеск вверху, нависшая туча, полет коршуна, мрачное и дикое своеволие гигантских, низвергнутых на льдины глыб. Ошеломленный видением, он понял: то же расстояние здесь и там. Недаром предчувствие погнало его от человека, которому он был обречен, к этому, другому человеку. У голых бесстыдных грудей Лилит покоился тот; но стремился он и тянулся к миру вышнему; среди святых и праведников в серебристой бороде Симона бен Иохаи покоился этот, но алкал он сосцов Лилит. Та же картина, то же подобие. Но тот человек был ближе к совершенству, чем этот.
Он не стал отвечать, когда Ионатан Эйбешютц наконец умолк.
– Мир тебе, брат мой и господин! – сказал он только и ушел в отведенный ему покой.
Ионатан Эйбешютц поглядел вслед его плотной, круглой, чуть согбенной спине, благостная, беспечная улыбка постепенно исчезла, и, несмотря на белую как кипень бороду, вид у него был менее величавый и самоуверенный, когда он вновь сел за свои книги и пергаменты.
Усталый и возбужденный Карл-Александр откинулся на подушки кареты. Он ехал в Людвигсбург, чтобы оттуда отправиться за границу и лишь по завершении переворота возвратиться домой. Он провел два утомительных дня в сплошных карнавальных празднествах, которые, невзирая на великий пост, были устроены двором в честь имперского графа Пальфи; граф прибыл в качестве особоуполномоченного венского двора; это было весьма милостивым вниманием со стороны императора, желавшего тем самым показать, что он закрывает глаза на предстоящий государственный переворот и заранее санкционирует его. На рассвете Карл-Александр простился с герцогиней. Эту ночь он провел с ней, безудержно похваляясь своими грандиозными замыслами и уверяя ее, что она последнюю ночь проводит незначительной немецкой княгиней: отныне она займет подобающее место среди европейских монархинь, и вскоре, надо полагать, ее будут именовать иначе, нежели незавидным титулом светлости. Жарким возбужденным шепотом внушал он прекрасной нагой женщине свои мечты, она слушала его чуть насмешливо, но все же была захвачена его пылом, и на жаркие объятия откликалась жарче, чем обычно. Усталый от насыщенного, многозначительного прощания, чуть осовев, но дрожа от возбуждения, откинулся он на подушки кареты. Обычно он с полным хладнокровием шел навстречу любой авантюре, даже не вздрагивал, когда под ним падал подстреленный конь. А нынче, что за чертовщина! По всему телу пробегает озноб, точно муравьи завелись у него под кожей. Хорошо еще, что графа Пальфи он отправил вперед и можно хоть немного побыть одному. И проклятая нога упорно и надоедливо ноет. Чему удивляться? Погода на редкость гнусная. То солнце, то снег, то снова слепит яркое солнце: все вперемежку. Дул сильный, сырой ветер, обрывки облаков бешено мчались по небу. К тому же впереди, в Эглосгейме, был пожар, и отблеск огня раздражал лошадей. Смутное воспоминание мелькнуло у Карла-Александра; медно-красный, как сейчас зарево пожара, кривился рог молодого месяца, а из темного враждебного леса веяло потусторонним ужасом, мертвая девочка белела на земле среди цветов, на резком ветру. Глупое воспоминание. К чему оно? У него сейчас, видит бог, найдутся мысли поинтересней.
Вот и Людвигсбург. Но и тут ни минуты покоя. Курьеры, донесения из дальних крепостей, разговоры с Шефером, Ремхингеном, Пфау, заботы, суета. Хоть бы замолчала эта окаянная музыка! А ведь он сам распорядился, чтобы перед апартаментами меломана-графа играл оркестр придворного театра. Он вдруг почувствовал голод, потребовал бульону, хотел выпить его залпом, но обжегся, швырнул чашку об стену. А тут еще жалобный стон набата над пожарищем в Эглосгейме. Порывистый ветер, дымящие камины. По всему дворцу дребезжат оконные стекла, хлопают двери. А в придачу ко всему – оркестр. Герцог места себе не находил. Музыканты и актеры хихикали исподтишка – лихорадка его треплет, как перед премьерой. Так наконец подошел вечер.
В Штутгарте в этот вечер было очень тихо. Нигде не зажигали огня. Но в темноте слышался топот многих ног, заглушенное бряцание и стук, шепот, беготня. Все горожане знали, что настал решительный час. Сообщение Шобера возымело действие. Все были вооружены, насторожены, полны глухого, гнетущего ожидания. Хоть и робели, но готовы были дать бой. Никто в Штутгарте не спал в эту ночь, кроме малых ребят. Люди в сотый раз повторяли одно и то же на ухо соседу, кляли, желали, боязливо, но храбрясь перед другими, пробовали оружие. И ночь была исполнена настороженной готовности.
Между тем в Людвигсбургском дворце зажгли все свечи. Перед отъездом за границу герцог давал придворный бал в честь чрезвычайного посла императора графа Пальфи и вюрцбургских советников. Общество собралось немногочисленное, приглашены были исключительно лица, осведомленные о предстоящем государственном перевороте. Очень много военных, среди них оба Редера – генерал и майор. Ухмыляясь, пригласил Карл-Александр шумливого узколобого вояку в Людвигсбург; конная национальная гвардия нынче ночью обойдется без командира. Не откликаясь на шутку – он очень серьезно относился к своим обязанностям, – выпучив глаза и застыв с поднятой под козырек уродливой, затянутой в перчатку лапой, майор поблагодарил за лестное приглашение. Высовывая из гигантских допотопных брыжей сизо-багровое костлявое лицо с ястребиным носом, дон Бартелеми Панкорбо озирал залу; одряхлевший Вейсензе держался все время поближе к Зюссу, умные глаза его щурились, он принюхивался, он чуял адский пламень, бурю, катастрофу. Сам Зюсс был блистателен, как в лучшие свои времена, выпуклые, крылатые глаза его поспевали всюду, он был галантен, остер, горделив, его уверенное, победоносное настроение шло вразрез с тревожной неуравновешенностью Карла-Александра. Минутами в глаза Зюсса погружался темный звериный взор мамелюка, который ранее, склонясь в низком поклоне, молча выслушал его краткие, данные шепотом распоряжения, и теперь взгляд одного подтверждал торжествующее ожидание другого.
Поздним вечером в Штутгарте должны были начаться аресты главарей конституционной партии, и одновременно в пределы герцогства должны были вступить вюрцбургские и баварские вспомогательные войска. До прибытия курьера с известием о благополучном выполнении этой части плана Карл-Александр думал пробыть с гостями, а затем, успокоившись, пойти спать. Он отдал приказ, чтобы в опочивальне его ждала новая певица, мадемуазель Тереза, бойкая особа с огненными глазами и горячим телом. За последние два года он приучился перед первым свиданием с новой любовницей прибегать к возбуждающим средствам, он непременно желал поразить каждую новую любовницу своей необычайной мужской доблестью; сегодня, после прощальной ночи с Марией-Августой, он велел чернокожему увеличить дозу.
А курьера с радостной вестью все не было да не было. Тревожное ожидание герцога дрожью отзывалось в гостях, трепетало по всему залу. Снаружи буря бушевала с прежней силой, дождь, временами с градом, барабанил в окна; запах дыма от неисправных труб так и не удалось выветрить. Как ни ярко горели мириады свечей, как ни гремела музыка, как ни усердно разливали отменные вина из самых старых бочек, как ни сияли параднейшие наряды и нарочито праздничные улыбки, но, кроме лихорадочной, судорожной веселости, ничего не получалось.
Карл-Александр в кругу гостей громогласно задавал милостивые вопросы и тут же, не дослушав ответа, оборвав на полуслове, задумывался. Мамелюк неслышно приблизился, доложил, что мадемуазель Тереза уже в будуаре. Герцог бесцеремонно заявил:
– Ничего, девка подождет, – и сел с Зюссом за игорный стол. Мамелюк принес ему в серебряном кубке возбуждающий напиток и застыл перед ним в смиренной позе.
– Крепко ты его заварил? – спросил Карл-Александр.
– Да, ваша светлость, – хрипловатым, бесстрастным голосом отвечал мамелюк.
Карл-Александр залпом проглотил питье. Продолжал играть. Много выиграл. Но оставался безучастным, отсутствующим. Распахнув парадный зеленый мундир, то опираясь рукой на обтянутое желтыми рейтузами колено, то теребя золотую цепочку, он делал большие паузы между взяткой и ходом.
– Что это курьер не едет? – волновался он.
– Буря, бездорожье, – успокаивал Зюсс.
Чернокожий приблизился вновь своими неслышными скользящими шагами. Доложил, что девица дожидается.
– Пускай пока разденется! – рявкнул герцог. – Не могу же я с чертями притащить сюда курьера.
Кружок почтительных зрителей сопровождал игру несколько натянутыми, принужденными остротами. Герцог побил карту противника, снова сгреб кучку дукатов.
– Придется тебе вернуть сегодня часть того, что ты у меня награбил, еврей, – смеялся он.
– Сегодня мне это доставит особое удовольствие, – отвечал Зюсс.
Неблагозвучный голос майора Редера прорычал:
– Еще бы, лицом к лицу с противником, еврею не так-то легко его надуть! Издалека, бумажками да уловками, не глядя человеку в глаза, орудовать куда удобнее.
Следующую партию Зюсс проиграл снова. Увидев в кружке придворных архитектора Ретти, герцог заметил ему:
– Если мне и дальше так будет везти, можно, пожалуй, перестроить галерею, как ты проектировал.
Архитектор громко и подобострастно захохотал.
– А камня-то еврей все равно не отдаст, – неожиданно заявил дон Бартелеми Панкорбо своим глухим замогильным голосом. Все с вожделением уставились на солитер, украшавший палец финанцдиректора, и точно зачарованные смотрели, как сверкает и переливается всеми цветами радуги изумительный камень.
Снова за спиной герцога очутился мамелюк, доложил:
– Прибыли.
Карл-Александр с притворной небрежностью швырнул карты, подвинул к Зюссу внушительную кучку выигранных денег:
– Получай, еврей! Галерею перестроим потом. А это я дарю тебе.
Зюсс, почти добродушно иронизируя, думал: «Вот как! Даром он ничего не принимает. Платит мне, и даже с процентами, полагая, что я помог ему достигнуть цели. А потом упрячет меня в каземат и заберет обратно плату вместе с процентами». Он поглядел на герцога в упор, и тот, подчиняясь его настойчивому взгляду, сказал небрежно:
– Можешь сопровождать меня.
Чернокожий впереди, затем, хромая, отдуваясь, весь красный, Карл-Александр, позади упругой походкой, матово-бледный, окрыленный, помолодевший Зюсс.
Сперва по аванзалам, сквозь шеренги почтительно склоненных лакеев, дальше пустынными коридорами, по которым проносилось лишь порывистое дыхание бури, в противоположное крыло дворца, где были расположены личные апартаменты герцога. Рабочий кабинет, маленький будуар, опочивальня с ожидающей женщиной. Мамелюк распахнул дверь рабочего кабинета. Не курьер, которого ждал Карл-Александр, находился там, а четверо незнакомых ему мужчин. Двое из них – старые, седовласые, тощие, длинные, как очиненные гусиные перья, двое других – коренастые, с грубоватой, простонародной повадкой. Все четверо молча поклонились, младшие тяжеловесно и неуклюже, старшие суетливо по многу раз кряду, и мерцающие на сквозном ветру свечи то бросали на них причудливые блики, то погружали их во тьму.
Разъяренный, обманутый в своих ожиданиях, герцог заорал на мамелюка срывающимся от бешенства голосом:
– Спятил ты, что ли? Пускаешь ко мне ночью, да еще нынешней ночью, какой-то сброд? – Пинком отшвырнул его в угол. – Где курьер? Куда запропастился курьер? – ревел он.
– Мы вовсе не сброд, – не спеша, враждебно вымолвил один из мужчин. – Мы представители ландтага.
Карл-Александр ринулся на него, схватил грубияна за дюжие плечи, принялся трясти:
– Напасть на меня собрались? Убить исподтишка! Предатели! Убийцы!
Он так кричал и бушевал, что певица, голой поджидавшая его в соседней комнате, крестясь, забилась под одеяло.
– А теперь вам крышка, – ревел не помня себя герцог. – Заживо сгною вас, сволочи, смутьяны! Изменники! Псы! Вместе с вашими погаными собратьями из малого совета в самые крепкие казематы запрячу вас!
– Вы заблуждаетесь, господин герцог, – произнес тут вежливо, негромко один из стариков. – Вы глубоко заблуждаетесь, – повторил он, кланяясь много раз кряду. – С милостивейшего дозволения вашей светлости, нынче ночью никто не будет арестован в Штутгарте. И войска баварские и вюрцбургские перейдут границу в очень небольшом количестве; из тех же, что явились с паролем: «Attempto!» – половина, с милостивого дозволения вашей светлости, – наши евангелические братья. И хотя господин Редер находится тут, отряд городской конной гвардии и без командира пребывает в боевой готовности и отстоит город во что бы то ни стало.
Сам Зюсс не мог бы деловитее, точнее и короче сообщить о полном и окончательном провале переворота, чем щуплый, тощий парламентарий, который весьма учтиво, с бесконечными расшаркиваниями и просьбами о «милостивом дозволении» продолжал излагать подробности. Но заключить свою речь ему не удалось: герцог выслушал только первые фразы; потом с ним произошла страшная перемена. Рука, все еще державшая за плечо коренастого депутата с простонародным обличьем, мало-помалу ослабела, лицо налилось кровью и перекосилось, из груди вырывался странный, мучительный, звериный хрип, рот беспомощно ловил воздух, и вдруг, судорожно содрогнувшись, Карл-Александр грузно рухнул на землю. Четверо бюргеров, увидев это зрелище, испугались, что вину возложат на них: дворец полон врагов, мамелюк ввел их сюда без доклада, подозрительным таинственным образом, через какую-то заднюю дверь; и вот теперь, боясь, что их изобьют или даже, чего доброго, прикончат, они пустились бежать и были рады-радешеньки, когда отыскали свою карету, стоящую поодаль под дождем и ветром, и, дрожа от холода и волнения, благополучно тронулись в обратный путь.
Карл-Александр лежал между тем на полу, с ним остались только Зюсс и чернокожий. На мощной, волосатой груди одежда была разорвана. Из соседней комнаты, испуганно сжавшись, прислушивалась голая девушка к его страшному звериному хрипу. С неимоверным усилием водил он по комнате стекленеющим взглядом, в котором был написан полный дикой, необузданной ярости вопрос.
– Да, господин герцог, – ответил Зюсс на этот немой вопрос. Еврей и сам не знал, хотелось ли ему, чтобы герцог принял весть о предательском провале переворота именно так или как-нибудь иначе. Не задумывался он также, усталость ли от празднества и возбуждающее снадобье частично повинны в катастрофе, или он один, своей волей привел к ней. Словно по наитию он так все подготовил, а потом, когда события развернулись, так ловко их направил, что лихорадочно возбужденный герцог, вместо ожидаемого вестника радости, натолкнулся на зловещих глашатаев бед. Он не сомневался, что поразит врага в самое сердце, навеки парализует и сокрушит его разум и волю. Физической гибели он хоть и не желал заранее, но и не возражал против нее.
Напрягши все силы, усадил он грузное тело в кресло и обратился к чернокожему:
– Ступай, приведи патера Каспара. – Неохотно удалился Отман, оставив еврея наедине с умирающим.
Леденея, слушала из соседней комнаты певица, как негромкий, до предела напряженный, добела раскаленный внутренним жаром голос обращался к затихшему герцогу; слов она не могла разобрать, ее ужасало звучавшее в этом страстном шепоте жестокое, насыщенное ненавистью торжество.
А говорил еврей вот что:
– Герцог! Грубый, бездарный герцог! Глупый, тупоголовый Карл-Александр! Как тебе, верно, хочется заткнуть сейчас уши, а? Хочется уйти и не слушать меня? Хочется молиться, принимать от духовника елей утешения и отпущения грехов? Но этим я тебя не порадую. Я не дам тебе умереть, пока ты не выслушаешь меня. Заводи глаза, надсаживай хрипом грудь: все равно ты должен выслушать меня. Я говорю совсем тихо, я не повышаю голоса, но слух твой и твоя грубая бессовестная душа наполнены моими словами. И тебе придется сидеть смирно и не умирать и слушать меня.
Да, дитя умерло иначе. Ты мчался за ней с гиканьем и ревом, твое окаянное, смердящее дыхание обдавало ее; но ей дано было улыбаться и парить, и тысячи благих ангелов протягивали ей навстречу руки. И ты стоял перед покойницей, как растерянное тупое животное, и раз я не плюнул тебе в лицо, ты решил, что все улажено и забыто. Слушай, Карл-Александр, слушай, глупый, тупоголовый герцог, я не вцепился тогда в твое похотливое лицо, я не был так прост, потому что я хотел сперва обработать тебя, сделать тебя похожим не только на человека, – на государя. Что ж ты не кидаешься на меня, не сопишь и не фыркаешь? Нет, ты лежишь смирно, жалкой, уродливой тушей, достойной осмеяния в собственных и в чужих глазах. Знаешь ли ты, злосчастный глупец, что твой великий замысел подняться до швабского Louis Quatorze, твои цезаристские грезы внушены мною. Ты был всю жизнь лишь ничтожным самодуром, герцогом по счастливой случайности, а я вертел тобой, как марионеткой. Да, да, смотри на меня, выпучив глаза! Я тебе не закрою их, пока не доскажу до конца. Знай же, все самое дурное, что было во мне, каплю за каплей внедрил я в тебя, семена зла и порока посеял в твоей душе. А мог бы сделать так, чтобы ты перед целым светом обнял меня и назвал братом; мне стоило для этого лишь показать тебе бумаги, из которых явствует, что я – сын Гейерсдорфа, да, сын христианина, барона и маршала. Но я счел христианскую кровь худшим своим наследием, этим худшим оделил тебя, заставил плясать под мою дудку и откормил тебя на убой.
Он оставил умирающего в покое, задумался; потом начал снова, по-иному, мягче:
– Да, меня влекло к тебе, я мог бы стать тебе другом. Но ты, едва почуяв это, сопротивлялся и ворчал, и лишь дурное воспринял ты от меня и взрастил и взлелеял его. Эх ты, великий государь и герой. Эх ты, германский Louis Quatorze! Эх ты, злосчастный фанфарон и глупец!
Взволнованные, торопливые голоса за дверью, в коридоре. Вошли доктор Венделин и камердинер Нейфер; за ними патер Каспар, духовник; его едва удалось сыскать, он сидел в кондитерской с невзрачным, мудролицым вюрцбургским тайным советником Фихтелем, который, не поддаваясь всеобщей тревоге и заранее смакуя торжество нынешней ночи, благодушно попивал свой излюбленный кофе. Теперь все и вся ринулись сюда, беспомощно, бессмысленно, лихорадочно суетясь вокруг изуродованного агонией герцога, расспрашивая Зюсса, который бегло и поверхностно рассказал о случившемся и вскоре, воспользовавшись возней вокруг умирающего, незаметно удалился. В соседнем покое одевалась певица. Негромкий, жаркий, жалящий, торжествующий, полный ненависти голос все еще звучал у нее в ушах, приводя ее в содрогание; бледная, вся дрожа, она кое-как натянула платье и, широко раскрыв от ужаса глаза, съежившись, побежала, преследуемая зловещим голосом, по коридорам, вздохнула с облегчением, когда очутилась у ворот на порывистом ветру, а дворец остался позади.
Доктор Венделин Брейер собрался пустить герцогу кровь. Но не успел. Мамелюк, воротившийся вместе со всеми, неслышно приблизился к человеку в кресле; внимательно, с жестокой невозмутимостью оглядел судорожно стиснутые руки, отекшее почерневшее лицо, высунутый язык, открытые, застывшие, выкатившиеся глаза. Затем низким своим хрипловатым голосом произнес так неожиданно, что все вздрогнули – многие никогда не слыхали от него ни звука: «Он скончался». Доктору Венделину Брейеру осталось лишь констатировать то же самое.
Пока врач, выдавливая слова из недр груди, глухо бормотал какие-то туманные объяснения: внезапный резкий spasmus diaphragmatis,[73] удушье, stagnatio sanguinis plenaria,[74] а чернокожий безмолвно и насмешливо созерцал растерянного медика, выбивающегося из сил, чтобы сохранить свой апломб, – шепотом понеслось по коридорам, облетело передние, прозвучало в бальной зале из уст церемониймейстера: «Герцог скончался». Музыка оборвалась. Невыразимый парализующий испуг, побелевшие, перекошенные физиономии. Полная сумятица, бестолковая беготня, у всех одна мысль – как бы стушеваться. Среди венских, баварских и вюрцбургских гостей – явное замешательство и стремление показать свою непричастность. Офицеры топтались, точно большие, глупые, злобные хищные звери, попавшие в капкан. Этот роковой случай, именно в такую минуту, мог каждому стоить не только чинов и состояния, но и жизни. Даже тайный советник Фихтель вышел из равновесия; десятилетиями носил он маску перед самим собой и целым миром; теперь же лицо у него разом сделалось простонародно-грубым, злобным, сварливым, он непотребно выругался вполголоса. Только через десять минут он настолько овладел собой, что мог размышлять здраво и спокойно. Завещание, написанное по его наущению покойным герцогом, теперь вряд ли чему-нибудь поможет; значит, остается один выход – поскорее остановить пущенный в ход механизм заговора, замести следы, ведущие сюда из Вюрцбурга, и с достоинством, без ущерба для своей репутации, выйти из игры.
Тем временем Зюсс укрылся в далеком, уединенном покое. Его ничто не трогало, прибой всеобщего возбуждения не достигал сюда. Буря несколько стихла. Еврей ничего не видел, не слышал, не замечал. Окружающее исчезло для него. Он ждал. Вот теперь, сейчас, дитя будет здесь, овеет его сладостным дуновением, сладостно вольется в него, сделает его невесомо легким. Он сидел, не шевелясь, с блаженной, глуповатой улыбкой, и ждал. А ее все не было. Ничего не было. С каждым ускользающим мгновением он чувствовал себя все холоднее, тяжелее, опустошеннее. И вдруг понял – она не придет никогда. Ему представился герцог – почерневшее искаженное лицо, высунувшийся язык, выкаченные глаза. Он ощутил гадливость. Испугался. Он не понимал уже, что же тут могло заполнить, окрылить его. Во имя всего святого, какое отношение имело к этому дитя? Дитя было белоснежным, умиротворяющим, точно лунное сияние. А его счеты с герцогом – это дымно-красное бурлящее море с запахом серы. В каких сумасбродных мечтах пригрезилось ему, будто, переплыв это море, он увидит дитя? Задыхаясь от страха, искал он внутренней связи между событиями, сам не понимал себя. Его последний разговор с Карлом-Александром был ведь спазматическим, мало-помалу затихающим содроганием, как совокупление с женщиной, а вовсе не окрыленным парением. А теперь он придавлен тоской, полон гадливости, и дитя от него дальше, чем когда-нибудь.
Влажным холодом обдало его. Точно обороняясь, как в ознобе, передернул он плечами. Из-за спины его выглядывало лицо. Его собственное лицо.
Он встряхнулся, поднялся. Буря снова разыгралась, он плотнее прикрыл окно. Чей-то голос звучал в ветре, в комнате, у него в ушах, некрасивый, скорбный голос, голос дяди. Звучал он негромко, но заполнял всю комнату, весь дворец, весь мир был полон этим голосом. И тут ему стало ясно: он избрал ложный путь. Все, что он думал, делал, предпринимал, его счеты с герцогом, искусно возведенное здание мести и торжества – все было ложью и заблуждением.
Но странно – это сознание не разочаровало и не раздосадовало его. Нет, все к лучшему. Вновь привиделось ему, что он скользит в той же бесшумной, призрачной кадрили, рабби Габриель держит его правую руку, герцог – левую. Они изгибаются, склоняются в причудливых фигурах. Но сегодня туманное, бесцветное видение не было тягостным. Ибо танцующие вдруг разжали руки, поглядели друг на друга и разошлись.
Беспредельная усталость овладела им. Никогда в жизни не был он так, до самого дна, опустошен телесной слабостью и усталостью. То же, должно быть, ощущаешь, сидя в теплой ванне, когда жизнь вместе с кровью медленно уходит из вскрытых вен. Что-то в нем таяло, размягчалось, исчезало без следа. Какая блаженная, тягучая, сладострастная, щемящая все тело, освободительная боль! Какое самозабвенное падение и парение. Какое безразличие, какая небывалая покорность судьбе, какое благодатное, безвольное истаивание и уничтожение. Словно вся кровь вытекала из него, а с нею все порывы и страсти, и он погружался в безграничную радостную, горестную истому.
Таким немного погодя нашел его старый, дряхлый слуга, надзирающий за свечами, когда явился потушить огни. Увидав бледного, поникшего в кресле человека и узнав его, он с перепуга уронил гасильник, пролепетал:
– Господи Иисусе, господин финанцдиректор!
Но тот вяло поднялся и велел принести чего-нибудь поесть, безразлично чего, а то он от голода совсем ослабел. Ошеломленный старик, крестясь, поспешно ушел и вернулся с едой. Зюсс принялся есть жадно, прямо руками, а старику велел продолжать свое дело. Тот пробормотал, что это не годится, как же можно, чтобы господин финанцдиректор в темноте…
– Гаси свечи и не заботься обо мне, – перебил его Зюсс.
Растерянно принялся старик за работу. Буря снова ревела и бушевала вовсю. Зюсс ел, жевал, глотал. Старик торопился, лазил на лесенку, гасил, искоса поглядывая на финанцдиректора. Тот все еще торопливо ел, жевал, чавкал. Потом каким-то необычно веселым тоном произнес:
– Не прилепляйся душой своей к людям! Так ведь сказано в Новом завете, верно?
– Мне невдомек, ваше превосходительство, – испуганно пролепетал старик.
– Ну, все равно, – сказал Зюсс, дожевывая последний кусок, – лучше посвети мне!
Комната погрузилась во мрак; следуя за слабым светом фонаря, шагал Зюсс по темной анфиладе зал в главное дворцовое здание.
Тут, в одном из боковых покоев, заседали, главари католического заговора, генералы, министры. Были тут только свои люди, вюртембержцы. Вюрцбургские и баварские гости, посол его апостолического величества, все, несмотря на бурю и непогоду, поспешили убраться, да еще как прытко! Даже астролог князя-аббата Эйнзидельнского улепетнул со своей оконной влагой, с колбами, треножниками и разукрашенным таинственными знаками балахоном, не успев свериться по звездам, благоприятствуют ли они его отбытию.
А швабские сановники сидели тут, бледные, потные, тщетно силясь побороть отчаянную растерянность. Облегченно вздохнули при появлении Зюсса, с упованием воззрились на него, как на спасителя.
Еврей приветливо, спокойно, почти весело, обвел своими карими глазами перепуганную компанию. Затем обратился к тучному майору Редеру, у которого был особенно тупой и беспомощный вид:
– Вам не ясно, господин майор, как найти выход из этой сложной ситуации? – Он вплотную подошел к обалдевшему, недоумевающему вояке и сказал любезным тоном: – Арестуйте меня: тогда, кто бы ни взял верх – ваша безопасность гарантирована. – Сказал он это самым беспечным, учтивым тоном, словно вел салонную беседу.
Присутствующие в полном смятении уставились на него, но потом откуда-то из глубины поднялось и зажглось у них в глазах жестокое злобное пламя. Трудно понять, куда гнет еврей; одно только ясно: если схватить его, если его засадить, то тем самым он окажется мишенью, на которой разрядится первый гнев, будет сорвана самая ярая злоба. В комнате настала мертвая тишина. Все одинаковыми словами, почти в одинаковой последовательности, думали те же думы. И все пришли к одному выводу: «Да! Схватить еврея! Повесить еврея! В этом все спасение!»
И, таким образом, что-то будет сделано. Таким образом, не придется сидеть сложа руки и терпеть этот гнетущий нелепый, унизительный страх. Черт побери, ведь в баталиях каждый из них держал себя браво. Как же можно было допустить это глупое, гнусное, по-собачьи подлое чувство, от которого мараешь штаны, от которого щемит сердце и сосет под ложечкой. Какое счастье, что можно выбраться из этого свинского состояния таким удачным маневром. Минута – и вся мерзкая, жалкая, конфузная тяжесть будет сброшена и забыта.
Вот поднялся майор Редер – перед собой и перед людьми воплощенный патриотизм, отвага, благочестие. Мощно, внушительно, убежденный в своей правоте и честности, надвинулся он на Зюсса, положил ему на стройное элегантное плечо уродливую, затянутую в перчатку лапу, через силу раскрыл жесткий рот:
– Именем герцогини и конституции: ты арестован, еврей.
В одно мгновение гнетущая тишина разрешилась бешеным, победоносным звериным ревом. Еврей улыбался тихо, отчужденно, откуда-то издалека. Грязной бранью, пинками и толчками старались господа сановники не пустить эту улыбку к себе в душу.
ЧАСТЬ ПЯТАЯ ЗЮСС
Там, где сходятся восток с западом, лежит малой крупицей земля Ханаанская. И полуденная страна, древний Мицраим,[75] языком вонзается в сочленение. Там, где пути востока встречаются с путями запада, лежит город Иерусалим, твердыня Сион. И, воссылая хвалу богу Израиля, единому предвечному Иегове, на восходе солнца и на закате солнца стоят евреи, сомкнув ноги, и смотрят в сторону города Иерусалима, в сторону твердыни Сиона, те, что на западе, смотрят на восток, те, что на востоке, смотрят на запад, и все в один час и все в сторону города Иерусалима.
От стран заката стремится к земле Ханаанской неукротимая извечная волна: алкание жизни, самоутверждения, воля к созиданию, к радости, к власти. Урвать, удержать – знание, радость, богатство, побольше радости, побольше богатства, жить, бороться, созидать. Вот что звучит с запада. Но на юге, под остроконечными пирамидами, в золоте и бальзаме покоятся мертвые цари, горделиво оберегая плоть свою от разрушения; их изваяния, выстроившиеся в пустыне гигантскими аллеями, бросают вызов смерти. И неукротимая, извечная волна стремится к земле Ханаанской: раскаленное, как пустыня, упорство в бытии, жгучая жажда уцелеть, не утратить образа и строения, не утратить телесной оболочки. Но с востока звучит кроткий голос мудрости: спать лучше, нежели бодрствовать, мертвыми быть лучше, нежели живыми. Не бороться, не созидать, влиться в небытие, в нирвану. И благая извечная волна катится с востока к Ханаанской земле.
От века до века набегают на маленькую страну три волны, сливаясь воедино: светлая, кипучая волна воли к жизни и созиданию, жаркая, раскаленная волна горделивого вызова смерти, благая темная волна, зовущая к небытию, к нирване. Тихо, настороженно лежит земля Ханаанская, малая крупица, принимая и соединяя потоки трех волн.
А в малой, как крупица, стране, жил народ Израиля с ясным взглядом, с чутким слухом. Присматривался к востоку, прислушивался к западу, поглядывал на юг. Народ такой маленький, а живет между колоссов: Ассиро-Вавилонии, Мицраима, Римской Сирии. Зорко приходится ему следить, чтобы не быть раздавленным или не раствориться в гигантах. Но он не хочет растворяться, он хочет существовать, потому что он храбрый, мудрый, маленький народ, он не позволит раздавить себя. А три волны набегают все вновь, извечные, неизменные. Однако маленький народ противостоит им. Он не глуп, он не сражается с несоизмеримым; он пригибается, если какая-нибудь волна встает слишком высоко и захлестывает его с головой. Но затем он выплывает вновь, отряхивается и живет как ни в чем не бывало. Он стоек, но не бессмысленно упрям. Он отдается всем волнам, но до конца – ни одной из них. Берет от трех потоков все, что ему годится, и приспособляет на свой лад.
Ввиду постоянной опасности маленький народ старается не упускать ни одного движения соседей-гигантов, непрестанно потихоньку нащупывает, примечает, созерцает, познает. Созерцание, расчленение, познавание мира становится его сущностью. В нем вырастает великое пристрастие к средству такого познавания, к слову. Священными законами карает он неграмотного, знание письменности становится божьей заповедью. Он запечатлевает все, что несут ему три волны. Выражает собственными, ему присущими, словами ясное полнозвучное учение о созидании, и второе, томительно-жгучее о воле к бессмертию, и третье, умиротворяющее, сокровенное о блаженстве бездействия и безволия. И маленький народ пишет те две книги, что больше всяких других изменили облик мира, великую книгу созидания – Ветхий завет и великую книгу отречения – Новый завет. А воля к бессмертию звучит основным тоном его жизни и слова.
Сыны маленького народа разбрелись по миру и живут учением Запада. Творят, добиваются, стяжают. Но, несмотря на все, им чуждо созидание, их место на полпути между созиданием и отречением. И неизменно обращают они взоры назад к Сиону. И часто, в упоении победы, в унижении неудачи, посреди стремительного порыва, они останавливаются, содрогаясь, и сквозь тысячи звуков различают тихий, затаенный голос: не желать, не созидать, отречься от своего «я».
И многие из них проходят весь путь до конца: от буйства созидания ради власти, радости, богатства, через бунт против смерти, к блаженному разрешению от пут, к внутренней свободе, к нирване безволия и отречения.
Сквозь ночь, тучи, бурю мчались курьеры в Штутгарт. К членам парламента, к Ремхингену, к герцогине. Они обогнали карету с делегацией, ездившей к герцогу. И, опередив делегатов, проникла в городские ворота весть о смерти Карла-Александра, робко затеплилась над темным, притихшим городом, наполненным шепотом и тревогой. На улицы, к соседям поспешили бюргеры. Неужто правда? Кара божья, явный перст господень. Чересчур поразительно и неправдоподобно столь неожиданное избавление. Но правда ли это? Не ловушка ли? Пугливые огоньки зажглись в окнах. Громче стал шепот, послышались первые приглушенные возгласы радости. Вдруг, все вновь омрачая, возник слух – это был только припадок, герцог очнулся. И, сразу притихнув, поплелись домой обыватели, стали гасить огни. Наконец-то, наконец явилась уверенность, с балкона ратуши возвещена не оставляющая сомнений весть: герцог скончался. Вот когда разразилось давно сдерживаемое ликование. Объятия, благодарственные молитвы. Радость на всех лицах, как после спасения от гибели. Повсюду праздничные огни. Свинорылый булочник Бенц с помощью приятелей из «Синего козла» намалевал транспарант, на котором черт нес человека над церковью с двумя башнями. Внизу булочник огромными буквами подписал стишок: «Кто продал родину, как ренегат, того уносят черти в ад». Дрожащими от радости, потными руками поставил он транспарант на освещенное окошко и торжествовал, когда прохожие останавливались перед ним, а потом разносили стишок по городу. Вскоре всюду пошли толки, что герцога унес черт. Сказывали вам, какое почерневшее, искаженное лицо у трупа? Когтями задушил Вельзевул еретика-государя.
В ребяческой растерянности сидела Мария-Августа у себя в будуаре. Подле нее – гофканцлер Шефер, генерал Ремхинген и духовник ее, капуцинский патер Флориан. Она сидела в восхитительном неглиже, нынче утром привезенном из Парижа специальным курьером, и невольно жалела, что неглиже не прибыло на день раньше, а то бы она надела его в прощальную ночь, и Карл-Александр успел бы им полюбоваться. А теперь он – отвратительный покойник, и больше никогда не будет любоваться ни неглиже, ни женщинами. Она засчитывала себе в добрые дела свою благосклонность к Карлу-Александру, хотя бы в эту последнюю ночь. Снизу доносился гул народного ликования по поводу смерти герцога.
Громоздкий Ремхинген, при всем страхе и смятении, по привычке, почти машинально, пожирал глазами голые плечи Марии-Августы и в бессильной ярости рычал: крушить! разить! Ни на что не глядя, привести в исполнение проект. Военная сила под рукой. Он всегда стоял за военную силу. Допустим, несколько полков взбунтуется. Он прикажет расстрелять их. Недаром он присягал герцогине. Семирамида, Елизавета, Екатерина.[76] Разить! Крушить!
Боязливо возражал хлипкий гофканцлер. Теперь только, ради бога, без кровопролития. С переворотом благополучно покончено. Надо действовать осторожно и легально. Строго легально. Завещание дает повод к благоприятным толкованиям. Такие же доводы привел и патер Флориан, только тверже и увереннее. Резвое воображение капуцина плело фантастическую паутину. Он, мудрый политик, занимает самый, пожалуй, важный в государстве и многообещающий пост духовника герцогини-регентши. Произнося рассудительные, умиротворяющие слова, он уже представлялся себе германским Ришелье или Мазарини. Но Мария-Августа хоть и склоняла с внимательным видом ящеричью головку и сосредоточенно хмурила пастельно нежное личико, однако была рассеянна; она думала о Карле-Александре, о новом неглиже, о том, что надо заказать вдовье покрывало – его можно приладить очень изящно и авантажно, даже уродливой герцогине Ангулемской оно было к лицу – и в ответ на строго деловые предложения своих советников она неожиданно произнесла тоненьким, озабоченным голоском: «Que faire, messieurs? Que faire?»[77] Малый совет парламента собрался в ту же ночь; остальные депутаты тоже пожелали присутствовать на заседании. Что за чванливое торжество, что за бахвальство собственным могуществом! Господа парламентарии делали вид, будто смерть герцога – их личная заслуга, будто они предусмотрительно и дипломатично подготовили это простейшее разрешение кризиса. Член совета Нейфер был искренне убежден, что честь чудесного спасения принадлежит ему. Произвольно освещая и видоизменяя факты и слухи, он с помощью своего мрачного воображения сочинил целый приключенческий роман, в котором сам, как паук, сидел посередине и плел нити сложной интриги. Разве не он настойчивыми речами так сумел убедить своего двоюродного брата, камердинера Нейфера, в пагубности деспотизма, что тот хоть и не открыто, а все же примкнул к поборникам конституции? Доверенный слуга, разумеется, умышленно увеличил дозу возбуждающего снадобья, что, принимая во внимание распущенный образ жизни и апоплексическое телосложение герцога, неминуемо должно было привести к удару. Нейфер успел расспросить медиков; все они в один голос подтвердили, что при такой совокупности условий печальный исход был неизбежен, тем паче если под рукой не оказалось необходимых лечебных средств. А их под рукой не оказалось – в силу ли случая или же – как знать? – чьего-то мудрого попечения? Карл-Александр умер в полном одиночестве. Даже духовник не подоспел вовремя, чтобы препроводить его еретическую душу в еретический рай; в коридорах не было ни одного лакея, весь штат – по моему разумению, тоже неспроста – отправился в другое дворцовое крыло смотреть на танцы. Словно одинокий пес, издох тиран. Вот какую абракадабру, несостоятельную для всякого осведомленного человека, хотя бы потому, что чернокожий, а не Нейфер готовил снадобье, законовед Нейфер, с мрачной, дьявольски злорадной усмешкой нашептал своим собратьям по парламенту. Смерть герцога в самую критическую минуту была такой невероятной удачей, что многим нелепый рассказ ожесточенного фанатика показался правдоподобным, и слушатели, при всем своем восхищении, уже спешили отстраниться на всякий случай, так что штутгартский Брут одиноко красовался в ореоле мрачного величия.
Остальные петушились, строя обширные планы. Чувство радости уже заслонилось настойчивой жаждой наживы, власти и мщения. Ага! Наконец-то наша взяла! Ага! Наконец-то можно рассчитаться с жидом, с еретиками, со всеми, перед кем приходилось лебезить. Ясно, что герцог Рудольф Нейенштадтский[78] должен стать главным опекуном малолетнего наследника престола, что бы там ни стояло в завещании Карла-Александра. На него положиться можно. Он добрый протестант и с ними заодно. Завтра же утром надо оповестить его. А пока что нынче ночью запляшут у них все еретики, предатели родины, жидовские приспешники! К военным подступиться было боязно; но все штатские из зюссовской партии, находившиеся в Штутгарте, а не в Людвигсбурге, были захвачены в ту же ночь. Повторилось то, что происходило с клевретами Гревениц поело смерти Эбергарда-Людвига. Полицейские и судебные пристава ходили по домам, арестовывали и под насмешливые, радостные возгласы глазеющей толпы тащили на гауптвахту низвергнутых вельмож, а те, злобно потупясь, изрыгали ругательства и проклятья, усовещевали свысока и плакались на свою судьбу. В тюрьму Бюлеров, Мецов, Гальваксов, в тюрьму Лампрехтсов, Кнабов и даже самого гофканцлера Шефера.
Со скрежетом зубовным смотрел на происходящее Ремхинген. Безоговорочным приказом герцогини ему было воспрещено вмешательство. Но пускай только они посмеют коснуться военных! Пускай только притронутся своими вонючими плебейскими лапами хоть к одному из его офицеров! Тогда уж ему удержу не будет, он все сокрушит! Но уполномоченные ландтага тщательно обходили военных.
Об одном лишь человеке, странным образом, в Штутгарте либо вовсе не говорили, либо говорили шепотом, вскользь, не называя имени. И все же он один был подоплекой всех помыслов, тайным упованием герцогини и военщины, тайным страхом парламента и бюргеров. Что делает Зюсс? Что он затевает? Будет он нападать? Или попробует защищаться, скользкий, как угорь, дьявольский ловкач? Он находился в Людвигсбурге, от него не было ни звука, ни весточки, ничего. Забрезжила первая заря теплого, дождливого мартовского утра. Все были до смерти утомлены и разбиты треволнениями беспокойной ночи и легли отдохнуть. А от еврея все не было известий. Что за коварство, неуважение и низость! В первый сон злобствующих приближенных герцогини, и торжествующих парламентариев, и арестованных сановников прокрадывался глухой страх и упование: что делает Зюсс?
А в Людвигсбурге доктор Венделин Брейер диктовал протокол вскрытия. Совместно с коллегами Георгом-Буркгардом Зеегером и Людвигом-Фридрихом Бильфингером, в присутствии начальника округа фон Бейльвица и гофмаршала фон Шенк-Кастеля он произвел вскрытие тела. У всех трех лейб-медиков, когда они резали труп, мелькала одна и та же мысль: «Ну что! Лежишь теперь смирнехонько, не даешь пинков, не швыряешь склянками в голову». Но на физиономиях у них выражалась лишь важность и торжественная скорбь, как то подобает людям науки. И вот доктор Венделин Брейер принялся глухим своим голосом, размашисто и неловко жестикулируя, диктовать обстоятельный и добросовестный indicium medicochirurgicum,[79] заключение медицинской коллегии: «Из настоящего viso reperto,[80] – диктовал он, – и с достоверностью явствует, что кончина его княжеской светлости приключилась не вследствие апоплексии, а также воспаления или гангрены, неже вследствие кровоизлияния или polypo etc,[81] а вследствие астматического припадка, причинившего удушение кровью. К сему нежданному исходу, без сомнения, поводом послужили, с одной стороны, прежде неоднократно пресекаемый, но под конец с чрезвычайной силой разразившийся spasmus diaphragmatis.[82] etc; а также сильно увеличенный, нажимавший на диафрагму, раздутый ветрами желудок, с другой же стороны, ad stagnationem sanguinis plenariam, ob atoniam et debilitatem connatam[83] (тем паче что многократный прискорбный опыт наглядно показывает, сколь многие светлейшие государи Вюртембергского дома умирают от грудных болезней) предрасположенные pulmones»[84]
Между тем в Штутгарте, на другой день после смерти Карла-Александра, было вскрыто его завещание. В первоначальной редакции завещания опекунами назначались герцогиня совместно с герцогом Карлом-Рудольфом Нейенштадтским. В приписанном позднее, под давлением тайных советников Фихтеля и Рааба, дополнительном пункте архиепископ Вюрцбургский объявлялся соопекуном, во втором добавлении, которое Карл-Александр внес незадолго до смерти, князь-епископ облекался особыми полномочиями. Тотчас же в тихий Нейенштадт выехала депутация совета одиннадцати всеподданнейше просить герцога Карла-Рудольфа о немедленном принятии на себя регентства. Карл-Рудольф был прижимистый престарелый господин. Он прошел курс наук в Тюбингене, смолоду изрядно пожил, побывал в Швейцарии, во Франции, в Англии, в Нидерландах. Затем поступил на службу к Венецианской республике, воевал в Морее, блестяще отличился при осаде Негропонта. Добровольцем сражался в Ирландии, в войне за испанское наследство командовал двенадцатью тысячами датских наемников, кровавая победа при Рамильи решена была им, принц Евгений и Мальборо[85] высоко ценили его, имя его блистало наряду с именами первых полководцев Европы. Но, получив по смерти брата Вюртембергско-Нейенштадтские коронные владения, он, пятидесяти лет от роду, неожиданно сложил с себя все военные звания, удалился в городок Нейенштадт и жил там по-крестьянски, как строгий и справедливый отец своего маленького народа.
С Карлом-Александром он не поддерживал отношений. Блистательный государь со своим пышным двором и наглым плутом-евреем был ему очень не по душе. Он был строгий, скуповатый старик, теперь ему уже перевалило за семьдесят. Он любил свой тихий, цветущий городок; когда речь заходила о Марии-Августе, еретичке, ветреной любительнице мишуры и комедиантов, он сердито и брезгливо кривил жесткий рот. Он был невелик ростом, сухощав, немного кособок, по-военному лаконичен, в одежде и содержании двора наблюдал порядок, точный расчет, экономию. Он говорил: долг! Он говорил: справедливость! Он говорил: авторитет! Невзирая на возраст, он был усердным тружеником.
Молча выслушал он штутгартских господ, дал им досказать до конца и снова повторить их обстоятельную речь, а сам все молчал. Он был очень стар, он охотно прожил бы остаток дней в своем цветущем городке заправским крестьянином, надзирал бы за своими полями и виноградниками и следил, хорошо ли его немногочисленные подданные обращаются с ребятами и скотиной. А тут господь бог налагает на него, старика, тяжкий труд очистить от скверны, погрязшую в нечестии страну, на пороге смерти препираться с императором и имперским правительством, пресекать козни жирного, хитрого вюрцбургского иезуита. Но так повелел бог; а он, как солдат, знал субординацию, соблюдал дисциплину, он подчинился. Он сказал штутгартцам, что берет на себя бразды правления, но при условии, что он один будет опекуном, без герцогини – католички, регенсбуржанки – и уж, конечно, без иезуита-вюрцбуржца. Он пообещал завтра же прибыть в столицу.
Довольные возвратились домой штутгартцы. Вот какой человек им нужен! Он-то уж справится и с Ремхингеном и с евреем, о котором, как ни странно, все еще не было ни слуху ни духу.
Ремхинген разбушевался. Он с давних пор ненавидел тощего нейенштадтца, не раз потешался над скрягой и скопидомом. Теперь же, опираясь на дополнительный пункт завещания о полномочиях князя-епископа Вюрцбургского и на преданные ему войска, он отказался присягать герцогу-регенту и повиноваться его приказам и потребовал от своих подчиненных, чтобы они последовали этому примеру, заставил их присягнуть завещанию Карла-Александра, без ведома и согласия герцога-регента усилил штутгартский гарнизон, отдал распоряжение комендантам крепостей и начальникам гарнизонов по всей стране слушаться лишь тех приказов, которые исходят непосредственно от него или от герцогини. Чтобы восстановить военных против Карла-Рудольфа, он пустил слух, будто новый правитель, совместно с парламентом, намерен сократить армию, а потому предстоят многочисленные увольнения.
Так обстояли дела, когда Карл-Рудольф тихо и незаметно въехал в Штутгарт, поселился в боковом крыле дворца и собрался нанести визит вдовствующей герцогине, но та его не приняла. Он нимало не огорчился и на другое утро, невзирая на свои семьдесят лет, как обычно в шесть часов сидел уже за работой. Прежде всего он принялся беспощадно очищать столицу
– все неблагонадежные чиновники были уволены, их бумаги опечатаны, многие из них арестованы. Большинство главарей католической партии успело бежать.
В народе повсеместно вслух поносили покойного герцога, который не был еще погребен, и вдовствующую герцогиню, которая, бессильно злобствуя и капризничая, заперлась у себя в апартаментах. Герцог-регент издал строгие приказы, воспрещающие подобные неприличные выпады. Он говорил: долг! Он говорил: справедливость! Он говорил: авторитет!
В числе прочих и булочник Бенц, смастеривший транспарант с герцогом, с чертом и стишками был, во исполнение приказа, на трое суток посажен в караульню. Там свинорылый остряк заполучил сильнейшую инфлюэнцу. Воротясь домой, он слег, пил всякие настои, по вскоре стало ясно, что ему уже не подняться. У ложа болящего собрались его приятели из «Синего козла» и кисло острили: «при предпоследнем герцоге правила шлюха, при последнем – жид, при нынешнем – дурак». Перед смертью он страшно буйствовал и отчаянно сквернословил. А в «Синем козле» потом говорили, что еретик-герцог и его еврей повинны в смерти и этого честного бюргера.
Мария-Августа вместе с Ремхингеном вела беспрерывную лихорадочную борьбу против Карла-Рудольфа и парламента. Ей льстило выслушивать себе похвалы, как великой государыне. Довольно уж она была первой дамой Германии, теперь ее соблазняло стать антиподом женского пола молодому прусскому королю,[86] недавно вступившему на престол. Ну что же, она будет великой защитницей католичества в противовес этому великому протестанту. Разве император, курфюрст Баварский, ее отец и даже Франция не на ее стороне? Как же ей, опытной, светской женщине, не сладить со старым брюзгой, мужланом, заплесневелым слабоумным вахлаком, с дерзким узурпатором, Карлом-Рудольфом? Совместно с Ремхингеном, с капуцинским патером Флорианом и своим библиотекарем Гофаном, которого она почитала мудрым политиком, она затевала нескончаемые ребяческие, наивные интриги и капризно дулась, когда что-нибудь не ладилось сразу. Тысячи депеш летели в Вену, в Вюрцбург, в Брюссель, к ее отцу. Двору и народу она являлась скорбящей вдовой, бледное личико и большие глаза с поволокой грациозно выглядывали из-под траурной вуали. Она велела привезти из Брюсселя своего сыночка, герцога, и показала растроганному народу царственного сиротку – дитя с огромными, сияющими глазами.
Но Карла-Рудольфа, старого солдата, провести было трудно. Он опубликовал разъяснение, что отнюдь не намерен сокращать армию, предложил и парламенту высказаться в том же смысле. Вслед за тем он назначил командующим войсками генерала фон Гайсберга, посадил разъяренного Ремхингена под домашний арест и поставил у его дверей стражу. Шаг был смелый, он мог привести к войне, к кровопролитию, к вооруженному сопротивлению изнутри и извне, все погубить или все спасти. Он ничего не погубил. Армия, а с ней и вся страна радостно подчинилась герцогу-правителю.
Император не решался санкционировать такую крутую расправу. Иезуиты, состоявшие при герцогине, настаивали, чтобы при венском дворе признали законной последнюю редакцию завещания Карла-Александра и утвердили опекунами князя-епископа и герцогиню. Сам князь-епископ в собственноручных письмах взывал к императору, требовал защиты своих прав. По его приказу состоявший при нем советником профессор Икштат сочинил солидное заключение, озаглавленное: «Основы вюртембергского права», где с помощью хитроумных доводов отстаивал законность последнего, спорного завещания. Даже противники вынуждены были признать тонкость его аргументации. Но никаких положительных результатов все эти старания не дали. После устранения Ремхингена Карл-Рудольф прочно забрал в руки власть, и без войны, которой никто не хотел, убрать его было невозможно. Протесты и апелляции остались без последствий.
Умный вюрцбуржец, очевидно, ничего иного и не ожидал. Хоть он и пустил в ход весь механизм ловкой дипломатии, но действовал без настоящего подъема, лишь бы не уронить своего достоинства. Он выслушал доклад хитрого как бес невзрачного советника Фихтеля. И безоговорочно одобрил его линию поведения. Силой тут уже ничего не поделаешь. Церкви спешить некуда, церковь работает на будущее. Весь расчет надо строить на малолетнем герцоге, воспитывать его в твердой католической вере; сам он, епископ, не увидит, правда, как созреет этот плод его трудов. А жаль Карла-Александра! Это был добрый, верный и славный друг! Requiescas in pace![87] Он сам будет служить по нем мессы. А пока что остается лишь пристойным образом выбраться из вюртембергской истории, не скомпрометировав себя.
Все, что могло показать в истинном свете роль Вюрцбурга и католиков, было тщательно изъято и увезено из Штутгарта. Самые изобличающие документы хранились у Ремхингена. После того как генерал был посажен под домашний арест, а попытки подкупить часовых потерпели неудачу, по крышам соседних домов пробрался к дому Ремхингена трубочист, через дымоход спустился в ту комнату, где хранились опасные бумаги, и благополучно доставил их духовнику герцогини, после чего они были сплавлены в Вюрцбург.
Тем временем престарелый регент, прочно завоевав расположение армии своей солдатской повадкой, решил подвергнуть генерала Ремхингена более строгому заключению и отправил его вместе с адъютантом, капитаном Герхардом, в крепость Асперг.
Такое обращение с ее любимцем и главным защитником вынудило Марию-Августу изменить своей высокомерной сдержанности в отношении герцога-опекуна. Она снизошла до того, чтобы просить Карла-Рудольфа об аудиенции. Старик сам явился к ней без всяких церемоний. Бедно, неряшливо одетый, по-деревенски нескладный, кособокий, стоял он перед разубранной, вооруженной всеми ухищрениями косметики, благоухающей дамой. Он был один; при ней же находились патер Флориан – ее духовник, и библиотекарь ее – Франц-Иозеф Гофан, присяжный политик, по-кошачьи вкрадчивый, наряженный по самой последней моде молодой человек с литературными претензиями; после падения Ремхингена он, наряду с капуцином, стал ее ближайшим советником. Карл-Рудольф холодно и недоверчиво оглядел зловредный трилистник, к несчастью прискорбно засоряющий благодатные вюртембергские долы. Мария-Августа, в свою очередь, высокомерно и не без игривого любопытства смотрела на убогого, неряшливого, невзрачного солдата, который, без сомнения, не мог оценить изящный покрой ее траурной робы. Молча слушал Карл-Рудольф ее бесконечные жалобы. Его молчание раздражало ее, она вышла из себя, стала, наряду с существенным, перечислять пустячные мелочи, под конец совсем запуталась; ее приспешникам пришлось выгораживать ее. Презрительно и досадливо слушал Карл-Рудольф, как она, обычно невпопад, но с важной миной, употребляла юридические термины. Священный смысл таких слов, как реверсалии, гражданские свободы, казалось ему, был осквернен этим маленьким пошлым развратным ртом. Он отвечал кратко, осмотрительно, грубовато, ловко пользуясь высказанными ею несуразностями – доводы и поправки капуцина и тонкого библиотекаря он пренебрежительно и сурово пропустил мимо ушей; он, государь, желал иметь дело только с государыней. Он поставил Марии-Августе на вид, что у нее плохие советчики и что ее сану не подобает защищать Ремхингена, дурного человека и государственного преступника. По всем мелким вопросам этикета, о которых она говорила с большой важностью, он обещал безотлагательно удовлетворить ее, но тем тверже отстаивал по-настоящему важные политические позиции. Капуцин и библиотекарь в отчаянии ломали руки, когда герцогиня торжествовала по поводу этих мелких подачек, уступая лукавому и грубому узурпатору во всем существенном. Наконец разговор коснулся денежных дел. В этом Мария-Августа уж решительно ничего не понимала; она была наследницей одного из самых богатых в Европе княжеских родов, швырялась поместьями, как простые смертные пфеннигами, и почитала унизительным мещанством даже упоминать о деньгах. А Карл-Рудольф, хоть и старался постоянно неукоснительно защищать финансовые интересы страны, сам был крайне скромен в своих потребностях. Много ли нужно ему, старому бездетному человеку! Таким образом, обоим собеседникам нетрудно было проявить широту натуры, по этому вопросу они сговорились очень быстро и распрощались в добром согласии. Герцог с изумлением и удовольствием убедился в том, что Мария-Августа вовсе не вавилонская блудница, а самая обыкновенная гусыня, а герцогиня с изумлением и удовольствием заметила, что Карл-Рудольф, пожалуй, вовсе не меднолобый, по-крестьянски упрямый узурпатор, а просто-напросто осел. На основе такого убеждения они расстались с неким взаимным пренебрежительным доброжелательством.
Разумеется, и в дальнейшем между ними не обходилось без многократных мелких стычек. Но герцогу-регенту после этого единственного визита стало вполне ясно, какой политики держаться. Желая добиться от Марии-Августы серьезной уступки в деле управления страной, он притеснял ее в вопросах церемониала. То оспаривал у нее какой-нибудь титул, то посылал к ней нести караул младшего офицера, вместо положенного ей по сану штаб-офицера, придирался к ее новому любимцу, тонкому, элегантному библиотекарю. Когда она заявляла протест, он, в награду за исправление подобного промаха, без труда добивался уступок в политических вопросах.
Серьезный спор возгорелся по поводу приготовлений к похоронам Карла-Александра. Мария-Августа целых два месяца предвкушала, как она по этому случаю предстанет перед целой Европой в роли самой прекрасной и элегантной в империи вдовы, великой государыни, а также средоточием разноречивых толков, упованием Рима и всего католического мира. Однако герцог-регент воспретил совершать погребение по католическому обряду, дабы не раздражать народ; католические государи и вельможи ответили на это отказом присутствовать на похоронах. Мария-Августа заболела и постарела от бешенства.
Императору пришлось собственноручным посланием склонить Карла-Рудольфа к уступчивости. В конце концов погребение было обставлено с невероятной помпой – бесконечная процессия траурных карет, факельщиков, капуцинов, парадные черные одежды государей и вельмож, чиновников, слуг. Многочасовое прохождение войск. Гул колоколов, речей, песнопений, салютов в честь усопшего. Много тысяч восхищенных, вожделеющих, пламенных взглядов устремлено на красавицу – вдовствующую герцогиню. Тонок и гибок, точно стебель, ее стан над черной парчой широкой робы; неправдоподобно белы и аристократичны пальчики, выступающие из-под черного кружева рукавов; ни единого украшения, кроме звезды и креста папского ордена и ожерелья из шестнадцати редкостных черных жемчужин. Вдовье покрывало наколото так, что его черный цвет меркнет перед черными как вороново крыло волосами, тонкое личико сияет, точно изваянное из старого благородного мрамора. Ящеричья головка, при всей неприступной осанке своей обладательницы, склоняется кокетливо и сладострастно. Так красовалась Мария-Августа во вдовьей скорби и великом блеске.
А парадный гроб, в честь которого звонили колокола, звучали речи, торжественно неслись ввысь песнопения и грохотали залпы орудий, был пуст. Покойный Карл-Александр за время распрей своей вдовы с герцогом-регентом так разложился и провонялся, несмотря на все искусство бальзамировавших его врачей, что труп задолго до официального погребения потихоньку схоронили в новом Людвигсбургском склепе.
Дипломаты и военные, которых смерть Карла-Александра застигла в Людвигсбурге, держались поначалу тихо и выжидательно. В лице арестованного Зюсса они заручились на всякий случай доказательством своей политической благонамеренности. Уже через несколько дней даже самым несообразительным стало ясно, что конституционная партия естественным образом возьмет верх и что о военном бунте и осуществлении католического проекта даже думать не приходится. Лишь отдельные заядлые приверженцы католической партии под водительством некоего князя Вальдека не желали считаться с обстоятельствами. Остальные никогда якобы и не помышляли произвести переворот силой оружия и намерены были действовать в строгих рамках конституционной законности, предварительно испросив на то согласие парламента.
Один только был преступник и угнетатель, зачинщик всей смуты, причина всех бед, вдохновитель всего дурного, совративший доброго государя с пути истинного и обративший во зло его благородные замыслы, один губитель, подлец и плут, – еврей. О том же, сколь сами они чисты и непорочны перед законом и конституцией, свидетельствовало то, что они не дали улизнуть вышеназванному еврею, а сейчас же схватили его.
В действительности арест Зюсса оказался очень несложным делом, не потребовал большой доблести и не послужил к чести осуществивших его господ. А посему пришлось несколько приукрасить, облагородить те конфузные обстоятельства, при которых еврей был заключен под стражу, придать им романтическую окраску. По Штутгарту пустили слух, который повторяли сперва шепотком, потом громче и, наконец, с полной уверенностью, что Зюсс, тотчас после смерти герцога, тайком выбрался из Людвигсбурга и укрылся у себя в доме в столице, а затем сделал попытку бежать за границу, захватив ценности и письменные улики. Но храбрецы офицеры, во главе с бравым майором Редером, человеком прямодушным и добрым протестантом, любимцем всего города, вовремя проведали о местопребывании шельмеца и его побеге. Из уст в уста передавали точнейшие подробности. Зюсс выбрался через виноградники и успел уже проехать порядочное расстояние по нижней Кригсбергской дороге. Но тут майор Редер взял лучших конников городской гвардии – назывались даже их имена: Гукенбергер, Трефтс, Вейс, Манн, Мейер, – и так, сам-шест, пустился за ним следом. На Корнвестгеймском холме они нагнали беглеца. Взведя курок, бравый майор Редер крикнул ему громовым голосом: стой! Ни наглое отпирательство, ни вопли, ни угрозы не помогли еврею. Храбрые кавалеристы повернули назад его карету и вот-вот повезут его по Тунценгофскому холму через Людвигсбургские ворота.
Восторженно горланя, поджидала толпа карету с арестантом. Веселый гогот, насмешки, радостное возбуждение. Уличные мальчишки успели пристроиться на деревьях и на выступах ворот. В трактире под вывеской «Зеленый куст», у самой заставы, вместе с другими сынками состоятельных бюргеров бражничал юный Лангефас, веселый, толстый, краснощекий, белобрысый малый с маленькими голубыми глазками. Он угощал всю компанию старым ульбахским, громко шутил с девушками – словом, кутеж шел не хуже, чем во время карнавала. Когда наконец карета с Зюссом, эскортируемая Редером и его кавалеристами, под неистовые крики, подъехала к воротам, собутыльники юного Лангефаса бросились из трактира, вытащили пленника, принялись бить его, толкать, трепать, швырять из стороны в сторону, Юный Лангефас провозгласил здравие майора Редера, тот взял предложенный стакан, ухмыляясь, чокнулся и выпил, а народ между тем избивал еврея. Зюсс, впрочем, вел себя отнюдь не приниженно и пугливо, на удары он отвечал полновесными ударами; какому-то мальчугану, который зубами вцепился ему в ногу, он дал такую затрещину, что тот покатился под ноги толпы; так же энергично отвечал он на проклятия и ругательства нападающих. Словом, это было не фанатическое избиение, а заправская потасовка. В конце концов еврея наверняка бы прикончили из чистого озорства, хотя, по существу, толпа была настроена довольно благодушно; но тут подоспела городская стража и с помощью городской конницы отбила его у толпы. В изнеможении, еле переводя дух, сидел он в карете, растрепанный, растерзанный, весь в грязи и крови. Юный Лангефас, который слыл шутником и потому пользовался большим успехом у женщин, смеху ради подобрал парик, свалившийся с еврея во время драки, и ко всеобщему восторгу нес его впереди кареты, нацепив на свою тросточку. Так под улюлюканье и ликование обывателей подъехал Зюсс к зданию палаты на базарной площади.
После того как у нее отняли одного еврея, чернь под предводительством молодого господина Лангефаса изловила других и принялась потешаться над ними. Особенно забавно было выщипывать бороду и волосы у одного старика еврея, который отчаянно сопротивлялся, меж тем как Лангефас, под громкое одобрение, отпускал шуточки касательно вшей. Молоденькую, некрасивую, дрожавшую от стыда и страха девушку, некую Ентель Гирш под дружное ржание раздели донага, чтобы поискать на ней блох. Все штутгартские евреи, от старца до грудного младенца, были на такой манер изловлены предприимчивой чернью и под эскортом уличных мальчишек, под дождем камней и грязи, доставлены к фогту. Как раз в это время из Праги экстренной почтой прибыли двое евреев урегулировать кое-какие банковские дела с всемогущим финанцдиректором. Они не были сильны в вопросах швабской политики, а главное, понятия не имели о том, что может быть общего между католическим проектом и операциями их земельного банка; они знали только, что Зюсс – могущественнейший еврей во всей Европе и что евреи Вюртемберга находятся под особой защитой. Тем более были они ошеломлены, когда, едва успев выйти из почтовой кареты, были грубо схвачены, избиты и посажены под арест, а главное, когда узнали, в каком плачевном положении очутился всесильный финанцдиректор. Во время этой расправы многие евреи поплатились жизнью, и среди них трое евреев, пользующихся протекторатом Франкфурта, вследствие чего вольный имперский город заявил решительный протест вюртембергскому правителю. Герцог-регент, исходя из девиза: «Долг! Авторитет! Справедливость!» – посадил трех зачинщиков на два дня на гауптвахту.
Некий скороспелый поэт изложил пленение Зюсса в стихотворной форме. Вскоре его вирши облетели весь Штутгарт и всю страну. Особенно по вкусу пришлись две строки, так что их навсегда затвердили стар и млад: «Воскликнул сам фон Редер тут: „Стой иль умри, презренный плут!“ Вообще майор Редер стал еще популярней в народе за ту распорядительность, с какой он пресек покушение к бегству вероломного и злокозненного преступника еврея. Едва завидев бравого вояку с жестким ртом и узким лбом и услышав его крикливый голос, восторженные бюргеры устраивали овацию.
В тот день, когда Зюсса доставили в Штутгарт, была также сделана попытка разгромить его дворец на Зеештрассе. Вдохновительницей этой затеи оказалась Софи Фишер, дочь советника экспедиции, бывшая метресса Зюсса. Красивая, пышнотелая, ленивая матрона была неузнаваема. Она орала, кипела, выбивалась из сил, густые белокурые волосы свисали космами, пот катился с лица. Дома остальных евреев никем не охранялись, и немало ценного добра, золота и звонкой монеты разошлось вследствие этого по рукам. Но дом Зюсса охранялся внушительным военным отрядом. Никлас Пфефле успел своевременно принять меры. И еще другой человек по-своему деятельно позаботился об охране дома – то был дон Бартелеми Панкорбо. Он явился в качестве правительственного комиссара с полицией и солдатами и конфисковал дом и все имущество. В сопровождении Никласа Пфефле медленно обходил он обширные, сверкающие, безукоризненно убранные покои, высовывал из брыжей костлявое сизо-багровое лицо, заглядывал во все закоулки. Презрительно прошел мимо роскошных ковров, мебели, картин, безделушек. Но из драгоценных камней, к которым особенно тянулось его сердце и алчные пальцы, ничего видно не было. Осторожно и недоверчиво расспрашивал он Никласа Пфефле; невозмутимо, флегматично отвечал бледнолицый толстяк. Португалец стал грозить, но его замогильный голос скользил мимо ушей бесстрастного секретаря. В конце концов Никласа Пфефле арестовали, учинили ему допрос с пристрастием, перерыли его корреспонденцию, но ничего не нашли и вскоре принуждены были отпустить на свободу медлительного, молчаливого, хладнокровного толстяка.
Зюсса сперва перевезли в крепость Гогеннейфен и содержали там совсем не строго. Довольствие он получал за свой счет в достаточном количестве и по собственному вкусу, ему разрешалось принимать посетителей и выписывать себе что угодно из одежды и домашней утвари. Он не злоупотреблял этими льготами и охотно подолгу бывал один. Тогда он шагал из угла в угол с довольным видом, а иногда даже и с улыбкой, неблагозвучно напевая себе под нос, лукаво и мерно покачивая головой, точно старый правоверный еврей.
Ах, как хорошо и отрадно жить в покое и со стороны смотреть на происходящее. Кругом все суетятся. Одни суетятся, чтобы окончательно смешать с грязью и потопить его. Он сам суетится, чтобы ускользнуть от них, выбраться на волю. Ну что ж! Пускай хватают, пускай держат! Вот дурачье! Ведь они не знают, что тот, кто суетится, кого они ловят и кто пытается от них ускользнуть, – вовсе не он сам. То прежний Зюсс, неразумный, неискушенный Зюсс, который ничему не научился, ничего не познал. Истинный Зюсс, новый Зюсс – хо-хо! (он расхохотался злорадно и торжествующе) – тот теперь вне житейской суеты, тот не досягаем ни для каких герцогов, императоров, судей.
Ввиду этого нелегко приходилось комиссии, созданной для расследования многочисленных злокозненных, вероломных, пагубных проступков и деяний Иозефа Зюсса Оппенгеймера, еврея и бывшего советника по финансам, с присными его. Состав следственной комиссии был в высшей степени солидный. Во главе ее стоял тайный советник фон Гайсберг, брат генерала, по натуре человек ленивый, подходивший ко всему на свете с грубоватым цинизмом. Членами ее были тайный советник фон Пфлуг, высохший, желчный, чванливый господин, исполненный ненависти и отвращения к евреям, профессора Гарпрехт и Шепф, государственные советники Фабер, Данн, Ренц, Егер – усердные, честолюбивые чиновники среднего возраста; секретарями состояли асессор Бардили и актуарий Габлер. Для комиссии не было вопроса о том, что Зюсс совершил целый ряд преступлений, караемых смертью. Но вскоре выяснилось, что с чисто юридической точки зрения к нему придраться трудно. Главное осложнение заключалось в том, что он был неподсуден законам страны, ибо не состоял в ней на действительной службе и не был ее подданным. Исключительно в качестве частного лица, нося звание тайного советника по финансам, помогал он герцогу советом. Если же состоявшие на действительной службе министры и советники выполняли его пагубные замыслы, то государственными преступниками были они, а не он. Таким образом, комиссия погрязла в раскапывании бессчетных мелочей, в надежде сколотить из них настоящее обвинение.
Со следствием не торопились, растягивали его до бесконечности. Да и зачем бы судьи стали спешить? Так приятно было чувствовать себя членами столь ответственной комиссии. Все знакомые спрашивали:
– Ну, что нового выведали вы у еврея?
Ведь на них были обращены взоры всей Швабской округи. А кроме того, участие в комиссии оплачивалось очень высоко, сверх положенного жалованья,
– разумеется, из конфискованного имущества обвиняемого. Усердным чиновникам среднего возраста эти дополнительные доходы были особенно кстати.
Господа члены комиссии допрашивали Зюсса то в одиночку, то на коллегиальных заседаниях. Ему было предъявлено обвинение в чеканке неполноценной монеты, в оскорблении величества и государственной измене. Профессору Гарпрехту, человеку честному и строго справедливому, убежденному в том, что Зюсс хоть и прохвост, но не виновен с точки зрения законности, претило стремление возложить на еврея ответственность за проступки, за которые по справедливости должны платиться другие, а потому он вскоре отстранился от работы в комиссии, ограничиваясь экспертизой документов; профессор Шепф не замедлил последовать его примеру. Председатель комиссии, тайный советник Гайсберг, явился один к Зюссу, похлопал его по плечу, сказал с привычным своим грубоватым цинизмом:
– Чего ты портишь жизнь себе и людям, еврей? Так или иначе, а придется тебе отправляться на повозке смертника прямо в ад. К чему же брать с собой такой груз? Лучше по-честному сознаться во всем.
Зюсс улыбнулся, ответил в тон, что выше виселицы все равно его не вздернут. Он дразнил неповоротливого, простодушного грубияна, бросал ему приманку, а когда тот нацеливался ее схватить, отступался, учтиво усмехаясь, и в конце концов довел его до полного изнеможения.
Остальные, каждый на свой риск, тоже пытали счастье на увертливом грешнике. Они то и дело наведывались к нему, улещали, убеждали, грозили. Зюсс, сильный своей отрешенностью от всего мирского, ради спорта играл ими, покачивая, головой с добродушно-насмешливым превосходством.
Словно с другого полушария, из другой позднейшей эпохи созерцал он свой процесс, втихомолку потешаясь над господами судьями, над их слабостями, их наивными неловкими попытками поймать его. Несчастные! Как они трудились, выбивались из сил, потели! Как они принюхивались, стараясь напасть на след, и, точно в трансе, не спускали глаз с дороги, которая, казалось им, ведет вверх. Карьера! Карьера! А как они все были любопытны, как близоруки, без искры проницательности вглядываясь в него, как они были лишены осязания, ощупывая его, как они были лишены чутья, обнюхивая его! При этом кое-кто из них питал самые благие намерения и в ходе дознания проникся даже своего рода расположением к человеку, который, несомненно, был мошенником, но по бойкости языка и остроте ума представлял собой незаурядное, поразительное явление.
А когда и секретари, два юных, глупых, хитрых честолюбца, решили попытать на нем свою удачу и свое уменье, Зюсса это даже умилило и насмешило. Несчастные тупицы! Он смотрел, как они прыгают вокруг него, точно глупые щенки, а потом ласково и небрежно отгонял их.
Все это были люди ограниченные. Ограничен от природы был и тарный советник Иоганн-Кристоф Пфлуг, главный нерв и двигатель следственной комиссии. Но его ум и проницательность обострялись лютой ненавистью к евреям. Если бы в тюремной камере сидел прежний Зюсс, у него бы душа переворачивалась от тех тончайших ехиднейших булавочных уколов, которыми желчный советник старался показать ему свою гадливость и презрение. Господину фон Пфлугу трудно было дышать одним воздухом с евреем; входя к нему в камеру, он ощущал физическое отвращение и тошноту. Но он считал своим долгом все вновь и вновь унижать этого отпетого негодяя, этого гнуснейшего из людей, измываться над его человеческим достоинством, растравлять его позор. Он страдал оттого, что ему это не удается, и всякий раз без сил покидал камеру, чтобы снова туда возвратиться. Зюсс с насмешкой и жалостью наблюдал за ним. Узнай этот кичливый аристократ, что отверженный жид и проходимец – сын Гейдерсдорфа, фельдмаршала и барона, – весь внутренний мир его рухнул бы.
Ни один адвокат не брался добровольно защищать еврея. Осуждение его было предрешено. Единственное, чего при этом можно было добиться, – ущерба собственной карьере. Таким образом, суду пришлось дать обвиняемому защитника по назначению. Комиссия определила очень щедрое вознаграждение за этот труд, опять-таки из конфискованного имущества финанцдиректора, и возложила защиту на одного из членов господствующих парламентских династий, адвоката при верховном суде, лиценциата Михаэля-Андреаса Меглинга. Ему пришлось обосноваться в Штутгарте и составлять защитительную записку, за что ему причитались неслыханно высокие суточные. Адвокату внушили, что незачем особенно напрягать силы, ведь всем на свете известно, что защита в данном случае – пустая формальность. Но лиценциат Меглинг, простодушный блондин с румяным, приятно округлым юношеским лицом, был человек добросовестный, он ничего не хотел брать даром и отнесся к делу невообразимо серьезно, хлопотал, потел, писал. Члены следственной комиссии улыбались, улыбался и сам еврей. Славному юноше чинили всякие препятствия. Важнейших документов ему в руки не давали и в протоколы некоторых допросов просто не разрешали заглядывать. В то время как Зюссу вообще не возбранялось принимать посетителей, злополучного лиценциата всячески притесняли в его желании письменно или устно сообщаться со своим клиентом. Он же ничем не смущался и добросовестно, усердно и бездарно выполнял свой адвокатский долг.
Зюсса все еще содержали в Гогеннейфене, относительно нестрого. Члены следственной комиссии не отступались от него, питая за его счет тело, душу и кошелек. Он же сидел тихо и мирно, в каком-то блаженном и мудром покое, сидел точно в вате, и никто не мог добраться до него.
Больше всего это уязвляло тощего, желчного господина фон Пфлуга. Следствие не двигалось с места, этот выродок-еврей просто издевался над людьми. Тайный советник попросил господина фон Гайсберга созвать пленарное заседание, так как он желает внести предложение. Все десять членов собрались и выжидательно смотрели на господина фон Пфлуга. Тот поднялся, угловатый, поджарый, горбоносый, тонкогубый, с черствым, алчным, жестоким взглядом. Начал он с того, что до сих пор следствие велось по линии обвинения в оскорблении величества, государственной измене, чеканке неполноценной монеты; пора перейти к преступлениям, наказуемым смертью, которые еврей совершил в другой области. Государственный уголовный кодекс карает смертью плотскую связь еврея с христианкой. А всем доподлинно известно, каким скотским образом обвиняемый растлевал христианских девиц и бесчестил как знатных дам, так и особ низкого звания. Настало время повести расследование и в этом направлении.
Смущенно молчали присутствующие. Очень уж щекотливое дело. Если начать в нем копаться, к чему это приведет? Мало ли кого можно скомпрометировать, затеяв такую историю. Конечно, очень заманчиво откидывать пологи и покрывала, выведывать, когда и где и как, так ли или эдак; на некоторых лицах появилось уже сконфуженно похотливое выражение. Но позволить, чтобы вся Римская империя запустила глаза в это болото, – такой отважный жест надо сперва тщательно продумать. И откуда можно предугадать, сколько семейств тут замешано, сколько врагов придется нажить по ходу следствия. Весьма, весьма щекотливое дело.
Далекий от подобных соображений, Иоганн-Даниэль Гарпрехт все же первым возразил, что столь почтенной комиссии, на его взгляд, незачем совать нос в такую грязь и пакость. Конечно, весьма прискорбно, что столько христианских девушек и женщин предавались распутству с евреем. Но из-за плотских грехов бывшего финанцдиректора ни герцог-регент, ни кабинет министров, ни парламент, несомненно, не стали бы наряжать специальное судебное расследование. Эти проступки Зюсса не причинили никакого вреда ни государю, ни стране. Да и закон, карающий смертью плотское сожительство иудеев с христианками, хоть и не отменен официально, в течение двухсот лет не применялся на практике, а посему фактически вышел из употребления. Далее следует подумать, что согласно этому закону не только еврей, но и замешанные в деле христианки подлежат сожжению. Поэтому он рекомендует тщательно обсудить возможные последствия, прежде чем начать действовать в этом направлении.
Тайный советник Пфлуг все с той же бесстрастной жестокостью возразил – не ему, мол, поучать своих мудрых и строгих сочленов, что их обязанность – не заниматься политикой, а придерживаться строжайшей справедливости. Тут нужно быть не тонким дипломатом, а только нелицеприятным судьей.
Остальные тем временем успели продумать все доводы «за» и «против». Они переглядывались, испытующе проникая в скрытые мысли друг друга, втайне вступая между собой в сговор. Если следствие распространится на любовные похождения еврея, репутацию и участь скольких женщин, скольких семей можно будет заполучить тогда в руки! Имена назывались всеми, то были имена больших и родовитых семей. Кто мешает им, судьям, ограничиться одним только дознанием, а дальнейший ход дела предоставить на усмотрение герцога-правителя и кабинета министров? И вовсе нет необходимости расследовать все без изъятия: обладая такими обширными полномочиями, можно по своему выбору одних вовлечь в дело, а других оставить в покое. Так или иначе, такой оборот следствия каждому из них сулил грандиозное расширение пределов власти, веса и влияния. Грозовой тучей нависнут они над страной, поражая и милуя по собственному произволу.
А сколько доведется им услышать секретов, которыми не обязательно воспользоваться сейчас же. Зато потом из них можно будет извлечь немалую выгоду. Отныне они, члены комиссии, зловещим могуществом уподобятся испанскому инквизиционному суду, тайному совету Венецианской республики. Это было соблазнительно, это дразнило и манило. Какой загадочный, многозначительный вид можно будет напускать на себя! Сколько людей будет боязливо и приниженно ожидать, притянут их к ответу или помилуют из снисхождения. А сколько можно будет узнать пикантных подробностей, чтобы потом доверительно поделиться ими с приятелем или братом, женой или любовницей, а также удивить и распотешить веселых собутыльников. Циничная усмешка скользнула по грубоватой физиономии тайного советника Гайсберга, господа помоложе на миг скинули маску бесстрастия и, прищурясь, подмигнули друг другу. Предложение господина фон Пфлуга было принято.
Сперва Зюсса допрашивали по этому пункту на пленарном заседании. Профессора Шепф и Гарпрехт отказались при сем присутствовать. Зюсс располнел, обрюзг, сгорбился. Лицо сделалось шире, карие глаза были уж не такими выпуклыми и быстрыми, смягчились. На лбу, над переносицей, появились поперечные борозды. Движения стали медлительнее. Печать мудрого, лукавого спокойствия лежала на нем.
Когда его спросили, имел ли он плотские сношения с христианками, он сперва удивленно взглянул на судей. Он и думать забыл о законе, карающем смертью подобное сожительство, – настолько давно не применялся этот закон. Он объяснил вопрос злобным любопытством, желанием во что бы то ни стало унизить его и, не понимая, куда клонят судьи, промолчал. Тайный советник фон Гайсберг заорал, вспылив, чтобы он перестал ломаться и сию же минуту перечислил всех баб, с которыми спал. Еврей внимательно посмотрел на господ судей, переводя вдумчивый взгляд с одного на другого, затем сказал сухо, без иронии, что ему непонятно, какую это может иметь связь с государственной изменой и чеканкой неполноценной монеты. Господин фон Пфлуг прикрикнул на него, что это их, судей, дело, а ему не мешает обуздать свое жидовское нахальство.
Зюсс стоял, покачивая головой, размышлял. И вдруг вспомнил ту статью государственного уголовного кодекса, которую давным-давно не принимали всерьез, а ему привели когда-то, должно быть в шутку. Ах так? Таким устарелым заржавевшим бутафорским оружием решено его прикончить, из-за такой нелепицы должен он умирать? Разом воскрес прежний, блистательный Зюсс. Он выпрямился, метнул быстрый, крылатый взор судьям, произнес четко, насмешливо:
– Отрицать, что я спал с христианскими женщинами, я не стану. Господа судьи могут, если пожелают, приговорить меня за это к смерти. Вся Римская империя будет смеяться. И не надо мной.
Разъяренные судьи накинулись на него, наперебой крича, вопя, негодуя на его наглость, а он стоял и слушал, холодный, невозмутимый. Он видел их всех насквозь. Видел их звериную злобу, жестокость, сластолюбие, напыщенное тщеславие. Видел, какой наглый, холодный шантаж замышляли они в отношении тех женщин. Он видел, как упали человеческие маски, обнажив волчьи и свиные хари. Но, не дав воли накипевшему гневу, он овладел собой, и жалость к этим злобным ничтожествам поднялась в нем. С прежней мудрой, лукавой усмешкой на устах он произнес:
– Имен я не назову. Вам, господа, придется самим отыскивать всех этих дам.
Тут даже самые добродушные и благожелательные из судей распалились против него гневом. Они не хотели допустить мысль, что еврей из уважения к женщинам не открывает имен. Нелепо даже вообразить себе, чтобы они, высокопоставленные кавалеры, оказались менее благородными, чем еврей, чтобы у еврея оказалось больше рыцарских чувств, чем у вюртембергского тайного советника. Нет, он, прохвост, из чистой злобности и упрямства, из какой-то еврейской жадности не желает назвать им имена, поделиться с ними своими альковными радостями, хотя они имеют на то законное право. А они-то уж наперед смаковали переполох, любопытство, пикантные положения, и вот теперь он все портит из чистой злобности. Но они все равно сладят с шельмецом, они принудят поганого жида уважать швабскую юстицию.
Его стали содержать строже, изъяли из-под начала добродушного гогеннейфеновского коменданта. Перевели на суровый режим в Асперг. Здесь властвовал майор Глазер, человек педантичный, для которого дисциплина была превыше всего. Зюсса заточили в тесный, сырой каземат. День здесь почти не отличался от ночи, платье смердило в сыром, затхлом воздухе, сгнивало на теле. Спать ему было не на чем, кроме голого, холодного, неровного, сырого пола. Его посадили на хлеб и на воду и по нескольку часов держали скованным крест-накрест. Жирные, мерзкие крысы бегали по его скрюченному телу, и он не мог отогнать их.
Каштановые волосы его побелели, гладкая, натянутая кожа поблекла и сморщилась, а на щеках, раньше глянцевитых и упругих, выросла уродливая седая щетина. Сторожа его слыхали от него немало недобрых слов, проклятий и ругательств, он отчаянно сопротивлялся, когда его сковывали по рукам и по ногам. Но когда он сидел один, голодный, весь скорченный от надетых на него оков, кашлял, замерзал, тогда сторожа, заглядывая в дверную щель, видели, как он с непонятным удовлетворением покачивает головой, и слышали, как он что-то про себя бормочет нараспев неблагозвучным голосом. Иногда казалось, будто он обращается к кому-то, выслушивает ответы, возражает. Но в камере никого не было, кроме крыс. Сторожа толкали друг друга в бок, ухмылялись, фыркали и под конец решили: помешался.
Но он отнюдь не был помешан. Это было нечто совсем иное. У него выпадали часы такого покоя, что он оказывался недоступен голоду и холоду, недоступен тянущей, рвущей боли в насильственно согнутом теле. И крысиный шорох превращался для него в нежный, сладостный голосок, и он говорил и получал ответы и блаженно улыбался.
Упорная борьба завязалась между ним и майором Глазером. Майору сказали, что необходимо вынудить у еврея признание, с какими женщинами он был в плотской связи, после чего можно на законном основании предать его смерти, у всех на глазах раздавить этого клопа. И вот майор стал допрашивать еврея ежедневно между девятью и десятью часами. Зюсс сознавался, что пользовался милостями дам как высокого, так и низкого звания. Майор говорил, что этого недостаточно, ему нужны имена. Зюсс: должно же быть ему, офицеру, понятно, что имен он не назовет никогда. Майор: что подобает офицеру-христианину, то не пристало вонючему жиду; и все больше притеснял упорствующего преступника.
Зюсс вовсе не стремился выставлять себя героем. Периоды улыбчивой покорности судьбе сменялись вспышками бешенства и подавленностью. На него временами нападало такое отвращение к своей дурно пахнущей, прогнившей одежде, что он сбрасывал ее и оставался голым; комендант приказывал силой надеть на него ту же одежду. О каждом движении арестанта майор педантично, усердствуя и злобствуя, докладывал господину фон Пфлугу. Сообщал, что эта бестия, иудей, поелику ему не удалось раздобыть яду у сторожа Гофмана, обкусал себе ногти, почитая их ядовитыми, и проглотил обгрызки ногтей, каковой глупости все немало смеялись. А то еще иудей, эта бестия, за целых четыре дня не принял ни на грош пищи, чем причинил ему, майору, беспокойство, как бы он не подох с голоду. Нынче он начал есть, так что имеется надежда живым отправить его на виселицу.
Когда Зюсс совсем падал духом, ему случалось сетовать на то, что у него не только отобрали состояние, а хотят в придачу подлым образом лишить его жизни. В другой раз он лукаво заявлял, что тронуть его никто не посмеет, все это лишь дурацкая комедия и он готов биться об заклад на пятьдесят тысяч гульденов, что скоро будет на свободе. Однажды он стал даже требовать, чтобы его освободили, грозил, буйствовал, утверждая, что имеет полное право поехать в Штутгарт и заняться домашними делами, чем вызвал шумную веселость у своих сторожей, от восторга хлопавших себя по ляжкам. Комендант нимало этим не интересовался, он только доносил господину фон Пфлугу о каждом слове арестанта и ежедневно между девятью и десятью часами допрашивал его, требуя назвать имена принадлежавших ему женщин, на одни и те же вопросы получал одни и те же ответы и каждый раз наново убеждался в злостном упорстве этого негодяя и государственного преступника.
А потом снова наступали недели, когда Зюсс был спокоен и доволен и в одиночестве тесной камеры что-то говорил, обращаясь к сырым стенам и затхлому воздуху. Он видел своего отца, точно живого. Тот стоял в камере в одежде капуцина, стройная, изящная фигура ожирела и обрюзгла, но в глазах была тишина и покой. И он говорил с ним, и они понимали друг друга и ходили рука об руку – низложенный маршал с низложенным министром, нищенствующий монах с замученным арестантом в вонючих отрепьях, и они улыбались друг другу и в добром согласии шагали взад и вперед по сырой конуре, и крысы шелестели у них по ногам.
А господа члены комиссии продолжали следствие, неуклонно и очень неторопливо, и получали огромные суточные.
Мария-Августа, вдовствующая герцогиня, так увлеклась политическими интригами, что ради политики даже забросила туалеты. Грациозной, кокетливой заговорщицей сидела она в Штутгартском замке или в своем нарядном вдовьем поместье Теинах и, по наущению своего духовника, патера Флориана, и библиотекаря Франца-Иозефа Гофана, затевала бессчетные интриги, козни, каверзы, чиня постоянные неприятности Карлу-Рудольфу. По-кошачьи ласковый, одетый согласно последней моде, молодой библиотекарь с литературными претензиями набрасывал у себя за письменным столом фантастические проекты, более настойчивый патер Флориан пытался осуществлять их, а Мария-Августа любезно, хлопотливо, наобум хваталась за все и всему мешала. Изломанный, изысканный, претенциозный библиотекарь весь растворялся в благоговейных многословных восторгах перед герцогиней, сочинил даже целый пухлый роман, в котором главная роль была отведена ей, современной Семирамиде, мудрой и доблестной правительнице, а также добродетельнейшей и прекраснейшей из женщин; в бесчисленных новомодных поэмах сравнивал ее со всем, что есть прекрасного между небом и землей. Она нежилась в его красноречии и галантном обожании и со временем восприняла многие из его выражений и жестов. Трудно сказать, потому ли она не была с ним близка, что он занимался ее политическими делами, или же она занималась политикой, потому что он не был близок с ней. Одно тесно переплеталось с другим. Расчетливого, по-солдатски решительного герцога-регента раздражала постоянная трата времени на борьбу с ее глупыми кознями. Он решил раз и навсегда избавиться от этой докучливой интриганки. По всей стране внезапно распространились слухи, что вдовствующая герцогиня все-таки решила силой осуществить проект своего вовремя убравшегося супруга и даже уже приспособила тейнахскую церковь под католическое богослужение. Вся каверза заключалась в том, что герцогиня затевала тысячи других интриг, но в этой была совершенно неповинна. Какая злая ирония – подстроить так, чтобы споткнулась она именно на этом. Во всяком случае, народ безоговорочно поверил слухам.
Гневные речи, летучие листки, на улицах при ее проезде гробовое молчание, явное и дерзкое нежелание приветствовать ее. После того как вмешалась полиция и арестовала тех, кто уклонялся от приветствия, улицы пустели при появлении кареты, все разбегались по домам и соседним переулкам, лишь бы не приветствовать герцогиню. Мария-Августа не могла с этим примириться, патер Флориан вместе с изысканным библиотекарем тратили огромные деньги, чтобы усеять ее путь верноподданными, которые исправно кричали бы «ура». Но она заметила, что энтузиазм был покупной, и страдала вдвойне. Патер Флориан написал герцогу-регенту негодующий протест, в котором с жаром отстаивал полнейшую невиновность Марии-Августы именно в тейнахском деле, резкими словами клеймил наглую непочтительность подстрекаемого к тому населения, запальчиво и заносчиво требовал помощи. Карл-Рудольф не ответил. Кипя возмущением, Мария-Августа отправилась к нему. Он заявил, что у него нет времени отвечать на письма всяким монахам. Согласно уставу своего ордена, патер Флориан подписался «недостойный капуцин». «Зачем я стану отвечать человеку, который даже недостоин быть капуцином?» – грубо отрезал нескладный кособокий Карл-Рудольф. В заключение он сказал, что может запретить подданным вести себя непочтительно по отношению к герцогине, но заставить их проявлять при виде нее радость и любовь никак не может. Он по-дружески советует ее светлости брать в поведении пример с него, тогда подданные без особых указов и без всякой платы будут подобающим образом ее приветствовать.
После такого афронта герцогиня решила покинуть тупую и неблагодарную Швабию, поселиться с двором в Брюсселе, Регенсбурге или Вене и, капризно негодуя, в роли Кориолана женского пола ждать, пока ее призовут назад.
Она пригласила к себе Магдален-Сибиллу, чтобы проститься с ней. Супруга советника экспедиции, Магдален-Сибилла Ригер сидела, степенная и положительная, перед герцогиней, которая грациозно изгибалась, лепетала и стреляла глазками, настроенная, ввиду предстоящего путешествия, на особо шаловливый и по-юному резвый лад. Магдален-Сибилла раздобрела и расплылась: она носила под сердцем ребенка – маленького Ригера.
Приятельнице она поднесла бесталанную, риторично чувствительную прощальную оду. Мария-Августа выслушала ее с подобающим умилением и признательностью. Но затем, поспешив покончить с торжественной частью свидания, она принялась иронизировать над невежественной, грубой Швабией, которую она, слава богу, скоро покинет; над кособоким скаредным старым ослом Карлом-Рудольфом, над Иоганном-Якобом Мозером, смехотворно пылким оратором, надо всей дерзкой, неотесанной чернью. Об одном только человеке она сожалеет: о добром верном силаче Ремхингене, который сидит в Асперге. Ах! и еще о своем славном, элегантном, занятном придворном еврее. Его мучают, сковывают по рукам и по ногам, а она, Мария-Августа, ничем не может помочь ему. Дело в том – и она напустила на себя важный вид, – дело в том, что это подорвало бы ее авторитет, а ее милый библиотекарь никогда бы этого не допустил из политических соображений. Ведь еврей, наверно, убивал младенцев и занимался бог весть каким чародейством. Но зато он был галантный, статный мужчина и уж, конечно, самый занимательный в этом пресном Штутгарте; во всяком случае, очень обидно, что эти грубые бестии так терзают и увечат его.
– Helas, helas![88] – проронила она, складывая губки бантиком, точь-в-точь как ее изысканный библиотекарь.
Между женщинами воцарилось минутное молчание. Обе думали о Зюссе. Марии-Августе виделись его пламенные крылатые глаза, его раболепно преданный вид и манеры, его напористая, волнующая, дерзкая галантность. И она томно потянулась, улыбаясь в приятном возбуждении. Магдален-Сибилла сидела неподвижно, сложив крупные, прекрасные женственные руки на коленях. В Гирсауском лесу повстречался он ей, и тогда он был дьяволом; потом здесь, в Штутгарте, он не взял ее, а отдал на растерзание зверю, герцогу, потом он развернул перед ней фантастическую грезу власти и блеска и взял ее; а потом стал другим, чуждым, черствым и подчеркнуто вежливым с ней. Теперь он сидит в Асперге, и его мучают и выворачивают ему суставы. Она же носит под сердцем ребенка, и ребенок будет, наверно, хороший, потому что отец его хороший человек, который боготворит ее. Он будет расти в мирных, уютных покоях Вюртингейма, на лугах, где пасется холеный скот, в плодовых садах. Ему никогда не придется сидеть в Асперге, и дьявол ему, наверно, никогда не повстречается. Зато он, быть может, станет сочинять стихи, хорошие, добросовестные стихи, которые всякому понятны и многим дают отраду. Но дьявол ему, наверно, никогда не повстречается.
Мария-Августа прервала сосредоточенное молчание. Как бы ей не забыть, сказала она с легкой, лукавой усмешкой, ведь у нее есть прощальный подарочек для Магдален-Сибиллы, ее милой приятельницы и доброй наперсницы, удачно выбранный, как она надеется, и оригинальный презент.
– Cara mia! – сказала она. – Cara mia Maddalena Sibilla![89] – Это поможет ей в трудный час, таинственно прошептала она, подвинулась поближе, погладила величавую женщину. Ей самой оно помогло. Если у нее сошло все так легко и сама она осталась молода и стройна, то обязана она этим подарку, который собирается преподнести своей милой приятельнице. Ей-то уж, хоть она и не предполагает поступать в монастырь, это средство вряд ли понадобится. И нежным, шаловливым, сладострастным движением она вынула футляр с амулетом еврея, который сидел теперь в сырой вонючей камере, скованный крест-накрест. Вынула полоску пергамента с красными массивными еврейскими буквами, с именами ангелов: Сеной, Сансеной и Семангелоф, с непонятными замысловатыми фигурами, с комичными и грозными первобытными птицами. Хихикая, рассказала она, как получила амулет от Зюсса, и поведала неприличную историю о Лилит, первой жене Адама, который не дал ей тех плотских радостей, каких она желала. Магдален-Сибилла протянула руку за амулетом, опустила вновь, наконец взяла его нерешительно, с легким содроганием.
Вслед за тем Мария-Августа покинула Штутгарт. Сопровождала ее большая свита, а непосредственно при ней состояли патер Флориан и одетый в модный дорожный костюм, по-кошачьи ласковый, библиотекарь. Ее гардероб был погружен на великое множество подвод и отправлен заранее. Вдоль всего ее пути стояли толпы зевак. Теперь, когда герцогиня уезжала, настроение смягчилось, и ей вслед неслись добродушные шутки. Ее казначей и раздатчики милостыни не поскупились, и приветственные возгласы звучали почти что сердечно.
И Иоганн-Якоб Мозер стоял на ее пути вместе с женой. Он расчувствовался.
– Итак, она уезжает, – сказал он жене. – Боится, что не устоит от соблазна. И предпочитает бежать. Великий боже, благодарю тебя, что ты дал мне силу и крепость и обуздал мою кровь. – И он крепче сжал руку жены.
Перед тем как ее карета тронулась, к дверце подошел проститься кособокий, невзрачный, неряшливый герцог-регент. «Я-то думал, что мне придется изгонять дьявола, – усмехнулся он про себя, – на деле же оказывается, что у меня из дому вылетает гогочущая гусыня». А Мария-Августа думала с насмешливым превосходством: «Все те, что остаются, друг друга стоят. Осел осла погоняет». И пастельно нежное личико из-под гигантской черной шляпы с любезной насмешкой улыбалось старому вояке, который захлопнул дверцу, отдал честь и ухмыльнулся с непривычной для себя приветливостью.
Следственная комиссия, несмотря на все пытки, не добилась от Зюсса ничего, кроме сделанного в общей форме признания, что он имел связи с христианками. Тогда стали вызывать лакеев, камеристок, с пристрастием допрашивали их о мельчайших подробностях. Некоторые подглядывали в замочные скважины, другие слышали взвизгивание и сладострастные стоны. Все эти сведения: где, когда и подолгу ли, – взвешивались, обсуждались на все лады, разжевывались, заносились в протоколы. Обнюхивались простыни, рубашки, ночные горшки, а выводы излагались письменно. Таким образом, мало-помалу был составлен длинный список женщин, высокого и низкого звания, незамужних и состоящих в браке. У всех их судьи жадно и обстоятельно, не упуская ни малейшей детали, выспрашивали, когда, сколько раз, подолгу ли и каким образом обладал ими еврей. Все показания записывали черным по белому в трех экземплярах для сохранения в архиве в качестве исторических материалов государственной важности.
В числе прочих суд вызвал и обеих дам Гетц, и снова молодой тайный советник Гетц оказался в крайне затруднительном положении. Он счел нужным на время отправить мать и сестру в свое поместье близ Гейльбронна. Они могли бы попросту переселиться в имперский город Гейльбронн и тем самым оказались бы неподсудны герцогской юстиции; но тогда и ему пришлось бы подать в отставку.
А если они явятся на суд, надо быть настороже и, прежде чем кто-нибудь осмелится бросить косой взгляд, надо, в свою очередь, сразить наглеца смелым и грозным взглядом, чтобы у него пропала охота шутить. А это занятие нелегкое, придется грозно смотреть на многих, почти на всех. Но он был отважен и решился действовать именно так.
В ясный летний день предстали обе дамы перед судом. Вдоволь насладились члены комиссии пикантностью положения, допрашивая сперва мать, а затем дочь. Они еле скрывали алчное любопытство и похотливое удовольствие под торжественными масками беспристрастных судей. Элизабет-Саломея в черном, гладком платье, подчеркивающем лилейную прелесть нежного личика с затравленными серо-голубыми глазами, стояла перед ними растерянная и дрожащая. К общему удивлению, на ней не было никаких драгоценностей, кроме кольца с райским глазом, она надела его, несмотря на строгий запрет брата, и присутствующие не могли оторвать взгляд от камня. Она корчилась от непристойно любопытствующих вопросов, которые с беспощадной, дотошной деловитостью задавали ей эти мужчины, находя себе полное оправдание в дразнящем блеске бесценного камня. Дрожа, как в ознобе, несмотря на яркое июньское солнце, она мучительно извивалась, выслушивая эти грубо откровенные вопросы, которые не всегда были ей даже понятны, вся съеживалась, отворачиваясь от бесстыдных взглядов, лихорадочно сжимала и разжимала тонкие, худенькие пальцы. Ответы ее звучали тихо, еле внятно, судорога перехватывала ей горло; но пощады ей не давали, многое заставляли повторить еще раз, глуховатый государственный советник Егер твердил: как? как? – и кое-что требовал повторять трижды. Затем перешли к ее связи с герцогом и расспрашивали так же подробно. Особенно настойчив был тайный советник Пфлуг, он хотел возвести в оскорбление величества то обстоятельство, что еврей опередил герцога. Так терзалась юная, белокурая, прелестная девушка у незримого позорного столба, и никто ее не жалел, все напирали на нее, измывались над ней. Тон задавал чванливый, черствый господин фон Пфлуг: в пылу ненависти, морщась, как от дурного запаха, он все спрашивал ее, неужели же ей не претила вонь обрезанного; за ним государственные советники Фабер, Ренц, Егер, Данн, усердные честолюбивые чиновники среднего возраста, возбужденные таким небывало пикантным служебным делом, старались выведать побольше подробностей, сперва выражаясь иносказательно и по-любительски смакуя их, а затем напрямик, называя вещи своими именами; секретари – асессор Бардили и актуарий Габлер с галантностью дурного тона и с нагло снисходительным видом, с каким мужчины оказывают покровительство проститутке, пытались привести смягчающие доводы; председатель, тайный советник Гайсберг, орал громовым голосом, чтобы она не жеманилась и не хныкала, грешить и развлекаться она могла, так незачем корчить из себя подросточка; надо говорить голую правду; черт побери, сама-то она ведь не стыдилась оголяться. Вся разбитая, со стиснутыми висками, полумертвая от стыда и усталости, лежала она в полутемной комнате у себя дома; а брат ее шагал из угла в угол, гневно разглагольствуя; его слова терзали ее слух, но не доходили до сознания.
Хотя члены следственной комиссии скрытничали и напускали на себя неприступную таинственность, многие подробности допросов просачивались в город, в страну. Снова дом на Зеегассе, парадная кровать, Леда с лебедем занимали все умы. Имена женщин стали известны, и как ни старались несчастные спрятаться, стушеваться, их поносили, им вслед кричали бранные слова, плевали на них, обстригали им волосы. Просачивались все новые подробности. Волна сладострастия прокатилась от давно канувших в вечность любовных ночей Зюсса через всю страну. Мужчины сквернословили по трактирам, служанки едва отбивались от их грубых ласк, проститутки процветали. Женщины и девушки хихикали, ужасались, у многих лица становились злыми, завистливыми, обиженными, другие прерывисто дышали и млели от истомы. Какой-то английский коллекционер давал огромные деньги за пресловутую парадную кровать Зюсса.
Разумеется, до молодого Михаэля Коппенгефера дошли слухи о позоре девицы Элизабет-Саломеи Гетц. Времена изменились, и юноша вернулся назад в Штутгарт. Он возмужал в изгнании, слыл мучеником, как пострадавший за убеждения, и для многих из молодежи был примером и идеалом; быть может, некоторые из его приятелей даже знали, что он неравнодушен к девице Гетц, и тем не менее не стеснялись резкими словами поносить и хулить девушку, всячески изощряясь, чтобы навеки заклеймить ее гневным презрением. Никто и не думал, что склонность Михаэля Коппенгефера, молодого, стойкого, добродетельного демократа, устоит против таких разоблачений. И Михаэль Коппенгефер действительно не произносил ни слова в ее защиту. Не произносил и ни слова хулы, вопреки общему ожиданию. Он молчал и страдал. Не в его натуре было прощать по малодушию. Но ему виделось чистое, ясное лицо, белокурые волосы Элизабет-Саломеи, и он страдал. Он попросил своего дядю Гарпрехта показать ему протоколы. Для старика юриста с возвращением юноши наступили хорошие времена. Книги, право, демократия, отечество, все то, чем и ради чего он жил, ожило теперь, дышало и пульсировало в юноше со смело очерченными смуглыми щеками и ярко-синими глазами. Когда рассказы о допросе девицы Гетц просочились в город, старик стал озабоченно наблюдать за юношей, он знал, что тот от природы меланхолик и что рана, нанесенная Элизабет-Саломеей, не могла зажить так скоро. Он увидел мучительную тревогу на лице юноши, подумал и дал ему документы. Михаэль начал читать и не выдержал, бросил, смертельная злоба закипела в нем против герцога, против еврея, против судей, против всех этих мужчин. Из протокола с полной достоверностью явствовало, что Зюссу не пришлось прилагать большие усилия. Но Михаэлю хотелось видеть в девушке жертву, и он видел в ней жертву. Он видел ее, светлую, нежную, лилейную, перед грубыми, жестокими судьями. Он не мог совладать с собой, пусть это была сентиментальность, но сердце у него замирало, когда он думал о ней, он не мог вырвать ее из души и пройти мимо твердым мужским шагом. Он пытался побороть себя, а когда старик Гарпрехт задавал ему бережные и ласковые вопросы, он отмалчивался. Он старался припомнить все смелые вольнодумные суждения о том, как мала цена девственности, но принимал их лишь в теории, они были мертвы для него, вся его внутренняя сущность восставала против них. Наконец он осилил себя. Он откажется от политического поприща и, как бы ни издевались над ним, мужем гулящей девки, он возвысит до себя Элизабет-Саломею, женится на ней, снимет с нее позор и будет жить в деревне, вдали от мира, скромным ученым, наедине с книгами и с ней, находя опору в ее раскаянии и благодарности.
Без ведома старика Гарпрехта он отправился в поместье Гетцов, поблизости от Гейльбронна, куда после допроса возвратились обе дамы. Его сперва долго не принимали. Когда наконец он увидел Элизабет-Саломею, она была занята спешными приготовлениями к отъезду. Ему не удалось выступить со своим великодушным предложением. В девице Гетц произошла разительная перемена. Она лихорадочно суетилась между ворохами нарядов, белья, книг, изящных мелочей, складывала, связывала, упаковывала и с горькой, иронической веселостью вела салонную беседу, высказывала ужасающие легкомысленные взгляды. Мораль – понятие весьма относительное. Год назад в Штутгарте считалось хорошим тоном быть светски фривольным, а сейчас в принцип возведено обратное. На ее взгляд еврей – лучший человек во всей Швабской земле и настоящий кавалер. Что до нее, так она едет сейчас за границу, сперва в Дрезден и Варшаву, а затем в Неаполь и Париж.
Итак, счастливо оставаться! Она помахала ему рукой, на которой волнующим пламенем горел райский глаз.
В полном смятении, крепко сжав губы, воротился домой Михаэль Коппенгефер. Впоследствии до него дошли вести, что Элизабет-Саломея ведет жизнь блестящей модной куртизанки при европейских дворах. При ней, в качестве лейб-егеря и доверенного лица, состоит Отман, чернокожий.
В камеру Зюсса вошел магистр Якоб-Поликарп Шобер. Темно и сыро было в тесном каземате, воздух был затхлый и зловонный. Зюсс сидел скорчившись, тяжело дыша, он ожирел и одряхлел, лицо обросло густой щетиной. Магистр был потрясен до глубины души, когда, после некоторого колебания, узнал в этом оборванце своего прежнего столь блистательного и великолепного господина. Ему самому тоже не сладко жилось. Он терзался сознанием, что по его вине финанцдиректор попал в беду, когда ведь он-то, собственно, и спас евангелическую веру в герцогстве; магистра угнетала клятва, данная еврею, ему хотелось нарушить молчание, обелить невинно обвиненного, освободить его. Покачивая головой, слушал Зюсс его нескладные, бессвязные сожаления, мольбы, уговоры, и под конец произнес:
– Хороший ты человек, магистр. Такие редко встречаются. – И, помолчав, добавил с загадочной улыбкой: – Если тебе уж так непременно хочется, теперь ты можешь говорить. – Магистр поцеловал ему руку и ушел осчастливленный.
Побежал к членам парламента, которым тогда, с разрешения Зюсса, открыл замыслы католиков. Принялся объяснять, растолковывать, уверять. Его выслушали, дивясь и недоумевая. Решили, что он хочет получить запоздалую награду за раскрытие заговора, за содействие полному его разоблачению. Довольно сдержанно обещали похлопотать о нем, если случится подходящая государственная служба. Когда же он с жаром запротестовал, упорно настаивая на том, что он раскрыл еретические планы с ведома и даже по поручению Зюсса, ему нетерпеливо отвечали, что шутки его неуместны, и приняли его выступление за попытку к шантажу, за ловкие происки еврея. Тайный советник Пфлуг в первую голову усмотрел в этом дьявольский план защиты, выработанный Зюссом, и потребовал, чтобы магистра, неотвязно досаждавшего судьям своими россказнями, посадили в тюрьму. Но так как еврей и не думал воспользоваться шоберовскими признаниями для своей защиты, то магистра в конце концов сочли сумасшедшим, тихо помешанным, объяснили его умственное расстройство пиетистскими и мистическими бреднями и отпустили на все четыре стороны со строгим предостережением. Вне себя от ужаса перед мирскими соблазнами и слепотой, магистр удалился в Гирсау, где посвятил себя служению добродетели, старой кошке и поэзии.
Вскоре за ним в Гирсау последовал Филипп-Генрих Вейсензе. Вейсензе пришлось покинуть пост председателя церковного совета. Будь он прежним, возможно, ему удалось бы удержаться на этом месте. Тайный советник Генрих-Андреас Шютц, к примеру, был куда теснее связан с католическим проектом, однако с присущей ему увертливостью ужился при герцоге-регенте не хуже, чем при любом предшествующем правительстве, а Вейсензе в гибкости никак не уступал ему. Но он был утомлен и опустошен и сам устранился раньше, чем его удалили. Магдален-Сибилла совсем разошлась с отцом. Теперь, в своем унижении, он стал ей дороже, она попыталась сблизиться с ним, считая, что его несправедливо обидели, и даже написала стихи, в которых изобразила его отрешенным от власти не по собственной вине, а по вине случая и людской зависти. Но старик Вейсензе не захотел подпустить ее к себе, он ожесточился против нее, ее мещанство было ему глубоко противно, а беременность ее внушала ему чисто физическое омерзение. Что общего было у него с этой толстухой? Он ничего не испытывал к ней, и никакого духовного родства не было между ними. Что ему внук, происшедший от нее и семени Эмануила Ригера, тощего, усатого, бесцветного, безличного ученого педанта. Нет, нет! Все это нимало его не трогало! Голос сердца и крови тут был ни при чем. Кроме того, он стыдился бездарного стихоплетства дочери. Один из ее друзей, медик и поэт, доктор Даниель-Вильгельм Триллер недавно издал ее стихи, а геттингенское общество пиетистов добилось того, что проректор тамошнего университета, профессор Зельднер, в качестве имперского пфальцграфа увенчал Магдален-Сибиллу лаврами поэтессы. Бедный ганноверский курфюрст и английский король,[90] своим авторитетом покрывавший такой университет, такую эстетику, такого горе-критика и знатока искусств! И вот пошли скучные, глупые рифмованные поздравления с одной стороны, благодарственные вирши – с другой, а зачинщицей всей этой шумихи, смехотворной poeta laureata, была его дочь, носившая под сердцем дитя!. Вся его жизнь по праву могла считаться образцом такта, светской утонченности и дипломатичности, а, теперь на старости лет ему приходилось сгорать от стыда. Обедневший, оскудевший, полный отвращения, возвратился он в Гирсау и погрузился в комментарий к библии.
А страна между тем расцвела. Вздохнула, расправилась, сбросив иго душившей ее руки. Цены упали ниже, чем в первые, счастливые годы правления Карла-Александра. Шесть фунтов хлеба стоили теперь девять крейцеров, кружка выдержанного вина в кабаке – шесть крейцеров. Фунт говядины или свинины – пять крейцеров, жбан пива – два крейцера три геллера, сажень буковых дров – десять гульденов, еловых – пять гульденов. И хотя внутриполитическое положение вообще-то было незавидное, долг! – говорил Карл-Рудольф, справедливость! авторитет! – и даже не собирался уступить хоть малую толику своих княжеских прав парламенту, – зато он привлек в кабинет министров умного, честного, толкового Бильфингера, что служило порукой обеспечения религиозных и гражданских свобод и в сочетании с экономическим благоденствием способствовало всеобщему удовлетворению. Откуда-то откопали стародавние картинки, на которых Карл-Рудольф во главе войска, облаченного в дедовские мундиры, бился с турками в шароварах и с сарацинами, которые размахивали кривыми саблями, и где бы ни появился нескладный, неряшливый вояка, люди кричали ура.
Прямолинейная деловитость бравого старика регента внушала особое уважение советнику ландтага по юридическим вопросам Вейту-Людвигу Нейферу. Его мрачная фанатическая приверженность к самодержавию превратилась в столь же мрачную и пламенную ненависть к тирании. Теперь ему стало ясно, что и то и другое – лишь символ, лишь эмблема, а не главная суть. Долг! справедливость! авторитет! – вот смысл и основа истинно мудрого управления страной. Карлу-Рудольфу понравился иссушенный суровым фанатизмом законовед, подчеркнуто скромный в одежде и обращении. Вдобавок он, хоть и неясно как, был причастен к избавлению страны от последнего зловредного герцога и столь же зловредного еврея. Карл-Рудольф назначил и его в кабинет министров. И теперь этот мрачный фанатик участвовал в управлении страной, был неукоснительно верен долгу и справедливости и во главу угла ставил авторитет.
Так миновала сперва облачная и ветреная, а потом лучезарная весна, гнетущее грозовое лето, ясная осень клонилась к концу, начинались первые заморозки, а Зюсс все сидел между сырых тесных стен своего каземата. Теперь он был подавлен и впал в уныние. Не трудно переносить пытки, не трудно, должно быть, и умирать, но с каждым днем становилось все труднее вдыхать зловонный воздух заточения, есть мерзкий хлеб неволи. Спина его сгорбилась, руки и ноги были скрючены и до крови растерты кандалами. А на воле был воздух, на воле было солнце и ветер, на воле были деревья и поля, дома и звонкие голоса, мужчины с важным видом вершили дела, дети резвились, девушки покачивали бедрами. Ах, хоть бы разок наполнить грудь легким вольным воздухом, разок бы сделать семь шагов, вместо пяти с половиной из конца в конец своей камеры. Он писал. Писал герцогу-регенту. Тот человек пожилой; быть может, он выслушает его. Он писал деловито, почтительно, но не подобострастно. По-деловому, без злобы, указывал, что законов герцогства он ничем не преступал. А впрочем, если он чем-либо и согрешил против правового порядка страны, то его охраняет рескрипт Карла-Александра, согласно коему ему предоставлена полная свобода действия. И тем не менее он готов возместить любые убытки, причиненные его деятельностью. Он уже девять месяцев содержится в заключении, большую часть времени скованный по рукам и по ногам. За свое пребывание в крепости он стал стариком. А посему, припадая к стопам герцога-регента, он просит его светлость смилостивиться над ним.
С непривычным ему теперь волнением ждал он ответа. Наступило утро и вечер, прошел один день и еще один, прошла неделя, за ней вторая. Наконец, во время каждодневного допроса между девятью и десятью часами, после того, как майор Глазер торжествующе назвал ему еще несколько женских имен, выведанных комиссией, Зюсс напрямик спросил, не прибыл ли ответ от герцога-регента. Майор, в свою очередь, с холодной насмешкой спросил, неужто он всерьез думает, что правителю станут докучать его наглыми жидовскими домогательствами; само собой ясно, что его, закоренелого негодяя и жида, ламентации направлены не герцогу, а судьям. В своем ежедневном отчете тайному советнику Пфлугу он доложил, что после такого ответа эта бестия, иудей, совсем присмирел.
Но Зюсс вновь пустил в ход былую настойчивость и энергию. Он хотел дышать, он хотел видеть белый свет. После незадачливой попытки магистра Шобера свидания были ему воспрещены, и к нему не допускали даже его добросовестного защитника, лиценциата Меглинга. Но в больном, сломленном человеке пробудилась былая хитрость. Он выразил законное желание видеть священника. В этом ему отказать не могли. Он же хотел воспользоваться им как ходатаем перед стариком регентом. Однако эта надежда мигом улетучилась, когда к нему прислали городского викария Гофмана, старого приверженца конституционной партии и его ярого противника. Викарий, разумеется, решил, что Зюсса в теперешнем его положении легко будет обратить в христианство, и тотчас принялся ехидно и елейно увещевать его. Поняв, что с неудачным выбором духовного пастыря уплывают последние его упования, Зюсс только пожал плечами и возразил, что не собирается менять веру, а затем признался просто и откровенно, что позвал его в надежде добиться через его посредство аудиенции у герцога-регента. Викарий фыркнул, что это не входит в его обязанности, тогда Зюсс сухо поблагодарил его за посещение.
Однако городской викарий пришел второй раз. Он был ревностный служитель церкви и, подметив, как плох еврей телесно, решил, что в слабом теле и душа должна быть слаба. Зюсс усмехнулся, увидев его снова. Выслушал его спокойно и внимательно. Под конец сказал, покачивая головой:
– Менять религию подобает человеку свободному и не пристало арестанту.
Но городской викарий не сдавался. Он замыслил во что бы то ни стало просветить истинами аугсбургского исповедания человека, чье имя облетело всю Римскую империю. Он даже привел с собой, в качестве помощника, соборного священника Иоганна-Конрада Ригера. Оба духовных лица из сил выбивались, Иоганн-Конрад Ригер расстилал перед ним весь бархат своего прославленного красноречия, городской викарий вторил и поддакивал, целое миссионерское общество не могло бы представить большее количество веских аргументов. Но Зюсс, будучи закоренелым иудеем, упорствовал в своем заблуждении.
С остальными заключенными, Шеферами, Гальваксами, Бюлерами, Мецами, обращались куда гуманнее. Они были связаны родством с членами парламента; их дела велись очень снисходительно; на многое судьи закрывали глаза, многое обходили, смазывали. Деяния их, государственных чиновников, подходившие под рубрики оскорбления величества и государственной измены, мало-помалу свелись к незначительным проступкам. Судебное разбирательство вылилось в пустую формальность. Первым был освобожден гофканцлер фон Шефер, на него возложили только уплату судебных издержек, сохранив за ним чин тайного советника и пенсию в полном ее объеме, после чего он выехал в Тюбинген. Затем на свободу выпустили Бюлера и Меца, а последним Гальвакса. Всех их приговорили к высылке за пределы страны. Они предусмотрительно успели перевести за границу большую часть крупных сумм, заработанных ими на финансовых операциях Зюсса. Но предосторожность оказалась излишней; даже их имущество в самом герцогстве оставили неприкосновенным. Совместно с другими прежними соратниками Зюсса они переселились в отстоящий на полторы мили от Штутгарта вольный имперский город Эслинген, проживали в приветливом, нарядном городе на доходы со своих капиталов, ежедневно принимали гостей из Штутгарта и, в качестве благодушных зрителей, следили за процессом Зюсса. Правда, в Эслингене поначалу брюзжали против новых пришельцев. Но после перемен, происшедших в Вюртемберге, многие прежние эмигранты возвратились туда, и в Эслингене уменьшился приток денег, а так как новые беглецы, сторонники противоположной партии, широко тратили на свои нужды, с их пребыванием в стенах города скоро примирились. Таким образом, сподвижники Зюсса чувствовали себя совсем неплохо и спокойно, выжидали, чтобы правительство опять сменилось и всех их призвали назад; не вечно же юный герцог будет несовершеннолетним, а Карл-Рудольф – человек старый.
На все имущество Зюсса, находившееся в пределах досягаемого, а также на дворец его был пока что наложен арест. Ликвидация многообразных, необозримых предприятий финанцдиректора была весьма затруднительна. Дону Бартелеми Панкорбо пришлось со скрежетом зубовным обратиться за помощью к Никласу Пфефле. Бледнолицый толстяк подчинился, но с обычным своим невозмутимым видом поставил условия. Прежде всего он не позволил посторонним касаться предметов, находившихся в личном пользовании его господина. При малейшем посягательстве португальца Никлас Пфефле проявлял строптивость, путал все карты сложных финансовых дел, оказывал пассивное сопротивление, и дону Бартелеми приходилось отводить свои цепкие пальцы от тех предметов, к которым молчаливый секретарь не подпускал его.
Кобыла Ассиада, как ни ухаживали за ней, захирела, не чувствуя руки хозяина. Ее добивался майор – Редер, и португалец решил уступить лошадь ему. Но Никлас Пфефле этому воспрепятствовал. Неожиданно кто-то назначил большую цену, чем майор; прежде нежели майор успел сделать надбавку, благородное животное было уступлено неизвестному покупателю, а господин фон Редер, вдохновитель песни «Стой! иль умри, презренный плут!», все еще имевшей успех у обывателей, принужден был по-прежнему показываться восторженному народу на своей старой рыжей лошади. Прекрасная кобыла, по прозвищу Восточная, обнаружилась затем у мадемуазель Элизабет-Саломеи Гетц, где за ней ходил чернокожий. Впоследствии, очутившись в бедственном положении, мадемуазель Гетц продала ее богатому мусульманину, и кобыла Ассиада вновь сокрылась на востоке, откуда была вывезена.
И попугая Акибу, который говорил: «Ma vie pour mon souverain!» и «Как изволили почивать, ваша светлость?» – Никлас Пфефле вырвал из рук алчного победителя. Он сам отвез клетку с птицей во Франкфурт, к Исааку Ландауеру, который нашел приятного Никласу Пфефле покупателя. Знаменитый финансист принял секретаря в душной, непроветренной частной конторе своего уродливого, покосившегося, разделенного на комнатушки дома в гетто. Одетый в засаленный лапсердак, сидел он в некрасивой, неудобной позе перед толстым бледнолицым секретарем и злобно поглядывал на говорящую птицу, а затем сказал: «Говорил я ему в свое время: нужен еврею попугай?» При этом он суетливо расчесывал сухощавыми пальцами рыжеватую, седеющую козлиную бородку и бросал по сторонам косые, сердитые взгляды. Никлас Пфефле молчал. Тем не менее они провели вместе несколько часов, обсуждая многое, один односложно и хладнокровно, другой – суетливо, слезливо, угрожающе, возмущенно, запальчиво, настойчиво.
В результате этой беседы оба – Исаак Ландауер и Никлас Пфефле – совершили ряд поездок. Еврейский мир с самого начала попытался вступиться за свергнутого финанцдиректора. Теперь в эти начинания был внесен порядок. К министрам и власть имущим различных европейских дворов то и дело наведывались банкиры-евреи, чтобы поговорить о вюртембергском процессе. Они делали упор не на личности Зюсса, не на дурном с ним обращении, а старались подчеркнуть, какой произвол, какое попрание римского и германского права, да и законов самой страны, представляет собой этот процесс. Состоящих на действительной службе, связанных присягой чиновников отпускают на все четыре стороны, а частному лицу, подданному другого государства, предъявляют обвинение в измене конституции. К тому же существует герцогский рескрипт, на законном основании охраняющий его от всяких преследований, и этим постановлением, скрепленным высочайшей священной подписью, судьи позволяют себе пренебречь, а сами возбуждают дело об оскорблении величества. Где же тут правосудие? Какие же гражданские права, какие гарантии существуют в таком государстве? Возможно ли заключать договоры с таким правительством, вести с ним дела? Против одного-единственного параграфа закона погрешил Зюсс. Он спал с христианскими женщинами – вот так уголовное преступление! А за это у него конфисковали имущество. И это справедливость? И это правосудие? И такому государству можно доверять?
Такие разговоры шли при всех дворах. Над вюртембергскими посланниками подтрунивали, а всего больше издевались над расчетливой государственной моралью, пользующейся любовными идиллиями частного лица для пополнения государственного бюджета. Ни для кого не было тайной и то обстоятельство, что судьи затягивают следствие, дабы сохранить свои суточные. Господа судьи – так говорилось повсюду – до тех пор роются в каждой амурной связи еврея, пока не заработают на ней по тысяче талеров.
Иоганн-Даниэль Гарпрехт явился к герцогу-регенту доложить о ходе следствия. Он высказался откровенно и прямо. Если такое положение продлится, швабская юстиция утратит всякий престиж. Довольно уж тянется эта скандальная история. Нечего и говорить, что он тоже считает еврея зловредным клопом. Но позволительно ли в современном правовом государстве так истязать человека? Пора уже свести воедино все аргументы и поспешить с выводами и приговором. Какой позор, что все остальные завзятые мошенники выпущены на волю. Ему ясна политическая необходимость подобных послаблений, но зачем же срамиться, допуская ни с чем не сообразное варварское обращение с евреем? В частности, вся канитель, которую разводит комиссия по поводу его амурных дел, действует развращающе на страну. Старый законник разгорячился и говорил, не выбирая выражений. Ведь если следовать голой букве давно отжившего закона, надо и женщин сжечь на костре. А об этом никто и не помышляет. Чего же тогда, черт побери, затевать такую историю? Каждую ночь в герцогстве происходит не меньше сотни тысяч совокуплений. Лежа в постели с женщиной, никакой еврей и никакой еретик не угрожает безопасности государства, религии и конституции. Хорошо было бы, если бы еврей ничем другим не занимался ни днем, ни ночью. Кстати, на его взгляд, еврей, несмотря на все пытки не назвавший ни одного имени, много благороднее своих ретивых судей. Пора наконец вытащить носы и руки из этой грязи. Мрачно слушал его старый регент. Ведь Гарпрехт прямо и резко выложил все то, что сам он смутно ощущал. Долг! Справедливость! И он дал приказ прекратить дознание касательно женщин. Некоторые из них были, по его распоряжению, наказаны розгами и присуждены провезти по городу телегу с навозом.
С Зюссом он велел обращаться не слишком мягко, но по-человечески. С педантичной точностью выполнил майор Глазер эти указания: «Не слишком мягко». В камере еврея по-прежнему было пять с половиной шагов, заковывали его каждые два дня, мясо ему давали только по воскресеньям, одежду разрешали носить самую грубую, «но по-человечески». Допросы между девятью и десятью часами отпали. Через день ему приносили воды умыться, в камере его настлали деревянный пол и поставили нары для спанья.
На членов комиссии указ регента произвел большое впечатление. Да и несмотря на все громкие слова, им становилось не по себе от непрерывно возрастающего, умело разжигаемого возмущения иностранных дворов. Оказалось, что не так-то просто подвести под осуждение законную базу. Что Гарпрехт и Шепф ни в коем случае не подпишутся под ним, было совершенно ясно; но и остальные, особенно те, что помоложе, заколебались, испугались, как бы не скомпрометировать себя. Лиценциат Меглинг, добросовестный защитник, расцвел. Он был уверен, что более мягкое обращение с Зюссом и перемена в настроении некоторых судей – дело его рук. Правда, доступа к своему подзащитному он все еще добивался с трудом, а протоколы допросов ему попросту не желали показывать, так что для защитительной записки у него материала не прибавилось, но тем тщательнее он отшлифовывал ее, округлял и отделывал фразы, и совесть у него была спокойна, – он честно, в поте лица, зарабатывал свой гонорар.
С тревогой и злобой наблюдал тайный советник Пфлуг, как из-за еврейских махинаций осуждение и уничтожение Зюсса повисает в воздухе. Его холодный фанатизм не мирился с этим, терзал ему душу, не давал покоя. Цель была так близка; он не перенес бы, если бы она совсем ускользнула от него. Тощий, желчный, одержимый одним стремлением, недоступный никаким доводам, он зачастил к членам парламента, которые были известны ему как непримиримые враги Зюсса. Неустанно совещался с доном Бартелеми Панкорбо. Не щадил ни средств, ни трудов. Появились летучие листки, отвлекавшие на Зюсса весь народный гнев по поводу того, что разные Мецы, Бюлеры, Гальваксы гуляют на свободе. Был пущен слух, что скоро освободят и еврея. Тех судей, от которых ожидали снисхождения, включая сюда и всеми почитаемого Гарпрехта, всячески обрабатывали и даже спаивали в трактирах. Дело дошло до демонстраций и бунтов. «На виселицу еврея!» – провозгласили господин фон Пфлуг и дон Бартелеми. «На виселицу еврея!» – гремело в парламенте и с церковных амвонов. «На виселицу еврея!» – орала толпа, распевали на бойкий хоровой мотив уличные мальчишки, подтверждали крестьяне на отдаленных дворах, натужно шевеля мозгами. Подобным нажимом господин фон Пфлуг достиг того, что некоторые из судей вышли из состава комиссии. Их места заступили личные враги Зюсса, чьи голоса, несомненно, будут поданы согласно его, Пфлуга, желанию, – бывшие министры Форстнер и Негенданк, в свое время отставленные по милости Зюсса, холодный, увертливый честолюбец Андреас-Генрих Шютц, которому при Карле-Александре Зюсс постоянно ставил палки в колеса; кроме того, происками господина фон Пфлуга и молодой тайный советник фон Гетц был включен в комиссию, дабы он мог сорвать свой мстительный гнев на погубителе матери и сестры. Таковы были люди, которых теперь назначили судить Зюсса. В них ненависть пылала жарче, чем алчность к деньгам, народ настаивал на смертном приговоре, и они рады были уступить его настояниям. Прежде всего, они поспешили закончить следствие. Обвинительный акт, составленный государственным советником Филиппом-Генрихом Егором, возлагал на Зюсса вину чуть ли не за все, что случилось плохого при Карле-Александре, даже за то, о чем он никоим образом не мог знать; признавал его ответственным за служебную деятельность всех решительно государственных чиновников, начиная от членов кабинета министров и кончая всякой мелкотой. Добросовестную защитительную записку честного адвоката Меглинга еле прочитали. Ослепленные ненавистью, судьи отмахнулись от совершенно ясного существа дела, едва коснулись в мотивировке приговора многочисленных доводов, оспаривавших их правомочность и совершенно исключавших законность осуждения Зюсса.
Они признали еврея виновным в бессчетных преступлениях: во-первых, против герцога, во-вторых, против его верных соратников, министров и всей нации, ибо он очернил их в глазах государя и тем самым навлек на них немилость и недоверие; в-третьих, и особливо против парламента и конституции – в доказательство чему было приведено множество распоряжений Зюсса, и в первую очередь указ насчет трубочистов; и в-четвертых, против целых общин и отдельных подданных. Они объявили его повинным в оскорблении величества, в государственных преступлениях, в чеканке фальшивой монеты, в изменнических и вредоносных действиях.
На основании сего, особое судебное присутствие, назначенное для расследования преступлений Иозефа Зюсса Оппенгеймера, иудея и бывшего финанцдиректора, приговорило его к смерти через повешение. Этот род казни был определен подсудимому прежде всего потому, что он был обычной карой для совокупности преступлений, в которых тот был обвинен, в частности же потому, что повешение представляло собой нечто среднее между четвертованием, которому подвергают виновных в оскорблении величества, сожжением заживо, к которому присуждают фальшивомонетчиков, и более почетной казнью через отсечение головы.
Члены комиссии ходили с гордым видом. Они облекли приговор в относительно пристойную форму. Пускай педантичные законники придираются сколько угодно, им же довольно сознания, что народ здоровым чутьем своим поддерживает их.
Ежась и ерзая, сидел дармштадтский советник по финансам и министерский фактор барон Тауфенбергер в своем кабинете, заполненном кипами документов. Напротив него, беспомощная, красивая и глупая, сидела его мать, Микаэла Зюсс. Целых семь лет, с тех пор как он перестал прозываться Натаном Зюссом Оппенгеймером, а принял в крещении имя барона Людвига-Филиппа Тауфенбергера, она не посещала его. Красивая, пожилая дама, заполнявшая свою пустую жизнь заботами о туалетах, обширной перепиской, театром, покровительством юным талантам, путешествиями, светскими приемами, всегда пугливо избегала Дармштадта, местожительства своего старшего сына. Она бы поняла, если бы младший, Иозеф, принял веру своего отца, и пожалуй, даже обрадовалась бы этому, она с виноватой нежностью искала в его чертах сходства с отцом. А что Натан, сын кантора Иссахара Зюсскинда, перешел в христианство, это она считала величайшим кощунством, за которое рано или поздно придет расплата. Недоверчиво смотрела она на его счастье и успех. Но чтобы Иозефа, правоверного, благородного Иозефа, который спас Иезекииля Зелигмана из Фрейденталя и, несмотря на соблазн и неслыханное искушение, остался евреем, чтобы его так жестоко низвергли, меж тем как выкрест и вероотступник продолжает пышно процветать, это совершенно выводило ее из равновесия.
Микаэла Зюсс по-своему любила мужа, кантора Иссахара. Он был славный работящий человек, большой певец и актер, а главное, кроткий и покладистый муж, который подолгу отсутствовал и, не слушая злых наветов на свою жену, был всегда одинаково нежен и полон благодарного восхищения перед ее красотой. За свою долгую, богатую радостями, привольную жизнь она увлекалась многими мужчинами. Но месяцы, проведенные с блистательным Георгом-Эбергардом Гейдерсдорфом, были венцом ее бытия. Его падение, поругание и позор принесли ей самое большое горе, какое она испытала на своем веку. Позднее в сыне Иозефе для нее воскрес его отец; затаив дух, замирая от восторга, следила она за его счастливой судьбой, всю молодость и сладость, весь блеск и хмель жизни любила она в сыне, блаженно растворяясь в молитвенном преклонении перед его гениальностью, его звездой, его славой. И вот теперь для него еще страшнее повторяется превратность жестокой отцовской судьбы.
Сперва она думала, что арест сына лишь хитрость, маскировка, из которой он восстанет в удесятеренном блеске. Но теперь ей пришлось убедиться, что это чудовищная действительность. Приговор, правда, еще не был оглашен, но по всей империи носились все более угрожающие слухи, утверждавшие, что вюртембержцы порешили в ближайшее время вздернуть своего бывшего финанцдиректора. Припев: «На виселицу еврея!» – звучал не только по берегам Неккара, но и на всем Рейне вверх и вниз по течению.
Микаэла не могла отделаться от этого гнусного пошлого мотива, совсем терялась и трепетала. Делала неловкие попытки помочь сыну, писала глупые прошения куда-то в пространство. Хоть бы рабби Габриель подал о себе весточку! Она послала ему настойчивое, растерянное письмо; но не знала, получит ли он его; она только предполагала, но не была уверена, что он в Голландии. Она написала в Вену замужней дочери, своим неровным, безличным почерком писала венским Оппенгеймерам и наконец решилась на крайний шаг – приехала к старшему сыну, выкресту. И вот она сидела здесь, трепетно и выжидательно приоткрыв рот, и запуганными, глупыми глазами смотрела на него.
– Что делать? Что делать? – причитала она.
Барон Тауфенбергер беспокойно ерзал в кресле, машинально и лихорадочно листал бумаги, изворачивался так и сяк. Это был толстоватый, невысокий, даже низенький господин, одетый изысканно и богато, но не элегантный на вид; его живые глаза казались чересчур выпуклыми на белом холеном лице, толстые белые пальцы непрерывно сгибались и разгибались. При всем наигранном вольнодумстве, он стыдился своего перехода в христианство. Он любил подтрунить над еврейскими нравами и обычаями, вел знакомство с гельмштадтским профессором Карлом-Антоном и с бывшим денкендорфским пробстом Иоганном-Фридрихом Паулусом, ныне назначенным пастором в Штутгарт. Оба они, в прошлом евреи, крестившись, стали ярыми пропагандистами христианского вероучения. Но в глубине души барон завидовал младшему брату, который пошел много дальше его, оставаясь евреем. Кроме того, Иозеф относился к нему, к выкресту, с явной иронией и презрением, и однажды, когда они встретились при курцфальцском дворе, попросту повернулся к нему спиной. Стоило им столкнуться на деловой почве, как они, без малейшей попытки к соглашению, затевали тяжбу, и выкреста мучительно уязвляло пренебрежительно гадливое нежелание брата договориться лично, так что даже самые важные вопросы он, рискуя убытками, препоручал разрешать своим агентам. Падение и позор брата глубоко поразили барона, да и на его долю пришлось немало насмешек и нападок; и тем не менее теперь, когда мать сидела перед ним в растерянности и молила его за того сына, который был ее любимцем и гордостью, он не мог подавить чувство затаенного торжества.
– Дождались, дождались! – повторил он несколько раз кряду тонким, визгливым голосом. – Разве мыслимо подняться так высоко, оставаясь евреем? Это ни на что не похоже, – горячился он, размахивая руками, – этого не должно быть, это противно божьей воле и человеческим законам.
Но Микаэла не слушала его.
– Что делать? Что делать? – причитала она однотонно.
Толстяк вскочил, беспокойно забегал по комнате, переложил пачку бумаг с одной стороны стола на другую.
– Есть только одно средство, – сказал он наконец. И так как Микаэла с трепетом и надеждой глядела на него, он расхрабрился и безапелляционно заявил: – Он должен креститься.
Микаэла задумалась. Потом сказала робко:
– Он не согласится. – И, помолчав немного: – Рабби Габриель не позволит.
Сын подхватил насмешливо:
– Не позволит! Мне он тоже не позволял. Если бы я его послушался, со мной теперь, наверно, было бы то же, что с Иозефом. Не позволит! Не позволит! – выкрикивал он визгливым голосом, размахивая руками. – Ничего другого я придумать не могу, – сказал он, резко переменив тон и остановившись. Увидев, что мать вся поникла и помертвела, он добавил: – Я все сделаю, что в моих силах, спасу из его состояния, что только можно спасти. Хоть, правду сказать, он этого не заслужил. Я наложу руку на все, что можно сохранить для него в Гейдельберге, Франкфурте и Маннгейме. И денег не пожалею, постараюсь добиться чего-нибудь в Штутгарте у правительства, у судей, в тюрьме. Но если Иозеф не захочет креститься, – заключил он, пожимая плечами, – вряд ли удастся отвратить от него беду.
Уходя, Микаэла ступала тяжелее, чем по дороге сюда.
Между тем в Штутгарте Никлас Пфефле упорно и хладнокровно действовал в пользу своего господина. Крупные суммы текли к разным сановникам и судейским чинам. Так как герцог-регент отдал приказ точно установить, какое имущество является бесспорной, законно приобретенной собственностью Зюсса, и это имущество сохранить в неприкосновенности, то секретарь мог распоряжаться большими средствами.
Драгоценные камни, вазы, ковры перешли в виде подарков из дома Зюсса к влиятельным членам парламента, к придворным и государственным чинам, которые официально не имели ничего общего с процессом, но тем большее давление могли оказать косвенным путем.
А среди еврейства, нарастая, распространяясь, шла молва: «Он спас реб Иезекииля Зелигмана из Фрейденталя, он протянул руку свою и охранил евреев на берегах Неккара и на берегах Рейна. А ныне объединились сыны Эдома и все богоотступники и напали на него. Слишком велик был он по их разумению, слишком ярким блеском озарял еврейство. И вот они напали на него, как Аман-богоотступник,[91] и хотят убить его. Выручайте и спасайте реб Иозефа Зюсса Оппенгеймера, что был добрым евреем и во времена блеска своего простирал руку над всем еврейством, дабы защитить его».
И молились и постились в молельнях, и хлопотали в канцеляриях и кабинетах министров, и собирали деньги, много денег, все больше денег, огромное количество денег отдавали в руки реб Исаака Симона Ландауера, гоффактора и доброго еврея, который был назначен от раввинов и общин всеми силами, средствами и хитростями защитить впавшего в несчастие реб Иозефа Зюсса Оппенгеймера, спасителя Израиля от великих бед. А у Исаака Ландауера, на тот случай, если вюртембержцы осмелятся осудить Зюсса, был в запасе план, не то чтобы очень хитрый, но смелый. Для этого плана ему требовалось много денег, несметное количество денег. И несметное количество денег текло в его кассы, звонкой монетой, векселями, обязательствами, от малоимущих по малу, от многоимущих по многу, изо всех стран, из всех общин, от евреев со всего света.
Иоганн-Даниэль Гарпрехт сидел у себя в библиотеке и работал. Герцог-регент не утвердил приговора комиссии, приказал пока что держать его в тайне и послал ему, Гарпрехту, на рассмотрение приговор вместе со всем относящимся к делу огромным следственным материалом.
Угрюмо сидел старик. Наступила четвертая зима с тех пор, как он дал заключение по делу Иезекииля Зелигмана и против воли спас вонючего жида. Гложущие черви отвалились и попрятались, самые жирные, откормленные, что клубком свивались наверху, обезврежены: один – герцог – мертв, а другой – еврей – лежит поверженный, и от него, Гарпрехта, зависит раздавить червя. Ох, как много успели они обглодать с тех пор. Он, Гарпрехт, был тогда крепким мужчиной, а теперь он по их милости стал стариком, много земель, лесов и пашен, и человеческих жизней и человеческих душ источено и загублено по их милости, и мальчик его, Михаэль, тронут червоточиной и чистая, нежная Элизабет-Саломея Гетц, по их милости, пошла по рукам. И хоть теперь гадов вспугнули и они попрятались, все равно они воротятся, как возвращались всегда, и старое здание рухнет окончательно. А он тут сидит и судит, правое ли дело раздавить этого гложущего вредоносного червя.
Пришел Бильфингер. Он теперь, по существу, был правителем государства, честным, неподкупным правителем, он трудился как вол и небезуспешно. Работа шла ему на пользу, грузный, полнокровный мужчина с виду был на десять лет моложе Гарпрехта, своего сверстника.
– Как дела, друг и брат мой? – спросил он, бросив взгляд на груду документов. – Похоже это на историю с евреем Иезекиилем? – медленно и неохотно добавил он.
За окном густыми хлопьями падал снег. В комнате было очень тихо, рядом слышались шаги молодого Михаэля Коппенгефера.
– Да, друг и брат мой, – сказал Гарпрехт, – очень похоже. Формально, с точки зрения уголовного права, обвинение недостаточно обоснованно.
Бильфингер перелистал бумаги, разделил на стопки, сложил вновь.
– А нельзя ли, друг и брат мой, – сказал он немного погодя, – нельзя ли принять во внимание, что в конституционном государстве Вюртемберг он разрешал себе немало отступлений от законов конституции? Так пусть не посетует, если ради него отступят от законов правосудия.
– Это можно принять во внимание, – отвечал Гарпрехт. – Только не мне. А герцогу.
Тем временем подошло к концу и следствие по делу генерала Ремхингена. С ним, дворянином, иезуитом и полковником австрийской службы, обошлись отнюдь не так гуманно, как с местными уроженцами Гальваксом, Мецом, Бюлером, Лампрехтсом и Шефером, у него не было родни в правительственной канцелярии, штатских он именовал щелкоперами, всех, у кого не было дворянского титула, в особенности же парламентариев, обзывал не иначе как плебеями, канальями, чернью, и заслужил дружную ненависть. Поэтому и расследование велось весьма строго, и материал был подобран достаточный для того, чтобы приговорить его если не к смертной казни, то во всяком случае к пожизненному заключению в крепости. Но как раз об эту пору был до мельчайших деталей разработан договор об опеке между Карлом-Рудольфом и вдовствующей герцогиней; договор этот, составленный на весьма выгодных для регента условиях, вместе со статутом управления на время регентства, подлежал рассмотрению и утверждению императорской канцелярии. Восстанавливать против себя венский двор строгим наказанием австрийского католика представлялось герцогу весьма неуместным. Поэтому решено было не спешить с приговором, а пока что отпустить генерала под честное слово на поруки. Ремхинген, как и следовало ожидать, не замедлил нарушить слово, бежал за границу и поступил на венецианскую службу под начальство генерала Шуленбурга. В дальнейшем был осужден заочно, заявлял возмущенный протест в бесчисленных жалобах императору и имперскому правительству. Особенно в «Innocentia Remichingiana vindicata»[92] или «Вынужденной реабилитации». На протяжении многих лет не переставал изрыгать хулу, яд и желчь против Вюртемберга.
Народ был вне себя от бегства Ремхингена. Итак, значит, все кровопийцы увильнули от наказания. Сидели в Эслингене, на расстоянии полутора миль, надрывали животы от смеха или, еще того хуже, чинили, как Ремхинген, досаду и устраивали всякие пакости. Одного лишь еврея удалось удержать. Но тому уж не миновать расплаты. Снова на первый план выступили тайные советники Пфлуг и Панкорбо, подстрекали, оплачивали народные демонстрации. Яростней, резче, громче, грознее зазвучало по стране: «На виселицу еврея!»
Так обстояли дела, когда Гарпрехт доложил герцогу-регенту свои выводы. Как человек справедливый и правдивый, он нашел в себе силы дать заключение вне зависимости от неприязни к Зюссу, от неистовства толпы, громко, в один голос, требовавшей смерти еврея, и не сообразуясь с тем, что угодно или неугодно кабинету министров и парламенту. Вот какое заключение дал ученый юрист: суду и наказанию подлежат присягавшие конституции и правительству советники и министры, которые подписывались под незаконными приказами и распоряжениями, а не иностранец, не связанный присягой и не состоявший на государственной службе. Согласно римскому и германскому праву смерти повинны они, а не он. Исключение составляет пункт о плотских связях с христианками. Но на этом пункте по многим причинам нельзя основываться всерьез, да и сама комиссия не включила его в мотивировку приговора. А посему, на основании существующих законов Римской империи и герцогства, обвиняемый не может быть присужден к смертной казни; у него надлежит отобрать то, что им награблено, поскольку факт грабежа подтверждается, а затем изгнать его из пределов страны.
Низкорослый, кособокий, неряшливый престарелый седой герцог внимательно слушал дородного, положительного, солидного юриста.
– Итак, ты полагаешь, – сказал он в заключение, – что комиссии важно было осудить не мошенника, а еврея?
– Да, – ответил Гарпрехт.
С улицы доносился бойкий мотив: «На виселицу еврея!»
Старик регент плотно сжал губы.
– Я рад бы последовать твоему совету, – сказал он под конец. И с тем отпустил юриста.
На следующий день он подписал смертный приговор.
– Лучше, чтоб еврей был незаконно повешен, – сказал он, – чем по закону оставлен в живых и по-прежнему будоражил страну. – И еще сказал: – Редкий случай, чтоб еврей расплачивался за мошенников-христиан.
По пустынным, узким коридорам крепости Гогенасперг, по витым лестницам, за ворчливым капралом с объемистой связкой ключей, неверными шагами следовала Микаэла Зюсс. Сердце билось сильнее у изнеженной пожилой дамы; куда ни погляди – всюду стены да громоздкие пушки, огромный, угнетающий, Грозный механизм. Капрал грузно и поспешно шагал впереди, она с трудом поспевала за ним, задыхалась, но не смела ничего сказать. Наконец со скрипом и лязгом растворилась низенькая, безобразная дверца. Запыхавшись, заглянула она в тесную конуру; там на убогих нарах сидел старик, сгорбленный, обрюзгший, заплывший нездоровым жиром, с нечесаной седой бородой и в полудреме напевал себе под нос, рассеянно и бессмысленно улыбаясь. Она робко сказала капралу:
– Мне не сюда, милейший, мне к Иозефу Зюссу.
Капрал ответил сердито:
– Это, госпожа, и есть еврей.
Холодея от неизъяснимого ужаса, смотрела Микаэла Зюсс на арестанта, который медленно обратил к ней лицо и карие, сощуренные, немного воспаленные глаза. Капрал с внушительным лязгом запер дверцу снаружи. Это
– ее сын! Уродливый, опустившийся человек, на вид много старше ее – ее блистательный сын! Ничего, ни малейшего следа не осталось в нем от Гейдерсдорфа, гораздо больше, несмотря на бороду, – с любопытством и содроганием заметила она, – было в нем сходства с рабби Габриелем. Она разглядывала его робко, с дрожью ужаса, она не ощущала прежней терзающей, мучительной жалости, она чувствовала, как тает в ней любовь к сыну, оставляя внутри пустоту, перед ней был чужой, грязный, опустившийся человек, которого, – ну конечно же! – надо жалеть, ведь он в заточении, и ему трудно приходится, да к тому же он еврей. Но она уже замкнулась в себе, и душа ее покрылась корой. Смущенно стояла она, чужая элегантная дама, перед неопрятным, скатившимся в грязь человеком.
Когда они заговорили, у нее не нашлось настоящих слов. Он обращался к ней ласково, с мягкой, покровительственной, чуть шутливой добротой, и гладил ее белоснежные руки. Она немножко всплакнула. Но ни одно его слово не проникало ей в душу. Она думала все время: этот старый человек – ее сын! и кора все плотней покрывала ее душу. Микаэла даже обрадовалась, когда истек час и ворчливый капрал пришел за ней. С порога она, содрогаясь от ужаса, еще раз оглянулась на старого человека, который был ее сыном. На обратном пути она сама ускорила шаг.
Вскоре после того в камере появился кроткий, тихий, печальный господин и поздоровался весьма учтиво. У него были большие, белые медлительные руки, меланхоличные, с поволокой глаза на мясистом, синеватом от бритья, лице. Говорил он негромко, убедительным, печальным голосом. Это был Иоганн-Фридрих Паулус, бывший денкендорфский пробст, а ныне пастор в Штутгарте, крещеный еврей. Его прислал городской викарии Гофман. Городской викарий предпочел бы сам привести в лоно церкви такого закоренелого грешника, но он видел, что надежды у него мало и лучше другому завершить дело, чем совсем упустить его. Бывшему еврею, пожалуй, легче будет вкрасться, втереться в зачерствелую душу, размягчить ее.
Тихо и учтиво сидел крещеный еврей у стены, странным образом, несмотря на свою корпулентность, похожий на призрак. Печальными, миндалевидными глазами оглядывал он камеру. Негромко повел беседу:
– Все это лишь мишура и личина, – сказал он, – и ваш дворец, и эта камера, и ваше иудейство, и мое христианство: мишура и личина. Одно лишь истинно – дух божий внутри нас. Одно лишь истинно – что мы тень от тени, слово от слова. Я видел возвышение ваше, господин финанцдиректор, я видел вас в великом блеске, на большой высоте. Я друг и ученик рабби Ионатана Эйбешютца, а он друг дяди вашего, рабби Габриеля. Мне часто хотелось побеседовать с вами, господин финанцдиректор. Не потому, что вы, наверное, презирали меня за переход в христианство, приверженность христианству, и мне непременно хотелось оправдаться перед вами, отнюдь нет. Но теперь, увидев вас, – заключил он, и его ласкающий голос стал еще тише, а сам он был почти растроган, – я увидел, что пришел ради нас обоих, ради себя не меньше, чем ради вас.
– Ведь вы пришли, чтобы обратить меня в христианство? – сказал Зюсс. – Ведь вас прислал городской викарий Гофман? Разве это не так, ваше преподобие? Или мне величать вас – рабби учитель наш? – улыбнулся он.
Человек, смиренно сидевший у стены, сказал:
– Небольшой труд и малая доблесть упорствовать и быть мучеником. Многие презирают меня за то, что я стал христианином. Но комья грязи не причиняют ран. Я пальцем не шевельну, чтобы стереть их. Ибо сделал я это не ради хлеба и одежды и почестей, а ради идеи, ради моего закона. У вас свой закон, своя идея. Разве не правильнее до конца изжить этот закон, не дать угаснуть этому светочу, даже если для того потребуется облечься в мишуру христианства вместо мишуры иудейства? Жить в такой камере, – и мягкий взгляд с поволокой скользнул по голым стенам, – конечно, очень тягостно. Но кто сказал вам, ваше превосходительство, что всякая тягость есть заслуга?
– У вас, ваше преподобие, весьма приятная манера обертывать душеспасительное учение вашей религии в приманчивую оболочку. Мягкая постель, теплая комната, жареная оленина, выдержанное мадерское вино – бесспорно, доступные и отрадные истины; и то, что вы говорите о тени от тени и слове от слова, звучит складно и красиво. Но видите ли, я променял свой дворец в Зеегассе на эту камеру. Меня подозревали в чем угодно; но никто никогда не заподозрил меня в том, что я плохой коммерсант. Значит, у меня были веские причины для такой мены, – усмехнулся он лукаво. – Внушите же господину городскому викарию, – закончил он весело и учтиво, – а попутно и себе самому: вы сделали и сказали все, что в силах человеческих. Вся вина во мне, право же, во мне одном.
Оставшись один, он улыбнулся, покачал головой, что-то бормоча нараспев. Вспомнил Микаэлу. Милая, глупая старушка! Он ощущал слабость, бездумную, приятную усталость. Так чувствует себя выздоравливающий, нежась в постели. В полудреме сидел он на своих нарах. И тут нежданно явилось к нему дитя, явилась его девочка, заговорила с ним. Она стала еще меньше и моложе, она была теперь совсем маленькая, точно кукла, и глядь – она села к нему на плечо, нежно потрепала его бороду и сказала: «Глупенький папа! Глупенький папа!» Она пробыла около получаса. Она говорила еще, но совсем по-ребячески, с детской важностью и серьезностью говорила о тюльпанах, о толковании какого-то места в Песни Песней, о подкладке его нового кафтана. Когда она исчезла, Зюсс, точно спящий, дышал глубоко и радостно, полуоткрыв рот. Как звал он ее раньше, а она не пришла, сколько отчаянных, неистовых, нелепых деяний совершил он ради нее, яркий, огромный, жертвенный костер возжег он ей, и она не пришла. Какой он был глупец! Ведь она так мала, она такой нежный, миролюбивый маленький человечек. На что ей его яркие, великие, громогласные деяния и жертвы. Но теперь, когда он совсем притих и уже примирился с тем, что больше не увидит ее, – она вдруг пришла, и то был великий, полновесный дар. Он ходил по камере пять с половиной шагов туда, пять с половиной шагов назад, и камера была богата и изобильна, она была – целый мир, и он простер руки и засмеялся так молодо, звонко и счастливо, что сторож в коридоре, испугавшись, подозрительно заглянул в дверцу.
Майор Глазер объявил Зюссу, чтобы он был готов назавтра поутру ехать в Штутгарт. Майор знал, что еврей едет в Штутгарт выслушать себе смертный приговор, но он не получил распоряжения осведомить его и не видел в том нужды. Зюсс, под благостным впечатлением от слов Ноэми, решил, что его везут домой, на свободу. Он мысли не допускал, что его могут, вопреки точной букве закона, лишить жизни. Он был в самом беззаботном настроении, добродушно шутил, радовался благоприятной для путешествия погоде, спросил коменданта, большого охотника нюхать табак, разрешите ли он прислать ему на память табакерку. Майор сухо отказался, однако позволил, с трудом сдерживая злорадную ухмылку, чтобы Зюсс надел в дорогу парадный кафтан. Сторожу Зюсс тоже радостно и возбужденно говорил о возвращении, о свободе и подарил удивленному, озадаченному служаке чек на порядочную сумму, в виде наградных.
Ложась вечером на свои нары, он был совершенно счастлив и спокоен. Он поедет куда-нибудь за границу, поселится на берегу моря или озера в маленьком тихом местечке и будет жить уединенно и незаметно, согретый кротким сиянием душевного покоя. Две, три книги, а то и совсем ни одной. И вскоре он тихо и мирно отойдет в вечность, а среди людей останется громкий, гулкий отзвук его жизни и деяний, отзвук неверный, искаженный, как в хорошем, так и в дурном; а вскоре даже имя его ничего не будет выражать, сохранится простым сочетанием букв, без всякого смысла; под конец заглохнет и оно, и наступит великая ясная тишина и парение и кроткое сияние в вышнем мире.
Следующий день был морозный, солнечный. Зюсс выехал ранним утром, невзирая на холод, в открытом экипаже. Он сидел, ослабевший и довольный, на заднем сиденье, один караульный рядом с ним, другой – напротив. По бокам, впереди и позади экипажа, – сильный конвой. Зюсс пытался заговаривать со своими спутниками, но им был дан строгий приказ не отвечать. Он не огорчился. Прислонившись к спинке экипажа, он, после долгих месяцев, проведенных в духоте, – вдыхал, впивал, глотал, видел, осязал чистый, вольный, благодетельный воздух. Взгляд не упирается в стену, какое блаженство! Деревья, на них легкий, упоительно чистый снег. Необозримое, снежное поле мягко и плавно сливается с небом. Божий мир, дивный, чудесный, чистый божий мир! Воздух, вольный, сладостный воздух с непривычки опьянил узника, и он откинулся на спинку коляски, совсем ослабев и обессилев; но он был счастлив. Он распахнул красный, шитый золотом атласный кафтан на пушистой бархатной подкладке и даже расстегнул навстречу ветру зеленый камзол, окаймленный золотым галуном. Ноги в коричневых панталонах дрожали от слабости. Бархатную шляпу и плохо сидевший на косматой голове парик он снял и с наслаждением ощущал, как струя воздуха при быстрой езде обвевает седые пряди его волос.
Но в Штутгарте, у городских ворот, в ожидании сгрудилась чернь. Завопила, заорала при виде коляски, принялась швырять камни, комья грязи. На еврея набросились, выволокли его, швыряли из стороны в сторону, трепали за седую бороду. Поднимали вверх детей: «Глядите, глядите! Вот он, живодер, иуда, убийца, поганый жид!» Плевали, топтали. В клочья изодран нарядный красный кафтан, в грязь затоптана изящная бархатная шляпа. Завсегдатаи «Синего козла» говорили с удовлетворением и лирической грустью:
– Не дожил до этого покойный булочник Бенц.
С трудом удалось конвою отбить пленника. Едва дыша, сидел он теперь в экипаже, посеревшее лицо в ссадинах, струйки кровавой слюны на всклокоченной бороде; солдаты, тесным кольцом сомкнувшись вокруг него, грозили толпе оружием.
Вопли и вой проникли также в просторную комнату, где лежала Магдален-Сибилла, рожая ребенка Эмануилу Ригеру. Советнику экспедиции хотелось, чтобы она произвела ребенка на свет в деревне, в их прекрасном поместье Вюртингейм; но когда она по необъяснимым причинам непременно пожелала остаться в городе, ему пришлось подчиниться. И вот она лежала в родовых муках; болтливая, заботливая повивальная бабка хлопотливо топталась вокруг, советник экспедиции, бледный, потный, смиренно и услужливо бегал взад и вперед. Хотя сложение у нее было могучее и, казалось, вполне приспособленное к деторождению, однако роды протекали не так легко, как можно было ожидать. Она лежала, кричала, упиралась, напрягалась, тяжело переводя дух. Вот настала минута облегчения, откинувшись, побледнев, обливаясь потом, трепетала она от беспрерывно набегавшей судороги. В тишину ворвался рев толпы, отчетливо прозвучали слова разудалой песенки: «На виселицу еврея!» Советник экспедиции потер руки.
– Доброе предзнаменование, что дитя рождается под знаком правосудия, – изрек он. Но она с ненавистью поглядела на щуплого невзрачного мужа и начала молиться беззвучно, без рифм и выкрутасов, настойчиво и страстно: «Боже, отец небесный! Не попусти, чтобы он был похож на этого слизняка! Боже, отец небесный! Ты достаточно испоганил мне жизнь. Так хоть это одно даруй мне, чтобы ребенок мой не был похож на него!»
Зюсса тем временем доставили в ратушу. Огромная зала была набита зрителями, судебная коллегия в торжественных черных мантиях была в сборе. Еврей увидел грубовато-жизнерадостную широкую физиономию Гайсберга, тонкое насмешливое лицо Шютца с крючковатым носом, надменное, жестокое – Пфлуга, даже физиономия молодого Гетца, обычно тупая, пошлая, румяная, была одушевлена ненавистью, местью и злорадством. Тут он понял, что ему суждена не свобода, а смерть. И председатель, тайный советник Гайсберг, своим резким, гулким, негибким голосом с сильным швабским акцентом как раз начал зачитывать приговор. Зюсс слушал монотонный перечень: злостный ущерб стране, хищения, грабеж, государственная измена, оскорбление величества, политические преступления, а затем вывод, что он приговорен к смерти через повешение.
Он увидел в жарко натопленной зале сплошную толпу сановников, министров, членов парламента, генералов, пыхтящих, потеющих, исполненных торжества. Он видел, как мелкое подлое зверье набрасывается на большого зверя, беззащитного по доброй воле, и вгрызается в него, и копошится, и оттесняет друг дружку, чтобы каждый успел напоследок запустить зубы в распростертое тело, в котором еще теплится жизнь. И вдруг воскрес в нем прежний Зюсс. Он встрепенулся, он заговорил, старый, разбитый человек, покрытый кровью и грязью надругательств, вдруг воспрянул и дал ответ своим судьям, с невозмутимой язвительной логикой соскреб налет патетики с приговора. Безмолвно были выслушаны первые его фразы. Но потом, побагровев от такой дерзости, накинулись на него знатные вельможи, по примеру черни рычали, колотили его саблями, и, как у черни, конвой с трудом вырвал у них осужденного. Но когда его уводили сквозь бушующую толпу, вдогонку ему донесся голос тайного советника Пфлуга, который с жестокой издевкой произнес:
– Еврей сказал, что выше виселицы его все равно не вздернут. Это мы ему еще покажем.
Экстра-почтой спешили из Гамбурга рабби Габриель Оппенгеймер ван Страатен и рабби Ионатан Эйбешюц. В пути они обменивались лишь самыми необходимыми замечаниями. Они видели подрагивающие крупы часто сменяемых лошадей, гнедых, белых, вороных; они видели скользящий мимо ландшафт, ровные поля, горы, леса, реки, виноградники. Но видели они лишь глазами, мысли их были далеко. Один за другим мелькали придорожные камни. Перед ними же неотступно стоял тот лик, который они стремились увидеть, пока он еще не угас.
На широком лице рабби Габриеля, как всегда, сердитое выражение, плотное тело облегает добротная бюргерская старомодная одежда. Рабби Ионатан в шелковом кафтане, из-за белой как кипень волнистой бороды кротко светится хитрое моложавое лицо; после долгих недель мирских искушений он вновь погрузился в созерцание, в познание, в бога. Последний период жизни и перемена в судьбе Зюсса манили его жестоким соблазном. Но не как зрелище гибели человека. И он и рабби Габриель, не сговариваясь, угадывали, понимали странное сплетение добровольного и насильственного в этом конце. Подобие, тайная зависимость, загадочный ток, шедший от того человека к ним, затрагивал и рабби Ионатана, окрылял и угнетал его. Он чувствовал, что врос в того человека, сильный мощный корень его души отмирал с тем человеком. Так ехали мужи, глядя вперед, навстречу смерти Иозефа Зюсса, и тяжелой тучей оседало на них сознание их связи с ним.
И по другим дорогам тянулись люди в Штутгарт к Зюссу, ради Зюсса. Под большой охраной и прикрытием спешил гоффактор Исаак Симон Ландауер; при нем, хотя обычно он ездил без всякой помпы, находились три кассира-еврея и, кроме наемной стражи, еще несколько сильных, надежных молодцов. Спешил и низкорослый, дряхлый Якоб Иошуа Фальк, франкфуртский раввин, и тучный вспыльчивый фюртский раввин. Все три мужа встретились поблизости от Штутгарта, им предстояло явиться на аудиенцию к герцогу-регенту, и было сделано все возможное, чтобы их не обеспокоили при въезде.
Карл-Рудольф принял их в присутствии Бильфингера и Панкорбо. И сказал фюртский раввин:
– Ваша светлость прославлены на весь мир своею справедливостью. Но справедливо ли, чтобы разбойники сидели тут рядом, в Рейтлингене, Эслингене, и смеялись бы и пожирали добычу, а чтобы еврей, менее повинный перед законом, расплачивался за них? Ваша светлость справедливы к высшим и низшим, к швабам и австрийцам, к католикам и протестантам. Будьте же справедливы и к вашему еврею.
И сказал франкфуртский раввин:
– Реб Иозеф Зюсс Оппенгеймер был первым среди евреев, он родился в старой почтенной еврейской семье. Что бы он ни сделал, скажут, что это сделало все еврейство. Если его повесят, а христиане, соучастники его, будут гулять на свободе, то скажут, что еврейство повинно во всем, и ненависть, преследование и злоба вновь обрушатся на все еврейство. Ваша светлость – милостивый монарх и государь, вашей светлости известно, что еврей виновен не больше и не меньше, чем сотоварищи его – христиане. Мир будет повергнут в соблазн, а на удрученных и угнетенных обрушатся новые испытания, если его будут судить не так, как других. Из глубины скорбящих и смиренных сердец просим мы вашу светлость смилостивиться над одним евреем и над всем еврейством.
И сказал Исаак Ландауер:
– Что сделал реб Иозеф Зюсс Оппенгеймер, так это причинил убытки деньгами и добром отдельным людям и всему Вюртембергскому герцогству. Но денежный урон может быть возмещен теми же деньгами. Все еврейство, все мы соединились и собрали деньги, большие деньги, огромные деньги. И вот мы пришли и просим вашу светлость: отпустите на свободу реб Иозефа Зюсса Оппенгеймера. Мы же согласны возместить все, в чем он когда-нибудь нанес урон, согласны возместить щедро, чтобы Вюртембергское герцогство отныне и впредь цвело и благоденствовало. Если вы отпустите на свободу еврея Иозефа Зюсса Оппенгеймера, мы внесем добровольный штраф в пятьсот тысяч дублонов.
Молча выслушали евреев герцог-регент и оба министра. Предложение Исаака Ландауера ошеломило их. Предложение было вызовом. Но сумма была так грандиозна, настолько выше самых крупных цифр, когда-либо стоявших в бюджете герцогства, что такими словами, как наглость и дерзость, нельзя было попросту отделаться от этого предложения. Пятьсот тысяч золотых дукатов! Мысль выкупить Иозефа Зюсса дерзка и глупа. Но мысль выкупить Иозефа Зюсса за такую громадную сумму – проста и смела до гениальности и способна потрясти своим грандиозным размахом. Вот на это и рассчитывал Исаак Ландауер, на этом он и строил свой план. Он с самого начала не сомневался, что хитростями и логическими доводами, призывами к справедливости, мольбами о пощаде здесь ничего не добьешься. Быть может, больше действия окажет такая неуклюжая, наивная прямолинейность. За деньги можно купить все на свете: землю и скот, горы, реки, леса, императора и папу, кабинеты министров и парламенты. Почему же нельзя откупить у этих швабских гоев их жажду мести и нелепую болтовню о правосудии? Этому герцогу дорога его глупая, неправая справедливость. Хорошо, так и плата за нее дорогая. Пятьсот тысяч золотых дукатов! За такие деньги в случае чего можно купить целое небольшое герцогство: неплохая цена за малую толику так называемого правосудия.
Прежде чем герцог и министры успели прийти в себя, Исаак Ландауер продолжал:
– Мы платим не векселями, мы платим не обязательствами, мы платим золотом, чистым золотом. Золотыми дукатами, круглыми, полновесными. – Не спеша подошел он к двери и с невозмутимой, на диво независимой улыбкой сделал знак своим людям. Безмолвно, точно завороженные, смотрели регент и его министры на вошедших молодцов. Они втащили мешки, небольшие, очень тяжелые мешки, и по знаку старика в засаленном кафтане стали высыпать их содержимое. И потекло золото, золото в монетах любой валюты, червонное золото, испанское, африканское, турецкое, золото всех стран света. Сыпалось, скоплялось, не иссякая, громоздилось в человеческий рост, разрасталось многолетним дубом, горой золота. Сосредоточенно смотрели кособокий, старый скупой герцог и тучный Бильфингер. Дон Бартелеми Панкорбо высунул костлявое сизо-багровое лицо из допотопных брыжей, тощие пальцы протянулись, словно когти хищника, не могли устоять, прильнули к золоту, к милому золоту, окунулись в безбрежный поток. Исаак Ландауер стоял рядом в засаленном кафтане с нечесаными пейсами, в некрасивой, неестественной позе и загадочно улыбался, локоть одной руки он прижал к туловищу, а ладонь выставил вперед, другой рукой он расчесывал рыжеватую седеющую козлиную бородку.
Предложение Исаака Ландауера было отклонено. Но речи престарелых мужей оставили отклик в душе герцога. Он несправедлив! На пороге смерти ему пришлось стать несправедливым. Не только к Зюссу, но и к другим евреям. Алчность не владела им, золото не трогало его. Но эти-то люди дорожили своим золотом. Золото, золото было их жизнью и целью. И все-таки они добровольно принесли такую неслыханную дань, дабы отвратить его, герцога, неправоту. Долг его ясен: прежде всего он обязан быть справедлив к своим швабам, а потому несправедлив к еврею. Но эта гора золота давила его, ранила до крови.
Он отправил письмо к герцогу Карлу-Фридриху Вюртембергскому с настоятельной просьбой посетить его. Он намеревался передать ему опекунство и регентские права. Он сделал все возможное, чтобы вытащить страну из болота, в котором она погрязла, и, пожалуй, добился своего. «Справедливость! – говаривал он, – долг, авторитет!» Но, видно, немыслимо в нынешние времена править страной, руководствуясь такими принципами. Ему пришлось смотреть, как выпускают на волю достойных казни плутов, как незаконно вешают еврея. Ему стукнул семьдесят один год, он устал. Он чувствовал, как слабеют его душевные и телесные силы. Ему трудно, писал он императору и заявлял вюртембергским тайным советникам, самолично во всех подробностях вникать в столь сложные и важные дела правления. Ему, этому кособокому, прижимистому честному солдату, хотелось деревенского покоя в его маленьком цветущем Нейенштадте, хотелось мирной кончины.
Ввиду того, что Зюсс при объявлении приговора проявил такую дерзость и строптивость, его тут же, в здании палаты, где ему надлежало пробыть до того, как приговор будет приведен в исполнение, заковали крест-накрест и, оставив на целые сутки без пищи, заперли в мрачном, совершенно пустом чулане. После гневного выпада перед судьями он тотчас стих и, улыбаясь, покачивая головой, оглядывал свою одежду, покрытую кровью и грязью. Скорчившись, сидел он в кандалах на полу, у стены пустой, но не совсем темной комнатушки. Аман, министр Артаксеркса, посетил его; у него был крючковатый нос и жестокий, надменный голос господина фон Пфлуга. Явился и Голиаф, жестом господина фон Гайсберга неловко, игриво и больно хлопнул его по плечу. Приходили и другие, те, что поприветливей, беседовали наполовину на швабском, наполовину на древнееврейском наречии. Явился верный Элеазар[93] – Пфефле, Авраам в образе Иоганна-Даниэля Гарпрехта спорил с богом о справедливости. Приходили и те, что являлись Ноэми. Исайя-пророк хулил и умиротворял сердитым голосом дяди. Запутавшись пышными волосами в ветвях, висел Авессалом; только волосы были седые, а лицо под ними – его собственное.
Но вот на пороге кто-то затявкал, заскулил, зарычал. Ах, опять это городской викарий Гофман, восхваляющий благодать аугсбургского исповедания. Да, ревностный духовный пастырь пожаловал вновь, полагая, что теперь-то жаркое распарилось и размягчилось в самый раз. Однако Зюсс отнюдь не был расположен нынче вести с ним дискуссию. Грубый голос викария вспугнул другие, более нежные голоса, звучавшие в нем. Мягко, без тени иронии, попросил он оставить его в покое; он готов завещать евангелической церкви десять тысяч талеров за труды, только бы его оставили в покое. В гневе удалился обескураженный пастырь.
На смену явился другой нежданный посетитель. Изящный пожилой господин, одетый очень скромно, но в высшей степени элегантно; у него узкий, вытянутый как у борзой череп, он поводит носом, принюхивается. Это отец вдовствующей герцогини, старый князь Турн и Таксис. Он не мог успокоиться, не мог усидеть в Голландии. Это не годится, нельзя допустить, чтобы казнили Зюсса. Человека, которого посещала его дочь, которому сам он подавал руку. Человека, от которого католическая церковь хоть и не официально, но на виду у всех дворов принимала услуги. Нет, нет, это несовместимо с его взглядами на куртуазность, он слишком тонко воспитан, чтобы позволить нечто подобное. Человек, которого так приближаешь к себе, становится в некотором роде аристократом. Такт, приличия, правила света требуют, чтобы его не допустили до соприкосновения с виселицей. Старый князь сам, инкогнито, под именем барона Нейгофа отправился в Штутгарт. Он всегда терпеть не мог еврея, он так и не простил ему, что желтая гостиная в Монбижу убила его желтый фрак, а темно-малиновая ливрея слуг во дворце на Зеегассе – его темно-малиновый кафтан. Но хороший тон не позволяет радоваться чужому несчастью; и уж во всяком случае, ему больше нечего опасаться, что антураж Зюсса затмит его.
Он явился с определенным планом. Он поможет Зюссу бежать, как помог бегству Ремхингена. С евреем дело будет сложнее; но он твердо решил не щадить ни средств, ни стараний. Быть может, этому антипатичному старому мужлану и простофиле регенту в конце концов даже приятнее на такой манер избавиться от еврея. Как бы то ни было, ехать надо. Только он поставит одно условие. Тратить столько стараний на еврея опять-таки не годится. Значит, Зюсс не может оставаться евреем. Он должен, – и при таких плачевных обстоятельствах он вряд ли будет упрямиться, – он непременно должен креститься. Какая удача, какой триумф для католической церкви принять в свое лоно этого ловкого финансиста и прожженного политика; кстати, он много благовоспитаннее, нежели большинство швабских горе-аристократов.
С отвращением отшатнулся элегантный князь, после того как, улыбаясь и радуясь приготовленному сюрпризу, переступил порог. Что ж это такое? На полу сидел старый, сгорбленный жид. И это финанцдиректор? И это знаменитый селадон? Ему стало не по себе, как будто сам он тоже выпачкался в грязи. Зюсс увидел лицо посетителя.
– Да, – сказал он с еле уловимой усмешкой, – да, это я, ваша светлость.
В чулан поставили нары, стул и стол. Князь присел осторожно, ему было очень не по себе. Он не мог найти ничего общего между человеком, который, скорчившись, сидел на полу, и элегантным кавалером, сохранившимся у него в памяти. Быть может, еврей опять собрался одурачить всех? Быть может, это только ловкий фортель? У него было такое же неприятное чувство, как тогда в желтой гостиной и перед темно-малиновыми ливреями. Неужто же еврей достиг невозможного и затмил его здесь, в этой камере, при таких обстоятельствах? Но пусть все другие идут на удочку: он не из таких. Его-то уж еврей не поймает в ловушку. Он, владетельный князь Турн и Таксис, многоопытный скептик, не поддастся обману.
– Передо мной вам нечего прибегать к симуляции, ваше превосходительство, – начал он вкрадчиво и учтиво, как в светском салоне.
– Ведь не думаете же вы, что я способен поверить в подобный маскарад. Это, конечно, фортель. Под виселицей вы внезапно скинете мерзкую бороду и явитесь рассудительным, светским кавалером со всем своим прежним апломбом. А это просто маневр, – заключил он торжествующе. – Просто-напросто маневр. Милейший господин экс-финанцдиректор, в такую комедию могут поверить разве что господа члены парламента. Но не я. Меня вы не проведете.
Зюсс молчал.
– У вас, наверное, имеются еще козыри на руках, – продолжал допытываться князь. – И вы думаете козырнуть в последнюю минуту. Сейчас вы, должно быть, хотите разыграть великомученика, чтобы потом воскреснуть в сугубом ореоле. Будьте осторожны! Настроение здесь опасное. Возможно, что вам не дадут опомниться. Возможно, что вас – прошу прощения – повесят, а козыри так и останутся у вас на руках.
Но Зюсс молчал по-прежнему, и князь потерял терпение.
– Ваше превосходительство! Почтеннейший! Сударь! Поймите же вы! Отвечайте же! я вам добра желаю. Вряд ли вам когда-нибудь снилось, что германский владетельный князь будет так стараться для вас. Послушайте! Говорите же! – Раздосадованный поведением Зюсса, старый князь без всякого подъема изложил ему свой план и свое условие. Когда он кончил, Зюсс не шевельнулся и не раскрыл рта. Сильнее чем когда-либо чувствовал себя униженным изящный старый князь. Он-то побеспокоился приехать сюда, а еврей сидит себе и даже не возражает с пафосом, а просто молчит. Князь вдруг почувствовал себя старым и усталым, это молчание было ему нестерпимо.
– Вы в тюрьме разучились хорошим манерам, – с насильственной иронией вымолвил он. – Когда о вас так хлопочут, вы могли бы хоть сказать mille merci…
– Mille merci, – повторил Зюсс.
Князь поднялся. Тот факт, что еврей не желает принять из его рук спасение, а предпочитает идти на виселицу, он воспринял как личную обиду.
– Вы круглый дурак, милейший, – сказал он, и любезный голос его стал неожиданно резким. – Ваш стоицизм порядком устарел. Теперь уж не умирают, чтобы заслужить похвальный отзыв в школьных учебниках истории. Лучше быть живым псом, чем мертвым львом, справедливо заметил ваш царь Соломон. – Он отряхнул пыль с кафтана и закончил, стоя уже в дверях: – По крайней мере обрейте бороду и оденьтесь поприличней, если вам уж так не терпится, – он поморщился, – очутиться в поднебесье. Хотя бы этого можно требовать от человека, который был любезно принят в интимном светском кругу. Вы собрали многочисленную изысканную публику. До сих пор вы с достоинством играли свою роль. Не бросайте же тени на свою светскую репутацию, уходя с подмостков жизни. – С этими словами он удалился.
Виселица, на которой намеревались повесить Зюсса, была сооружена сто сорок лет назад.[94] Устройство ее стоило очень дорого, при тогдашней дешевизне она обошлась в три тысячи оберландских гульденов и представляла собой нечто совершенно особенное, совсем не похожее на обыкновенную деревянную виселицу. Вышиной она была с башню и достигала тридцати пяти футов. Вся она была построена из железа, из тридцати шести центнеров и восемнадцати фунтов железа, отобранных алхимиком Георгом Гонауером для того, чтобы превратить их в золото для герцога Фридриха; попытка эта стоила герцогу двух бочонков золота. В честь злополучного Георга Гонауера виселицу и воздвигли, окрасили в красный цвет, отделали позолотой и повесили на ней Гонауера.
За ним подряд последовало еще несколько алхимиков, водивших за нос герцога Фридриха. Первый был итальянец, Петрус Монтанус. Через год после него Ганс-Генрих Нейшелер из Цюриха, прозванный слепым алхимиком. Еще через год другой Ганс-Генрих, по прозванию Мюлленфельз. Ему везло дольше; он часто потешался над тремя собратьями, парящими в поднебесье; а теперь воспарил и он. Потом виселица долго стояла без дела. Но вот какой-то кузнец из графства Эттинген надумал разобрать ее и унести по частям. Он уже отвернул три бруса и в ночное время успел стащить свыше семи центнеров железа, когда его схватили и покарали орудием его преступления.
Свыше столетия бездействовала виселица. Теперь господин фон Пфлуг, которому было поручено организовать казнь, назначил еврею, шестому по счету, такой же род смерти. С самого начала процесса жестокий и надменный тайный советник предвкушал это торжество своей ненависти. Теперь же он готовился так отпраздновать его, чтобы помнила вся Европа.
С изощренным издевательством обдумывал он подробности казни. Сластолюбие еврея, его плотские грехи, растление обрезанным псом христианских немецких женщин не было, к его великому сожалению и против его воли, включено в мотивировку приговора. Зато теперь, когда дело дошло до казни, у него руки развязаны. Уж он припомнит еврею его похотливость и наглое распутство.
Он решил вздернуть его не просто на виселице, а в птичьей клетке, намекая на его гнусные развратные петушиные похождения.
Следственная комиссия не скупилась на расходы, чтобы поторжественнее обставить экзекуцию. На месте казни, на так называемом Тунценгофском холме или, иначе, лобном месте были построены комфортабельные ложи для кавалеров и дам. Военный отряд, назначенный эскортировать осужденного и поддерживать порядок, репетировал свою роль. Железную виселицу тщательно отремонтировали, повозку смертников снабдили более высокими колесами, колокол, возвещающий о казни, – новой веревкой, палача и его помощников – новой формой.
Много внимания было уделено точному выполнению хитроумной затеи господина фон Пфлуга. Еврей острил, что выше виселицы его все равно не могут вздернуть. Вот ему и покажут, могут ли. Захотят, так поднимут птичью клетку над виселицей.
Постройка клетки и всего сложного подъемного механизма была поручена мастерам Иоганну-Кристофу Фаусту и Вейту-Людвигу Риглеру. Клетка разбиралась на две части, высотой была в восемь футов, шириной в четыре фута, по окружности ее шло четырнадцать обручей, а в вышину семнадцать брусьев. С помощью остроумного механизма ее можно было поднять много выше виселицы. Сооружение ее стоило огромных денег. Под конец к ней пришлось приложить руку всему цеху слесарей. За два дня до казни шестерка лошадей втащила эту махину вверх по круче на Тунценгофский холм. Школьники столицы бежали следом. Весь Штутгарт побывал за эти дни на лобном месте. В наскоро сколоченных лавчонках продавали вино и пиво. Разносчики навязывали летучие листки с изображением еврея и сатирическими стишками. Толпа весело прогуливалась по морозцу, с любопытством смотрела, как сколачивают ложи, любовалась лоском виселицы, замысловатым устройством клетки.
Впечатление, произведенное на обывателей птичьей клеткой, превзошло ожидания господина фон Пфлуга. Неистовый гогот и хохот разносился по городу, по всей стране. Бесчисленные куплеты о птичнике облетели все герцогство, распевались ребятишками на улицах. Но никто не желал верить, что автор этой удачной шутки – господин фон Пфлуг; народ единогласно приписал блестящую выдумку своему любимцу, всеми почитаемому майору фон Редеру. А потому куплеты о птичнике распевались обычно с известным припевом: «Воскликнул сам фон Редер тут: „Стой! иль умри, презренный плут!“
В камере Зюсса сидели рабби Габриель и рабби Ионатан Эйбешютц. Внушительный паспорт на имя подданного Генеральных штатов без всяких разговоров открыл перед мингером Габриелем Оппенгеймером ван Страатеном двери тюрьмы. Теперь они сидели все трое и завтракали. Рабби Габриель привез фруктов, фиников, фиг, апельсинов, а также печенья и крепкого южного вина. На Зюссе был пунцовый кафтан, седые волосы покрывал берет, над переносицей у него, так же как у обоих раввинов, врезались в лоб три борозды, образуя букву Шин, зачинающую имя господне, Шаддаи. Он омакал фиги в вино. Это была его последняя трапеза. Рабби Габриель толстыми пальцами делил на дольки апельсин. Они сидели все трое и ели фрукты, молча, сосредоточенно. Но мысли их мощным потоком струились от одного к другому. Рабби Габриель и Зюсс были теперь одно, и впервые рабби Габриель воспринимал эту зависимость не как неволю и злой рок, а как дар. Третий из них, рабби Ионатан Эйбешютц тоже ощущал связующий их ток, только он был вне его, он стоял на берегу, и волна не несла его. Он сидел с ними, он пил с ними, он был, как и они, отмечен знаком Шин, он был доступен познанию и откровению, как и они; но волна не несла его. Рабби Габриель не спеша посыпал апельсин сахаром и разделял на дольки. Разливал густое, черное южное вино. В камере невысказанным витало слово, мысль, образ, бог. Но рабби Ионатан терзался горько, мучительно, жестоко. Он пытался успокоить себя циничной шуткой: легко парить над землей, когда тебя вешают. Но это злое утешение не имело силы, он, богатый мудростью и всеми благами мира, чувствовал себя неприкрытым завистником и почти предателем. И, повторяя за теми двумя слова застольной молитвы, он, во всем великолепии шелкового кафтана и белой как кипень волнистой бороды, величавый, всезнающий, всеми почитаемый, был попросту жалкий, печальный, конченый человек.
Пока Зюссу наверху вторично зачитывали приговор и переламывали над его головой палку, в вестибюле ратуши его ждали кроткий, сморщенный франкфуртский раввин, дородный сангвиник – фюртский раввин, а с ними, зябко потирая руки и дрожа от волнения, – Исаак Ландауер. Крупными хлопьями падал мокрый снег, сквозь унылую, туманную пелену проглядывало, то и дело исчезая, бледное солнце. На улице перед входом, в необозримом количестве теснилась толпа любопытных, перед усиленным военным конвоем гарцевал на своей старой рыжей кобыле господин фон Редер. На высоких колесах стояла пустая повозка смертников, палач и подручные, одетые в яркие цвета, окружали ее.
Наконец Зюсса привели вниз. Евреям разрешили в последний раз поговорить с ним здесь. Он преклонил голову. Низенький рабби Якоб Иошуа Фальк возложил ему на голову сморщенные кроткие руки и сказал:
Да благословит и да сохранит тебя Иегова. Да воссияет ликом своим на тебя Иегова и да помилует тебя. Да обратит лик свой на тебя Иегова и дарует тебе мир.
– Во веки веков аминь, – сказали фюртский раввин и Исаак Ландауер.
Хлопотливо усадили еврея на высокую повозку смертников и связали его. Несмотря на холод и сырость, народ густой толпой запрудил базарную площадь. В окнах палаты, ратуши, аптеки, трактира под вывеской «Солнце» белели человеческие лица. На кровле колодца, даже на дыбе и на деревянном осле висели мальчишки. Молча глазел народ. Господин фон Редер крикливым голосом отдал приказ своим кавалеристам. Конвой тронулся, отряд конной гвардии впереди, затем два барабанщика, дальше рота пеших гренадеров. Один из подручных палача вскочил на лошадь, запряженную в повозку, прищелкнул языком, кляча дернула. Низенький рабби Якоб Иошуа Фальк повторил бледными губами: «И дарует тебе мир». Но вспыльчивый фюртский раввин не мог сдержаться, гортанным голосом изрыгал он вслед повозке дикие проклятия Эдому и Амалеку, врагам и богохульникам. А Исаак Ландауер разразился пронзительным, безудержным, звериным воем. Странно было видеть, как могущественный финансист бился головой о колонны портала и безостановочно выл. Тут зазвонил колокольчик, возвещающий о казни. Резкий, пронзительный назойливый звон вторил вою еврея, пронизывал плотную снежную пелену, впивался в мозг.
Проник он и в комнату Магдален-Сибиллы. Роды прошли благополучно, но она еще не вставала. Она смотрела на младенца, обыкновенного младенца, не большого и не маленького, не красивого и не уродливого. Она слышала надрывный стон колокола и вся содрогалась, она смотрела на младенца – своего и Эмануила Ригера, – и он не был ей люб.
Звон колокола проник и во дворец, где сидел старый регент с Бильфингером и Гарпрехтом. Все трое молчали. Наконец Гарпрехт сказал:
– Не сладок мне этот звон.
А Карл-Рудольф сказал:
– Мне пришлось пойти на это. Мне стыдно, господа.
Между тем Зюсса везли через весь город к лобному месту. Он сидел на повозке смертников, возвышаясь, точно идол, в пунцовом кафтане, солитер сверкал у него на пальце: герцог-регент не разрешил отнять у него кольцо. Вдоль всего пути стоял народ, сыпал снег, процессия двигалась удивительно беззвучно, и беззвучно смотрела толпа. Едва проезжала повозка с осужденным, как десятки тысяч людей, пешие, в экипажах, верхом, спешили ей вслед, позади конвоя или рядом с ним. Белесый туманный воздух и грязный, талый снег создавали какую-то неправдоподобную гнетущую тишину. Еврея везли не прямой дорогой, а медленно, с прохладцей, кружным путем. Многие зрители явились издалека, вся страна хотела быть при этом, даже из-за границы явились многие, так надо же было всем показать столь занимательное зрелище.
Зюсс восседал на повозке, связанный, неподвижный, снег падал ему на одежду, на седую бороду.
На пути его стоял лиценциат Меглинг. Он был опечален и удручен тем, что его защитительная записка не оказала никакого действия. Правда, он смело мог сказать, что не пожалел стараний, но что поделаешь, если и vox populi[95] единодушно и властно высказался против осужденного. Тем не менее обидно и горько, когда твоего подзащитного вешают без достаточного юридического обоснования. Ему было не по себе, его знобило. Он попросил одного из помощников палача подать Зюссу стакан вина. Тот, правда, отказался, даже не поблагодарил и не шевельнулся, но лиценциату стало теплее и легче на душе.
На пути еврея стояла также жена Шертлина, француженка. Она видела связанного, странно притихшего Зюсса, неподвижного, точно статуя святого, которую несут в процессии по городу, снег был у него на одежде, снег на бороде. Она, быть может единственная в толпе зрителей, угадывала внутреннюю связь событий, угадывала, сколько добровольного в этом позоре. Жадно, со злорадным, мучительно двойственным чувством смотрела она на него, ее маленький ярко-пунцовый рот был полуоткрыт, продолговатые глаза пылали. Какая-то женщина подле нее сказала вполголоса с сильным швабским акцентом:
– Хотел всегда забраться повыше. Теперь попадет так, что выше некуда.
– Sale bete![96] – проронила француженка в оснеженное пространство.
На следующем повороте пути стоял публицист Иоганн-Якоб Мозер. Когда показалось шествие, он обратился к народу с краткой выразительной патриотической речью. Но пламенные слова его никого не зажигали, снег гасил и глушил их, толпа безмолвствовала, тогда и он умолк, не договорив до конца. Близко от цели шествия стоял на пути Никлас Пфефле, бледнолицый невозмутимый секретарь. Когда господин его в последний раз проезжал мимо, он низко поклонился. Зюсс увидал его, кивнул два раза. После того как повозка проехала, Никлас Пфефле не последовал за ней на место казни, а свернул в сторону, давясь от рыданий.
Когда шествие приблизилось к своей цели, снег перестал, прояснилось. В морозном воздухе, под светлым, белесоватым небом, очень четко вырисовывались виноградники. Вверху, между уступами холмов, еврей увидел сторожку, внизу увидел водонапорную башню, Андреанский дом, ванное заведение, он обернулся и увидел Штутгарт. Собор, церковь святого Леонарда, старый дворец и новое дворцовое здание, деньги на постройку которого добывал он. Слева от него одиноко высилась деревянная виселица. Но она казалась совсем невзрачной перед фантастическим, замысловатым гигантским железным сооружением, предназначенным для него. Двойная лестница с многочисленными ступенями, с бесконечными подпорками шла вверх, целая система колес, цепей и шарниров стояла наготове, чтобы втащить наверх клетку. Обширное поле было целиком заполнено людьми. Все это в жадном ожидании лепилось на выступах, заборах, деревьях. Глазело издалека в чересчур неуклюжие, громоздкие подзорные трубы. На кафтане Зюсса замерз снег, замерзшие кристаллики сверкали на его берете, на седой бороде.
На трех больших трибунах, вмещавших по шестьсот человек, разместились дамы и кавалеры, придворные чины, сановники и военные, иностранные послы, члены суда и ландтага. Тайный советник фон Пфлут впереди всех. Он до последней минуты боялся, что эта бестия иудей с помощью какого-нибудь чисто еврейского подлого фортеля умудрится улизнуть. Но теперь час настал, теперь цель его жизни достигнута. Теперь уж, сейчас, ненавистный взлетит наверх, удавленный. Жестокие глаза тайного советника жадно искали под воротом Зюсса шею, которую обовьет веревка. Какое наслаждение созерцать смерть врага, истинная отрада для глаз! Как приятна и сладостна дробь возвещающих смерть барабанов, назойливое дребезжанье колокольчика!
Среди дам было немало таких, что очень интимно знавали Зюсса, и все же по тем или иным причинам избегли дознания. И сейчас они, дивясь и содрогаясь, смотрели на мужчину, с которым были близки. Он был очень моложав и, видит бог, умел доказать, что силы у него юношеские, ему и было-то самое большее сорок лет, а теперь у него седые волосы и вид старого раввина. Собственно, им надо бы самих себя стыдиться, что с этим человеком они лежали в постели. Но, как ни странно, они не стыдились, а жадным, завороженным взглядом смотрели на удивительного человека. Вот сейчас, сию минуту, он умрет, сейчас, сию минуту, он замолкнет навсегда, и всякая опасность минует, неумолимая, страшная сила навеки развеет чары. Они ждали этого, сладострастно трепеща, жаждали этого, содрогались перед этим. Очень многие согласились бы до конца дней жить под угрозой разоблачения, только бы он остался жив.
На одной из трибун находился и молодой Михаэль Коппенгефер. Наконец-то будет раздроблен жернов, столько времени висевший на шее у народа, наконец-то губитель понесет позорную кару. Да, но ему девица Элизабет-Саломея не дала бы отставки, озабоченно суетясь между грудами книг и стопками белья, ему она отдалась без особых с его стороны усилий. Старый, сгорбленный еврей, что в нем особенного? В чем его сила? С завистью и горечью смотрел он на человека, сидевшего на повозке смертников. Зато на лице молодого тайного советника Гетца, находившегося среди судей, было написано тупое и глупое удовлетворение. Теперь наконец позор будет снят с его матери и сестры. Пусть теперь какой-нибудь наглец посмеет посмотреть на него косо. Тут-то он сразит его взглядом. Тут-то он будет знать, как ему поступить!
На одной из трибун сидел Вейсензе – хилый и дряхлый старик. «Nenikekas, Iudaie! Nenikekas, Iudaie!» Увы, еврей снова одержал победу! Он отведал от всех трапез, глазами, чувствами, мозгом вкусил всех тончайших услад жизни, до дна испил каждую победу и каждое поражение, обогатил свою душу трагической гибелью дочери, замыслил и осуществил ослепительную, изощренную, опаленную адским пламенем жесточайшую месть, а теперь он умирает на глазах у всего мира фантастической и, вероятно, добровольной смертью, в которой больше героизма, чем в смерти на поле брани. Опаленный ненавистью, обласканный любовью, загадочный, величавый. Что останется от него самого, от Вейсензе? Плохонькие стихи его пошлой мещанки-дочери. А тот будет жить вечно. Все вновь и вновь будут позднейшие поколения вникать, вдумываться, вчувствоваться в его судьбу, стараясь понять, кем он был, что думал, видел, как жил и умер.
Зюсса отвязали от повозки. Он стоял, весь одеревеневший, и щурился. Он видел людей в ложах, парики, нарумяненные лица женщин. Он видел войска, оцепившие площадь. Ого, и постарались же его враги; вокруг одной только виселицы собрано по меньшей мере пять рот. Военное командование, разумеется, было в руках майора фон Редера, который красовался на виду у всех. Да, да, тонкая нужна стратегия, чтобы доконать его, Зюсса. Он видел сотни тысяч лиц, любопытные бабьи – рты у них раскрыты, чтобы завизжать, – мужские, готовые не то осклабиться, не то оскалить зубы, детские лица, толстощекие, большеглазые, предназначенные стать такими же тупыми и злобными, как хари родителей. Он видел дыхание толпы, сгущенное в белый пар ни ярой стуже, алчные глаза, вытянутые шеи, прежде так раболепно изгибавшиеся перед ним. Он увидел птичью клетку, сложное и постыдное орудие его убийства. И когда он увидел все это, до слуха его донесся скулящий, сварливый голос. Городской викарий Гофман не преминул дождаться его у подножия виселицы и завести с ним речь о небесах и земле, о прощении божьем и человеческом, об искуплении и вере. Зюсс увидел и услышал его, медленно оглядел викария с головы до ног, отвернулся и сплюнул. Вытаращенные глаза, тихий, негодующий, быстро смолкший ропот толпы.
Тут к нему подступили помощники палача в яркой новой форме, расстегнули на нем кафтан. Он ощутил грубые, неловкие руки, отвращение поднялось в нем, он потянулся, скованности как не бывало, он отбивался, отчаянно сопротивляясь. Шеи вытянулись еще больше. Забавно было смотреть, как седобородый человек, в парадной одежде, со сверкающим алмазом на пальце, вырывается из рук помощников палача. Дети смеялись, веселились, хлопали в ладоши; какая-то накрашенная женщина на трибунах принялась пронзительно кричать, ее пришлось унести. Берет Зюсса упал на мокрую землю, его затоптали в грязь. Палачи крепко ухватили еврея, распахнули на нем кафтан, втиснули его в клетку, накинули ему на шею петлю. Так стоял он. Слышал шелест ветра, дыхание толпы, топот копыт, сварливый голос пастора. Неужто это последнее, что он услышит на земле? Он алкал другого, он широко раскрыл сердце и слух навстречу другому. Но слышал он только это, да еще собственное дыхание и гудение собственной крови. Вот уже клетка качнулась, начала подниматься. И тут сквозь бессмысленные, жестокие шумы прорвался другой звук, крик громких гортанных голосов: «Един же и велик всевидящий предвечный бог Израиля, Иегова Адонаи». Это евреи, низенький Иошуа Фальк, толстый фюртский раввин, неопрятный Исаак Ландауер. Они стоят, закутанные в молитвенные одеяния, и с ними еще семеро других, всего десять мужей, как полагается по закону, им дела нет до народа, который отвернулся от виселицы и смотрит на них, они стоят, раскачиваясь, и громко, гортанно на всю обширную площадь выкрикивают отходные молитвы: «Слушай, Израиль, един же и велик Иегова Адонаи». Белыми облачками на сильном морозе тянутся слова с их уст к человеку в клетке, и сын маршала Гейдерсдорфа открывает рот и выкрикивает в ответ: «Един же и велик Иегова Адонаи».
Проворно копошатся, карабкаются пестрые подручные вверх по лестницам. Клетка поднимается, петля затягивается. Снизу городской викарий шлет проклятия умирающему: «Отправляйся в ад, закоренелый негодяй и жид!» Громкое «Адонаи» евреев пронизывает воздух и слух. Отклик его несется из клетки, пока петля не душит звук.
В первом ряду трибуны поднялся тайный советник Панкорбо, он опирается тощими высохшими руками на барьер, высовывает из гигантских брыжей сизо-багровое, костлявое лицо. Из-под морщинистых век алчно глядит он вслед поднимающейся клетке и человеку в парадном ярко-пунцовом кафтане, на пальце у человека – солитер, который переливается тысячами огней на ясном морозном воздухе.
После того как заградительный кордон рассыпался, толпа принялась вблизи разглядывать виселицу, несколько мальчуганов забралось до половины лестницы, вверху на прутьях клетки сидели густые стаи черных птиц.
Медленно потянулась толпа назад в город. День был все равно что праздничный, все пили, ели всласть, бражничали, плясали и буянили по кабакам. Молодой бюргер Лангефас, известный шутник и весельчак, извлек из грязи берет Зюсса; он напяливал берет на себя, напяливал его на девушек и служанок, которые в ужасе визжали под беретом повешенного еврея. Но все-таки настоящего веселья не получалось. Людям казалось, что в этот день они будут чувствовать себя как-то иначе – веселее, привольнее. Пробовали петь «На виселицу еврея!», пробовали петь: «Воскликнул сам фон Редер тут: стой! иль умри, презренный плут!» Но «Адонаи» евреев назойливо звучало в ушах. Дети играли в повешенье; игра заключалась в том, что один стоял наверху и кричал «Адонаи», а другие стояли внизу и кричали, орали, вопили, визжали: «Адонаи».
В ночь после казни, часов около трех, тощий высокий господин поднимался по Тунценгофскому холму к железной виселице. Дорога представляла собой отвратительное месиво из грязи и тающего снега, идти было трудно. Тощий господин, пожимаясь от холода, кутался в широкий плащ старомодного, допотопного покроя. При нем были двое молодцов, спившихся бюргерских сыновей, известных на весь Штутгарт тем, что за деньги они были способны на любое отчаянное предприятие. Оба молодца, не мешкая, взобрались по лестнице на виселицу. Карабкаться по обмерзшим, обледенелым ступенькам было нелегко, они бранились про себя. Вокруг них летали птицы, которые ночью и днем в великом множестве лепились на виселице. Наверху молодцы задержались непредвиденно долго. Тощий господин, поджидавший внизу, нетерпеливо поеживался, переступая с ноги на ногу, приглушенно и гневно ворчал себе под нос.
– Ну что – достали? – окликнул он их тихо, когда они наконец спустились с лестницы.
– Его там нет! – растерянно пролепетали молодцы.
– Вы украли его, вы украли камень! – стараясь не возвышать голоса, хрипло рявкнул португалец. – Я вас к суду притяну, я вас колесую!
Но молодцы повторяли в испуге:
– Самого еврея нет. В клетке висит другой. Его черт унес.
Дон Бартелеми долго не верил, а потом тут же ночью официально вызвал лейб-гусар обследовать клетку. Да, труп был выкраден, заменен другим. Рано утром, вне себя от бешенства и разочарования, сеньор Панкорбо явился к герцогу-регенту. Вот к чему привела доброта его светлости. Евреи взяли да и похитили солитер. Солитер? Карл-Рудольф вспомнил гору золота, не поверил. Труп, это другое дело, – его они могли похитить. Он подумал, повеселел, даже улыбнулся. Ну и отчаянные головы эти евреи! Недолго думая крадут труп с виселицы; прямо под стать христианам и солдатам. Он охотно дарит им солитер, в виде компенсации, и не собирается их преследовать. Багровея, клокоча от злобы, замогильным голосом рыча себе под нос чудовищные проклятия, удалился тощий португалец в допотопной придворной одежде.
А между тем труп, завернутый в лохмотья, спрятанный в подводе под грудами товаров и хлама, с великой поспешностью переправлялся в Фюрт. Его сопровождали евреи-разносчики, сменявшиеся в определенных местах. На пальце покойника был надет солитер. Никто из сопровождающих не боялся, что следующий похитит его.
В Фюрте труп обмыли, облекли в длинный белый саван, положили в гроб. Указательный, средний и безымянный пальцы согнули так, что они образовали букву Шин, зачинающую имя божие, Шаддаи; под голову насыпали горсточку земли, черной рыхлой земли, земли Сиона. Властям сообщили, что хоронят никому не известного еврея из Франкфурта, умершего на проезжей дороге. Членам общины тоже ничего не сказали. Но молва передавалась из уст в уста.
Так лежал неизвестный, почерневшее лицо удавленника было причудливо окаймлено грязной белой бородой; глаза, выпуклые, карие, потускневшие, не закрывались, а между ними, над переносицей, глубоко врезались в лоб три борозды знака Шин. На простом белом покрывале сверкал гигантский ослепительный солитер. Десять почтеннейших мужей общины сидели возле тела между высокими светильниками и завешенными окнами.
К ним присоединился незнакомец, коренастый, плотный, широкое безбородое лицо, глаза блекло-серые, окаменевшие, старомодная одежда. Вступив в комнату покойника, он полил воды через плечо, полил воды в головах и в ногах мертвеца. Мужи узнали каббалиста, пошептались, расступились.
Рабби Габриель подошел к телу умершего, своим скрипучим, сердитым голосом произнес благословение: «Слава тебе, Иегова, господь бог наш, судия праведный». Толстыми пальцами бережно коснулся век мертвеца, и сомкнулись веки. Тогда сел он на землю, меж колен склонил голову. Десять мужей отступили до самой стены. Бесконечно одинокий, несмотря на их присутствие, маленьким, ничтожным комочком сжался рабби Габриель подле умершего.
Все фюртские евреи собрались на кладбище, когда хоронили неизвестного. Они опустили гроб в землю. Солитер был на пальце умершего, под головой его
– горсточка земли от земли Сиона. Хором отвечали они кантору: «Многолик мир, и все в нем суета и томление духа, един же и велик бог Израиля, предвечный всевидящий Иегова. – И вырывали они траву и бросали ее через плечо. И говорили: – Как трава, увядаем мы в сем мире. – И еще говорили: – Памятуем мы, что прах мы». А потом омыли руки в проточной, отгоняющей демонов воде и покинули кладбище.
Примечания
1
Турн и Таксис – старинный дворянский род, происходивший из Северной Италии. Еще в конце XV в. император поручил представителю этого рода наладить регулярное почтовое сообщение между Нидерландами и Австрией. С 1615 г. организация имперской почты стала постоянной привилегией и монополией Турн и Таксисов, благодаря чему, несмотря на малые земельные владения, этот род стал необычайно богатым и влиятельным. С 1624 г. Турн и Таксисы стали имперскими графами, с 1695 г. – князьями. Их княжеская резиденция помещалась в Регенсбурге.
(обратно)2
Эбергард-Людвиг (1676–1733) – герцог Вюртембергский с 1677 г. (до 1693 г. правил под опекой), известный своею расточительностью и жестоко разорявший страну. Настоящей правительницей государства была его фаворитка Христиана-Вильгельмина Гревениц, с 1710 г. получившая титул графини фон Вюрбен. В 1709 г. герцог построил новую столицу государства – город Людвигсбург с пышной княжеской резиденцией, в которой царила графиня. Только в 1731 г. графиня и ее сторонники попали в опалу, и герцог торжественно примирился со своей супругой, но через два года после этого умер.
(обратно)3
Маркиза де Ментенон (1635–1719) – фаворитка французского короля Людовика XIV.
(обратно)4
Исаак Симон Ландауер – историческое лицо, придворный банкир герцога Эбергарда-Людвига и его фаворитки Гревениц. В 1732 г. он действительно познакомил Зюсса с принцем Карлом-Александром.
(обратно)5
Аугсбургское исповедание – сочинение, содержащее основы лютеранства. Оно было составлено соратником Лютера Меланхтоном и в 1530 г. представлено на Аугсбургском имперском сейме императору Карлу V. Аугсбургское исповедание было отклонено, и это послужило поводом для начала длительной борьбы между протестантскими и католическими князьями Германии. Аугсбургское исповедание устанавливало главным образом внешнюю, обрядовую сторону лютеранства.
(обратно)6
Речь идет об австро-турецкой войне 1716–1718 гг., закончившейся поражением Турции и присоединением к Австрии ряда бывших турецких владений, в том числе части Сербии с Белградом и части Боснии.
(обратно)7
Принц Евгений Савойский (1663–1736) – известный австрийский полководец и дипломат. Выдвинулся в войнах с Турцией и Францией. С 1698 г. фельдмаршал, с 1703 – президент Высшего военного совета Австрийской империи Габсбургов.
(обратно)8
Апанаж – содержание, которое выдавалось во Франции и в германских княжествах некоронованным членам правящей фамилии в виде земель и ренты. В данном случае речь идет о незаконном даровании апанажа фаворитке герцога.
(обратно)9
Охотников, так как св. Губерт считался покровителем охоты.
(обратно)10
Союз дружбы и доблести (лат.)
(обратно)11
Лейбниц Готфрид-Вильгельм (1646–1716) – известный немецкий ученый, выдающийся математик, философ-идеалист.
(обратно)12
Каббалист – последователь учения каббалы (каббала – древнеевр. – предание, традиция). Так называлось в средние века религиозно-мистическое учение, получившее распространение главным образом в среде наиболее фанатичных представителей иудейской религии. По этому учению, «священное писание» является собранием тайных откровений божества, а весь мир продуктом «эманации», то есть истечения божественного начала. Каббалисты выдвинули метод символического толкования священных текстов, по которому каждому слову и числу придавалось особое мистическое значение. Согласно учению каббалы, человек должен выполнить в мире то, что предначертано его душе, существующей извечно. Душа накладывает отпечаток на внешний облик человека, поэтому по некоторым его чертам каббалисты считали возможным предсказать будущее. Нравственное или порочное поведение человека влияет на божественное начало, приближая или отдаляя день всеобщего искупления. На этом элементе каббалистической мистики Фейхтвангер строит отношения рабби Габриеля к Зюссу.
(обратно)13
«Mercure galant» – один из старейших французских журналов. Основан в 1672 г. Первоначально содержал главным образом придворную хронику и моды.
(обратно)14
Генеральные штаты – верховный правительственный орган Соединенных провинций (Голландии).
(обратно)15
Принц Карл-Александр Вюртембергский (1684–1737) – представитель боковой линии правящего дома герцогов Вюртембергских. Начал свою службу при австрийском дворе и очень рано приобрел славу блестящего военачальника и полководца. Участвовал в австро-турецких войнах и в войне за испанское наследство (1701–1713) под командованием принца Евгения Савойского. Во время последней кампании в битве при Кассано (1705) получил опасную рану в ногу, которая причиняла ему боль и беспокойство до конца его дней. В 1712 г. принял католичество. Особенно громкую славу принц Карл-Александр завоевал во время австро-турецкой войны 1716–1718 гг. В августе 1716 г. он одержал под началом принца Евгения блестящую победу над турками при Петервардейне. В 1717 г. получил чин имперского генерал-фельдмаршала, и в том же году его смелая атака во главе семисот алебардщиков решила успех битвы при Белграде. После мира 1719 г. Карл-Александр стал правителем Сербии и Белграда. Он удалился туда вместе со своей женой Марией-Августой Турн и Таксис, с которой сочетался браком в 1727 г. В 1732 г. Карл-Александр занял Вюртембергский престол.
(обратно)16
Гром и молния! (франц.)
(обратно)17
Орден Золотого руна – высшее отличие при дворе Габсбургов – был основан в 1429 г. в Бургундии.
(обратно)18
Фридрих-Карл фон Шенборн, князь-епископ Бамбергский и Вюрцбургский (1674–1746) – известный дипломат того времени, сторонник Габсбургов. С 1705 г. являлся имперским вице-канцлером.
(обратно)19
Фихтель – историческое лицо, тайный советник епископа Вюрцбургского, один из активнейших деятелей католической партии в Вюртемберге, готовившей переворот в пользу Карла-Александра. По заданию последнего Фихтель сочинял специальный документ, в котором объявлялись недействительными старые договоры об ограничении герцогской власти в Вюртемберге.
(обратно)20
Георг-Бернард Бильфингер (1693–1750) – немецкий ученый-физик и философ школы Лейбница. Был профессором сначала в Санкт-Петербургском, затем в Тюбингенском университете.
(обратно)21
Сведенборг Эммануил (1688–1772) – шведский мистик и богослов. До 1745 г. занимался естественными науками, являлся представителем рационализма в философии, был избран почетным членом Петербургской Академии наук. После 1745 г. увлекся мистикой и объявил себя «духовидцем», призванным самим Христом дать истинное толкование библии. Говоря о мистических книгах Сведенборга в 30-е г. XVIII в., Фейхтвангер допускает анахронизм.
(обратно)22
Пиетизм – возникшее в Германии в XVII в. течение в лютеранской церкви, вызванное стремлением укрепить пошатнувшийся авторитет религии. Пиетисты стремились повысить интерес к эмоциональной и этической стороне христианства, овладеть настроением верующих с помощью мистики. Они заняли резко враждебную позицию по отношению к науке и просветительской философии. Отвергая внешнюю церковную обрядность, пиетисты проповедовали благочестие и нравственное самоусовершенствование, все светские развлечения объявляли грехом, требовали, чтобы жизнь христианина проходила в постоянном покаянии. Общины пиетистов были широко распространены в XVIII в. в Вюртемберге.
(обратно)23
Пуаре Пьер (1646–1719) – французский богослов, мистик, много лет преподававший в университетах Голландии и западной Германии. Беме Яков (1575–1624) – немецкий философ-самоучка, сапожник по профессии. Свою оригинальную натурфилософскую систему, содержавшую уже начатки диалектики, изложил на единственно знакомом ему языке библейских и мистических символов. Энгельс назвал Беме «темной, но глубокой головой». Его последователи, воспринявшие лишь мистическую сторону его учения, создали религиозное «ангельское братство», по образцу которого Джен Лид (1623–1704) организовала в Англии «общество филадельфов» (греч. «братолюбец»). Эти общества оказали влияние на немецких пиетистов. Буриньон Антуаннета (1616–1680) – французская «ясновидящая», многочисленные мистические «видения» которой отличались крайней нелепостью. Арнольд Готфрид (1666–1714) – протестантский теолог, историк церкви и автор религиозных стихотворений.
(обратно)24
Библейское общество (лат.)
(обратно)25
Калхас – прорицатель в «Илиаде». Калхас предсказал продолжительность Троянской войны, гибель Трои и другие события. Даниил – один из библейских пророков. Согласно библии, еще юношей он разгадывал сны царя Навуходоносора и предсказывал ему будущее.
(обратно)26
Эбергард Бородатый (1450–1496) – первый Вюртембергский герцог. В молодости совершил поход в Палестину. Объединил под своей властью разделенный на два графства Вюртемберг. В 1495 г. на Вормском имперском сейме Вюртемберг был превращен в герцогство. В том же году Эбергард отблагодарил сословия за поддержку дарованием конституции. В правление Эбергарда Бородатого был основан старейший в Вюртемберге Тюбингенский университет.
(обратно)27
«Corpus Evangelicorum» (Евангелическая уния) – союз протестантских земель и княжеств; возник в период обострения религиозных разногласий в Германии в 1608 г. В 1609 г. в противоположность атому союзу возникла Католическая лига. Вестфальский мир 1648 г. закрепил существование в Германии двух враждебных объединений: «Corpus Evangelicorum» и «Corpus Catholicorum».
(обратно)28
модные (франц.)
(обратно)29
Франц-Иозеф Ремхинген – австрийский генерал, друг и доверенное лицо герцога Карла-Александра и один из главарей военно-католической партии в Вюртемберге. Его характер и судьба описаны Фейхтвангером совершенно достоверно.
(обратно)30
Религиозные реверсалии – так назывались обязательства от 16 декабря 1732 г., 28 февраля и 17 декабря 1733 г., данные принцем Карлом-Александром представителям сословий Вюртемберга. В них Карл-Александр давал клятву, несмотря на свой переход в католичество, поддерживать привилегированное положение лютеранства в стране. Католическое богослужение в Вюртемберге должно быть согласно договору запрещено повсюду, кроме придворной часовни. Все дела евангелической церкви должны быть переданы Высшему церковному совету – хранителю религии в стране, наделенному очень важными полномочиями.
(обратно)31
Тюбингенское соглашение между герцогом и сословиями Вюртемберга было заключено в 1514 г. Оно предусматривало дальнейшее расширение прав сословий, дарованных конституцией 1495 г. Согласно новому договору герцог и сословия считались равными сторонами, и их голоса – одинаково решающими.
(обратно)32
Ноэми представляет себе героев из Ветхого завета: Аннон и Фамарь – брат и сестра, дети царя Давида от разных матерей. Не в силах совладать со своей страстной любовью к Фамари, Амнон ее обесчестил. Рахиль – любимая жена патриарха Иакова, бежала вместе с ним и всем семейством из страны своего отца в землю Ханаанскую – родину своего мужа. Ревекка, посланная отцом, чтобы сделаться женой Исаака, встретила его впервые у колодца и поразила своей красотой и скромностью. Мириам – старшая сестра Моисея, который вывел евреев из Египта. После чудесного перехода евреев через Чермное море и спасения от погони египтян, потонувших в волнах, Мариам возглавила победный танец израильских жен. Иаиль – израильтянка, убившая вражеского военачальника Сисару, спрятавшегося в ее доме. Сисара поручил ей сторожить у двери и уснул, после чего Иаиль пронзила ему голову колом. Дебора – мудрая пророчица, удостоившаяся судить народ Израиля. Она руководила борьбой израильтян против ига Хананейского царя и его военачальника Сисары. Агарь – египтянка, рабыня Сарры – жены Авраама. Будучи долгое время бесплодной, Сарра послала Агарь к Аврааму, чтобы доставить ему потомство. Агарь родила Аврааму сына. Впоследствии, после рождения сына Сарры – Исаака, Агарь вместе с сыном была изгнана в пустыню. Авессалом – один из сыновей царя Давида, родной брат Фамари. Убил Амнона, обесчестившего сестру, после чего бежал из Иерусалима. Через несколько лет он получил прощение отца и ему разрешили вернуться. Авессалом завоевал доверие народа и поднял восстание против Давида. Во время решающей схватки с воинами царя Авессалом, разъезжавший на муле, случайно зацепился своими пышными кудрями за ветки дуба и остался висеть на дереве. В таком беспомощном положении его убил военачальник царя Давида.
(обратно)33
Мориц-Давид Гарпрехт – как и упоминаемый далее Иоганн-Даниэль Гарпрехт – представители известной в Швабии династии юристов, специалистов по государственному и гражданскому праву. Заключение по делу Зюсса давал профессор Иоганн-Генрих Гарпрехт (род. 1702); но Фейхтвангер превратил молодого в те годы ученого в маститого старца в потому счел нужным изменить имя.
(обратно)34
Фермопилы – горный проход из северной в среднюю Грецию. Здесь в 480 г. до н. э. триста спартанцев стояли насмерть, не пропуская армию персидского царя Ксеркса. Персы сумели обойти греков по горным тропам.
(обратно)35
Жизнь за моего повелителя! (франц.)
(обратно)36
Божья матерь Лоретская! (итал.)
(обратно)37
Иуда Маккавей (ум. 160 г. до н. э.) – древнееврейский герой и полководец, вождь иудейского восстания против сирийского царя Антиоха IV, который стремился насильственно ввести в Иудее греческую религию и обычаи. Подвиги Маккавея описаны в Ветхом завете в Первой книге Маккавеев.
(обратно)38
Вальденсы – приверженцы ереси, возникшей в конце XII в. Названы так по имени инициатора этого движения – Пьера Вальда. Их общины возникли во многих областях Южной Франции и Северной Италии. В 1699 г. около шести тысяч вальденсов бежали из владений преследовавшего их герцога Савойского и поселились в Маульбронне (Вюртемберг).
(обратно)39
Совет Десяти – важнейший политический орган Венецианской республики, осуществлявший тайный надзор над правительством и всеми гражданами и охранявший незыблемость существующего строя посредством системы шпионажа и убийств исподтишка.
(обратно)40
Каждому свое, каждому свое! (лат.)
(обратно)41
Исаак Лурия Ашкинази (1536–1572) – один из наиболее ревностных последователей учения каббалы. Познакомившись с каббалистической книгой «Зогар», опубликованной незадолго до того, Ашкинази под впечатлением от нее совершенно изменил образ жизни. Семь лет он прожил отшельником на берегу Нила, уверял людей, что стал ясновидящим и ведет беседы с самим пророком Илией, который посвящает его в тайны мироздания. В 1569 г. Ашкинази снова переселился в Палестину, где вокруг него образовался кружок каббалистов – его учеников и почитателей. Самым известным из них был некий Хаим-Виталь из Калабрии, который собрал записи бесед Ашкинази со своими учениками и опубликовал книгу, содержащую его учение. Она называлась «Древо жизни» и была напечатана в Европе в 1772 г. (отрывки из нее приводятся в романе). Фейхтвангер взял из этого сочинения понравившуюся ему мысль о мучительном соединении в одном существе разных душ: высшей и низшей, что казалось ему удачным аллегорическим выражением противоречивости человеческого характера.
(обратно)42
Мозер Иоганн-Якоб (1707–1785) – профессор государственного права и публицист в Вюртемберге. Преподавал в Тюбингенском университете с 1727 по 1736 г. Был яростным противником княжеского абсолютизма и защитником прав сословий, за что в 1758 г. был арестован, посажен в тюрьму и просидел там более десяти лет (до 1769 г.). Фейхтвангер представляет образ этого вюртембергского поборника свободы тенденциозно, в нарочито сниженном карикатурном виде.
(обратно)43
Фейхтвангер вспоминает здесь процесс по обвинению евреев в ритуальном детоубийстве в Триенте, спутав его с Триром. У решетки одного из еврейских домов, выходящих к реке Эч, был найден убитый ребенок по имени Симон. В его убийстве обвинили евреев, и все еврейское население в городе и окрестностях было перебито. По инициативе местных церковников младенец Симон был объявлен святым мучеником, хотя впоследствии папа не признал его святости.
(обратно)44
посмотрим (франц.)
(обратно)45
так вот (франц.)
(обратно)46
Барух д'Эспиноза (Бенедикт Спиноза; 1632–1677) – выдающийся голландский философ-материалист. Спиноза родился в семье испанских евреев в Амстердаме и получил первоначальное образование в еврейской религиозной школе. Способного юношу, однако, влекло к науке. Он стал прилежно посещать светскую латинскую школу, открыл для себя философию Декарта и сам начал писать философские работы. Между 1654 и 1656 гг. Спинозу за религиозное свободомыслие исключили из еврейской общины и по ходатайству последней изгнали из Амстердама.
(обратно)47
доброй воли, благоволения (греч.)
(обратно)48
доброй воли (лат.)
(обратно)49
Георг-Эбергард фон Гейдерсдорф – предполагаемый отец Зюсса, имперский генерал-фельдмаршал, рыцарь Тевтонского ордена, известный своими победами во время австро-турецких войн. В начале 90-х гг., во время войны с Францией, являлся комендантом крепости Гейдельберг и сдал ее неприятелю. Приговор и помилование Гейдерсдорфа, очень точно описанные Фейхтвангером, относятся к 1693 г.
(обратно)50
Симон бен Иохаи – один из родоначальников каббалистики, предполагаемый автор книги «Зогар». Жил в Галилее во II в. н. э.
(обратно)51
Слава в вышних богу! (лат.)
(обратно)52
Арндт Иоганн (1555–1621), Шпенер Филипп-Якоб (1635–1705), Франке Август-Герман (1663–1727) – лютеранские писатели, теологи и мистики, выступавшие против ортодоксального лютеранства. Шпенер был одним из основателей пиетизма.
(обратно)53
Папский орден «Pour le merite» (франц. – за заслуги), имевший форму восьмиконечного креста; такой крест служил также отличительным знаком Мальтийского рыцарского ордена и потому назывался мальтийским.
(обратно)54
Подлинное анонимное сочинение, один из многочисленных памфлетов против Зюсса, напечатанный в Вюртемберге в виде «летучего листка». Эндорская цыганка – иронически-пародийное переименование упоминаемой в библии эндорской колдуньи.
(обратно)55
Омфала – легендарная царица Лидии. Согласно мифам, ей был продан в рабство Геракл, который скоро был очарован Омфалой. Ради нее он сбросил свою львиную шкуру и доспехи, облекся в женское платье, прял в кругу рабынь и угождал всем прихотям своей госпожи. Улисс (Одиссей) – герой древнегреческого эпоса. Возвращаясь домой с Троянской войны, Одиссей попал к волшебнице Цирцее. Желая задержать Одиссея, Цирцея превратила его спутников в свиней. Одиссей, однако, сумел не поддаться чарам волшебницы и в конце концов убедил ее отпустить его вместе со спутниками, снова получившими человеческий облик, на родину.
(обратно)56
Бедный Конрад – название крестьянского союза, возглавившего антифеодальное движение в Германии накануне Великой крестьянской войны 1525 г. Союз Бедного Конрада возник в 1503 г. в Вюртемберге и в 1514 г. организовал большое восстание. Оно было жестоко подавлено вследствие коварной политики герцога Ульриха Вюртембергского и измены представителей городской буржуазии.
(обратно)57
Самаил (древнеевр. «яд бога») – по талмудическим представлениям, верховный демон или ангел смерти.
(обратно)58
кончено (итал.)
(обратно)59
то же самое (лат.)
(обратно)60
Перифраз слов «Ты победил, галилеянин!», по преданию произнесенных перед смертью римским императором Юлианом Отступником (331–363), пытавшимся вернуть Рим от христианства к прежней языческой религии. Христианство к тому времени стало мощной идеологической силой, и Юлиан сам осознал безнадежность своей попытки бороться против нового бога – Христа или Галилеянина.
(обратно)61
чего бы то ни стоило (франц.)
(обратно)62
честное слово (франц.)
(обратно)63
честное слово (франц.)
(обратно)64
Этот документ, так называемый «абсолюторий», существовал на самом деле и фигурировал в процессе против Зюсса.
(обратно)65
Гракх, Гармодий и Аристогитон, Марк Юлий Брут – имена древнегреческих и римских борцов против тиранов. Гракхи Тиберий и Гай возглавляли в древнем Риме во II в. до н. э. борьбу за демократическую реформу. Гармодий и Аристогитон – граждане Афин, составили в 514 г. до н. э. заговор с целью убийства тиранов Гиппия и Гаппарха. Марк Юний Брут (85–42 гг. до н. э.) – римский политический деятель, борец за республику. Участник заговора против Юлия Цезаря и один из его убийц.
(обратно)66
в делах политических (лат.)
(обратно)67
Прощай, Людовик Четырнадцатый! (франц.)
(обратно)68
Ионатан Эйбешютц (1690–1764) – известный талмудист, каббалист и еврейский общественный деятель. Славился разносторонней образованностью. Его враги обвинили его в различных отступлениях от правоверной иудейской религии, в увлечении каббалистикой и в тайном признании проклятого раввинами лжемессии Саббатая Цеви. Эйбешютцу в течение шести лет грозило отлучение, хотя его так и не решились предать анафеме. Борьба вокруг дела Эйбешютца расколола на два враждебных лагеря евреев большинства европейских стран. Вся эта полемика происходила уже после событий, описанных в романе.
(обратно)69
Якоб Гершель Эмден (1696–1776) – амстердамский раввин, один из вождей ортодоксального еврейства и главный противник Ионатана Эйбешютца. Именно Эмден обвинил Эйбешютца в связях с преследуемой раввинами сектой саббатианцев.
(обратно)70
Саббатай Цеви (1626–1676) – фанатик, объявивший себя мессией, пришедшим спасти еврейский народ и восстановить его былое величие. У Саббатая Цеви нашлось множество сторонников среди евреев, и саббатианское движение охватило разные страны Европы и Малой Азии, несмотря на осуждение и проклятие раввинов. В 1666 г. Саббатай со своими последователями отправился в Константинополь, чтобы свергнуть турецкого султана и стать царем Палестины. Там он был схвачен и посажен в тюрьму. Султан угрожал ему расстрелом, но Саббатай, потерявший все свое мужество, согласился перейти в магометанство и был помилован. После этого большинство сторонников от него отреклись. Однако в отдельных странах продолжала существовать секта саббатианцев, культивировавшая различные каббалистические теории и придававшая переходу Саббатая в ислам особый мистический смысл. По примеру своего учителя многие саббатианцы переходили в магометанство.
(обратно)71
Франкисты – последователи польского еврея Якова Франка (1726–1791), ревностного последователя саббатианского движения. Франк стал во главе секты саббатианцев в Турции и начал утверждать, что душа Саббатая переселилась в него. С 1755 г. он перенес центр саббатианского движения в Польшу, где его последователи стали называться франкистами. Столкнувшись с двойным преследованием со стороны властей и представителей еврейских общин, франкисты во главе с самим Франком перешли в католичество и зачастую помогали гонителям евреев.
(обратно)72
«Зогар» (древнеевр. «сияние») – главный литературный памятник каббалистического учения. Возник в XIII в. По форме представляет собой особые мистические комментарии к Пятикнижию Моисея (Ветхий завет). Главная идея Зогара – непостижимость божества и рассмотрение всего сущего как проявления божественного начала (абсолютное тождество мира и бога).
(обратно)73
спазм диафрагмы (лат.)
(обратно)74
застой крови вследствие ее излишка (лат.)
(обратно)75
Мицраим – библейское название Египта.
(обратно)76
Семирамида – легендарная царица Ассирии, образ богатой и могущественной правительницы. Елизавета (1709–1761; правила с 1741 г.) и Екатерина II (1729–1796; правила с 1762 г.) – российские императрицы. Употребление этих имен – явный анахронизм Фейхтвангера.
(обратно)77
Что делать, господа? Что делать? (франц.)
(обратно)78
Герцог Рудольф Нейенштадтский (1667–1742) – с 1737 по 1738 г. был опекуном малолетнего герцога Карла-Евгения, старшего сына Карла-Александра. Его биография и события его опекунства изображены Фейхтвангером в полном соответствии с историческими фактами.
(обратно)79
медико-хирургическое заключение (лат.)
(обратно)80
осмотра обнаружено (лат.)
(обратно)81
полипа и т. д. (лат.)
(обратно)82
спазм диафрагмы (лат.)
(обратно)83
вследствие врожденной атонии и слабости к застою крови… (лат.)
(обратно)84
легкие (лат.)
(обратно)85
Мальборо, герцог (1650–1722) – английский полководец и политический деятель. Командовал английскими войсками в Европе во время войны за испанское наследство (1702–1711).
(обратно)86
Имеется в виду Фридрих Второй, прозванный «Великим» (1712–1786; правил с 1740 г.).
(обратно)87
Покойся с миром! (лат.)
(обратно)88
Увы, увы! (франц.)
(обратно)89
Дорогая моя! Дорогая моя Магдален-Сибилла! (итал.)
(обратно)90
Имеется в виду Георг Второй (1686–1760; правил с 1727 г.); его отец, ганноверский курфюрст Георг-Людвиг, будучи последним отпрыском английской династии Стюартов (и то по женской линии), в 1714 г. занял престол Великобритании. Ганноверы были всегда послушными игрушками в руках парламента.
(обратно)91
Аман – библейский персонаж, любимец и министр персидского царя Артаксеркса и заклятый враг евреев.
(обратно)92
"Восстановленная невиновность Ремхингена» (лат.)
(обратно)93
Элеазар – библейский персонаж, верный слуга Авраама, которому он поручил выбор супруги для своего сына.
(обратно)94
Описание виселицы и всей процедуры казни Зюсса в романе точно соответствуют фактам.
(обратно)95
глас народа (лат.)
(обратно)96
Гадина! (франц.)
(обратно)
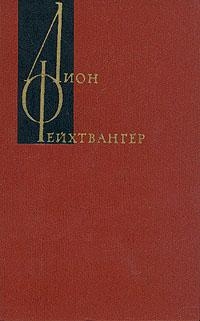



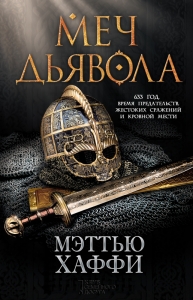
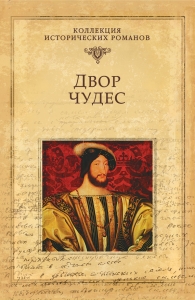

Комментарии к книге «Еврей Зюсс», Лион Фейхтвангер
Всего 0 комментариев