В ту темную зимнюю ночь Оренбург был накрыт звездопадом. Черное небо сделалось пестрым от несмети ярких брызг, вдруг вспыхнувших над головами и стремительно понесшихся вниз, к земле, расчеркивая весь небесный полог длинными, режущими глаз линиями. Обыватели просыпались встревоженно и приникали к окнам: к чему бы такой звездопад, а? Что он означает, что сулит?
Одни считали, что это знамение – к добру, другие – совсем наоборот. Народ разбился на половины, не согласные друг с другом… Ясно было одно – надо ждать перемен. Только вот каких? Перемен к лучшему никто уже не ждал: в сведениях, приходивших с полей русско-германской войны, было много неутешительного. Оренбуржцы в изменения не верили и опасливо переглядывались друг с другом:
– Неужели нам немаки все-таки завернут салазки?
Германцев в ту пору вся Россия дружно звала немаками: «немки» и «немаки».
На фронте шли непонятные волнения. Вести об этих волнениях в тыл привозили дезертиры. Их отлавливали, иногда, если они оказывали сопротивление, клали на землю выстрелами из казачьих карабинов, потом зарывали за кладбищенской оградой в наспех выкопанных неглубоких могилах и не ставили там никаких столбов. Дезертиры все чаще и чаще появлялись в Оренбурге…
В мире происходило нечто такое, чему не было объяснения.
На следующий день после звездопада оренбуржцы поспешили в «брезентовый цирк» – туго натянутый шатер-шапито, поднявшийся недалеко от войскового собора. Устроители цирковых представлений обещали показать казакам настоящий «судебный поединок» – старую забаву, драку, корнями своими уходившую едва ли не к поре Рюриковичей. «Брезентовый цирк» был полон.
Знатоку и ценителю отечественной истории войсковому старшине Дутову, «судебный поединок» был интересен не столько выяснением, кто кому расквасит нос, сколько техникой, – наполовину, а пожалуй, что и на две трети забытой техникой кулачного боя. Дутов понимал толк в кулачных боях: в молодости, случалось, и сам участвовал в потасовках, когда в степи, засыпанной снегом, одна ватага с громкими криками надвивалась на другую.
Войсковой старшина сидел угрюмый, наклонив коротко, чуть ли не наголо остриженную голову и положив руки на старую шашку, будто на клюку. Судя по темному цвету его сильного, какого-то медвежьего лица и непонятной острой печали, застывшей в проницательных глазах, был он чем-то озабочен.
Мимо по проходу проследовали два кадета, при виде Дутова испуганно вытянулись, прижали ладони к бедрам, перешли на строевой шаг, затем исчезли в сумраке, видимо, усевшись на одну из лавок, поставленных вокруг небольшой, засыпанной опилками арены.
Через несколько минут зажглось несколько больших фонарей, свет от них падал на арену. Из-за небольшого занавеса, прикрывавшего вход за кулисы, появился плечистый человек с рельефным торсом и длинными волосатыми руками. Выйдя на середину и с трудом согнув могучую толстую шею, он коротко поклонился. В рядах негромко похлопали, на лице вышедшего к зрителям бойца возникла разочарованная улыбка – он считал, что аплодисменты должны быть дружнее, громче.
Снова колыхнулся занавес, и с другой стороны вышел второй боец – низенький, чернявый, с узкими жгучими глазами и белозубым ртом. Этому бойцу похлопали сильнее – он был симпатичнее первого, много улыбался и кланялся ниже.
Через несколько минут бойцы сошлись в поединке.
Высокий плечистый боец уступал узкоглазому – похоже, калмыку – в проворстве, в умении наносить крепкий резкий удар. Калмык впечатывал кулаки, то один, то другой, в мускулистое тело противника, будто некую деталь, угодившую под заводской пресс, – те сами прилипали к мышцам, плющили их.
Уступал плечистый и в технике – та у него была боксерской: для того, чтобы удар стал резким, сильным, в движении он доворачивал кулак. Калмык же действовал по старинке, будто во времена царя Алексея Тишайшего: доворачивал не кулак, а локоть. И, как приметил знаток старины Александр Ильич Дутов, удар от этого получался точнее, убойнее – если в него добавить чуть-чуть мускульной мощи – так и здоровенный бык слетит с катушек, только копыта взметнутся вверх…
Вот плечистый боец приблизился к противнику, зверски ощерил зубы, хакнул, вышибая из грудной клетки воздух, чтобы в теле не осталось пустот. Калмык тоже хакнул, но не так устрашающе – и вдруг нанес резкий удар. От свиста кулака в рукавице, кажется, провис брезентовый шатер. Народ даже забыл о семечках и перестал материться.
Молодые горячие парни – завтрашние солдаты – повскакивали со своих мест. Они болели за плечистого:
– Бей его!
Узкоглазый, услышав этот крик, лишь усмехнулся, сделал неуловимое движение корпусом, уклонился буквально «на чуть», и кулак соперника просвистел мимо. Сам же калмык не растерялся, драгоценного мига не упустил, саданул противника коротким ударом под мышку – у того, кажется, только печень гулко хлобыстнулась внутри. Плечистый охнул и согнулся в поясе. Калмык добавил ему еще.
– Э-э-э! – разочарованно протянули, садясь на скамейки, горячие парни, и дружно добыли из тужурок семечки – только шелуха в разные стороны полетела.
Третьего удара калмыку нанести не удалось – плечистый боец сделал резкий скачок в сторону, разом становясь похожим на опасного зверя. Он проехался ногами по опилкам и, развернувшись лицом к противнику, выставил перед собой кулаки, обтянутые рукавицами.
– А-а-а! – одобряя, дружно заревели парни. – Молодца!
Плечистый мазнул рукавицей по воздуху, зацепил калмыка, потом нанес второй удар, за вторым – третий. Он на расстоянии пытался устрашить калмыка, но у того эти простые движения вызывали лишь недоуменную улыбку.
Калмык переместился по арене в сторону и встал в стойку, согнув колени и выставив перед собой крупные, в порезах и шрамах руки. Теперь узкоглазый работал голыми руками, не боясь ободрать себе мослы, самоотверженно бросаясь на противника, как петух, решивший завоевать весь мир и потоптать не только хохлаток, но и прочую каркающую, крякающую, курлычущую, гогочущую живность, и это нравилось собравшимся.
Плечистый физически был сильнее калмыка, но тот брал ловкостью, стремительными бросками, напором. Литое приземистое тело его поблескивало от пота, гладкая кожа, напрочь лишенная волос, лоснилась. Иногда он показывал в доброжелательной улыбке белые чистые зубы, следующий же миг улыбка исчезала, на лице проступало свирепое бойцовское выражение.
Дутов хорошо видел промахи плечистого. Немногочисленные, они были удручающе однообразны, повторялись один за другим, и это наводило на мысль, что плечистый – слабый боец, который ошибочно полагает, раз сила есть, ума не надо… Калмык в этом отношении являлся экземпляром куда более любопытным. И техника у него была разнообразнее, и двигался он легче, и дышал не столь шумно, запаренно, и как молот работал, что одним кулаком, что другим. Дутов внимательно наблюдал за калмыком, широкоплечий сделался ему неинтересен.
Вот калмык приподнял одну руку, обнажив свое слабое место – бок. По нему можно врезать так, что почки отвалятся, а боец задохнется от боли. Дутов даже чуть не выкрикнул: «Что же ты делаешь-то?», но в следующий миг понял, что калмык сделал это специально – он заманивает противника, берет его на крючок, проверяет, клюнет тот на хитрую наживку или нет?
Плечистый кругом обошел калмыка, методично выкидывая перед собой кулак в рукавице, пробуя, что называется, воздух. Калмык, подставляя противнику неприкрытый бок, – дразнил его, опасно дразнил… Плечистый не выдержал, пошел на сближение – и тут же получил скользящий удар по подбородку, чуть не вывернувший ему челюсть. Он шарахнулся назад, но опоздал – калмык добавил ему еще пару ударов, а потом прыгнув вперед, ухватил за шею и резким движением заставил противника трижды развернуться вокруг своей оси.
С грохотом плечистый шлепнулся на арену, в опилки, взбив ворох влажной древесной каши. Потом поспешно вскочил и, глянув на рефери – смешного человечка с рыжими бакенбардами, в клетчатых гольфах, плотно обтягивающих кривые ноги, и с желтыми, как у совы, глазами, – положил правую руку себе на грудь и поклонился калмыку. Калмык, по лицу которого пробежала недоверчивая тень, поклонился ответно. Судья поспешно сунул в губы свисток, дунул в него, объявляя перерыв.
Калмык нехотя отошел в сторону. Дутов оценивающе поглядел на него: боец ему нравился.
Дутов достал из кармана серебряный «мозер». Это был подарок отца-генерала к первому воинскому успеху сына – лычкам, которые тот нацепил на юнкерские погоны. Старые часы уступали другим часам Дутова – роскошным, золотым, украшенным бриллиантами, но иногда ему хотелось вспомнить прошлое, почувствовать себя беззаботным кадетом. Горло сдавливало что-то тоскливое, и он начинал бороться с собою, с внутренней маятой. Иногда ему удавалось справиться с ней быстро, иногда же на это уходило много времени и сил – старшина злился, ругался матом, а выругавшись, оглядывался настороженно, не услышал ли кто.
Он щелкнул крышкой «мозера», привычно скользнул взглядом по циферблату: пора бы начинать вторую часть поединка.
Конечно, знаменитые кулачные бои, про которые когда-то писал Лермонтов в «Песне про купца Калашникова», – это совсем не то, не схожее с «судным поединком», которым потчевали оренбуржцев сегодня… Даже приветствие бойцов стало иным, хотя внешний рисунок сохранился старый.
Раньше, уходя на перерыв, кулачники – обозленные, горячие и мокрые от пота, поклонами не обменивались, а просто устало удалялись в разные углы бойцовского круга – делали это, словно не замечая друг друга, но и не выпуская соперника из поля зрения ни на мгновение. Сейчас же поклонами обмениваются, как наманикюренные дамочки, скоро, наверное, целоваться будут… Дутову сделалось неприятно, он будто ощутил прикосновение липкой паутины к лицу и недовольно дернул головой.
По косому проходу, ведущему к арене, вдоль лавок, шел корнет со щегольскими черными усиками и внимательно оглядывал ряды. Дутов, словно почувствовав это, обернулся, позвал корнета негромким голосом:
– Климов!
Корнет растянул губы в обрадованной улыбке:
– Господин войсковой старшина! Александр Ильич!
– Что-нибудь случилось?
– Юнкера младшего курса подрались.
Брови на лице Дутова взлетели, плотная кожа на шее сделалась красной.
– Ну и что? – спросил он.
– Как что, как что? Это же непорядок!
– Ну и что? – вновь повторил вопрос войсковой старшина.
Климов мигом вспотел. Хотел было расстегнуть крючки на вороте синего фирменного кителя, но отдернул руку:
– Они же могут покалечить друг друга.
Дутов отрицательно покачал головой:
– Никогда. В кулачных боях люди не калечат друг друга…
– Это что же, Александр Ильич, драчунов не надо наказывать?
– Не надо.
В это время на арене, взбив опилки ботинками, появился плечистый боец, приложил руку к груди и поклонился публике. В неприятной, острой тишине раздались хлопки – нестройные, жидкие, больше из вежливости, чем из преклонения перед его мастерством. Плечистый нагнул шею еще раз, и аплодисменты смолкли совсем.
Собственно, калмыку аплодировали также вяло.
Дутов поднял голову. Корнет Климов продолжал стоять над ним с недоуменным лицом. Кончики его усов обиженно дергались. Заметив в передних рядах кадетские мундиры, Климов приподнялся на носках и ткнул пальцем:
– А эти огольцы что тут делают?
– Смотрят представление.
– Кто им разрешил?
– Считайте, что я разрешил, – спокойно произнес Дутов. – Идите, Климов, – холодным голосом посоветовал он, – не стойте над душой. И там, где нет греха, не ищите его.
Климов, скрывая досаду, козырнул и, бряцая шпорами, стал пробираться по длинной пустой дорожке к выходу.
Тем временем бойцы сошлись вновь. Плечистый стремительно подступил к калмыку, нанес ему два удара кулаком. Удары были резкие и, казалось бы, отбиться от них невозможно, но калмыку удалось оба раза на сотую долю мгновения опередить их, и на потном лице плечистого каждый раз возникало удивленное выражение: он не мог поверить, что не достиг цели.
Плечистый боец снова нанес два удара, очень быстрых, один за другим, почти слившихся вместе, – они были как дуплет, уйти от которого немыслимо, – плечистый даже выкрикнул что-то победно. Но калмык и от них ушел. Кулаки соперника вновь только впустую разрубили воздух. Он сморщился, застонал от досады, однако, заметив, что узкоглазый собирается его атаковать, проворно отпрыгнул в сторону и замер на мгновение, выставив перед собой кулаки. Калмык тоже замер…
Это противостояние продолжалось несколько секунд. Плечистый вновь выкрикнул что-то гортанное, победное – криком подбадривая себя, – и прыгнул вперед. Калмык достойно встретил атаку… Плечистый словно бы в бревно всадился. От боли здоровяк изумленно распахнул рот, с его губ сорвался и лопнул пузырь, а в следующий миг он полетел в опилки. В полете широкоплечий ловко развернулся, выбросил перед собой руку и, будто опытный гимнаст, едва коснувшись ею пола, тут же вновь очутился на ногах. Дутов одобрительно наклонил голову: грамотно сработал.
Через мгновение калмык нанес легкий, почти неприметный, удар плечистому в шею, тот крякнул, влетел грудью в опилки, но в следующую секунду вновь оказался на ногах. Дутов вторично одобрительно наклонил голову: наконец-то этот человек начал разумно драться.
Здоровяк снизу бросился на калмыка, ударил. Тот, уходя от атаки, изогнулся – хотел увернуться, но не успел. Мгновенно побелевшие губы его распахнулись, захватили немного воздуха, но недостаточно, чтобы погасить боль в легких, и он чуть не задохнулся от ошпаривающего ожога – будто кипятком облили. «Умело, очень умело», – оценил ход плечистого Дутов.
Калмык, гася боль, переместился к краю арены и, когда противник ринулся за ним вслед, ушел в сторону. Парни на скамейках возмущенно завыли – им не понравилось, что узкоглазый решил улизнуть от стычки. Вой подстегнул калмыка, он выпрямился, стиснул зубы, и бросился к плечистому. В следующее мгновение тот полетел в опилки – удар противника пришелся ему точно по подбородку.
Калмык вскинул над собой обе руки. Но плечистый стремительно вскочил, тут же шлепнулся вновь, и снова поднялся на ноги. Воля к победе, упрямство понравились зрителям, они захлопали ему.
Дутов огляделся. Многие из тех, кто сидел в шатре, наверняка, даже не представляют, что раньше на Руси проходили не только «судные поединки» – драки до первой крови, но и бои с медведями. Вот это были зрелища!
Разъяренный медведь, которому минут за десять до поединка изрядно трепали задницу меделины и мордаши – собаки особой породы, не боящиеся косолапых, – очутившись один на один с человеком, не упускал из виду ни единого перемещения противника, расправлялся с двуногим «венцом природы» безжалостно. Медведи ломали людям хребты, кожу с головы сдирали чулком, а глаза выковыривали из черепа когтями-крючьями. Однако и косолапые, если ошибались, шансов уйти назад, в лес, не имели. Очень часто боец насаживал мишку на рогатину, как кусок мяса на вертел, либо молотил хрюкастого дубиной, а потом бросался на него с ножом и вспарывал тому брюхо…
Кто-то с передних скамеек, где сидели рабочие парни, крикнул:
– Кровь!
Но крови не было. Ни у калмыка, ни у плечистого. Всем известно, что кулачный поединок прекращается, когда у одного из противников появляется кровь, либо он падает на арену и никак не может с нее подняться. В таких поединках лежачих не бьют вообще.
Плечистый, загребая ногами опилки, прошел несколько метров по кругу, уходя от противника вправо, калмык за ним.
Сидевший рядом с Дутовым купец в красной дешевой рубахе, на которую был натянут старый, с вытертыми рукавами пиджак, перегнулся к войсковому старшине:
– Господин полковник, не желаете ли сделать ставку на кого-нибудь из бойцов?
– Не желаю, – ответил Дутов, не поворачивая головы.
– Напрасно, – огорчился купец, – не то сгородили бы по маленькому интересу.
Дутов напрягся, уперся взглядом в пол. Купец вздохнул и обратился к соседу слева от него, бойкому малому в картузе, в пиджаке, карманы которого были плотно набиты семечками:
– Ну что, кинем по маленькой, а? На бойцов… Кто кого возьмет.
– Давай, – согласился малый.
– Выбирай. На кого хочешь поставить?
– Да вот на этого, мордастого.
– Крепкий вояка, – одобрил его выбор купец. – Поскольку сбрасываемся?
– По красенькой.
По красенькой – значит, по червонцу, одной ассигнацией.
– Давай добавим еще по синенькой, – предложил купец. – Годится?
С синенькой «пятеркой» выходило итого пятнадцать рублей.
Малый, будучи доволен тем, что удалось сделать ставку на сильного бойца, а купец не стал сопротивляться и поставил на слабого, был уверен в выигрыше. Он усмехнулся, произнес громко: «Годится!» и, сдернув с головы картуз, следом за купцом швырнул в него пятнадцать рублей.
Купец блефовал, пользуясь глупостью малого: шансов выиграть у плечистого не было. Это было видно невооруженным взглядом. Дутов отвернулся – не любил дураков, а еще больше не любил, когда дураков обманывали умные.
Плечистый тем временем снова провел атаку на калмыка. Два удара достигли цели, и калмык очутился на опилках. Публика заревела. Больше всего ревел соперник купца по пари – только подсолнуховая скорлупа летела в разные стороны:
– Знай наших!
Купец на этот рев никак не реагировал – лицо его хранило вежливое безразличие.
Калмык не успел подняться на ноги – на него сверху грузной копной навалился плечистый. Узкоглазый застонал, но нашел в себе силы вывернуться, и через несколько мгновений насел на плечистого. Собравшиеся снова зашлись в реве – они поддерживали сильного.
Плечистый согнулся низко и с маху саданул головой калмыка, будто врезал бревном. Тот ахнул сдавленно, отпрыгнул в сторону, ошалело закрутился на одном месте, но устоял на ногах. Потом веретеном прошелся по арене и нанес спаренный удар противнику, который не успел увернуться, согнулся вдвое и, выставив перед собой кулаки, задом отъехал к краю арены.
Дутов неожиданно подумал о том, что такой же азарт рождали у публики менее жестокие, шапочные бои, ведь ловкости они требовали невероятной – крутиться нужно было волчком, чтобы сохранить на голове шапку.
Плечистый не имел таланта нападать, строить комбинации, наносить разящие удары, но обладал даром подражательства, перехвата приемов. Вот он и позаимствовал у калмыка манеру уходить от нападения, от прямых и кривых пробросов противника, – и теперь успешно использовал ее.
Дутов вглядывался, щурил глаза, пальцем оттягивал краешек века, так как слышал, что зрение тогда обостряется, и все предметы становятся четкими. Однако так и не засек момент, когда удары калмыка сделались ослабленными. Может, плечистый обладал гипнотическим даром? Если это заметит рефери, то под брезентовым куполом запахнет жареным.
Проворно переступая ногами, хрипя, – со стороны казалось, что хрип этот исходит от бойцовской злости, но шел он от усталости, – калмык снова приблизился к противнику. Воздух разрезали удары кулака. Калмык ощущал, что лишь касается тела плечистого, но дальше его не пробивает, словно рука зависает в воздухе. Это вызывало раздражение: противник – чего не было в начале поединка – очень ловко уходил от ударов. Такие бойцы попадались калмыку и раньше. Рецепт был только один – изматывать их.
Противник, уловив сбой в его дыхании, незамедлительно пошел в атаку. Люди на скамейках загомонили – атаки калмыка почему-то волновали их меньше, чем силовые броски плечистого. Вот народ! Дутов помял пальцами костяшки на правом кулаке, вздохнул – ему неожиданно самому захотелось встать в бойцовский круг, взмахнуть кулаками, как это не раз бывало когда-то в детстве…
Бойцы, мелко перебирая ногами, двинулись по краю арены вначале в одну сторону, потом в другую, – непонятно, кто от кого уходил, то ли плечистый от калмыка, то ли калмык от плечистого… Пахло потом, карболкой, плохим хозяйственным мылом, самосадом – в сумраке зрительской массы кто-то нервно потягивал из кулака самокрутку…
Кадеты, сидевшие впереди, вели себя чинно, не галдели, не размахивали руками подобно восторженным кухаркам – они затылками и лопатками ощущали, что сзади сидит строгий воспитатель юнкерского училища, который запросто может свернуть им шеи. Впрочем, сам Дутов воспитателем себя уже не считал – уходил на фронт… Он снова помял костяшки кулака.
Затяжная борьба, развернувшаяся на арене, потеряла свою остроту, сделалась неинтересной. По проходу к дверям потянулись люди. Дутову тоже следовало бы уйти – свободного времени не было – но он даже не сдвинулся с места.
Калмык неожиданно сделал обманное движение, увлек плечистого в сторону, выкрикнул что-то горласто, воинственно – невнятный крик не разобрал никто. В следующее мгновение он нанес левой рукой резкий, сильный удар. Плечистый среагировал вовремя. Успел он ответить и на второй такой же, а вот третий проворонил. Весь цирк, все ряды от первого до самого последнего, расположенного наверху, под крышей, услышали смачный громкий звук, будто бревно всадилось торцом в тугую бычью тушу.
Плечистый отлетел в сторону, заметелил руками, но на ногах устоял, – это далось ему с трудом, – и развернулся лицом к противнику. Рот его изумленно распахнулся, наружу вывалился распухший, в пятнах крови язык, глаза полезли из орбит. Ряды затихли – метаморфоза была слишком неожиданной – плечистый промычал что-то невнятное, ноги, которые только что держали его, подогнулись и он рухнул на пол, лицом в опилки.
Несколько мгновений собравшиеся сидели молча – видимо, слишком неожиданным был исход показательного «судебного поединка», а потом словно бы гром обрушился из-под высокого брезентового купола – загрохотали аплодисменты. Победа калмыка была чистой.
Некоторое время победитель стоял недвижно, исподлобья разглядывая аплодирующие ряды, словно хотел понять, зачем люди отбивают себе ладони… Потом тихо, как-то несмело улыбнулся и поклонился публике.
Кадеты, сидевшие впереди, оглянулись на Дутова – поднялся войсковой старшина со своей скамейки или нет. Тот продолжал сидеть и отрешенно поглядывал на калмыка, не аплодировал. Затем, как будто вспомнив о чем-то, неспешно хлопнул в ладони один раз, другой, третий… Услышав неторопливые хлопки начавшего рано грузнеть войскового старшины, кадеты вжали головы в плечи и также зааплодировали… Хлопали и оглядывались на Дутова.
Дутов поймал взгляд калмыка, удивился, что тот смотрит на него – видимо, зрение у бойца было, как у беркута, – и поднял руку, приветствуя калмыка. Победитель ответил тем же.
Война на западе шла уже давно. Вначале – с успехом для русских войск: немцев в первые месяцы теснили на всех фронтах так, что у них даже шишаки с касок отваливались – великий князь Николай Николаевич [1] умело руководил войсками. Потом удача отвернулась от России. Николай Николаевич был отправлен на Кавказский фронт поправлять здоровье виноградом свежего урожая, его место занял сам государь, человек интеллигентный, немногословный, мягкий, но совершенно невоенный – положение на фронтах начало стремительно ухудшаться.
Прошло немного времени, и настал черед запускать руку в «заначку», выгребать оттуда свежие полки, формировать новые дивизии. С одной из таких дивизий собирался уйти на фронт и войсковой старшина Дутов. Последнее время ему было тяжело находиться в Оренбурге – жизнь тут казалась пресной, на горло что-то давило, мешало дышать, в сердце часто возникала далекая боль, вызывая тревожные мысли.
Иногда на улице Дутов ловил на себе чей-нибудь удивленный взгляд, в глазах незнакомых людей читал немые вопросы: почему этот крепкий войсковой старшина находится в тылу, а не на фронте, что делает здесь, среди дамских юбок и хромых перестарков, обсуживающих лошадей и ремонтирующих дырявые телеги? Тогда Дутов невольно морщился, отводил в сторону потемневшие от досады глаза и старался думать о чем-нибудь постороннем. Он увлекался историей, изучал биографии римских полководцев, собирал справочники, в которых были сведения о битвах русских воинов с иноземцами, сочинял пространные трактаты, поскольку имел тягу к писательскому делу, обменивался посланиями с членами общества любителей истории, живущими в других городах.
Хотя у Дутова были дела в училище, он решил эти хлопоты на время отложить и, выйдя из дома, глянув на запаренное августовское небо, прыгнул в пролетку.
– Давай в казармы! – скомандовал он возчику.
В казарме формирующегося конного пополнения оказалось шумно, в коридоре толпились казаки, то и дело раздавались возбужденные выкрики.
Подойдя ближе, Дутов глянул в круг и неожиданно увидел калмыка, того самого, что вчера так лихо разделался на цирковой арене с противником. Калмык, улыбаясь белозубо, показывал тяжеловесному, с висячими хохлацкими усами казаку приемы, которые могут пригодиться всаднику, если тот, потеряв коня, спешенным схлестнется с германцем.
– Германец очень боится косого кулака, – втолковывал калмык казаку, – не когда удар идет в нос, либо в глаз, а именно нанесенного сбоку… – Вот какой, – калмык повысил голос…
Он чуть согнул колени, присел, и в то же мгновение кулак его со скоростью молнии метнулся к лицу вислоусого – челюсть у казака сдвинулась в сторону, обнажив страшноватый, в белой, обрамленной черными жилами, налепи. Вислоусый запоздало ойкнул и тихо повалился на пол. Калмык удержал его, спросил, белозубо улыбаясь:
– Ну как?
Казак ошеломленно потряс головой, отер рукой свои висячие, делающие его похожим на Тараса Бульбу усы:
– Давай попробуем еще раз.
– Давай, – засмеявшись, согласился калмык.
Казак раскорячился, раздвинул руки пошире, словно хотел обнять ствол гигантского дерева. Крякнул пару раз, – кряканье это подбадривало и придавало ему силы, – ощерил зубы, становясь похожим на цепного пса:
– Давай!
Через несколько мгновений вислоухий опять лежал на полу: калмык сделал неуловимое движение, выставил перед собой палец, а казак словно сам по себе наехал на этот палец и шлепнулся к ногам собравшихся. Лежа на полу, он покрутил головой неверяще и сплюнул:
– Вот нечистая сила!
Калмык прошелся глазами поверх голов:
– Кто-нибудь еще хочет попытать счастья?
– Я хочу! – вновь сплюнул поверженный казак.
Собравшиеся с сочувствием засмеялись:
– Ерему только бочка вина может остановить.
– Никак не могу понять, что за сила швыряет меня на пол, – пожаловался вислоусый, – и момент этот гадкий уловить не могу…
– И не уловишь, – казаки, стоявшие вокруг, захохотали доброжелательно, они сочувствовали своему товарищу, – это, брат, как молонья: вжик – и у мужика на штанах ни одной пуговицы нету, руками надо поддерживать, вжик еще раз – и ты совсем голый… Это и фокус и покус одновременно, разгадке сие не поддается.
Вислоусый, не поднимаясь на ноги, грохнул кулаком по толстой, тщательно выскобленной дежурным половице.
– Хочу попробовать еще раз, – заявил он.
– А пупок у тебя, Еремеев, не развинтится? – казаки перестали хохотать – в их среде не приветствовалось, когда кто-то «заводился». – Так можно и коня, и шашку продуть… Силы свои рассчитал?
– Выдюжу.
Еремеев засопел, поднялся с пола, крякнул привычно и вновь широко расставил ноги – занял боевую позицию. Калмык пружинистым шагом пошел вокруг него… Вислоусый трижды выкидывал перед собою руку, будто рак клешню, стараясь достать противника, но тот, тихо посмеиваясь про себя, легко уходил от удара.
– Ай, да Еремеев! – дружно ахали казаки. – Еще три попытки – и копыта у иноверца отлетят в сторону.
– Ветром его скорее сдует.
Вислоусый, подбадриваемый криками, сделал еще три удара – ровно три, но все они повисли в воздухе. Наконец, калмыку это сотрясение пространства надоело, он, изогнувшись едва приметно, сделал неуловимое движение, и вислоусый опять полетел на пол.
В это время к Дутову сзади подошел младший урядник – писарь формирующегося пополнения, – тронул за плечо:
– Ваше высокоблагородие!
Войсковой старшина покосился, глянул на писаря через погон:
– Ну?
– В штаб на ваше имя пришел секретный пакет.
– Принеси!
– Не могу! Пакет-то секретный. Вам надо расписаться в журнале.
На лице Дутова отразилась досада.
– Принеси пакет вместе с журналом, – велел он.
В глазах младшего урядника мелькнуло сомнение, но в следующий момент он приложил руку к козырьку фуражки и исчез.
В пакете не было ничего секретного: Дутову предписывалось оставить формирующееся пополнение и немедленно выехать на фронт в Первый Оренбургский казачий Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк.
Дутов не выдержал, улыбнулся довольно – в этом полку он когда-то уже служил, командовал сотней. Полк входил в состав знаменитой Десятой кавалерийской дивизии, начальником которой когда-то был граф Келлер [2] . Слава о графе была широко распространена по всей России. Более популярного кавалерийского командира на огромной территории от Гельсинфорса до Владивостока не было. Сейчас граф командовал на фронте корпусом.
Из второй части предписания следовало, что Дутову надлежит на фронте сформировать пеший дивизион. Идею создания в конных полках пеших дивизионов Дутов поддерживал: это гораздо лучше, чем спешивать сотни и заставлять казаков воевать, как обычную инфантерию. А такое происходило всякий раз, когда надо было держать оборону, либо брать какой-нибудь сложный рубеж, который невозможно перемахнуть верхом на коне…
Вислоусый тем временем поднялся и удрученно покрутил головой:
– Однако силен ты, паря, – сказал он.
– Еремеев! – строго окликнул вислоусого Дутов.
Тот вытянулся, прижал ладони к бедрам:
– Я, ваше высокоблагородие!
– За мной!.. И-и… – Дутов окинул взглядом калмыка с головы до ног, – ты тоже!
– Слушаюсь!
Только сейчас Дутов понял, что калмыка он знает давно, еще по тем временам, когда тот работал мальчишкой на побегушках у француза, преподававшего ученикам Неплюевского кадетского корпуса гимнастику. Преподавателем француз оказался слабым, вскоре переместился в реальное училище, а потом и вовсе исчез. А калмык прижился в Неплюевском корпусе, затем поступил на работу к заезжим циркачам и отбыл с ними на гастроли. Пропадал он целую вечность и появился в Оренбурге лишь недавно, на кулачных боях в цирке. Дутов не сразу, но вспомнил его фамилию – Бембеев.– Драться где так ловко научился? – спросил Дутов у него, хотя можно было и не спрашивать – понятно, где тот осилил эту науку. – У циркачей?
– У кулачных бойцов, господин войсковой старшина.
– Значит, у циркачей. Простому человеку эта наука не нужна.
Калмык понимающе улыбнулся, наклонил голову – жест был неопределенный: то ли тот соглашался с Дутовым, то ли, наоборот, протестовал.
– Простой человек вывернет кол из изгороди и начинает действовать им, как дубиной, – добавил Дутов.
Бембеев вновь неопределенно наклонил голову.
– А пятак согнуть сможешь? – спросил у него Дутов.
Отрицательно качнул головой калмык:
– Нет, – я не силой беру, а техникой. Приемами.
– М-да, – прорычал Еремеев, вытер широкой ладонью потное лицо, – тебе волю дай, ты одним пальцем всю казарму перещелкаешь.
Калмык вновь улыбнулся, но ничего не сказал. Он вообще предпочитал меньше говорить и больше молчать.
– Зачем мы потребовались вам, ваше высокородие? – полюбопытствовал Еремеев.
– Пришел приказ: меня отзывают из этого пополнения… Я уеду на фронт раньше. Через три дня отбуду…
– Возьмите нас с собою, – попросился Еремеев.
– Вот об этом-то и речь. Вас я зачисляю в свою команду.
Но надо набрать, как минимум, десять человек. На фронте, в Первом Оренбургском полку, нам надлежит сформировать пешую охотничью команду.
– Один такой человек у меня есть, хоть сейчас уйдет с нами, – сказал Еремеев, – Сенька Кривоносов.
– Надежный?
– Очень, ваше высокоблагородие!
– Одного человека мало. Десять, даже пятнадцать – вот сколько нам нужно.
Еремеев ожесточенно поскреб пальцами затылок, вздохнул озадаченно.
– Пошукаем, ваше высокоблагородие, – пообещал он, вновь поскреб затылок. – Пойду Сеньку искать. Он – мужик опытный, головастый, в казарме побольше моего обретается – всех знает.
Рабочему человеку или крестьянину уйти в ту пору на фронт было просто – кинул в мешок лапти, либо ботинки, полбуханки хлеба, складной ножик, пару луковиц, тройку картофелин – вот солдат и готов к путешествию. Подхватил ноги в руки и – вперед! На фронте интендант выдаст форменную рубаху со штанами, сапоги или ботинки с обмотками, шинелишку и мерлушковую шапку. Оружейник торжественно вручит старую винтовку с расхристанным стволом, которая может пулять и влево и вправо – куда угодно, словом, – и пожалуйте в бой, господин солдатик…
Другое дело – казак. Казака собрать на фронт сложно, он едет на передовую со своим конем, со своим оружием, со своей амуницией и сбруей. Иногда последнее продает, чтобы не ударить в грязь лицом перед своими товарищами и иметь справную сбрую. Хоть и предстояло Дутову сформировать пешую команду, но казак, отправляющийся на фронт, даже если он будет там полковым парикмахером, обязан быть экипирован, как казак…
Так положено.
Вечером Дутов пошел к Неплюевскому кадетскому корпусу. Здание это примыкало к площади, на которой стоял губернаторский дом – огромный особняк, возведенный в николаевском стиле и окрашенный в серый цвет. Серый – очень практичный цвет, немаркий, ни дождь ему не страшен, ни солнце, ни снег…
Войсковой старшина смахнул со скамейки пыль и сел, подоткнув под себя полы плаща – здесь, на ветру, запросто можно застудить легкие и почки.
Оренбургский Неплюевский корпус. Хоть и считалось, что в нем учатся кадеты, а учащиеся кадетами не были. Во времена Александра Первого их называли военными гимназистами. Ныне же, при государе Николае Александровиче, и этого не осталось – военных гимназистов стали величать «подведомственными» – по принадлежности их к военному ведомству, и неплюевцы, как могли, протестовали против этого. Но ничего поделать не могли – роты в корпусе как назывались «возрастами», так и продолжали называться, на строевые занятия ходили «поклассно». В девять часов вечера свет гасили во всех помещениях корпуса кроме казармы, но и там вскоре все стихало и делалось темным – до шести утра, когда в коридоре начинал призывно петь горн, а барабанщик отбивал сухую стремительную дробь на небольшом, но очень звонком инструменте, обтянутом козлиной кожей…
Господи, в этом здании была, кажется, оставлена Дутовым половина жизни. Дутов неожиданно ощутил, как у него расстроенно задергалась щека.
Самой приметной фигурой у неплюевцев считался Пан – ротный дядька – красноносый человек без возраста. От плеча с погоном, твердым из-за вставленной в него фибровой пластинки, рукав его до обшлага был украшен золотыми шевронами… Пан столько лет находился на государевой службе, что годов этих уже и не сосчитать – потому-то на рукаве у него такое количество шевронов. По предположению некоторых, особо догадливых подведомственных гимназистов, Пан был ротным дядькой еще в пору, когда и Оренбурга не существовало в степи, – так что, сколько Пану лет, не знал никто.
На носу у Пана, когда он отчитывал какого-нибудь чересчур бойкого неплюевца, подрагивали крохотные, в золоченой оправе очочки; дядька протирал их таким захватанным платком, что они делались еще более мутными – лучше бы он протирал их пальцами… Больше всего на свете Пан любил собственные нравоучения. Голос у Пана был рассохшимся и напоминал разговор двух скрипучих половиц, очочки на его носу недовольно подпрыгивали, и старик перед собой выставлял, словно бы защищаясь, рукав с золотыми шевронами и скрипел, скрипел, скрипел…
С годами Пан не менялся, он и в пору, когда Дутов еще только пришел в корпус, был таким же, и двадцать лет спустя, когда молодой офицер уже завершил военное образование, закончив Академию Генерального штаба. Время щадило Пана. А может быть, просто забыло, о нем.
Два дня назад Дутов видел старика. Тот шел по тротуару, выкидывал перед собой клюку, будто слепой, и глухо роптал:
– Это что же такое творится? Кадеты совсем перестали быть кадетами, в господа офицеры совсем не готовятся… Им надо быть офицерами, им присягу Государю Императору давать, а они играют в догонялки, будто ученики частной гимназии.
Дутов с улыбкой проводил Пана глазами…
Звали Дутова в гимназии по-разному. Одни – Дутышем, как популярные коньки, другие – Теткой, третьи – Лукой, четвертые еще как-то, но большинство звало его просто Шуркой. Несмотря на отца генерал-майора, Дутов всегда и всем был друг и брат. Шурка Дутов делился последним, что у него было, мог постоять «на стреме», мог выручить и вне очереди вымыть пол в туалете. Отец его, лихой рубака, командовал головным полком в Оренбургском казачьем войске, имя его знали в каждой здешней станице.
Когда Дутов учился в Неплюевском корпусе, ему казалось, что время тянется очень медленно, почти не движется, а сейчас он был уверен твердо – годы, проведенные в Неплюевском кадетском корпусе, пролетели, как один миг. А ведь действительно было бы очень хорошо, если б они затормозили свой бег. Ни забот ведь не было, ни хлопот…
Неожиданно Дутов ощутил, как у него увлажнились глаза.
Он протестующе помотал головой, достал из кармана галифе платок, с трубным звуком высморкался, усмехнулся, внушая самому себе, что он не хлюпик – хлюпики с трубным звуком не сморкаются…
Засунув платок в карман, Дутов поднялся со скамейки с недовольным видом – слишком расслабился, слишком далеко попытался забраться в прошлое. Он отер крепкой ладонью лицо, сделал несколько движений, словно бы отгоняя от себя нечистую силу, и покинул место, столь сильно напоминающее ему о детстве: подобные психологические опыты лучше не ставить, ни к чему хорошему они не приведут – прошлое не любит, когда к нему возвращаются, и очень больно бьет в отместку…
На фронт с войсковым старшиной Дутовым отбыло двенадцать казаков – основа пешей команды: Еремеев со своим приятелем Сенькой Кривоносовым, оказавшимся жилистым проворным мужиком с приметливым взором и длинными, как у обезьяны руками, – казаком из станицы Остроленской; его двое земляков – родных братьев Богдановых, говорливых, деловитых, крепких, с загорелыми одинаковыми лицами; городской сапожник Удалов; калмык Африкан Бембеев и еще шесть человек.
Дутову определили место в офицерском вагоне, команде – в теплушке с отчаянно дымящей печкой. Жестяное колено этой печки было выведено в окно, на ходу она плевалась сизыми ватными сгустками, чадила и опасно искрила, словно бы в теплушке не люди ехали, а злобный Змей Горыныч.
Дутов навестил станционного коменданта – хотел переместить казаков к себе в вагон, но тот воспротивился, а при попытке сунуть ему в руку немного денег, отрицательно покачал головой:
– Благое желание, да, увы, – невыполнимое… Состав перегружен.
– А если прицепить дополнительный вагон? Для будущих героев войны!
– Во-первых, лишних вагонов нет, все расписаны на две недели вперед, а во-вторых, – локомотив не потянет.
Вскоре за окнами состава поползла ровная степь, искристая от неяркого, словно вымерзшего изнутри солнца, которое застыло в небе головкой сыра, обметанной льдом. В последние годы в степи было особенно холодно, наваливало много снега, он смерзался, запечатывал балки – там в него можно было уйти вместе с конем и до весны не выбраться. Твердый снег держался даже на гладких, до земли выскобленных лютыми ветрами лбах, и как ни пыжились ветры, как ни хрипели надсадно, а снег им не поддавался.
В одном купе с Дутовым ехали артиллерийский подполковник с черной повязкой на глазу, молчаливый, словно бы у него не было языка, и в противовес ему – очень говорливый поручик, который один говорил за всех, кто находился в купе. Четвертым оказался пехотный штабс-капитан, возвращавшийся на фронт из отпуска. Штабс-капитан постоянно кашлял, что-то выплевывая в ладонь, а потом задумчиво разглядывая выплюнутое. Отпуск он получил после газовой атаки, совершенной немцами на польском отрезке фронта…
Бескрайняя, белая, словно накрытая живым шевелящимся саваном степь ползла за окнами вагона долго – до самой Волги. У Волги, у моста, на два часа состав застрял – стоял на запасных путях разъезда, своей оживленностью напоминавшего маленький городок во время снежных баталий, которыми тешит душу разный праздный люд в Масленицу. Ждали, когда пройдут встречные эшелоны, потом на тихой скорости перекатили на противоположный берег реки, и там опять застряли – теперь пропуская воинские эшелоны, идущие на фронт: видимо, люди, сидевшие в тех вагонах, были фронту нужнее, чем оренбургские…
Станции, попадавшиеся по дороге, были затихшими, какими-то убогими, словно чуяли беду – большую беду, нависшую над Россией. Если раньше русские войска одерживали победу за победой, с литаврами прошлись по Западной Польше, пинками подгоняя отступавших немцев, до пуха общипали Восточную Пруссию с ее богатыми фольварками [3] , то сейчас с фронта приходили новости неутешительные. Невысокое воинское звание государя – полковник – практически лишало Николая возможности занимать большие посты в русской армии, но царь пренебрег этим, став главнокомандующим. Результат не замедлил сказаться: вскоре русские войска начали откатываться, теряя в этих беспрецедентных отступлениях и орудия свои и людей – тысячами…
У говорливого поручика с собою оказались большие запасы еды. Целая корзина вареных и жареных цыплят; караси, запеченные в сметане; кусок сала толщиною в ногу, аккуратно засоленный и обсыпанный красным перцем – по мадьярскому рецепту и много чего ещё… Поручик, обреченно махнув рукой, выставил корзину на стол:
– Господа, прошу отведать, что Бог послал. Моя Матрена Никаноровна наготовила от души – на целый полк.
Дутов от угощения отказался, проговорил, выплывая из своих мыслей, глухим баском:
– Спасибо! Я стараюсь есть из одного котла со своими казаками. – и отвернулся к окну.
Проезжали очередную серую, неприметную, ничем не отличающуюся от тысяч других подобных железнодорожных точек станцию – плоскую, с продавленной крышей крохотного вокзальчика и косой трубой, уныло глядящей в небо. Войсковой старшина вздохнул: эх, Россия, Россия! Что же тебя ждет, дорогая?
То, что ждет страну, Дутов, однако, знал, не сомневаясь ни на грамм, ни на йоту, – победа. Победа в очень тяжелой великой войне – она будет обязательно, несмотря на все напасти, отступления и поражения. Маятник непременно качнется, и перед Россией забрезжит свет удачи, за удачей придут победы, на опустевших полях, заменяя погибших мужиков, появятся тракторы, – какие уже есть и в Европе, и Североамериканских Соединенных Штатах. Россия снова начнет выращивать хлеб и плавить металл, жизнь станет легкой, прекрасной и удивительной.
Трясясь в вагоне, идущем на Запад, Дутов и так и этак обмозговывал свою будущую пешую команду, делал прикидки и пришел к выводу, что по структуре своей она должна походить на стрелковую роту. Основой команды конечно же станут люди, которых он везет с собой. А в дивизии ему надлежит найти еще несколько десятков таких же удальцов, больше вряд ли удастся. Остальных придется брать из пополнения, просеивая «свежачков» сквозь сито…
На деле все вышло не так, как он думал. Пеший эскадрон, которым надлежало командовать Дутову, оказался почти сформирован, – назвали его, правда, не эскадроном, не командой, а дивизионом, но, как говорится, от перемены мест слагаемых сумма не менялась. Дивизион уже успел показать себя в боях за хорошо укрепленные помещичьи фольварки, примыкавшие к Пруту, и потерял половину своего состава.
Встретил Дутова заместитель командира дивизиона подъесаул Дерябин – лихой, подобранный, будто пружина, готовая в любую минуту распрямиться, с серыми бесшабашными глазами и густыми пшеничными усами.
Подбежав к Дутову, подъесаул вскинул руку к козырьку:
– Господин войсковой старшина…
Дутов остановил его коротким властным движением:
– Полноте! Давайте без формальностей. Зовут меня Александром Ильичем. А вас как величают?
– Виктором Викторовичем.
Дерябин рассказал Дутову об обстановке на этом участке, о боях, в которых пришлось принимать участие пешему эскадрону, о том, какие новости бродят по Десятой кавалерийской дивизии…
– Наметки, кого можно взять в пеший дивизион, не делали, Виктор Викторович? – спросил Дутов.
– Как не делал? Делал. И самих казаков могу показать, живьем… И списки. Списки готовы.
– Вот это хорошо! – похвалил своего нового зама Дутов. – Вот это дело!
Формирование стрелкового дивизиона продолжалось до третьего апреля шестнадцатого года.Разопревшая, набухшая теплом и влагой земля готова была принять в себя зерно, но вместо семенного жита ее начинили шрапнелью. Многопудовые снаряды взламывали и швыряли под облака огромные пласты чернозема, выворачивая наизнанку поля и овраги – страшными воронками те сплошь исковыряли «географическую карту». Война и весна были несовместимы.
В низинах, в сырых кустах, затянутых туманом, уже заливались соловьи. Климат здесь был теплее, чем, скажем, где-нибудь под Москвой или под Орлом, потому сюда и весна приходила раньше, и соловьи начинали петь раньше. Казаки слушали волшебные трели с замиранием сердца, жесткие лица их невольно делались какими-то детскими, глаза становились влажными – так сильно птицы брали за душу.
С последним пополнением на фронт прибыл тот, кого Дутов совсем не ожидал увидеть здесь – корнет Климов. Побледневший, с впалыми щеками и знакомыми щегольскими усиками, он производил впечатление случайного человека, забравшегося не в свои сани. Дутов, не поверив глазам, посмотрел списки пополнения, нашел там фамилию корнета, отметил ее ногтем и только потом спросил:
– А вы, корнет, как тут очутились?
– Вот, – Климов, улыбаясь, развел руки в стороны, – прислали… Я попросился на войну и меня прислали…
– Смотрите, как бы вас тут… не затоптали, – с неожиданной неприязнью предупредил корнета Дутов.
– Бог не выдаст, свинья не съест, – продолжая улыбаться, ответил Климов.
Конечно, поступая по уму, Климова надо было бы переаттестовать в хорунжие. Но хорунжий – это казачье звание, а корнет не был казаком, происходил из учительской семьи, переехавшей в Оренбург из-под Херсона, да и не тянул он пока еще на казачье звание – скорее мог бы претендовать на звание пехотное. Дутов ощутил, как под правым глазом задергалась мелкая беспокойная жилка, приложил руку к выцветшей полевой фуражке, украшенной тусклой кокардой:
– Размещайтесь, корнет. Я вас обязательно приглашу к себе.
Казачий полк стоял в угрюмой, бестолково построенной, но справной деревне – каждый двор блистал здесь чистотой, подчас образцовой, показной, подле иных заборов казаки ходили на цыпочках и с робостью втягивали головы в плечи. У себя дома они также имели крепкие хозяйства и цену богатству знали, но таких хозяйств, как здесь, ни на Урале, ни в стране Чалдонии – бескрайней Сибири, – ни в степях тургайских, пахнущих чабрецом и полынью, не видели. Однако народ здешний жил не только богато – стенки амбаров расползались от зерна, коптильни и погреба – от поросячьих окороков, – но и очень обособленно: если где-то что-то случалось, сосед не спешил прийти на помощь соседу… В казачьих же станицах, даже самых бедных, все было наоборот – всякую беду одолевали скопом.
При виде русских солдат народ здешний предпочитал прятаться. Молодухи, те и вовсе забирались в погреба, боялись, что какой-нибудь бравый поручик положит на них глаз. Впрочем, по молодому делу всякое случалось – и глаз клали, и кое-что еще… Особенно способствовали этому делу румынки – очень уж горячие бабенки водились среди них.
Бои шли ленивые – то с одной стороны малость постреляют, дадут пару залпов из винтовок и затихнут, то с другой стороны. В общем, воевали с переменным успехом. Ни то ни се, словом. А весна брала свое – кружила мозги, солдаты вздыхали, задирали головы, щупали глазами солнце, мяли воздух пальцами, крякали:
– А ведь пора семя бросать… И воздух уже прогрелся, и земля прогрелась.
Они были правы. Однако местные жители сеять хлеб не торопились. Во-первых, в земле было много железа, да и сама она сделалась очень кислой – уксус, а не земля, настолько пропиталась почва пироксилином [4] . Хлеба такая не даст, на ней не только хлеб – даже сорняки не вырастут…
Еремеев подбил пальцем свои висячие усы, зацепился глазами за жаворонка, висевшего в небе, послушал его призывную песню и проговорил недовольно:
– Пора-то пора, да только бюргеры здешние не дураки – хлеб они все же посеют, а есть его будем мы.
– Откуда знаешь? – прищурил глаз сапожник Удалов. – Мы к той поре знаешь, где можем очутиться? За Кудыкиной горой – около Парижа.
– Ну, если не мы, то наши земляки, которые сменят нас.
Что, разве не так? А ты – Париж…
Сапожник, продолжая щурить один глаз, в смешную трубочку сложил губы, оттопырил их и издал короткий громкий свист:
– Так-то оно так, но может, и не так.
– Как карты лягут, так оно и будет, – убежденно проговорил Еремеев.
– Какие карты?
– Жизненные. Которые разыгрывают в штабе армии.
Еремеев отвернулся от Удалова, снова стрельнул острым взглядом в небо, нашел там жаворонка, послушал звонкую, далеко слышную песню.
– Хорошо, стервец, поет.
– Профессор!
Через несколько минут около казаков появился Климов – затянутый в ремни, с тонкой талией, с подбородком, выбритым до синевы.
– Готовьтесь! – предупредил он. – Сегодня ночью пойдете к немцам. Надо взять пленного.
Еремеев вытянулся, руки прижал к бедрам:
– Вдвоем прикажете идти, ваше благородие? Или с нами пойдет кто-то еще?
– Туземец пойдет. Ну, этот самый… – Климов пощелкал пальцами. – Ну, этот самый… – он вновь пощелкал пальцами.
– Калмык, что ли?
– Во-во.
– Калмык – это хорошо, ваше благородие. В драке умеет толково действовать.
– Драка там не нужна – Климов недовольно наморщил лоб. – Плавать умеете?
– Умеем, – поспешно отозвался сапожник.
– А вы, Еремеев? – Климов перевел строгий взгляд на второго казака.
– Доводилось, ваше благородие, – неопределенно отозвался тот, отвел глаза в сторону.
Климова удовлетворил и неопределенный ответ.
– Готовьтесь! – сказал он. – Провожать на тот берег вас будет сам Дутов.
День тянулся долго, конца ему не было – никак не хотел уступать место ночи – в глубоком розовом небе возникали белые теплые всполохи, от них отделялись, во все стороны разлетались светлые перья, висели в воздухе, потом рассеивались нехотя, оставляя в душе сложное печальное чувство.
– Земля тоскует, – глядя на эти долго не исчезающие перья, взялся за старое Еремеев, – по плугу тоскует, по зерну, по рукам человеческим, по навозу… И небо тоскует, видите?
Вместе с Удаловым и Бембеевым он пробирался сырой ложбинкой к Пруту. Пока достигли воды – промокли. Казаки, ступая так, чтобы над головой не шевельнулась ни одна ветка, одолели кусты и очутились у самой воды.
Вода в реке была темная, на середине, в течении, крутилось несколько воронок, жерла их смыкались друг с другом, рождали вихри. Брызги столбом поднимались, затем осыпались горохом в быстрое течение, взбивали рябь, подобно горячей шрапнели. От реки тянуло холодом. Стынь прошибала насквозь, казалось, что она может навсегда осесть в теле, в костях, в мышцах, застрять там, наградить живые души хворью.
Еремеев не выдержал, ознобно передернул плечами и выругался. Бембеев лежал рядом с ним, – покосился и неодобрительно покачал головой – тихо, мол, потом вновь прижал ко лбу ладонь и продолжил осмотр противоположного берега.
– Ну, чего? – поинтересовался у него шепотом Удалов. – Чего выглядел?
– Чего надо, то и выглядел, – также шепотом отозвался калмык. – Видишь, справа над кустами вьется дымок?
– Ну? – Удалов вгляделся в прозрачный, едва приметный хвост дыма, поднимающегося над неровной темной грядой. – Дым как дым.
– Не скажи. Немцы там оборудовали огневую точку. Пулемет у них там.
– Откуда знаешь? – недоверчивой сипотцой спросил Удалов.
– Ты учись, Удалов, простым истинам, покуда я жив, – сказал калмык. – Справа тоже находится пулеметная точка. Видишь сухие кусты?
– Ну?
– Там у немаков стоит станковый пулемет на треноге. Чикаться эти ребята в рогатых касках не будут, чуть что – тут же возьмут на мушку.
– Это что же, выходит, что на этом участке переправляться через реку нельзя?
– Совсем наоборот. Только тут и можно… Немцы никогда не подумают, что мы здесь осмелимся залезть в воду. Прямо под пулеметными дулами… А мы залезем.
– Не накроют они нас?
– Не накроют, – уверенно проговорил калмык. – Как думаешь, Еремей?
– Не должны, – Еремеев не сдержался, поежился. – Да и в темноте накрыть не так-то просто. Мы в темноте – люди-невидимки… Таких приборов, чтобы обнаружить невидимку не изобрели. Меня другое беспокоит… – Еремеев содрогнулся, будто холодная речная сырость просочилась ему за воротник.
– Беспокоит? – калмык остановил взгляд на едва приметной тропке, выходящей на противоположном берегу из кустов к воде, по ней немцы спускались за водой. – Чего беспокоит?
– Да вот… – Еремеев смущенно поднес ко рту кулак, покашлял в него едва слышно, – то, что я плаваю не очень…
– Вот те раз! Как не очень? – калмык воззрился на Еремея. – Как топор?
– На воде я держаться научился, а вот дальше… Дальше дело пока не продвинулось.
– «Не продвинулось», – передразнил его калмык, сорвал травинку, росшую перед носом, покусал ее зубами. – На тот берег можно только вплавь переправиться… В общем, понятно, что нам надо либо плотик готовить, либо бревна резать. Может, тебе, Еремей, отказаться от вылазки?
– Да ты чего, земеля! [5] – Еремеев недовольно насупился.
Калмык выплюнул травинку, отполз назад и привстал в кустах:
– Все, мужики, уходим!
Напарники его, стараясь не шебуршать ветками кустов, отползли назад. Добравшись до ложбины, поднялись в рост, отряхнулись.
– Здесь лесок один есть, его немаки малость снарядами покрошили, – калмык ткнул пальцем в сторону, – надо бы перевернуть сушняк, выбрать себе кое-что. При переправе всякое полено может сгодиться…
– Особенно мне, – благодарно проговорил Еремеев. – Спасибо, друг.
Лесок находился недалеко. Несколько снарядов, угодивших в него, завалили десятка три деревьев, оставив среди стволов просеку. Калмык оглядел поваленные стволы, почесал шею:
– Без пилы или хотя бы без пары топоров нам не обойтись.
– Это мы добудем, – уверенно отозвался Удалов, – у меня кое-что есть на примете.
– Действуй! – блеснул чистыми белыми зубами калмык.
Удалов, дурачась, пришлепнул к виску ладонь:
– Слушаюсь, ваше высокопревосходительство.
Через полчаса он приволок пилу:
– Вот, – проговорил удрученно, – думал, что добуду еще пару топоров, но с ними – прокол.
– Мы и пилой все сделаем так, что никакой топор не понадобится, – утешил его калмык.
Они выбрали два сухих, звонких, как стекло, ствола, вырезали из них три подходящих куска – таких, чтобы и кора не отслаивалась, и сучки, чтобы за них можно было держаться руками, имелись. Длину бревнам калмык определил небольшую – примерно по два метра…
Удалов усомнился:
– Не коротковаты ли будут? Удержат нас в воде?
У Бембеева на этот счет не было сомнений:
– Еще как удержат!
Закончив эту работу, он принялся постукивать костяшками пальцев по стволам поваленных деревьев – подбирал четвертый обрубок.
– А четвертый обабок зачем? – спросил любопытный Удалов.
– На всякий случай, – неопределенно ответил Бембеев.
Солнце вскоре покрылось легкой красной пленкой словно отонком [6] , – в нем будто бы сработалось что-то. Сделалось совсем холодно, горизонт стал неясным, вода в Пруте потемнела. Удалов, глядя на огромный, быстро бледнеющий диск, ознобно передернул плечами:
– Как где-нибудь на Яике в поганую ноябрьскую пору…
Солнце здешнее действительно походило на далекое степное, рождало в душе теплые чувства, – у Еремея даже лицо изменилось, теряя обычную жесткость, – он подумал о доме. Лишь один калмык оставался невозмутимым – ничто в его лице не дрогнуло.
В темноте обабки, как назвал бревна Удалов, подтащили к воде – сухие, легкие – не только взрослый мужик, даже пара пацанов могла справиться с ними. Бембеев, достав из кармана моток пеньковой веревки, связал обрубки. Еремеев потыкал калмыку в бок кулаком, одобрительно цокнул языком:
– Хитрый ты, Африкан!
Тот промолчал, козырьком приладил ко лбу ладонь, вгляделся в противоположный берег. Берег был пуст – ни одной движущейся точки, ни огоньков, ни всполохов костра, хотя, если приглядеться тщательнее, в двух местах в воздух поднимались кудрявые дрожащие хвосты – немцы, сидящие в окопах, жгли костры.
– Вечерний кофий греют, – констатировал Еремеев. – Кулеш [7] с копченым салом варганят.
– У немцев кулешей не бывает, – знающе заметил калмык, – они все больше по части капусты стараются. К капусте подают сардельки и хрустящий бекон.
– Сардельки? Это что за фрукт? – озадачился Еремеев.
– Колбаса такая. Ее варят. Едят горячей.
Еремеев озадачился еще больше:
– Первый раз слышу, чтобы колбасу ели горячей.
Сзади послышался шорох. Сквозь кусты кто-то пробирался. Бембеев птицей метнулся на шорох, беззвучно врезался в кусты и растворился в ночной черноте.
Через несколько минут вернулся с Дутовым.
– Ну что тут у вас? – шепотом спросил войсковой старшина, присел на корточки у самой воды, вгляделся в подрагивающий над течением мрак.
– Пока тихо, – поспешил доложить Еремеев – он любил «потянуть одеяло» на себя, – кофием как пахнет, а? Чувствуете, ваше высокоблагородие? – Еремеев повел носом по воздуху. – Дух какой летает, крылышками ангельскими по воздуху помахивает…
Никакого духа не было, пахло сыростью, распускающейся листвой, мокрой корой и чем-то гнилым – где-то невдалеке к берегу прибило труп.
– Стрельбы нет, – удовлетворенно произнес Дутов. – Хорошо живут немаки. В ус не дуют. Когда вы намерены переправляться?
– Через полчаса приступим, – ответил калмык, – чернота ночная пусть уляжется. Через полчаса будет в самый раз.
– Добро, – согласился с калмыком войсковой старшина. – Лишний раз не рискуйте… Кого из вас назначили старшим?
Бембеев переглянулся с Еремеем, Еремей с сапожником: старшего корнет Климов не назначил.
– Понятно, – Дутов стукнул пальцем в грудь калмыка. – Вот ты старшим и будешь. Без старшего лазутчики даже права уходить за линию фронта не имеют. Понятно?
Еремеев гулко хрястнул себя ладонью по шее и едва слышно, смятым шепотом выругался:
– Надо же, как рано тут просыпаются кровососы!
Сапожник стремительно присел, глянул в одну сторону, в другую, опасливо втянул в плечи голову, будто совсем недалеко увидел рогатые немецкие каски:
– Тише ты! Не то они сейчас рубанут по нашей компании из пулемета.
Дутов рассмеялся в кулак:
– Было б хорошо, если бы рубанули. Мы бы мигом эту точку нанесли на карту. Но немцы хитрые, не рубанут – сидят в траншеях, ветчину трескают, шнапсом запивают, а свои долговременные, хорошо обустроенные точки не выдают.
– На этот счет кое-какие наблюдения имеются, ваше высокопревосходительство, – сказал калмык.
– На той стороне всё засекайте, запоминайте. Понятно?
Тишина, повисшая над Прутом, вздрогнула, ее располовинил оглушающий резкий выстрел. За первым ударил второй. Одна из пуль пропела свою противную гундосую песню над макушками кустов. В воде тяжело шевельнулась рыба, от всплеска во все стороны сыпанули мальки, с полсотни их выскочило на мокрый берег, затрепыхалось на земле, будто клопы. Жизнь шла. Все в ней было расписано по одному закону – закону утоления голода: кто-то кого-то каждую секунду обязательно ел, и процесс этот был неумолим.
Через двадцать минут темнота сделалась такой плотной, что в неё можно запросто было всадить палку – держалась бы, как в повидле, которое на фронте иногда давали солдатам к чаю. В небе зажглись крупные редкие звезды.
Калмык выждал еще несколько минут и скомандовал:
– Поехали!
Одежду свою он ловко и аккуратно упаковал в сверток, обернул прорезиненным брезентом, перетянул пеньковым шпагатом – всё вода не доберется, – сверху пристроил карабин и беззвучно столкнул в воду бревна, связанные вместе. Следом, смутно белея телом, вошел сам, зябко передернул плечами:
– Однако! – Обернулся он и предупредил свистящим шепотом: – Еремей, если будешь бултыхать ногами, как бегемот, – отправлю обратно. Ты же всех нас завалишь – гансы засекут и порежут пулеметами.
Еремеев окунулся в воду с головой, высунулся и, держась рукою за бревно, как за любимую бабу, ловко отцикнул длинную струю:
– Не боись, не завалю.
Калмык сделал несколько сильных беззвучных гребков и исчез в темноте. Следом поплыл сапожник. Третьим – Еремеев.
Еремеев плыл, боясь упустить бревно, болтнуть ногой или сделать ладонью слишком громкий шлепок, переворачивался на ходу с одного бока на другой. Вместе с ним переворачивались, тихо соскальзывая с черного покатого неба, звезды, шлепались в воду, растворялись в ней. Иногда он видел впереди себя голову калмыка, либо Удалова, замедлял ход, соблюдая дистанцию, а, замедлив, потом начинал грести сильнее, чтобы не упустить напарников. Он плыл и удивлялся тому, как это у него получается. Временами ему казалось, что он не доплывет, и тогда Еремей начинал отчаянно высовывать из воды голову, тянуться вверх и захватывать губами воздух, – боялся, что воздух вот-вот кончится, в рот хлынет вода, переполнит его и он пойдет на дно. Виски больно стискивал испуг, движения делались резкими – Еремеев греб из последних сил и через несколько минут поражался тому, что еще не на дне и не обирает вместе с усатыми сомами разную питательную налипь с осклизлых камней…Дутов сидел на берегу, напряженно вглядываясь в вязкую, сыро колышущуюся темноту, стараясь что-нибудь рассмотреть. Но ничего, кроме ночной черноты, он не видел, и прикладывал ладонь к уху, рассчитывая что-нибудь услышать, однако ничего, кроме тяжелого плеска воды, и не слышал…
Через два дня пешему эскадрону Дутова надлежало в полном составе вот так же ночью переправиться на противоположный берег: стратеги из штаба армии наметили на этом участке наступление.
Всяким мучениям когда-нибудь приходит конец, пришел конец и мукам Еремеева. Он уже научился сносно и бесшумно грести, управлять бревном и вообще освоил науку переправы, как к нему неожиданно приблизилась голова калмыка.
Бембеев появился будто водяной, зыркнул глазами по сторонам, ничего опасного не обнаружил, приподнялся и в коротком бесшумном прыжке перебросил свое тело на берег. Справа из темноты вытаяло еще одно неясное светлое пятно – Удалов. Удалов действовал так же, как и калмык – ловко, бесшумно, напористо, будто в его теле не было ни капли усталости.
Еремеев позавидовал им и в следующее мгновение чуть не охнул, ткнувшись ногами в мягкое, косо уходящее вниз, – Прут в этом месте был глубоким, – дно.
– Поспешай, ребята, – шепотом подогнал калмык казаков, настороженно оглядываясь и беря в руки карабин.
Он был уже и одет и обут, связанные спаркой бревна наполовину вытащены на берег. Ловкий был человек этот Бембеев – рукастый, находчивый. Еремеев опять позавидовал ему, вытащил бревно на берег и поспешно прикрыл рукою срам, будто за ними наблюдали девки. В следующий миг понял, что рядом никого нет, и торопливо вытащил из брезентовой скрутки штаны. Через минуту и он уже был одет и обут.
– За мной, мужики! – калмык призывно махнул карабином, боком вошел в кусты – ни один листок не шевельнулся под нажимом его ловкого тела, следом в проход нырнул Удалов, за ним – Еремеев.
Загоняя дыхание внутрь, чтобы не оглушать себя и не позволить обнаружить свое присутствие противнику, они прошли метров двести в глубину, потом калмык остановился, присел и, оглядевшись, ткнул рукою вправо:
– Сюда!
На немецкой стороне калмык чувствовал себя как дома.
Но вот он неожиданно присел вновь и сделал знак, чтобы казаки присели тоже. Через полминуты из темноты показался немец в громоздком, не по его комплекции френче, весело просвистел что-то, будто птица, и на ходу сдернув с себя штаны, присел на корточки.
– А-а-ап! – подал он сам себе команду, с оглушительным звуком выбив из нутра содержимое, замычал освобожденно и сладко.
Сапожник переглянулся с Еремеевым.
– Видать, по части питания у германцев не все налажено, как надо, – едва слышно шевельнул губами Удалов, – вишь, какую пальбу мужик открыл? Не приведи господь попасть под такой выстрел!
– Чего калмык медлит? Надо бы взять пердуна, да ходу назад.
– Не знаю, чего медлит… Видать, звание у этого «стрелка» маловатое. Ждет, когда офицер придет.
– Ну, офицер со своих харчей сюда вряд ли придет, – убежденно прошептал Еремеев, – да и организм у офицера будет потоньше, чем у этого першерона [8] .
Солдат напевал веселую песню и сам себе аккомпанировал, выбивая наружу звук за звуком.
– Вот так попали мы, – Еремеев выругался вновь, – думали, что идем в штаб, а пришли в нужник.
Сапожник не выдержал, хихикнул, стиснув свой круглый пористый нос-картофелину. Калмык сидел, не двигаясь. Наконец солдат поднялся, натянул штаны и неспешно удалился в темноту.
– Вперед! – скомандовал калмык и вьюном скользнул на тропку, по которой удалился немец-«музыкант».
Удалов двинулся вторым, Еремеев – замыкающим.
Где-то недалеко, сидя на невидимом дереве, пугающе громко ухнула сова, Еремеев поежился: сова кричит – обязательно жди неприятностей. Он поежился снова, но потом вспомнил, что опасаться надо не совы, а филина, и повеселел. Филин, тот действительно кладбищенский поселенец, дружит с нечистой силой.
Еремеев сбавил ход, присел, покрутил головой, осматриваясь, и не заметил, как в темноте исчезли его напарники. Он испуганно выпрямился, сделал несколько поспешных шагов по тропке вперед, разъехался сапогами по осклизлой земле и неожиданно увидел рыжего полнолицего немца, деловито шагавшего по тропке.
Похоже, рыжий направлялся в место, которое хорошо знал – слишком уж уверенным был его шаг. Остановился он перед Еремеевым всего в полуметре, глянул на казака безо всякого испуга. Хорошо были видны его маленькие поросячьи глазки, обрамленные белесыми ресницами, лоснящиеся веснушчатые щеки прижимистого тирольского крестьянина. Оловянная пряжка ремня косо съехала с туго набитого пуза.
Глаза Еремеева уже освоились с темнотой – за спиной рыжего он увидел калмыка, подававшего ему какие-то знаки. Стрелять было нельзя – разом всполошится весь немецкий берег, поэтому, недолго думая, Еремеев поднял карабин и что было силы всадил приклад в лоб немца. Ощутил, как под стальной пластиной, привинченной к торцу приклада, что-то промялось с мягким сырым хрустом…
Тиролец беззвучно распластался на тропке. Калмык изумленно покачал головой – не ожидал, что Еремей сможет так ловко уложить здоровенного сытого противника.Дутов тем временем напряженно вслушивался в тишину. Больше всего он сейчас боялся одного: вдруг на том берегу грохнет выстрел – это будет самым худшим из всего, что может случиться – трое лазутчиков тогда обречены, никакая подмога не сумеет облегчить их судьбу.
Над головой остро и противно запел комар. Дутов шлепнул себя ладонью по темени – комар продолжал зудеть, только переместился на другую сторону. Дутов шлепнул вторично – комар продолжал петь. Войсковой старшина выругался:
– Вот скотина!
В его родных краях комары появляются лишь в летнюю пору, в июне – тощие, злые, желтые. Дутов зажато вздохнул: глянуть бы сейчас хотя б одним глазом на то, что делается дома. Йэ-эх…
Жизнь у семьи Дутовых всегда была непростая. Лучшую карьеру из всех поколений казаков Дутовых сделал отец войскового старшины – Илья Петрович, отличившийся в пору туркестанских походов. Блестящий наездник, рубака, он мог сутками не слезать с коня… Окончил офицерскую кавалерийскую школу в Санкт-Петербурге, после чего все время считал, что учился мало и, была бы возможность, учился бы еще. Но такой возможности у него не было, и он все последующие годы завидовал тем, кто получил хорошее образование, и лишь вздыхал. Однако Илья Петрович воевал, воевал и довоевался до звания полковника.
Жена его, Елизавета, дочь простого казачьего урядника Ускова, так же, как и муж, могла лихо скакать на коне и крутить шашкой «мельницу». «Мельница» – штука непростая, клинок должен со свистом рубить воздух и вращаться в руке так, чтобы со стороны казалось, что он образует сплошной круг, без промельков, ежели будут заметны промельки, то такая «мельница», увы, в зачет не идет.
Даже когда во время ферганского похода Елизавета забеременела, то с коня не слезала. В этом походе, в телеге, под сладкое пение диковинных птиц, именуемых майнами, и появился на свет старший сын Дутовых Сашка. Произошло это пятого августа 1879 года, в городе Казалинске, Казахстан. Сам Дутов в своей биографии указывал, что родился в станице Оренбургской Оренбургского казачьего войска.
Через десять дней Саньку Дутова окрестили. Крестными стали родной дядя, Николай Петрович, сотник Оренбургского казачьего полка, считавшегося в войске Первым и носившего на знамени цифру «1», и жена войскового старшины Евдокия Павловна Пискунова.
Есаул Илья Дутов был счастлив, подкидывал первенца в воздух, ловил – проверял, не забоится ли малец страшных полетов «под облака». Елизавета Николаевна с тревогой следила за мужем и сыном, но тревога ее была напрасной: Санька полетов не боялся, лишь гугукал по-птичьи, задирал голову, стараясь рассмотреть получше, что там на небе имеется. Широкое красное лицо есаула радостно светилось, и он, собственноручно сварив из кизила с сухим черным кишмишем бочку браги, поставил ее перед полком.
– Попробуйте, братцы, есаульского напитка, – провозгласил он, – в честь рождения моего сына, первого моего…
Ферганский поход продолжался. Через две недели полк остановился на отдых в зеленом кишлаке. Светило яркое солнце. Воздух был насквозь пропитан медовым духом дынь, на ветках персиковых деревьев ярко желтели, красуясь своими нежными замшевыми боками, крупные плоды, золотистые яблоки лопались от сахарного сока. Сладко пели птицы.
Елизавета Николаевна достала из повозки старый мягкий ковер, расстелила его, сверху бросила простыню и усадила сына. Сашка сидел на белой простыне, довольно щурился, ловил глазами солнце и лопотал сам с собою. О чем там он вел речь – понять было невозможно.
Мать вытащила из повозки сундук с вещами мужа, и теперь развешивала их на дувале – длинной глинобитной стене, окружавший двор. Вещи надо было обязательно просушить, не то они уже начали припахивать плесенью.
Неожиданно Елизавету Николаевну что-то кольнуло, будто бы острый гвоздь впился в тело: к Саньке подползала крупная серая змея. Елизавета Николаевна, словно ее загипнотизировала эта гадюка, не могла двинуться, у нее сделались ватными непослушные ноги, комок воздуха, застрявший в горле, стал твердым и тяжелым, будто кирпич. Женщина стояла на одном месте, вздрагивала словно кукла, которую дергали за веревочки, тянула к сыну руки, пробовала вырваться из колдовского круга, но у нее ничего не получалось – змея была сильнее.
– Хр-хр, хр-хр, – захрипела женщина беспомощно, горячий воздух обварил ей лицо, руки также обожгло чем-то горячим, будто она сунула их в печь, прямо в открытое пламя.
А змея подползала к ребенку все ближе, на ходу, рывками, приподнимая голову, простреливая пространство черным колючим язычком.
– Хр-р-р, – продолжала беспомощно хрипеть Елизавета Николаевна.
Змея взметнула голову, качнулась всем телом, резким ударом пробила горячий воздух, хлобыстнула по земле тугим хвостом – хрип несчастной женщины ее раздражал. Горизонт перед Елизаветой Николаевной качнулся, поехал в сторону, ком в горле разбух, дышать стало совершенно нечем.
– Хр-р-р!
На кривой пыльной улочке, за дувалом, раздался топот – кто-то несся по ней во весь опор, земля трепетала под копытами бешеного коня. В следующее мгновение через дувал перемахнул здоровенный рыжий битюг со вспененной мордой – клочья пены летели во все стороны и шлепались на землю. Битюг, самозабвенно таскавший полковое орудие, совершенно не был приспособлен к скачке, и гулко хлобыстнулся копытами о закаменевшую землю. В то же мгновение раздался выстрел. Змея от выстрела вскинулась, серой молнией пробила воздух и шлепнулась на землю. С битюга соскочил есаул Дутов, прыгнул к змее, поспешно наступил ей сапогом на голову. Змея дернулась, ударила хвостом по земле раз, другой, третий. Дутов придавил ее голову сильнее.
Елизавета Николаевна почувствовала, что у нее вновь забилось остановившееся сердце, она застонала и будто подрубленный цветок повалилась на землю. Есаул выругался, пинком ноги отшвырнул в сторону вяло шевелившую хвостом змею, кинулся к жене.
– Ты откуда узнал, что змея хотела укусить Саньку? – очнувшись, спросила Елизавета Николаевна, прижалась к груди мужа.
– Откуда, откуда… От верблюда, – грубовато ответил есаул, в горле у него что-то заклокотало. В следующий миг он смягчился, погладил жену ладонью по спине, проговорил наставительно: – Следи за сыном, как за самою собой, не дай ему попасть в неприятность…
– Откуда ты все-таки узнал, что змея подползала к Сашке?
– Погоди, малость отдышусь, – есаул прижал руку к груди, – даже сердце зашлось. – Он несколько раз шумно вздохнул, потом откашлялся в кулак, потянулся к Саньке. – Ты обратила внимание, он выстрела не испугался?
– Обратила, – эхом отозвалась Елизавета Николаевна.
– Значит, настоящим казаком будет, – в голос есаула натекли довольные нотки. – Тревожно мне что-то сделалось, я прыгнул на битюга, которого только что выпрягли из орудия, и понесся сюда… Знакомо тебе это чувство – внезапная тревога? А, Лиза?
– Очень даже знакомо.
– А уж как оно знакомо на войне, ты не представляешь, – есаул отер ладонью шею, глянул в желтое горячее небо. – Хорошо здесь!
Санька с недоумением продолжал глядеть на родителей.
За все это время он не издал ни звука.
Через четыре года в семье Дутовых родился еще один наследник, названный в честь популярного в России святого Николаем. Был Колька таким же, как и старший брат, пухлым, молчаливым, невозмутимым. Приписали его, как и старшего брата, к станице Оренбургской, к тамошнему полку.
В семь лет Санька пошел учиться в школу мадам Летниковой, но через некоторое время, поскольку собирался поступать в кадетский корпус, чтобы пойти по стопам отца-офицера, перевелся в школу Назаровой – дамы, отличавшейся кавалерийской выправкой и манерами командира образцового эскадрона. Правда, поучиться у мадам Назаровой благородным манерам и особым прыжкам на гимнастического коня долго ему не пришлось: отец претендовал на звание полковника, но для того, чтобы получить полковничьи погоны, требовалось поднабраться грамотенки, зачем и направили Дутова-старшего в Санкт-Петербург, в офицерскую кавалерийскую школу. Младшие Дутовы последовали вместе с родителями в блистательную российскую столицу.
Два года, проведенные в Санкт-Петербурге, пролетели, как один миг. Была бы возможность у Саньки остаться в столице – остался бы навсегда. Один, без родителей. Но пришлось возвращаться в Оренбург, пыльный, пахнущий степными травами, конской сбруей, верблюдами, жирным духом салотопень, вяленой рыбой, копченым мясом, костяной мукой, клопами и еще чем-то неуловимым.
В том же году, в жарком августе, Саня Дутов поступил в Неплюевский кадетский корпус.
Был Санька Дутов неповоротлив, пухл, щекаст, глаза имел маленькие, какие-то китайские, черные, часто хлюпал носом.
Про первые годы учебы в Неплюевском корпусе Дутов вспоминать не любил. До самого конца обучения терпеть не мог шагистику – строевые занятия, где под визгливое «ать-два!» приходилось впечатывать каблуки ботинок в землю по самые лодыжки. Делали это кадеты так старательно, что кажется, степь под Оренбургом колыхалась, а с трав слетали недозрелые семена.
Еще больше шагистики Санька Дутов не любил гимнастику и танцы. На танцы к неплюевцам приглашали из женских гимназий девочек, которых Санька опасался, как весенней простуды: пристанет – потом ни за что не отделаешься, все губы пойдут болячками.
Когда доводилось встречаться с кадетами других корпусов, те дразнили оренбуржцев довольно обидно – «неблюевцами». У Дутова по этому поводу случилось несколько стычек… В общем, показал он, что могут сделать «неблюевцы» с обидчиками – только красные сопли летали по воздуху, да пуговицы с орлами падали на тротуар, будто мусор. Если бы драку засек кто-нибудь из отцов-командиров, то не видать бы тогда будущему атаману не только почетного кресла, но и обычных офицерских погон – он даже до хорунжего не доскребся бы… Но – пронесло.
Перестал Дутов числиться «неблюевцем» в семнадцать лет, на дальнейшую учебу был направлен в такую желанную столицу Государства Российского – в Николаевское кавалерийское училище. Именно это училище считалось самым авторитетным у людей, любивших бряцать шпорами.
Отца Дутова, Илью Петровича, произвели уже в полковники, имя его сделалось известным всему Оренбургскому казачьему войску. Тому обстоятельству, что Санька стал юнкером, да еще такого училища, полковник Дутов был очень рад. Он обнял сына, похлопал его по спине крепким, тяжелым, как кувалда, кулаком и проговорил восхищенно:
– Ну, Санька… Молодец, огурец! – снова похлопал сына кулаком по спине, чуть дух из него не вышиб. – Теперь делай всё, чтобы портупей-юнкером стать – золотые часы с цепью тогда тебе обеспечены… Понял?
К золотым часам младший Дутов не стремился, но тем не менее пообещал, что «портупеем» будет. В училище портупей-юнкер – это нечто вроде помощника командира взвода, небольшой начальник. Примерно такой, как чирей на заднице – при случае может кое-какие неприятности доставить, но не больше.
– Если не заработаешь лычки, то опозоришь нашу фамилию… – отец разом поугрюмел, угрожающе покрутил перед собой пудовым кулаком, – в общем, ты меня знаешь и догадываешься, что я с тобою сделаю, – полковник подвигал из стороны в сторону тяжелой нижней челюстью.
Характер отца сын знал, поэтому в дебаты с родителем вступать не стал, а неожиданно возникшую злость выместил на Кольке – саданул ладонью по затылку так, что у того едва пара передних зубов не выпала.
– За что-то? – удивленно заныл Колька.
– Ни за что, – ответил старший брат, – если бы было за что, я бы тебя вообще на чердак загнал.
Портупей-юнкером Дутов сделался на старшем курсе училища, за полгода до выпуска, он до сих пор помнит этот день – одиннадцатого февраля 1899 года. Сашка получил повышение, несмотря на то, что путал левую ногу с правой и в юнкерском строю чувствовал себя яйцом, попавшим на промасленную сковородку – «ездил» во все стороны. Более чужеродного понятия, чем пеший строй, для Дутова не существовало, хотя другие юнкера – такие же «конные души» – чувствовали себя в пешем строю довольно сносно. Он же словно был вылеплен из другого теста: как только надлежало становиться в строй, чувствовал, как у него начинают болеть зубы. Другое дело – казачья подружка лошадь. В седле он мог находиться сутки, даже двое и не уставать. И есть научился в седле, и спать, и бриться, и делать кое-что еще.
Один из дружков Дутова, юнкер старшей казачьей сотни Щепихин, как-то вечером спросил у своего приятеля:
– Слушай, Санька, верно говорят, что отец обещал тебя выпороть плетью, если ты не заработаешь лычек портупей-юнкера?
Дутов жестко, в упор посмотрел на Щепихина. Тому сделалось холодно.
– Неверно, – сказал Дутов, – и этот вопрос больше никогда нигде не поднимай. Понял?
Щепихин от такого взгляда даже съежился, в глазах мелькнули испуганные тени. Как выяснилось потом, через много лет, легкий испуг этот – будто перед носом неожиданно вспыхнула плошка с порохом – Щепихин пронес через всю свою жизнь, хотя и став биографом своего приятеля.
«Портупейские» нашивки Дутов заказал себе золотые – любил пофорсить. Он вообще считал офицерскую форму единственной одеждой, достойной мужчины. Отец регулярно присылал ему из Оренбурга деньги. Генеральское жалование, даже то, что выплачивали отставникам, было очень приличным, – и Дутов мог заказать себе все, что хотел.
Девятого августа девяносто девятого года Саша Дутов был произведен в хорунжие, и сияющий, молодой, розовощекий отправился в Харьков. Там стоял Оренбургский казачий полк, где Дутову надлежало служить.
В Харькове он, горделиво подбоченясь, ездил во главе казачьих нарядов, патрулировал улицы и с интересом посматривал на местных барышень. Они казались ему простушками, очень провинциальными, в сравнении со столичными барышнями, и главное – чересчур «пресными». Таких пресных барышень он, несмотря на боязливое в прошлом к ним отношение, не встречал даже в Оренбурге, хотя Оренбург, как известно, расположен от столицы гораздо дальше, чем Харьков.
Служил Дутов в казачьем полку недолго – менее года. Уже в июне девятисотого года его откомандировали в саперную бригаду, стоявшую в Киеве. Он надеялся изучить инженерное дело, в частности, узнать побольше о взрывных работах и возведении переправ – что, как он полагал, крайне необходимо всякому воинскому начальнику. Да и любой старший чин в звании есаула, войскового старшины, полковника, считал Дутов, обязан знать, чем отличается, допустим, мелинит от обычного пикрина, пикрин от пироксилина, форзейль от шампуньки, блиндаж в один накат от блиндажа трехнакатного. Ограничиваться лишь понятием лошадиных хвостов и мастей, задниц, грив, седел, шпор с малиновым звоном и шенкелей, – если, конечно, хочешь вырасти в должности чуть выше командира сотни, – нельзя. Чтобы заглянуть вдаль, надо хотя бы немного приподняться на цыпочках.
Впрочем, уже в саперной бригаде главным для него стало изучение телефона и средств связи. Для боя ни жестяный рупор, ни луженая глотка уже не подходят – достаточно одного пушечного залпа – и человек навсегда останется с открытым ртом… Современным боем надо учиться управлять.
Успешно сдав в бригаде экзамен, Дутов вернулся в Харьков. Там записался на курсы по электротехнике, которые только что открылись при местном технологическом институте. К этой поре он уже вполне сносно работал на телеграфном аппарате и при случае мог отбить «депешу» кому угодно, хоть самому государю.
Через два года Дутов был вновь направлен в Киев, в хорошо знакомую саперную бригаду, для дальнейшего изучения понравившегося ему дела – казачьи войска требовали специалистов широкого профиля. Хватит крутить лошадям хвосты и рвать себе пальцы, когда тот же хвост можно обрубить под корешок с помощью небольшого пироксилинового патрона – оттяпает под самый корешок, а лошадь этого даже не почувствует.
В общем, новым для себя делом Дутов очень увлекся и настолько глубоко влез в него, что в 1902 году был командирован в Санкт-Петербург, в Николаевское инженерное училище. Дутов провел там четыре месяца, сдав экзамены за весь курс училища – чем совершил самый настоящий учебный подвиг, из казаков переквалифицировался в военные инженеры и был отчислен в распоряжение соответствующего управления.
Такие люди, как Дутов, в армии теперь ценились очень высоко, ведь чем больше знал и умел офицер инженерных войск, тем больше вреда он мог причинить противнику. Хорунжий же умел не только шашкой махать, но и переправить через реку полк, починить колесо от пушки, замаскировать снаряды под репу, а капусту с морковкой, для обмана противника, – под снаряды, мог и заставить бездымно гореть обычный черный порох…
Вскоре Дутов вновь отправился в Киев – ему предстояло служить в саперном батальоне. Провел он там всего три месяца и был переведен преподавать в саперную школу, а оттуда – в телеграфную. Через несколько месяцев ему было присвоено звание поручика.
Лучшим военным учебным заведением той поры была конечно же Академия генерального штаба. Ее выпускники знаниями могли тягаться с профессорами, умели рассчитать по формулам любое великое сражение, знали латынь и арабскую военную терминологию. Щеголяли они поварским искусством Древней Греции, мастерством чинить взрывные механизмы, разгадывать клинописные письмена и анализировать путаные политические обзоры, выуживая из них редкие крупицы информации, которая ценилась выше золота. Поступить сюда было также трудно, как вытянуть из тысячи билетов один-единственный счастливый…
Однако Дутов решил поступать в Академию. Предварительные экзамены, как и положено, письменные, в штабе военного округа, он сдал довольно прилично, даже не ожидая, что получит столь высокие оценки. На радостях устроил в ресторане кутеж с цыганами, и напился так, что стал изображать городового, на которого надели конское седло…
Дальше экзамены надлежало держать в Санкт-Петербурге, уже в самой Академии. Так что вскоре Дутов сидел в «синем» вагоне, как на железной дороге величали вагоны первого класса, и похмелялся шампанским. Жизнь была прекрасна и удивительна.
Экзамены в стенах Академии считались особенно трудными, но Дутов одолел и их, однако проучился недолго, – он вообще нигде долго не задерживался, словно бы поспешность стала основной чертой его характера, – чуть более двух месяцев. После чего незамедлительно вернулся в свой саперный батальон. Батальон собирался отбывать туда, где грохотали пушки, в Маньчжурию, и Дутов, преисполненный желания совершить «что-нибудь героическое», добровольно решил принять участие в походе.
«Героическое» он совершил – домой вернулся с орденом Святого Станислава третьей степени и сразу же отправился в Питер, в Академию, продолжать учебу. Но с учебой не заладилось: Дутов отвык от нее. Он то не успевал сдать контрольную работу, то после бессонной ночи, одуревший от «долбежки», опаздывал на утреннее занятие, то не являлся на дополнительный курс по тактике, то пропускал лекцию, которую читал придирчивый профессор. Результат был печален: Дутову выдали документы «без права на производство в следующий чин за окончание Академии и на причисление к Генеральному штабу». Это была оплеуха почище подзатыльников отца. Получалось, что из Академии он вышел человеком второго сорта.
Дутов ходил как пришибленный – тихий, незнакомый, с черными впадинами под глазами. Он много бы дал за то, чтобы повернуть время вспять и возвратиться в благословенную довоенную пору, когда «военный гимназист» только мечтал об Академии, примерялся к ней и самозабвенно бряцал шпорами, пытаясь отработать чеканный шаг, чтобы пройти в строю перед царем.…На противоположном берегу Прута взвилась яркая, огромная, как шар, ракета, осветила недобрую, в лопающихся пузырях воду у берега, и в следующее мгновение погасла. За первой ракетой вспыхнула вторая, еще больше и ярче, чем первая. Дутов невольно сжался, втянул голову в плечи, отметил с завистью, что у немцев появились новые осветительные снаряды, проводил ракету внимательным взглядом…
Вернуть бы все на круги своя! Он уж постарался бы, вызубрил и язык жирных швабов, с которыми они сейчас воюют, и английский, и французский, тогда бы не только знакомые дамочки, но и чопорные экзаменаторы наверняка умилились его «прононсу», при мысли о котором Дутова мутит до сих пор. Он перестал бы плавать, как обычный фельдфебель, в тактике – науке, обязательной для всякого офицера… Все подтянул бы Дутов, но – не дано… Это стало очевидным после экзамена по военной истории и стратегии, когда он ощутил себя необыкновенно тупым, словно бы все мозги из него выдуло вместе с вонючим дымом японских «шимоз» [9] .
Хоть и обидно было выпускнику оказаться за воротами Генштаба, но худа без добра не бывает. Дутов все равно вышел из стен Академии человеком куда более образованным, чем до учебы.Вновь за Прутом поднялась белая ракета, взлетела бесшумно, и этой странной своей беззвучностью вызвала у Дутова простудный озноб. Мертвенный свет её бил войсковому старшине прямо в лицо, и он поспешно отодвинулся в тень густого пахучего куста.
На немецком берегу раздалась лающая пулеметная очередь – сонный пулеметчик бил в сторону реки, пули вяло шлепались в воду. Огневая точка эта была засечена ещё три дня назад. Дутов вздрогнул болезненно от мысли, что немцы накрыли разведку и теперь расправляются с ней, но тут же облегченно вздохнул – пулеметчик пустил очередь в сторону русского берега для острастки, не более того.
Войсковой старшина приподнялся над кустом, прислушался к звукам с противоположного берега. Было тихо.После Академии Дутов вновь оказался в Киеве, в саперном батальоне, но пробыл там недолго – опять потянуло в дорогу, и он отправился в командировку в родной город Оренбург, в казачье войско, к которому был приписан…
Вскоре его зачислили в Оренбургское юнкерское казачье училище на должность преподавателя. На погонах у него теперь поблескивали четыре вожделенных офицерских звездочки – несмотря ни на что, он стал штабс-капитаном.
Отец, постаревший, но сохранивший резкость движений, пахнувший хорошим табаком и настойкой – мать готовила чудесные настойки, баловала отца, – обнял сына, хлопнул его кулаком по спине. Потом откинулся назад, жадно вгляделся в Сашино лицо. Что именно произнес отец – не понять, что-то попало в глотку отставному генералу, глаза сделались влажными. Он откашлялся, мотнул головой и наконец произнес хрипло, – А все-таки ты дурак, Сашка!
Почему сын у него дурак, отставной генерал уточнять не стал, младший Дутов сделал вид, что не услышал резкого слова, и обнял Илью Петровича:
– Ты всё такой же ругатель, отец!
– Чего ему сделается, – поддакнула мать, в радостном волнении топтавшаяся рядом. – Выпить только ныне может больше, чем раньше. А так всё тот же.
– Цыц! – прикрикнул на жену муж, и тем перебранка в прихожей закончилась.
Командировка затянулась, Дутов продлил ее и вскоре вообще подал рапорт о переводе в Оренбургское казачье войско, по месту родовой приписки, а также о возвращении ему звания, которое носят казаки. Вскоре он был переименован в подъесаулы.
Прошло еще немного времени, и Дутов, уже будучи преподавателем юнкерского училища, получил звание есаула. Исполнял он также обязанности помощника инспектора классов, затем был инспектором – в общем, все время находился на виду и чувствовал себя в родном училище, как дома, гораздо лучше, чем в чопорной Академии.
Помимо собственно инспекторской работы он нес много нагрузок, что называется, общественных, побочных. Это занятия в исторической студии, исследования прошлого казачьих войск. Дутову пришлось организовать для земляков несколько спектаклей; кроме того, устройство вечеров, концертов – самыми веселыми, бесшабашными, запоминающимися стали Рождественские. Довелось ему некоторое время быть и ктитором – старостой училищной церкви, даже петь в хоре, поддерживая группу басов.
Дутов лечился от поражения, нанесенного ему в заносчивом Санкт-Петербурге, и не мог вылечиться. Временами на него наползала меланхолия, взгляд делался туманным, движения – медленными, вялыми. Рассказать кому-либо из близких о том, как глубоко сидит в нем обида, что пережил он в Академии, не хватало мужества: что-то внутри мешало.
Работа Дутова в училище была достойно отмечена. В декабре 1910 года он узнал, что награжден орденом Святой Анны третьей степени. Через два года, также зимой, – декабрь оказался для Дутова счастливым месяцем, – есаул Дутов был произведен в войсковые старшины. Звание это считалось среди казаков очень высоким.
Пир он тогда закатил на весь мир – по-оренбургски. С ухой из стерляди, пельменями из трех видов мяса, кавказским шашлыком. Не обошлось без катания на санках со снежных горок. В Оренбурге тогда останавливался торговец рождественскими петардами, приехавший из Китая, – маленький, кривоногий, горластый, узкоглазый, – он отобрал четыре десятка петард для фейерверка и доставил Дутову прямо на дом. Темное небо над Оренбургом украсилось сиреневым, зеленым и красным салютом.
Принеся домой новые погоны с двумя просветами и тремя звездами, Дутов, щурясь победно, спросил у отца:
– Ты во сколько лет стал войсковым старшиной?
– В сорок семь, – ответил тот спокойным, ровным, хотя и недовольным тоном.
– А я в тридцать три, – торжествующе рассмеялся сын.
Глаза у отца сделались темными – признак гнева, – потом начали медленно светлеть, на щеках появилась легкая, как у юноши пунцовость. Он так ничего и не сказал сыну, лишь молча протянул руку, прося показать погоны. Тот вложил их ему в ладонь. Погоны были парадные, с жесткой прокладкой, каптенармус для удобства перетянул их узкой муаровой лентой.Отец отставил в сторону правую ногу, немо зашевелил губами, лицо его отмякло, становясь молодым.
– Дай Бог, чтобы в этой трудной дороге ты пошел дальше своего отца, – наконец проговорил он, щелкнул пальцем по одной из звездочек. – В нашу пору металлическое шитье погон было лучше, – Илья Петрович не сдержался, тихо вздохнул, – мастерицы были лучше.
Сын неожиданно заметил, как у отца задрожал рот, лицо, только что казавшееся молодым, постарело, осунулось, плечи согнулись, опустились. Новоиспеченному войсковому старшине стало жаль генерала. Он кинулся у отцу, обнял:
– Отец.
Старший Дутов ответил объятием на объятие сына.
В армии того времени не присваивали очередного чина до той поры, пока офицер не приобретал так называемого «годового ценза». Это означало: для того, чтобы стать поручиком, подпоручик должен был определенный срок отслужить командиром взвода. Штабс-капитаном и капитаном он не мог стать, не послужив командиром роты; полковником – не побывав в шкуре командира полка. И это правильно: всякий офицер должен познать армейскую жизнь, не только глядя на нее из окна штаба или с высоты пролетки, поставленной на бесшумные дутые колеса, но и оказавшись среди потных солдатских рядов.
Для приобретения годового ценза Дутов, – иначе бы чина войскового старшины ему не видать, как собственных ушей, – был направлен в дивизию знаменитого графа Келлера, считавшегося в России не только лучшим кавалерийским генералом, но и лучшим наездником, – попасть под начало графа было очень почетно. Пожалуй, в первый раз после петербургского академического поражения Дутов почувствовал вкус к службе. Надо было показать себя…
Он вернулся в Оренбург сразу с несколькими благодарностями, полученными от графа. Боль, сидевшая в душе, сделалась чуть глуше.
– Еремей, осмотри этого битюга, – велел калмык, напряженно вглядываясь в темноту, не покажется ли кто еще на тропке. – Вдруг какие-нибудь нужные бумаги есть?
– Вряд ли чего, кроме двух салфеток для подтирания задницы, мы у него найдем, – угрюмо пробормотал Еремей.
– Почему так считаешь?
– Да потому, что это – обычный пожиратель тушеной капусты со свиными шкурками. Таким секреты не доверяют.
– Все равно обыщи!
Еремеев, обыскав, проговорил трескучим шепотом:
– Я же говорил… Ничего нету!
Невдалеке неожиданно загавкал пулемет, голос его, оглушающе громкий, выбил у Еремеева на коже мурашки. Калмык, стоявший рядом с ним, исчез, будто ввинтился в землю. Еремеев изумленно распахнул рот – чудеса какие-то…
От пулеметного стука под ногами тряслась влажная, хорошо утоптанная тропа. Резкий сильный звук готов был продавить барабанные перепонки. Огненная очередь, искрясь, веером прошлась по черному пространству, взрыхлила его и исчезла. Запахло химическим дымом, кислым и едким. Еремеев поспешно зажал пальцами нос: солдаты на Западном фронте были напуганы газами.
Из темноты вновь вытаял калмык, махнул рукой:
– За мной!
Они прошли по тропе, свернули влево, услышали тихий говор, остановились. Калмык придавил ладонью воздух, приказывая затаиться, сам беззвучно продвинулся дальше и опять растаял в темноте.
Метрах в пятнадцати от тропы был вырыт окоп, на дне которого горел костер, – огонь был зажат стенками окопа, его не было видно, – у огня сидели двое солдат и варили в котелке картошку. Калмык внимательно оглядел немцев, ощупал глазами погоны и недовольно покачал головой – ни уголков на погонах, ни кубарей, ни лычек – обычное необученное пушечное мясо… А нужен был офицер. Знающий все о пулеметах, установленных на берегу Прута, о передислокациях в войсках и о том, какие силы подтягиваются к реке.
Калмык посмотрел на солдат сожалеюще, напоследок вновь зацепился взглядом за погоны и исчез в ночи. Вернувшись к напарникам, скомандовал им:
– Двигаемся дальше!
Через пятнадцать минут они вышли к блиндажу. О том, что этот блиндаж штабной, свидетельствовало присутствие часового – громоздкого, как шкаф, пехотинца с карабином за плечами. Карабин был кавалерийский, укороченный, выглядел на литом плече каким-то игрушечным, несерьезным.
Из блиндажа вылез долговязый, тщательно причесанный офицер с витыми серебряными погончиками, что-то сказал часовому. Тот тяжело бухнул каблуками огромных сапог. Офицер задрал подбородок, некоторое время молча изучал небо, потом бросил часовому еще пару отрывистых фраз и исчез в блиндаже.
Калмык поспешно отполз по тропке назад, скомандовал напарникам:
– Будем брать офицера в блиндаже.
– Это дело, – едва приметным шепотом одобрил решение старшего Еремеев, – только шума может быть столько, что его даже в Могилеве услышат.
– Плевать, – сказал калмык и вытащил из узкого кожаного чехла небольшой, ловко легший в руку нож.
Через несколько мгновений он стремительно вывалился из темноты, полоснул гиганта часового лезвием по глотке. Тот даже звука не издал, только открыл изумленно рот и повалился на спину. Еремеев с Удаловым подхватили тяжелое тело под мышки, отволокли в сторону.
Калмык ткнул пальцем, приказывая Удалову занять место часового, тот проворно занял «освободившуюся вакансию», на всякий случай стянув с плеча карабин. Еремееву калмык приказал двигаться следом за собой, страховать с тыла. Тот поднял руку, показывая, что все понял, и Бембеев неторопливо, без единого звука потянул на себя дверь блиндажа.
В блиндаже, за сколоченным из досок столом, сидели, уткнувшись в карту, два офицера. Один – что выскакивал на улицу к часовому, второй – седой, малоподвижный, с крупным красным шрамом, перечеркивающим левую щеку от скулы до подбородка. В углу блиндажа телефонист, борясь со сном, ковырялся в проводах – что-то у него не совмещалось, работа была нудная, утомительная, и телефонист, не стесняясь офицеров, откровенно зевал.
Калмык показал напарнику на телефониста – возьми, дескать, этого деятеля на себя. Еремеев в ответ нагнул голову. Один из офицеров – тот, который выходил, – настороженно поднял голову – что-то почувствовал. В следующее мгновение калмык, ветром ворвался в блиндаж. Еремеев – страшной быстрой тенью, – следом. Миновав стол, Еремей хлобыстнул телефониста прикладом по темени, – прием этот был отработан у него до автоматизма, – телефонист ткнулся головой в провода, которые держал перед собой, и больше не поднялся.
Потный малоподвижный толстяк был старше сослуживца по званию, но зато в два раза больше, стар и неуклюж – доставить его на свой берег было бы трудно. Поэтому калмык сделал короткое быстрое движение и полоснул толстяка ножом по горлу. Тот захрипел, и Бембеев, обрывая крик, ударил его торцом рукояти по голове. Толстяк ткнулся лбом в стол.
Калмык сгреб в кучу карту, ухватил окаменевшего от ужаса оставшегося офицера за шиворот и оторвал от стула. Офицер распахнул рот, просипел что-то надорвано, калмык двинул его кулаком в нос и показал пальцем на выход:
– Вперед!
Тот, держа руки над головой, послушно двинулся к двери, но по дороге зацепил носком сапога за земляной выступ и чуть было не растянулся на полу. Бембеев, сделав рывок вперед, повис над ним и ухватил рукой за воротник. Снова ткнул пальцем в дверь:
– Вперед!
Немец вновь поднял руки.
Оказавшись снаружи, калмык спросил у Удалова шепотом:
– Ну как? Все тихо?
– Как в гробу.
– Тьфу, тьфу, тьфу! – калмык суеверно поплевал через левое плечо. – Тихо, как в гробу, нам не надо!
Он ужом скользнул на тропу. Пленного погнали следом.
Пленный, понимая, что русские лазутчики запросто могут ему проредить челюсти, не сопротивлялся, послушно сворачивал по тропке, старался, чтобы в кармане ничего не бряцало, замирал, когда калмык давал команду остановиться, зубами зажимал рвущееся из глотки дыхание и ждал команды бежать дальше. Немец был покорный, усталый, уже битый войной, из тех, кому она надоела.
Прошло несколько минут, и лазутчики очутились на берегу Прута. Удалов, тяжело дыша, опустился на корточки, притиснул к губам ладонь, чтобы не был слышен его хрип.
– Кажись, всё, – пробормотал, стискивая рот в кулак, – прошли без сучка… Повезло.
– Не говори «гоп», пока через тын не перемахнешь, – предупредил его Бембеев, подтягивая за веревку к берегу два связанных вместе бревна.
Проворно скинув с себя брюки, он через голову стащил гимнастерку, оставшись в рубахе и белых кальсонах, хорошо видимых в темноте.
– Вот и пригодился нам четвертый, – сказал он, развязывая узлы веревки и располовинивая обрубки с торчащими на манер гребеночных зубцов сучьями, – вот и пригодился… Раздевайся, господин хороший, – велел он немцу.
Тот все понял и начал торопливо расстегивать китель. На шее у немца болталась цепочка, на ней – то ли медальон, то ли маленькая иконка, яркий металл призывно проблескивал сквозь темноту, пленный прикрыл его рукой и ступил в холодную ночную воду Прута.
– Правильно, – одобрил его действия калмык.
В следующее мгновение он сделал несколько гребков и пустился в плавание, немецкий офицер послушно последовал за ним. Замыкающим уходил Удалов: неторопливо огляделся, положил карабин на бревно и ногами оттолкнулся от берега.
На оставленном ими берегу загрохотал пулемет, очередь привычно вспорола пространство. Калмык прильнул к бревну. Пули прошли низко над водой, впечатались в противоположный берег, срубили какой-то слабенький, едва державшийся за осыпающуюся глину куст, тот с шумом свалился в воду.
Калмык вновь выпрямился, за сук подтянул к себе бревно, на котором лежал немец, и велел ему проворнее работать руками. Пленный послушно заработал ладонями, обогнал «корабль» Бембеева.
– Молодец, фриц! – одобрительно отплюнулся калмык, употребив недавно появившееся на фронте словцо.
Противоположный берег, на котором находились русские, сонно молчал. Рыба, которая так шумно плескалась в воде перед заходом солнца, исчезла, словно бы вымерла, – безжизненной стала река и сколько ни гребли лазутчики, чтобы приблизить берег, а он все никак не приближался. Бембеев до боли в глазах вглядывался в черноту, ничего не находил и продолжал устало грести дальше. Рядом с ним также напряженно, выбиваясь из сил, греб немец. Бембеев ни на мгновение не выпускал его из вида.
Временами калмыку казалось, что он остался один, совершенно один в огромном черном пространстве, которое ему никак не одолеть, что нет ни Удалова с Еремеевым, ни пленного немца, все ушли на дно Прута, и тогда он невольно прижимался к бревну, вдавливался подбородком в скатку одежды, вновь простреливал глазами пространство, морщился от того, что ничего не мог увидеть и делал усиленные гребки ладонями. Вздыхал свободнее, когда видел рядом с собою бревно с вяло сгорбившимся немцем. Потом глаза выхватывали из темноты Еремеева, помогавшего немцу грести – Ерема подталкивал его бревно торцом приклада, – калмык вновь вздыхал, выплевывал изо рта воду и слышал свой тихий хрипловатый голос:
– Поторапливайтесь, ребята, поторапливайтесь!..
Едва достигли своего берега, как из густоты кустов вывалился казачий наряд, пловцов подхватили под мышки и потащили в глубину леса:
– Здесь опасно, задерживаться нельзя… Пошли, пошли! Господин Дутов уже заждался вас.
– А где его высокоблагородие? – спросил калмык. – Доложиться ведь надо.
– Сидит в двух километрах отсюда, выше по течению…
– Это так нас отнесло?! – неприятно удивился Бомбеев. – Ничего себе теченьице! Как на Яике…
Пленный оказался ценным собеседником, достойным – рассказал о всех новинках, вводимых в германской армии; Бембеев, Еремеев и Удалов были за поимку важного пленника представлены к Георгиевским крестам, и вскоре Дутов перед строем пешей команды вручил их бравым разведчикам.
– Трое храбрецов совершили вылазку, не сделав ни одного выстрела, – сказал Дутов. – Урон германцам нанесен такой, будто на ту сторону сходил весь наш пеший эскадрон. Вот как надо воевать! – Дутов взметнул над собой кулак, потряс им.
Над строем летали стремительные, будто пули, шмели, пахло цветущей сиренью и медом, воздух был чист и плотен.
– Через несколько дней нам предстоит идти в наступление, – сказал Дутов, – готовьтесь к нему, казаки. Войну эту во имя государя нашего, России и православной веры мы выиграем.
Он прошелся вдоль строя, остановился около Климова, вытянувшегося с застывшим лицом, оглядел его, остался доволен, передвинулся вдоль строя дальше, вновь остановился. Вторично взметнул над собой кулак и рубанул им воздух:
– Обязательно выиграем!Ночь двадцать восьмого мая шестнадцатого года была темной, глухой, в ней вязли все звуки. С неба сыпался мелкий противный дождь, шуршал неприятно, опускаясь в траву, на листву деревьев, собираясь в воронках, в кузовах разбитых пароконок, в торчащих на попа медных артиллерийских гильзах на бывших позициях, пропитывал насквозь одежду. Казаки матерились.
Готовность номер один была объявлена еще вечером. Еремеев достал свой сидор [10] , развязал веревку, заглянул внутрь. Скарб у него, как, собственно, и у всех казаков, был простой – пара чистого белья на случай, если где-нибудь удастся принять баньку, запасные портянки, иконка Богородицы, ложка с вилкой, полотенце и разная исходная мелочь от иголки с нитками до мятого, видавшего виды котелка, завернутого в немецкую газету. Такой же немудреный скарб был и у Удалова. Правда, кроме иконки у него еще имелся молитвенник.
– А у тебя, Африкан, иконы есть? – спросил Еремеев у калмыка.
Удалов запоздало придавил сапогом ногу Еремеева:
– Ты чего это, Еремей? Он же – другой веры.
– Я – некрещеный, – просто ответил калмык.
– Так давай мы тебя… это самое… окрестим.
Сапожник вновь надавил на ногу Еремеева, тот отмахнулся от него, будто от комара:
– Не мешай!
– Ты чего затеял? Сейчас оскорбленный Африкан схватится за пику и проткнет тебя насквозь.
– А чего, окреститься – это дело хорошее, – неожиданно произнес Бембеев, – среди калмыков тоже есть крещеные…
– Вот видишь, – назидательно проговорил Еремеев, отодвигаясь от приятеля.
– Только с этим делом спешить не надо, – проговорил Бембеев, – закончится наступление – можно будет и окреститься.
– А у калмыков какая вера? – Удалов хитро сощурил глаза. – Мусульманская?
– Нет, – Бембеев качнул головой. – Мы – буддисты.
О таковых Удалов даже не слышал. Поинтересовался:
– Это кто такие будут?
Калмык махнул рукой:
– Потом расскажу, – он придвинул к себе аккуратно сшитый, с двойным дном сидор, заглянул внутрь, имущества у него было еще меньше, чем у Еремеева.
– Это правда, что вы, русские, перед тем, как пойти в атаку, надеваете чистое белье?
– Правда, – Еремеев достал из сидора чистую рубаху, – умирать положено в чистом. Самое последнее дело – положить человека в землю в грязном белье.
– А еще хуже – не перекрестить его знамением и не прочитать напоследок молитву, – добавил Удалов.
Тихо было в русском стане, у костров. Люди, готовясь к переправе через Прут, прощались со своим прошлым, с тем, что никогда уже не вернется, шевелили губами, немо творя молитвы, и поглядывали в быстро темнеющее небо. Кто-то запел песню про казачью долю, песню подхватили, но долго она не продержалась, угасла…
Ночную переправу русских через Прут немцы засекли. Вначале загавкал один пулемет, потом к нему присоединился второй, пули густо посыпались в воду. Затем на германском берегу рявкнуло орудие. За ним другое. Раньше орудия на этом участке фронта замечены не были, они стояли выше по течению Прута в специально вырытых капонирах [11] .
Недалеко от Дутова, плывущего вместе со своей пешей командой, в воду всадился снаряд, волна накрыла войскового старшину с головой, поволокла в опасно пузырящуюся глубину, Дутов задергался, замолотил руками, стараясь вырваться из жадного зева, засасывающего его, захрипел, глотая воду, давясь ею и собственным хрипом, – холодный страх сдавил Дутову грудь.
Он заработал руками проворнее, вкладывая в судорожные движения последние силы. Наконец зев ослаб, Дутов вынырнул на поверхность и вцепился руками в бревно, потерявшее своего хозяина.
Рядом плыл плот с короткоствольной пушчонкой, установленной на железный лафет. Около пушчонки горбился, оберегаясь от чужих осколков, орудийный расчет – трое худых солдат, бородатых, очень похожих на неуклюжих птиц, вылупившихся из одного гнезда: коротенький щиток орудия не мог прикрыть всех их, и артиллеристы покорились своей судьбе – что будет с ними, то и будет…
Над головами людей, в воздухе, вновь раздался шелестящий, с коротким подвывом звук, и в воду лег еще один снаряд, взбугрил высокую крутую волну. Она накренила плот с гордой пушчонкой и та медленно поползла с плота в воду. Один из сгорбленных артиллеристов застонал и сполз под колеса пушчонки, двое других вцепились руками в колеса, засипели, стиснув зубы и тряся мокрыми головами, удерживая орудие на плоту. Хорошо, лафет пушчонки был привязан проволокой к бревнам, орудие хлебнуло стволом воды, и плот выпрямился…
Раненый пушкарь растянулся на плоту под колесами. Один из артиллеристов склонился над ним:
– Микола, куда тебя ранило? Куда, а? – монотонно забормотал он, приподнял голову раненого, сунул под нее смятую мокрую фуражку.
Микола молчал – металл перебил в его организме какую-то важную жилу, – и человек стремительно слабел.
Люди продолжали барахтаться в черной, хранящей в себе тепло ушедшего дня воде, хрипели, тихо, с тоской матерились, но упрямо продолжали плыть к противоположному берегу Прута. Несколько раз вода заливала Дутову рот, он захлебывался ею, мотал головой протестующе, делал поспешные гребки, стараясь побыстрее одолеть опасное место… Над водой висел кислый дымный запах.
Хоть и казалось, что переправе этой не будет конца, а конец все-таки пришел – под ногами внезапно оказалось твердое дно, оно само поднырнуло снизу под сапоги, бодливо толкнуло человека. Дутов неожиданно испуганно, как в детстве, поджал под себя ноги и лишь потом запоздало, с облегчением понял – он достиг противоположного берега…
Подхватив скатку белья, лежавшую на бревне, он сплюнул воду и выскочил на берег. Скатка была перетянута кожаным ремнем, из-под ремня торчала рукоять пистолета. Войсковой старшина выдернул пистолет, ткнул стволом в черное пространство – ему показалось, что сверху, из кустов, на берег валится человек с винтовкой в руках, призванный убить его. Дутов предупреждающе щелкнул курком, темь в ответ шевельнулась пусто, под порывом ветра зашумели кусты, но никто из неё так и не вывалился.
Дутов поспешно натянул на себя бриджи, с облегчением услышал, как слева в ночи возникло раскатистое «ура», потом этот же крик раздался впереди, и войсковой старшина, натянув на ноги сапоги, проворно рванул вперед. Пешая команда форсировала реку, целя в пустой промежуток противоположного берега, в стык двух батальонов – австрийского и немецкого. В этом месте строчка окопов обрывалась, и можно было легко вгрызться в оборону противника.
В реку с воем всадился еще один вражеский снаряд, окрасил воду мертвенным голубоватым светом, опрокинул плот с людьми. Послышался длинный тоскливый крик. С фланга ударил пулемет, прошелся свинцом по воде. Крик оборвался. Дутов ощутил, как у него задергалась щека, в висках заплескалась боль.
На плоту мог оказаться и он: ему, как командиру пешего дивизиона, предлагали переправу на плоту при полном обмундировании, но он отказался, предпочтя добираться до вражеского берега вплавь, – в плот попасть легче, чем в одинокого, скрытого покровом ночи пловца.
Он пересек гряду кустов, как некий барьер, услышал слева от себя сопение – в темноте барахтались, сцепившись друг с другом, двое, русский и немец, но определить, кто из них где, было невозможно. Дутов подскочил к сопящей куче, наставил на нее пистолет, в следующий миг неожиданно отчетливо увидел голову здорового немца в сбитой набок каске и ловко ударил рукоятью пистолета прямо в оголенное ухо. Немец вскрикнул негромко, выпустил противника, которого уже почти взял за горло.
Дутов ухватил русского за руку:
– Вставай, казак!
Тот покрутил головой, стряхивая с себя песок, достал из-за голенища сапога веревку.
– Этого гада надо связать, иначе убежит, – прохрипел он.
– Еремей, ты, что ли? – изумленно воскликнул Дутов.
– Он самый, ваше высокоблагородие, – хрипя, отозвался казак, – спасибо за выручку. Не то этот боров… Чуть не задавил ведь.
Еремеев накинул на руку немца веревочную петлю, затянул, рывком перевернул пленника лицом вниз, притиснул вторую руку к первой и проворно обмотал их веревкой, связав концы ее узлом.
– Теперь этот сукин сын хрен куда денется, – прохрипел он довольно, помял пальцами грудь. Вгляделся в темноту.
Впереди вновь послышалось негромкое, смятое беспорядочной стрельбой «ура!», следом – матерные выкрики. Дутов заторопился.
– В атаку, в атаку, Еремеев! – подогнал он казака. – Нам еще линию окопов надо взять.
Неподалеку в небо взметнулось синее плоское пламя, осветило лица дрожащей мертвой голубизной, стремительно опало.
На Дутова налетел коренастый круглоголовый австрияк, выскочивший из пулеметного гнезда, вырытого перед самыми окопами, чуть не сбил его с ног и с воплем шарахнулся в сторону – ошалелый, не увидел русского. Дутов прыгнул в темноту следом, догнал австрияка и что было силы долбанул его кулаком по голове. Как кувалдой. Австрияк пискнул жалобно и, упав, покатился по земле. Дутов навалился на него сверху, придавил, тяжело дыша, прохрипел в сторону:
– Еремеев, ты где?
Австрияк зашевелился под ним, Дутов придавил его к земле сильнее, сверху прижав коленом:
– Никшни!
В следующее мгновение из темноты вынырнул Еремеев.
– Тут я, ваше высокоблагородие. Звали?
– Звал. Принимай еще одного, Георгиевский кавалер! Потом перед полковой канцелярией отчитываться будешь.
В нескольких метрах от них завязалась схватка – пешие казаки сцепились с немцами, рванувшими из окопов в контратаку. Раздавались смятые удары прикладов, вскрики, сопение, глухие стоны, ядреный мат, без которого у соотечественников не обходится ни одна драка, вопли на гортанном немецком, почему-то сделавшимся похожим на грузинский язык, сочное шмяканье опрокинутых тел о сырую землю. Дутов бросился в гущу драки, наскочил на здоровенного рыжего, вооруженного двумя тесаками, – он, как мясник, полосовал всё вокруг себя, крякал, бил в одну сторону, дотягивался до цели, потом бил в другую. Увидев офицера, «мясник» кинулся к нему.
Дутов пригнулся, затем сделал стремительное движение вбок, ушел метра на полтора от нападавшего, снизу выстрелил. Пуля всадилась противнику в голову, мигом превратив лицо немца в кусок сырой говядины, тот выронил ножи и распластался на земле.
– Спасибо, ваше высокобродь! – Дутов услышал всхлип.
Внизу на коленях стоял молодой казачонок и прижимал ладонь к окровавленной, порезанной немцем щеке, но Дутов уже не слышал его слов, метнулся дальше, где на маленьком пятачке молотилось сразу несколько человек. С ходу, что было силы, он врезал ногой по лицу унтера, пытавшегося на четвереньках выбраться из схватки, немец охнул, оскалился по-собачьи и, перевернувшись через голову, растянулся на земле.
– За батюшку государя! – громко прокричал Дутов, увлекая за собой казаков, и в следующее мгновение столкнулся с двумя фрицами, обрушившимися на него сразу с обеих сторон.
В одного Дутов в упор разрядил пистолет. Второй с воплем занес над Дутовым винтовку, пнул прикладом пространство – Дутов успел увернуться. Бок у немца оголился, он провопил еще что-то, прыгнул в сторону и направил на войскового старшину плоский длинный штык.
– Рус, сдавайся! – просипел немец.
– Много хочешь, – ответно просипел Дутов, впустую щелкнул бойком пистолета – в обойме попался отсыревший патрон.
– Сдавайся! – немец засмеялся, в темноте по-людоедски плотоядно блеснули зубы.
Дутов вновь впустую щелкнул бойком – и второй патрон, оказалось, отсырел, – виски его сдавило что-то холодное, во рту мигом образовался комок. Сделалось трудно дышать. Немец засмеялся вновь и направил штык противнику в грудь, ткнул – Дутов едва успел отскочить в сторону, острие прошло рядом с плечом. Дутов выстрелил в немца в третий раз – и в третий раз пистолет дал осечку. Это была уже не случайность – это был рок.
Лицо немца еще больше расплылось в широкой понимающей улыбке – видимо, он и сам попадал в подобные ситуации – он снова ткнул в Дутова штыком. В последний, почти упущенный миг тот уклонился от тычка, затем, опережая противника, совершил ловкий прыжок и ударил немца рукояткой пистолета по каске.
Звон раздался такой, будто Дутов врезал молотком по пустому чугуну. Обладатель «чугунка» шлепнулся на задницу, очумело затряс головой. Старшина дунул в ствол револьвера и позвал уже привычно:
– Еремеев!
Через несколько мгновений Еремеев возник перед ним из пространства, будто некий дух, пришлепнул ладонь к козырьку фуражки.
– Вяжи этого гада, – устало произнес Дутов, только сейчас ощутив, как трясутся руки и колени, а икры свело так, что они сделались будто железными и стреляли острой болью.
Еремеев коршуном прыгнул на плененного. Запас прочных пеньковых концов у него, похоже, был неистощим.Через час немецкие окопы были взяты. В предрассветной темноте они теперь развернулись на сто восемьдесят градусов. Казаки пешего дивизиона начали сооружать на тыловой кромке окопов брустверы – гулко хлопали лопатами по валам земли, за которыми можно укрыться, – тридцать лопат на плоту доставили с той стороны Прута. Руководил инженерными работами подъесаул Дерябин.
– Поспешай, ребята, – подгонял он, – как только рассветет, швабы полезут в атаку.
– Пока они кофий не попьют – не полезут, вашбродь, – знающе проговорил один из братьев Богдановых, насмешливо блеснув глазами, – натура швабская хорошо известна.
– Натура известная – это верно. Но вдруг у них генерал – дурак, страдающий бессонницей? А, Богданов? Возьмет и даст команду атаковать ночью.
– И это может быть, – согласился с подъесаулом Богданов, – очень даже…
Кто это конкретно был из братьев Богдановых – не угадать, Иван ли или Егор: слишком уж походили они друг на друга – родились с разницей в сорок минут. Лица у них, с крупными волевыми подбородками, округлые, улыбающиеся – одинаковые. Открытый взгляд, исполненный всегдашней готовности помочь, и рост, и походка… Даже усы – и те братья носили одинаковые.
Корнет Климов не выдержал, проворчал:
– Ну хотя бы один из вас взял бы, да и сбрил усы… Чтобы отличаться?
– Не можем, ваше благородь, – сказал один из Богдановых, – в таком разе мы нарушим обет, данный родителям.
– Какой еще обет?
– Обещание, что мы с братцем Егоркой дали папаньке с маманькой – они же за нас одной иконе молятся – одному святому, бишь…
– Блажь все это, – продолжал ворчать корнет.
Настроение у Климова было хуже некуда: из штаба дивизии в штаб пешего дивизиона пришло распоряжение, подписанное самим Келлером, о перепроизводстве его из корнетов в хорунжие. Собственно, одно звание от другого высотой не отличалось, но тем не менее лицо у корнета напряженно вытянулось, под глазами образовались и уже несколько дней не исчезали белые «очки».
– Я же не казак, Александр Ильич, – сказал он Дутову, – зачем из меня хорунжего сделали?
– Видимо, исходя из того, что вы служите в казачьей части, – примирительно проговорил Дутов.
Климов хотел выругаться, сказать что-нибудь нелестное о графе, но промолчал – Келлера он боялся, при упоминании его имени вытягивался во фрунт и застывал, будто в строю, с напряженным лицом.
– Ну не в прапорщики же он вас перепроизвел, – Дутов вспомнил, как с ним поступили в Академии, тряхнул головой, словно хотел выбить из нее застрявшую старую боль, и добавил: – Меня тоже обижали… Много раз. Но на жизнь мою это никак не повлияло. Так что отнеситесь к этой метаморфозе спокойно.
Климов поморщился – ему и переправа не понравилась, и то, что вода в Пруте мокрая… И то, что Дутов не умел рявкать на подчиненных, а обходился мягкими замечаниями, тоже пришлось не по душе…
– Работайте, работайте, – рявкнул Климов на братьев, внутренне злясь на себя за то, что давно надо было бы показать этим улыбающимся клоунам Кузькину мать, но он, дворянин и офицер, все чего-то интеллигентничает… Тьфу!
Братья Богдановы, подстегнутые Климовым, заработали проворнее.
Когда рассвело основательно, после кофейного завтрака, без которого офицеры в нарядных парадных касках, схожие с петухами, даже не выходили из блиндажей, немцы поднялись цепью в недалеком логу и двинулись отбивать потерянные окопы.
Дутов поднес к глазам бинокль:
– Без моей команды не стрелять!
– Без команды их высокоблагородия не стрелять, – пополз неторопливый рокоток по казачьей цепи.
Казаки – люди хоть и горячие, но умеющие думать, способные окорачивать себя, если это надобно. Страха они не знали, на врага обычно шли смело, не пригибаясь, но и лишний раз подставлять себя под пули тоже оберегались. Пуля ведь дура, сшибет и не посмотрит, умный ты или пустоголовый…
Немецкая цепь приближалась. Были уже видны потные раскрасневшиеся лица – частый шаг, готовый перейти на бег горячил тела, сбивал дыхание. Впереди цепи двигался гауптман в блестящем пенсне, очень крохотном, карикатурно выглядевшем на красной физиономии. В одной руке гауптман держал многозарядный маузер с квадратной магазинной коробкой, доверху набитой патронами, в другой – лакированную палку с криво изогнутой, украшенной замысловатой резьбой рукоятью. Маузер был нужен ему, чтобы без промаха разить обнаглевших русских, палка – чтобы наказывать своих солдат, если те начнут разбегаться, как тараканы, в разные стороны.
– Айн, цвай, драй! – лихо печатал шаг гауптман.
– Айн, цвай, драй! – также лихо шлепали сапогами по земле его подчиненные.
Всем своим видом атакующие демонстрировали превосходство. Солдатам перед атакой выдали по стопке шнапса, чтобы из подданных кайзера Вильгельма напрочь испарился страх – бояться следовало казакам, незаконно занявшим чужие окопы. Немцам нравилось, как они идут – зрелище, если глянуть на него со стороны, впечатляющее – казаки должны почернеть от страха…
– Айн, цвай, драй!
Лишь музыки не хватало под этот чеканный строевой счет. Серое небо, казалось, и то подрагивало в такт шагам, природа замерла в тревожном ожидании: сейчас что-то произойдет! Германская цепь сомнет казаков, втопчет бедолаг в землю, будто муравьев, и храбрые солдаты кайзера получат в награду еще по одной стопке яблочного шнапса, да по шоколадке на закуску, как рекомендует великий кайзер…
Дутов почувствовал, как внутри возник холод, пополз по хребту вниз, – он расстегнул крючки на воротнике кителя, – дышать стало тяжело… Несколько казаков на бруствере, нервно заерзали – слишком уж близко подошли немаки, можно разглядеть цвет глаз под касками.
– Не стрелять, – напомнил Дутов, – без моей команды – ни одного выстрела… Иначе они сметут нас.Цепь все ближе и ближе, сапоги впечатываются в землю, рождая победный звон и панический гул в голове. Войсковой старшина повернул голову в одну сторону, потом в другую, выкрикнул по-птичьи резко:
– Пли!
Грохнул залп. Земля дрогнула. В гауптмана попало сразу несколько пуль, лакированная палка взметнулась в воздух. Пенсне ярко сверкнуло стеклышками и, будто бабочка, развернувшись в полете, упало на землю, прямо под сапоги уцелевшего немецкого солдата.
Раздался второй залп. Солдат, раздавивший пенсне гауптмана, стукнул сапогом о сапог, подпрыгнул, будто балерина, проорал что-то невнятное и хлобыстнулся на землю, растянувшись во весь рост.
– Пли! – вновь скомандовал Дутов.
Третий залп едва ли не начисто смел изрядно поредевшую цепь – от нее осталось лишь несколько человек. Они не замедлили развернуться и, горбясь, трусцой, оглядываясь, побежали назад. Казаки вслед им не стреляли. Лишь Еремеев высунулся из окопа по пояс и громко, приложив ко рту обе ладони, заулюлюкал. Казаки засмеялись – получилось это у Еремы здорово.
– Улю-лю-лю-лю! – в следующий миг прокатился по цепи уже многоголосый крик, возникший сразу в нескольких местах.
Немцы исчезли в кустах – будто бестелесные сквозь землю провалились.
– Духи, а не люди, ваше высокоблагородь, – убежденно произнес Еремеев.
Дутов покосился на него:
– Ну-ка, друг ситный, пройдись-ка по окопу, проверь, все ли живы?
– Да никого не зацепило, ваше высокоблагородь, швабы же совсем не стреляли, шли молча, будто кофию перепились.
– Выполняй, Еремеев, приказание! – Дутов повысил голос.
Еремеев приложил пальцы к виску и неспешно двинулся вдоль окопа на левый фланг.
– На время, пока мы находимся на этом плацдарме, будешь моим ординарцем, – бросил Дутов ему вдогонку.
– Й-йесть!
– Не слышу радости в голосе, – Дутов вновь напряг голос, поморщился – разговаривать на повышенных тонах он не любил.
– Й-йесть!
По окопу к Дутову пробрался Дерябин, лицо озабоченное, щеки испачканы глиной.
– Александр Ильич, нам эти трупы житья не дадут, – подъесаул ткнул рукой за бруствер, в поле, усеянное телами немцев. – Через три дня они вонять так будут, что здесь даже птицы переведутся.
– Что вы предлагаете? – Дутов провел биноклем по кудрявой неровной линии распустившихся кустов.
– Ночью стащить в одно место…
– Далеко мы их не утащим, – перебил Дутов подъесаула, – а вонять они будут и там… Выход один – зарыть их.
– Немцы не дадут нам этого сделать – они привыкли зарывать своих убитых сами. У меня есть план, – подъесаул сдвинул фуражку набок, вид у него мигом сделался лихим.
– Какой план? – Дутов продолжал разглядывать в бинокль неприятельскую сторону.
Длинная рябая полоса кустов оставалась безжизненна, пуста, смята.
– Взять человек десять германцев в плен и заставить их закопать трупы. В своих стрелять не будут – вот пусть пленные и сделают это дело.
Дутов сунул бинокль в кобуру, потер пальцами усталые глаза.
– В этом что-то есть, – сказал он, – разумное… Только за пленными надо на ту сторону идти – далеко. Да, вот еще чего: убитых нужно обязательно обыскать, забрать у них документы, еду, оружие, патроны. Всё это может нам пригодиться.
– Людей, чтобы обыскать трупы, мы сможем послать только когда стемнеет.
– За это время со стороны немцев следует ждать не менее трех атак. Тут такая гора наберется…
Следующую атаку немцы начали через сорок минут. Безжизненные зеленые кусты вдруг заколыхались, на поляну неожиданно выскочил маленький, шустрый, похожий на мышонка немец с серебряными офицерскими погонами на куцем, почти детском мундирчике и призывно махнул пистолетом. Из кустов выдвинулась цепь солдат.
Тактику немцы изменили – в этот раз они устремились на дивизион Дутова короткими перебежками: сделает солдат в огромной каске сидящей у него на голове, будто тыква, бросок, шлепнется на землю, отдышится и снова делает бросок. Вот так и шли фрицы на пешую команду войскового старшины Дутова.
Старшина покусал зубами свежую травинку, улыбнулся понимающе:
– Ну-ну!
Его команда была усилена пулеметами – с той стороны Прута, несмотря на частую фланговую стрельбу, прибыл плот с двумя «максимами» и несколькими ящиками с патронами. Расчеты – по два человека на каждый «максим» – добрались до плацдарма своим «ходом» – приплыли, держась руками за плот с обеих сторон и отчаянно болтая ногами.
Пулеметы Дутов поставил на фланги, – те казались ему слабыми. Солдаты расчетов выжали мокрое белье, обулись, и так, в сырых кальсонах, приготовились стрелять: бережливые были мужики, с казенным имуществом разговаривали на «Вы».
Ловчее всех совершал броски-перебежки маленький, схожий с мышонком немецкий командир – шустрости его можно было позавидовать. Дутов, глядя на это, всё покусывал травинку и как-то загадочно улыбался. Такая шустрость была не по его чреслам – это раз. И два – он никогда бы не повел солдат в лобовую атаку, обязательно схитрил бы, постарался отыскать какой-нибудь обходной маневр: зашел бы сбоку, ударил бы во фланг… В лоб своих солдат водят только те офицеры, которые имеют в черепушке лишь одну извилину, да и та каской натерта.
– Без моей команды не стрелять, – проговорил Дутов привычно, тихо, но голос этот услышали все, даже пулеметные расчеты, расположившиеся на флангах длинной окопной линии.
– Шустрые, как тараканы, – туда-сюда, туда-сюда, – раздраженно проговорил Еремеев, передернув затвор карабина, уронил голову на бруствер, втиснулся подбородком в глину, щекой прижался к прикладу, будто к девке какой.
Маленький проворный немец продолжал вести перебежками свое войско к окопам, занятым казаками. Не знал он, что на этом участке фронта воюют казаки, иначе не вел бы себя так опрометчиво – маху дала германская разведка, не предупредив командира. Сейчас казаки будут по одному выбивать наступающих, отщелкивать поштучно, как подгулявший кузнец – мишеньки в тире.
– Цепь, приготовиться, – прежним тихим, очень ровным голосом скомандовал Дутов, выплюнув травинку. – Пли!
Ударил залп – половина наступающих на ходу повалилась на землю. С флангов дружно врезали пулеметы, звонкий стук их легко раздробил воздух. Шустрый офицерик, похожий на вымахнувшего из глубины земли тролля, некоторое время катился по пространству словно бы сам по себе, невесомо и проворно перебирая ногами, потом подцепил на лету пулю, взвизгнул и завалился в воронку от снаряда – не видно его стало и не слышно, будто никогда и не было…
Через пять минут перед окопами, занятыми дутовской командой, было пусто – ни одной живой души, лишь летали крупные говорливые мухи, да несколько бабочек-капустниц кружилось в безмятежных хороводах. Казаки молча и заинтересованно смотрели на них…
А бабочки всё играли и кружились, переместившись, порхали над мертвыми телами, вызывая ощущение недоумения, горечи, торжества – всё вместе. Это сложное чувство подминало людей, лишало уверенности в себе, словно бы на них навалилась неизлечимая болезнь. Казаки приподнимались над окопами, темными, глубокими, будто ведущими в преисподнюю, над бруствером, словно над рукотворным рубежом, зачарованно следили за бабочками.
Наконец Дутов затряс головой, сбрасывая с себя наваждение, поочередно осмотрел своих товарищей, лежавших рядом, и проговорил устало, не узнавая своего надтреснутого, с глухим хрипом голоса:
– Отдыхайте, мужики. В ближайший час немцы не полезут на нас. – Поискал глазами Дерябина – тот исследовал биноклем цепь кустов, за которыми скрылись отступившие. – Виктор Викторович, назначьте дежурных – пусть неотступно следят за германцами.
Опрокинувшись спиной на стенку окопа, Дутов вдавился лопатками в холодную желтую глину, глянул в серое равнодушное небо. Затевался дождь. Над людьми мелким пшеном вились комары. Войсковой старшина развернулся, глянул вновь на бабочек. Они продолжали кружить над трупами, будто души убитых…
Через час – Дутов рассчитал точно – немцы начали новую атаку, снова изменив тактику, – раз лобовая успеха не принесла, решили ударить с флангов. Ход был несложный. Дутов предугадал его и усилил фланги – послал туда лучших стрелков, тех, которые могут на лету попасть в муху и уже проверены в деле – Еремеева, калмыка Африкана, братьев Богдановых и еще два десятка человек…
На них немцы и наткнулись – те не проворонили противника. На правом фланге фрицы постарались подобраться метров на пятьдесят к казакам – кусты тут близко подходили к окопам, можно было ими прикрыться – но казаки заметили неприятеля еще на исходных позициях, в ложбине за грядою кустов. Еремеев по-разбойничьи громко свистнул в четыре пальца, прокричал что было силы:
– Внимание, славяне, – немаки!
Люди, дремавшие в окопе, мигом повскакали со своих мест.
Но, прежде чем немцы навалились на фланги Дутова, где-то далеко, по ту сторону земли, глухо бухнуло орудие. Сырой непрочный воздух расползся на несколько ломтей, в нем возникла проворная черная мушка, и германский снаряд шлепнулся в берег, в самый урез воды и земли, подняв к небесам рыжий столб. Влажные земляные брызги долетели до окопов. Казаки зашевелились:
– Ну, проснулись швабы… с ночных горшков слезли!
Дутову эта стрельба была не по душе – слишком недалеко от линии окопов лег снаряд. Сейчас проспавшиеся артиллеристы положат второй, возьмут в вилку, а третьим, сделав поправку, уже накроют казаков. От холодка, образовавшегося внутри, он нервно дернул головой, втянул сквозь зубы воздух.
В далеком далеке вновь бухнуло орудие, земля испуганно, как-то по-сиротски дрогнула, раздалось едва слышное шипение, будто гусак отгонял от гнезда, на котором сидела самка, молодого любопытного гусенка. Шипение усилилось – и второй снаряд также лег в стык берега и воды – немецкие артиллеристы то ли поленились сделать поправку, то ли посчитали, что батарея их и без того хорошо пристреляна. Над окопной траншеей засвистели осколки, во все стороны полетели тяжелые комья земли. Дутов, даже не подумав пригнуться, выругался.
Опять вдали дрогнула земля, нервная дрожь перекатилась по пространству, толкнулась снизу в ноги войскового старшины.
Он поморщился, глянул на противоположный берег Прута, где находились свои, и с досадой саданул кулаком по земляному накату:
– Нет бы нашим пушкарям засечь немецких и ударить в ответ с превеликим грохотом, чтобы головы с плеч полетели! А они вместо этого, видать, кулешом пробавляются да дрыхнут под кустами. Тьфу!
На этот раз снаряд всадился в центр длинного поля, заваленного трупами, раскидал мертвецов. К Дутову, – будто бы кто специально направлял ее, – подскочила дырявая немецкая каска с проломленным боком, подпрыгнула по-козлиному высоко и устремилась в окоп. Старшина посторонился. Каска с бряканьем шлепнулась на глиняное дно окопа.
Казаки не выдержали, засмеялись:
– Во, ваше благородие!
– Что во?
– Злобная какая консервная жестянка… От самого кайзера прискакала. Того гляди, в сапог вцепится.
Дутов поднес к глазам бинокль – не шевелятся ли в кустах задастые немецкие солдаты? В кустах оставалось спокойно, даже ветер не колыхал ни одну из веток. Немецкие пушки вдалеке не бухали. Одно было непонятно Дутову: как это так получилось у рачительных немцев: пехотинцы наступают сами по себе, а артиллерия действует сама по себе? Откуда такая несостыковка? Видимо, что-то не сработало в хорошо отлаженной машине, провернулось вхолостую. Или тут кроется хитроумный план, который Дутов не разгадал?
Снаряды больше не прилетали. Кислая неподвижная вонь повисла над землей. Нарядных беззаботных бабочек не стало – всех спалил огонь. Дутов вновь провел биноклем по линии кустов – никого.
Несколько казаков, сидевших на дне окопа, вытащили затворы из своих карабинов, – затворы от частой стрельбы были словно сажей покрыты, – и теперь протирали их тряпками.
– Не вовремя вы решили разобрать свои винтовочки, – сказал им Дутов, – скоро швабы пойдут в атаку.
– А мы сейчас соберем, минутное дело. Не разбирать нельзя, ваше высокородь, – от грязи механизм заклинить может. Пуля пойдет наперекосяк и застрянет в стволе.
Казаки стали поспешно загонять затворы в карабины.
Швабы начали атаку. И было похоже на этот раз, что артиллерийское начальство соединилось-таки с пехотным. Вначале с того края земли прилетело несколько снарядов, один из которых угодил в окоп и выкосил человек шесть, потом пушки смолкли и на казаков короткими перебежками понеслись немцы.
– Братцы, не спешите стрелять, – выкрикнул Дутов вдоль окопа, – берегите патроны! Выберите мишень, прицельтесь тщательнее, а уж потом давите на курок. Бейте, чтобы промахов не было!
В недоброй, лишенной всего живого тиши был слышен лишь надсаженный хрип немецких солдат да дробный топот сапог, будто стадо быков мчалось по лугу к реке испить воды.
– Пли! – тихо, но очень отчетливо скомандовал Дутов.
Земля вздрогнула от дружного залпа. Количество немцев разом уменьшилось на треть.
– Не торопитесь, братцы, – вновь попросил казаков Дутов, выплюнул изо рта тугую горькую слюну. – Бейте наверняка.
Из кустов ударил залп по казачьему окопу, пули пропели свои опасные песни, несколько свинцовых плошек вошло в бруствер перед Дутовым, взрыхлило землю, одна, угодив в камень, взбила сноп ярких брызг.
– Вот мудрецы, – хрипло пробормотал Дутов, мотая головой – в ушах у него поселился звон, и звон этот, острый, кузнечиковый, надо было из себя вытряхнуть.
Одна из пуль, запоздалая, прошла низко, над самой головой, опалила волосы жаром. Дутов поспешно вжался подбородком в землю, потом приподнялся над окопом, увидел, что немцы находятся уже близко, невольно покривился лицом.
– Казаки! – поспешно выкрикнул он. – Пли!
Залп из казачьего окопа на этот раз был редким, и Дутов понял – сейчас немцы ввалятся к ним. Рукопашной не миновать. Он не выдержал, в сердцах саданул кулаком по брустверу, потом отобрал карабин у лежавшего раненого соратника, который стонал, прижавшись головой к земляной выбоине, оставленной крупным осколком. Дутов загнал в казенник патрон и выстрелил в бегущего черноволосого немца, похожего на большого запечного таракана. Тот шарахнулся в одну сторону, потом в другую, затем вновь очутился на прежнем месте – к русскому окопу шваб бежал зигзагами.
– Вот сволота! – выругался старшина, перезарядил карабин и вновь выстрелил.
Опять мимо – немец пригнулся, вильнул вбок, совершил длинный прыжок, на ходу выстрелил ответно – бил он метко, пуля пискнула по-птичьи у самого плеча войскового старшины. Дутов, загнав в ствол патрон, ударил не целясь, – так обычно получалось лучше, – немец вскрикнул горласто, вскинул руки и, споткнувшись о труп, полетел на землю.
– Так-то, – удовлетворенно пробормотал Дутов, выдергивая из магазина пустую обойму.
Пошарив в подсумке у беспамятно стонущего соседа, вытащил другую обойму, с громким щелканьем загнал ее в магазин. Передернул затвор.
На окоп тем временем навалилось несколько немецких солдат – потных, тяжело дышащих, с выставленными винтовками. Впереди бежал белобрысый светлоокий немец с черными шляпками зрачков. Встретившись взглядом с Дутовым, он ткнул перед собой штыком, просадив насквозь воздух, обнажил белые крепкие зубы, перегрызшие, видимо, не одну глотку, до крови закусил губы.
Дутов выстрелил в него. Мимо. Поспешно перезарядив карабин, выстрелил вторично. Опять мимо. Он выругался, дернул рукоятку затвора на себя, выбивая пустую гильзу, и холодная дрожь встряхнула его тело – гильза застряла. Дутов старался справиться с непокорным латунным стаканчиком, таким маленьким и несерьезным, что, казалось, он никак не мог повлиять ни на одну человеческую судьбу… Войсковой старшина снова дернул затвор, напрягся, сцепил зубы, – за ушами у него даже что-то зазвенело, звон оглушил, виски сдавило. Кожа на голове покрылась холодными мурашками, казалось, волосы встали дыбом. Белобрысый быстро приближался.
Над ухом Дутова раздался выстрел, горячий залп воздуха отбил его голову в сторону. Дутов застонал. Белобрысый изумленно распахнул рот, взвился над землей, дернул ногами несколько раз – движения были суматошными, неуправляемыми, – и через мгновение рухнул на бруствер.
– Не зевайте, ваше высокоблагородь, – наставительно произнес Еремеев, перезаряжая карабин.
– Да у меня патрон заело… – тяжело дыша, проговорил Дутов.
Еремеев выстрелил снова, сбил с ног второго солдата, бежавшего за белобрысым. Тот захрипел на ходу, забусил [12] пространство кровью, поддел ногой рогатую каску-кастрюлю и с лету повалился в траву – только громко лязгнули зубы. Стрелял Ерема метко.
– Спасибо, друг Еремей, – просипел Дутов. Он наконец справился с застрявшей гильзой, выдернул ее из ствола, швырнул под ноги, – если бы не ты… – старшина не договорил.
Немецкая атака сорвалась – враги отвалили от самого окопа, занятого казаками, и поспешно понеслись назад. Хотя на правом фланге они сумели-таки залететь в окоп, и там завязалась рукопашная.
Дутов отложил карабин и ощупал тяжело отвисшую кобуру револьвера – в окопной драке самое лучшее использовать револьвер, – приподнялся на цыпочках, чтобы разобрать, что в окопе происходит и, помотав головой удрученно, предупредил Дерябина:
– Виктор Викторович, держите этот фланг под контролем, следите за всем. Как бы немцы не развернулись в новую атаку. А я – на тот фланг.
Хоть и длинен немецкий окоп, и выкопан со знанием дела – с выносными стрелковыми ячейками и ходами сообщения, с пулеметными гнездами, с досками на дне, – а места для боя мало. Люди, спрессовавшись на узком пространстве, мутузили друг друга прикладами, орудовали ножами, штыками, кулаками – кто чем. Невысокого роста казак лупил битюга-немца по голове каской, тот только мычал, да вскидывал в защитном движении руки, а казак все плющил каску о крепкий череп противника:
– На! На! На!
Войсковой старшина поспешил на помощь казаку, размахнулся, саданул немца рукоятью револьвера по темени, и тот медленно опустился на дно окопа. Казак сел рядом, вытер рукавом форменной рубахи залитое потом лицо:
– Спасибо, ваше высокоблагородь! Не то я совсем замучался с ним. Бью, бью его, а он все руками машет. Вот, гад, крепкий какой попался!
Дутов не ответил, протиснулся по окопу вперед, размял сапогами несколько мелких досок, изрубленных осколками в щепки, отодрал от кучи малы одного немца – сытого, кривоногого, с недоуменными глазами, саданул кулаком в лоб. Немец помотал головой, прорычал что-то и, развернувшись всем корпусом к Дутову, рогом попер на него.
Страха у Дутова не было, было другое – какое-то хмельное веселье, предощущение победы, что ли, желание, как в молодости, в безмятежную юнкерскую пору, похулиганить. Он сделал резкий шаг назад и поманил пальцем немца:
– Утю-тю-тю!
Тот набычился, шагнул к Дутову, поднял тяжелую, с исцарапанным прикладом винтовку, и войсковой старшина больше не стал мешкать да тянуть время – ткнул в него стволом револьвера:
– Хенде хох!
Немец вздохнул хрипло и, бросив винтовку, поднял руки. Дутов набрал в грудь воздуха, крикнул привычное:
– Еремеев!
Не думал он, что верный Еремеев слышит его, но тот услышал и, топоча ногами по доскам, подбежал к командиру, выдергивая из кармана моток веревки:
– Тут я!..
Войсковой старшина шагнул по окопу дальше – рукопашная вместе с рычащими людьми переместилась в самый угол – казаки там доколачивали швабов. Стенки окопа в нескольких местах обрушились, были измазаны кровью, истыканы, под ногами валялись грязные тряпки. И немцы и русские дрались в окопе яростно – кулаками, прикладами, ножами, выстрелов почти не было, только сопение, мат, восклицания, стоны, тупые удары, топот, аханье, всхлипы, хрипы, хруст костей. Выстрелы звучали очень редко, только при крайней необходимости, когда дышать становилось нечем, свет в глазах темнел, а в брюхо целился чужой штык.
Дутов миновал один ход сообщения и отшатнулся – на него, гулко бухая сапогами, несся немец в коротком, не по росту, мундире с закатанными по локоть рукавами. Винтовку он держал, будто дубину, за ствол.
Дутов пригнулся. Тяжелый дубовый приклад просвистел у него над головой. Дутов выпрямился и, стиснув зубы, ударил немца рукоятью револьвера по каске. Раздался звон – шлем «фельдграу» был отлит из прочного металла, ремешок, протянутый под подбородком, лопнул, и каска, похожая на большое, лошадиное копыто, проворно взметнулась в воздух. Дутов ткнул в немца стволом револьвера:
– Хенде хох!..
Сдав немца на руки Еремееву, Дутов снова ринулся в гущу схватки. Воздух над окопом висел смрадный, пахнул кровью, мочой, гноем, гнилью; чем-то противным, пропущенным через желудок, выжатым, вывернутым наизнанку… А неподалеку в кустах безмятежно шебуршали и попискивали птицы, незатейливая возня их никак не совмещалась с тем, что происходило в окопе, писк их был мирным и никакого отношения не имел к войне. Законы мира и войны – разные законы…
Через несколько минут в траншее все стихло. Ко всему безразличные мертвые лежали на дне окопа, вытянув руки, задрав заострившиеся носы. Над мертвыми вновь вились бабочки – опять откуда-то взялись. Живые сидели рядом, отдыхали.
Голова у Дутова была тяжелая, в глазах рябило, хотелось откинуться, разбросать руки крестом и, замерев, провалиться в сон. Он помял вялыми пальцами затылок, втянул сквозь зубы воздух: надо было прийти в себя, но сил на это не хватало, усталость брала свое. Дутов начал щипать жесткие небритые щеки, оттягивать кожу, чтобы сделать себе больно и немного встряхнуться. Наконец последним усилием, – больше ничего не осталось в загашнике, – он заставил себя подняться и выглянуть из окопа.
– Дерябин! – хриплым, едва различимым голосом позвал Дутов своего помощника. – Виктор Викторович!
Казак, сидевший рядом на дне окопа, зашевелился, ожил, повернул голову, передавая зов командира дальше:
– Их высокоблагородие зовут подъесаула Дерябина.
По длинному изгибистому окопу неторопливо двинулось:
– Подъесаула Дерябина – к командиру дивизиона.
Через несколько минут Дерябин – помятый, в гимнастерке с отодранным рукавом, с серым, испачканным глиной лицом, – протиснулся к Дутову:
– Да, Александр Ильич!
– Убитых у нас много?
– Точную цифру сообщить пока не могу, не успел подбить. Но человек двенадцать – пятнадцать есть.
– Давайте, Виктор Викторович, на левый фланг, а я – на правый. Особо надо проверить пулеметы. Важно, чтобы у пулеметов всегда были полные расчеты. Убитых стащить в одно место…
– Будет исполнено! – Дерябин козырнул и стал пробираться по окопу на левый фланг.
Дутов проводил его усталыми глазами, вскинул бинокль.
На кустах, прикрывавших линию, за которой находились немцы, ни один листок не дергался, не дрожал.
– Более двух часов швабы не выдержат, – старшина вздохнул, – снова полезут. – Им очень важно сбросить нас обратно в Прут.
В рукопашной схватке дивизион потерял четырнадцать человек убитыми. Дутов остановился у каждого погибшего, поклонился, закрыл глаза, если те не были закрыты. Этот скорбный ритуал рождал в нем боль, скорбь, у него дергалась щека и печаль сдавливала сердце. Двенадцать человек было ранено. Немцы потеряли на шесть человек больше, и еще двенадцать оказались взяты в плен. Пленные сидели тут же, в окопе, со связанными руками, – презрительно щурили глаза и плевали себе под ноги.
– Ну, плюйтесь, плюйтесь, – глянув на них, равнодушно произнес Дутов. – Ночью в штабе полка будете.
Но до ночи предстояло похоронить убитых. Со своими понятно, что делать. А вот как это сделать с немцами, Дутов не знал. Взять пленных на мушку и послать их закапывать гниющих соотечественников? Не факт, что пленных не захотят порешить свои же. Вот незадача-то!
В окопе Дутову на глаза попался Климов. Лоб у хорунжего был перевязан бинтом.
– Что это с вами? – спросил Дутов.
– Ничего серьезного, – отмахнулся Климов, вид у него неожиданно сделался гордым. – Ссадина.
Дутов понял – для Климова рукопашная стала боевым крещением, раньше он в таких переделках еще не бывал. Дутов ободряюще улыбнулся хорунжему:
– До свадьбы заживет.
– Так точно, – Климов коснулся пальцами бинта.
– Вы, насколько мне ведомо, знаете немецкий?
– В определенных пределах, Александр Ильич. Учил, как и все, не думая, что пригодится.
– Пленных допросить сможете?
– Попробую.
Оказалось, пеший дивизион Дутова выбил с позиций усиленный пехотный батальон, приданный к егерскому полку, – немцы в течение нескольких дней проводили перегруппировку своих сил, укрупняли боевые позиции, что означало одно – они готовятся к наступлению. Русские опередили их – в штабе графа Келлера сидели аналитики посильнее германских штабистов, – потому швабы так и злились, потому они так старались отбить утерянную линию обороны.
– Вот им! – Дутов сложил из трех пальцев популярную фигуру, одинаково понятную и немцам, и русским. – Максимум, что они смогут отбить, – своих дохляков. А дохляков мы готовы отдать им безо всякого боя.Попав на фронт, братья Богдановы часто вспоминали свой дом в станице – из самодельного кирпича, большой, рассчитанный на несколько семей.
Хоть и была разница в рождении близнецов Богдановых всего сорок минут, а они четко придерживались деления «старший» и «младший». И старший в их паре, естественно, верховодил.
Из младшего, Ивана, война еще не выбила из него мальчишество, а запах дома не выветрился из памяти. Старший же, Егорий, казался обстоятельнее, степеннее Ивана.
Теперь братья сидели на дне окопа неподалеку от пленных, охраняемых Еремеевым, с любопытством поглядывая на врагов – такие же люди, сотворенные человеком, так же ощущающие боль, поющие песни и тоскующие по дому, любящие послаще поесть и подольше поспать… Хотя слово «мать», например, у них звучит гораздо грубее, чем у русских. Ну, разве можно сравнить неудобное, будто бы выпиленное из фанеры «мутер» с милым, звучным, словно бы рожденным сердцем словом «мама»?
– Как там дома обходятся без нас? – голос Ивана повлажнел, сделался тихим.
Старший брат задрал голову, посмотрел на кудрявое недалекое облако, неторопливо ползущее по небу, вздохнул:
– Наши сейчас в поле. Хлеб сеют.
– И кто выдумал эту дурацкую войну?
– Как кто? – Егорий не выдержал, с досадою крякнул. – Известно, кто.
– Много бы дал я сейчас, чтобы очутиться в станице, – потянулся, отер пальцами влажные глаза Иван. – Интересно, как там Наталья?
Младший Богданов ушел на войну, не успев жениться: невеста его, Наталья Гурдузова, плакала на станции в Оренбурге так, что косынка у нее стала мокрой, хоть выжимай. Егорий успел провести со своей женой Авдотьей несколько медовых ночей, а потому и к жизни уже относился несколько иначе, чем младший братец.
– А что Наталья? Она там же, где и моя Авдотья. Помогает родителям.
Старший Богданов отщипнул от стенки окопа немного земли, помял ее пальцами, понюхал.
– Чем пахнет?
– Не пойму. Теплая. Самый раз бросать зерно.
– Вместо этого мы начиняем ее железом, – мрачно проговорил младший Богданов и, подражая старшему, с досадою крякнул.
– Я сегодня, братуха, сон видел, – в голосе старшего зазвучали задумчивые нотки, – даже не знаю, как к нему отнестись.
– Что за сон?
– Бабку нашу Меланью Терентьевну видел…
– Да ты что, Егорий! Покойницу?
– Покойницу, – подтвердил старший Богданов. – Как живая была… Стояла у скирды и внимательно смотрела на меня. Я подошел к ней, думал – исчезнет, а она лишь вздохнула скорбно, да губы поджала. Я к ней: «Ты чего, бабунь?», она молчит. «Случилось что?» – она вздыхает. Тут наша Меланья Терентьевна поманила меня пальцем: «Пошли со мною, внук!»
– Это плохо, братуха.
– Не верю я ни в какие сны, Иван, так что… – старший Богданов рубанул рукою воздух. – А бабку я был рад повидать, – лицо у Егория дрогнуло, в следующий миг сделавшись неподвижным, словно отвердело.
Богданов-меньшой глянул на старшего и расстроено подумал о том, что война не даст им вернуться домой. Никогда они не услышат, как поскрипывают под лемехом сухие коренья трав, перерезаемые углом плуга, как стучат слабенькими молочными копытцами новорожденные телята в углу избы. Никогда не увидят сизую, задымленную по весне степь. Не втянут ноздрями печеный вечерний дух станицы, – в каждом дворе были сложены летние печки, а под навесами сушились целые горы кизяков [13] , от которых шарахались даже мухи.
Неужели все это навсегда окажется в прошлом и никогда уже не вернется? Человек предполагает, а Бог располагает…Следующую атаку немцы начали под вечер, когда воздух уже загустел, налился недоброй кровянистой темнотой, по небу плавали длинные розовые нити, схожие с неповоротливыми ленивыми червями, какие обычно встречаются в скотомогильниках. Сделалось неожиданно тихо. Так тихо, что было слышно; как на противоположном берегу Прута, где расположился штаб Первого Оренбургского полка, переговариваются казаки-коноводы, стараясь понять, куда удрала одна из сумасбродных кобыл.
Младший Богданов толкнул брата в бок:
– Чуешь?
– Что?
– Тишина-то какая!
– Ну и что?
– Такая бывает только в могиле.
– Типун тебе на язык, – старший выругался. – Ну, Иван, ну, Иван… Тьфу!
Дутов в это время лежал на бруствере и в бинокль рассматривал дальнюю гряду зелени – там, казалось, намечалось какое-то подозрительное шевеление… Хотя что кроме атаки там могло затеваться? Сейчас немцам однако будет атаковать труднее, чем, скажем, сутки назад, – и слева и справа от Дутова высадились стрелковые десанты, подсыпали швабам перца под хвост – те морщатся, но терпят. Собственно, иного выхода, кроме атаки, у них и нет…
Вот в прогале между кустами мелькнул человек – пронесся стремительно, будто дикая коза, за ним проскочило еще несколько теней, с головами вроде кастрюль, и у Дутова перед глазами задергалась нервная прозрачная строчка – похоже, немцы через несколько минут пойдут в атаку. Он негромко позвал Дерябина:
– Виктор Викторович! Давайте-ка, голубчик, на правый фланг, к пулеметчикам, Климова пошлите на левый, я останусь здесь, в центре. Стрелять, как обычно, только по команде.
Подъесаул тоже засек движение немцев и поспешно двинулся по окопу на правый фланг, по дороге выдернул из стрелковой ячейки Климова и велел ему взять под свое крыло левую часть окопа.
Дутов был прав – через семь минут немцы пошли в атаку. Вначале они скреблись по траве, приподнимаясь над землей, будто жуки, и исчезая, а потом по команде горластого батальонного офицера вскочили и, петляя, понеслись на дивизион Дутова.
Войсковой старшина сдернул с бруствера очередную травинку, привычно сунул ее в зубы. Сощурился критически: непонятно, почему немцы жалеют снаряды. Или имеют какую-нибудь хитрую уловку, дальновидный план? Дутов оставался спокоен, хотя внутри у него все было натянуто, что-то нехорошо подрагивало, в горле дребезжал холодок, словно туда заскочила противная мерзлая ледышка.Казаки молчали. Припав к карабинам, они ждали. Дутов скосил глаза вправо – туда ушел Дерябин. Подъесаул уже добрался до пулеметчиков и скрылся за насыпью. Потом старшина развернулся в сторону левого фланга – что там? И там все было в порядке.
Набрав в грудь воздуха, Дутов выдохнул, прочищая легкие, и крикнул негромко:
– Приготовиться!
Бабочки над трупами ослепляли людей яркими красками – казаки даже хватались за глаза, загораживаясь, ругались – что-то было в этих прелестницах колдовское, мифическое – явно ими командовал дьявол… А Дутов продолжал смотреть на приближающегося неприятеля, ежился, будто ему было холодно, приподнимал то одно плечо, то другое, у него нервно дергались углы рта, но команды «пли!» он не подавал, ожидая нужный момент. На этот раз с немцами наступали австрийцы, – немцы держали их в резерве и распечатывать эту «заначку», похоже, раньше не думали. Но Дутов заставил ее распечатать…
Горло ему сдавили чьи-то пальцы, он сделал несколько резких вдохов-выдохов, невидимое кольцо разжалось и соскользнуло с его глотки.
– Пли! – негромко выговорил он.
Окоп окутался резким, пахнущим скисшей серой дымом. Первая шеренга наступающих повалилась на землю.
– Пли! – вновь скомандовал Дутов.
На поле опять повалились люди, но от того, что два залпа уложили два десятка вражеских солдат, наступающих меньше не стало – наоборот, их стало больше, они бросками, шарахаясь из стороны в сторону, уходя от пуль, вскрикивая, стреляя ответно, приближались к линии, занятой пешим дивизионом. Плотные клочья резкого сизого дыма, зло кусающего глаза и ноздри, плавали над землей, прилипали к кустам; бабочек, всех до единой, словно ветром сдуло.
Дружно заклацали затворы перезаряжаемых карабинов.
– Пли! – в третий раз скомандовал Дутов.
Громыхнул залп, заставил вздрогнуть землю. Воздух сделался темным, неровным, с кустов полетели листья, затрепыхали неровными пятнами в пространстве.
Немцы продолжали наступать, их становилось все больше. Среди солдат, одетых в мышиного цвета форму, мелькали светлые, песочного тона мундиры австрийцев – судя по одежде, это была какая-то особая часть. Дутов поморщился, будто зубы ему свела затяжная боль, просипел натужено, давясь ядовитым дымом:
– Пли!
Человек восемь наступающих кувырком покатились по земле. Казак рядом с Дутовым застонал и ткнулся головой в бруствер. Дутов поспешно перехватил его карабин.
– Пли!
Надо бы перевязать казака, но не до этого – вначале нужно отбить атаку. Казак захрипел, вывернул голову. Дутов увидел блестящий, прикрытый намокшей от крови косой челкой глаз, красные зубы. Он передернул затвор, выстрелил, просяще тронул казака пальцами за погон:
– Браток, не умирай!
Казак продолжал хрипеть. Изо рта у него полилась кровь.
– Пли! – вновь скомандовал Дутов.
В грохоте залпа он неожиданно услышал, как на правом фланге захлебнулся и умолк пулемет. Дутов встревоженно приподнялся над бруствером.
Австриец, бежавший прямо на него, на ходу вскинул винтовку и выстрелил. Горячий воздух опалил Дутову ухо – пуля прошла слишком близко от головы, – войсковому старшине даже показалось, что на макушке затрещали волосы. Он придавил рукой фуражку и выстрелил ответно. Австриец открыл рот, выронил винтовку и понесся по воздуху плашмя. Через несколько мгновений он приземлился, воткнувшись головой в труп, дернулся, затем свернулся, будто маленький ребенок, калачиком и затих. Пуля Дутова угодила ему в сердце.
Войсковой старшина рассчитывал, что атака немцев вот-вот захлебнется, угаснет и швабы вместе со своими наперсниками-австрияками откатятся назад, но не тут-то было – из поредевшей, облезшей от винтовочного жара гряды кустов вылезали все новые ряды вражеских солдат.
Пулемет, умолкнувший на правом фланге, ожил, ударил короткой очередью по перебегающим немцам, затих на несколько мгновений. Дутов не выдержал и даже застонал от холодной боли, стиснувшей ему затылок, – потеря пулемета в такой ситуации может всякого командира, даже более опытного, чем Дутов, довести до сердечного приступа. Но в следующее мгновение пулемет закашлял вновь. Боль отпустила. Молодец Дерябин, справился…
– Пли! – скомандовал Дутов и выстрелил в потного востроносого немца, нависшего над самым окопом.
По инерции фриц пронесся еще несколько метров и с воем нырнул в окоп. Будто с моста прыгнул. Вниз головой, сложив руки лодочкой. Дутов посторонился, – хорошо, что успел это сделать, иначе бы тот размял бы его, распластавшись на дне окопа, неловко подмяв телом правую руку-лопату и вывернув птичью голову. Винтовка влетела в окоп следом, воткнувшись длинным плоским штыком в стенку.
– Ши-и-и-и, – выпростался тяжелый шипящий звук из подвернутой сухой головы, будто из некого испорченного музыкального инструмента.
Дутов передернул затвор карабина и выстрелил немцу в голову. Тот дернулся и затих.
Патроны в магазине карабина закончились. Дутов положил его рядом с казаком, который перестал стонать и шевелиться – то ли потерял сознание, то ли умер, – и, ухватив за приклад немецкую винтовку, выдернул штык из стенки. Немецкая винтовка после русского казачьего карабина оказалась тяжелой, неудобной, выскальзывала из рук, приклад мигом отбил войсковому старшине плечо.
Стрельба шла уже без всяких команд, беспорядочно. Пулемет на правом фланге то оживал, то умолкал – что-то там происходило. Левофланговый «максим» умолк, сквозь частые хлопки карабинов и винтовок стал слышен затяжной хрип бегущих – немцы решили все-таки выдавить непрошеных гостей из своего окопа.
– Вот вам! – Дутов, обозлившись, привычно ткнул в пространство фигой. – Вот!
Слева, недалеко от пулеметной ячейки, возникла драка. Донеслись крики, мат, хлопки выстрелов, высоко над окопом, будто птица, взлетела каска, сбитая с чьей-то дурной головы, следом взметнулась казачья фуражка. Через полминуты там началась настоящая рукопашная…
Прошло еще несколько минут, и справа от Дутова также взлетела немецкая каска, следом – ранец и тощий казачий сидор. Плохо, что немцы ворвались в окоп.
Слева и справа от него слышались крики, кто-то разбойно свистнул. Неподалеку Еремеев доколачивал прикладом немца, наряженного в мундир с одним оторванным погоном, второй погон мятым крылышком болтался на плече, взметывался вверх и опускался в такт ударам приклада. Чуть дальше с фрицем сцепился еще один казак – вбивая его ударами кулака в стенку окопа, немец только ахал, да вздергивал руки, пробуя защититься. Везде шла схватка, всюду возились люди, опьяненные одной целью, одним делом – перекусить глотку врагу.
Несколько минут созерцания отвлекли Дутова, он расслабился, и это чуть не окончилось плачевно – сзади возникла тень, накрыла его незаметно. Ловкий, верткий, как змея, немец в новенькой, пахнущей жаревом форме, – немцы, как и русские, борясь с вшами, тщательно прожаривали одежду, – прыгнул на войскового старшину сверху и придавил к стенке окопа.
Дутов ахнул от неожиданности, в следующий миг ощутил на своей шее чужие пальцы, засипел задавленно, уходя от тисков. Немец, не желая упускать добычу, рыча, также нырнул вниз, садясь на войскового старшину едва ли не верхом. Дутов извернулся и ухватил немца за воротник, резко рванув его, пытаясь перебросить через себя. Противник взвизгнул, врезался головой в стенку окопа, но Дутова не выпустил. Тогда тот, кряхтя, оттолкнулся, уходя назад, поднатужился и сделал новый рывок. Немец вновь вклинился головой в окоп, но только натужено закряхтел.
Войсковой старшина, ощущая, как перед ним начало плыть наполненное яркой краснотой пространство, сопя и морщась от того, что горло словно железом стиснули безжалостные чужие пальцы, собрал остатки сил, вновь вцепился врагу в воротник, рывком перебрасывая его через себя. Немец замычал сдавленно – клейкая глина окопа на сей раз забила ему рот, сдвинула набок физиономию. Вляпался он в нее плотно, не выбраться, здешней глиной даже дырки в сапогах можно замазывать – будет держать, никакая влага не одолеет. Руки немца немного ослабли, и Дутов ощутил, что угасающее сознание начало возвращаться к нему.
В следующее мгновение кто-то бодро крякнул в зияющей глубине пространства, раздался звук тупого удара, и немец безвольно опустил руки. Знакомый голос!
К Дутову подскочил Еремеев, следом калмык, вдвоем они ухватили немца за шиворот и отодрали от войскового старшины. Еремеев с силой хлобыстнул кулаком по каске немца, загоняя ее на голову врага по самый подбородок, Бембеев добавил, вложив в свой хитрый крученый удар всю ловкость, что у него имелась. Немец обмяк окончательно. Дутов, оглушенный, помятый, шатаясь и недовольно ощущая, какие у него непрочные ноги, как болит и рассыпается вялое, неожиданно сделавшееся старым тело, – превозмогая боль и слабость, поднялся, покрутил тяжелой, звенящей головой.
– Ваше высокоблагородь, вы поаккуратнее, – предупредил его Еремеев сочувственным, наполнившимся сухой трескучестью голосом.
– Бывает… – просипел, разминая сдавленное горло, Дутов. – И на старуху бывает проруха.
Братья Богдановы держались рядом, прикрывали друг другу спины.
– Иван, ты смотри, чтобы мне никто штыком не ткнул под лопатки, – кричал Егор, – а я уж постараюсь – намолочу швабов, как зерна на поле.
– Не боись, Егорий, – с готовностью отзывался младший, круша прикладом все вокруг себя, обливаясь потом, делая резкие выпады и тут же уходя назад – на одном месте нельзя было оставаться, надо было вертеться, и Иван с этой ролью справлялся успешно, только стоны вражеские раздавались. – Я тебя не подведу.
На него из глубины окопа, боком, стреляя из-под каски белыми глазами, выдвинулся немец со здоровенной, не по комплекции винтовкой – родственницей пищали, украшенной ржавым штыком. Ткнул в казака, не попал, ткнул вторично, также не попал – слишком проворно крутился Иван. И тогда белоглазый, обнажив от досады крупные зубы, выстрелил. Прямо с бедра, не целясь, – полагал, видимо, что пуля в отличие от штыка – штука умная, не будет дурачить, и расшибет лоб этому проворному русскому. Но не тут-то было – раскаленная плошка свинца выбила из стенки окопа несколько спекшихся комков глины, запоздало встряхнув его, и немец, у которого усы в драке встопорщились, будто у жука, обиженно захлопал глазами: почему пуля не завалила казака, а трусливо прошмыгнула мимо и спряталась в земле.
Слишком старая была у него винтовочка – однозарядный штуцер, который в русской армии не использовался уже со времен японской войны, да и то был извлечен со складов лишь тогда, когда узкоглазые вкупе с сынами Альбиона решили оттяпать от России Камчатку. Впрочем, бой у штуцеров был, дай Боже, и калибр такой, что пуля могла пробить насквозь даже носорога. У «трехлинеечки» это, например, не получалось – пуля застревала…
Гильзу заело. Немец растерянно глянул на противника, перехватил винтовку поудобнее и сделал еще один выпад штыком. Иван вновь увернулся от острия, немец пропорол лезвием воздух и поспешно отпрыгнул назад.
– Ну, давай, давай, давай! – поманил его к себе Богданов-младший. – Я тебя сейчас, как куропатку, на вилку насажу.
Немец снова сделал выпад – ногой оттолкнулся от стенки окопа и повалился на Ивана. Тот выставил перед собой приклад, подцепил им немецкий штык, развернул карабин и резко, будто лопатой, надавив на штык, притиснул противника к земле.
Сил выдержать нажим у немца не хватило, он закряхтел, переступил с места на место, и Иван, неожиданно опустив карабин, нанес ему сокрушительный удар кулаком в скулу. Немец крякнул и полетел на дно окопа, ноги его, обутые в сапоги с укороченными голенищами, просвистели перед самым лицом казака, задрались высоко, затем хлюпнулись на дно окопа, разбрызгав в разные стороны грязь. Иван проворно прыгнул вперед, подхватил винтовку немца и приставил штык к его горлу.
– А ну, поднимайся, – прорычал он грозно, надавив малость острием на кадык.
Штык рассек немцу горло, из пореза брызнула кровь. Он испуганно закричал. Иван поспешно отнял от его горла штык и просипел озадаченно в сторону:
– Брательник! Мы пленных берем или нет?
– Берем! – прохрипел в ответ старший брат.
Егорий только что отбил нападение рыжего латифундиста и теперь боролся с ним, как в сельском кругу на престольном празднике, сцепив руки, кряхтя и роняя на землю пот. Значит, брату помочь не сумеет…
Младший Богданов, схлебнув с верхней губы соленое – то ли пот, то ли кровь – всхлипнул жалобно… Веревкой, чтобы вязать пленных, как запасливый Еремеев, он не обзавелся, поэтому надо было обходиться подручными средствами.
Иван тряхнул пленника, вцепившись ему руками в борта мундира, напрасно надеясь, что вытрясет из этого шваба что-нибудь полезное. Мундир едва не сполз с немца от этого рывка, от полы отлетела пара пуговиц, и Иван увидел продетый в шлевки тонкий кожаный ремешок, брючный. Он ухватился пальцами за пряжку, рванул ее к себе, освобождая шпенек.
Пленник взвизгнул, не понимая, что происходит, лицо его перекосил страх, он уперся ногой в выступ на дне окопа, потом, словно бы вспомнив что-то, сунул руку в нагрудный карман и выдернул оттуда небольшой нарядный пистолетик. «Несерьезный какой револьверчик-то, – только и успел подумать Иван Богданов. – Им бы нежные прошлогодние орешки колоть». Вопрос в мозгу его угас в тот момент, когда коротенький, в рисунчатой насечке ствол пистолета украсился набольшим одуванчиковым цветком.
Раздался негромкий хлопок. Лютая сила смяла Ивана в охапку, отбросила на стенку окопа. Пуля угодила точно в сердце – он умер в тот самый момент, когда раскаленная свинцовая долька, закованная в латунную кольчужку, коснулась его тела. Лишь пред глазами вспыхнул яркий синий свет, на мгновение Иван увидел бескрайнюю и такую милую сердцу степь, что в горле у него в то же мгновение возникли благодарные слезы, виски сжало тепло, и свет погас.
Егорий отшвырнул от себя полузадавленного противника, прыгнул к Ивану, затряс его за плечи.
– Ива-ан!
Не отозвался Иван на крик брата.
Рядом с Егорием раздался негромкий хлопок – это вновь выстрелил белоглазый немец, поразивший Ивана. Пуля просвистела у Богданова-старшего рядом с ухом. Егорий запоздало отшатнулся, в следующее мгновение вновь потянулся к брату, задравшему вверх быстро заострившийся нос.
– Ива-ан!
Он коснулся ладонью лица брата, потом стремительно рванулся в сторону и через несколько мгновений уже стискивал пальцами горло белоглазого убийцы Ивана. Тот захрипел, задергался, взмахнул игрушечным своим пистолетом, щелкнул им один раз – осечка, щелкнул второй и снова осечка, клацнул в третий.
Раздался выстрел – задавленный, негромкий, шутейный какой-то. Богданов-старший невольно закричал. Он не думал, что боль может быть такой оглушающей, и способна подмять его всего. Егорий закричал вновь, потом заскулил жалобно, по-щенячьи подбито, откинулся прочь от белоглазого. Боль не отпускала его, огонь внутри разгорался все сильнее.
Немец поспешно откатился от казака – не дай бог, снова навалится, – втиснулся в стенку окопа, задышал хрипло – никак не мог прийти в себя, привести в порядок измятое горло.
– Пхы-хы-хы, – надорвано сипел он, пистолетик выпал из руки и белоглазый сломленно опустил голову на колени.
Егорий в это мгновение, как и Иван несколько минут назад, плыл по степи – перебирал ногами по мягкому, словно хорошо расчесанная овечья шерсть, ковылю, едва касаясь его ступнями, и дивился нежной шелковистости травы. Перед ним над ровным, словно бы по линейке отхваченным и без единой кривинки проведенным обрезом горизонта поднималось огромное красное солнце. Егорий Богданов, не боясь сгореть, несся прямо к этому солнцу.
Атака немцев была отбита. В рукопашной схватке победили казаки. Часть атакующих была втоптана в землю, часть изувечена, часть взята в плен – в общем, каждый получил свое.
Но и пеший эскадрон недосчитался нескольких десятков. Потери дивизиона, наверное, были бы еще больше, если бы не подоспел десант с той стороны Прута – только благодаря этой свежей силе и удалось опрокинуть противника. Дутов, оглушенно тряся головой, – ему в бою досталось так же, как и другим, – выкрикивал по списку людей. Ему надо было спешно образовать скорбную команду.
Собрал он эту команду в окопе, выстроил, прежде всего включив в нее тех, кого знал – калмыка, Еремея, Кривоносова, Удалова… Им Дутов доверял особенно, сказал:
– Всех казаков надо похоронить как героев!
Жилистый проворный Сенька Кривоносов на этот раз выглядел не таким прытким, прихрамывал и, не похожий сам на себя, вздохнул жалобно:
– Эх, казаки, казаки, жить бы вам да жить…
Еремеев, стоявший рядом, молчал, слизывал кровь с разбитой губы. Сенька толкнул его в бок тяжелым литым локтем:
– Братьев Богдановых не видел?
Братьев нашли – они лежали рядышком, в окружении десятка скорчившихся немецких трупов. Их вытащили из завала трупов, положили отдельно в сторонке, накрыли чей-то брошенной шинелью.
– Эх, братухи! – сыро вздохнул Кривоносов. – У меня же в станице ихние отец с мамкой обязательно спросят, почему я живой, а Егорка с Ванькой нет? Что я им скажу?
Не было на этот вопрос ответа, и Кривоносов страдал: действительно, что он скажет старикам Богдановым? Сенька вздохнул и почесал пальцами затылок:
– Интересно, какой приказ будет – схоронить мужиков здесь или доставить на тот берег Прута?
По траншее тем временем, лавируя между трупами, проходил Дерябин.
– Вашблагородь, – обратился к нему Сенька, – только вы и способны рассудить, – он изложил подъесаулу свои сомнения.
– Братьям Богдановым уже все равно, где их похоронят, – угрюмо проговорил Дерябин, выслушав казака, – на этом берегу или том. Только на тот берег мы можем их и не доставить – хлобыстнет снаряд в плот, на котором тела повезут, и отправит их на дно реки. В земле православному покоиться лучше, чем в воде. Хороните здесь, – Дерябин указал пальцем за отвал окопа, на полянку, – здесь! Только аккуратнее будьте, чтобы немцы вас не постреляли.
– Й-эх, ребяты, ребяты, что я родителям вашим скажу? – взялся за старое Сенька, глянул в очередной раз на медленно остывающие лица своих земляков, всхлипнул неловко и затих с горестно склоненной головой. – Эх, ребяты.Через два часа в траншею, которую занимал пеший дивизион войскового старшины Дутова, шлепнулся снаряд, – наш ли, немецкий ли, не понять. Дутов, лежавший неподалеку и осматривающий окрестности, внезапно выронил бинокль и тихо, без единого звука, сполз на дно окопа.
Еремеев бросился к нему, затряс, приподнял голову:
– Ваше высокоблагородь, а, ваше высокоблагородь…
Дутов находился без сознания. Загорелое лицо его было белым, как бумага. К Еремею, горбясь, едва ли не цепляясь коленками за дно окопа, подобрался Сенька Кривоносов.
– Чего это он? – прохрипел Сенька, склонившись над Дутовым. – Ранило, что ль?
– Хуже, – ответил Еремеев, умевший разбираться в том, какие повреждения может получить на войне человек. – Контузило! Видишь, какой он белый? Под взрывную волну попал. – Еремей вновь тряхнул войскового старшину. – Ваше высокоблагородие! – Приподнявшись, глянул через бруствер на немецкую сторону, пробормотал обеспокоенно: – Как бы швабы, пока командир не пришел в себя, не начали атаку.
Очнулся Дутов через несколько минут – зашевелился, ощупал рядом с собою землю, с трудом, сипя по-старчески, сел. Поглядел мутными глазами на Еремеева, потом на Сеньку и неожиданно спросил:
– Какое сегодня число?
– Дык! – Сенька Кривоносов, услышав этот вопрос, обрадовался, губы его расползлись в невольной улыбке: – Очнулся, радетель наш дорогой!
– Какое сегодня число? – не слыша его, повторил свой вопрос Дутов, одна щека его, левая, тронутая проступившей изнутри восковой прозрачностью, задергалась.
– Сегодня – тридцатое мая, – бросив зачем-то взгляд в даль окопа, ответил Еремеев. – Год – тыща девятьсот шестнадцатый.
Дутов его не услышал – он был оглушен, – спросил вновь раздраженно и громко:
– Какое сегодня число?
– Я же говорю, ваше высокоблагородие, – тридцатое мая, – не понимая ничего, повторил Еремеев, ему почудилось, что сейчас у него, как и у войскового старшины, задергается левая щека, он невольно мотнул головой и добавил: – Год – шестнадцатый.
По окопу, старательно обходя убитых, протискиваясь между телами, морщась, когда приходилось наступать на чью-нибудь откинутую мертвую руку, – будто бы ему самому было больно, – к ним пробрался Дерябин. На голове у подъесаула серел нелепо нахлобученный бинт с проступившим пятном крови, испачканный глиной.
– Что с командиром? – поковыряв пальцем в ухе, прокричал Дерябин.
Его тоже оглушило, из уха на скулу вытекала тонкая струйка крови. Он не слышал самого себя.
– К-контузило, – помотав перед собой ладонью, пояснил Еремеев.
Далекий, едва различимый голос казака все-таки дошел до Дерябина – проник сквозь глухоту, звон и скрежетание в ушах.
– Не вовремя! – охнул подъесаул.
– Может, его на тот берег Прута перебросить? – предложил Еремеев. – В лазарет? А? Здесь ведь покоя не дадут. Наоборот – только загубят.
– Пока не надо, – отрицательно качнул головой Дерябин, – пока пусть здесь находится. Будет хуже – тогда отправим. А пока пусть находится в окопе… Отдыхает пусть. – В следующее мгновение Дерябин выпрямился, – болезненная судорога исказила лицо подъесаула: – Ты чего это высовываешься за бруствер так смело? Дырку в черепе хочешь получить? – закричал он на какого-то недотепу.
Тот, видимо, перепутал войну со станичным бойцовским праздником, где все кроме ухи из сазанов, бузы, сливовой водки, томленной на медленном огне баранины, жареных кур и девичьего пения – невзаправдашнее, где опасность существует только одна – станичные девки могут зацеловать до смерти.
А Дутов продолжал выкарабкиваться из мутной ямы, в которую его сбросил взрыв. Он медленно развернул голову – вместе с корпусом, – вначале в одну сторону, потом в другую.
Но ничего не увидел, а окопа своего, в котором сидел уже вторые сутки, не узнал, поморщился от острого режущего звона в ушах: будто иззубренная финкой крышка консервной банки до крови вспарывала нежные барабанные перепонки, проникая в мозг. Еремеев все понял, с жалостливым видом сунулся к войсковому старшине:
– Я это, ваше высокоблагородие, я, Еремеев… Узнаете меня?
Дутов ничего не понял, Еремеева не услышал, повторил вновь:
– Какое сегодня число?
Еремеев ответил, Дутов засек глазами, что у казака шевельнулись губы, но голос до него так и не дошел, лицо войскового старшины задергалось в мучительной досаде.
– Это контузия… Пройдет, – знающе проговорил Дерябин. – Полежит немного Александр Ильич и поднимется. Только не оставляйте его одного.
– Я побуду с ним, – вскинулся Еремеев, – никуда не уйду.
Не то всякое случиться может. Бывает, контуженый человек, ничего не соображая, направляется прямо к противнику в руки.
– Иногда контуженых, чтобы они отошли, оттаяли, закапывают в землю. По самую шею…
– И отходят? – с недоверием спросил Еремеев.
– Конечно, отходят. А как же! – Дерябин запоздало подивился вопросу, осуждающе покачал головой. – Не бросайте Александра Ильича, это приказ, – он кинул взгляд вдоль окопа, на кучку людей, безуспешно пытавшихся разобраться в мешанине нарубленных снарядами тел. – Я пошел.
Было тихо. Хрипели едва различимо люди в окопе, тенькали невесть откуда возникшие синицы. Родные русские птички, они, оказывается, и здесь, в чужих краях, водились. Следом за синицами появились бабочки. Бабочки вспархивали над дымящейся землей, творили бездумные свои па и пируэты.Дутов, несмотря на контузию, оставался на передовой еще несколько дней, ушел, лишь когда из-за Прута подоспела свежая смена – хорошо отдохнувший, толково сформированный и обмундированный пехотный батальон.
Командир батальона – бородатый подполковник с офицерским Георгием, достойно украшавшим его китель, при монокле, плоско прилипшем к правому, увеличенному до коровьих размеров глазу, – трубно гаркнул, приветствуя Дутова. Войсковой старшина в ответ лишь съежился, будто его прошиб мороз, дернул контуженой головой и промолчал. Пехотный подполковник сконфуженно поглядел на Дутова, разгладил бороду:
– Досталось вам тут…
Дутов, – худой, небритый, с трясущейся головой, – глянул на подполковника неприязненно и вновь ничего не сказал. Утром, отправляя донесение в штаб Третьего кавалерийского корпуса, он имел точные сведения по числу полегших нижних чинов, – пеший дивизион потерял пятьдесят процентов рядового состава, что же касается офицеров, то в глиняных могилах прутского берега остались лежать их две трети. Сам Дутов покинул плацдарм, давшийся казакам такой кровью, последним.
Среди пополнения были питерские работяги с Путиловского завода, орловские мукомолы, говорливые хохлы из-под Екатеринославля – любители вволю поесть сала с чесноком и воротившие головы от винтовок, как от чумы… Угрюмые «пскопские» мужики способны были вгрызаться в окопы и стоять насмерть так, что выковырять их оттуда можно только прямым попаданием снаряда. Северные поморы – такие же, как и «пскопские», неразговорчивые – за два дня они произносили не более одного слов; тот, кто произносит два, уже считался болтуном… В общем, в эскадрон набрали кого угодно, но только не казаков.
Убитых похоронили в большой братской могиле. Офицеров – отдельно, лежать им в одной могиле вместе с нижними чинами было не положено. Те, кто пришел с Дутовым на фронт из Оренбурга, остались живы, – калмык, Еремеев, Сенька Кривоносов, бывший сапожник Удалов, хорунжий Климов.
Над землей волочился запах гари, летали черные жирные вороны, иногда появлялись и знакомые яркие бабочки. Чистое летнее небо от дымов сделалось пороховым, темным, на земле валялись убитые люди, трупы лошадей, разбитые перевернутые повозки, поваленные набок орудия со стволами, искривленными от разорвавшихся внутри них снарядов, чернели обгорелые мертвые остовы фронтовых автомобилей, – война сделала свое дело.После отдыха пеший дивизион Дутова был переброшен на юг, в Румынию, там отличился, отстригая на ходу каблуки у отступавших австрийцев – эти ребята драпали особенно усердно. Задержка у них случилась лишь на карпатских кручах, дыхание у изнеженных тирольцев при виде каменных откосов пропало совсем. А вот «пскопские» да орловские чувствовали себя в тех местах очень неплохо – в простых сапогах, либо в галошах, чтобы ногам не было жарко, без всяких приспособлений залезали они на километровые кручи и дыхание себе не сбивали ни на грамм. От врага только перья летели, в плен австрийцы сдавались большими группами, – брать их по одному считалось зазорным.
Донесения Дутова были немногословны, но от них веяло духом победы, а бумага, на которой они писались, пахла порохом – тем самым запахом, от которого штабные шаркуны поджимали губы и делали кривые лица, будто под хвост им сыпанули молотого перца. «Преодолев семь рядов проволоки и взяв четыре линии окопов, стрелки и казаки вверенного мне участка преследуют противника на Кирлибабу. 250 пленных и трофеи представляю. Потери незначительны».
Командир корпуса граф Келлер ставил Дутова в пример другим:
– Вот так надо воевать, господа! Как Дутов! Не удивлюсь, если он, подобно казакам атамана Платова [14] , первым войдет в Берлин.
Граф искренне верил в то, что говорил. Хотя время было уже другое, и Келлер делал скидку на это: и оружие стало другим, и техника. На фронте появились бронеавтомобили, способные загнать любую лошадь, и пушки начали отливать такие, что в ствол мог свободно залезть человек. И порох изобрели бездымный, и газы, от которых русские войска страдали особенно, и еще много такого, чему можно удивляться несказанно и печально. До чего же изобретательный народ живет на белом свете, что только он ни делает, чтобы уничтожить своего собрата!Во второй раз Дутов был контужен около деревни Паничи, в Румынии. Развернутой цепью дивизион шел на деревню. Боя не ожидалось: Дутов получил данные от пластунов-разведчиков, что в селе чужих нет – ни немцев, ни мадьяр, ни австрияков. Дивизион Дутов развернул в цепь, она хоть и шла с карабинами и винтовками наперевес, но оружие было поставлено на предохранители.
В цепи рядом с войсковым старшиной шагал Дерябин. Две недели назад он был повышен в чине – стал есаулом.
– Что пишут из дома, Виктор Викторович? – спросил Дутов. – Говорят, в Питере очень неспокойная обстановка?
Дерябин регулярно получал письма из Питера. От матери.
– Обстановка хуже некуда, Александр Ильич, – ответил Дерябин. – В Петрограде не хватает хлеба, едят семечки. Полно дезертиров и никому до них нет дела – их не вылавливают, не отправляют ни на фронт, ни под трибунал – они терроризируют город. Хотя бы для острастки расстреляли двух-трех – сразу бы стало легче дышать…
– Черт знает что происходит в российской столице! – Дутов выругался. – Всего-то и нужна пара толковых фронтовых генералов, чтобы наладить там порядок.
Было тихо. Пели дрозды. Дутов и не подозревал, что осенью – на календаре уже было первое октября – так сладко и нежно, так слаженно могут петь эти небольшие птицы. Из села доносилось кукареканье – кочеты в Паничах были самыми голосистыми во всей Румынии. Дутов вытянул голову, прислушался, глаза заблестели влажно, он поспешно нагнулся, подхватил с земли из-под ноги гибкий прутик и щелкнул им по голенищу сапога.
Где-то далеко, по ту сторону горизонта, дрогнула земля, раздался тугой задавленный звук, словно в земле, в глуби ее, где расположен некий механизм, заставляющий вращаться планету, что-то лопнуло. По стерне, жесткой щеткой поднявшейся на поле, пошла дрожь, стерня зашелестела, хотя никакого ветра не было.
– Не пойму, откуда у немцев взялись шестидюймовые орудия? Как они сумели подтащить тяжелую артиллерию по бездорожью? – обеспокоенно размышлял Дерябин.
В русской армии гигантские шестидюймовые орудия передвигались на железнодорожных платформах, иногда они вообще действовали в составе бронепоездов. Стволы у этих громоздких «дур» были едва ли не длиннее самих платформ, в дула любопытные дурашливые солдатики засовывали голову, потом долго чихая от острого запаха гари.
– В техническом плане немцы оказались гораздо лучше подготовлены к войне, чем мы, – под ноги Дутову попалась консервная банка, украшенная готическими буквами, и он, брезгливо дернув ртом, поддел жестянку ногой.
В воздухе, пока еще далеко-далеко, послышалось жужжание, будто летела большая навозная муха, оглядывалась по сторонам, не знала, где сесть, и чем ближе, тем сильнее, громче становилось ее жужжание. Дерябин задрал голову, вгляделся в плоское белесое небо, кое-где ненадежно прикрытое слабыми рябыми облачками, проговорил тихо:– «Чемодан» [15] летит сюда!
– Что вы сказали? – Дутов был настроен благодушно.
По небу вдруг пробежала длинная красная молния, расколола его пополам, жужжащий звук разом сделался сильнее, стал резким, земля под ногами идущей цепи задрожала, как от испуга. Люди невольно втянули головы в плечи.
Дутов поднял глаза, заметил яркую молнию и выкрикнул что было силы:
– Ложись!
Не все поняли эту команду. В дивизионе находилось много новичков, прибывших с недавним пополнением, и если старички, услышав дутовский крик, молча, как снопы, повалились на землю, то эти с открытыми ртами продолжали как ни в чем не бывало двигаться к Паничам, лишь головы, будто куры, втянули в себя.
– Ложись! – вновь закричал Дутов, распластался посреди жесткой стерни, притиснулся головой к тяжелому пористому валуну, глубоко вросшему в землю, но в следующее мгновение вскочил, догнал одного из новичков, повалил его на землю, потом ухватил за плечо другого, также швырнул ниц, прокричал бешено: – Ложись!
Через несколько мгновений он догнал еще одного новичка, вырвал у него винтовку, бросил на землю, уложил рядом ее непутевого владельца, замычал горестно от того, что не успевал спасти всех своих – иной задачи у командира в такой ситуации быть не могло.
– Ло-о-жись!
Над людьми просвистело что-то тяжелое, дымящееся – будто с неба съехал железнодорожный вагон, набитый раскаленным железом – жестяная стерня покорно сломалась, легла, вдавливаясь в землю. Дутов увидел отвал, оставленный неряшливым плугом, прыгнул в него, но долететь не успел, земля перед ним вспучилась грузно, выворачиваясь наизнанку. В лицо войсковому старшине ударило пламя, ноздри забила вонь, он растянулся на стерне и потерял сознание.
Пришел Дутов в себя лишь через несколько суток, с трудом разлепив веки, подивился их тяжести, слоновьей неподвижности, тому, что воздух перед ним подрагивает неровно, а потолок съехал в сторону. Дутов шевельнулся неловко и тут же застонал от чудовищной боли, сдавившей ему голову: он был не только контужен, но и ранен осколком. Рассматривать потолок ему пришлось недолго – тот окончательно сместился в сторону, и перед Дутовым потух свет. Все предметы погрузились в рябую нездоровую темноту, и он вообще перестал видеть.
Как потом определили врачи, войсковой старшина перестал не только видеть, но и слышать – от разрыва случайного немецкого «чемодана» он получил трещину черепа. Тем не менее Дутов быстро поднялся на ноги – молодой крепкий организм взял свое, и в середине октября войсковой старшина уже передвигался по госпиталю с тросточкой – опираясь на нее, ощупывая пространство.
Именно в те дни, шестнадцатого октября шестнадцатого года из царской Ставки, расположенной в Могилеве, пришел Высочайший приказ: войскового старшину Дутова назначить на должность командира Первого Оренбургского Императорского Высочества Наследника Цесаревича полка. Дутов был доволен: свершилось! Полк считался самым популярным, самым авторитетным во всем Оренбургском войске, портреты командиров в станицах висели едва ли не в каждой горнице, вместе с лубочными картинками…
Однако выехал он в полк не сразу – был слаб, земля колыхалась, а перед глазами плавал одуряющий розовый туман. Ноги иногда вообще отказывали войсковому старшине, не слушались его, и Дутов крутил головой огорченно, пытаясь справиться с собою, стирая со лба пот куском старой, застиранной до дыр простыни.
В одном госпитале с ним, только в палате для рядового состава, лежал Еремеев, тоже пострадавший от того злополучного «чемодана». Он похудел, его остригли наголо, и был виден затылок с костлявыми мальчишескими впадинами, в усах появилась седина, глаза сделались тусклыми, – тугая горячая волна взрыва проволокла его метров пятьдесят по полю, чуть душу наружу не вытащила. Хорошо, Еремеев сознание потерял, в отключке ту боль и перемог, иначе вряд ли ему удалось бы уцелеть.
В госпитале верный Еремеев помогал войсковому старшине обихаживать себя – он-то и выпросил в каптерке старую простынь, постирал ее, а потом наполосовал несколько больших, размером не менее мешка, платков.
Сегодня утром он появился в палате у Дутова с тарелкой, накрытой полотенцем. Войсковой старшина лежал с закрытыми глазами, постанывал тихо. Ночью ему показалось, что у него останавливается сердце, пришлось звать врача. Тот примчался встревоженный, и вовремя это сделал: сердце у Дутова действительно сдавало. Три укола, сделанные с перерывом в полчаса, все поставили на свое место – сердце заработало нормально, измотанный Дутов устало закрыл глаза. Очнулся он от того, что его за одеяло тряс Еремей.
– Ваше высокоблагородь! А, ваше высокоблагородие!
Дутов протестующе завозил головой по подушке: очень не хотелось ему, вконец измятому болью, оглохшему, выплывать из спасительного, такого облегчающего сна: только во сне утихала боль контузии, только во сне переставала плавиться объятая жаром голова.
– Ваше высокоблагородь!
Дутов застонал, облизал сухие воспаленные губы. Открыл глаза:
– Ну, чего тебе?
– Вот, – Еремей протянул ему тарелку, накрытую полотенцем, засиял глазами, будто выступал на арене цирка, и ловко, как удачливый фокусник, сдернул с тарелки полотенце.
Под полотенцем аппетитной горкой высились фиолетовые, покрытые сизым густым туманом плоды.
– Что это?
– Румыны угостили. Свежие сливы.
– Свежие сливы? – Дутов мучительно наморщил лоб. – Уже зима на носу, какие могут быть в эту пору сливы?
– Румыны умеют сохранять их до самой весны свежими – до мая месяца. Сливы бывают такие, будто только что с ветки сорваны. Сладкие, от сахара даже лопаются. Съешьте, ваше высокоблагородие. Вам легче станет.
Войсковой старшина поморщился, двинул головой по подушке в одну сторону, потом в другую, задышал хрипло.
– Больно, ваше высокоблагородие? – шепотом спросил Еремей.
– Больно.
– Это пройдет… пройдет, – Еремей зачастил словами, завздыхал шумно, сочувствующе. – Обязательно пройдет. Ешьте сливы, и все пройдет.
Дутов не сдержался и, несмотря на боль, растянул губы в тяжелой улыбке – чем-то Еремей напомнил ему старого училищного дядьку Пана, не хватало только крохотных очочков-капелюшек, которые тот натягивал на крупный облезлый нос, – а так и тон тот же, и поза, и голос.
Вслепую Дутов нащупал на тарелке сливу, помял ее пальцами и отправил в рот. Нехотя разжевал.
– Ешьте, ешьте, ваше высокоблагородие, – произнес Еремей одобрительно, – сливы очень помогают выздоравливающим людям. Я вас поздравляю, ваше высокородь, – Еремеев запоздало вскинулся, приложил руку к виску.
– Кто же прикладывает руку к пустой голове? – укоризненно произнес Дутов. – На голове должна быть фуражка. С чем хоть поздравляешь-то?
– С новым назначением. С командиром полка, ваше высокоблагородие!
– Эка невидаль, – стараясь, чтобы голос его звучал равнодушно, произнес Дутов, но голос все равно дрогнул обрадованно, выдал Дутова. – Нашел, с чем поздравлять.
– А что? Лучше вас командира полка и придумать трудно. У вас и авторитет, и популярность – все для этого есть. И солдаты за вами пойдут.
– Поживем – увидим, – неопределенно отозвался Дутов.
Хоть и мягкая зима обычно в Румынии, а в этот раз в природе что-то не сработало, какую-то гайку на небесах не довернули, оставили щели. С севера в эти щели и подуло лютым полярным холодом, мягкий нежный снег, лежавший на виноградных посадках, отвердел. Солдаты катались с сугробов, будто с ледяных горок – наст выдерживал вес человеческого тела. А вот лошади проваливались, до костей разрезая себе ноги, сшибая копыта, вспарывали животы, ржали печально – наружу выпрастывались их теплые дымные внутренности.
Румыния, недавно вступившая в войну на стороне России, союзником была слабым. Кашу румынские солдаты умели есть на «ять» – только треск за ушами стоял – драпать умели также. Они одинаково лихо употребляли немецкий шнапс, мадьярскую палинку, болгарскую сливовицу, чешскую боровичку и русскую водку, а вот воевать не могли совсем и искусство это одолевали с трудом.
Поэтому, чтобы не дать уничтожить доблестный румынский корпус, солдаты в котором были крикливы словно петухи, требовалось отсечь от корпуса немцев. Такая непростая задача была возложена на полк Дутова. Войсковой старшина ругался. Казаки не слезали с седел, спали, не вынимая ног из стремян – полку требовался отдых, но отдыха этого не давали.
Как-то Дутов выстроил в одной из деревень штабной эскадрон, подчинявшийся лично ему, молча объехал строй, также молча развернулся и, достигнув середины конной шеренги, тронул своего жеребца рукой за шею. Жеребец остановился. Дутов выпрыгнул из седла, поправил на себе ремень с шашкой. Приказал:
– Всем спешиться.
Конники послушно попрыгали на землю, замерли в пешем строю. Прозвучал новый приказ:
– Снять седла!
Приказ был выполнен. Дутов, молча шевеля губами, будто что-то считал про себя, прошелся вдоль строя. С каждым шагом лицо его делалось все темнее и темнее. Наконец он остановился, раздосадовано хлопнул плеткой по голенищу сапога.
– Не жалеете вы своих коней, дорогие мои земляки, – проговорил он, – совсем не жалеете. У двенадцати лошадей здорово побиты спины. Это много для одного эскадрона. Очень много… – Дутов удрученно крякнул. – За это командира эскадрона надо немедленно снимать с должности, понятно? Поэтому слушайте мой приказ. Казаков, чьи лошади оказались покалеченными, с побитыми спинами, – на две недели перевести в пешую команду.
Проштрафившиеся повесили головы: пеший дивизион во всех боях, во всех дырах – первая затычка: где бывает горячо, туда дивизион и бросают. Конных казаков берегут, перегруппировывают по тактическим соображениям, сбивают в кулаки для внезапных ударов. А пеших, приравненных к обычным безлошадным стрелкам, легким на подъем, – швыряют туда-сюда, из-под одних пуль под пули другие. Счет боевым потерям почти не ведут, особенно, когда выпадают дни наступлений.
– Ваше высокоблагородие, мы исправимся, – начал гугнить высокий казак с косой седеющей челкой, выбивающейся из-под козырька фуражки, – куда же мы от наших коней.
– Отставить, Коренев, – оборвал казака Дутов, – пусть кони отдохнут от вас… А ты раз провинился, то имей мужество искупить свою вину и не ной перед строем.
Казак замолчал, обнял одной рукой морду коня и повесил голову.
В тот же день двенадцать казаков были переведены в пеший дивизион, которым командовал есаул Дерябин.
Драпанув от Бухареста верст на шестьдесят, румыны постарались закрепиться на позициях, заранее для них подготовленных. Полк Дутова, прикрывавший отступление союзников, отошел на короткий отдых. Однако отдохнуть не удалось – немцы поднажали на вислоусых каларашцев и буковинцев, и те побежали вновь.
Дутовцы были сняты ночью с отдыха и брошены навстречу немцам: тех надо было остановить во что бы то ни стало, иначе германцы протаранят пространство до самого Днепра. Казаки плевались, костерили на чем свет стоит каларашцев, – но делать нечего – оседлали коней и ринулись навстречу немецкому клину.
В отчаянном ночном бою Дутов потерял восемьдесят с лишним человек. Мелкий, жесткий, плотно прилипший к земле снег от крови сделался клюквенно-красным. Кровавые пятна эти, освещаемые мятущимися факелами в ночи, казались черными. Воздух студенисто дрожал от криков, мата, ржания лошадей и выстрелов. Немецкая лава была остановлена. Пеший дивизион вгрызся в землю, закопался в нее – наспех были вырыты окопы.
Поскольку отступление румынских вояк было беспорядочным, и немцы, несмотря на свой хваленый «орднунг» [16] тоже наступали беспорядочно, то образовался слоеный пирог с довольно сложной начинкой – перед дутовскими окопами сидели немцы, готовые в любую минуту рвануть в наступление, и за спиной, внутри наших позиций, километрах в двух, также оказались немцы.
Узнав об этом, Дутов только покачал головой:
– Как бы нам не оказаться между двумя железнодорожными вагонами…
Хорошо еще, что между оренбуржцами и немцами, сидящими в тылу, оказалась еще одна прослойка, которая в случае чего должна смягчить удар, – стрелковый полк, изрядно вымотанный, поредевший, но живой.
– Лучше бы румыны в войну не вступали, – изучив обстановку, мрачно молвил Дутов, – воевать-то приходится и за себя, и за них.
Днем немцы предприняли вялую попытку атаковать полк, но попытка была настолько неподготовленной, что Дутов даже не вылез из штабного окопа, накрытого трофейным брезентом – изучал там карту. Атаку отбивал адъютант полка. Хотя ухо из-под брезента войсковой старшина все-таки высунул – интересно было, зашевелятся немцы, находящиеся внутри кольца, за спиной, или нет? Те не зашевелились, и Дутов удовлетворению качнул головой, вновь исчезнув под брезентом.
Похоже, начиналась позиционная война. Только вот сколько она продлится, никто не знал.В походах, в «куковании» на каком-нибудь хуторе, когда приходилось поджидать тыловые службы, вечно отстающие от передовых рядов, Дутов любил устраивать свою жизнь с комфортом – не все же время под немецким брезентом сидеть. Чтобы и самоварчик горячий каждый день на столе стоял, призывно пофыркивал и пахнул дымком, и чтобы к чаю варенье разных сортов – войсковой старшина любил побаловать себя сладким, и чтобы еда была свежей, яичница жарилась из яиц, взятых прямо из-под курицы, а антрекоты вырезали едва ли не из ляжки живого быка, с кровью… Имелся такой «бзик» у военного человека.
Став командиром полка, он начал потихоньку обзаводиться хозяйством. В одном из румынских сел Дутов за сущие копейки приобрел у сельского старосты роскошную разборную кровать с бронзовыми львами по углам, которых Еремеев называл на свой лад «левами». В общем, в хозяйстве кроме самовара появилась кровать, а к кровати – пара изящных венских стульев, бронзовый таз для мытья ног, два утюга, один надо было нагревать на огне, другой работал на горящих углях.
Обозники, когда к ним попадал личный груз войскового старшины, пренебрежительно фыркали, отказывались везти. Дутову эти отказы надоели и в один из холодных декабрьских дней шестнадцатого года, когда немцы объявили перерыв в боевых действиях, он написал в штаб корпуса специальную бумагу, отправив ее с конным нарочным. В бумаге той он просил денег на приобретение экипажа для собственных нужд и лошадей.
Прочитав послание, граф Келлер выругался, потом, поразмышляв немного, – все-таки Дутов относился к числу его любимчиков, – ухватил письмо двумя пальцами, будто лягушку за лапу, и отнес его начальнику штаба.
– Разрешите этому любителю цивильных удобств приобрести двуколку, – граф разжал пальцы и письмо шлепнулось на зеленое сукно стола, за которым сидел начальник штаба. Келлер платком вытер руку и добавил: – Этого будет достаточно.
Так в обозе элитного казачьего полка появилась новенькая, окрашенная в защитный цвет двуколка и, как приложение к ней, – пара сытых выносливых меринов неведомой немецкой породы.
– Двуколка – это хорошо, – довольно потирал руки «дядька» Еремеев.
Послал Дутов письмо и оренбургскому вице-губернатору Пушкину с просьбой подтвердить его права на потомственное дворянство – очень уж хотелось Александру Ильичу потешить душу, приятно пощекотать самолюбие, – в чем, в чем, а в этом он никак не мог себе отказать. Вице-губернатор с великой русской фамилией прислал в ответ нужную бумагу, в которой охарактеризовал командира Оренбургского полка самыми лестными словами – похоже, вылил на него все запасы губернского канцелярского елея. Дутов засиял, как новенький целковый.Тем временем в расположении полка неожиданно появилась собака – смышленая, с крупным телом и большими лапами, очень похожая на овчарку. Удивленные казаки, – там, где шли бои, собак не было, они убегали, напутанные стрельбой, ошалев от запаха крови и горелого пироксилина, – попытались подманить пса куском хлеба, но тот, даже не глянув на хлеб, отбежал от них на безопасное расстояние.
Шею пса обтягивал кожаный ремень, под который было что-то подсунуто – то ли конверт какой, то ли кошелек.
– А ведь пес этот – почтальон, – догадался Бембеев и потянулся к карабину.
Пес это движение засек, шарахнулся в сторону.
– Циркач, – задумчиво проговорил Бембеев. – Надо бы за этим псом последить. Он в наших окопах обязательно появится.
– Ты так думаешь? – засомневался Удалов.
– Уверен.
– Может, действительно его лучше шлепнуть?
– Можно и шлепнуть, но вначале надо посмотреть, что за почту он носит.
Пес тем временем мелькнул рыжей спиной на старой нескошенной меже, невольно вызывающей в хозяйственном человека ощущение досады и глухой тоски – разве можно бросать землю? Потом он вымахнул на плешину, затормозил на несколько мгновений, осматриваясь, – ему, как толковому вояке, надо было сориентироваться, – сделал длинный прыжок и исчез.
Бембеев озадаченно почесал пальцами нос, сплюнул себе под ноги.
– Чего плюешься, земеля? – спросил Удалов.
– Думаю, как бы его перехватить. Чую, шмыганье этого пса туда-сюда нам добра не принесет.
Удалов вытянул голову и приложил к уху свою твердую, в наростах мозолей ладонь.
– Слышишь?
– Чего? – калмык тоже вытянул голову.
– А ты послушай…
Серый плотный воздух сухо потрескивал, словно где-то горел большой костер, стреляя сухими сучками. В недалеком, разбитом снарядами лесочке ворона пыталась расправиться с сосновой шишкой, стараясь вышелушить клювом семена, но ничего у нее не получалась, и ворона досадливо крякала. Других звуков не было.
– Слышишь? – вновь спросил Удалов.
Где-то далеко, за полями, раздался крик петуха.
– Петух прокричал, – сказал калмык.
– А что это значит?
– Что?
– Что нас выручит деревня.
– Каким образом? – вид Бембеева сделался задумчивым, будто он в слабом крике том засек нечто такое, что позволит ему разгадать тайну бытия. – Петух, петух… Извини, не могу скумекать… – калмык стукнул себя пальцем по лбу.
– В румынских деревнях полно скота разного, а коли есть скот – значит, есть и собаки.
Калмык блеснул чистыми ровными зубами, обрадованно хлопнул Удалова по плечу:
– Молодец, земеля! Не пальцем сделан!
– Ну что, проведем операцию по поимке вражеского лазутчика? – Удалов с азартом потер руки, будто заглянул в прорезь прицела. – А?
– Не лазутчика, а обычного связного, – поправил его калмык, – а это класс поменьше.
В деревне стояли коноводы, расположились два штаба – стрелкового полка и дутовский, в избах на окраине разместился комендантский взвод, еще жили музыканты и отделение пулеметчиков.
Командиру казачьего полка Дутову отвели место в середине деревни – в отдельном флигеле со светлыми большими окнами, полном звонких сверчков, – ночью эти маленькие скрипучие музыканты голосили так, что невозможно было спать. Еремеев, видя, как мается «Их высокоблагородие», предложил съехать из флигеля, переместиться в хату с меньшим количеством «оркестрантов», и сказал, что уже подобрал справную чистую избенку, но Дутов отказался. Сказал:
– И так сойдет.
– Ваше высокоблагородие, там – ни сверчков, ни клопов, ни тараканов – никакой пакости нет. Очень уж хозяйка-румынка чистоплотная. Нашим бабам у нее поучиться надо. Давайте переедем, а?
Дутов был категоричен:
– Нет!
Еремеев поджал губы, – сделал вид, что обиделся. Но Дутов если принимал какое-то решение, то редко отступал от него, переубедить его было очень непросто, это Еремеев тоже знал и с сожалеющим вздохом отстал от командира полка.
Калмык и Удалов, стараясь не попадаться на глаза начальству, прочесали деревню от края до края, присматриваясь к населению и справным румынским дворам. Отметили, что больше всего псов колготилось около полковой кухни – там и светло, и тепло, и сытно, – самое лучшее место при постылой собачьей жизни. Понаблюдав малость за сворой, вожделенно поглядывающей на закопченный котел, они отметили, что для задуманного дела лучше всего подойдет крупная лобастая сука с темной спиной и желтыми, как у совы глазами. Вокруг нее расположилось три здоровенных лохматых кобеля – явно ждали, когда сука снизойдет до них и одарит любовью.
– Ну как? – приподняв бровь, спросил калмык у напарника.
– По-моему, очень даже.
– Как будем ее ловить?
– Просто. Как? На кусок хлеба.
– Убежит ведь – хрен догоним.
– Не убежит, – уверенно произнес Удалов.
Он цапнул себя за сидор, висевший на спине, – как всякий опытный вояка, Удалов знал, что в холодном опостылевшем окопе часто бывает нечего кинуть себе на зуб, поэтому всегда таскал с собою полбуханки хлеба.
– По-моему, здешние псы получают каждый день на кухне по куску мяса, – глядя на собак, задумчиво проговорил калмык, – и на хлеб даже морду не повернут…
– Посмотрим, – голос у Удалова по-прежнему оставался уверенным. – Они не генералы, чтобы только мясо жрать. А потом, Африкан, я один собачий наговор знаю, набормочу им, так они за мной всей стаей понесутся вприпрыжку.
– Неужто? – с сомнением поглядел Бембеев на напарника.
– Да-да, – подтвердил Удалов.
Он достал из сидора кусок хлеба, поплевал на него, затем что-то тихо произнес, – всего несколько слов, Бембеев даже не расслышал их, а сука покорно поднялась и пошла к Удалову. Окружавшие ее псы поспешно вскочили, ринулись было вслед за ней, но Удалов коротким движением руки отсек их. Они картинно застыли в пятнадцати метрах от людей.
Сука, виляя хвостом, подошла к Удалову, ткнулась носом в его руку. Удалов сунул ей в пасть кусок хлеба. Та проглотила его, как лакомство.
– Все, – сказал Удалов. – Эта собака – наша. – Он, хлопнул себя по колену. – Иди сюда, не бойся!
Сука покорно приблизилась к нему, облизнулась. Удалов дал ей еще кусок хлеба.
– А с тем, с немецким псом, мы не можем так обойтись? – спросил калмык. – А то дать ему кусок хлеба, намазанный топленым салом, и он наш… А?
Удалов медленно покачал головой:
– Ничего не получится. Такой фокус можно проделать только с сукой, – он запустил пальцы собаке за ухо, поскреб там. Псина зажмурилась от удовольствия. – Кобель есть кобель. В кобелях всегда проступает упрямое кобелиное начало… У суки этого нет. Пошли, дорогая подруга, в наш окоп, – он вновь хлопнул себя рукой по штанине и по тонкой, слабо пробитой тропке двинулся в обратный путь.
Сука, словно бы привязанная к нему веревкой, двинулась следом, на ходу пытаясь подсунуться черным холодным носом под ладонь человека.
Калмык не выдержал, азартно потер руки:
– Теперь на этого «почтальона» мы точно накинем мешок.
«Почтальона» засекли часа через три – вдалеке, на голой темной земле появилось живое рыжее пятно, застыло на некоторое время, потом переместилось в сторону, вновь застыло… Удалов погладил суку ладонью по голове:
– Ну, подружка, не подведи.
Африкан приложил ко лбу руку:
– Кобель еще далеко.
– Где бы он ни находился – все равно, к нам завернет, – Удалов потрепал суку пальцами по уху. – Правда, голуба?
Сука преданно глянула на Удалова, в глубоких ореховых глазах ее мелькнуло что-то любящее и одновременно насмешливое, она поймала взгляд человека и опустила голову.
«Почтальон» переместился с открытого пространства в лощину, одолел ее по невидимой тропке перед тем, как вновь показаться на просматриваемом со всех сторон пятаке земли.
Он остановился и сделал охотничью стойку: знал «кабысдох», что служба его опасна, могут мигом заарканишь и лишить головы, потому и осторожничал, крутил носом во все стороны, воздух чутко щупал, стараясь сориентироваться и понять, где его подстерегает опасность.
Калмык восхищенно покрутил головой:
– Ну и пес! Осторожен, как австрийский фельдмаршал.
– Это ему не поможет! – не сдержал усмешки Удалов.
Пес той порой одолел опасный участок и вновь остановился, прижался брюхом к земле, с шумом втянув воздух: почувствовал суку. Удалов подсадив под зад, выпихнул её из окопа:
– Давай-ка, милая, зааркань этого хахаля!
Очутившись наверху, собака неспешно отряхнулась, осмотрелась и полной достоинства трусцой направилась к кобелю.
Тот, ошалев от радости, мигом взметнулся над землей, сделал стойку. Дом, вкусная сахарная кость, ожидавшая его на финише, в добротно вырытом офицерском блиндаже, были разом забыты. Все его внимание переключилось на эту красавицу, невесть откуда взявшуюся. «Почтальон» наметом помчался к ней, с ходу прыгнул… Сука извернулась вьюном. Пес залаял, взвился восторженной свечой, куснул себя за хвост, вновь попробовал оседлать суку, но та опять увернулась от него.
– Все, кобелек – наш, – удовлетворенно резюмировал калмык, – со всеми своими секретными корреспонденциями, – он хлопнул Удалова по плечу. – Молодец, однако! Быстро сообразил, как на этого хлопунца накинуть плетушку.
– Погоди, вначале надо накинуть.
– Дело, как я разумею, в шляпе.
Собаки тем временем начали резвиться, взлаивать, рычать, носиться друг за дружкою. Люди, сидевшие в окопах, следили за ними.
– Давай, начинай подманивать, – Бембеев толкнул напарника в бок.
Удалов, не отрывая глаз от собак, отмахнулся:
– Рано еще. Пес должен увлечься окончательно.
– А вдруг с немецкой стороны кто-нибудь пальнет?
– Исключено. Собака в Германии, как корова в Индии, – священное животное.
Минуты через три Удалов достал из кармана кусок хлеба, поплевал на него, произнес несколько таинственных слов и свистнул суке. Та мигом оторвалась от кобеля и понеслась к окопам. Кобель кинулся было тоже, но остановился в раздумье. Сука, увидев это, тоже остановилась, скосила глаза на ухажера.
– Вот что бабы с нами делают, а! – восхищенно и одновременно уничижительно произнес Бембеев. – Что у людей, что у зверей – все одинаково. Гибнут мужики!
Удалов вновь свистнул. Сука опять вскинула голову, запрядала тонкими мускулистыми ногами, собираясь бежать, но кобель так и не тронулся с места, и сука с вопросительным видом повернулась в сторону окопов.
– Ну бабы, – не переставал возмущенно кропотать калмык, – ну и сволочи! Вот народ! Ты только погляди, что сейчас она будет с ним делать.
– Ничего делать не будет, – спокойно проговорил Удалов. – Приведет сюда и сдаст нам на руки. Только и всего.
– Но ты посмотри на ее позу!
Удалов свистнул в третий раз. Сука сделала несколько нерешительных шагов в сторону окопов и опять остановилась, высокомерно, будто светская дама, оглянувшись на «почтальона»: ну что же ты, мол? Только шерстяные штаны свои способен протирать до дыр в разных зарослях, а как поухаживать за дамой, так сразу хвост к пузу поджал?
Пес намек понял, пристыженно опустил голову, сделал несколько коротких шагов, словно бы собирая дыхание для разбега, потом, разом обрубив в себе все сомнения, совершил длинный ловкий прыжок и в одно мгновение очутился около суки. А та, отзываясь на свист Удалова, побежала к окопам. Кобель, забывший о прочем, – слишком пустой оказалась его собачья голова, – припустил следом.
На ходу пес настиг суку, нежно ухватил зубами ее ухо, сука пролаяла ему что-то в ответ, отпрянула в сторону и через несколько минут уже прыгнула в окоп, к Удалову. Кобель, не колеблясь ни мгновения, махнул следом. Калмык ухватил его за ошейник и притянул к себе. У пса испуганно задрожала шкура, хвост автоматически, сам по себе, прилип к брюху.
– Тихо, тихо, тихо, – ласковым успокаивающим шепотом проговорил калмык и нажал стягивать с его головы ремешок…
В кошельке, притороченном к ошейнику, лежала свернутая в несколько частей бумага, в ней был изложен – с двумя подробными схемами – план прорыва окруженной группы немцев к своим.
Дутов, получив этот план, довольно рассмеялся:
– Это – то самое, что нам нужно больше хлеба!
– Что делать с «почтальоном», ваше высокоблагородие? – спросил Удалов.
– Отпустить.
– Вместе с этой бумажкой?
– Только вместе с нею. Иначе будет потерян весь смысл операции. Через десять минут я отдам вам это послание.
Штабные работники, как и обещал Дутов, колдовали над «посланием» ровно десять минут, перерисовали схему, направление прорыва и вновь запечатали бумагу в кошелек.
Удалов отволок сильно перетрухнувшего кобеля в окоп, там подсадил его на бруствер в низинном месте, чтобы немцы не заметили. Пес, пригибаясь к земле, едва ли не волоча свою повинную голову, унесся вначале в лощину, покрытую вереском, оттуда – на пригорок, сделал там стойку и вскоре скрылся на вражеской территории.
Дутов удовлетворенно засмеялся – в нем появилось что-то мальчишеское, будто он вновь ощутил себя гимназистом, решившим испробовать свои силы в кулачном бою. Небольшие медвежьи глазки его нетерпеливо расплылись, сжались в прорези – ему хотелось побыстрее вступить в игру, затеянную подчиненными, он уже видел, во что она выльется. Противнику можно накостылять так, что тот будет кашлять до самого лета, и серые стальные шлемы «фельдграу» ему понадобятся уже для того, чтобы варить в них целебные примочки и снадобья. Дутов засмеялся вновь:
– Главное, чтобы немцы, их главные силы, поверили бумажке, пришедшей от окруженцев, из самой середки слоеного пирога, и ничего не стали менять, – сказал он адъютантам.
В окопы загнали комендантский взвод, хозяйственников, ездовых… Подтянули несколько пулеметов, снятых с других мест, под прикрытием темноты затащили в лесок облегченную горную пушку, потом еще одну, установили орудия без всякой пристрелки, – артиллеристы в полку опытные, на глазок могли бить хоть по самому Бухаресту, лишь бы стволы пушек были подлиннее, – откупорили ящики со снарядами и приготовились встречать гостей.
Было тихо, очень тихо. Земля, которую за день немного разогрело тусклое невзрачное солнышко, теперь отдавала свое тепло людям и пространству – буквально из ничего, из воздуха рождались кудрявые трескучие туманы, лихо слизывая пласты изморози, ломали макушки у засохшей грешной поросли, забивали глаза солдатам едкой, как дым, ватой. В этой непролазной вате глохли все звуки – не слышно было даже голосов.
Дутов обеспокоенно глянул на часы, пощелкал крышкой, не хотевшей закрываться на запор, сунул «мозер» в карман. Рядом с ним стоял Лосев – старый офицер с серыми от седины висками и неприятным тяжелым лицом – также напряженно вглядывался в темноту.
– Не проворонить бы нам супостата, господин командир полка, – пробормотал Лосев.
– Не провороним, – уверенно произнес Дутов – ему не терпелось поскорее ввязаться в драку.
Лосев сжал рот в жесткую, длинную линию, неодобрительно глянул на Дутова. Командира полка он не то, чтобы не любил, нет – все гораздо сложнее, и отношение его к Дутову было сложное. Он считал того обычным выскочкой, генеральским сынком, который благодаря папаше нацепил на себя обер-офицерские погоны. Не одобрял Лосев и дутовскую тягу к удобствам, все эти двуколки и тарантасы, приобретенные за полковой счет. Отдельная тема – неспособность Александра Ильича усвоить мудреные штабные науки, по причине чего он был лишен права носить генштабовские аксельбанты, ну и так далее. В общем, было у Лосева к Дутову много претензий, но до поры до времени он их не высказывал.Плюс ко всему Лосев одобрительно относился к деятельности солдат-агитаторов, они нравились ему – правду-матку мужики резали прямо в глаза, никого не боясь, – и царя-батюшку тремя популярными буквами крыли, и царицу, и порядки российские; эта откровенность небритых агитаторов-окопников согревала Лосеву сердце. Дутов же приказал подобных краснобаев отлавливать, задирать им куцые шинельки и сечь шомполами. Чтобы знали, какие темы для бесед в окопах приличные, а какие совсем не подходят. Лосев эти действия командира полка осуждал.
Впрочем, Дутов, в свою очередь, относился неодобрительно к Лосеву, от которого часто исходило слишком явное неприятие. Дутов, очень чувствительный к таким вещам, удивленно поглядывал на Лосева и ждал, когда неприязнь в том проклюнется окончательно и вылезет наружу…
В жидкоствольной темной рощице пела незнакомая ночная птица, пела щемяще трогательно, выводила сложные рулады, словно бы прощалась с кем-то, казаки внимательно слушали ее, огрубевшими, изувеченными холодом ветрами и окопной сыростью пальцами стряхивали с глаз влагу, крестились:
– Это райская птица напоследок слух наш тешит. Отпевает тех казаков, кого сегодня после немецкой атаки не станет….
На низком, черном небе ни одна звездочка не протиснулась сквозь темноту, не свалилась на землю – все осталось там, за плотным одеялом-пологом, под которым даже дышать было тяжело, не только сидеть в окопах.
Калмык и Удалов расположились рядом, неподалеку от них поудобнее пристроил на бруствере свой карабин и трофейную винтовку-маузер Сенька Кривоносов. Ожидание атаки оказалось затяжным, вызывало озноб – по коже бегали шустрые мурашки, выскакивали из-под одежды, шустрили проворными лапками по щекам.
Кривоносов невольно ежился:
– Черт знает что!
– Сыро тут, – недовольно пробурчал Бембеев, – не то, что у нас под Оренбургом.
Лицо у Сеньки будто размякло – слова калмыка вызвали у Кривоносова приятные воспоминания.
– Такую землю, как там, вряд ли еще где найти, – он улыбнулся.
– Говорят, когда нарезали первые казачьи наделы, – включился в разговор Удалов, ему тоже захотелось вспомнить родные места, – то давали человеку аршин и говорили – иди, отмеряй себе землю. Сколько за день человек мог себе отмерить, столько ему и давали.
– День дню рознь, – Бембеев хмыкнул, – летний день – одно, зимний – другое.
– Красивая байка, – Кривоносов почмокал языком, – я ее слышал раньше… Красивая! – Он передернул плечами: холодно.
Немцы пошли в атаку тихо, без единого звука, сразу с двух сторон – с фронта и с тыла. Они планировали воспользоваться растерянностью казаков, смять дутовский полк, пробить брешь и соединиться, но едва подошли к окопам, как неожиданно разом заполыхало несколько копен соломы. Горела она ярко, с пороховым треском и наверняка скоро прогорела бы, если бы сверху все до единой копны не были придавлены дровами. Светло было, как днем.
Немцы шарахнулись от огня в сторону, стали что-то кричать, открыли пальбу. Пулеметный огонь смел атакующих, вдавил их в землю, немецкий прорыв был сорван – враг так и не сумел пробиться к русским окопам. Языки пламени, будто живые, бегали по земле, гоняясь за людьми, гасли, утомленные игрой, потом начинали все сначала. Несколько трупов чадили, будто плохие свечки, – огонь вцепился в одежду убитых и не хотел отпускать добычу. Резко пахло пороховой кислятиной, дымом, горелым мясом, гадкий запах этот выворачивал нутро наизнанку.
Потери полка Дутова в этом бою оказались незначительны, хотя в общей сложности, прикрывая отступающих румын, он потерял половину состава.
В ночном бою пуля зацепила Бембеева – прошла по касательной по голове, содрала кожу с виска. Рана была небольшая, но крови пролилось много.
– Может быть, мне тебя, паря, к фельдшеру отвести? – предложил калмыку Удалов.
– Не надо, – у Бембеева контуженно дернулась щека.
Не хотел он оказаться в таком положении, но вот не повезло – оказался.
– Кровищи из тебя, Африкан, вылилось, как из быка. Вдруг у тебя голова пробита – того гляди, мозги наружу выплеснутся?
– Не боись, не выплеснутся. Лучше помоги перевязаться. Ладно?
Африкан оказался человеком запасливым – у него не только чистая холстина и вода в оловянной немецкой фляжке оказались в сидоре – в небольшом госпитальном пузырьке, замкнутом деревянной пробкой, плескалась и водка. Удалов выдернул деревяшку и восхищенно потянул носом:
– Ну ты, брат, даешь, я бы ее давно на лечение мозолей пустил.
– Каких мозолей?
– Тех, которые в желудке. Чтобы они не допекали, их надо регулярно смазывать водкой.
Африкан и холстину заранее приготовил так, как только в госпитале и могли приготовить – скатал в два длинных рулончика. Как бинт. Для перевязки «бинты» были великоваты, поэтому Удалов оторвал часть от одного из них, намочил водкой.
– Подставляй-ка, паря, бестолковку. Я, конечно, не сестра милосердия, но раненых мне приходилось перевязывать.
Бембеев скривился в ожидании. Удалов это заметил, подмигнул Кривоносову, с интересом наблюдавшему за процедурой, потом аккуратно смыл водкой застывшую кровь, наложил холстину Африкану на голову и похлопал того ободряюще по плечу:
– Терпи, казак, атаманом будешь.
Бембеев с трудом раздвинул спекшиеся губы:
– Какого войска? Оренбургского?
– Калмыцкого.
– У нас там свой атаман имеется. Нойон – князь… Он всем командует. Единолично.
– Не слишком ли жирно?
– Да и с оренбургским можно проскочить мимо. На это место наш командир полка в будущем обязательно станет претендовать.
Кривоносов сплюнул на дно окопа:
– Ну, ему до атамана так же, далеко, как Африкану до своего нойона, – сказал он и умолк.
– Для этого нужно быть генералом, – подхватил Удалов, – а до генерала Дутову еще служить да служить. Знаешь, сколько хлеба и соли надо смолотить?
С перевязанной головой калмык выглядел картинно – походил на древнего воина, невесть каким образом прорвавшегося сквозь времена и очутившегося в этом сыром, грязном окопе. Он поднялся, ногой отодвинул в сторону снарядный ящик, на котором сидел.
– Хоть красные мухи перестали перед глазами роиться, – чужим сиплым голосом произнес он.
– Может, тебя все-таки сдать на руки какой-нибудь симпатичной сестричке милосердия, – предложил Кривоносов. – Отдохнешь, кашей подзаправишься… А?
– Не надо.
– Смотри, паря. Вольному – воля…
На рассвете, когда природа сделалась тусклой, невзрачной, деревья будто слиплись друг с другом, а высохшая трава в нескольких местах покрылась хрусткой изморозью, вновь появился пес-связник. Его заметили на подходе к линии казачьих окопов – осторожного, подрагивающего от холода и ощущения опасности, с поджатым хвостом, растолкали дремлющего под брезентом Удалова.
– Твой приятель опять приперся…
– Какой приятель?
– Пес немецкий. Который туда-сюда бегает.
– А-а, – Удалов с хрустом потянулся, зевнул. – Этого «кабысдоха» надобно снова словить.
Пес обошел казаков стороной, на бегу схватив какую-то полезную для живого организма травку, в лощинке присел, огляделся. Посмотрел на макушку высокого раскидистого дерева, которую облюбовали для ночевки крупные мрачные вороны, потом пробежался взглядом по длинным брустверам казачьего окопа и, поспешно вскочив, понесся к окруженцам. Через несколько секунд он исчез.
– М-да, – тусклым голосом проговорил Удалов, ухватился рукой за небритый подбородок, подвигал его из стороны в сторону, будто деталь некого механического агрегата. – Времени у нас есть часа два. Надо снова идти в деревню, за подругой для этого хахаля.
Он потянулся, сладко похрустел суставами, потом всадил носок сапога в выбоину в боку окопа вместо ступеньки и ловко вымахнул наружу. Скатился в ложбинку, из нее перебрался в лесок – здесь неприятельская пуля уже не могла достать. Тут Удалов распрямился, подождал Кривоноса – на этот раз в походе в деревню сопровождал его он, а калмык остался в окопе, – и потрусил скорой походкой по натоптанной тропке к домам, украшенным высокими соломенными крышами.
В деревне Удалов решил повторить свой прежний фокус – достал кусок хлеба, перекрестил его, сделал несколько пасов пальцами, произнес пару нужных слов и поднял над головой. Громко свистнул:
– Фьють! Собака!
Но собака не появилась – то ли забилась в глухой угол и теперь спала, ничего не чуя, то ли ее убили, то ли поймал какой-нибудь рачительный хозяин-румын, привыкший, чтобы всякая скотина была приставлена к делу, и посадил на цепь. Удалов огорченно пошмыгал носом:
– Кобеля немецкого мы можем поймать только на течку, как карася на жирного навозного червяка, – сказал он. – Другого способа нет.
– Думаешь, не дастся?
– Определенно не дастся.
Им повезло – на противоположной околице они поймали другую суку, за которой, выстроившись в цепочку по какому-то своему рангу, бежали кобели, – темную, с серыми грязными пятнами на спине и боках, «в яблоках», будто шкуру этой псине подарил какой-нибудь жеребец.
– Вот она-то нам и нужна! – обрадованно вскричал Удалов и свистнул суке.
Та оглянулась на свой почетный эскорт, кобели, словно поняв, что должно произойти, протестующе замотали тяжелыми лобастыми головами, зарычали грозно, отпугивая людей от своей избранницы. Удалов в ответ лишь рассмеялся, снова коротко свистнул, щелкнул пальцами, что-то сказал, – Кривоносов слов не разобрал, – и кобели остановились, как по команде, понурив головы. Сука прощально глянула на них, взвизгнула тоненько, по-девчоночьи, и потрусила к казакам.
– Це-це-це, – поцецекал языком Удалов, подзывая ее.
Сука перешла с трусцы на бег.
– Извини нас, подружка, – сказал собаке Удалов, – нам надо спешить. Иначе красавец кобель скроется в туманных далях. А нам этого допустишь никак нельзя.
Умная псина, для которой «це-це-це» значило больше, чем для иного новобранца длинная речь ротного командира, завиляла хвостом и, подбежав к Удалову, ткнулась носом ему в руку.
– Ах ты, моя Василиса Прекрасная, – проговорил Удалов душевно, – покорительница всех псов в Румынии, в Польше и в Восточной Пруссии, вместе взятых…
Сука завиляла хвостом сильнее, слова человека ей понравились, – растянула пасть в улыбке.
– Пошли! – сказал ей Удалов, хлопнул ладонью по штанине, и собака поспешно пристроилась к его ноге.
– Молодчина! – похвалил суку Удалов, извлек из кармана кусок хлеба и сунул ей в зубы.
За кобелем-связистом следили во все глаза – когда он появится.
– Тому, кто первым увидит кобеля, – приз, – объявил Удалов, достав из кармана искусно сделанную из винтовочной гильзы зажигалку, надраенную до блеска. Зажигалка смотрелась, будто золотая. Мечта, а не изделие.
– Это чего ж, немцы начали такие красивые зажигалки выпускать? Али как? – спросил у Удалова щуплый горбоносый казачок по фамилии Пафнутьев – известный недотепа: несмотря на молодость, он сумел дома наплодить и оставить девять детей.
– Хм, немцы… – усмехнулся Удалов, опуская зажигалку в карман. – Вот какие руки делают эти роскошные зажигалки, вот, – он вскинул свои руки над головой, повел ими, потом показал Пафнутьеву, персонально: – Вот!
Очень понравилась Пафнутьеву зажигалка, очень захотелось ее заполучить. Казак облюбовал себе в стрелковой ячейке наблюдательный пункт и, прокалывая цепкими молодыми глазами пространство, стал ждать. Он-то и заметил первым появление собаки, просипел, едва владея собой:
– Удалов! Эй! Германский кобель появился!
Удалов услышал зов и незамедлительно переместился к востроглазому казачку. Бывший сапожник приложил к глазам бинокль – носил с собой трофейный, не бросал, бинокль был очень удобен в разведке, – прошелся окулярами по осиннику.
– Есть!
Пес несколько минут неподвижно лежал под кустом – отдыхал перед очередным броском, потом настороженно вскинул голову, огляделся. Удалов дал суке кусок хлеба, затем решительно подсадил ее под зад и вытолкнул из окопа наружу.
– Вперед, милая!
Сука оглянулась на него – взгляд был влюбленным – взлаяла коротко, тонкоголосо, Удалов командно щелкнул пальцами, и она стремительно понеслась к осиннику.
– Эта дамочка будет, пожалуй, посмышленее первой, – проводив собаку опухшими из-за раны глазами, проговорил калмык.
Увидев несущуюся к осиннику красавицу, «почтальон» поспешно поджал хвост и хотел было дать стрекача, но легкое дуновение ветра донесло до него слабый запах, который не оставляет равнодушным ни одного пса на белом свете. Если, конечно, он настоящий пес, а не кастрированная левретка. Пес вскинулся и, задыхаясь от нахлынувших на него ощущений, замотал потрясенно головой. Хвост мигом заездил из стороны в сторону, словно флаг, кобель радостно взвизгнул, облизнулся, ткнулся суке носом в зад, спрашивая своего собачьего бога, за что же ему, за какие заслуги выпала такая высокая награда?
Он уже забыл, куда его посылали, что он должен делать и когда ему надлежит вернуться назад. Псом всецело завладела беспородная сука из небольшой румынской деревеньки.
Через десять минут пес уже находился у ног Удалова. Из кошелька, прицепленного к ошейнику, у него вытащили послание. Из него следовало, что немцы в два часа ночи пойдут на прорыв. Записку немедленно отправили к командиру полка Дутову.
Тот повертел ее в руках и велел найти хорунжего Климова. Климов основательно пообтесался на фронте, его было не узнать – спесь, которая раньше сквозила и в речи, и в жестах, просматривалась даже в походке, – слетела, он пообтерся в окопах, – в общем, это был совершенно другой Климов.
Он вошел в избу, которую занимал командир полка и, остановившись на пороге, негромко кашлянул.
– Проходи, Климов, – пригласил Дутов хорунжего. – Чего стоишь, как неродной? Присаживайся к столу.
Климов прошел, сел. Дутов положил перед ним аккуратно сложенное послание.
– Что тут написано, Климов? Кроме часа прорыва?
Хорунжий пробежал глазами записку, бледные потрескавшиеся губы его растянулись в улыбке.
– Паникуют немцы, Александр Ильич, – сказал он, – до жалобных криков уже дошли.
– А конкретно?
– Сетуют, что ни патронов, ни еды у них уже нет. И туалетная бумага – пипифакс – кончилась.
Дутов ухмыльнулся:
– Изнеженные господа, эти немаки, пипифакс им подавай, пользоваться газеткой так и не научились.
– В общем, последняя надежда у них, Александр Ильич, – сегодняшняя ночь.
– Будем ждать ночи, – Дутов снова ухмыльнулся.
Через двадцать минут к Дутову постучался ординарец – разбитной высокий парень в офицерских сапогах.
– Ваше высокоблагородие, мужики до вас пришли…
– Какие еще мужики? – недовольно спросил Дутов.
– Ну из окопов. Калмык и этот самый… который раньше у вас ординарцем был.
– А-а-а, – протянул Дутов, голос его угас.
Еремеев попросился у него в пешую команду, к своим товарищам, с которыми прибыл на фронт, Дутов не хотел его отпускать, но Еремеев настоял.
– И чего они хотят?
– Спрашивают, записку по адресу к немакам отсылать будем, али как?
– Не будем.
– Тогда что им делать с кобелем?
– Что хотят, то пусть и делают.
– Ясно, – произнес ординарец и исчез.
Дутов подумал, что надо бы выйти к отличившимся казакам на крыльцо, поблагодарить за поимку «почтальона». Он хотел сделать это еще в прошлый раз, но не смог – замотался, погряз в пришедших из вышестоящего штаба бумагах, к которым регулярно добавлялись те, что рождал его собственный штаб – однако вскоре его мысли перескочили на другое, и командир забыл и о казаках, и о кобеле-посыльном. Когда же он вспомнил о них вновь, решил, что отличившимся повесит на грудь какую-нибудь медальку, либо рублем из полковой кассы одарит. Способов отметить бравого бойца есть много.«Почтальона» отпустили, когда на землю лег тревожный серый вечер. Вдоль дорог, словно они пролегали около кладбищ, сгустился дрожащий воздух, забегали трусливые тени, похожие на чьи-то неприкаянные души, звуки сделались объемными, пугающе гулкими, хотя уносились совсем недалеко, на несколько метров, дальше не могли – будто бы упирались в некую невидимую преграду и умирали. Странным выдался этот вечер.
Удалов открыл крышку часов, засек время и вытолкнул кобеля из окопа. Стукнул его рукой по сытой заднице:
– Пошел вон!
Тот скуксился, морда его поползла в сторону, в русском окопе ему нравилось, он с удовольствием остался бы здесь, но его прогоняли. Пес поджал хвост, отбежал от бруствера метров на семь и сел на землю. Только что эти люди были с ним любезны, даже угощали его странной невкусной размазней, а сейчас гонят прочь. И, главное, в окопе остается его прекрасная возлюбленная. Он был растерян, обижен, подал голос – задавленный, тот, едва возникнув, тут же умолк.
– Пошел вон! – повторил Удалов громко, с силой.
Пес не стронулся с места, лишь жалобно глянул на человека и еще сильнее притиснул к пузу хвост, – будто проволокой прикрутил.
– Был пес германским, стал русским, – калмык поправил съехавший набок бинт, освободил от холстины правое ухо, – служил кайзеру, теперь готов послужить государю-батюшке. И нашим, и вашим, значит.
– Не нужен государю такой служака, – хмыкнул Удалов; взгляд у него помрачнел – он отвернулся от калмыка и с силой саданул ладонью о ладонь, будто из карабина пальнул: – Пошел вон!
И на этот раз кобель ничего не понял, залаял вновь жалостно и глухо, – очень ему хотелось назад, к желанной суке.
– Ну чего ты такой дурной?
Удалов взялся за карабин, кинул его на бруствер. Что такое карабин, пес хорошо знал – наметом понесся прочь, и через несколько секунд растворился в густеющем, сером, сумраке.
– Ну ты и даешь, – калмык укоризненно поглядел на Удалова, – и ты что, мог бы этого пса пристрелить?
– Никогда, – голос у Удалова оставался спокойным, мысли его, казалось, уже были о предстоящем бое, жаль только, поспать не удалось…
По всей линии прорыва Дутов установил пулеметы, в лесок отвел два казачьих эскадрона – рубить немцев, когда те побегут, и приготовился к встрече. Встреча вышла достойной. Немецкий полк, застрявший в окружении, и попавший в котел вместе с ним батальон венгров-стрелков был уничтожен. За храбрость и умело проведенные баталии Дутова наградили мечами и бантом к ордену Святой Анны третьей степени, вслед удостоили тем же орденом – второй степени…
– Зачем мне эти Анны, – недоумевающе произнес Дутов на маленькой штабной пирушке, опустив новенький орден в стакан с водкой, – Анна же – баба… Другое дело – Владимир. Это – мужской орден. Я уж не говорю о Святом Георгии.
Дутов расстроенно махнул рукой. И в звании своем он застрял на одном месте – многие его товарищи, командиры, не только полковниками стали, но и генерал-майорами, а он все в войсковых старшинах топчется… Тьфу!Пес-связной пришел к своим хозяевам лишь под утро, когда прорывающаяся немецкая часть уже перестала существовать, а утепленные пилотки пытавшихся убежать мадьярских пехотинцев висели на сучьях деревьев и пугали местных ворон своей мертвой неподвижностью. Проверили ошейник пса – пусто, залезли в кошелек – пусто, вновь проверили ошейник…
Гауптман Редлих, возглавлявший разведку в немецкой части, обеспечивавшей прорыв, потемнел лицом:
– Это что же, выходит, Вернера моего выхолостили? – задрожавшим голосом спросил он.
Гаупман подцепил пальцами стеклышко монокля, висящее на тонкой серебряной цепочке, сунул его в глаз, сверху придавил густой, растущей вкривь-вкось бровью, долго глядел на недоумевающего пса. Тот стоял рядом и, преданно глядя начальству в глаза, повиливал хвостом.
– Ах, Вернер, Вернер, – печально произнес гауптман, – придется тебя примерно наказать… Чтобы другим было неповадно.
Пес замахал хвостом сильнее – ему не нравилось настроение хозяина, очень уж неласковым, хмурым тот был – хмурость эту надо развеять.
– Ах, Вернер, – Редлих приподнял бровь, монокль выпал из глаза.
Гауптман нагнулся и больно ухватив пса за ухо, позвал ефрейтора Штольца.
– Штольц, – сказал он, – этого пса… – гауптман на несколько мгновений задержал дыхание, потом указательным пальцем решительно перечеркнул пространство перед лицом и выпалил визгливо, словно задохнулся. – расстрелять! Из-за этого пса погибла одна из лучших частей нашего фронта.
Штольц вздрогнул, испуганно глянул на начальника. Он схватил кабеля за ошейник, жалеючи потрепал его по голове и потащил за собой в кусты. Вернер пошел с ним охотно, засеменил лапами, стараясь попасть в такт его шагам. Он задирал голову, ища глазами взгляд Штольца, но тот упрямо отворачивал лицо в сторону.В полк к Дутову прибыли две пулеметчицы – ладные казачки с погонами урядников.
Дутов озадаченно повертел их документы в руках:
– Видать, плохи наши дела, раз баб стали брать в солдаты…
Казачки были выпускницами пулеметных курсов, созданных при одной из московских школ прапорщиков. Услышав недовольное брюзжание командира полка, они вытянулись, старшая из них – смуглолицая, с темным румянцем на тугих щеках, отрапортовала:
– Никак нет, ваше высокоблагородие, на фронте дела идут нормально… А в солдаты мы пошли добровольно!
Фамилия лихой пулеметчицы была Богданова, и неожиданная догадка мелькнула в голове у Дутова:
– У нас в пешей команде служили Богдановы, два брата…
Казачка улыбнулась зубасто, весело:
– Старший из них, Егорий, был моим мужем.
– А младший, Иван, – моим женихом, – вытянулась вторая казачка.
На лицах пулеметчиц – ни тени печали, только отрытые, во все зубы, улыбки. К смерти они относились как к чему-то очень обыденному, рядовому: чему быть, того не миновать.
Дутов отвел глаза в сторону, словно чувствовал собственную вину за гибель братьев Богдановых, едва приметно вздохнул:
– Хорошие были казаки.
Авдотья Богданова запоздало погасила улыбку:
– Побывать бы на их могилах…
– Это далеко отсюда – на реке Прут. Кончится война – обязательно поедете туда.
У Дутова родилась и угасла досадная мысль, что к той поре могил может и не быть, их сотрет время. Мысль вызвала неприятный осадок – слаб человек, который не может оставить после себя память.
– Хотелось бы поехать… – произнесла Авдотья коротко и горько.
– Все впереди, – успокоил ее Дутов, предложил: – Приглашаю вас на чашку чая.
В небольшой темной комнате стол был застелен серой льняной скатертью – новый денщик, заменивший Еремея, старался лицом в грязь не ударить. Посреди стола стоял самовар, рядом – блюдо с жесткими, маслянистого цвета сушками и оловянная немецкая миска, в которую горкой был насыпан колотый желтоватый сахар.
Дутов указал пулеметчицам на стулья:
– Садитесь, сударыни!
Казачки степенно, сделав одинаковые важные лица, сели, привычно оправили на коленях диагоналевые брюки-галифе, проговорили в один голос, как по команде:
– Спасибочки!
– Синего сахара чего-то не видно, – озабоченно проговорил Дутов. – Самый вкусный чай – с синим сахаром…
Пулеметчицы недоуменно переглянулись. Дутов извлек из простого сельского буфета половинку сахарной головы, тяжелым ножом, лежавшим тут же, еще раз располовинил несколькими ловкими ударами, расколол одну из четвертушек на полтора десятка мелких кусочков. Цвет у остатков сахарной головы, твердостью своей схожей с камнем, был голубоватым, как тень, возникшая в солнечную мартовскую пору на снегу.
– Кто из вас первый номер? – спросил Дутов у женщин.
Авдотья подняла руку, как прилежная ученица церковно-приходской школы на уроке у любимого батюшки:
– Я!
– Вы, стало быть, второй номер? – командир полка перевел взгляд на Наталью.
– Второй.
– А первым быть сможете?
– Смогу. Нас этому учили на пулеметных курсах.
– Может быть, я вас тоже переведу в первые номера? А вторыми обеим дам мужчин, чтобы таскали пулеметы.
– Таскать пулеметы мы тоже привыкшие, – сказала Авдотья. Она пила чай из блюдца, картинно отставив мизинец и кидая в рот небольшие крепкие кусочки синего сахара.
– Грешно и неразумно подготовленного пулеметчика использовать на черновой работе второго разряда, – сказал Дутов и отправил в рот крупный голубоватый осколок.
С твердым синим сахаром, который в доме Дутовых еще называли постным, гоняли чаи в трудные дни Великого поста: с одним небольшим кремешком [17] пили порой не менее десяти стаканов… Вообще-то Дутов никогда не экономил на еде, оттого и телом был такой пухлый, но синий сахар он приобретал всегда в первую очередь, а уж потом – все остальное.
Авдотья тем временем переглянулась со своей младшей товаркой и произнесла степенно:
– Как решите, ваше высокоблагородие, так и будет.
– Вот и хорошо, – одобрительно произнес Дутов, сделал крупный гулкий глоток, почувствовал себя неловко – на фронте совсем отвык от общения с представительницами прекрасной половины, взял с тарелки сушку, с хрустом раздавил ее.Всего четыре месяца Дутов командовал полком. Фронт начал разваливаться. Из окопов стали вылезать немцы, вылезали и русские, обнимались с врагами. На нейтральной полосе разжигали костры, пили шнапс и заедали его сваренными вкрутую куриными яйцами, добытыми во дворах ближайших деревень. Офицеров, которые мешали этим фронтовым братаниям, безжалостно уничтожали – не взирая на чины, авторитет и ордена. На всякого боевого полковника, украшенного наградным золотом, как рождественская елка побрякушками, находился какой-нибудь тщедушный унтеришка со вставными железными зубами, который, не колеблясь ни секунды, со словами «Не мешай, паря, нам с братьями-немаками общаться!» всаживал офицеру в живот штык или пулю, орал во всю глотку, будто ворона, у которой случился запор: «Да здравствует свобода!».
В полку Дутова обстановка была спокойной – казаки офицеров на штыки не поднимали.
В Петрограде происходили события, которые вызывали в рядах фронтовиков нервный озноб. Говорят, царь, желая России покоя и счастливого будущего, собирался отречься от престола в пользу своего брата Михаила, но и Михаил не был в восторге от этой идеи, колебался и отговаривал Николая от таких дурных перемен… В России запахло гражданской войной.
Дутов с любопытством прислушивался к новостям, приносящимся из Петрограда. Главным командиром в армии стал некий штатский человечишко, фамилию которого Дутов раньше никогда не слышал – крикливый, коротконогий адвокат Керенский. В военных делах он смыслил не больше, чем петроградские дворники в астрономии. Ходить под началом такого министра было оскорбительно.
Из штаба корпуса пришла бумага: в марте в Петрограде должен состояться первый общеказачий съезд, необходимо направить туда своего делегата. Цель съезда: выяснение нужд казачества – чего, мол красно-желто-синелампасникам надо?
Прочитав бумагу, Дутов позвал ординарца:
– Приготовь продукты на три дня. Поедем в штаб корпуса.
Ординарец у него сменился вновь, теперь это место занимал Пафнутьев.
– Двух толковых казаков в комендантской роте возьми! Поедем вчетвером.
Оставшись один, Дутов пробормотал с неожиданным раздражением:
– Раньше казаки собирались на круг, сейчас – на съезд. Что-то новомодное и… неприятное. Тьфу!
До штаба корпуса добрались без приключений. Если не считать того, что Пафнутьев забыл взять с собою хлеб – это обнаружилось на полпути, когда завернули в небольшой прозрачный лесок, облюбовали там круглую сухую поляну и на морды лошадей натянули торбы с кормом. Пафнутьев, не найдя в мешке ни одной ковриги, взвыл.
– Да что же это я-я-я… – Он гулко ахнул себя кулаком по голове, глаза его расстроенно заблестели.
– Недотепа и есть недотепа, – осуждающе произнес Кривоносов, которого ординарец от имени командира полка произвел в конвойные.
Дутов молчал. Кривоносов вздохнул, расстегнул добротную немецкую сумку, притороченную к седлу, достал оттуда буханку, предусмотрительно прихваченную у поваров…
– В штаб приедем, я тебе хлеб отдам, – зачастил, давясь словами, Пафнутьев, затоптался на месте.
– М-да! – крякнул второй сопровождающий, белоусый казак Гордеенко с насмешливыми глазами, который в полк прибыл с последним пополнением, вместе с Авдотьей Богдановой и Натальей Гурдусовой.
Пафнутьев виновато глянул на командира полка и съежился еще больше.
– Мало тебя били папа с мамой в детстве, – сказал Кривоносов и также глянул на командира полка: что тот скажет?
Дутов молчал. Это и определило дальнейший разговор: раз войсковой старшина не встревает, значит, дискуссию пора заканчивать.
Штаб графа Келлера занимал большой дом в захолустном, бессарабском городке. Лихой кавалерист Келлер сидел за столом усталый, ко всему безразличный, он писал домой обстоятельное, с советами и указаниями письмо. Лицо было серым, нездоровым, под глазами вспухли мешки.
Когда дежурный адъютант открыл перед Дутовым дверь кабинета, Келлер молча указал войсковому старшине на стул. Дутов сел. Окна в доме были чистыми, с блеском, сквозь такие стекла любой невзрачный пейзаж разом приобретал нарядность. На крыше здания напротив крутили хвостами голуби, ворковали – чувствовали весну.
Кончив писать, Келлер запечатал письмо в конверт, положил на столе на видное место – адъютант отправит его с фельдъегерской почтой, – и, сцепив на животе пальцы, внимательно посмотрел на Дутова.
– Вы слышали о том, что в Царском Селе арестована семья государя?
Дутов ощутил, как что-то жесткое сдавило глотку. Неужели повальное дезертирство, расхлябанность, братания на фронте, враждебное отношение к офицерам, неспособность защитить Россию привели к тому, что царь отказался от трона, как от обычной табуретки, из которой вылез гвоздь, и теперь его вместе с семьей арестовали, как простого холопа, задолжавшего барину пару пятаков?
– Слышали? – повторил вопрос граф Келлер.
Дутов невольно вздрогнул – несколько секунд он находился в странной оторопи, как в обмороке, – не поверил в то, что услышал.
– Нет, ваше высокопревосходительство, – выговорил наконец тихо.
– К сожалению, это так, – лицо Келлера сделалось еще серее. – К сожалению!
– А что за приглашение на казачий съезд, которое поступило к нам в полк?
– Все это – подковерные игры Гучкова, Родзянки, Керенского. Но послать туда делегатов надо – все полки пошлют… – Келлер испытующе глянул на Дутова, будто прощупывая его.
– Будет исполнено! – наклонил голову войсковой старшина.
– Недавно я с удовольствием подписал характеристику на вас, – сказал Келлер, – в ней много добрых слов.
Дутов привстал на стуле:
– Благодарю, ваше высокопревосходительство!
Келлер движением руки вновь усадил командира полка.
– Скажите, Александр Ильич… – Келлер не сводил испытующего взгляда с Дутова, – только откровенно…
Дутов приподнялся вновь, и у графа раздраженно повело плечо. Гость это заметил и немедленно опустился на место.
– Я готов, ваше высокопревосходительство, – проговорил он четко, как на офицерском приеме.
– Царская семья в опасности. Ее, Александр Ильич, надо выручать. Готов ли ваш полк, шефом которого является наследник, пойти в Петроград на выручку?
– Готов! – не колеблясь, ответил Дутов. – Дайте только приказ. А уж шефа своего… – Дутов прижал к груди руку, – мы никому не дадим в обиду. Все офицеры наши помнят, что служат в казачьем, Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полку, и сочтут за честь, получив приказ, пойти на выручку.– Будьте к этому готовы, Александр Ильич, – сказал Келлер, – приказ такой в ближайшее время вы получите обязательно.
На общем собрании полка войсковой старшина Дутов был утвержден делегатом казачьего съезда. Говорят, очень постарался Келлер – он был заинтересован в том, чтобы командир верного полка, собравшийся идти на выручку к царской семье, имел максимум полномочий. Против похода полка в Петроград из офицеров выступил только один – Лосев, из казаков несколько рядовых – самых бедных, голозадых, тех, что на фронт пришли без лошадей и служили в пешей команде.
После собрания Дутов подошел к Лосеву, несколько минут молча, покачиваясь с носка на пятку и обратно, смотрел тяжелыми недобрыми глазами в его глаза, потом сжал пальцы в кулак, демонстративно повертел этот кулак перед собой:
– Ну, смотри, Лосев!
Лосев взгляд командира полка выдержал, глаз в сторону не отвел – был он калачом не менее тертым, чем сам Дутов. Рот у Лосева дрогнул, насмешливо пополз в сторону.
– Смотрю, господин войсковой старшина, – жестким голосом произнес офицер.
– Смотри…
– Смотрю!
Часть втораяШестнадцатого марта 1917 года Дутов прибыл в Петроград. До начала съезда оставалось еще семь дней – уйма времени.
Петроград поразил Дутова. Это был неопрятный незнакомый город, населенный дезертирами и «гопстопниками», начисто лишенный интеллигентности и романтического флера, который он всегда имел ранее.
На лицо Дутова наползла брезгливая гримаса, будто у него заболели зубы. Гримаса эта не сходила несколько дней – войсковой старина с нею ложился спать, с нею просыпался утром, чистил зубы толченым мелом, сдобренным для запаха малиновой эссенцией, – новинкой, выпущенной московской фирмой Брокара. В умывальнике он пытался смыть ее, обливаясь водой до пояса, оставляя на полу лужи холодной воды.
Неприятный ветер с моря прошибал до костей, приносил тяжелый дух горелого угля – совсем рядом, в заливе, невидимые с Петроградских улиц ходили боевые корабли. Обыватели, задыхаясь от гари, паниковали: «Корабли-то немецкие…» Но корабли были наши. По Неве курсировал миноносец с гимназическим названием «Забияка», лихо разворачивался и с успокаивающим масляным рокотом резал темную воду узким ровным носом, также вызывая нервный срыв у жителей:
– Корабль этот прислан для того, чтобы при подходе немцев расстрелять Адмиралтейство, в котором хранятся минные карты Балтийского моря.
– Глупость какая! Глупее просто придумать нельзя! – сердились флотские офицеры.
Дурные слухи эти распространяли дезертиры.
На тротуарах было полно мусора. Пустые консервные банки, бутылки, под ногами битое стекло, и кругом – горы подсолнуховой шелухи. Кажется, что семечки в Питере грызли все – от ленивых татар-дворников до крикливых министров Временного правительства. Хмурые, словно бы порохом набухшие тучи плыли над городом. Было тревожно.
По улицам ходили патрули из юнкеров, их недобрыми взглядами провожали расхристанные фронтовики, но стычек не было – солдаты не задирали юнкеров, юнкера не трогали солдат. По Невскому проспекту ездили броневики, неуклюжие, с пулеметами, хмуро глядящими из бойниц. Техника эта была ненадежная – тяжелый броневик, обшитый железом, мог увязнуть в любой луже. Иногда попадались группы людей, одетых в одинаковые черные полупальто, в похожих по покрою кепках. Люди эти с бледными, костлявыми лицами держались друг друга, – это были патрули рабочих Путиловского и Обуховского заводов – самых революционных в Петрограде.
«Надо бы съездить в Царское Село, – подумал Дутов, – посмотреть, как там охраняют венценосную семью». Ему хотелось, очень хотелось совершить геройский поступок – взять пару казачьих сотен, устроить налет на дворец Романовых и освободить царя. И шефа своего полка, цесаревича Алексея, освободить… Вот тогда о войсковом старшине Дутове заговорят все, и в первую очередь – печать. Газеты будут голосить на все лады!
От этих мыслей на некоторое время ощущение зубной боли исчезало, потом возникало вновь.
Дутов находился на Невском проспекте, когда с каменной набережной, опоясывавшей канал с двух сторон, вынесся наряд казаков. Казаки были донские, сытые, со злыми глазами, в фуражках, державшихся на ремешках, перекинутых под подбородками. Всадники сумрачно поглядывали на публику. Старший в наряде – усатый плотный хорунжий небрежно скользнул взглядом по Дутову, на мгновение зацепился глазами за его погоны, вскинул руку с нагайкой к козырьку и проследовал дальше.
У Дутова даже на душе сделалось теплее: правильно говорят, что казаки – единственная сила, которая может спасти Россию. Какая-то старуха в древнем бобриковом пальто, которое ей явно было велико, приподнялась на цыпочки и перекрестила казаков.
Дутов бродил по улицам и дивился тому, что видел, нехорошее удивление это никак не могло исчезнуть: такой справный, такой блестящий, такой чистый прежде город, готовый довести провинциального человека до столбняка, ныне очень походил на обычную помойку. И пахнул он свалкой, вонь лезла во все закоулки, даже в самые глухие, и везде виднелись дезертирские рожи – мятые, с шелухой, приставшей к небритым щекам, красным от дармовой выпивки, которой их угощали светлыми печальными вечерами солдатские женки, потерявшее своих суженых. Противно и муторно делалось от одного только вида этих помидорных морд.
В одном из таких подозрительных закоулков, во дворе, выходящем к заплеванному снегу, с трудом прикрывавшему комкастый лед канала, Дутов неожиданно заметил знакомое лицо – тяжелое, с крупной борцовской челюстью и немигающими, близко посаженными к носу глазами. Он долго пытался сообразить, где же раньше встречал эту физиономию, пока у него в висках не заколотились звонкие стеклянные молоточки, а перед глазами, будто бы родившись из ничего, возник темный душный шатер цирка-шапито. Это был плечистый боец, который когда-то пытался выиграть схватку у калмыка Бембеева. Вон, оказывается, куда занесло спортсмена – в тыловой Питер, в подсолнечную шелуху!
Бывший борец был наряжен в солдатскую шинель с мятыми полевыми погонами с двумя лычками. На голове у него красовалась черная фетровая шляпа, украшенная как у цыган светлой муаровой лентой, из-под шинели выглядывало галифе с тесемками, волочившимися по земле, на ногах красовались оранжевые американские галоши с толстой каучуковой подошвой.
Увидев, что на него смотрит казачий обер-офицер, – явно вооруженный, – плечистый приподнял шляпу.
– Здрассьте вам! – голос у бывшего борца оказался противным, каким-то куриным, доносился он откуда-то из глубины мощного организма, может быть, даже из желудка или еще откуда-то…
Дутов не ответил, продолжая рассматривать плечистого: увядшая кожа на лице, морщины у губ и на подбородке, на заросших курчавящихся висках – седина.
– Чего так смотришь, барин? – насмешливо спросил плечистый. – золотой червонец, часом, не хочешь подарить?
– А жирно не будет? – не удержался от усмешки Дутов.
На прощание Дутов вновь бесстрашно окинул глазами плечистого с головы до ног – чучело какое-то – и двинулся дальше. Бывший борец еще долго не выходил из головы…
Здесь, в Питере, Дутов узнал подробности отречения царя от трона, и невольно сжал кулаки: царя выманили с фронта в Питер и предали! Государь, обеспокоенный положением своей семьи, поспешил домой, через час после отъезда из Ставки ему перекрыли дорогу и загнали царский поезд в тупик, на рельсы, уходящие в земляную насыпь неподалеку от Псковского вокзала.
На требование начальника царского поезда пропустить вагоны государя на Николаевскую железную дорогу дежурный комендант показал «фигу» – ответил отказом. Начальник царского поезда – дородный дворцовый генерал – покраснел так, что у него чуть не расплавились золотые аксельбанты, украшавшие мундир. Хотел было содрать с коменданта погоны, но тут увидел генерала Рузского [18] , семенящего мелкими шажками к вагону государя, и забыл о том, что только миг назад хотел растоптать негодного служаку. По лицу Рузского он понял, что положение складывается серьезное и все обстоит не так, как хотелось бы государю и ему самому.
Речь Рузского мало чем отличалась от речей большевистских агитаторов, – та же терминология, та же убежденность в собственной правоте, те же горящие глаза. Рузский просил царя признать Временное правительство, которым руководил князь Львов, и остановить войска, идущие на Петроград. Численность этих войск была довольно приличная – со всех пяти фронтов сняли боевые части и отправили в Петроград. Командующие Северным и Западным фронтами, например, выделили для наведения порядка в Питере по пехотной бригаде и отдельные конные части.
Войсками, идущими на Петроград, руководил генерал Иванов [19] Николай Иудович, человек боевой, очень набожный, знающий, что такое честь и совесть, с вежливым лицом, украшенным большой ухоженной бородой. Царь велел Иванову вернуться в Ставку.
Тем временем Родзянко, – а генерал Рузский действовал исключительно от его имени, – разослал всем пятерым командующим фронтами настойчивые телеграммы, где просил их надавить на царя и заставить его отказаться от власти. Боевые генералы послушались Родзянко, а Рузский постарался довести их точку зрения до государя. Выслушав Рузского, государь горько шевельнул ртом… Он отказался от трона и подписал отречение в пользу брата Михаила Александровича, – дал слабину, в которой Романовых упрекали бесконечно.
Михаил Александрович, любитель приударить за простонародными «юбками», певичкой, либо кухаркой, видимо, поразмышлял немного о превратностях жизни и о том, как тяжела российская корона и может запросто сломать ему шею, – хлопнул пару стопок водки и отказался принять престол.
Отказ брата потряс Николая Александровича, он проговорил с трудом, едва шевеля белыми сухими губами:
– Это что же такое получается? – потом обреченно махнул подрагивающей рукой: – Впрочем, мне теперь уже все равно.
Восьмого марта семья государя была арестована.Находясь на фронте, далеко от Питера, Дутов даже представить себе не мог, насколько остра и трагична была здесь схватка, как подло предавали друг друга люди. В том числе близкие. В воздухе плавал запах гнили и крови.
Перед самым открытием казачьего съезда Дутов по аппарату Бодо, напрямую, связался с командиром корпуса. Келлер был одним из трех командиров крупных соединений, которые прислали государю телеграммы, где выражали верность трону и готовность умереть за монархию.
Граф Келлер пребывал в мрачном расположении духа. В армии началась «гучковская чистка» – военным министром сделался еще один сугубо штатский человек [20] – беспардонный, из породы «жирных котов», богатый, крикливый. Сорванные им с мундиров героев генеральские погоны летали в воздухе, как золотые опавшие листья. Чистка затронула весь высший состав армии – от командующих фронтами до командиров бригад.
Александр Иванович Гучков лютовал совершенно откровенно. Хотя и был он по образованию представителем ученых гуманитариев – филологом, окончил Московский университет, – но особой изысканностью и благородной тонкостью языка не отличался, иногда его можно было спутать с каким-нибудь иноверцем-дворником, осваивающим русский мат.
Родному брату энергично помогал Николай Иванович Гучков. Оба были активными масонами. Но суть не в этом, а в резкости поступков, которые совершал старший из братьев, богатый купец и предприниматель Александр Гучков. Он откровенно громил русскую армию, хотя отношение к ней имел не большее, чем к разведению орхидей или заготовке угля в копях Шотландии.
Гучков вообще старался быть на виду и лез во все дыры, какие только замечал. Второго марта он стал военным министром и практически развалил русскую армию. Именно он нанес по ней главный удар, а не немцы и не крикливый адвокат Керенский, как считают некоторые. В военных министрах Гучков пробыл менее двух месяцев, но дело свое сделал. Выдающийся, в общем, был господин. Дутов, правда, на себе это не почувствовал, но зато, как разбивали головы другим, увидел. И ощущал он себя прескверно, жалея тех, с кем безжалостно разделывался Гучков.Делегатов было много и почти все – фронтовики. Из станиц, из войсковых кругов приехало всего несколько человек – славные сивые старики, увешанные Георгиевскими крестами.
Шума и криков на съезде звучало столько, что некоторые даже затыкали себе уши хлебным мякишем, либо специально выструганными деревяшками, как бутылки пробками, – крики и шум на казаков действовали сильнее, чем разрывы снарядов. Впрочем, крикунов скоро поприжали и выселили на балкон, велели сидеть там тихо, не «питюкать». Те знали, как решительны казаки, и быстро прикусили языки.
Уже на второй день казачьего съезда Дутов понял, что в полк он не вернется – здесь, в Петрограде, замаячила такая перспектива, что у него даже дыхание перехватило, а сердце заколотилось так громко, что войсковой старшина временами даже переставал слышать речи делегатов.
Съезд принял одно важное решение, – прежде всего для биографии Дутова, – создать Союз казачьих войск. Дело это требовало бюрократических усилий, беготни и мозолей на пальцах безотказных писарчуков, поэтому была создана специальная комиссия, получившая громкое название Временного совета Союза казачьих войск. Председателем Временного совета стал Саватеев – человек хотя и малоизвестный, но очень доброжелательный, внимательный и сдержанный, без гучковских заскоков – пена у него на губах, как военного министра, никогда не появлялась. Савватеев готов был выслушать всякого посетителя и посодействовать ему. Для облегчения жизни Савватееву назначили несколько помощников, старшим из них стал Дутов.
Он сразу оценил собственный взлет, понял, в какие горние выси может вознести его новая должность.
Выйдя на улицу из душного зала, в котором без малого неделю заседал съезд, Дутов осенил себя широким крестом:
– Теперь я хорошо знаю, к какому горизонту плыть. Теперь хрен меня насадишь на вилку, как кусок селедки – я сам кого угодно насажу… Так, глядишь, скоро и лампасы к штанам пристрочат. Славное это дело! Любо!
Перед Временным советом стояло несколько задач. Первая – подготовить новый съезд, вторая – оградить казаков от дурной агитации, проникшей на фронт, и третья… Третья задача обычно проходит во всякой повестке дня под формулировкой «разное». Этого «разного» было много.
С графом Келлером Дутов больше не связывался.Своего помещения у Временного совета не имелось, – Савватеева с заместителем футболили, как хотели, в разные углы. Побывали они всюду, даже в душном темном подвале, забитом сломанными столами и стульями, с крысиными норами по углам.
Дутов, оглядев подвал, брезгливым щелчком сбил с кривоногого пыльного стола несколько продолговатых колбасок крысиного помета и молвил, морща нос:
– Это не для нас. Надо искать еще…
Лучше всего было бы заполучить несколько комнат в каком-нибудь штабе – в сухопутном ли, морском ли, безразлично. Комнат требовалось немало, шесть-семь, поскольку только членов Временного совета было тридцать четыре, – от тридцати казачьих войск, – не говоря уже о разных барышнях, денщиках и специалистах разогревать полковые самовары. Неплохо было бы разжиться местом и в Главном управлении казачьих войск, чтобы быть поближе к «рулю и веслам», но в казачьем управлении места было совсем чуть, генералы там ютилась плотно, сидя буквально друг на дружке. Ни Савватеев, ни Дутов ущемлять своих никак не хотели и продолжали искать подходящее.
В конце концов Временному совету выделили две комнаты в Главном штабе, а Дутова вообще включили в штат Главного штаба – этой авторитетной военной конторы, разрабатывающей все наземные операции. В общем, Савватеев и Дутов уселись за генеральские столы, подремонтированные, заново отлакированные, покрытые зеленым начальственным сукном.
…Выпив пару стаканов чая, Дутов покрутил головой, глянул в окно на мостовую, где медленно таял поздний грязный снег, а между камнями текли мутные говорливые ручьи, опустился в кресло и произнес, ни к кому не обращаясь:
– Теперь мы всем покажем, где раки зимуют.
Через несколько дней Савватеев остался в Петрограде «на хозяйстве», как было принято тогда говорить, а Дутов отправился на фронт. Через сутки он уже находился на передовой.Было тихо, низко над землей ползли серые тяжелые тучи, цепляясь за макушки кустов, путались в сучьях, прилипали к деревьям. Иногда к линии окопов подползало какое-нибудь особенно тяжелое брюхатое облако, повисало над землей, плоть облака рвалась, и из непрочного мешка вниз летели крупные холодные хлопья. В марте весна всегда борется с зимою.
Смешанный казачий полк, потерявший лошадей, состоявший из сибиряков, разбавленный уссурийцами, держал линию обороны между двумя небольшими белорусскими городками, готовился к грядущим сражениям, но сражений не было – немцы тоже выдохлись, они теперь по большей части отдыхали и не хуже русских выпивох научились глотать местный «горлодер».
В полку каждый день появлялись агитаторы, пробовали подбить казаков на измену, на замирение с немцами, на уход с позиций, но казаки – усталые, завшивевшие, от агитаторов только отмахивались, но из окопов не уходили. Агитаторы покидали неуступчивую воинскую часть раздосадованные.
– Нет, с вами, с казаками, супа не сваришь… – недовольно кропотали они, сшибая с рукавов шинелей крупных белесых вшей и исчезали, чтобы уступить место другим, более удачливым ораторам.
Дутова, не побоявшегося появиться в грязном, залитом талой водой окопе, слушали со вниманием. Он рассказывал о недавнем съезде, о спорах, драчках и расквашенных носах оппонентов, о том, как проходит подготовка ко второму съезду…
– И чего же вы, господин хороший, будете добиваться от второго съезда? – испытующе щурились фронтовики, разглядывая залетного войскового старшину – своим его признать никак не могли, поскольку он принадлежал к другому войску – Оренбургскому.
Дутов тоже умел испытующе смотреть на людей, – остановил свой взгляд, немигающий, спокойный, острый, на одном из казаков – горбоносом, с быстрыми светлыми глазами, и выпалил, будто выстрелил:
– Резолюции!
Горбоносый невольно съежился, стрельнул исподлобья в Дутова настороженным взглядом и спросил вкрадчиво:
– А какая это будет резолюция, господин хороший?
Дутов загнул один палец:
– Во-первых, нам нужна единая и неделимая Россия. Во-вторых… – он загнул еще один палец, – широкое местное самоуправление. В-третьих, – к двум загнутым пальцам присоединился еще один, – война до победного конца. В-четвертых, – еще один – почетный мир. В-пятых, – до созыва Учредительного собрания вся власть должна принадлежать Временному правительству, – Дутов решительным движением притиснул к загнутым пальцам последний – большой.
– Ну, насчет всей власти Временному правительству – тут, по-моему, перебор, господин хороший…
– Это почему же? – Дутов не удержался, растянул губы в язвительной улыбке.
– Нет у этого правительства в народе популярности…
– У меня совсем другие сведения.
– И доверия нет, – добавил горбоносый.
– Так что же, ты считаешь, Россией должен командовать какой-нибудь немчик по фамилия Пшикман? Или Поносбург с Чихбергом? Так считаешь? – Дутов грозно повысил голос, но горбоносый солдатик – явно из примаков-интеллигентов, чинил где-нибудь в елисейских деревнях швейные машинки «Зингер» – нагло осадил войскового старшину, Дутову даже дышать тяжело стало:
– Приказ номер сто четырнадцать рекомендует офицерам обращаться к солдатам и казакам на «Вы». Как в строю, так и вне строя…
Дутову показалось, что у него перед глазами закрутились крупные зеленые звезды. Приказ № 114, подписанный Гучковым, исключал из обращения выражение «нижний чин» – его заменили простым, невыразительным словом «солдат». Полностью отменялось также всякое титулование: вместо «вашего превосходительства» к генералам теперь обращались скромно «господин генерал» и так далее. А ведь отменить старое обращение – это все равно что во главе воюющей армии поставить сопливого подпоручика.
Дутов поморщился и извинился перед горбоносым – агитационную инициативу нельзя было упускать. Через два часа он уже находился в другом спешенном полку, в других окопах…
Тридцатого апреля, ночью, Гучков подал в отставку. Офицеры вздохнули свободнее.
– Жил смешно и умрет грешно, – предположил один из казачьих офицеров, зашедший в комнатенку Временного совета, в которой сидел Дутов.
Казак этот не ошибся.В мае семнадцатого года Дутов вместе со своим коллегой из Временного совета был принят Керенским. Разговор продолжался полтора часа.
Дутов Керенскому понравился. Настолько, что, когда прощались, Керенский долго тряс ему руку и говорил, будто купец, которому удалось продать залежалый товар:
– Заходите еще, обязательно заходите! – жесткий ежик на крупной голове Керенского смешно дрожал, кожа на лице была какой-то лиловой, странной. – Как только появятся новости – милости прошу!
А, между прочим, «залежавшимся товаром» этим была Россия.
Оставаясь один, Дутов иногда думал о своих однополчанах – как они там живут? Чем дышат? Как воюют? Сведений о том, что его полк вел какие-то успешные действия, к Дутову не поступали. Линия фронта деформировалась, фронт перестал быть фронтом, и это беспокоило Дутова.
Керенский о толковом, умеющем четко и логично рассуждать войсковом старшине не забыл – вскоре Дутов был приглашен на заседание Военного министерства. Именно он, а не Савватеев, и не член совета Греков, с которым они вместе были на приеме у бывшего адвоката, внезапно вознесшегося на высоты российской власти.
Дутов довольно потер руки:
– Этак меня скоро будут приглашать на заседания всего правительства.
Он был недалек от истины. Сидя у себя в кабинете, шумно гонял чаи с баранками, принимал посетителей и удивлялся: «Неужели так легко можно пролезть наверх?..»
Второй казачий съезд открылся первого июня семнадцатого года. Председателем съезда был единодушно избран Дутов. Стремительное движение вверх продолжалось. Все лозунги и постулаты, о которых Дутов много рассуждал у себя в кабинете в Питере, или выступая в окопах перед солдатами в рваной форме, были на съезде приняты.
После съезда Дутова начали приглашать на все заседания Временного правительства. То, о чем он мечтал, сбылось. Темные блестящие глаза его горели – Дутов был доволен собою.
Фронт тем временем развалился совсем. Солдаты, застрявшие в окопах, думали не о том, как поскорее переломить хребет грозному противнику – а ломали голову над другим: как бы смотаться в хлебный Питер, поиграть в демократию, попить самогонки, да пощупать на чердаке какую-нибудь задастую бабенку. Дисциплина в армии была вообще забыта – особенно после того, как Керенский подписал «Декларацию прав солдата» и приказал развесить ее по всей России на заборах.
Россия покатилась вниз, будто с крутой горы тяжелый поезд, все больше и больше набирая скорость. Керенский лихорадочно прощупывал свое окружение – он не знал, на кого можно сделать ставку, кто способен остановить это страшное разложение страны. Наконец он нашел такого человека. Это был Корнилов [21] – решительный, жесткий, умеющий воевать генерал.
Корнилов потребовал от бывшего адвоката, возглавившего правительство, восстановления смертной казни.
– Иначе ни на фронте, ни в России порядка не навести, – заявил он. – Надо, чтобы люди боялись хоть чего-то, сдерживали себя. Если этого не будет – всем нам придет конец!
– А что скажет на это Совет рабочих и солдатских депутатов? – заколебался Керенский.
Казачий совет поддержал Корнилова. Дутов поехал в Ставку, встретился там с новым главнокомандующим; вернувшись в Питер, поблескивая глазами, заявил:
– Корнилов – действительно наше спасение. Другого спасения нет!
Керенский засуетился – понял, что появилась решительная сила, человек, который, если понадобится спасать Россию, может во имя этой цели смести кого угодно, в том числе и самого Керенского. Он совершил несколько спешных поездок на фронт. Поездки эти вызвали у офицеров горькие улыбки. Неприязнь фронтовиков министр уловил очень четко и не на шутку разозлился.
– Я единственный, кто выступал против смертной казни, теперь все – хватит! – заявил он громко. – Пусть Корнилов поставит всех вас под дула винтовок!
Керенский, как всегда блефовал – он считался большим мастером по этой части. В конце концов поняв, что никогда не овладеет тонкостями военного дела, Керенский сдал свой министерский портфель террористу Борису Савинкову, сам же решил сосредоточиться на управлении разваливающимся государством. Ощущал себя Александр Федорович по-прежнему неуверенно, опасность, как он считал, продолжала исходить от Корнилова, и Керенский метался из одного угла в другой – то ночевал в Гатчине, то во Пскове, то на одной из питерских квартир.
Печать тем временем заговорила о предстоящем выступлении большевиков – партия Ленина решила вооруженным восстанием отметить полугодовой юбилей Февральской революции и преподнести Керенскому подарок. Александр Федорович заметался еще пуще – ему стало страшно.
Корнилов для наведения порядка двинул в Питер конный корпус под командованием генерала Крымова [22] . Керенский перетрухнул совсем – хоть пеленки под человеком меняй: он посчитал, что конники, находившиеся уже совсем недалеко от столицы, первым делом повяжут его, – и снял Корнилова с поста главнокомандующего, а корпусу Крымова велел возвращаться на фронт.
– В окопах для ваших лошадей найдется больше овса, чем в Питере, – сказал он.
Корнилов отказался подчиниться приказу, честный генерал Крымов меж двух огней не выдержал и застрелился. А Керенский только руки потер, будто получил от этого горького спектакля удовольствие, более того – велел вооружить питерских рабочих.
– Они покажут Корнилову кузькину мать, – злорадно пообещал он, – пусть только этот генералишко сюда сунется. Питер – не Берлин.
«Генералишко» Корнилов, – особенно после побега из австрийского плена и побед над немцами в долине реки Быстрицы, когда ему сдалось более семи тысяч германских солдат и почти полторы тысячи офицеров, – был одним из авторитетных в русской армии генералов. Буквально две недели назад, двадцать седьмого июля семнадцатого года, приказом по армии и флоту Корнилову была присвоено звание полного генерала – генерала от инфантерии. И вдруг пренебрежительное: «генералишко»! Нет, явно у председателя Временного правительства не все в порядке было с головой – перегрелся во время поездки на автомобиле по фронтам.
Керенский очень, – буквально до обморока, – боялся потерять власть, а Корнилов боялся потерять Россию, – «генералишко» прекрасно понимал, к чему все идет, понимал, какие козыри вброшены в колоду и что вообще поставлено на кон.
Тем временем в газетах появились более точные данные о мятеже, который большевики готовили в Петрограде. Были названы два дня, когда начнутся беспорядки: двадцать восьмое и двадцать девятое августа.
Ночью двадцать седьмого августа, в темноте – пора прелестных белых ночей уже миновала, где-то около полуночи Дутов срочно собрал совет Союза казачьих войск. На заседании он рассказал о дневном визите в штаб Петроградского военного округа, о распрях между Керенским и Корниловым, о фактах бегства с фронтов целых дивизий…
Члены совета сидели в дутовском кабинете с вытянутыми шеями, словно собирались задать какой-нибудь каверзный вопрос. Дутов ощутил, как по ключицам у него забегали колючие мурашки, и неожиданно понял, почему так странно и старательно вытягивают шеи собравшиеся: они ждут, не раздадутся ли на улицах выстрелы! Но было тихо, – напряженно, тревожно, но тихо.
– Вопрос перед нами стоит один, – вздохнув, проговорил Дутов, – это извечный российский вопрос: что делать? Прошу высказываться!
Вначале все молчали, продолжали прислушиваться к тиши, стоявшей за стенами бывшего Главного управления казачьих войск, – управление это Керенский расформировал, а здание передал Дутову, – потом заговорили разом, перебивая друг друга, давясь словами, захлебываясь, будто радуясь тому, что пришел конец этой страшной обрыдлой тишине…
Гомонили примерно час, затем утихли, выпили традиционного чаю с сушками и бубликами и приняли следующее решение: послать своих представителей в Могилев, к Корнилову, на переговоры, следом послать представителей к Керенскому – также на переговоры. А потом свести их вместе, Керенского и Корнилова… Междоусобица России не нужна. Решение было разумным.
Дутов позвонил во дворец, где, как он знал, проходил поздний ужин с несколькими министрами, в том числе и с легендарным Савинковым, узнал, что Александр Федорович уже освободился, но спать пока не ложился, – и получил приглашение прибыть к премьеру… Все-таки крикливый адвокат, чьи поступки не всегда были понятны, а широкой публикой просто воспринимались враждебно, хорошо относился к Дутову и тот вздохнул благодарно – такое отношение надо ценить.
Ночь шла на убыль, небо изрезали темные длинные полосы облаков. Пустые улицы были таинственны и тихи, где-то далеко горласто и горько кричали вороны – то ли кто-то разбудил их, то ли увидели валявшегося посреди тротуара покойника. К Керенскому поехали втроем; кроме Дутова – Караулов и Аникеев, казачьи обер-офицеры.
Керенский нервно носился по кабинету, хрустел костяшками пальцев, громко сморкался в надушенный батистовый платок. В углу, в роскошном кожаном кресле, сидел мрачный Савинков. Увидев появившегося в дверях Дутова, Керенский ткнул в него пальцем, будто стволом пистолета, и выкрикнул истончившимся от переживаний голосом:
– Корнилов – изменник!
Дутов вытянулся, словно принял эти слова, как приказ к действию, ощутил, что внутри у него образовался мелкий пузырь, пополз вверх и застрял в глотке. Видеть нынешнего правителя России таким было неприятно. Керенский перевел взгляд на Савинкова, как будто хотел услышать его мнение о Корнилове. Савинков по-прежнему мрачно молчал. Керенский досадливо подергал уголками рта и сказал Дутову:
– Ваш совет должен принять однозначное решение: Корнилова объявить изменником, а Каледина [23] – мятежником.
Каледин – донской атаман, видя, что происходит в России, не дрогнул и поддержал Корнилова, потому и впал в немилость.
– Ваше высокопревосходительство, – Дутов обратился к Керенскому по военной старинке, как уже не обращались, отметил, что такое обращение премьеру понравилось, – я предлагаю сделать попытку примирения – чтобы и волки были сыты и овцы целы…
– Интересно, за кого же вы меня принимаете, за волка или овцу? – неожиданно спросил Керенский.
Дутов смутился, сбился, Керенский покровительственно улыбнулся.
– Не смущайтесь, – сказал он, – поводов у вас для этого нет.Караулов и Аникеев молча стояли в дверях, в разговоре участия не принимали.
– А что… В идее примирения что-то есть, – ожил Савинков, достал из самшитовой папиросницы, лежавшей на небольшом лакированном столике одну папиросу, привычно смял пальцами ее мягкий толстый мундштук. – Почему бы не попробовать, Александр Федорович?
Некоторое время Керенский ходил по кабинету молча. Движения его были резкие, нервные, быстрые, лицо нехорошо подрагивало – он не совсем владел собою. Наконец он остановился, закинул руки за спину и, покачиваясь с носков на пятку несколько минут, не произнося ни слова, рассматривал Дутова.
– Хорошо, – со вздохом произнес он, – я согласен. Только есть несколько «но». Первое «но» – ваш совет должен предоставить письменное заверение в лояльности к Временному правительству. Второе «но» – полное примирение невозможно, возможна только попытка примирения, – Керенский хрустнул за спиной пальцами. – Это будет подчинение Корнилова тому решению, которое приняло Временное правительство. Нужно убедить зарвавшегося генерала – пусть подчинится… На таких условиях я согласен – пусть ваша делегация едет в Ставку…
Небо за окном посветлело. Через пару часов в городе могли загрохотать выстрелы. Но пока было тихо. Возвращались посланцы к себе молча, – собственно, говорить было не о чем, все понятно и без слов. Дутов хмурился и недовольно шевелил губами.
В девять часов утра Дутову позвонил Савинков, – голос хриплый, просквоженный, усталый, – даже этот железный человек оказался подвержен коррозии.
– Поездка в Ставку отменяется, – заявил он.
– Почему? – Дутов почувствовал, как нервно задрожали губы: недаром говорят – с кем поведешься, от того и наберешься.
Повелся с психопатом Керенским – от него и набрался.
– Правительство пришло к выводу, что ваше посредничество запоздало, – сказал Савинков, – так что распаковывайте, господин Дутов, чемоданы.
– А я их и не запаковывал, – резко проговорил Дутов.
Он думал, что его фраза прозвучит остроумно, но Савинков повесил трубку. Дутов недовольно приподнял плечо, на котором косо сидел мятый мягкий погон с полковничьими просветами, и ожесточенно покрутил рукоять телефонного аппарата:
– Барышня, соедините меня с номером… – он замялся – не знал, откуда ему звонил Савинков, – с которым я только что разговаривал…
На его счастье, это была телефонистка, которая соединяла Савинкова с Союзом казачьих войск, она быстро нашла нужное гнездо. Раздался недовольный голос Савинкова:
– Алло!
– Борис Владимирович, расскажите хоть, что случилось? – попросил Дутов.
– Гм! – было слышно, как Савинков раскуривает папиросу.
Дутову показалось, что он почти наяву видит знаменитого анархиста, видит и его желчную улыбку, и синий дымок над папиросой. – Вы же прекрасно и без моих рассказов понимаете, что могло случиться.
– Понимаю.
– Тогда зачем спрашиваете?
– Затем, что совет Союза казачьих войск усматривает в отказе министра-председателя недоверие, – голос Дутова сделался сухим, каким-то скрипучим, незнакомым, – а раз это так, то мы снимаем с себя всякую ответственность за дальнейшее развитие событий.
– Как хотите, так и поступайте, – равнодушно произнес Савинков, – меня это уже не касается. Я вышел из состава правительства. – и он повесил трубку.
Это была новость! Некоторое время Дутов сидел оглушенный, отказываясь верить в то, что услышал, вяло постукивая пальцами по столу, потом позвал к себе Караулова. Следом – Аникеева.
Оба явились невыспавшиеся, с одутловатыми красными глазами, Дутов вкратце рассказал им, что произошло, затем выругался матом.
– Это – по-казачьи, – усмехнулся Караулов.
– По-нашенски, – поправил его Дутов и, в назидательном жесте подняв указательный палец, сказал: – Наше решение о снятии всякой ответственности надо оформить бумагой, документально, – он потыкал пальцем в воздух.
Так и сделали. Бумагу отправили к Керенскому. Тридцать первого августа Керенский вызвал Дутова в Зимний дворец. Дутов схватился руками за поясницу, изогнулся подбито и заохал жалобно:
– Ох, проклятый ревматизм! Совсем доконал, зараза. Все свое здоровье оставил в окопах… О-ох!
В кабинет Дутова примчался войсковой старшина Греков:
– Что?
– Плохо. О-ох!
Греков и поехал вместо Дутова к министру-председателю.
Керенский, взвинченный, с влажными опухшими глазами, нервно ходил по кабинету, хрустел пальцами, подергивал шеей, – в его организме словно все разладилось, потеряло прежнюю прочность, вид у Александра Федоровича был расстроенный. Увидев Грекова, он остановился, глянул колюче и спросил хриплым надсаженным голосом:
– Откуда, товарищ?
Керенский считал себя последовательным демократом, знал слово «товарищ» и умел им владеть.
– Из Союза казачьих войск, – ответил Греков.
– А где Дутов?
– Заболел.
Керенский все понял, усмехнулся пренебрежительно. Уголки его губ задергались.
– Ну-ну! – Керенский, сунул руки за спину, похрустел там пальцами, произнес еще раз с прежней обидной усмешкой: – Ну-ну!
Голос его наполнился силой, стал звучным. Греков поспешно щелкнул каблуками.
– Союз казачьих войск должен осудить генералов Корнилова и Каледина! – Керенский резко взмахнул кулаком, рассек воздух. – Корнилов – изменник, Каледин – мятежник.
Эта странная формула «Корнилов – изменник, Каледин – мятежник» уже несколько дней сидела у министра-председателя в голове, никакой ветер не мог ее оттуда выдуть.
– Приказываю сделать это немедленно! – Керенский вновь повысил голос, ткнул костяшками кулака в воздух, словно хотел подчеркнуть, что такого решения от казаков сам Господь Бог требует: – Не-мед-лен-но! – по слогам повторил глава кабинета министров.
Греков побледнел, его лицо сделалось подбористым, худым, и он упрямо мотнул головой:
– Этого сделать я не могу.
Керенский вскинулся, будто в живот ему больно ткнули кулаком.
– Почему?
– Не имею полномочий.
Керенский рассвирепел:
– Ну так поезжайте к себе и соберите эти полномочия! К вечеру резолюция чтоб была у меня!
Греков вытянулся.
– Вот-вот, – одобрительно проговорил Керенский. – Иначе Временное правительство откажет в доверии Союзу казачьих войск.
Это было уже серьезно.
Когда Греков вернулся к себе, Дутов сидел за столом и что-то писал – о болезни своей он уже позабыл. Увидев Грекова, отложил ручку в сторону:
– Ну что там, рассказывай.
– Керенский, требует, чтобы мы срочно приняли резолюцию…
– «Корнилов – изменник, Каледин – мятежник»? – перебил его Дутов.
– Так точно!
– Не дадим мы ему такой резолюции.
– Тогда Керенский вызовет нас к себе и арестует.
Дутов с сомнением покачал головой:
– Вряд ли. Не осмелится.
– Настроен он решительно.
– Керенский всегда настроен решительно. Только проку от этого…
Греков оказался провидцем: назавтра Керенский пригласил к себе членов президиума Союза казачьих войск, всех до единого, – и повторил свои требования. В кабинете повисла гнетущая тишина – ни один звук не долетал сюда извне.
– Мы же приняли резолюцию, Александр Федорович, – произнес Дутов, – и предложили свои услуги по наведению мостов… Даже в Могилев собирались ехать.
– Это ничего бы не дало, – Керенский привычно загнул на руке палец, – поскольку с переговорами и вы и мы безнадежно опоздали. А также потому – Керенский загнул еще два пальца, сразу оба, – что решение казачьего офицерства, а не трудовых казаков. Рядовые казаки меня знают и поддерживают, не то, что вы… Можете быть свободны. Сегодня вечером я жду резолюцию.
Дутов ощутил, как по спине у него пополз холодный пот – в голосе Керенского прозвучали зловещие нотки. «А ведь чего доброго, этот отставной адвокат возьмет, да засунет нас в каталажку, – невольно подумал он, – а потом, после короткого разбирательства, поставит под стволы винтовок. Время ныне мутное, горячее, человеческие жизни никто не считает… Греков был прав».
Внешне, однако, Дутов выглядел спокойно. Керенский, словно угадав, о чем он думает, ухмыльнулся неожиданно ехидно, понимающе и помотал перед лицом казачьего предводителя сухой ладошкой:
– Вы мне совершенно неопасны, я хочу, чтобы вы это понимали. На вашей стороне – казачье офицерство, на моей – трудовое казачество. Вот и все, сударь, – Керенский сделал ловкое движение, будто стянул с себя шляпу и провел ею по воздуху, – можете быть свободны, – повторил он. – Но к вечеру я жду резолюцию, где черным по белому должно быть сказано, что Корнилов – предатель, а Каледин – мятежник. Именно такая резолюция нужна Временному правительству и никакая другая.
День тот выдался в Петрограде мирный, с высоким белым небом и ласковым ветром, прилетавшим откуда-то из гатчинских предместий, но Дутов чувствовал себя неуютно. В шесть часов вечера он собрал на заседание Совет, где рассказал о последней встрече с премьером, о требованиях Временного правительства и злополучной резолюции.
– Ну а сами-то вы, Александр Ильич, за эту резолюцию или против? – спросил кто-то из прокуренного угла кабинета.
– Против, – коротко, не раздумывая, ответил Дутов.
Пока заседали, пришло сообщение, что Корнилов и Каледин объявлены вне закона: одному прилепили, как и требовал Керенский, клеймо изменника, другому – поддержавшего его мятежника. Хотя оба они были безмерно преданы России.
Дутов недоуменно покачал головой, сжал пальцами виски.
– Это уже слишком, – произнес он с горьким вздохом.
Заседание прервали – позиция Совета была ясна, и Дутов совместно с Карауловым засел за письмо министру председателю. Оно далось трудно, покорпеть над ним пришлось полтора часа.
Письмо было осторожное, состояло из очень аккуратных слов, но в мягкую оболочку был засунут жесткий штырь. Суть «железной начинки» была проста: и Корнилов, и Каледин – казаки, а у казаков принято разбираться со всякими обвинениями детально, до мелочей, и пока не будут выяснены все обстоятельства проступков «изменника» и «мятежника», они не могут быть осуждены. Это – раз. И – два. Каледин является выборным атаманом, за него проголосовал Донской войсковой круг, поэтому нельзя снимать его повелениями сверху, для этого войсковой круг надо созывать вновь.
Бумага была спешно обсуждена на Совете, получила общий «одобрям-с», и ее запечатали в конверт.
Дутов вызвал из дежурной каптерки урядника, награжденного Георгиевским крестом, – это был Еремеев, недавно прибывший с фронта в Петроград лечиться. По ранению он мог надолго прописаться в госпитале, но душа казака не выдержала, он разыскал Дутова и добился откомандирования из полка в Совет. Дутов отдал в руки Еремеева пакет, сказал:
– Возьми четырех казаков и – в Зимний. Доставишь пакет Керенскому. Скажешь, чтобы отдали лично, – Дутов поднял указательный палец. – Проникнись важностью исторического момента!
Еремеев поправил повязку на голове и неуклюже притиснул один сапог к другому, звук получился тупым и деревянным, будто сомкнулись два трухлявых пенька. Улыбнулся белозубо:
– Будет исполнено все в точности!
– Александр Ильич, почему пакет решили отправить с простыми казаками, а не с офицерами? – встрял Караулов. – Ведь все-таки – к председателю правительства…
– Хочу, чтобы в окружении Керенского знали – это точка зрения не только офицеров, но и простых казаков.
Отношения между Керенским и Союзом казачьих войск натянулись. Но это никак не повлияло на дальнейшую карьеру Дутова, который уже давно понял, что судьба вознесла его на такую высоту, с который лишь один прыжок – и ты в лидерах, в генералах. Дутов уже видел, как воздух вокруг него делается золоченым и ласковый жар дорогого металла приятно теплит щеки, голову, тело, а в душе от восторга начинает что-то ласково петь. Однако всякая высота – штука опасная…
Шестнадцатого сентября Дутов получил телеграмму. Надо было срочно отправляться в Оренбург. Там старые казаки решили спешно собрать войсковой круг, который уже объявили чрезвычайным.
В Оренбурге царила золотая осень. Деревья стояли будто бы облитые жидкой медью. Ночью позванивали легкие морозцы, убивали разную мошку, комаров, мух. Днем те оживали и с недовольным гудением, будто аэропланы, барражировали над городскими улицами, пикируя на пешеходов.
Обстановка в Оренбурге сложилась совсем иная, чем в Петрограде, спокойная. Здесь вообще попадались люди, которые не слышали ни о Керенском, ни о Временном правительстве, ни о большевиках, ни о революции, ни о том, что на фронте целые километры окопов остались пустыми, – жили своими интересами, своими заботами, поливали герань на подоконниках и регулярно проверяли, как созревают подсолнухи на огородах. Дутов им втайне завидовал.
В отцовском доме все, кажется, помнило его. И стены, и половицы, и чистые, хорошо вымытые рукастой неугомонной экономкой окна, и портреты на стенах, и тяжелые монументальные занавеси, будто бы отлитые из металла, и обновленные свежим лаком стулья, и два огромных шкафа, похожих на крепостные сооружения… Все-все здесь помнило Сашку Дутова, юного, быстроногого, горластого…
И он многое помнил. Если раньше в памяти случались некие провалы – вроде бы обрезало свет, и из головы уносились целые куски прошлого с людьми, событиями, обстановкой, пейзажами – то сейчас они все чаще и чаще стали проступать из непрозрачной глубины на поверхность. Со временем память становилась избирательной и делалась острее.
Переходя из одной комнаты в другую, вместе с шагами перелистывая страницы памяти, Дутов обошел весь дом, постоял в своей комнате – губы расстроенно задергались сами по себе, и он прижал ко рту ладонь, но понял, что вряд ли это поможет, и поспешно покинул комнату… Остановился у окна, пальцами отжал нарядную бронзовую задвижку, открыл форточку – ему не хватало воздуха, в ушах поселился болезненный звон.
Вечером у входной двери раздался звонок. Дутов, одетый в шелковый немецкий халат, привезенный из Петрограда и помещенный на видное место в гардероб, вышел в прихожую. Запахнул халат поглубже и открыл дверь.
За дверью стояли две женщины – стройные, в ладных, хорошо подогнанных гимнастерках, с офицерскими погонами на плечах – по одной звездочке при одном просвете, что соответствовало чину прапорщика в инфантерии или подхорунжего в казачьих войсках. Красивые лица были знакомы Дутову, но он не мог вспомнить, откуда их знает… И только когда заговорила та, что постарше, он вспомнил – одна из них была вдовой старшего брата Богданова, а вторая так и не успела выйти замуж за младшего.
Дутов отступил на шаг в глубину прихожей.
– Милости прошу, заходите, – проговорил он обрадованно. – Сейчас нас с вами угостят пирожками с печенкой, с яблоками, домашним крекером и хорошим китайским чаем. Заходите! – Дутов посторонился, давая возможность казачкам войти в дом.
– Может быть, в следующий раз… барин, – сказала старшая.
Это прозвучало неожиданно, в свободолюбивой казачьей среде такое обращение было чужим.
– Какой я вам барин? – укоризненно покачал головой Дутов.
– Извините, ежели что не так, ваше высокоблагородие, – гостья прижала к груди руку.
– Все так, все так, – успокоил ее Дутов, – только раз уж пришли в гости, положено в дом заглянуть и чаю испить… Иначе, какие же это гости?
Потоптавшись еще немного у порога, женщины все же покинули прихожую и, войдя в комнату, оробели.
– Как у вас зде-есь…
– Как? – с улыбкой спросил Дутов.
– Как в губернском музее. Очень много всего.
Уже за столом, после первого стакана чая, гостьи поведали, зачем явились к командиру полка.
– На фронт нам велено больше не возвращаться, – сказала Авдотья, – война, мол, для баб кончилась.
– Это кто же вам такое наплел? – спросил Дутов.
– Ваш заместитель… есаул Дерябин.
Дутов крякнул в кулак, хотел было высказаться, но сдержал себя, по-птичьи подергав крупной, коротко остриженной головой и подсунул черненый серебряный подстаканник с плотно всаженной в него посудой под кран самовара.
– Глупости все это!
– А раз велено не возвращаться в воинскую часть – значит, надо искать себе работу, – со вздохом добавила Авдотья, – чтобы стариков Богдановых накормить и самим без еды не остаться.
– Не спешите только, – поучительно произнес Дутов, – война еще не кончилась. Костер этот скоро разгорится так, что не только людям – всем чертям сделается тошно. Да и разве в станице, по хозяйству, работы нет? Или станичники отказались от земли и перестали ее обрабатывать?
– Отказались, Александр Ильич.
– Как это? – не понял Дутов.
– К нам примаки городские напросились, они теперь и станут землей заниматься. Половину урожая будут отдавать старикам Богдановым.
– Лихо, – Дутов осуждающе качнул грузной головой, взгляд его сделался задумчивым. – Откуда же приехали эти примаки?
– Из Орла. Рабочая семья. На заводе работали, а потом решили подняться с места и уехать. Я спросила у них: «Что, в Орле голодно стало?» Они ответили: «Голодно».
– Так степь наша и станет иногородческой, – озабоченно произнес Дутов. – Надо бы вопрос об этом поднять на казачьем круге, – он взял опустевший Авдотьин стакан, наполнил его чаем. Следом наполнил стакан Натальи. – Пейте, дорогие казачки. Угощайтесь.
Пирожки в доме Дутовых всегда пекли славные, кухарки у них всю жизнь работали знающие, понимали в стряпне толк – через пятнадцать минут в большом фаянсовом блюде, расписанном китайскими драконами, уже не было ни одного пирожка.
– А насчет того, что без дела останетесь, без денег – не беспокойтесь, – сказал Дутов на прощание своим гостьям, – не останетесь. Это я вам обещаю. И дело будет, и заработок.
Казачки поклонились Дутову в пояс.Из Петрограда Дутов привез тяжелый тюк с газетами, Еремеев едва с ним справился: когда вытаскивал из вагона, хрипел, как мерин, которого надсадили неподъемным грузом.
В газетах тех была опубликована статья Дутова «Позиция казачества». Он решил, что в зале, где будет проходить войсковой круг, эта газетка никак не будет лишней. Тем более, что подавляющая часть казаков думала так же, как и Дутов, в этом он был уверен. Похоже, что казаки скоро станут единственной силой, способной удержать Россию на ногах. Того и гляди, страна шлепнется в грязь, как пьяная баба.
Ход был правильный, газеты, разложенные на креслах, сделали свое дело: Дутов стал в Оренбурге персоной номер один, каждый старик считал своим долгом подойти к «сыну генерал-майора Дутова Ильи Петровича» и пожать ему руку. «Сын генерал-майора» со стариками был особенно учтив. Старики во всяком казачьем войске – сила не просто большая, – лютая! Любую другую силу, даже если она вооружится артиллерией, перешибут запросто, а подружившись со стариками можно и до атаманской булавы дотянуться.
Планы Дутова распространялись далеко, цель была ясная, он видел ее отчетливо, до мелочей, до самого крохотного заусенца, – в общем, Александр Ильич знал, что делал. Именно тогда, в сентябре семнадцатого года, он понял уже окончательно, что станет лидером, генералом – исторической личностью, словом.
Триумф выпал на первое октября – в этот день Дутов стал Оренбургским войсковым атаманом: его кандидатуру делегаты, поддержанные стариками войска, предпочли всем иным. На плечи ему накинули шинель с генеральскими отворотами, на голову нахлобучили папаху с алым верхом, в руки сунули тяжелую булаву и усадили в широкое резное кресло: командуй, атаман!
– Любо, атаман! – выкрикнул кто-то громко, будто из пушки пальнул, и приветственный клич этот волнами покатился по залу: – Любо, атама-а-ан!
Люди оглушали друг друга криками, радовались тому, что Оренбургское войско обзавелось новым предводителем, вхожим, как гласила молва, во все властные структуры, вплоть до первого лица в России, самого главного начальника. Казаки смеялись счастливо, будто новая казачья власть сумеет сделать их богатыми и сытыми. Дутов радовался вместе со всеми.
Первым нового оренбургского атамана поздравил донской атаман – генерал Каледин, «мятежник», против которого так усердно «рыл землю» Керенский, но ничего не получилось.
Утром Дутов распахнул окно в доме, по пояс высунулся наружу, дохнул крепкого, позванивающего от лихого морозца воздуха, глянул счастливыми глазами в небо.
– Ну вот, я и вернулся к тебе, Оренбург… На белом коне вернулся.
Городские крыши тускло поблескивали в утреннем свете, над головками церквей плавал розовый цепкий туман, желтые сонные деревья стояли тихи – ни одна веточка не шелохнется, где-то недалеко горласто и беззаботно орал петух. Хорошо!
– На белом коне вернулся, – повторил Дутов и захлопнул окно.
Седьмого октября Дутов выехал в Петроград – надо было сдавать дела в Союзе казачьих войск, а заодно – постараться наладить добрые отношения с Временным правительством и с самим Керенским. Если раньше, в прежнем положении председателя Союза казачьих войск Дутов мог ругаться с Александром Федоровичем сколько угодно, то сейчас этой роскоши он позволить себе не мог, не имел права. Чтобы наладить эти отношения, придется сделать подробный доклад о положении дел в Оренбургском казачьем войске, подмаслить правителя…
Доклад Дутов сделал. Керенский остался доволен, даже подарил ему серебряные полковничьи погоны с черным кантом – генштабовские, отечески приобнял новоиспеченного атамана за плечи и сказал:
– Я очень рассчитываю на тесное сотрудничество с вами, Александр Ильич!
Из кабинета правителя России Дутов вышел с застывшей на губах улыбкой: он думал о том, что быть атаманом – дело не полковничье, а генеральское, поэтому не за горами и чин генерал-майора. Вон у коллеги Каледина – полный набор, – генерал от кавалерии. А Оренбургское казачье войско, если прикинуть да посчитать головы, по числу сабель Донскому не уступит.
В Питере Дутов остановился в хорошей гостинице – снял просторный трехкомнатный номер с видом на Невский проспект. Одну комнату, самую маленькую, соединенную дверью с коридором, отдал Еремееву, тот продолжал исполнять при нем роль ординарца, хотя положение это было временным – ординарцем при войсковом атамане должен состоять офицер, – желательно обер-офицер.
Дутов сказал об этом Еремееву, тот расстроился так, что на глазах у него даже заблестели слезы. Еремеев стер их и проговорил просяще:
– Ну, может быть, я тогда вторым номером смогу остаться? Как в пулеметном расчете… У ординарца командующего должен же быть помощник?
Этого Дутов не знал, он замешкался на несколько мгновений, потом неопределенно пошевелил ртом:
– Наверное, должен…
– Вот я им и буду, ваше высокоблагородие…
– Высокоблагородия отменены, Еремеев.
– Неважно, ваше высокоблагородие, – упрямо повторил тот, – отменены – не отменены, это не играет никакой роли. А вдруг завтра газеты напишут, что Керенский велел всем ходить по Невскому проспекту без штанов? Вы что, послушаетесь его?
Дутов на мгновение представил себе эту замысловатую картину и засмеялся.
– А новые погоны положено обмывать, – заметил он. – Всякое дерево нужно обильно полить, чтобы был обеспечен дальнейший рост. – Что предлагаешь, Еремеев?
– Достать «монопольки» [24] , собрать друзей прямо тут, в гостином дворе. Фронтовых товарищей кликнуть. Вот радости-то будет…
На следующий день Дутову в Зимнем дворце был выдан министерский мандат, как полноправному члену Временного правительства: его назначили «главноуполномоченным Временного правительства по продовольствию по Оренбургскому казачьему войску, Оренбургской губернии и Тургайской области» – такое сложное и длинное название имела эта должность.
Обстановка в Петрограде оставалась сложная, по ночам часто слышались выстрелы – не только на окраине, но и в центре. В темноте было опасно ходить даже по Невскому проспекту, а уж где-нибудь на Охте или Выборгской стороне людей убивали без счета и раздевали догола. «Гопстопники» правили свой бал.
На двадцать второе выпадал большой праздник – день Казанской иконы Божией Матери – одной из главных русских святынь. Дутов, предвидя осложнение обстановки в городе, предложил провести в этот день демонстрацию казачьих сил – пусть казаки проедут в конном строю по Невскому проспекту и покажут разным смутьянам, горлопанам и дезертирам, какую мощь они собой представляют. Питер, прослышав про такое, притих.
Говорят, на это довольно болезненно отреагировал Владимир Ильич Ленин – демонстрация могла сорвать его планы по захвату власти. Наверное, так оно и было бы, но, как всегда, сыграл свою роль Керенский – он даже в собственном стане оказался чужаком и «голы» забивал только в свои ворота – запретил казачьим полкам вообще появляться в Петрограде. Чем все это закончилось – мы хорошо знаем. Через несколько дней Керенскому пришлось бежать из Зимнего дворца, натянув на себя то ли мятый дамский чепчик и юбку, то ли матросскую форму. Так он и исчез в глубинах истории, ничего приметного больше не свершив.
А Дутов благополучно отбыл в Оренбург.Появился он в городе одновременно с заполошными телеграфными сообщениями – ничего другого телеграф уже не передавал – о том, что в стране произошла революция, власть взяли большевики, а члены Временного правительства, следуя примеру своего шефа, поспешили скрыться из российской столицы. Правда, сделать это удалось не всем. Увы.
Дутов, жалея о том, что министерскими полномочиями ему воспользоваться так и не удалось, немедленно настрочил приказ о том, что захват власти в Петрограде был совершен насильственно, поэтому власть новую вольный казачий Оренбург не признает, а посему с «20-ти часов 26-го сего октября войсковое правительство во главе с атаманом Дутовым принимает на себя всю полноту исполнительной Государственной власти в войске».
Через несколько часов о непризнании новой власти заявил и донской атаман Каледин. Снежный ком сопротивления, который впоследствии породил гражданскую войну, покатился с горы.
Юнкера Оренбургского казачьего училища заняли почту, телеграф, вокзал, вооруженные посты были выставлены на перекрестках улиц, у банка. Дутов объявил, что его родной город переводится на военное положение. Были запрещены митинги, демонстрации и вообще всякие сборища.
Большевики в Оренбурге вели себя тихо, на рожон не лезли, и тем не менее Дутов приказал закрыть их клуб, а литературу, находившуюся в помещении, швырнуть в костер, набор свежего номера газеты «Пролетарий» рассыпать на отдельные буковки. Саму газету издавать в дальнейшем запретил. В общем, действовал новоиспеченный атаман решительно, как на фронте, когда надо было вышибать германцев из окопов.
Революционный Петроград не замедлил откликнуться на действия нового оренбургского владыки – четвертого ноября в город прибыл некий Цвиллинг С.М. [25] , назначенный Петроградским военно-революционным комитетом чрезвычайным комиссаром Оренбургской губернии.
Мужиком молодой Цвиллинг – ему было всего двадцать семь лет, – оказался горластым, напористым, поэтому с первых же часов пребывания в городе включился в борьбу против Дутова.
– Долой власть казачьего полковника Дутова! – азартно орал он, носясь на пролетке по улицам Оренбурга, только жесткая пыль, смешанная с ранним ноябрьским снегом, взметывалась столбами, да собаки, видя красноглазого возбужденного Цвиллинга, трусливо поджимали хвосты и при появлении грохочущей, словно броневик, пролетки, поспешно кидались в подворотни. – Да здравствует свобода! – Цвиллинг вскидывался с поднятыми кулаками в воздух, застывая в этой позе на миг, с треском опускался на сиденье, а потом снова потрясал кулаками.
Казалось, что он одновременно выступает везде – в Главных железнодорожных мастерских и в паровой салотопке, на медеплавильной фабрике и перед кыргызами, не успевшими продать свой скот на Меновом рынке, перед казаками запасного полка в депо… Промышленных предприятий в Оренбурге было более ста, и Цвиллинг за какие-то четыре дня умудрился побывать едва ли не на всех. И везде кричал:
– Долой казачьего полковника Дутова!
Дутову, естественно, регулярно доносили о выступлениях столичного крикуна, в ответ он лишь усмехался и произносил презрительно:
– Не казачьего полковника, а полковника Генерального штаба, он даже в этих вещах не разбирается, – потом делал взмах рукой – пустое, мол, и добавлял: – Холерик! А холерикам закон не писан!
Однако Дутов хорошо понимал, – голова у него уже звенела от тревожных мыслей, – надо действовать. Иначе Цвиллинг опередит его, и новоиспеченного атамана вздернут вверх ногами на каком-нибудь тополе.
Через некоторое время Дутова пригласили в Совет рабочих и солдатских депутатов. Разговор начался на повышенных тонах. Хорошо, что в Совете не оказалось Цвиллинга, иначе дело дошло бы до стрельбы.
– Вы, господин хороший, телеграмму товарищу Ленину отсылали? – спросил у Дутова казак с большим красным бантом на шинели и дергающимся нервным лицом.
В день приезда в Оренбург Дутову на стол положили телеграмму, присланную из Питера самим Лениным, – вождь пролетариата требовал от атамана Дутова, чтобы тот признал советскую власть. Ответ ему Дутов дал отрицательный.
– Отсылал, – спокойно произнес Дутов.
– Содержание телеграммы помните, господин хороший? – спросил казак.
Дутов равнодушно, не замечая холодного тона казака, покачал головой:
– Не помню.
– Я могу напомнить, – сказал казак. – Вы написали, что власть новая – захватническая, казаками никогда не будет признана и что с большевиками вы будете бороться до конца… Так?
– Примерно так.
– Не примерно, а совершенно точно, – заявил казак.
– И что же вы от меня хотите? – спокойно спросил Дутов.
– Чтобы вы отказались от старой телеграммы и послали Владимиру Ильичу новую, в которой признали бы власть большевиков.
– Нет! – произнес твердо Дутов, отсекая все пути назад.
– Почему, господин хороший?
– Это не мое личное решение, а – войскового круга.
Казак бряцнул крестами, неожиданно сделавшись задумчивым, помял пальцами горло: к решениям войскового круга он относился с уважением… Разговор тот закончился совершенно неожиданно – Оренбургский Совет рабочих и солдатских депутатов поддержал Дутова.
Это решение очень не понравилось Цвиллингу. Он сменил пролетку на автомобиль и начал носиться по Оренбургу с удвоенной скоростью, выступая на митингах перед солдатами, не раз бывал бит, замазывал синяки мукой и вновь кидался на трибуну. Голос он себе сорвал, по утрам пил сырые куриные яйца, восстанавливал связки и опять прыгал в автомобиль. Работа его приносила плоды: противостояние в Оренбурге накалилось до такой степени, что вот-вот должны были затрещать выстрелы.
Цвиллингу очень не нравился Совет рабочих и солдатских депутатов, который поддержал Дутова, и он решил членов Совета заменить. Нанося упреждающий удар, Дутов арестовал всех большевиков в Оренбурге и выслал их в глухие станицы – Нежинскую и Верхне-Озерную. Но тем не менее седьмого ноября Совет был переизбран, девяносто процентов нового состава попали в руки РСДРП(б).Протестуя против ареста своих товарищей-большевиков, девятого ноября начали забастовку путейцы – рабочие депо и главных железнодорожных мастерских. Через двое суток в Оренбург на паровозе, – совершенно по-ленински, – в помощь охрипшему Цвиллингу прибыл чрезвычайный комиссар Оренбургской губернии и Тургайской области Кобозев [26] . В Петрограде ему поручили возглавить борьбу с Дутовым – оренбургский атаман становился все более приметной фигурой в России.
Сил у Дутова было немного – на его стороне находились два конных полка, две батареи, юнкера местного казачьего училища и школа прапорщиков. При этом гарнизон, поверивший речам Цвиллинга и готовый в любую минуту разбежаться по хуторам и станицам, к теплым печкам, насчитывал тридцать две тысячи человек.
Объявив о роспуске гарнизона, Дутов распорядился всем желающим выдать отпускные документы, а их винтовки поставить в козлы. Результат превзошел ожидания: у Дутова появился целый склад винтовок – пятнадцать тысяч стволов, плюс пулеметы. Он сумел добиться, чтоб забастовавшим путейцам не выдавали хлеб и зарплату. В воздухе запахло порохом, землю зримо накрыла зловещая тень Гражданской войны – самой несправедливой, самой беспощадной, той самой, где победителей не бывает.
Бастующие, отвечая Дутову, перекрыли железную дорогу – им важно было перевести Оренбург на голодный паек. Оказавшись без хлеба да без солонины, казаки запоют с голодухи – о-о-о! – путейцы задумчиво скребли заскорузлыми пальцами затылки.
Под Оренбургом, на многочисленных станциях, застряли возвращавшиеся с войны фронтовики – их также не пропускали в город, держали без еды, без воды в открытой степи. Только на небольшом участке между загаженными станциями Новосергиевка и Кинель их собралось около десяти тысяч человек. Армия сколотилась такая, что ее можно было двинуть куда угодно и стереть с лица земли кого угодно. Солдаты ярились, хрипели на митингах, размахивали кулаками, стреляли из винтовок в воздух и грозились поотрывать головы всем – и Дутову, и Цвиллингу, и Кобозеву, всем вместе, словом.
– Оторвем бестолковки и на колы нахлобучим, – обещали они, продолжая орать и трясти кулаками.
Но не только размахивающие красными флагами упрямые путейцы брали верх в этом противостоянии, – казачье войско под началом Дутова, хотя и было небольшим, но умудрялось причинять серьезные хлопоты советской власти: оно перекрыло все пути в Сибирь и в Среднюю Азию.
В Питере быстро сообразили, как можно справиться с казачьими атаманами, уже двадцать пятого ноября появилось обращение Совнаркома к населению – Ленин призывал встать на борьбу с Дутовым и Калединым. Атаманы были объявлены вне закона – теперь каждый мальчишка мог стрелять в них из рогатки. В зоне Южного Урала вводилось осадное положение. Всем казакам, решившим перейти на сторону советской власти, гарантировалось прощение за прошлые грехи и поддержка. Зловещая тень гражданской войны обрела плоть…
Недалеко от станции Кинель, плотно забитой эшелонами, облюбовали себе место в степи калмык Бембеев, с двумя Георгиями, показно пришпиленными к новенькой шинели, взятой на складе с бою, и бывший сапожник Удалов с забинтованной рукой в петле перевязи, а с ними еще несколько человек…
На кинельских путях царила неразбериха. Это было на руку застрявшим фронтовикам – под шумок они добыли себе и крупы, и мяса, и соли, и сахару с макаронами, а проворный Бембеев даже умудрился достать бумажный кулек с лавровым листом. Чуть поодаль от железнодорожных путей, под бугром, они расчистили яму, накрыли ее остатками дырявого железа со старой водокачки – и теперь на костре варили кулеш в черном, закопченном ведре.
С топливом проблем тоже не было – Удалов на запасных путях наткнулся на разваленный вагон и все доски – прямо с гайками, со всем крепежом, – перетащили к своему земляному логову, сверху, чтобы не достали ни снег, ни морось, накрыли все старым брезентовым полотнищем. В общем, устроились, как куркули, говоря языком Удалова, – на «все сто», с размахом. В этой же яме, прижимаясь друг к дружке, сберегая тепло, накрывшись остатками спасительного брезента, переночевали.
По степи пробежался мороз, деревья, примыкавшие к станции, обрели вид сказочный, стали выше и объемнее, в розовом утреннем свете иней искрился дорого, слепил людей, и они восторженно радостно чмокали.
Вблизи от казаков, в мелкой канавке, вырытой когда-то, видимо, для хозяйственных нужд, а потом заросшей, отдыхал человек в яловых сапогах и солдатской шинели. На шинели выделялись мятые офицерские погоны со звездочками, нарисованными химическим карандашом и тронутыми потеками. К воротнику были пришиты и зеленые петлицы Отдельного корпуса пограничной стражи. Это понравилось казакам, потому что фронтовики петлиц давно уже не носили, многие спороли их вместе с погонами, в некоторых частях погоны спороли даже командиры полков, – иначе солдаты могли поднять их на штыки.
– Во, прапорщика к нам прибило, – не замедлил отметить Удалов.
Он ловко оживил костер, кинул в огонь несколько мелко нарубленных ножом дощечек и позвал соседа:
– Земеля, прибивайся к нашему берегу!
Тот приподнялся над канавой, огляделся.
– Спасибо, – произнес он сиплым от простуды, спокойным голосом.
Офицерской спеси в нем не было – видимо, чин ему присвоили недавно, на впалых щеках серебрилась щетина, да и поседел прапорщик рано.
– Чего скрипеть костями в одиночестве, – Удалов поперхнулся холодным воздухом, закашлялся, – вместе скрипеть веселее.
– Это верно, – молвил прапорщик и выдернул свое тело из смерзшейся, засыпанной снегом канавы, следом вытащил сидор.
Порывшись в нем, прапорщик достал объемистую оловянную фляжку, обтянутую шинельным сукном, встряхнул. Фляжка была тяжелая. Прапорщик аккуратно поставил ее к ногам Удалова.
– Вот, – произнес он тихо, – мой взнос.
Удалов обрадованно потер руки, подхватил фляжку, прилип носом к горлышку:
– Шнапс?
– Спирт.
– Чистый?
– Как слеза. Ни капли воды в нем еще не было. Если, конечно… – пограничник растянул губы в сухой жесткой улыбке, – в госпитале меня не надули. Я ведь за этот спирт отдал золотой немецкий медальон.
– Кучеряво! – невольно восхитился Кривоносов. – За золотой медальон мы бы на этой станции полвагона крупы выменяли б.
Удалов – главный на нынешний день по «котловому довольствию» – с трудом провернул ложку в ведре. Варево получилось густым, с вязким мясным духом, от которого во рту образовывалась невольная слюна, – так вкусно пахло из ведра…
– Что с возу упало, то пропало, – сказал Сенька пограничнику, – сейчас позавтракаем – веселее станет. А со стопочкой – м-м-м, – Кривоносов восхищенно покрутил головой. – Как тебя величают?
– Потапов.
– А по имени?
– Потапов и все, имя не обязательно.
– Где охранял границу, Потапов?
– На западе. В Польше.
– Далековато тебя занесло, – присвистнул Сенька.
Пограничник не отозвался, молча протянул руки к огню, погрел их вначале с одной стороны, с тыльной, потом, как лепешку, перевернул, погрел с другой стороны.
– В родные края потянуло?
У пограничника мелко и жестко задергалась щека, он прижал к ней пальцы.
– Нет.
– И с семьей неохота повидаться?
– Нет у меня семьи, – хмуро произнес пограничник.
– Это как? – Кривоносов прижмурил один глаз. – У всех есть, а у тебя нет?
– Вот так и нет, – хмуро и медленно проговорил пограничник. – Германский снаряд попал в дом, а в нем – двое моих детей и жена. Все сгорели. Я же в это время гонял немецких велосипедистов. Вернулся домой, а там… – пограничник обреченно махнул рукой.
– Прости, брат, – Кривоносов вздохнул, – не думал разбередить тебя.
Пограничник вновь махнул рукой – чего, мол, извиняться? Против судьбы не попрешь. Осталась лишь дырка в душе, наполненная болью, скулежом, слезами – рана, одним словом.
После кулеша Сенька сбегал на станцию, узнать, не предвидится ли какое-либо, хотя бы малое, движение поездов на Оренбург, – вернулся с тощей, остро пахнущей свежей типографской краской газеткой в руках.
– Сидим, братцы, мертво, – мрачным голосом сообщил он, – ни туды ни сюды. Большевики запечатали нас на этой станции, не оставив ни одной щелки – как мух в консервной банке.
– Суки! – коротко и выразительно среагировал на это сообщение Удалов.
– Статеечку вот притартал [27] , – Сенька взмахнул газетой, – нашего одного знакомого…
– Кто же из нас мог опуститься до такого, чтоб стать писателем, а? – Удалов ткнул Бембеева локтем в бок: – Уж не ты ли?
Калмык засмеялся так заливисто и выразительно, что ответ был ясен без всяких слов:
– Дутов!
Удалов изумленно поцецекал языком:
– Вот те, бабушка, и козел в огороде… Читай вслух!
Статья Дутова была патриотическая, страстная, доставалось в ней всем – и Ленину, и Бронштейну [28] , и Апельбауму [29] , и Кобозеву, окончательно заменившему Цвиллинга, бесследно исчезнувшего несколько дней назад, – словом, всем «сестрам по серьгам». Членов Совета рабочих и солдатских депутатов Дутов называл «торгашами своей совестью», большевиков – «наемниками Вильгельма» и «грабителями государственных банков», дезертиров обвинил в том, что они, «бессильные с врагом-немцем, пробуют силу штыка и пулемета на безоружном жителе».
Удалов привычно запустил пятерню под шапку, поскреб макушку.
– Что, членистоногие завелись? Зубастые с мохнатыми гривами? – с сочувствием поинтересовался Сенька.
– Дурак ты! – беззлобно отмахнулся от приятеля бывший сапожник.
Сенька сделал невинное лицо.
– А от Александра Ильича я такой прыти не ожидал… Молодец! Написал, как этот самый… Как Чехов, – похвалил Дутова Удалов, погрустнел неожиданно. – Зубастые, говоришь? С мохнатыми гривами? Йэ-эх, где же сейчас мой Серко?
Казаки возвращались домой без коней. На фронте редко какой конь выживает – почти всегда они погибают раньше хозяев.
Да и везти верного друга через половину страны – штука накладная. Большинство тех казаков, у которых кони уцелели, продавали верных своих друзей, меняли их на продукты и выпивку, и в родные края уезжали налегке, радуясь, что сумели избавиться от скрученных боевыми хворями доходяг. Дома, в Оренбурге, на Меновом рынке, легко подобрать себе нового друга – кыргызы их пригоняют табунами, – огненноглазых, рыжих и сивых, с густыми гривами, стремительных, словно ветер.
Удалов сгорбился, словно от неожиданного удара в поддых, невесело покривился лицом. Каждый из них, оставив боевого друга в далеком краю, старался делать беззаботное лицо, в то же время страдая от внутренней тоски, даже боли – до чего же пакостлив стал человек: готов продать кого угодно. Так и сам Удалов, и Бембеев с Сенькой Кривоносовым – все они по одной мерке скроены, одной иголкой сшиты.
– Молодец, Александр Ильич, – запоздало одобрил статью атамана калмык, – толково написал… И слова хорошие нашел, молодец!
На станции Кинель продолжали скапливаться фронтовики.В начале декабря собрался новый войсковой круг. Сделано это было по требованию большевиков – в частности, подъесаула Каширина [30] . Каширин рассчитывал, что на массовой «сходке» удастся столкнуть Дутова с кресла войскового атамана и на его место посадить своего человека.
Из затеи этой ничего не получилось. Дутов вновь был избран войсковым атаманом. А Каширина освистали. Стиснув зубы, не произнося ни слова, он покинул зал, где заседал круг. Ему оставалась одно – собирать свое собственное войско. Красное.
Дутов ясно понимал, что предстоит борьба. Затяжная. С большой кровью. Противник у него будет достойный – тот же подъесаул. Каширин – не Цвиллинг, он боевой офицер, знает, как ходить в атаки и как организовывать оборону.
Одиннадцатого декабря был образован Оренбургский военный округ, куда вошла территория не только Оренбургской губернии, но и огромной Тургайской области. Командующим округом стал Дутов, начальником штаба – полковник Акулинин [31] . Таково было совместное решение войскового круга, комитета по спасению Родины и революции (действовала в Оренбурге контора со столь громким призывным названием), а также башкирского и кыргызского съездов.
Происходил окончательный раскол – Россия разделилась на белых и красных.
Шестнадцатого декабря Дутов разослал по станицам и войсковым частям приказ о призыве вооруженных казаков – пришла пора встать под казачьи знамена тем, кому была дорога старая Россия. Красные тоже объявили мобилизацию, под их знамена молодежь пошла охотнее, чем под знамена Дутова, но тем не менее Каширин собрал под Оренбургом тайное совещание.
– У Дутова под началом семь тысяч человек, – сказал он, – нам надо выставить столько же. В противном случае драку не стоит даже затевать – мы ее проиграем.
Разведка Каширина промахнулась в подсчетах – у Дутова под ружьем находилось всего две тысячи человек, среди них было полно стариков, которые максимум на что способны – съесть пару котелков каши. Имей Каширин точные данные, уж постарался бы разнести Дутова в пух-прах.
Неприятные для Каширина вести приходили и с Дона – там также зашевелилось казачество. Он прекрасно понимал: если донской атаман Каледин захочет соединиться с Дутовым – красным придет конец. Обстановка была тяжелая, Каширин со своими соратниками часами просиживал над картой, соображая, с какого же бока можно укусить Дутова, при этом – не пострадать самому…
Дутов и Акулинин тоже немало времени проводили, склонясь над картой. Мобилизация частей Оренбургского военного округа проходила медленно – слишком неповоротливой, усталой была военная машина…Фронтовики, скопившиеся на станции Кинель, продолжали держаться кучками, каждый день штурмовали комендатуру и требовали предоставления эшелонов, терзали несчастного начальника станции, хорошо хоть затворами винтовок не щелкали. Небольшие степные увалы подле станции были сплошь расцвечены кострами, в огонь шло все, что могло гореть – от коровьих кизяков и журналов «Нива» из станционной библиотеки до лакированных ломберных столиков, найденных в одном из вагонов.
Стрелковая рота с красными бантами пыталась навести порядок на станции, но многого сделать не могла – понятно, что бывалые фронтовики могли из нее сотворить что угодно, даже закопать живьем в землю. Пытались стрелки охранять и товарняки, скопившиеся на запасных путях, но тщетно – каждую ночь боевой народец, отягощенный фронтовым опытом, обязательно взламывал какой-нибудь вагон и тащил из него все, что попадало на глаза.
Калмык эту практику не одобрял.
– Так мы всю Россию разграбим, – бормотал он, собрав на лбу морщины, будто желая разом обратиться в мудрого старца, имеющего право на всякие суждения, приговоры и оправдания.
– Не слишком ли замахиваешься, Африкан? – не выдержал Удалов.
Калмыка поддержал Потапов, сказал хмуро – шевельнулся у него внутри жидкий металл и угас:
– Африкан прав!
– Еще один праведник нашелся, – протенькал, как синица, Удалов. – Лучше бы подумали, как жратву достать, у нас кончилась.
– Придется пойти ленинским путем, – сказал Потапов.
– То есть?
– Экспроприировать экспроприированное.
Яму свою они углубили, поставили в ней, как в шахте, стойки, сделали навес и вход. Получилась землянка, самая настоящая, теплая и удобная. Потапов, оказавшийся мастером на все руки, из битых кирпичей сложил маленькую печушку, щели и сколы замазал глиной – печушка теперь служила им верой и правдой: и обогревала, и чаи с едой поставляла, и портянки сушила.
– Вот хренотень вселенская, – который уж день ворчал Удалов, – в двух шагах от дома находимся, а войти не можем…
Кривоносов его поддерживал, тоже ругался, – причем делать это давно научился гораздо лучше бывшего сапожника, позволял себе такие выкрутасы, что от его мата даже лошади садились на задницы. Калмык поддакивал – вяло, правда, неохотно, будто чего-то побаивался. А Потапов молчал, с задумчивым видом покусывая какую-нибудь сухую былку, сплевывал под ноги крошки и молчал.
– Ты об чем, Потапыч, думаешь? – спрашивал его Кривоносов, с любопытством швыркал простуженным носом – занимал его этот человек, никак станичник не мог понять загадочного Потапова. – А?
– О жизни думаю, о чем же еще, – переводил на него спокойный взгляд Потапов.
Голос его, сам тон был таким, что невольно приводил Кривоносова в смятенное состояние духа, и он терялся.
– Слушай, Потапыч, а награды у тебя есть?
– Есть, – нехотя отвечал Потапов.
– Какие?
– Два Георгия, медали.
– А чего их не носишь?
– Зачем? Чтобы вши пооткусывали?
– Ну хотя бы ленточку пришил к шинели.
– Зачем? Чтобы выделиться? Не по мне это, – нехотя произнес Потапов.
Дискуссию в тот раз прервал калмык – встал, заняв сразу половину землянки, хлопнул в ладони:
– Ну, ладно, жратва-то кончилась… Пора на дело. Иначе в обед лапу будем сосать, как медведи.
По ровной, твердой, основательно пробитой морозом земле колобком катилась снежная крупка, спотыкалась на неровностях, ломала трескучие сухие стебли, скручивалась в колючие хвосты, – недобрая установилась погода. И не холодно вроде, а стылый воздух пронизывал до костей, будто вколачивал в живое тело ледяные гвозди.
На железнодорожных путях толпились фронтовики, галдели, как вороны, плотно оцепив взвод рабочих, вооруженный старыми «трехлинейками», с иссеченными прикладами. Вид у рабочих был хмурый и грозный.
– Чего вы нас тут на привязи держите, как неподкованных коней? А? – кричал рабочим белоусый, с яростным, переполненным кровью лицом казак.
– Пошли отсюда, – Потапов свернул в сторону, – это не для нас.
– Погоди, – Удалов придержал его за рукав шинели. – Гордеенко! – тихо, совсем неразличимо позвал Удалов белоусого казака.
Смятый оклик его должен был пропасть в общем гаме, – но Гордеенко его услышал, вскинулся с встревоженным видом, пошарил глазами по казачьей толпе.
– Гордеенко! – вновь тихо, прежним неразличимым голосом позвал его Удалов.
Белоусый казак приподнялся на носках сапог, закрутил головой, будто подсолнух, боящийся упустить солнечный последний луч, заскользил глазами по макушкам голов, по папахам, кубанкам и шапкам, по лицам и вновь не нашел того, кто звал его.
– Кто это? – спросил у Удалова пограничник.
– Да из нашей команды боец. Вместе немаков в Карпатах колотили. Полгода назад его прямо из окопов забрали с тяжелой раной, увезли в госпиталь. Сейчас – вона, объявился! Живой и невредимый.
Рабочие, поблескивая глазами, каменея лицами, неожиданно вскинули винтовки и, освобождая перед собой пространство, взяли их наперевес. Фронтовики замолчали и на шаг расступились. Было слышно, как с противным шорохом скребется по земле крупка. Над головами людей поднимался тонкий прозрачный пар.
– Гордеенко! – в третий раз позвал Удалов.
Наконец белоусый казак нащупал его взгляд, обрадованно всплеснул руками, запыхтел, будто паровоз, которого угостили качественным корабельным угольком, и, энергично работая локтями, двинулся сквозь толпу к Удалову.
– Земеля! – выкрикнул он истончившимся, словно бы надорванным голосом.
– Земеля! – также сдавленно и обрадованно выкрикнул в ответ Удалов, гулко похлопал ладонями по спине окопного сотоварища, словно лопатами помолотил. – Ах ты, мой разлюбезный, малиновый, шелковый, шевровый [32] , хромовый, опойковый [33] и сафьяновый, парчовый, незабвенный, дорогой, золотой, бриллиантовый… Ты хотя бы весточку какую-нибудь в Первый Оренбургский казачий полк прислал…
– Посылал…
– И что же? Может, командир полка ее получил? Не было этого! Александр Ильич нам бы ее отдал…
– Значит, не доходили письма. Одно я написал сам, лично, – Гордеенко стукнул себя кулаком в грудь, будто в бочку, – второе мне помогла сочинить сестричка из госпиталя.
Взгляд у Гордеенко смущенно скользнул в сторону. Удалов это засек и переспросил:
– Сестра милосердия?
– Посудомойка с кухни. Главное, грамотная и здорово помогала солдатам.
– Тебе особенно.
– Верно. Откуда знаешь?
– Подхватывай сидор и пошли с нами, – велел приятелю Удалов.
– Был у меня сидор, да сплыл, – Гордеенко вздохнул. – Стянули.
– Раззява. Тьфу. – Удалов беззлобно плюнул через плечо. – Лучше бы винтовку у тебя сперли.
– За винтовку на меня вообще бы мыльный галстук накинули, – Гордеенко провел себя пальцем по шее, – и повесили б сушиться.
– Галстук, галстук, – проворчал Удалов.
Потерю сидора – заплечного друга с нехитрыми манатками он воспринимал с не меньшей болью, чем потерю коня или однополчанина, полегшего в схватке с германцами.
– Время, время, – поторопил друзей Потапов.
По путям метались снежные шлейфы, около загнанных на запасные пути поездов топтались, стуча сапогами замерзшие сизолицые часовые – охраняли вагоны. Потапов пробежался скорым взглядом по часовым, вздохнул:
– Охраны сегодня в два раза больше, чем вчера.
Удалов сдвинул на нос папаху, почесал затылок:
– И чего будем делать? Сидеть голодными?
– Ни за что, – Потапов примерился и сделал несколько пасов руками, огладил перед собой воздух, затем сразу всеми пальцами нажал на невидимые кнопки.
Удалов обеспокоенно оглянулся.
– Не удастся нам добыть съестного, – огорченно произнес он, демонстративно поддернул штаны. – Йе-эх!
– Почему не удастся? – удивился Потапов, тихий голос его звучал уверенно.
Под ногами захрустела галька, которой были присыпаны чугунные нити полотна.
– Часовых вон сколько… Они и одного шага не дадут сделать.
– А мы их выключим. Поштучно.
– Это не электролампочки… – с недоумением проговорил Удалов.
– Будут электролампочками, – пообещал Потапов, – не так уж трудно это сделать. – Ты думаешь, они нас видят?
– А как же? Конечно, видят.
– Нет, не видят. – Потапов закряхтел, нагнулся. – Полезли-ка под вагон.
– Засекут, подумают, что мы сейчас вагоны будем вспарывать снизу, и откроют стрельбу.
– Не бойся, не откроют.
Потапов первым перебрался на противоположную сторону полотна – ни один часовой даже не шелохнулся, хотя все происходило у них на глазах. Удалов удивленно открыл рот:
– Надо же!
– Это еще не все, это пока цветочки, – пообещал Потапов, – ягодки впереди… Главное – выбрать нужный вагон, не промахнуться. Чтобы в нем харчи оказались.
– Такой вагон мы подберем, – пообещал Удалов, – это дело нехитрое, по моей части. Но часовые…
Движения Потапова оставались спокойными, размеренными, точно рассчитанными, он действовал, как машина. Удалов все равно передернул плечами, будто от холодного озноба.
Нужный вагон они нашли через десять минут.
– Вот, – Удалов ткнул пальцем в небольшой двухосный вагон, – то самое, Потапыч, что нам необходимо.
Вагон сильно облупился в пути – был когда-то выкрашен в зеленый цвет, а сейчас из краски полезли стертые лысые углы, образовались пролежни. Бывший сапожник задрал голову, сощурился, словно бы хотел что-то прочитать в серых мятущихся небесах и забормотал монотонно, как колдун:
– Ящики с коровьим маслом, немецкий бекон в банках – трофейный, еще весной взяли его, английские консервы, сладкое…
– Чего из сладкого? – оживленно спросил Потапов.
– Мармелад. В небольших таких ящичках, – Удалов подвигал перед собой руками, показывая размеры.
– Неплохо бы одну коробочку утащить с собой, – Потапов мечтательно сощурился, хлопнул ладонью о ладонь. Если уж и имел этот человек слабости, то – по части сладкого.
– Ага, – Удалов также впал в мечтательное настроение.
Вообще они были достойны друг друга, Удалов и прапорщик Потапов.
Один из часовых – работяга с пропитанным машинной гарью лицом и шевелящимся на ветру красным бантом, пришпиленным к потертому полушубку, – стоял в десяти шагах от них, но никак не реагировал на происходящее.
– Чего это с ним? – Удалов выгнул рот веселой скобкой.
– Ничего. Я же говорил, что часовых вырублю, – ответил Потапов. – Чтобы не мешали.
– Значит, они нас не видят и не слышат?
– До тебя это дошло только сейчас? – Потапов засмеялся. – Ну и шея у тебя… Как у жирафа.
Удалов тоже засмеялся, азартно потер руки, понюхал их.
За время пребывания в окопах Удалов поднаторел в немецкой кулинарии, специалистом, можно сказать, стал, а раньше сардельки от сыра не мог отличить:
– Немецким беконом пахнут!
Потапов оказался настоящим колдуном. На виду у часовых достал из кармана нож, легко обрезал им проволоку, на которой болталась свинцовая плошка пломбы, и с грохотом отодвинул дверь вагона. Из темного нутра пахнуло вкусным духом съестного.
– Давайте, мужики, запузыривайте в вагон, – скомандовал Потапов, подталкивая казаков, подсаживая их и направляя точно в проем, – берите все самое лучшее. И сладкое не забудьте.
– А ты, Потапыч?
– Мне нельзя. Кто тогда этого деятеля из РСДРП будет держать в состоянии божественной нирваны? – Потапов показал на работягу.
Вагон явно был генеральский, либо штабной: какой-то уж чересчур заботливый хозяйственник подбирал товар для чьих-то личных нужд, учитывал начальственные вкусы.
Казаки взяли все самое отборное. Потапов искусно соединил проволоку, чуть сдвинул пломбу, прикрывая ею срез, – и пошел на часовых первым. На плече он нес коробку с мармеладными ящичками. Отходили кучно, мимо часовых – ни один из них даже бровь не приподнял при виде мужиков, уносящих из вагона добро. До своего логова добрались без приключений.
– Ну, Потапыч, ну, Потапыч! – восхищенно забормотал Удалов, сбросив с плеча ящик с банками бекона. – За такого талантливого артиста неплохо бы выпить. Жаль только нечего.
– Почему нечего? – вопросительно стрельнул в него одним глазом прапорщик, приподняв свой сидор. – Найдем и это.
Фляжка у пограничника оказалась бездонной. Прошлый раз ее выхлебали досуха, ни капли в ней не осталось, а сейчас Потапов взял, встряхнул ее – внутри глухо булькнула жидкость: фляжка была полной. Этот прапорщик с нарисованными на погонах звездочками умел делать то, чего не умел весь Первый Оренбургский казачий полк.
– Чудеса! – не удержался от восторженного восклицания Удалов.
Спирт из фляжки вылили в алюминиевую кружку, добавили воды – напиток получился крепкий и такой хмельной, что мог свалить с ног коня, – выпили за Потапова, за Гордеенко, за то, чтобы дальше держаться всем вместе, одной командой.
На станции выли, подавали тревожные голоса паровозы – железная дорога была перекрыта мертво.Конечно, неплохо было бы пойти к Каледину, соединиться с ним, но и Каледин пока впустую, безуспешно тыркался на Дону, увязая в мелких стычках. Дутов тоже погрязал в стычках, в теоретической войне, в состязании с большевиками – кто кого объедет на кривой козе, – ни Дутов, ни Каледин не имели достаточно сил, чтобы пойти на соединение.
Дутов с Акулининым делали все, чтобы нарастить силовой кулак, дать ему возможность потяжелеть, а потом уж крушить им все и вся. Но люди шли к Дутову неохотно, как неохотно стали идти и к красным – все устали от войны, от крови, от неизвестности, не понимали, каков у них будет завтрашний день. Добравшись до родного порога, вчерашние солдаты уже старались не выходить за ворота. Такая позиция просто бесила Дутова, он вращал черными от гнева глазами и громко хлопал по столу:
– Большевики сожрут нас! Вместе с костями и требухой сжуют, за милую душу… Неужели вы этого не понимаете, станичники?
Станичники не понимали, и это рождало у Дутова мрачные мысли.
– Большевики победят, – говорил он Акулинину, морщился горько – ему не хотелось верить словам, которые он произносил, но против фактов не попрешь.
Акулинин молчал. Был он человеком деликатным, из тех, кто не пытается обскакать на резвом коне командира, умел хорошо читать карты и планировать отступления. По части наступлений дело у него обстояло хуже.
Дутов подошел к окну, с треском разорвав бумагу, которой рама была оклеена по периметру. Зимой, когда природа обрушивала на Оренбург лютый снег, смешанный с песком, затем полировала сугробы ветрами, все помещение тут через малую щелку могло наполниться снегом, поэтому хозяйки оклеивали рамы особенно тщательно.
В кабинет ворвался студеный ветер, обдал лицо атамана колючим холодом. Дутов высунулся по грудь наружу, широко распахнутым ртом хлебнул свежего воздуха – сколько мог захватить. Вкус у воздуха оказался жестким, горьким, родил в Дутове тоскливую оторопь и желание удрать из Оренбурга куда-нибудь подальше.
– По моим данным, у большевиков под штыком находится уже пять тысяч человек, – просипел он простудно – каленый воздух обварил ему глотку.
– По моим – больше, Александр Ильич, – произнес Акулинин, – шесть с лишним.
– Нам нужна помощь, – Дутов постучал кулаком по переплету рамы, – необходимы совместные действия. С Калединым. С атаманом Мартыновым [34] Василием Патрикеевичем и его Уральским войском, с Анненковым [35] , который, говорят, собрал целую армию и успешно действует сейчас под Омском….
– С Борисом Владимировичем Анненковым я знаком по фронту, – Акулинин поспешил заполнить образовавшуюся паузу, – очень храбрый офицер.
– Я тоже встречался с ним на фронте, Анненков под пулями ходил, будто на базаре мясо для шашлыка покупал – не пригибаясь… Григорий Михайлович Семенов [36] , говорят, установил свою власть в Забайкалье… Надо послать ко всем своих людей. Только совместные, скоординированные действия принесут нам удачу. А по отдельности каждого из нас перегнут через колено, сломают и закопают. Тем дело и закончится, – Дутов вновь стукнул по раме. – Готовьте, Иван Григорьевич, гонцов… Постарайтесь подобрать надежных офицеров, которым вы доверяете, как самому себе. B общем, – самых, самых…
Ночевал Дутов в штабе. Обстановка менялась каждый час. Отряды Кобозева и Каширина плотно обложили город. Все чаще стала слышна в разговорах фамилия неведомого Блюхера [37] – воюет, дескать, очень умело, промахов не допускает, в отрядах у него дисциплина, как в русской армии до четырнадцатого года. Потому и выигрывает одну драку за другой.
– Блюхер, Блюхер… – пробормотал Дутов сипло, помял пальцами виски. – Фамилия немецкая. М-м-м, – атаман не выдержал, застонал. В ушах стоял звон, виски ломило. – Скорее всего, Блюхер все-таки из немцев. А немцы, как бы мы к ним ни относились, всегда были толковыми вояками. – Дутов вновь застонал и с силой надавил кончиками пальцев на виски, боль не проходила. – Будь ты неладен, товарищ Блюхер…
Несколько мгновений атаман лежал молча, стараясь заговорить боль. Этот рецепт он позаимствовал у матери Елизаветы Николаевны, а та, в свою очередь, получила его в наследство от деда, чье тело было рванным от чужих сабель. Казаки умели заговаривать боль еще во времена царя Гороха и лечили сабельные порубы слюной, травой, да невнятным бормотаньем…
Утром разведка донесла, что под Оренбургом появились два матросских полка.
– Нам только не хватало этих чертей в широких дворницких штанах, – Дутов поморщился.
О матросах ходили разные слухи. Дрались они, конечно, зло, часто до последней капли крови. Кое-кто из них употреблял кокаин, все много орали и, сбившись в кучу, любили насиловать баб. Казаки относились к матросам пренебрежительно, доблестные флотские люди отвечали им тем же.– Откуда они взялись, Иван Григорьевич? – спросил атаман у Акулинина.
– С Балтики. С линейных кораблей «Андрей Первозванный» и «Петропавловск». Полгода назад, в Гельсинфорсе, их команды перебили своих офицеров.
– И что, никого не оставили в живых? – Дутов невольно поежился.
– Спаслись только те, кто находился на берегу.
– В наших степях они найдут себе последний приют, – убежденно произнес Дутов, – мы их быстро успокоим.
– У меня есть прошение казаков о создании отдельной охотничьей команды, которая бы вылавливала этих черных бестий…
– Неплохая мысль, – похвалил Дутов, – такую команду надо создать.
Он подошел к карте на столе, несколько минут стоял перед ней молча, – на карте этой уже до боли, до двоения в глазах был знаком каждый мелкий значок, каждая закорючка, каждое пятнецо, где можно было бы совершить воинский маневр. Лицо атамана сделалось непроницаемым, он постучал пальцем по бумаге, потом обвел ногтем район станции Сырт:
– Здесь мы дадим первый крупный бой большевикам.
– По моим данным, большевики подтянули сюда броневую площадку, – сказал Акулинин.
– Броневая площадка – это еще не бронепоезд, – Дутов щелкнул пальцем по карте, потом прошелся по строчке дороги, уходящей к Волге, – броневую площадку мы превратим в сплющенную консервную банку и придем вот куда, в Челябинск, в Бузулук и далее… Сапоги будем мыть в Урале, в Волге, в Гумбейке – везде!
Перевес на стороне красных был тройной – у Дутова имелось в три раза меньше солдат, чем у Кобозева с Кашириным, и тем не менее его это не остановило. Атаман начал наступление очень грамотно – подтянув артиллерию к Сырту, обработал снарядами станцию, обхватил поселок с двух сторон, соединил клещи и вошел в Сырт почти без потерь. Это была первая победа Дутова на образовавшемся Уральском фронте.
К Сырту на санях подтянулась пулеметная команда. «Максимы» были установлены в специальных деревянных коробах – высовывали из них свои тупые дульца, будто морды из собачьих будок. Конечно, короба – не самое удобное приспособление, чтобы вести стрельбу, но другого местные мастера не придумали – они долго чесали затылки, смущенно хмыкали и обещали поломать мозги еще, но так ничего они и не придумали.
Эти короба оказались очень даже хороши для женщин – у пулеметчиц Авдотьи Богдановой и Натальи Гурдусовой появилась новая товарка – круглолицая, с крепкими скулами, широким темным румянцем на щеках и огненными черными глазами, очень веселая, шумная Саша Васильева.
Характер у Саши оказался легкий, ко всякому человеку она умела найти подход, отыскивала свой ключик и редкому собеседнику не западала в душу. Стреляла она из пулемета мастерски, метко, будто на «зингере» тачала рубаху, пулемет могла разобрать и собрать с закрытыми глазами, из маузера на спор сшибала птицу.
В Сырт две пулеметные повозки влетели с черного хода – по санной колее, проложенной, чтобы из степи возить сено, – проскочили едва ли не к самому штабу Кобозева. Над темным широким крыльцом, похожим на площадь для проведения митингов, развивался малиновый флаг – красного сатина в местной лавке не оказалось, был только малиновый, его на революционное знамя и пустили. У штаба повозки развернулись и направили стволы «максимов» на крыльцо.
Из дверей вывалилось двое глазастых солдат с красными ленточками на папахах, они быстро разглядели женщин в санях, погоны и ударили залпом по ним из своих «трехлинеек». В ответ прогрохотала меткая пулеметная очередь.
В одного солдата угодило сразу несколько пуль, подбитый горячим свинцом, он перелетел через крыльцо, снес своим тяжелым телом высокие, недавно подправленные плотником перила, – и рухнул в снег. Второй метнулся назад, к двери, но Авдотья подцепила его коротким стежком – у солдата из рук выпала винтовка, и он растянулся на крыльце.
Из-за угла штаба, высунулся еще один красноармеец, гулко саданул по саням из «трехлинейки», вновь стремительно нырнул за угол дома. Стрелял красноармеец метко – пуля с сипением проколола воздух над санями и сшибла с Саши Васильевой шапку – мастерски скроенную кубанку из серого каракуля. Девушка приложилась к пулемету, повела стволом по пространству – очередь будто топором прошлась по торцу, только щепки полетели в разные стороны.
Едва смолкла очередь, как из-за искромсанного среза дома вновь высунулся ствол винтовки и красноармеец пальнул по саням. Вторая пуля, как и первая, пропела свою опасную хриплую песню над самыми головами пулеметчиц.
– Во, наглец! – изумилась Саша. – Надо же так плохо относиться к дамам! – Улыбка, украшавшая ее лицо, погасла, она еще раз стиснула рукояти «максима», дала длинную очередь, щепки вновь полетели веером.
На улице прогромыхало протяжное густое «ура-а!», проскакало несколько всадников. Упрямый красноармеец больше не стрелял.
– Все, Сырт наш! – торжественно объявила Авдотья, приподнялась в санях.
Наталья с силой дернула, ее, заваливая назад, в короб:
– С ума сошла! Убьют!
– Да ты что, – с улыбкой проговорила Авдотья. – Сырт наш, красноармейцев тут больше нету. Все! Сбежали! Все до единого, – она вновь приподнялась в санях, козырьком приложила руку к нарядной кубанке, сделавшись похожей на генеральшу.
Наталья глянула на нее снизу и восхищенно ахнула:
– Ну ты и молодец, Доня! Внушительно, смотришься…
Где-то невдалеке прозвучал выстрел – слабенький, сухой, схожий с щелканьем треснувшей ветки. Будто мальчишка пальнул из пугача. Авдотья неожиданно вскинулась, побледнела, задышала часто.
– Ты чего? – шепотом опросила у нее Наталья. – А, Доня?
– Ничего, – также шепотом ответила та. – Что это было?
– Стрелял кто-то.
– Я понимаю – стрелял… Но кто? – Авдотья до крови закусила нижнюю губу.
Голова ее словно бы тяжелый цветок с подломленным стеблем резко накренилась, упала на плечо, на глаза стремительно наполз туман – плотная белесая вата, даже зрачков не стало в ней видно. Наталья испугалась и закричала, что было силы:
– До-оня-я!
Авдотья молчала. Наталья кинулась ощупывать ее, искать, где же рана? Раны не было. И шинель была цела – ни единой рванинки, кровь нигде не выступила, а глаза умирали.
– До-оня-я!
Авдотья не откликалась. Из последних сил она старалась удержаться, но слишком злым оказался удар невидимого свинца, пуля одолела жизнь в красивом ладном теле. Авдотья застонала, попыталась поднять голову, провела пальцами по воздуху и повалилась на подругу.
Наталья подхватила Авдотью под руки, пытаясь удержать ее, но не тут-то было – гибкое послушное тело Авдотьи сделалось тяжелым, неувертливым, поползло вниз. Оно согнулась калачиком и ткнулось головой в кожух пулемета. Только тут Наталья увидела маленькую красноватую дырочку, из которой медленно вытекала блестящая сочная жидкость, похожая на деготь – пуля попала Авдотье в голову. Наталья закричала опять, небо, казалось, всколыхнулось над ней, задрожало, поползло в сторону. Авдотья была мертва.
К вечеру в Сырт прискакал Дутов, окруженный конвоем. Атаман объехал Сырт, придирчиво посчитал сани с винтовками и патронами, взятыми в коротком бою, добычей остался доволен. Одинокому старику Бородачеву, у которого снаряд случайно разбил дом, приказал выдать деньги на строительство нового. Потом поскакал к раненым – ему хотелось поддержать, подбодрить этих людей.
Узнав о гибели Авдотьи Богдановой, он помрачнел.
– Уж баб-то надо было поберечь, – проговорил с досадою. – До чего же мы дошли – под пули их подставляем. Пули – это дело мужское.
Он подошел к поленнице, около которой замерла, устав от плача, Наталья, приподнял полу дерюжки, прикрывавшей тело Авдотьи. Она лежала как живая – даже румянец на свежем лице сохранился. Дутов горестно покачал головой и аккуратно прикрыл дерюжкой лицо Авдотьи.
К атаману подступил адъютант – щеголеватый, с подчеркнуто строгой выправкой, с картинными темными усиками, делавшими его лицо надменным.
– Где прикажете похоронить убитую, Александр Ильич? Здесь или дома, в родной станице?
– Она же из Остроленской, да? – Дутов помнил очень многое, в том числе и такие детали, кто откуда пришел в его войско.
– Так точно, из Остроленской, – доложил адъютант.
– Вот и надо отвезти ее домой, к родным. Пусть похоронят отважную пулеметчицу в Остроленской.
Дутов вышел из сарая на улицу, невольно поежился, попав под охлест ветра. Распряженные лошади стояли около саней с пулеметами и лениво хрумкали сеном. Хозяйский кобель, ошалевший от грохота, стрельбы и обилия народа во дворе, так глубоко залез в будку, что даже цепи не стало видно.
В дверях дома показалась румянощекая черноглазая девушка, стрельнула колючим взором в атамана и неожиданно потупила глаза. Атаману захотелось с ней заговорить, но он ни с того, ни с сего почувствовал себя смущенным мальчишкой, в нем словно бы что-то закоротило. Слова пропали, он беспомощно глянул в одну сторону, потом в другую, ища поддержки, но поддержки не было и, втянув голову в плечи, Дутов также опустил взор.
Через мгновение рядом с ним оказалась Наталья Гурдусова, всхлипывая неровно отерла глаза. Атаман, который терялся при виде женских слез, коснулся рукою ее руки:
– Я вам сочувствую…
Наталья всхлипнула, дернула плечом, будто подсеченная дробовым зарядом птица:
– Зачем она поднялась в санях, глупая? Не поднималась бы – и была б жива, чай бы сейчас вместе пили… А, ваше высокоблагородие?
– Можно, без «высокоблагородий», – поморщившись, проговорил Дутов. – Мы же все свои, – добавил он, дотронулся до висков.
Голову пробила боль, затылок стремительно наполнился горячей тяжестью. Такие приступы после контузии на Пруте стали одолевать его в последнее время чаще обычного. Он перевел взгляд на черноглазую девушку и вновь ощутил робость.
– Это Саша, – представила девушку Наталья. – Саша Васильева.
Черноглазая неожиданно сделала книксен, получилось у нее это ловко, изящно, Дутов не сдержал улыбки. Девушка улыбнулась ответно.
Полковнику она очень понравилась, внутри шевельнулось сладкое щемящее чувство, мигом перевернув душу. Дутов слышал от какого-то многомудрого человека, что любовь – это болезнь и с нею надо бороться, как с болезнью. Но ему так не хотелось этого делать…
– Саша – хорошее имя, – сказал он, – но Шура – лучше.
– В детстве меня все звали Шуркой, – сообщила девушка, – Шурка и Шурка, я привыкла… Мне это имя нравится.
Голос у нее был звонким, – только казачьи песни исполнять. Дутов подумал, что неплохо бы заиметь такую девушку при штабе. Она бы и уют в помещениях навела, и мужикам опускаться не позволила, – мата среди господ офицеров стало бы поменьше, а при случае могла бы выполнить и обязанности вестового…
– Ты на коне скакать умеешь? – грубовато спросил у Саши Дутов.
– Обижаете, ваше превосходительство, – Саша обратилась к атаману, как к генералу, по старинке.
– Значит, умеешь, – произнес атаман довольно: ему хотелось, чтобы эта броская ладная девушка, от которой невозможно оторвать глаза, умела все – и из винтовки стрелять, и на коне скакать, и мужика, если в чистом поле сшибутся, в драке одолеть…
– А из винтовки стрелять? – спросил атаман.
– Она из пулемета, как богиня, стреляет, – вновь стерев слезы с глаз, тихо произнесла Наталья, – не только из винтовки, Александр Ильич.
– Мол-лодец! – Эта женщина нравилась Дутову все больше и больше, в груди у него опять шевельнулся теплый сладкий ком, и атаман произнес строго: – Война не женское дело, Шура. Хватит погибать на ней женщинам. Я вас, – он ткнул пальцем в нее, – и тебя, – Дутов легонько прижал к себе Наталью Гурдусову, и тут же отпустил, – перевожу на работу в штаб. Будете числиться в комендантской роте, выполнять штабные дела, а там видно будет… Понятно?Дутов продолжал вытеснять разрозненные отряды красных с территории Оренбургского казачьего войска и, когда выдворил их, подписал приказ о прекращении преследования. Произошло это тридцать первого декабря семнадцатого года после занятия станции Новосергиевка.
В самой Новосергиевке атаман предполагал выставить заслон из казаков-добровольцев, а также из юнкеров и офицеров, проявивших себя в боях, – не более ста пятидесяти человек – а основные силы отвести в Оренбург. При этом ухо держать востро и наладить как следует разведку – он должен был знать все, что происходило в округе в радиусе ста километров.
Новый тысяча девятьсот восемнадцатый год Оренбург встретил спокойно – купцы даже наряжали елки и молились на них, как на иконы, – им казалось, что старые порядки вернулись навсегда…
Но не тут-то было. Седьмого января загрохотала, заполыхала, затряслась вся Оренбургская губерния – наступление сразу на четырех направлениях начал главный враг атамана красный командующий Кобозев, ставший к этой поре чрезвычайным комиссаром ВЦИК и СНК по Средней Азии и Западной Сибири. Кобозев вынырнул в здешних местах неведомо откуда и успел немало навредить оренбургскому люду. Самого атамана он предлагал сбросить в помойную яму и сверху накидать гнилых очисток. Дутов справедливо считал его главным своим врагом…
Вдобавок ко всему вызвездился тридцатиградусный мороз, и занялась затяжная, колючая, прошибающая до костей пурга.
Рабочие железнодорожных мастерских занимали сторону Кобозева, поэтому красному командующему удалось пустить по железной дороге несколько бронеплощадок с установленными на них орудиями и пулеметами, и даже бронепоезда. Такой техники у Дутова не было. Атаман мог рассчитывать только на казаков, их острые шашки и быстроногих коней. Бронеплощадки оказывались быстрее, да и шашка против бронепоезда бессильна…
Бои шли с переменным успехом. Первые попытки Кобозева прорваться в Оренбург провалились – все атаки были легко отбиты атаманом, а вот в районе Челябинска Кобозев сумел потеснить части Дутова и занял город Троицк – центр одного из военных округов Оренбургского казачьего войска. Затем Кобозев взял несколько важных станций, расположенных на подступах к Оренбургу, – в том числе и Сырт, а кроме Сырта – Каргалу, Новосергиевку, – и шестнадцатого января под звуки оркестра вошел в Оренбург.
По данным кобозевской разведки, у атамана к этому числу оставалось от всего войска только рожки да ножки – триста человек. Казаки устали от войны и отказывались идти под атаманские знамена. Заставить их ходить в атаку силой Дутов не мог – не тот он был человек, не хватало нужной жестокости, да и казаков было жалко. Восемнадцатого января Дутов подписал приказ о роспуске добровольческих отрядов. Сам атаман покинул Оренбург в сопровождении всего шести офицеров.
Плохие вести приходили и с Дона, хотя сил там скопилось столько, что можно было пройти всю Россию от Москвы до Владивостока и сломить любое сопротивление. Под ружьем у донского атамана находилось более шестидесяти полков, семьдесят с лишним отдельных казачьих сотен и несколько десятков артиллерийских батарей с полным боезапасом.
Дутов, зная, какая мощь находится под рукой у атамана Каледина, рассчитывал, что с Дона придет помощь. Но она, увы, не пришла. Дон затянула трясина междоусобицы между иногородними и казаками, стариками и молодыми, между фронтовиками и теми, кто на фронте не успел побывать вообще. Мешали распри между разными партиями и группировками, которых на Дону оказалось не меньше, чем в революционном Питере… Каледин, глядя на разброд, мрачнел несказанно, под глазами у него набухали мешки, лицо делалось серым.
– Весь вопрос в психологии, – говорил он, – опомнятся казаки – будет все в порядке, не опомнятся – казачья песня спета.
Не опомнились казаки. Чтобы привести их в чувство, требовались меры неординарные. И Алексей Максимович Каледин решился на них…
Это был генерал, очень любимый казаками, особенно фронтовиками – он прошел с ними огонь, воды и медные трубы. Каледин считался «второй шашкой» России после Келлера, в бою всегда оставался спокоен, сосредоточен и кавалеристов своих всегда водил в атаку лично. Именно Каледин разнес в пух и прах четвертую австрийскую армию, а потом не захотел признать революционные преобразования, развалившие фронт. И вот в конце концов он стал донским атаманом.
Именно он на Московском государственном совещании выступил с требованием вывести армию за пределы «кольца политики», снизить до нуля влияние солдатских комитетов, начавших уже повелевать командирами (те даже в нужник не могли сходить без решения) и вообще всю власть в войсках вернуть командованию.
– Этого не будет никогда! – истерично выкрикнул на это Керенский.
Видя, что Россия продолжает распадаться, а его земляки посходили с ума, что впереди нет ничего светлого, только мрак, анархия, холод и голод, Каледин и решился на эту крайнюю меру – он застрелился.
Гибель его, да, отрезвила Дон. Старики заявили, что они виноваты перед застрелившимся атаманом, и бросили клич: «Вооружайся!» Была объявлена всеобщая мобилизация казаков от восемнадцати до пятидесяти лет. Наступление большевиков на Дон вскоре было остановлено.
Но победа царила недолго – через две недели на Дону уже находились красные, наказной атаман Назаров [38] , заменивший Каледина, был схвачен и расстрелян. С ним погибли еще две тысячи человек.
Оказалось, что помочь Дутову некому. Гибель Каледина оренбургский атаман воспринял как большую личную беду. Ночью в старой, пропахшей мышами и клопами избе он налил стакан водки – старой, еще в четырнадцатом году произведенной «смирновки», бутылку которой для него достал есаул Мишуков, ходивший за атаманом как привязанный, – перекрестился и молча выпил.
По избе носилась, хлопоча и что-то напевая, Саша Васильева, протянула Дутову кусок хлеба и половинку соленого огурца.
Он отвел ее руку в сторону, пожаловался:
– Плохо мне!
– Александр Ильич, голубчик, Господь с вами, – шепотом произнесла Саша и налила атаману еще водки, полстакана, – держитесь, пожалуйста! Если вы не удержитесь, мы все погибнем.
Атаман печально поглядел на нее.
– Эх, Шура, Шура, – наконец проговорил он.
Он звал ее Шурой, иногда, в минуты близости – Шуркой, это имя нравилось ему:
– Шурка – казачье имя. А Саша… Ну что Саша? По-мещански как-то. Похоже на старую бегонию. То ли дело – Шурка! В этом имени – бунт.
Он взял в руку налитый стакан, залпом выпил. Саша вновь поднесла ему кусок ржаного хлеба с кругляшом хрустящего огурца. Спросила с болью, плохо спрятанной в голосе:
– Что-то случилось, Александр Ильич?
– Случилось, – Дутов похрустел огурцом. – В Новочеркасске застрелился атаман Каледин.
Саша перекрестилась:
– К нам это имеет какое-то отношение?
– Самое прямое. От атамана Каледина мы ожидали помощи. Теперь не дождемся, – Дутов вяло махнул рукой. – Все!
– Александр Ильич, миленький, скажите откровенно, как на духу, мы удержимся в Оренбурге… даже нет, не в Оренбурге, а вообще?
Дутов помрачнел, проговорил хрипло:
– Не знаю, Шура. Никто этого не знает, – атаман сморщился жалобно, по-ребячьи, – скажу одно: драться мы будем до конца… Пока у нас будут силы – мы будем драться. Дальше – не знаю.
– Я с вами, Александр Ильич, – Саша прижалась головой к плечу атамана, – до конца с вами.
– Спасибо, Шура, – хрипло проговорил Дутов, стукнул донышком стакана о стол. – Пока в нашем войске держится только один военный округ – Второй. И столица округа – Верхнеуральск…
В Верхнеуральск Дутов и намеревался пробраться – там много верных людей, красными не пахнет совершенно, старики, увешанные Георгиевскими крестами и прочими наградами, прочно держат общественное мнение в своих руках, большие тракты, по которым можно было бы быстро перебросить войска, – в стороне.
Атаман вскинулся, услышав всхлип Саши Васильевой.
– За брата боюсь, – пожаловалась та, – ему же придется в Остроленской, либо в Федотовне остаться. Как бы не пропал…
Дутов шевельнул бровями, одну бровь приподнял, другую опустил:
– Не пропадет. Я ему дам охранную грамоту. Единственное что – попадаться к красным с этой грамотой опасно. Шкуру с живого спустят.
Саша вновь всхлипнула, несколько мгновений неподвижно стояла около атамана, потом отерла лицо платком и проговорила тихо:
– Чему бывать, того не миновать.
– Все, Шурка, под Богом ходим, – произнес атаман.В Верхнеуральск Дутов ушел в сопровождении верных сподвижников. Охраны не было, из оружия – только то, что имели при себе, револьверы, шашки, да одна винтовка с тремя запасными обоймами. Саше Васильевой, которая шла вместе со всеми, атаман дал крохотный дамский «браунинг», украшенный нарядной насечкой.
– Для войны он, конечно, не годится, но застрелиться из него можно, – сказал он.
Саша невольно поежилась.
До Верхнеуральска дошли благополучно. Там он созвал войсковой круг, набрал семь отрядов и начал партизанскую войну. «Войну такую, что комиссары не имели ни одной секунды покоя около 4-х месяцев» – так писал о событиях того времени Дутов впоследствии.
Наступила весна. Ни патронов, ни снарядов у Дутова не было. Не было их и у красных. Кобозев подтянул к Верхнеуральску несколько отрядов и практически одними штыками выбил оттуда атамана.
Дутов переместился в станицу Краснинскую, где вскоре оказался буквально запечатан – его взяли в такое плотное кольцо, что из станицы даже мышь не могла выползти. Надо отдать должное красным – они научились воевать. Белые не уступали… Впрочем, и красные и белые допускали немало одинаковых ошибок. Объяснение всему этому было простое, хорошо известное: люди очень устали от войны.
В Краснинской Дутов собрал военный совет.
– Надо уходить, – мрачным голосом заявил он.
Сидевший рядом Акулинин придвинул к атаману карту:
– Куда?
Дутов ткнул пальцем в большое желтое пятно, ласкавшее глаз:
– В Тургайскую степь. В самом Тургае, насколько мне известно, находится нетронутый склад боеприпасов.
– До Тургая – шестьсот верст, – осторожно заметил Акулинин.
– Главное – вырваться из Краснинской. А в степи нас – ищи-свищи… И глаза сломаешь, и ногти обдерешь. Проще найти иголку в стоге сена, – Дутов замолчал, с хрустом помял себе пальцы, которые у него словно не имели костей, легко гнулись даже вбок.
Он походил по комнате, остановился около Акулинина, грузно навис над ним:
– Как, Иван Григорьевич, считаешь, прорвемся мы или нет?
Начальник штаба приподнялся на стуле:
– Иного выхода нет, Александр Ильич.
«Надо бы побеседовать с казаками, все объяснить, – подумал Дутов. – Люди должны знать – либо мы вырвемся отсюда, либо погибнем». На отрывном календаре, висевшем в избе на стенке, было шестнадцатое апреля восемнадцатого года. Прорыв назначили на семнадцатое.
Из Краснинской вырвались успешно, пробили двойное оцепление и ушли в степь.
Десятка три дутовцев угодили в плен – в том числе и хорунжий Климов. Он попал под пулеметную очередь, весь свинец приняла на себя гнедая Звездочка, а Климов, ахнув, перелетел через голову лошади и растянулся на земле. Подняться хорунжий не смог – подвернул себе левую ногу. Тяжело дыша, роняя кровь из рассеченной щеки, он откатился в сторону, заполз в какую-то плоскую яму, набитую влажной прелью, и затих. Через полчаса, когда бой умолк, его выволокли оттуда двое красноармейцев.
– Важная птица? – довольно промолвил один из них, колупнув пальцами звездочки на погонах хорунжего. – Офицер.
– Если бы за офицеров дополнительную буханку хлеба давали – было б здорово, – равнодушно добавил второй, – а так что офицер, что рядовой – все едино.
Климов схватился за травмированную ногу, застонал.
– Может, пристрелить его? – задумчиво спросил первый красноармеец. – Чтоб не мучился.
– Это можно, – согласно произнес второй, передернул затвор, загоняя в ствол патрон.
Климов почувствовал, как у него само по себе тревожно и очень противно затряслось лицо, он услышал свой тонкий, почти детский скулеж, возникший в горле:
– Ы-ы-ы!
Боец послушал скулеж и, повернув пятку затвора влево, поставил «трехлинейку» на предохранитель.
– Не хочет офицер умереть легко – умрет тяжело, – сказал он.
Допрашивал Климова чернобородый, светлоглазый человек в диковинном суконном шлеме, на который была нашита большая пятиконечная звезда, – такие шлемы Климов видел в первый раз. Держался чернобородый уверенно, начальственно, на пленных поглядывал презрительно. Первый вопрос, который он задал Климову, походил на выстрел из револьвера:
– Где сейчас находится Дутов?
Хорунжий поморщился от боли в поврежденной ноге:
– Не знаю.
– Он находился в Краснинской вместе со всеми?
Климов вновь поморщился, немного помедлил с ответом и нехотя проговорил:
– Да.
Чернобородый стянул с головы диковинный шлем, хрястнул им о стол:
– Опять ушел, гад! И как мы его не удержали в станице – непонятно. Ведь такое плотное кольцо было, столько народу стояло в оцеплении – а он ушел! Умудрился… Сквозь пальцы просочился. Вот нечистая сила!
Поймав презрительный взгляд чернобородого, Климов поежился, будто за воротник к нему прошмыгнула ледышка, и сам решил быть презрительным – сжал глаза в высокомерном прищуре и подергал уголками губ:
– Нечистая сила – это вы, а не Александр Ильич. Вам никогда его не поймать!
– Врешь, белый! – Чернобородый вновь хрястнул шлемом о стол. – Поймаем! И на первом карагаче вздернем.
– Не поймаете, – упрямо повторил Климов, – пупки развяжутся.
Покосившись на Климова удивленно и зло, чернобородый молча пошевелил губами, что-то прикидывая про себя, потом вяло взмахнул рукой и выкрикнул в открытую дверь коридора:
– Увести беляка!
Климова подхватили два красноармейца и уволокли. Вечером, уже в темноте, ему сказали:
– Ты, белый, не представляешь для нас никакой ценности. Утром тебя расстреляем!
– Чего ждать утра? – насмешливо проговорил он. – Расстреляйте сейчас – и дело с концом.
– Темно.
– Я вам фонарь подержу, подсвечу, чтобы видно было.
– А чего так торопишься на тот свет, белый?
– Противно дышать с вами одним воздухом.
Это был совсем другой Климов, которого не знали ни друзья, ни подчиненные, ни начальники, ни недруги. Это был человек, рассерженный на жизнь, – сухарь, размоченный в теплой крови, для которого жизнь, еще вчера значившая буквально все, сегодня не значила ничего…
– Ну, сказал беляк чего-нибудь путного? – спросил командир, который допрашивал Климова, когда тот был готов кататься по полу от боли, раздиравшей ногу.
– Абсолютно ничего.
– Не боится умереть?
– Не боится. Готов хоть сейчас встать под стволы и посветить фонарем.
– Ну так и поставьте его, – нахлобучив на голову суконный краснозвездный шлем, командир вышел.
Климова выволокли в сад.
Ни сожаления, ни злости, ни страха, ни боли – ничего уже он не чувствовал, все это осталось в прошлом, застряло в путанице его жизни. Было одно – усталость. Донельзя изматывающая.
Ни одного живого места не было на теле Климова, и в душе тоже не осталось ничего живого – все покалечено, смято. Поэтому, чем раньше он уйдет из этого мира, – тем будет лучше. Да еще в душе сидела тоска – далекая, зажатая, будто попала в капкан, потому и не такая пронзительная. Раньше Климов тоске сопротивлялся обязательно, сейчас же не было ни сил ни желания.
Откуда-то из степи, из простора, у которого ни конца, ни края не было, принесся ветер, приятно омыл лицо хорунжему, и Климов улыбнулся. Светлая улыбка его оказалась неожиданной для конвоиров. Они переглянулись.
– Слушай, господин хороший, – один из них толкнул хорунжего прикладом винтовки, – ты случайно с катушек не слетел?
Климов качнул головой:
– Нет.
Сад был молодой, еще не окреп после ударов лютых зимних ветров, гнулся к земле, словно хотел зарыться в нее. Из степи снова пахнуло ветром, Климову вдруг почудилось, что он слышит голос жаворонка. Рано ему петь, эти птицы прилетят сюда не раньше, чем через полмесяца, да и не поет жаворонок ночью. И тем не менее Климов отчетливо слышал пение жаворонка – словно голос с неба, специально посланный, ободряющий.
– Становись под яблоню, господин хороший, – приказал Климову один из конвоиров, старший. – Дальше не пойдем.
Климов встал под яблоню. Старший удрученно поцецекал языком:
– Не годится. Не видно, куда стрелять.
Из расплывающейся мги сада вытаял чернобородый, сдвинул на затылок суконный шлем.
– Ну что?
Климов, услышав его голос, хрипло рассмеялся:
– Вы не то, чтобы провести войсковую операцию, вы даже толком расстрелять человека не можете, – издевательски произнес он. – Вояки – голые сраки! Принесите мне фонарь, я же просил!
– Он над нами измывается, товарищ командир, – возмущенно взвизгнул один из красноармейцев.
Чернобородый сдвинул шлем с затылка на нос.
– Напрасно ты так считаешь, беляк, – угрюмо проговорил он и выкрикнул, нехорошо напрягаясь лицом: – Принесите кто-нибудь фонарь!
Один из конвоиров закинул винтовку за плечо и спешно потопал в дом, через несколько минут вернувшись со старенькой, слабо помигивающей плоским пламенем «летучей мышью», приподнял ее, освещая пленника.
– Ну как?
Напарник привычно поцокал языком:
– Пока ты стоишь рядом с ним – видно, но когда отойдешь с фонарем аршина на три – по тебе стрелять можно будет, по нему – нет.
Красноармеец, державший в руке «летучую мышь», сплюнул под ноги.
– Такой стрелок, как ты, непременно пульнет по кривой: по беляку промажет, а товарищу всадит пулю в лоб.
– Р-разговорчики! – предупреждающе рявкнул чернобородый.
– Действительно, красноармейцы, чего базар устроили? – хрипло проговорил Климов. – Я же дважды предлагал – дайте фонарь мне, я подержу. Ну!
Красноармеец приподнял «летучую мышь» выше, осветил пленного. Климов нашел в себе силы выпрямиться и, держась рукою за ствол яблоньки, растянул рот в улыбке:
– Давай, говорю, фонарь! А ты, братец, – сказал он второму конвоиру, – ты заряжай ружье.
Красноармеец, вытянув фонарь в руке, обернулся к чернобородому:
– Товарищ командир, можно?
– Отдай фонарь, раз господин беляк требует. В конце концов не винтовку же отдаешь. Пусть поспособствует нашему революционному делу, поможет расстрелять врага свободной России.
Из ночи, из глубины степи, вновь принесся легкий ветер, обдал людей запахом прелой травы, смешанным с духом травы молодой, горечью прошлогоднего чернобыльника и оренбургской полыни, которая, как известно, прели не поддается. Климов взял из рук конвоира фонарь и осветил себя.
– Только в фонарь не попадите, – предупредил чернобородый бойцов, – иначе начальник тыла уши пообрывает. А я добавлю.
– Ну, давайте, стреляйте, – прохрипел Климов, поднимая фонарь еще выше. Бледное измученное лицо его сейчас было хорошо видно. – Чего медлите, людоеды красные?
– Не нукай, – пробормотал чернобородый угрюмо, – мы не лошади.
Климов задрал голову, вглядываясь в небесный полог, поймал глазами одну звездочку, потом другую, через несколько секунд, вглядевшись, увидел, что все небо усеяно мелкими, тускловатыми звездами. Какая из них – его? Кадык на шее хорунжего заходил беспорядочно, в горле что-то захлюпало, и он, борясь с собою, прощаясь со звездами, поднес свободную руку к шее, стиснув горло.Через несколько секунд ударил нестройный залп. Стреляли красноармейцы метко. Одна из пуль пробила Климову руку, которой он прижимал кадык, затем, разбрызгав кровь, просадила насквозь горло и, вильнув в сторону, застряла в яблоневом стволе. Вторая попала в грудь. Климов, продолжая держать в руке фонарь, не бросая его на землю – в хорунжем, даже умирающем, работал инстинкт дисциплины, – опустился на колени, качнулся в одну сторону, потом в другую и повалился на спину.
– Закопайте его здесь, под яблонями, – приказал чернобородый красноармейцам. – Он умер не самым худшим образом. Пусть спит спокойно.
Преследовали Дутова два отряда – Блюхера и Каширина. Кобозев куда-то исчез – видимо, отозвали в Москву.
У станицы Магнитной красные разведчики врубились в замыкающую дутовскую колонну и покрошили часть людей саблями. Атака была отбита, но человек двадцать Дутов в ней потерял. Под покровом быстро густеющей ночи он ушел в степь и бесследно растворился в ней. Утренние поиски ни к чему не привели – атаман со своим отрядом как сквозь землю провалился – ни людей, ни конского помета, ни следов телег, на которых везли штабное барахло, ни остатков костров.
Каширин только чесал пальцами затылок, да восклицал жалобно:
– Аэроплан бы сюда – мы бы живо этого толстомясого отыскали!
– Не убивайся, Иван Дмитриевич, – резонно успокаивал Каширина Блюхер, человеком он был вдумчивым, верил в то, что безвыходных положений не бывает – сам много раз попадал в тяжелейшие передряги и выходил из них целым и невредимым. – Дутова мы найдем и без аэроплана.
– Как, каким образом, Василий Константинович? Гадалку, что ли, призовем?
– Мы Дутова вычислим.
– Чего, чего, Василий Константинович?
– Вычислим, говорю. Высчитаем. Как приказчики перед тем, как продать товар, на бумажке высчитывают прибыль.
– А потери они не высчитывают?
– И потери высчитывают, – спокойно ответил Каширину Блюхер, отер ладонью свою крупную, наголо обритую голову.
С соображениями Блюхера Каширин не согласился, взял толстый карандаш и постучал по карте его торцом:
– Вот тут мы их и встретим, в этом месте… Здесь они будут переправляться через Гумбейку. У станицы Черниговской.
Своенравная небольшая Гумбейка то мелела, то, наоборот, набухала грозно, особенно после весенних дождей, сметая все на своем пути. Блюхер пробовал возразить – Дутову появляться у Черниговской не резон, он может перейти Гумбейку в любом другом месте – воды сейчас в реке столько, что ее запросто перепрыгивают вороны, но Каширин твердо стоял на своем.
Напрасно упрямый Каширин не послушался опытного Блюхера. Дутов совершенно беспрепятственно, открыто переправился через Гумбейку в другом месте – около станицы Назаринской, и запасся провиантом – никто ему не помешал. Блюхер, узнав об этом, лишь печально усмехнулся.
Свое Блюхер все-таки взял. Через шесть дней он настиг Дутова, когда тот с обозом, с ранеными, неповоротливый, отяжелевший, – вместе с дутовцами в Тургайские степи уходило много гражданских лиц, – плелся по степи. И окружил его. Нападение Блюхера было внезапным, растерялись даже бывалые фронтовики.
– Главное – эвакуировать раненых, – прокричал атаман Акулинину. – Если их бросим – грош нам цена. Казаки перестанут нам верить, – Дутов порывисто шагнул к товарищу, – давай, Иван, обнимемся. Вдруг больше не свидимся?
В этом бою они разделились: начальник штаба находился на одном участке боя, атаман на другом. Акулинин прикрывал отход, Дутов увозил раненых, спешно подгребая хвосты… Прежде всего, атаман все-таки отправил в степь повозки с войсковыми регалиями, печатью, кассой, втиснутой в сейф, и Шуркиного брата – вялого прыщавого студента. Следом перебросил и саму Сашу Васильеву – очень боялся ее потерять, а уж потом стал вывозить раненых.
Не бросали Дутова самые близкие люди, те, кто немало поел с ним землицы на войне, – да попил водицы ржавой, от которой пучило живот и вздувалась печень, – дорогие фронтовики. У атамана, когда он смотрел на них, чуть слезы на глазах не проступали, – ведь он видел свое собственное, совсем недавнее, но уже безвозвратно ушедшее прошлое – такое больное, но по-прежнему близкое. Африкан Бембеев, Удалов, раненный во время боев на оренбургской окраине, Еремеев, Сенька Кривоносов, горбоносый щуплый Пафнутьев, так и не растерявший, несмотря на седину в волосах, мальчишеской непосредственности. Около фронтовиков продолжал обретаться и сдержанный, немногословный, хранящий в себе загадку Потапов. Мужики пробовали понять, откуда у него, скромного прапора, из каких глубин, из какого корня произросла, вылезла и пристряла способность к гипнозу, – но так распознать и не смогли.
Как-то вечером в степи Дутов пришел к их костру, принес немецкую поясную флягу, наполненную ромом, – этот трофей был снят с убитого красноармейца, непонятно как оказавшийся у простого челябинского работяги, – отдал флягу Еремееву:
– Держи, это ром.
Тот отвинтил пробку, понюхал нутро:
– Шибает дюже вкусно. Я никогда не пробовал. Это что такое, Александр Ильич, ром? – он приподнял фляжку.
– Лекарство от всех болезней. Заморское. Береги, Еремей, флягу. Раненым для укрепления здоровья можно давать.
Дутов присел на корточки, замолчал, вгляделся в огонь. Казаки боялись нарушить неожиданно установившуюся тишину, пока атаман не проговорил:
– Самая загадочная вещь на свете – огонь. Самая добрая и самая злая.
Казаки молчали – они помогали Дутову выстоять лишь одним своим присутствием, тем, что они были, что они есть…
На следующий день вновь затеялся бой. Красные подогнали пушки. Нападение было внезапным – враги вновь будто бы свалились с неба, атаман растерялся – лицо перекошенное, с глазами, сжавшимися в щелки. Он спрыгнул с коня, метнулся в сторону, – надо было определить направление для отхода.
Растерянность прошла быстро, – эта штука вообще недопустима на фронте. Дутов сообразил, что лучше всего отходить по длинной, довольно глубокой низине – в ней есть хоть какая-то защита от снарядов. Он ухватил под уздцы лошадь, впряженную в телегу, – на ней лежало трое раненых, – и вприпрыжку, легко, с проворством, совсем не присущим его грузной комплекции, поволок повозку в низину. Прокричал призывно:
– За мной идите, за мной! По этой лощине… За мной!
Он доволок повозку до края лощины, телега задрала тупой задок и проворно соскользнула вниз. Снаряды с воем проносились над ней, рвались наверху, но в саму лощину ни один из них не попал.
Оставив первую повозку в низине, Дутов выскочил наверх, ухватил под узды вторую лошадь, также поволок ее вниз.
– За мной! – снова прокричал он. – Все повозки давайте сюда, в лощину. Лощиной уходите! – Увидев, как следующую лошадь под уздцы подцепил Потапов, выкрикнул одобрительно: – Молодец, прапорщик!
Потери, несмотря на орудийный огонь красных, оказались минимальными – были разбиты две повозки, да одной лошади срезало половину головы вместе с дугой, еще покалечило одного возчика – по локоть оторвало руку. Саша Васильева, оказавшаяся рядом, проворно выдернула из сумки бинт, перетянула возчику культю. Дутов невольно отвернулся, ощутил тошноту в горле, в следующий миг справился с собой, подогнал еще две телеги, направил их в спасительную лощину.
Через несколько минут Дутов и сам угодил под охлест снаряда. Над его головой провизжал жаркий тяжелый «чемодан» с осыпающейся в полете окалиной, воняющий острой химией, невольно придавил атамана к земле. Тот вскрикнул и неожиданно увидел, как в нескольких шагах от него гигантская лопата всадилась в круглую крупную куртину, поросшую сухим прошлогодним чернобыльником, легко срезала ее – в воздух вместе с дымом полетели ошмотья земли, пара живых сусликов, вывернутых вместе с норой. Жар плеснулся атаману прямо в глаза.
В то же мгновение на него прыгнули сразу два человека, повалили с ног. Дутов закричал протестующе, завозил яростно головой – в ней от удара заплескалась боль, – но эти двое накрыли его, прижали к земле. В следующий миг земная глубь взорвалась, распахнулась опасно, людей приподняло, сдирая с атамана, а потом с силой швырнуло вниз, в разверзшийся проран [39] .
Снаряд разорвался всего в нескольких метрах от Дутова, обварил пламенем, рой осколков пронесся над людьми, сцепившимися в один плотный клубок. Страх разодрал Дутова на несколько частей, каждая из них начала жить отдельно, потом все эти мелкие частицы соединились вместе, и страх прошел. Дутов застонал. Хоть и был страх мгновенным, хоть и исчез стремительно, а Дутову сделалось стыдно перед самим собой. Он попробовал подняться на четвереньки, но не смог, беспомощно ткнулся головой в землю.
Неподалеку раздался испуганный крик: «Атамана убило!», но Дутов не услышал его – уши раздирал грохот, будто снаряды продолжали рваться вокруг него. Он застонал вновь, опять попробовал подняться, но земля шевельнулась под ним, накренилась, Дутов зажмурился и сполз на один бок, растянувшись на обгорелой черной траве.
К атаману подскочил калмык, ухватил его под мышки. Прокричал:
– Помогите кто-нибудь. Александра Ильича надо стащить в лощину, на телегу…
Крик калмыка донесся до Дутова словно с другой планеты. Атаман напрягся – надо было понять, что говорит человек, пытающийся ему помочь. Вяло поводил тяжелой, падающей набок головой:
– Не надо…
Один из тех, кто прикрыл Дутова от осколков, – плотный, с черным от копоти лицом, припадающий на левую ногу – при падении зашиб себе лодыжку, – поднялся и ярко блеснул зубами:
– Александр Ильич, живы?
Это был Еремеев. Дутов, обвиснув у калмыка на руках, кивнул. Его стащили в лощину, которая на деле оказалась глубже, шире, чем смотрелась сверху, там завалили на телегу и на рысях вывезли из опасной зоны.
Километрах в трех Дутов приподнялся, слабым голосом, потребовал:
– Остановите лошадь!
– Нельзя, Александр Ильич, – прокричал ему на ухо калмык, сидевший рядом с возницей, – красные на хвосте, того гляди – нагонят!
Атаман протестующе покрутил головой, попробовал зацепиться глазами за какой-нибудь неподвижный предмет, но таковых не было – все тряслось, все плыло, – и рухнул плашмя в телегу, в душистое мягкое сено.
– Вот это правильно, – одобрил действия атамана калмык, улыбнулся белозубо, гикнул и, перехватив у возницы кнут, огрел им лошадь: – Й-Йех!..
Остановились километрах в пятнадцати от места боя.
– Привал, – громко объявил калмык. – Костров не разжигать, всякий дым сейчас в степи виден километров на пять.
Он обошел бивак – люди доставали из мешков продукты – позвал к себе Удалова и Кривоносова:
– Мужики, надо бы могилу вырыть. Кроме нас это сделать некому.
– Раненые дохнут, как мухи, – проговорил хмуро Кривоносов и сплюнул.
Калмык сформировал две команды по три человека, стремительно вырыли две могилы: одну – для казаков, другую – для инородцев. Разбуженная весенняя земля была мягкой, дышала, поддавалась легко.
– Хорошая земля, – похвалил Кривоносов, надавливая тяжелым сапогом на железное плечико лопаты, – мужики наши покойные довольны будут.
– Да им теперь все равно, где и с кем лежать, и в какой земле…
– Это как сказать, – пробурчал Кривоносов несогласно. – А Коренев как знал, что ему придется ложиться в могилу – свой роскошный чуб срезал…
Через тридцать минут телеги с ранеными и войсковым скарбом мчались дальше, с ветерком уходили по ровной, задымленной – будто где-то жгли костры – степи на юг, в синее плотное марево пространства…К вечеру контуженый Дутов уже мог самостоятельно передвигаться, хотя правая нога еще очень плохо гнулась в колене, в ней что-то скрипело, когда атаман менял направление шагов, но боли при этом он не ощущал. Только в голове у него по-прежнему бился, неистово гремел невидимый колокол, раскраивая череп. Атаман морщился, щеки его дергались, правое веко тоже дергалось, но взгляд ставших почти черными, как уголь-кардиф, глаз был спокойным. Только очень наблюдательный, знающий атамана человек мог заметить, что спокойствие это дается ему с большим трудом.
От Акулинина прискакал гонец, сообщил, что красные задержаны на несколько часов, – противники окопались прямо в степи, но долго продолжаться это положение не может, к красным скоро подойдет подкрепление, и тогда казакам придется отступить.
– А мне и надо часа три, не больше, – медленно, тихо проговорил Дутов, помял пальцами виски, затылок.
Звон продолжал ломить ему голову. Как с ним бороться, как выковырять из черепа, Дутов не знал. Он достал из сумки карту, развернул ее.
– Отступать будем к станице Елизаветинской, – сказал после недолгих размышлений, – оттуда, если красные не оставят нас в покое, уйдем прямо в Тургайскую степь. Теперь уже окончательно.
Елизаветинская – последняя станица, находившаяся на территории Оренбургского казачьего войска. Дальше начиналась угрюмая Тургайская степь, чужая земля – кыргызкая… Акулинин, соединившийся с Дутовым в Елизаветинской, решение атамана поддержал.Чужие нравы, чужие лица, чужая речь, чужой дух – все чужое. Дутов долго стоял на окраине станицы, вглядываясь в сизое пространство, словно бы что-то искал там – в темной ровной полосе, прилипшей к горизонту, в кудрявых шевелящихся клубах, поднимающихся над этой, будто ножом обрезанной линией, в далеких облаках, в солнечных блестках, пробивающих сизь насквозь. Моргал часто – был расстроен, но расстройство свое старался скрыть.
Через полчаса пошел дождь, а Дутову показалось, что это небо плачет и будет оно плакать до тех пор, пока казаки не вернутся на родную землю.
– Мы вернемся сюда, – пробормотал атаман сипло, едва слышно, – обязательно вернемся.
Вечеряли в полусумраке, при тусклом свете лампы-семилинейки, заправленной не керосином, а маслом – лампа часто мигала, потрескивала, норовила вообще погаснуть, – сидели за столом втроем: атаман, Акулинин и Саша Васильева.
Лицо у Акулинина опухло, глаза сделались маленькими – начальника штаба укусила какая-то вредная весенняя муха. Дутов оглядел начальника штаба, произнес успокаивающе:
– Это пройдет.
– Все проходит! – отозвался эхом Акулинин. – Александр Ильич, освободите меня от обязанностей начальника штаба, – неожиданно попросил он, – не мое это дело – штаб.
– Что, совсем не нравится?
– Совсем. Лучше я буду командовать одной из групп.
Дутов вздохнул, разжевал кусок солонины, завяленной с перцем, на мадьярский лад, произнес тихо и благодарно:
– Если бы вы сегодня утром не перекрыли красным дорогу, не сдержали их, мы бы вряд ли обедали тут… Кто такой Иван Каширин, я знаю, кто такой Николай Каширин, я тоже знаю – родной брат Ивана, вздорный человечишко. Но вот кто такой Блюхер? И откуда он взялся?
– Поговаривают, что имеет чин полковника. Очень талантлив. Потомок знаменитого прусского фельдмаршала Блюхера [40] . Ныне – офицер германского Генштаба. В общем, фрукт сложный, Александр Ильич.
– Понимаю. Теперь о вашей просьбе, Иван Григорьевич. Раз душа к штабной суете не лежит, то тут ничего не поделаешь. Кого бы вы хотели видеть на своем месте?
Акулинин отложил в сторону ложку:
– Надо подумать…
Начальником штаба стал полковник Поляков, на германском фронте он командовал штабом Оренбургской казачьей дивизии, неплохо себя показал, и, хотя не был казаком, оренбуржцы относились к нему с уважением.Ночью станица не спала – Дутов выступил в степь, под окнами белых нарядных домиков скрипели колеса телег, лаяли собаки, хрипели лошади, ругались люди. Утром Елизаветинская оказалась пуста – только мокрый от дождя мусор, прилипший к земле, напоминал, что здесь были люди…
Всего в степь с Дутовым ушло шестьсот человек: двести сорок казаков и триста шестьдесят штатских, среди которых беженцы, купцы, разный служивый люд, не желавший «ветра перемен», надоевшего хуже горькой редьки. Оружия было немного – винтовки, карабины да семь пулеметов на телегах. Патронов – в обрез.
Дутов ехал на коне впереди своего войска, покачивался в седле, видел впереди, в клубящейся темноте, двигающиеся золотистые огоньки: то ли волки это, то ли души умерших в степи, то ли еще что-то – не понять. Атаман морщился, отводил глаза в сторону и приподнимал плетку, понукая коня. В горле у него возникал сам по себе твердый ком, виски начинало ломить. Самое трудное для человека – уходить с родной земли и не знать, сможет он вернуться назад или нет, повезет ему или не повезет…
Позади осталось шестьсот с лишним километров пути. Дутовский обоз – длинный, хотя и поредевший, с отощавшими конями, покосившимися телегами, с молчаливыми бабами в выгоревших платках, шагающими рядом с повозками, – растянулся на полтора километра.
В Тургай первой вошла личная дутовская сотня – сто десять человек на усталых конях. Люди пытались бодриться, сидеть в седлах прямо, выглядеть справно, но это им плохо удавалось – переход брал свое.
– Казаки! – неожиданно взвился над сотней звонкий, прозвучавший свежо и молодо голос атамана. – Запе-вай!
В ночи грянула песня, заставила вздрогнуть черное небо. Пространство затихло, слушая поющих, затихла и земля. Через несколько минут где-то далеко-далеко вверху, среди тяжелых угольных лохмотьев, вытаял чистый пятак и в нем засияла острыми колючими лучами, запереливалась, играя, звезда. Звезда атамана Дутова.
В Тургай Дутов вошел десятого мая, на третий день Пасхи. Встретил атамана этот небольшой город восторженно. Седобородые старики-киргызы, зная о русских обычаях, преподнесли, несмотря на ночной час, атаману на рушнике, расписанном красными петухами (уж не намек ли?) громоздкий каравай пышного, белого хлеба, соль в серебряной солонке и в кувшине с высоким горлом свежий пенящийся кумыс.
Дутов спрыгнул с коня, покачнулся от боли, выстрелом пробившей голову, – последствия контузии стали чаще. Воздух перед глазами словно окрасился сукровицей. Атаман взял себя в руки и шагнул вперед, к старикам. Не произнеся ни слова, низко им поклонился. Старикам это понравилось.
Занял Дутов большой, построенный по-сибирски вольготно, из бревен, привезенных с севера, дом. В безлесом, насквозь продуваемом ветрами Тургае, такие дома были редкостью…
Вечером Дутову сделалось плохо. Саша, хлопотавшая по обустройству нового жилья, позвала врача. Тот приехал на простой скрипучей телеге, неторопливо слез с нее и, вымыв руки, подсел к кровати атамана.
– Брюшной тиф, – вынес он вердикт через несколько минут.
Услышав это, Саша покачнулась, как от удара, крепкое, со смуглым румянцем лицо ее сделалось бледным, черные жгучие глаза неожиданно посветлели, стали мелкими, чужими…
Едва придя в себя, Дутов потребовал чтобы к нему явился Акулинин. Когда тот пришел, Дутов, предупреждая всякие возражения, поднял руку и сказал гостю:
– Иван, принимай на себя командование войском. Войско не должно пребывать без атамана.
В Тургае оренбуржцы простояли больше месяца, хорошенько отдохнули, вооружились, распотрошив склады генерала Лаврентьева, приводившего в 1916 году в норму взбунтовавшихся кыргызов [41] . Патронов взяли столько, что лошади отказывались таскать телеги – из-за перегруза колеса утопали по самые оси в мягкой, пропитанной весенней влагой земле. Набрали также продуктов, которыми были завалены полки лаврентьевских складов, и денег – много денег, царских – романовских и екатерининских, – два с половиной миллиона рублей. В общем, сходили казаки в Тургай знатно, такую добычу они не брали даже в дальних походах.
Выздоравливал Дутов медленно, трудно, разговаривал с усилием, слова у него прилипали к языку, к небу, никак не могли расстаться с хозяином. Он часто терял сознание, а когда приходил в себя, обязательно спрашивал, где Акулинин? Тот немедленно являлся к Дутову в горницу и всякий раз Дутов задавал ему один и тот же вопрос:
– Что нового в Оренбурге?
Акулинин бросал быстрый взгляд в широкое запыленное окно, на кривую замусоренную улицу, по которой бегали куры, и давал один и тот же ответ:
– В Оренбурге ничего нового, Александр Ильич, – оттуда приходят плохие вести…
– Пожалуйста, конкретно, Иван Григорьевич!
– Казаки сопротивляются красным, красные в отместку сжигают целые станицы.
– Еще конкретнее…
– За эту весну сожгли одиннадцать станиц. На Волге появился новый генерал, лупит красных налево и направо, только волосья по воздуху летят.
– Кто таков, Иван Григорьевич?
– Каппель [42] .
– Немец?
– Нет. Говорят, из сильно обрусевших шведов, родился под Тулой.
– Еще чего нового?
– Неделю назад против красных выступили чехословаки – целый корпус.
– Выходит, у красных ныне много головной боли?
– Так точно.
– Как только я поднимусь, – Дутов вытянул перед собой бледную худую руку, пошевелил вялыми пальцами, опухшими на концах, – выступаем в Оренбург.
– Рано еще, – неуверенно проговорил Акулинин.
– Готовьтесь к возвращению на родную землю, Иван Григорьевич, – безапелляционно произнес Дутов, в тихом напряженном голосе его послышался металлический звон.
Акулинин знал, что означает этот звон, и покорно наклонил голову:
– Слушаюсь!
Атаман откинул голову на подушку, закрыл глаза. В горнице появилась Саша, села на табуретку, поставленную в изголовье рядом с кроватью, взяла руку атамана в свою. Скуластое загорелое лицо ее было печально. Дутов открыл глаза, увидел ее, с трудом раздвинул губы в улыбку:
– Что, Шурка? – тихо, едва слышно прошелестел его голос. – Не узнаешь меня?
На ресницах у Саши появились слезы.
– Не бойся, Шурка, я выкарабкаюсь… Я поднимусь обязательно. И очень скоро.
Имя Дутова в Тургае сделалось популярным, по улице, где располагался дом, в котором остановился атаман, кыргызы не только на телегах – даже верхом старались не ездить, чтобы не беспокоить «шибко большого начальника».
– Шибко большой начальник болеет, – шепотом произносили они и молитвенно поднимали глаза. – Надо, чтобы такой большой человек скорее выздоровел.
В Тургайской степи жили два племени кыргызов – аргыши и кипчаки. Аргыши – на западе, как раз в тех местах, по которым в огненном апреле прошел атаман, они были настроены к Дутову доброжелательно, а при словах «красные» или «большевики» плевали себе под ноги и щелкали плетками по голенищам сапог. Кипчаки же обитали на востоке степи и, напротив, так же плевались при упоминании имени Дутова, большевиков же считали своими братьями.
Пока Дутов стоял в Тургае, красные не тревожили его, они считали Тургайскую степь чужой территорией. Поэтому атаман, хоть и лежал в тифе, хоть и бредил, но в дни, когда больной звон отступал от его горячей головы, призывал к себе Акулинина как обычно, иногда Полякова, и они занимались перестройкой войска.
Вольные партизанские группы, примкнувшие к ним, иногда совсем маленькие, – по три-пять человек, – атаман объединил в один большой отряд, во главе его поставил очень решительного, боевого войскового старшину Мамаева. Тот постарался свое войско разбить «по интересам»: образовал конную сотню, пешую сотню. Причем решил, что передвигаться пешей сотне не обязательно «на своих двоих», как это было некогда с командой самого атамана на германском фронте, – усадил пешую сотню на тарантасы, по четыре человека в повозку, плюс за каждым тарантасом закрепил своего кучера. Итого пять человек. Вполне современно. Кроме того, Мамаев создал пулеметную команду.
Беженцы, прибывшие с Дутовым в Тургай, тоже попросили дать им винтовки, – тем более, оружия на здешних складах было с избытком.
– Мы тоже хотим постоять за Россию! – кричали они под окнами мечущегося в тифу атамана.
Атаман удовлетворил просьбу беженцев: составил из них пешую и конную сотни, а также нестроевую команду, которую прикрепил к обозу – постарался каждому человеку найти применение.
Дутов понимал – из Тургая придется очень скоро уйти, – не возвращаться в Россию нельзя, борьба там еще только начинается. Он ждал этого момента и страшился его: слишком уж непредсказуемой сделалась Россия.Болезнь от атамана отступила, в двадцатых числах мая он уже начал выходить на улицу, там садился на крыльцо, закрывал глаза и сидел так, вяло шевеля губами, покачиваясь, минут двадцать, потом, возрожденный, начинал вызывать к себе людей.
В один из теплых тихих дней в Тургай на усталых худых конях и прискакали посланцы Оренбурга, а точнее, представители съезда объединенных станиц, Богданов – член войскового правительства, которого Дутов хорошо знал, и подъесаул Пивоваров.
– Г-господи, какие гости, – растроганно побормотал Дутов, приподнимаясь на постели.
Широкое, чуть оплывшее после болезни лицо его имело лимонный оттенок, словно атаман перенес желтуху. Богданов понял, что до полного выздоровления Дутова еще далеко, не менее двух-трех недель. Голос также выдавал Дутова, – подрагивал, дребезжал слабо. Впрочем, Богданов, видя все это, не стал ходить вокруг, да около.
– Мы прибыли за вами, Александр Ильич, – напрямую, без каких-либо вступительных слов, заявил он, подвигал из стороны в сторону тяжелой нижней челюстью. На плечах его красовались новенькие, с металлическим шитьем офицерские погоны, Богданов, как и его спутник Пивоваров, также был подъесаулом. – Без вас Оренбург задыхается.
Дутов медленно наклонил грузную, коротко остриженную голову:
– Согласен. Расскажите, что происходило в войске в мое отсутствие? Может, я чего-то не знаю?
– Борьба с большевиками идет на территории всего войска. Комиссары, понаехавшие к нам из Петрограда, во уже где сидят, – Богданов попилил себя по горлу пальцем. – Под дула расстрельные ставят уже не только нас – баб наших. Земля оренбургская горит. Как-то комиссары приехали в станицу Изобильную – выгребать из казачьих закромов остатки хлеба. Все в матросской форме, в кожанках, пьяные. Старики решили хлеб не отдавать. И не отдали. Комиссары стали грозить им виселицами и пытками. В ответ старики решили каждому комиссару предоставить по персональной петле – и повесили их.
– Молодцы, деды! – не выдержав, рассмеялся хрипло Дутов. – Узнаю наших. А дальше что? Оружие-то хоть в станице было?
– Было. Тридцать винтовок. Все остальное большевики отобрали. На следующий день послали в Изобильную свой отряд – за повешенных комиссаров решили расквитаться. Отряд немаленький – шестьсот человек, два орудия и шесть пулеметов.
А у станичников всего-навсего тридцать винтовок…
– Тридцать винтовок, – эхом повторил за Богдановым атаман.
Косой луч солнца пробежался по створкам окна, отразился от медного шпингалета, прыгнул в комнату, попал прямо в глаза Дутову. Атаман улыбнулся.
– Да, тридцать винтовок, – подтвердил Богданов, – и драку эту мы выиграли. Винтовки взяли себе фронтовики – тридцать человек – и засели за каменной оградой церкви. Остальные, – едва ли не вся станица, все мужики, – разделились на отряды, вооружились косами, топорами, вилами, лопатами, кто чем, в общем, – и за стогами сена попрятались в сугробах. Красные дали по станице несколько залпов и стали сгонять народ на митинг. Тут дружно ударили тридцать стволов… Через пятнадцать минут все было кончено, – гордо закончил свой рассказ Богданов. – Из шестисот человек, которые пришли расправиться со станичниками, скрыться не удалось ни одному. Мы же взяли шестьсот винтовок, пулеметы и два орудия.
Лицо у Дутова посветлело.
– Молодцы, молодцы, – пробормотал он, – умыли красных. Надо полагать, после этого они уже в станицу – ни-ни? Не сунулись?
– Сунулись. Еще как сунулись. Пришли с серьезной артиллерией и пулеметами. Да только у казаков уже было оружие и встретила Изобильная гостей достойно. Устроили засаду за церковной оградой – место приметное, укрыть можно целый полк. В близлежащих домах также попрятался вооруженный люд и, когда красные втянулись в станицу, – ударили с двух сторон. Красный отряд будто корова языком слизнула – ни одного человека в живых не осталось.
– Трофеи, естественно, взяли?
– А как же иначе? Должны же мы пополнять свои склады. Взяли семьсот винтовок, двенадцать пулеметов и четыре пушки, – Богданов не удержался, потер руки.
Атаман довольно зашевелил губами:
– Богатый подарочек! Молодцы! Такого красного деятеля, как Цвиллинг, не встречали?
– Ну как же, как же! Вторым отрядом как раз он и командовал, Цвиллинг этот. Большой полководец, ежели брать его в кавычках. Но все, Александр Ильич, откомандовался товарищ Цвиллинг – на кладбище отнесли.
– Молодцы, молодцы, – вновь похвалил атаман, голос его сошел на нет, превратился в шепот – атаман долго говорить не мог, опустил голову на подушку.
– Для нас победа в Изобильной стала как глоток свежего воздуха – народ головы поднял и сам начал с колен подниматься, – сказал Богданов, – люди потянулись к оружию. Создали несколько партизанских отрядов, совершили десятка два налетов на Ташкентскую железную дорогу… В общем, дело пошло. Дальше – больше. Мы объединились с уральскими казаками, образовали защитную линию, наладили связь с чехословаками, с Самарой, провели свой съезд, – голос у Богданова сделался торжественным, звонким, оренбургский посланец приподнялся на табуретке. – Съезд просит вас, Александр Ильич, как можно быстрее вернуться на родину и взять все руководство военными действиями против большевиков в свои руки.
Лицо Дутова порозовело, он наклонил голову, притиснул подбородок к груди. Просипел:
– Пора подниматься с этого одра. Давно пора.Через несколько дней, в сумерках, в Тургай прибыли два казака-партизана из Челябинска. Их так же, как и оренбургских посланцев, провели к Дутову в горницу.
– Батька, в Сибири советская власть ликвидирована, – сообщили они Дутову, – у нас вовсю идет восстание чехословаков…
Дутов перекрестился:
– Слава Богу!
– Восстали также станицы Третьего округа вашего войска.
– Слава Богу! – вновь перекрестился Дутов.
Через три дня поднялись станицы Первого округа. К Оренбургу подступили казачьи полки, стиснули город в кольцо. Свободной осталась лишь узкая полоска земли, примыкавшая к Ташкентской железной дороге. У красных там имелись сильные, очень маневренные бронепоезда, с которыми казаки ничего не могли сделать: едва они подступали к полотну железной дороги и выкатывали орудия на прямую наводку, как тут же, чадя трубами, появлялись блиндированные [43] чудовища и начинали палить из пушек.
После разговоров с делегатами казачьего съезда и с посланцами Челябинска, здоровье Дутова быстро пошло на поправку – он снова, шатаясь, потный, будто только что побывал в бане и не вытерся после парилки, начал выбираться на улицу, а через пару дней потребовал, чтобы ему подали коня. Саша была счастлива:
– Поднялся атаман на ноги, ожил… – она прижималась к плечу Дутова, замирала в радостном восторге.
Брат ее, прыщавый важный студент, молча ходил по двору и неодобрительно поглядывал на сестру.
Дутов был доволен – казаки выступили против красных общим фронтом. Единственная станица на подчиненной атаману земле Оренбургского войска, которая воздерживалась от выступлений, была Краснохолмская – мужики там в основном грелись на печках, иногда высовывали из-под тулупов ноги, чутко шевелили пальцами, пробуя воздух – холодный или нет, – и втягивали лапы обратно: студено, мол. Выбираться на улицу, да махать шашками им не хотелось.Узнав об этом, Дутов помрачнел:
– Пошлите в Краснохолмскую отряд – пусть поговорят люди со стариками. Если из разговора ничего не получится – пусть берутся за плетки.
Так и поступили. Через некоторое время Краснохолмская выставила большой, хорошо вооруженный отряд. Белые силы пополнялись…
Двенадцатого июня отряд Дутова выступил из Тургая. Люди на конях сидели отдохнувшие, сытые, веселые, хорошо вооруженные, лошади под седлами лоснились, гарцевали изящно – любо-дорого было посмотреть на казачий народ. Дутов радовался:
– С такими людьми я и до Москвы сумею дойти.
Через Урал переправились около станицы Ильинской без потерь. Перебравшись на противоположную сторону реки, Дутов молодцевато встряхнулся, повел плечами:
– Вот мы и дома!
Красные знали, что атаман вернулся из Тургайской степи, и решили встретить дорогого гостя на небольшой железнодорожной станции Кувандык – послали туда лучший свой бронепоезд и летучий отряд с артиллерией: двумя пушками, поставленными на автомобильные колеса. Дутовская разведка этот факт засекла: и прибытие бронепоезда в Кувандык, и то, как пушки снимали с платформы, и количество прибывших бойцов – в общем, атаман получил полную картину подготовленной для него встречи, раскинул карту и сказал Полякову:
– Самое лучшее – дать красноперым бой на Кувандыкских высотах. Место уж больно выгодное.
Поляков прищурил глаза:
– Да. В драке этой победит тот, кто первым оседлает высоты.
– И я о том же, – Дутов, глянул на начальника штаба и, дурачась, также демонстративно прищурил глаза – настроение у атамана было приподнятое, – поэтому надо послать на высоты пешую команду. Пусть спешно займет их!
И Удалов, и Еремеев, и калмык с пограничником вошли в состав команды, они вообще находились на виду у самого Мамаева, сурового войскового старшины – тот привечал их, при встрече здоровался с казаками первым.
Наталья Гурдусова после гибели подруги сделалась неразговорчивой и рвалась в команду, чтобы отомстить за смерть Авдотьи, но Саша Васильева сказала ей:
– Не ищи кончины, пока она сама тебя не найдет, понятно? Будешь находиться около меня.
Пришлось Наталье, подчиниться: Саша пребывала в силе. Атаман, узнав о решении своей суженой, одобрил его.
На бричках по степи пешая команда пронеслась, как ветер – через несколько часов была уже у Кувандыкских высот. Пока мчались, не встретили ни одного красного разъезда, хотя встретить очень хотелось: ох, и повеселились бы они, поиграв на струнах своих «максимов»… И вообще, что может быть лучше пулеметной музыки? Только слаженный оркестр из нескольких стволов.
Группой из пяти бричек руководил калмык, помощником был назначен прапорщик Потапов. Хотя по званию калмык был ниже Потапова и комплекцию имел пожиже, но среди оренбуржцев он слыл своим, много раз проверенным в деле, а Потапов – чужаком. Впрочем, в бою тот за чужие спины не прятался, действовал хладнокровно, стрелял метко. Седые волосы он поплотнее придавливал фуражкой, на подбородок натягивал ремешок, что вызывало у пешего строя улыбку:
– Прапор, ты никак с лошадьми в забеге решил поучаствовать?
Платонов в ответ улыбался и мягко взмахивал рукой, осаживая говорившего: не стучи, дескать, копытами, парень…
Калмык остановил брички в полутора километрах от высот.
– Дальше – пешим ходом, – скомандовал он, – иначе нас засекут.
– А пулеметы? – удивленно вскинув брови, уставился на него немигающими глазами Еремеев. – А пулеметы как?
– Пулеметы тоже пешим ходом! Давай, чтобы не оказаться в заднице, подобно сверчку, решившему переночевать у бабы в укромном месте, выполняй, Еремей, приказ.К высотам они подошли незаметно. Пулеметы установили на одной и на другой высотах, верблюжьим горбом разъехавшихся в стороны. Калмык достал из кармана часы, щелкнул медной рифленой крышкой: до атаки партизан Мамаева оставалось двадцать минут.
Спрятав часы, калмык перевернулся на спину, выбросил руки в стороны, с хрустом потянулся.
– Боже, как хороша жизнь, когда никто не стреляет, – пробормотал он расслабленно.
Никто из казаков, сгрудившихся на высоте, не ответил ему, только лица сделались умиротворенными. Сильно пахло травой, она выстреливала на свет Божий зелеными стрелками из темной, переполненной живыми соками глуби, распускалась вольно, плотно заполняя пространство. Высоко над головами трепыхались подвижными мечущимися точками жаворонки, пели самозабвенно, завораживающе, звонко – Божьи птахи эти звали к жизни, отвлекали народ от боли, забот, войны.
– Хорошо как, – будто после болезни шевельнулся в траве калмык.
Говорил он тихо, лишь для себя, но неприметный гаснущий голос его услышали все, завздыхали жалобно:
– Да-а… Весна!
– Слышь, Африкан, – у пулемета завозился Гордеенко, приподнялся над травой, – а, Африкан…
– Ну? – лениво отозвался калмык.
– Со станции вышел отряд красных. Сюда идет.
Бембеев стремительно перевернулся, приложил ко лбу ладонь. Из-за станционных строений, отчаянно пыля, опечатывая подошвами землю, в степь втягивался отряд красноармейцев – ать-два, ать-два! Вот отряд пересек дорогу, плоской серой лентой обвившей хлипкие пристанционные строения, обошел водокачку, похожую на жирафа с гордо поднятой шеей, увенчанной большим медным горлом; топая ногами, сошел на обочину и двинулся вдоль дороги на юг, откуда должен был прийти Мамаев со своими партизанами.
Калмык вгляделся в пространство – не маячат ли где на горизонте лихие дутовские всадники? Всадников не было.
– Неизвестно еще, куда направляется эта колонна, – Бембеев сунул в рот травинку покусал ее, – может быть, даже к нам.
– К нам, Африкан! – Гордеенко придавил ладонью белые пышные усы, приплюснул их. – Могу даже поспорить.
Калмык выплюнул мятый стебелек:
– Спорят либо неумные, либо подлые. Одни потому, что ничего не знают, но лезут, подлые потому, что знают и специально лезут в спор, чтобы получить с этого навар.
Гордеенко оказался прав, – красная колонна прошла метров пятьдесят вдоль дороги, взбила густое облако пыли и свернула к высотам.
– Приготовьтесь, братья-казаки, – негромко предупредил пешую команду калмык.
Красные шли неторопливо, размеренно, как на штабных учениях – признак того, что перемещение дутовцев на зеленые горбы высот они не заметили. Пешей команде это было на руку.
Калмык по траве перекатился к пулеметчику. Гордеенко обосновался на позиции по-хозяйски, с чувством, с толком – для колес «максима» вырыл два углубления, рядом положил ленты с патронами. Напарником у него был молодой, густо заросший волосами хлопец в мятой солдатской шапке. Калмык критически глянул на него – хлопец не внушал особого уважения, – спросил тихо:
– В бою не сробеешь?
Вместо хлопца ответил Гордеенко, – хлопец на вопрос даже головы не повернул:
– Он уже бывал в боях – проверенный.
– Подстраховать не надо?
– Нет, – коротко, убежденно в своем напарнике ответил Гордеенко.
– Смотри, Иван, тебе виднее. Но пулемет чтоб работал, как часы. Без остановок.
– Не боись, Африкан, наш «максим» тебя не подведет.
Красный отряд уже углубился от дороги в степь, к высотам, метров на триста. Строй потерял свою четкость, ровные ряды изогнулись, поползли в разные стороны – красноармейцы шли, не чувствуя опасности, будто на прогулке, громко вскрикивая, смеясь. Бембеев пошарил глазами по пространству за высотами – не видно ли всадников Мамаева? Степь была пустынна – ни одного человека в ней.
На станции продолжал попыхивать густым серым дымом бронепоезд – три блиндированных вагона, похожих на угрюмые железные коробки, и открытая платформа, на которой покоилось длинноствольное орудие. Если это орудие накроет Кувандыкские высоты – срежет их до основания. Однако у орудия этого, слава богу, не имелось поворотного круга, и вообще угол действия был мал, поэтому атаковать высоты бронепоезд сможет, лишь уйдя со станции.
Калмык хоть и не был крещеным, осенил станцию знамением:
– Пусть в паровозе кончится пар и бронепоезд останется тут навсегда!
Детская, наивная молитва, но Бембеев знал, что делал, молясь своему идолу, он верил, что тот по этой части может оказаться сильнее русского бога.
Отряд красноармейцев тем временем грянул песню. Старую, солдатскую, царских еще времен; пели красноармейцы слаженно, заслушаться можно.
– Надо же! – восхищенно пробормотал Гордеенко, крутнул головой вначале в одну сторону, потом в другую. – Поют и смерти своей не чуют.
– Пусть поют, – оборвал его калмык.
Песня красноармейская сделалась громче – колонна приближалась к высотам.
– Замрите, мужики, – тихо проговорил калмык, – чтобы не видно вас было и не слышно. Чем ближе мы подпустим красных – тем лучше.
Колонна стала подниматься в седловину по пологой, едва видной в траве спаренной колее, которая шла ровно посередине и уходила в обгиб одной из высот. Впереди двигался командир в кожаной фуражке, с вырезанной из консервной жести звездочкой. Маузер громко хлопал по тощему жилистому боку командира, тот в руке держал ветку и на ходу сшибал ею макушки репьев.
Пулеметная очередь прозвучала оглушающе, будто гром, способный расколоть небо, – неожиданно резко сбила с ног трех голосистых, ладно тянувших строевую песню мужиков. Странное дело – очередь эта прошла мимо командира, даже не зацепив его. Он только пригнулся удивленно, отшвырнул в сторону прут и ухватился пальцами за кобуру маузера. Пальцы соскользнули с нее, командир, обиженно вскрикнув, вцепился ногтями в крючок, дернул его один раз, потом другой, пытаясь открыть кобуру, но пальцы соскочили и с крючка – не везло красному командиру.
На соседней высотке загрохотал второй пулемет. Казаки, лежавшие в цепи, зашевелились. Послышалось клацанье передергиваемых затворов.
– Пли! – скомандовал калмык.
Залп смел еще несколько человек. Красный командир, словно очнувшись, по-козлиному ловко отпрыгнул в сторону, вновь схватился пальцами за лакированную кобуру маузера. На этот раз попытка увенчалась успехом – через несколько мгновений он выдернул оружие, выстрелил несколько раз подряд по макушке сопки. И – вот ведь как, – попал! Попал в лохматого напарника Гордеенко – тот вскрикнул надорванно и отпрянул от «максима».
Калмык спешно заработал локтями, подполз к пулемету.
– Не прерывай стрельбу, – запаренно прохрипел он, – я у тебя за второго номера побуду!
– Йэ-эхма! – азартно прокричал Гордеенко, распушил по воздуху белые усы, которые сделались такими же внушительными, как у генерала времен русско-турецкой войны, с лубочной картинки.
На станции заворочался, гулко застучал своими внутренностями бронепоезд, дал несколько резких свистков, окутался паром.
– Сейчас он нам покажет, – прокричал между двумя очередями Гордеенко.
Калмык отмахнулся от него:
– Слепой сказал – посмотрим!
Гордеенко дал длинную очередь по красноармейцам, пробующим сбиться в организованную группу.
– Так не годится, – прокричал Гордеенко, – раз пришли в гости, то должны схавать все, что для вас приготовлено.
Калмык отпустил ленту и откатился на несколько метров в сторону, под прикрытие густо поросшей травой кочки, глянул в степь. Увидел там мелкие пляшущие точки и расплылся в невольной улыбке – это скакали дутовцы. Бембеев вернулся к пулемету, ткнул напарника кулаком в бок:
– Продержаться надо совсем немного – наши идут!
Люди, находившиеся в бронепоезде, также заметили всадников. Паровоз, напрягаясь, запыхтел, застучал сочленениями, окутался серыми плотными клубами, потащился на позицию. Бембеев ухмыльнулся:
– Ох, какой неверный маневр!
Бронепоезд прополз метров семьдесят, одолел крайний домик Кувандыка, затормозил, в то же мгновение с платформы ударило орудие. Снаряд, оставляя в воздухе дымный след, промахнул над высотой, занятой пешей командой, и взорвался в степи.
– Дурак наводчик, – коротко оценил выстрел калмык.
Орудие рявкнуло еще раз. Не такой уж дурак наводчик, раз сумел поправиться – подвернул ствол, и снаряд, взбив целую тучу огнистых брызг, срезал часть соседней высоты. Вместе с людьми. Загорелая кожа на лице калмыка побледнела, на лбу выступил горячий пот.
– Сейчас он, Африкан, по нашей высоте рубанет, – прервав стрельбу, прокричал Гордеенко, – готовься!
Пулеметы, установленные на передней, открытой платформе бронепоезда, перед длинноствольным неповорачивающимся орудием, заголосили отчаянно – на поезд накатывалась конная лава. Третьего орудийного выстрела не последовало: людям на бронепоезде было уже не до этого. Несколько всадников, прорвались сквозь свинцовый заслон, сблизились с ними. Паровоз, укрытый толстыми железными щитами, вновь окутался клубами пара, – испуганно попятился назад, но было поздно – дутовцы уже вышвырнули за борт двух пулеметчиков, хозяйничавших на платформе, и теперь, цепляясь за железные выступы, подбирались к кабине машиниста.
– Все, отстрелялся бронепоезд, – тихо, спокойно, будто ничего не происходило, констатировал калмык.
Дутовцы облепили поезд как муравьи, прыгали прямо с коней на бойницы, на орудийной платформе и в паровозной будке завязалась драка, паровоз ревел истошно, звал на помощь.
Из-за крайних домов также вымахнула конница, – впереди скакал всадник с красным флагом на древке. Часть дутовцев пошла наперерез, сшиблась с ней, на землю полетели люди.
Калмык внимательно следил за тем, что происходило внизу, и поглядывал на соседнюю высоту, контролируя обстановку.
Красноармейцы, залегшие в траве, зашевелились, потом повскакивали и с неожиданным криком понеслись вверх, на высоту. Впереди бежал командир колонны, делая крупные сильные прыжки. Увидев калмыка, приподнявшего голову, он на ходу пальнул в него из маузера, промазал, прокричал что-то яростное, лихое, выстрелил опять – пуля прошла над самой макушкой калмыка, сбив с него фуражку. Бембеев ткнулся подбородком в землю, поспешно дернул напарника за рукав:
– Гордеенко, чего медлишь? Стреляй!
А у Гордеенко, как назло, – перекос ленты. Он задергался, загорелое лицо стало таким же белым, как и усы, поспешно поднял пластину затвора, пальцами подергал ленту, ставя патрон прямо, выматерился со злою тоской… Красный командир издали направил на него ствол маузера и выстрелил. Гордеенко вскрикнул и повис на пулемете.
– Гордеенко! – калмык почувствовал, как горло ему ожег горячий воздух, оттащил пулеметчика от «максима», громко щелкнул планкой затвора.
Красные находились совсем рядом – впереди по-прежнему несся командир, кричал что-то яростно, но крика его Бембеев не слышал. Калмык спокойно выправил ствол и дал короткую очередь. Несколько красноармейцев поспешно нырнуло в траву, командир взмахнул маузером, призывая подчиненных следовать за ним, ощерил рот в крике – стали видны красивые белые зубы.
Калмык бил прицельно и был уверен, что попадет, но командир красных как ни в чем не бывало продолжал бежать словно заговоренный, взмахивая маузером, высоко вскидывая ноги, чтобы не запутаться в траве. «Шайтан, – мелькнуло в голове у Бембеева тревожное, – демон!» Ему показалось, что пули прошили красного командира насквозь, будто воздух, и унеслись в пространство, не задержавшись в плоти.
Он дал еще одну короткую очередь – опять мимо! Может, ствол у пулемета раскалился и стал кривым? Нет, ствол не кривой – бежавшие рядом красноармейцы снопами падали на землю. А их командир продолжал прорываться к макушке высоты.
Бембеев опять сшиб вначале одного аскера, потом другого…, по командиру стрелять не стал, поскольку думал – бесполезно, но в следующий миг все-таки навел толстый ствол на тонкую гибкую фигуру, придавил пальцем гашетку. Пулемет встряхнуло, железные колеса выдернулись из углублений, рассыпали вокруг себя комки жесткой сухой земли и вновь вернулись в пазы. Командир чуть отклонился в сторону, но не упал, не споткнулся – он продолжал бежать!
Следующей короткой очередью Бембеев отсек еще трех красноармейцев. Красный командир остался один. Он добежал до самой макушки, и когда калмык поднялся ему навстречу, вскинув маузер, нажал на спусковой крючок. Тот щелкнул пусто. Лицо командира исказилось, он взмахнул пистолетом как увесистой железякой, хотел было опустить рукоять на голову калмыка, но Бембеева не надо было учить искусству драки. Он подставил под руку нападавшего свой кулак, сделал короткое ловкое движение, и оружие полетело в траву.
Ошеломленно крякнув, красный командир выпучил глаза, чтобы лучше рассмотреть противника, в следующее мгновение изо рта у него вместе с капельками крови вылетел всхлип, и, вскинув ноги, он головой уткнулся в горку земли, воздвигнутую каким-то зверьком.
– Полежи тут, отдохни, – велел ему калмык.
Командир находился без сознания – калмык, поднаторевший в хитроумных приемах борьбы, приложил его крепко.
Высота была пуста. Часть красноармейцев полегла, часть попряталась в густой траве. Бембеев задрал красному командиру гимнастерку, оголяя пуп, выдернул из галифе тонкий кожаный ремешок, завернул пленнику руки за спину и, туго перевязав их, подергал за конец ремешка – не развяжется ли. Над высотой плавал кудрявый, щиплющий ноздри дым, цеплялся за стебли, за полынь и репья.
На станции еще не закончился бой. До высоты доносились звуки стрельбы, несколько раз тявкнул и смущенно умолк легкий английский пулемет. У дутовцев таких не было – значит, стреляли красные.
Соседняя высотка была вздыблена, она как будто съехала набок, на теплой дымящейся земле лежали люди. Снаряд смешал их вместе, сгреб в кучу, и красных, и белых. Так и придется их вместе хоронить. Кровь этих людей стала общей. И земля у этих людей одна. И вера. Только знамена разные.
Несколько минут калмык лежал молча у пулемета, ловил каждый звук, каждое шевеление. Люди по правую руку от него тоже лежали неподвижно, впитывали все звуки, доносившиеся до них, кажется, не веря в то, что красноармейская атака не повторится. А ведь не появись они тут раньше на полчаса – лежали бы сейчас, задрав носы к небу, в неудобных позах, и ничего им не надо было бы – ни власти, ни Оренбурга, ни любимого атамана, ни стакана самогона, который хорошо бы пропустить перед всякой атакой… Но Бог распорядился так, чтобы выигрыш оказался у них.
Гордеенко лежал ничком, уткнувшись головой в землю и неловко вывернув руку. У калмыка защемило сердце – безвольно подмятая рука – плохой признак. Он тряхнул напарника за плечо:
– Иван!
Гордеенко не отозвался. Калмык перевернул его на спину, приподнял голову. Крови нигде не было, на лоб свесилась тяжелая светлая прядь, щеки были бледными. Пуля угодила Гордеенко под ключицу, кровь хлынула в рану, но тут же запеклась, плотно закупорив пулевое отверстие, будто пробкой. Ивана Гордеенко надо было срочно уносить вниз, к врачам – из Тургая в Оренбург с атаманом шли два дотошных старичка, которые помнили, наверное, еще баталии на Шипке.
– Еремей! – позвал калмык своего приятеля.
Еремеев проверил, не спрятались ли где на склоне красноармейцы. И в жестокости, и в коварстве, и в способностях обмануть, перегрызть друг дружке горло враждующие стороны были достойными соперниками. И теперь он выволок из густой травы пятерых, озадаченно почесал затылок – не рассчитывал на такую добычу:
Калмык поднес к глазам бинокль. На орудийной платформе шла драка – люди безжалостно калечили друг друга, вышибая из черепов мозги, кроша зубы – в общем, были заняты делом. В других вагонах уже всё стихло – дутовцы захватили их. Оставалось проверить соседнюю высоту, срезанную тяжелым артиллерийским снарядом.
Она оказалась насквозь пропитана кровью, – ни одного живого места, – сраженные, изрубленные осколками люди, изувеченное оружие, дым, ползущий откуда-то из-под земли, отдающий жареным мясом, кровью, еще чем-то страшным, вызывающим дрожь и оторопь даже у бывалых людей. На соседней высоте осталось в живых только шесть человек.В этом бою за бронепоезд с первой минуты до последней участвовал Дутов, сам, лично; ему важно было, чтобы казаки видели – атаман с ними. Сознание собственного участия в событиях рождало в нем и гордость, и удовлетворение, и желание действовать дальше – все вместе. Кроме того, он считал, что его личное участие во всякой схватке отныне имеет политическое значение.
– Пусть народ видит и знает, кто руководит им, – сказал он Акулинину.
В темных глазах Дутова сверкнули две горделивые молнии, рука сжимала и разжимала эфес дорогой персидской сабли, подаренной в Тургае:
– Пусть знает наши имена!
Начальник штаба Поляков по обыкновению молчал. В казачьей среде он, не казак, был чужим человеком и ощущал это остро, нервно, иногда от чувства ущемленности у него даже дергалась кожа в подглазьях, а голос делался каким-то старческим. Но чаще всего он предпочитал молчать. Форму он носил не казачью, – полевую, хотя в торжественные моменты менял погоны на серебряные генштабовские, способные украсить любой мундир. Впрочем, некоторые не принимали Полякова и с генштабовскими погонами. Дутов это знал и как мог его защищал.
– Подсчитай наши потери, – приказал он Полякову. – И потери красных подсчитай.
Атаману эта победа была важна – он ощущал себя виноватым перед казаками, которые не пошли с ним в Тургай, а подняли восстание на своей родной земле, создав боевые дружины, причинившие красным немало хлопот.
– Мои партизаны не хуже дружинников! – ревниво произнес он.
Атаман рубанул рукой воздух, будто разваливал невидимого неприятеля от ключиц до копчика, и добавил:
– Краснюки долго будут помнить станцию Кувандык.
Потери оказались одинаковыми. Дутов даже лицом потемнел и перестал мстительно хвататься за саблю. Вместо этого схватился за сердце – не ожидал, что так много людей положит в этом бою.
Бронепоезд решили уничтожить – казаки не признавали «железо на колесах», но молчун Поляков вдруг выступил против такого решения и постарался отговорить атамана.
– Это «железо на колесах» нам еще здорово пригодится, – сказал он.
– Да? А потом паровозные рабочие перекроют нам где-нибудь рельсы, вновь захватят броневик и врежут так, что небо покажется величиной с овчинку, – Дутов недовольно поморщился, пожевал впустую ртом, но начальника штаба решил все-таки поддержать. – Ладно, – вздохнул он и приказал, глядя мимо Потапова: – Сколоти команду и посади ее на бронепоезд. Поговори с инженерами из депо, они своих людей знают лучше нас – вдруг посоветуют чего-нибудь толковое.
Седьмого июля 1918 года Дутов вступил в Оренбург. Тургайский поход закончился.Кроме Петрограда, Севера и Дальнего Востока в России родилось еще несколько правительств. В том числе и в городах, никогда не стремившихся быть столичными – в Самаре и в Омске.
В Самаре на ровном месте проклюнулся и начал расти так называемый Комуч – комитет членов Учредительного собрания, имевший полный набор правительственных структур, начиная с управляющего делами и кончая министрами… Поскольку Дутов был депутатом Учредительного собрания, то через неделю после возвращения в Оренбург он отправился в Самару. Вернулся атаман с некой верительной грамотой – теперь он являлся главноуполномоченным Комуча по огромной территории – Оренбургского казачьего войска и соответственно Оренбургской губернии, а также Тургайской области, куда входила почти половина нынешнего Казахстана.
Нанеся визит в Самару, нельзя было не нанести такой же визит и в Омск – это являлось бы грубым просчетом, и атаман, далекий от дипломатии, поехал-таки в Омск, зная, что рискует. Деятели Комуча ревниво следили за перемещениями таких важных лиц, как Дутов, и при случае могли неугодного предать анафеме – чтобы, как говорится, не портил общую картину. Дутов перехитрил их: двенадцатого июля Комуч произвел его в генерал-майоры (не мог же человек в чине полковника управлять огромной территорией), а уже на следующий день Дутов сказал о Комуче следующее:
– Организация эта – случайная, создана лишь силой обстоятельств, и значение ее пока временное и местное…
Спустя некоторое время он слово в слово повторил сказанное, – на этот раз уже в Омске, на заседании сибирского правительства, – и продолжил мысль:
– В политическом смысле Комуч однороден – в нем четырнадцать эсеров… – умолкнув на несколько мгновений, Дутов дальше повел себя, как актер из мелкого провинциального театра: повертев в пальцах толстый карандаш, добавил с ехидной улыбкой: – А также – один контрреволюционер…
Управляющий делами правительства не выдержал и спросил с интересом:
– Кто же это?
– Я! – довольный произведенным эффектом, ответил Дутов.
– И каковы же ваши политические пристрастия, господин контрреволюционер?
– Я люблю Россию, я люблю свой Оренбургский край, – Дутов глянул на один свой новенький генеральский погон, потом глянул на другой и добавил: – Вот и все мои политические пристрастия, господа. К автономии областей отношусь положительно. Партийной борьбы не признавал и не признаю. Если бы большевики, анархисты и прочие, которые находятся рядом с ними, нашли бы действительный путь спасения России, ее возрождения, я был бы с ними в одних рядах, но… Мне дорога Россия, – атаман повысил голос, темные глаза его посветлели, сделались жесткими, – и только Россия… Патриоты, к какой бы партии они ни принадлежали, меня поймут. И я их пойму… Даже если они будут ходить с красными бантами по улице и в кармане носить по два большевистских билета…
– Александр Ильич, скажите, как правительство Оренбургского казачьего войска относится к нам, сибирякам? – такой вопрос был задан Дутову.
– Если бы относилось плохо, я бы сюда не приехал… В лице атамана Дутова вы будете иметь надежного союзника.
Эти слова дошли до Самары, и там пожалели, что присвоили атаману генеральское звание – слишком уж неверным человеком он оказался.
– Я не люблю анархию, – сказал Дутов, – я – сторонник дисциплины, порядка, твердой власти… Не люблю людей, которые крутятся, как флюгер, желая угодить ветру: смотрят то туда, то сюда, то корове в задницу, то козе в рот, – атаману не были чужды острые простонародные сравнения, – от таких людей проку никогда не будет. На серьезную борьбу они неспособны, надеяться на них нельзя. К таким людям, я признаюсь сразу, войско наше готово применять крайние меры. Не знаю, слышали вы или нет, но недавно я приказал расстрелять двести казаков и одного офицера за отказ выступить против большевиков. Когда я ставил свою подпись под расстрельным списком, рука у меня не дрогнула.
Судя по всему, атаман имел в виду казаков станицы Красногорская, отказавшихся поддержать повстанческие отряды, – станичники считали, что ни сам атаман, ни его помощники им не указ, и Дутов отдал распоряжение отправить в непокорную станицу карательный отряд.
– Точно так же я поступаю и с пленными, которые выкрикивают вздорные и вредные большевистские лозунги, несут разную политическую чушь. Хватит! Наговорились! Намитинговались, навыкрикивались глупых цыганских лозунгов! Глупостей мы вообще наделали более чем достаточно, мы почти потеряли Россию!
– Расстреливать людей не жалко было, господин атаман?
– Жалко. Очень жалко. Но не расстреливать нельзя.
– Какой вы видите власть в будущей России?
Дутов замолчал на несколько мгновений, загорелое живое лицо его обрело неподвижность словно окаменело, даже глаза и те остановились, видимо, на непростой вопрос этот он отвечал и раньше, но всякий раз вносил в ответ поправки, – потом, вытянувшись, как бравый кадет перед старым паном, ответил:
– Правительство должно быть деловое, персональное, составленное из людей с именами, которые имели бы вес, значение и силу.
– Допускаете ли вы возвращение царя?
– Нет.
– А как вы относитесь к военной диктатуре?
– Отрицательно.
Все-таки в политике Дутов разбирался пока слабо, в вопросах государственного устройства – еще слабее, в простых вещах плавал, путался, что было отмечено членами сибирского правительства.
Визит атамана не остался не замеченным Комучем, и встревожил кое-кого из руководителей. Следом за Дутовым, хотя самого атамана в Омске уже не было – он быстро покинул город, – в Сибирь прибыл заместитель председателя Комуча Брушвит [44] . Параллельно с «заместительством» Брушвит тянул еще одну лямку – командовал в Самаре финансами. Он отличался сообразительностью, коварством и умением разделываться с врагами. Дутова Брушвит невзлюбил еще во время посещения атаманом Самары, при упоминании его имени брезгливо морщил лоб и предупреждал своих товарищей:
– Это коровье седло нас обязательно облапошит.
Так оно и получилось.
Сведения о том, что говорил оренбургский атаман на встречах в Омске, Брушвит собрал очень скоро – сибирякам не был чужд такой разговорный жанр, как «стук», – и в Самару Брушвит вернулся кипящим от злости.
– Неплохо бы с этого толстого куска мыла содрать генеральские погоны, – заявил он.
– Неплохо бы, – согласились с ним самарские коллеги, – только как это сделать? Стоит нам совершить хотя бы одну такую попытку, как оренбургские казаки нас не стальными саблями, а деревянными изрубят в капусту.
Одно успокаивало членов Комуча – доклад атамана был встречен в Сибири без особого восторга, некоторые омские деятели вообще приняли его с иронической ухмылкой:
– Дутов раскукарекался, как петух, решивший снести яйцо, а толку-то? Гораздо лучше петуха это делает курица. Она умеет… А Дутов нет.
Но разойтись с Комучем Дутов никак не мог, а Комуч никак не мог существовать без Дутова – атаман прикрывал слишком большой участок фронта. Если он сделает хотя бы один шаг в сторону, образуется такая дыра, в которую унесет не только всех самарских политиков, но и политиков казанских, уфимских, пензенских, вятских… Поэтому, когда Дутов просил у Самары боеприпасы, Комуч в этом ему не отказывал. То же самое было и с продовольствием – в Самаре имелись такие богатые запаса хлеба, что Комуч мог накормить не только Дутова, но и войска всех казачьих атаманов России. У Дутова же с хлебом было еще хуже, чем со снарядами – решить этот вопрос самостоятельно он не мог.
И тем не менее тридцатого июля он объявил о полной автономии своего войска и, соответственно, территории, которую занимали казаки. Осталось только поставить смотровые вышки, да протянуть колючую проволоку – и готово такое же суверенное государство, как Франция с Бельгией.
На следующий день из Самары в Оренбург была отправлена телеграмма о лишении Дутова всех полномочий. В ответ Дутов привычно сложил из трех пальцев общеизвестную фигуру и потыкал ею в сторону Самары:
– А этого не хотите?
В Оренбург из Самары отправился член Комуча Подвицкий. Цель его командировки была ясна как Божий день – подчинить Самаре зарвавшегося Дутова и вместе с ним – строптивых казаков, переждавших худые времена в Тургае. Кстати, повстанцы, остававшиеся на территории войска, чтобы бороться с красными, никак не могли простить участникам «сытого» тургайского похода того, что те пытались отсидеться в Тургае, погреться на печке у тамошних вдовушек – приравнивали такие действия к дезертирству. Это Подвицкий хорошо знал и решил использовать в борьбе против атамана.На шее Дутова, похоже, начала затягиваться веревка. Подвицкий сумел создать в Оренбургском войске оппозицию Дутову. Семена, посаженные им, дали неплохие всходы.
Первым против Дутова выступил полковник Каргин, – фигура в войске очень приметная. Каргин был атаманом Первого военного округа. Когда Дутов зализывал раны и приводил себя в порядок в Тургае, Каргин исполнял его обязанности – был официально избран временным войсковым атаманом. Именно Каргин поднял казаков против красных, именно он создал несколько повстанческих отрядов, принесших красным немало хлопот… А Дутов? Дутов тогда ушел от борьбы.
– Я разочаровался в нашем атамане, – заявил Каргин осенью восемнадцатого года.
Узнав об этом, атаман пробурчал:
– Я понимаю, почему часть офицеров недовольна мною… Потому, что я не продвигаю их на более высокие посты. Если у человека потолок командира сотни, он не может вести за собою полк. Командные должности предназначены только тем, кто умеет командовать… И в бою, и в политике.
Против Дутова выступил и есаул Богданов – однофамилец члена войскового правительства, человек храбрый, резкий, умеющий взмахом шашки разрубить на лету воробья, – командир полка. В июне восемнадцатого года он первым вступил в Оренбург. Когда были розданы все лавровые венки, Богданову ничего не досталось, и он сказал с неподдельной горечью:
– Нас благодаря атаману Дутову просто постарались забыть. Напрасно сделал это Александр Ильич. А вот потомки, они обязательно нас оценят. О наших скитаниях, о наших страданиях станет известно России. Как станет известно и о тех лжегероях, которые не принимали участия во взятии города, но были возвеличены и объявлены победителями.
Богданов умел выражаться витиевато, но главное в нем было то, что есаул был упрям, как бык, и всегда добивался цели. Есаул опубликовал в меньшевицкой газете «Рабочее утро» две статьи – обе стреляли по Дутову. Атаман лишь морщился, да ожесточенно крякая, тер рукою шею:
– Вот поганец! Поганец однако… Снять бы с есаула штаны и высечь прилюдно.
Дутов решил примерно наказать Богданова, и ему это удалось.
Двадцатого сентября в Оренбурге собрался Третий чрезвычайный казачий круг. Один из вопросов был посвящен Богданову. Есаула обвинили в том, что он отказался исполнять приказы командующего фронтом генерала Красноярцева – раз.
Не исполнял распоряжения атамана Дутова – два. Выступил в газете с письмом, оскорбляющим войсковое правительство, – три. Самовольно присвоил своему полку имя собственного отца – четыре. И пять – «представил самого себя к производству в чин полковника за подвиги, которые произведенным дознанием не подтвердились», – минуя даже звание войскового старшины.
Есаула Богданова публично высекли.
Дутов, считая себя крупной политической фигурой, обзавелся собственным поездом и личным салон-вагоном, который, кстати сказать, был когда-то закреплен за премьером российского правительства Столыпиным и славился отделкой: красным деревом, бронзой, дорогим бархатом. К поезду был приставлен солидный конвой и постоянная охрана, кроме того, многочисленные повара и приживалки – юные и очень привлекательные. Дутов полюбил роскошь.
Саше тяга Дутова к роскоши нравилась, а вот появление в поезде дам – нет.
– Выгони этих беспутных девок из своего вагона, – потребовала она.
– Да ты что! – Дутов отрицательно покачал головой. – Меня даже собственный конвой не поймет.
– А ты смени конвой, который тебя не понимает.
– Не-е-ет, – медленно, картинно растягивая буквы в простом коротком слове, произнес Дутов.
– Сашка! – Васильева повысила голос.
– Шурка! – Дутов также повысил голос.
Васильева заплакала – некрасиво, тряся плечами, вздрагивая всем телом, а Дутов, глядя на нее, думал о том, что, в сущности, эта женщина ему надоела и сама виновата в том: лезет во все дела. Скоро, наверное, в штабные карты засунет нос.
Кончив плакать, Васильева отерла рукой мокрое лицо, с надеждой глянула на Дутова:
– А, Сашка?
– Нет! – отрицательно покачал головой Дутов.
Опять залившись слезами, она уже жалела о том, что затеяла этот разговор, сердце у нее что-то стиснуло обреченно. Когда она подняла голову и пальцами расклеила слипшиеся ресницы, Дутова рядом уже не было. Атаман перешел в соседнюю комнату – там появился начальник штаба Поляков, тщательно выбритый, пахнущий французским «о’де колоном», неторопливый, внимательный.
Поляков предложил атаману:
– Может, нам этого дурака-есаула сдать в контрразведку?
А, Александр Ильич?
– Богданова?
– Так точно.
– Не надо, – поморщился Дутов. – Сейчас меня не понимает треть казаков, а тогда будет не понимать две трети… Не надо!
Поляков склонил голову:
– Как скажете, Александр Ильич.
– Наша задача – другая: на все командные посты расставить своих людей. Вы понимаете, что я имею в виду? – взгляд атамана сделался жестким, в нем вспыхивали крохотные неяркие молнии.
– Тургайцев? – поспешно спросил Поляков.
– Верно, – крохотные молнии исчезли, голос атамана обрел прежнюю ровность и неторопливость, – тургайцев… Это первое. И второе – нам пора реформировать казачьи части. Тогда позиции различных Богдановых, Каргиных и прочих превратятся в бумагу для подтирания задницы.
– Может, не реформировать, Александр Ильич, а унифицировать? – осторожно поправил шефа начальник штаба.
– Что в лоб, что по лбу – все равно… Лоб-то – один.
– Я займусь этим, – пообещал Поляков.
– Займись, любезный, – Дутов сомкнул руки на животе, повертел большими пальцами.
Его неожиданно обеспокоил разговор с Сашей. И хотя пять минут назад атаман, разозленный, горячий, готов был выкинуть ее за порог своего роскошного вагона, сейчас на это у него не хватило бы пороха. Еще немного – и он размякнет, попросит Шурку о прощении, хлопнется перед ней на колени, и все возвратится на круги своя… Все действительно возвратится. Кроме симпатичных вчерашних гимназисток… Дутов втянул сквозь зубы воздух, поболтал во рту, словно бы хотел остудить собственный язык и отрицательно мотнул головой:
– Нет!
Вскоре Саши Васильевой не стало – сложив свои вещи в два узла, она вынесла их на перрон оренбургского вокзала, коротким простым движением перекрестила окна вагона и, стройная, красивая, вызывающая восхищение у офицеров, находившихся на перроне, сунула два пальца в рот и лихо свистнула. В ту же минуту из-за угла вокзала вывернула пролетка с кудрявым кучером-лихачем, подпоясанным цветастым цыганским платком – ни дать ни взять, разбойник из старой былины. Кучер свистнул ответно, гикнул и остановился у Сашиных узлов. По-царски приподняв длинную юбку, Саша взошла в пролетку, лихач кинул следом узлы, и пролетка, развернувшись с грохотом, бесследно исчезла.Маневр с «унификацией» казачьих частей, прошел успешно – к середине осени влияние оппозиционных офицеров свелось на нет, «каргинские крикуны», как звал их Дутов, замолчали совсем, а то едва слышное тявканье, которое иногда раздавалось из подворотен, оппозиционным считать было нельзя. Это даже не тявканье, а так – скулеж…
– Иван Григорьевич, мы должны создать собственную казачью армию, – сказал Дутов Акулинину.
Цель казалась достойной. Только сейчас Дутов понял, как тяжело быть политиком. Постоянно изворачиваться, ловчить, давать ложные обещания, говорить «да» там, где нужно сказать «нет»; улыбаться, когда на душе скребут кошки; и кланяться, подобно китайскому болванчику всем кроме дворников и стрелочников на железнодорожных путях.
– Вот жизнь, – удрученно произносил Дутов и, подойдя к зеркалу, кланялся собственному изображению, потом недовольно дергал одной стороной рта. – При такой жизни вообще можно в «ваньку-встаньку» обратиться.
В сентябре восемнадцатого года в Уфе пышно открылось Государственное совещание. Играла музыка, по городу маршировали конные оркестры, дамочки бросали под копыта лошадей осенние цветы, лихие конвои картинно, с шашками наголо, сопровождали автомобили с участниками совещания. Из всех конвоев выделялись оренбуржцы, – своей статью, подтянутостью, четкостью исполнения команд, невозмутимостью, красивой формой, серебряными погонами командиров.
К примеру, караулы Народной армии Комуча погон не носили, вместо них на роговые пуговицы они наматывали какие-то полосатые ленточки, обрывки; непонятно даже, как различали своих командиров. Еще одно удивляло нервных участников совещания, а вместе с ними и впечатлительных уфимцев: воины Комуча маршировали под красными знаменами. Этого еще не хватало! Однако гражданская война на то и гражданская война, что она испытывает все цвета боли, и красный с белым – прежде всего.
В Омск Дутов прибыл одним из последних – неторопливый, с бесстрастным лицом, при дорогой шашке, с парадными генеральскими погонами и аксельбантами, значительно украсившими его мундир. К сожалению, только фигура у Дутова к тридцати пяти годам подкачала, ее трудно было чем-либо подправить.
На вопрос генерала Болдырева [45] «Почему так поздно, Александр Ильич? Совещание уже хотели открывать без вас», Дутов ответил мрачно, нагнав в голос тусклых красок:
– Красные давят так, что спасу нет. Положение на фронте очень тяжелое…
Болдырев оценивающе прищурил один глаз, оглядел атамана и бросил небрежно:
– Пугаете…
Так оно, собственно, и было – через шестнадцать дней казаки Дутова возьмут Орск – последний город на территории Оренбургского казачьего войска, находящийся под контролем красных, а через три дня Дутову, несмотря на распри с Комучем, присвоят звание генерал-лейтенанта – «за заслуги перед Родиной и Войском». Правда, пока Орск еще не был взят, и Дутов мрачно скрипел сапогами, стоя на уфимском перроне и слушая в исполнении сводного оркестра какую-то музыкальную лабуду, лишь отдаленно похожую на торжественный марш. Он недовольно морщился, но прерывать оркестрантов протокол не допускал.
Полные щеки атамана сдвигались то в одну сторону, то в другую, глаза набухли тяжелым свинцом – приехал Дутов на это совещание в беспокойном состоянии. Игнорировать мероприятие было нельзя, ведь на повестке дня стоял один жгучий вопрос – о государственной власти в России. Кто будет сидеть наверху, кушать сладкие жамки [46] и управлять остальными? Поскольку Дутову этот пост не светил, то он и относился к уфимскому сборищу без особого доверия и твердо решил заранее никаких бумаг на этом совещании не подписывать.
На первом же заседаний Дутов был избран членом Совета старейшин и председателем казачьей фракции. Из требований, которое казачья фракция выработала и передала участникам совещания, толковым было одно – власть надо формировать не по признакам партийной принадлежности, а по «признакам персонального авторитета и проникновенности идеи государственности и патриотизма».
Чтобы не подписывать ничего и избежать ненужных расспросов, Дутов решил, не дожидаясь конца совещания, исчезнуть. Уехал он ночью, а когда пришла пора приложить перо к бумаге, помощники оренбургского атамана красноречиво развели руки в стороны:
– Этого нам никто не поручал.
Документ о создании Уфимской директории – очередной верховной власти в стране – так и остался неподписанным. А Дутов, взяв потом Орск, довольно потер руки: этих жалких голозадых чинуш из директории он к себе на порог не пустит, власть на оренбургской земле принадлежит ему одному, и делиться ею он ни с кем не собирается.
Собственно, и просуществовала-то директория недолго – менее двух месяцев. Была она безобидной, пустой, и к левым, и к правым относилась с одинаковым робким почтением и завалилась, как считал Дутов, буквально на ровном месте. Падения ее никто и не заметил. К власти пришел человек сильный, авторитетный – адмирал Колчак.
Вскоре появилась другая головная боль – белых, несмотря на их отчаянное сопротивление, вышибли из Поволжья, и оренбургские казаки вновь оказались нос к носу с красногвардейскими частями. Пришлось опять браться за шашки. Дутову опять нужна была помощь – справиться с красными в одиночку он не мог.
В ещё существовавшей директории было принято решение о преобразовании всех пехотных, артиллерийских и казачьих частей, находящихся в Оренбуржье, в Юго-Западную армию.
Это была настоящая армия, без всяких скидок на худосочность населения и плохие политические условия. Командующим был назначен сам Дутов.
Атаман, не отрывая задумчивого взгляда от окна, вызвал к себе Акулинина, недавно произведенного в генерал-майоры, сжал правую руку в кулак, постучал им по воздуху, словно вколачивал невидимый гвоздь.
– Иван Григорьевич, что скажешь по поводу реорганизации войска?
– Скажу одно – сильнее мы от этого не стали. Увы. – Лицо у Акулинина поугрюмело, короткие редкие усы обиженно задрожали. – А вот самостоятельность потеряли. Теперь нам на каждый чих надо получать разрешение у главнокомандующего Болдырева.
– А вот этого они не хотят? – Дутов привычно сложил пальцы в кукиш, жестом этим пользуясь в последнее время чересчур часто.
В Оренбург пришла зима, в воздухе кружились крупные медленные снежинки, тихо падая на землю. Всякая зима, всякий снег – особенно первый – рождали в Дутове ощущение тоски. Не любил он эту пору, а потому закашлялся, помял пальцами горло, отвернулся от окна.
– Тогда они, Александр Ильич, не дадут нам ни одного патрона, ни одного снаряда, – сказал Акулинин, – и вообще сделают вид, что не знают нас. Это такие люди…
– Не дадут снарядов они – добудем сами у красных, – прервал Акулинина атаман, – не пропадем. Главная наш задача – удержать фронт по Волге, не пустить туда безбожников, – Дутов с недовольным видом прошелся по вагону. – Неплохо бы создать единую линию с астраханцами и каспийцами – в частности, с полковником Бичераховым [47] , который держит берег Каспийского моря. Следом – продолжить движение на Ташкент. Ташкент должен быть нашим.
Выполнить эти планы Дутову не удалось. Двадцать девятого октября он сдал Бузулук, а через две недели красные повели наступление на Оренбург. Заснеженная, покрытая прочной, как железо, коркой льда зимняя степь сделалась бруснично-алой от крови.В стане красных, конечно, тоже были интриги: Троцкий не мог терпеть Сталина и Фрунзе. Муравьев арестовал и посадил в тюрьму Тухачевского [48] ; Свердлов за плошку золота готов был лишить любого командарма наград и подарить их дворнику дома, в котором проживал; ордена Красного Знамени начали входить в моду, и Бела Кун [49] с завистью поглядывал на Блюхера, выпекая для него козни, как блины. В общем, интриговали все, но по части подковерной грызни здорово уступали белым. Те тут могли дать фору кому угодно, а уж неискушенным в светских развлечениях красным – тем более.
По части же интриг политических деятелям белого движения вообще не было равных. Им можно посвящать учебники и учить по ним целые поколения мошенников. Вспомним хотя бы сиятельного штабиста генерала Лебедева [50] , блистательно провалившего все, даже самые толковые операции Колчака [51] , но несмотря ни на что, адмирал не прогнал его. Лебедев, как все бездари, бесследно канул в лету, а его промахи стали, увы, промахами адмирала.
Адмирал Колчак, которого заставили заниматься несвойственным ему делом, пришел к власти восемнадцатого ноября 1918 года, став и Верховным правителем России и главнокомандующим всеми вооруженными силами одновременно. К сладкому пирогу власти не замедлили подтянуться сильные мира сего, забряцали вилками, ножами – кто чем…
Через пять дней после утверждения адмирала на высоком посту атаман Семенов разослал по всей Сибири телеграммы, в которых настаивал, чтобы Верховным правителем был назначен, не Колчак, а кто-нибудь другой, кто лучше знает армейские «сухопутные» реалии – например, Деникин, Дутов или управляющий Китайско-Восточной железной дорогой генерал-лейтенант Хорват.
Дутов в связи с таким запоздалым демаршем коллеги попал в щекотливое положение. Он уже на второй день после прихода Колчака к власти признал нового Верховного правителя России. Отступать назад было поздно. Обдумав все основательно, Дутов направил первого декабря письмо атаману Семенову, в котором просил забайкальского «владыку» признать Колчака.
Против самого Дутова в Оренбурге также выступили недоброжелатели, новые претенденты на власть. Созрел и налился дрянью заговор-нарыв; если бы он лопнул, то заснеженные улицы Оренбурга точно залило бы кровью. Кто же на этот раз решился оспорить власть атамана? Эсер Чайкин, командир башкиро-казахского корпуса Валидов и эсер командующий Актюбинской группой Махин. В числе выступавших против Дутова оказались казахский лидер Чокаев и старый знакомый – атаман Первого военного округа Оренбургского казачьего войска полковник Каргин, которого Дутов продолжал терпеть до сих пор, не снимая с поста… Были и другие, калибром помельче, на которых атаман решил не обращать внимания.
Самым опасным из недоброжелателей был Валидов [52] . Дутова он ненавидел яростно, кажется, даже во сне видел, как дотягивается пальцами до глотки атамана и давит, давит, давит. Колчака Валидов ненавидел еще больше, а уж после того, как Верховный правитель издал приказ о роспуске казахского и башкирского правительств, а также о ликвидации корпуса, которым командовал Валидов, башкирский лидер не переставал скрипеть зубами.
Его старый друг эсер-экстремист Чайкин, находившийся в это время в Туркестане, – услышав, что Валидов лишился всех своих постов и чинов, немедленно примчался к другу.
– Без дела ты никогда не останешься, – уверил его Чайкин, – такие люди, как ты, никогда не пропадают.
– Как бы сковырнуть Колчака с его насиженного места, э?
– Прежде чем сковырнуть Колчака, надо сковырнуть Дутова. По моим сведениям Дутов первым из казачьих атаманов присягнул Колчаку на верность.
– Надо действовать одновременно и против Колчака, и против Дутова. Только так можно их одолеть.
Заговор вскоре оформился в подпольную структуру. И цель достойная у заговорщиков появилась: Чокаев, Валидов, Чайкин, Каргин, Махин решили создать некое союзное объединение, состоящее из трех «стран» – Казахстана, Башкортостана и Казачьего государства. И должности соответственно расписали – бо-ольшие должности с толстыми портфелями. Заговорщики собирались в ночь с восемнадцатого на девятнадцатое ноября провести совещание, распределить на нем портфели и обговорить окончательную дату, когда они выступят против существующей власти.
Приказ об аресте заговорщиков отдал Колчак, а не Дутов. Сведения у колчаковской контрразведки были точные – в рядах заговорщиков оказался свой человек, поручик Ахметгали Велиев, сын крупного татарского купца из Челябинска. Велиев и сообщил о тайном совещании коменданту Оренбурга, капитану Заваруеву. Тот, несмотря на поздний час, незамедлительно доложил об этом главному начальнику Оренбургского военного округа Акулинину, а Акулинин – выше. Спокойный, сосредоточенный, он не сдержал усмешки:
– Докатились-таки… до заговора.
Через несколько минут в состояние боевой готовности были приведены атаманский дивизион и запасной полк. Все офицеры, находящиеся в городе, – в первую очередь те, кто прибыл с фронта, – были спешно вызваны в комендатуру. Также были вызваны русские офицеры, служившие в башкирских частях, а сами части окружены верными Колчаку и Дутову солдатами. Запасной полк тем временем взял в кольцо широкое угрюмое здание караван-сарая, в котором проходило совещание заговорщиков.
К вечеру поднялась метель. Грузные хвосты снега быстро забили все обочины, целыми сугробами осели на улицах, перекрыв их, запечатав проулки, с грохотом сверзались с крыш. Тяжелая, буквально физически осязаемая тревога висела в воздухе.
Во многих домах был погашен свет – люди хоронились…
Около железнодорожного вокзала громыхнуло несколько выстрелов, потом ударила короткая пулеметная очередь, и все стихло. Штаб заговорщиков, несмотря на кольцо, каким-то образом сумел перебраться из караван-сарая на железнодорожную станцию. Заговорщики поняли, что Дутова им не одолеть, до Колчака не дотянуться – сил хватит максимум на то, чтобы убежать, и Валидов с «сотоварищи» девятнадцатого ноября покинул Оренбург.
Когда Дутову сообщили о том, что Валидов бежал, прихватив с собой все имевшиеся на станции вагоны – и товарные, и пассажирские, вместе – несколько поездов, атаман лишь махнул рукой и произнес облегченно:
– Бог с ними, с вагонами! – Подойдя к образам, он перекрестился. – Ну вот, еще одна гроза пронеслась мимо…Бембеев в ту тяжелую ночь находился в казармах башкирского полка, – полк этот входил в состав бригады, которой командовал Валидов, – в казарме было холодно, не спалось. В дежурной комнате сидел прапорщик Потапов, обложившись книгами, делал выписки – он собирался сдавать экзамен на чин подпоручика – так что дежурство выпало весьма кстати.
В первом часу ночи Потапов отлучился по вызову, вернулся озабоченный, сдернул с рукава повязку дежурного, растолкал калмыка:
– Поднимайся, уходим отсюда!
Бембеев все понял, молча, несколькими поспешными движениями натянул сапоги, подхватил шинель и выбежал вслед за Потаповым на улицу. В лицо ему ударил жесткий порыв снега, вышиб слезы и перехватил дыхание.
– Что случилось? – просипел он на бегу.
– Башкирцы вздумали поднять восстание. Всем русским офицерам велено явиться в распоряжение коменданта города.
– Но я-то не офицер…
– Ты – наш.
Через несколько минут их остановил пеший патруль. Один из казаков снял с плеча карабин и повелительно поднял руку:
– Куда направляетесь?
– К коменданту Оренбурга капитану Заваруеву.
– Пропуск!
– Не успели получить, браток, – в голосе Потапова послышались виноватые нотки.
Казак приподнял карабин, на лице его возникло недоверчивое выражение, в глаза стремительно натек свинец.
– Поворачивай оглобли назад, – зычно скомандовал он, – пока я добрый.
– Браток… – произнес Потапов, но казак не дал ему закончить фразу, угрожающе приподняв ствол карабина.
Прапорщик скосил глаза на своего спутника, увидел на плечах Бембеева погоны с цифровым обозначением башкирского полка и понял оплошность.
– Разворачивайтесь! – рявкнул казак что было силы.
Возвращаться в казармы было нельзя. Пробиться в комендатуру не удалось. Да и неизвестно еще, чей это патруль.
Через несколько минут, около высокого темного забора Потапов остановился, прижался спиной к ограде. Он поежился, втянул голову в плечи, напряг мышцы – включил «внутреннюю печку», зная, что, когда замерзаешь, надо сжаться в КОМОК.
На его бровях блестел иней, край башлыка сделался белым, волосатым от снежной махры.
– Убей бог, не знаю, куда и к кому идти, – тихо, без всякого выражения в голосе, проговорил он. – Оренбург для меня – чужой город.
Калмык встал рядом.
– Сейчас прикинем… – забормотал он озабоченно, перебирая в памяти людей, у которых можно было бы переждать ночь. – Прикинем, к кому можно напроситься в гости на галушки.
Пешую команду, воевавшую когда-то под началом Дутова, разметало по разным частям – в ненасытную печь гражданской войны шли любые дрова. Калмык с Потапычем попали в башкирский полк, Еремеев находился при атамане, Удалов с Кривоносовым остались в казачьем полку, Ивана Гордеенко, кособокого после ранения на Кувандыкских высотах, определили в обоз, с ним также находился и Пафнутьев – хорошо, хоть живы все были. За одно это надо было молиться каждый день Богу, кланяться в пояс…
– Давай-ка к Удалову, – калмык вспомнил, что бывший сапожник собирался навестить больного отца и выхлопотал себе двухдневный отпуск, – вдруг он дома?
Жил Удалов в небольшой собственной хате неподалеку от самой крупной городской маслобойни. В горнице горел свет.
Дверь ночным гостям открыла сухонькая, прямая, как свечка, старушка с невесомой поступью, легкая словно воздух.
– Кто это? – не видя вошедших, Удалов поднял над столом лампу, произнес удивленно: – Ба-ба-ба! Вот кого не ожидал увидеть, так это своих фронтовых братанов! – он засуетился, сдвинулся на край лавки, освобождая место. Крикнул старушке: – Варфоломеевна, еще два стакана!
Дальняя родственница Удаловых, приехавшая из Краснохолмской, несмотря на невесомость и ветхость плоти, была существом вполне земным, – проворно подлетела к посудной полке и выхватила из-под занавески два тонких стакана.
За столом сидели трое: отец Удалова, худой небритый старик с прядью седых волос, прилипшей ко лбу, статная молодуха с сияющими черными глазами и ярким пунцовым ртом и сам Удалов – в неподпоясанной гимнастерке, украшенной фронтовыми наградами, веселый, хмельной, красный от выпитого. Перед компанией стояла четверть «белого вина», с горделивой этикеткой «Смирновъ».
Калмык глянул на молодуху и глазам своим не поверил, даже зажмурился невольно… Перед ним была Саша Васильева. Бембееву неожиданно сделалось холодно и тревожно – Дутов ведь не простит этого бывшему сапожнику.
– В городе, похоже, переворот начинается, – осторожно начал калмык.
Удалов мигом умолк, перекрестился.
– То-то, я смотрю, тишина – даже противно. Кто же посмел поднять руку на нашего… – Удалов покосился на Сашу, зажмурил один глаз, – на нашего дорогого атамана?
– Валидов с башкирцами.
– Вот свернут Александру Ильичу голову, будто петуху, – мстительно проговорила Саша.
– Шурка! – по-дутовски прикрикнул на нее Удалов, получилось очень знакомо. – думай, что говоришь!
– То задастый… звал меня Шуркой. То ты так зовешь, – Васильева лениво прогнулась, вкусно хрустнула костями. – Ничего нового.
Удалов поспешно налил в стаканы водки, придвинул:
– Выпейте, мужики. Самое первое дело с мороза.
– Хорошо, хоть ты дома оказался, не то пришлось бы куковать на трескотуне, – Потапов залпом выпил, притиснул к носу рукав.
Васильева, ухватив крепкими пальцами тарелку с картошкой за край, придвинула ее к прапорщику:
– Ешьте, господин офицер!
Потапов вяло махнул рукой:
– В горло ничего не лезет.
За окном голодно взвыла метель, переплет рамы затрещал. Удалов вытянул голову:
– Похоже, стреляют где-то.
Воевать не хотелось никому – ни единому человеку в Оренбурге. Вполне возможно, что и атаману Дутову не хотелось…
Но для того, чтобы выжить, надо было воевать…Дутов не спал всю ночь, прилег только, когда получил сообщение, что Валидов с заговорщиками отбыл в Уфу. Спал он, не разуваясь, в сапогах и галифе, китель повесил на спинку стула. Проснулся через полтора часа, пухлощекий, свежий, здоровый, потянулся с подвывом и резким движением сбросил ноги на пол. Пробудила его необычная тишина, способная вогнать в оторопь кого угодно, атаман послушал её несколько мгновений, но ничего опасного для себя не обнаружил и ощутил голод.
Денщик принес крынку свежего, только что из-под коровы молока и длинную французскую булку. Дутов улыбнулся неожиданно счастливо, раскрепощенно – все было, как в далеком, но очень памятном детстве.
Расправившись с молоком и булкой, атаман вызвал к себе Акулинина. За последний год тот стал для него одним из самых близких людей. Генерал явился быстро, будто находился в соседнем – штабном, – вагоне, состыкованном с салоном атамана.
– Ну что, Иван Григорьевич, известно что-нибудь про ночное совещание, которое наши противники проводили в караван-сарае? Я имею в виду детали… А?
– Все известно, Александр Ильич. Предатели и есть предатели… Ничего нового не приняли. Валидов предлагал с помощью солдат-башкир арестовать вас, – Акулинин показал пальцем на атамана, потом ткнул себя в грудь, – арестовать меня и еще несколько человек – высших чинов Оренбургского войска… Сил для этого у Валидова было предостаточно. Но что из этого получилось – видите сами, – Акулинин не сдержался, на полных губах его под рыжими усиками появилась довольная улыбка.
– А что в других пунктах решения мятежников?
– Объявили населению, что адмирал Колчак – самозванец, что приказы его не следует выполнять – пускать в печки на растопку, подчиняться де надо только Комучу. Но мнения на этот счет на тайном совещании разделились…
– Кто выступил против?
– Наши старые знакомые – Каргин и Махин.
– Чем же они мотивировали?
– Посчитали, что такой поворот может развалить фронт.
Дутов задумчиво потеребил пальцами подбородок.
– Значит, мозги свои растеряли еще не до конца…
– Как видите, Александр Ильич, – Акулинин усмехнулся вновь и повторил вслед за атаманом машинально: – кое-что, сохранили.
Атаман сжал правую руку, постучал по стенке вагона.
– Актюбинскую группу Махина [53] надо обязательно усилить, – проговорил он тихо и зло, – на должности полководца не может сидеть оренбургская проститутка. Даже с погонами полковника Генерального штаба.
– Согласен, – эхом отозвался Акулинин. Полковника Генерального штаба Махина он не любил. – Предлагаю на место Махина назначить генерал-лейтенанта Жукова, – сказал он.
– Толковая мысль, – похвалил верного помощника атаман.
Генерала Жукова он знал хорошо. В годы войны с германцами тот командовал Третьим Оренбургским казачьим полком, затем бригадой и, – уже в мутном семнадцатом году, – кавалерийской дивизией.
Вечером Махин получил командировочное предписание отбыть по делам войска в Омск. Он отбыл и оттуда уже не вернулся. Понял, что в Оренбурге уже и шага ступить не сумеет без повеления атамана Дутова – в конце концов его найдут с перерезанной глоткой где-нибудь в канаве или в одном из тесных душных номеров караван-сарая, – и через некоторое время уехал за границу.
Спустя сутки контрразведка донесла, что член Учредительного собрания эсер Вадим Чайкин поспешно отбыл в Туркестан, – там он, вероятно, затаится на ближайшие месяцы – и это тоже устраивало Дутова.
Дутов дал указание созвать съезд округа, казаки собрались на свою традиционную «топтучку», выпили молочной монгольской водки, попавшей в Оренбург с оказией и лишили Каргина занимаемой должности. Каргин плевался, кричал, что его предали, грозил отрубить Дутову голову, размахивал шашкой, но ничего поделать не мог. В конце концов он напился и успокоился.
Башкирские полки, все четыре, были выведены из Оренбурга – ими решили усилить правый фланг Бузулукской группировки и прикрыть территорию Башкирии от возможного наступления красных. Оказалось, Валидов изменил белому движению, переметнулся на сторону красных, сумел разложить часть башкирских полков, и те перешли вместе с ним на сторону противника. Другая часть просто-напросто оставила окопы и разбежалась по многочисленным селам близ Уфы.
Лишь незначительное количество солдат в лохматых бараньих папахах осталось в армии атамана, но надеяться на них было нельзя – они все чаще и чаще стали поглядывать в родную сторону и при первом же удобном случае стремились удрать в степь. Атаман Первого казачьего округа оказался в одиночестве, ну а одному ему свернуть голову не представляло особого труда.
Политические противники Дутова были ликвидированы. Атаман махнул по этому поводу пару стопок коньяка, похрустел пальцами и объявил с мрачным видом:– Неприятности наши на этом не закончились.
– Чего же будет еще? – смешно подергав щеточкой усов, спросил Акулинин.
– Наступление красных. В ближайшее же время.
– Почему вы так считаете? – Акулинин был с атаманом то на «ты», то на «вы», атаман с Акулининым – тоже.
– Красные не хуже нас осведомлены о том, что на месте сбежавших башкиров – дыра. Заткнуть ее нам нечем. Остается одно, Иван Григорьевич – ждать незваных гостей.
Атаман как в воду глядел – красные не замедлили пойти в наступление. Правый фланг Бузулукской группировки оказался голым – не увидеть это мог только слепой, а у красных слепых не было. И командиры у красных имелись толковые – Фрунзе, Чапаев, Гай, – не менее десяти таких, кого бы Дутов не прочь был переманить в свое войско и дать этим людям генеральские звания.
Прошло еще немного времени, и большевики заняли Уфу и Стерлитамак, и начали спешно обходить с севера Оренбург.
На юге они тоже не сидели сложа руки – морозным декабрьским днем выбили дутовцев из Илецкой Защиты, расположенной в шестидесяти километрах от Оренбурга.
Если северный рывок красных атаман ожидал, то к наступлению с юга готов не был. Как писал Акулинин, «Оренбургскому командованию пришлось спешно производить сложные маневры и перебрасывать войска с одного участка на другой. В полках ощущался недостаток в оружии, патронах и теплом обмундировании, усталость казаков».
Началось моральное разложение, запахло бедой. Бои шли настолько жестокие, что атамана Дутова упрекали в том, что он в этих боях положил практически все мужское население Оренбургского казачьего войска…
В ночь на двадцать первое января девятнадцатого года Дутов вынужден был оставить Оренбург. «С потерей Оренбурга армия потеряла свое сердце», – написал атаман, покидая столицу казачьего войска.
Он развивал в себе талант публициста, приказы он сочинял такие, что, сброшюровав вместе, их можно было читать как единую книгу. Его эссе «Наблюдения» касались обстановки в стране, власти, исторического прошлого. Свет увидели и «наблюдения», посвященные женщине, хотя в них звучали в основном библейские и римские имена: Аспазия, Семирамида, Корнелия – мать Гракхов, погибших в борьбе с сенатскими воротилами за осуществление реформ. Лишь в последних строках, Дутов вспомнил о русских женщинах – киевской княгине Ольге, Евпраксии Рязанской, Марфе-посаднице. Атаман становился все более и более оригинальным.
За Оренбургом был сдан Орск. Территория Первого округа целиком перешла к красным. Оренбургское правительство, штабы армии и округа, губернские учреждения, окружной суд и палата, два кадетских корпуса (Неплюевский и Оренбургский), военное училище, Николаевский женский институт переехали в Троицк. Впрочем, учебные заведения вскоре отправились дальше, в Сибирь. Туда же направились наиболее дальновидные и богатые оренбургские граждане – поняли, что оставаться в городе нельзя.
Все трещало по швам. Дутов не знал, куда, к кому ему прислониться, от кого можно ожидать помощи. Связь с Сибирью была прервана, Колчак ничем не мог помочь оренбуржцам, хотя на помощь адмирала Дутов очень рассчитывал.
– Я не знаю, что делать, – жаловался атаман Акулинину, прижимая ладони к крупной, коротко остриженной голове. – Чехословаки побросали свои позиции и драпанули на восток… Красные выжимают из нас последние соки. Что делать?!..
Генерал Акулинин к моменту появления своих воспоминаний был уже глубоким стариком-пенсионером, и запоздало лил «воду» на собственную мельницу, делая это очень старательно, чтобы ни одна капля дорогой влаги не пропала даром: «Оренбургское командование не ограничивалось защитой одной войсковой территории. В ущерб своим краевым интересам, когда того требовала общая обстановка, атаман Дутов посылал целые полки на поддержку соседних фонтов, которые как раз нуждались в коннице. Условия, в которых приходилось бороться оренбургским казакам, были чрезвычайно трудные».
Короче говоря, Дутов вчистую продувал свою партию, выражаясь языком дворников 1920 года, и всякое объяснение, – да еще задним числом, – почему это происходило, достойно только грустной насмешки. Легких условий не было ни у кого – ни у Колчака, ни у Деникина, ни у Фрунзе, ни у Тухачевского…
Акулинин объясняет свои трудности тем, что в крае не было никакой серьезной промышленности, кроме мукомольной, кожевенной и мыловаренной. Но ведь муку можно было легко менять на снаряды, а мыло – на патроны, снабженцы всех фронтов, и красных и белых, занимались этим очень успешно.
Жаловался Акулинин и на порядок, бытовавший в ставке Колчака, – все самое лучшее, свежее доставалось в первую очередь Сибирской и Западной армиям, которые, кстати, дрались гораздо успешнее войск Дутова. Еще генерал сетовал на нехватку пушек и пулеметов, которые в самые ответственные минуты боя неожиданно замолкали – кончались патроны. Но именно от Дутова и только от него зависело изменение такого порядка.
В общем, как говорится, у плохого танцора всегда что-нибудь не так.Ночью Дутову прямо в вагон позвонил из Омска Лебедев – начальник Ставки Колчака. У Лебедева голос был, как у завсегдатая великосветских пирушек, – вибрирующий, высокий, – разговаривал он с Дутовым словно постоялец дорогой гостиницы с мальчиком, продающим на улице газеты. Атаман, нервно относившийся ко всякому пренебрежению, даже плечами задергал, услышав лебедевский голос.
– Ваша главная задача – не дать большевикам наладить регулярную железнодорожную связь с Туркестаном, – начал втолковывать Лебедев атаману. – Вы слышите меня?
Дутов молчал – его коробило высокомерие Лебедева, менторские нотки, которые не могла скрыть даже плохая телефонная связь.
– Слышите меня? – повторил вопрос Лебедев.
– Так точно, слышу.
Под контролем дутовских войск находился лишь небольшой участок железной дороги, недавно отбитый между Актюбинском и Илецкой Защитой, все остальное держали в своих руках красные. Железную дивизию под командой Гая [54] невозможно было ни сломать, ни согнуть. Атаман, пытаясь узнать через свою разведку, кто такой этот несгибаемый Гай, удивлялся каждый раз изворотливости, храбрости, непредсказуемости красного комдива, неожиданности его тактических решений. Поражался тому, как может маленький офицерик с крохотным званием одерживать победы над ним, генерал-лейтенантом, окончившим Академию Генерального штаба… Нет, было в этом что-то неестественное, не укладывающееся в голове…
– Ну что скажете?
– Поставленную задачу я постараюсь выполнить.
– Не «постараюсь», Александр Ильич, а – выполнить обязательно. Понятно?
От резкого надменного голоса начальника колчаковской Ставки в голове возник звон. Дутов в очередной раз раздраженно передернул плечами.
– Понятно? – вторично спросил Лебедев.
– Так точно, – с трудом, будто гимназист, не знающий, как вести себя с классным наставником, выдавил Дутов.
Задача перед его армией была поставлена локальная, смехотворно малая. Иное дело – брать города, окружать соединения противника, загонять их в котел, запечатывать и месить, месить, месить все, что в нем окажется, – до тех пор, пока содержимое не превратится в кашу.
Но сколько ни пытался Дутов соорудить котел, сколько ни старался работать мешалкой, ничего у него из этого не получалось. Все свои битвы, одну за другой, он проигрывал. Озадаченно мял пальцами шею, сипел, глотал порошки от головной боли, раздраженно дергал плечами, гасил досаду чаем, коньяком, шубатом [55] …. но ничего поделать не мог. Если что-то планировал – красные опережали его. Если задумывал прорыв, – встречал непробиваемый заслон. Если принимал решение отступить на «заранее подготовленные» позиции, – позиции эти оказывались занятыми, и из вырытых им же окопов начинал хлестать такой огонь, что на глазах вскипали слезы, а ноги сами поворачивались на сто восемьдесят градусов.
Именно в эти трудные дни атаман понял, что полководец из него никакой. А вот политик… политик из него еще может выйти. Хотя то, что власть уплывает из рук, сознавать было горько.
Он ожидал ударов изнутри, из войска, но не знал, кто именно их теперь нанесет. Войсковой атаман Каргин, Махин, Валидов, Чайкин – это фигуры уже отработанные. Должны возникнуть новые. Дутов очень чутко, обостренно следил за всем, что происходило в подведомственном ему войске.
Не зря атаман находился настороже – удар ему нанес генерал Сукин [56] , командующий Шестым Уральским армейским корпусом. Глядя на то, как атаман «плавает» в военных вопросах, морщась от внутренней досады из-за опасения за возможный распад войска, за поражения, которых выпало уже столько, что потерян счет, Сукин написал докладную записку. В ней он изложил свои мысли по поводу возможного печального конца Оренбургского войска, а заодно перемыл атаману все его косточки – между прочим, по делу.
Перед тем как отправить записку в канцелярию Третьего войскового округа, Сукин собрал несколько человек, которым доверял. На улице стоял суровый февраль девятнадцатого года….
Перед собравшимися генерал выступил с короткой речью.
– Я не верю Дутову, – сказал он, – хотя знаю его давно. С детства, если быть точным. И семью его, главу фамилии Илью Петровича Дутова, знаю давно. С младшим Дутовым я учился в Академии Генерального штаба. Более тупого и нерадивого ученика в Академии не было. Именно это знание и привело меня к выводу, что атаман наш приносит войску много вреда и мало пользы. Очень мало… Александра Ильича, пока не поздно, пока мы не погибли окончательно, надо переизбирать. И руководитель он слабый, и военного опыта у него мало, и политической честностью он не обладает, а уж гражданским мужеством не обладает тем более.
Собравшиеся подавленно молчали.
– Лишь одно он умеет делать с подлинным мастерством – возвышать себя. Это также идет в ущерб общему делу. Вы посмотрите, как у нас расколота офицерская часть общества!.. В общем, взгляды свои, все, что мне известно, я изложил в этой вот записке, – Сукин показал собравшимся несколько густо исписанных листов бумаги. – Можете ознакомиться…
– Не отсылайте записку, господин генерал, – попросил Сукина один из доброжелательно настроенных друзей, – она не поможет… Бесполезно. В результате пострадаете вы. Атаману все записки – что мертвому припарка.
Будучи честным человеком, генерал искренне страдал от того, что видел, – не отправить бумагу, да еще после того, как ознакомил с нею своих друзей, – он не мог. Результат же доброжелатель генерала предсказал точно: Сукин был вызван на заседание круга и «за грубую клевету на войскового атамана и правительство» исключен из казачьего сословия. Кроме того, войсковой круг направил Верховному правителю Колчаку бумагу, в которой просил снять Сукина с должности командира корпуса. В общем, атаман разделался с Сукиным в полной мере.
Точно так же он разделался с «неблагонадежным» полковником Рудаковым, которого вначале послал в Китай за провиантом и винтовками, а потом неожиданно предположил, что Рудаков, завернув на обратном пути в Омск, может дать атаману нелестную характеристику. Дутов решил просто-напросто уничтожить полковника, опередив его и отправив в Ставку на него такую характеристику, с которой тому не только в войсковом правительстве нельзя работать, но и погонщиком верблюдов…
В письме Колчаку Дутов предостерегал адмирала от контактов с неугодным полковником, обвинял Рудакова в ничегонеделании, болтовне, жадности, хитроумии, в ловкости и готовности ради денег продать кого угодно и что угодно, даже войсковое знамя. В довершение всего он сделал недвусмысленный намек на то, что Рудаков «замешан в некрасивых сношениях с германскими агентами через жену-польку».
В этом был весь Дутов. От дел армейских Дутов отходил все дальше и дальше, на первое место выдвигались дела политические. Армией за него стал командовать не Акулинин – близкий человек, а начальник штаба Вагин [57] .
Положение на фронте делалось все хуже. Но теперь Дутов уже имел возможность потирать руки, будто не имел к неудачам никакого отношения, и говорить:
– Это все Вагин виноват. Обращайтесь за объяснениями к нему.
Однако на совещании в Челябинске по планированию летних операций девятнадцатого года присутствовали и Вагин, и сам Дутов, – атаман по-прежнему боялся, что его кто-нибудь подсидит, либо представит перед Ставкой в невыгодном свете, и лично поехал в Челябинск. В Челябинск прибыли все – и адмирал Колчак, и начальник его штаба Лебедев – любитель пошаркать штиблетами по паркету, как посмеивались командующие всеми колчаковскими армиями, пропахшие порохом и горелой землей, табаком и потом.
На совещании обсуждали два плана. Один предполагал наступление на Пермь – Вятку – Вологду с последующим штурмом Москвы, второй – на юг, навстречу Деникину, – это был план командующего Сибирской армией чеха Гайды – большого любителя хапать чужое добро. Для второго плана нужно было пройти всего ничего, – девяносто верст.
– Когда мы соединимся с генералом Антоном Деникиным, у нас хватит сил взять Москву без всяких северных вариантов, – доказывал Гайда на совещании. – Если возьмем Москву, то через две недели перед нами встанет на колени вся Россия.
План Гайды поддержал единственный человек – Дутов. Разгорелся спор. В конце совещания Колчак поднялся с кресла и произнес раздраженно:
– Кто первым дойдет до Москвы, тот и будет хозяином положения. А встанет ли Россия на колени или не встанет – это вопрос второстепенный.
Адмиралу надоело пустое словесное соперничество генералов, постоянные подсиживания, ссоры, – нужны были победы, дело, а их не было.В начале марта развернулось большое весеннее наступление. Вскоре белыми была отбита Уфа. Армии выстроились в сложную многоугольную фигуру, приводя в действие северный план, утвержденный высоким челябинским совещанием.
Зима оказалась затяжной, холодной, с обильными снегами, в некоторых местах, особенно низинных, снег был таким глубоким, что лошади проваливались в него с головой. Еремей в январе был ранен – в степи столкнулся с красным разъездом, еле ушел от голодных злых конников – конь под ним был добрый, он и вынес. Пуля клюнула Еремеева уже вдогонку, прошила плечо, выдрала кусок полушубка и растворилась в пространстве.
В дутовских частях царила неразбериха, командиры в полках и казачьих сотнях менялись, будто дети во время игры в салочки – это позволяло фронтовым друзьям во время переформировок соединяться вместе. Калмык, Еремей, Удалов, Потапов, Сенька Кривоносов, многодетный Пафнутьев – все теперь держались вместе. Когда люди сбиты в один круг и понимают друг друга с полуслова, то и прожить, и воевать бывает легче легче.
Еремеев выздоравливал медленно.
– Бульончиком бы тебя, друг, попоить, – озабоченно глядя на Еремея, проговорил калмык, – с травами, да с целебными кореньями… Бульон из зайца, например, был бы очень хорош.
Зайцы, да и другие звери в степи водились, но всех загнала в норы, а то и вообще выбила из этих мест война.
Удалов, похудевший, с тусклым серым блеском в глазах отрицательно покачал головой:
– Вряд ли сейчас мы отыщем косых в степи.
Одно время он посытнел было, пополнел, набрал вес. Казаки не упускали случая подковырнуть его, иногда даже величали генералом, но сейчас вид у Удалова был отнюдь не генеральским, – кожа походила на старую безразмерную шкуру, морщинистые щеки неряшливо нависали над подбородком, в глазах отсутствовала жизнь.
Калмык сделал приглашающий жест:
– Поехали со мной!
Бивший сапожник с хрипом втянул в себя воздух, в груди у него что-то простудно заклокотало, Удалов прислушался к самому себе и пожаловался:
– Что-то ослаб я.
– Не ты один ослабший такой. Поднимайся. Давай выедем в степь.
– Ага. И нарвемся на красный наряд. Как он вот… – Удалов покосился на лежавшего на грубом топчане Еремея.
Разговор происходил в покрытой черной соломой клуне [58] – это все, что осталось от некогда богатого казачьего хутора, разбитого прямым попаданием тяжелого снаряда. Еремеев, услышав, пошевелился, открыл глаза, лицо его сморщилось страдальчески, рот сполз в сторону, и казак вновь закрыл глаза.
– Главное – не поддаваться хворям, сопротивляться до конца, – сказал калмык. – Через себя переступить. Понятно? Поехали!
Удалов потряс головой, словно его пробил электрический заряд, и молча поднялся со скамейки, на которой сидел. Едва они вышли за порог клуни, как взвыл ветер. Удалов пошатнулся, поглубже запахнул шинель, сделал шаг в снег.
– Без коней утонем, – произнес он хрипло.
Калмык забрался на лошадь, поперек седла положил карабин.
– Ружьишко бы сюда, – произнес со вздохом, – хотя бы плохонькое, – зайцу было бы гораздо страшнее.
Тем не менее Африкан любовно огладил ложе карабина. Хоть и безжизненна степь – а вон тяжелая птица сорвалась с неба и в отвесном пике ушла вниз.
– Есть тут зайцы, есть, – убежденно произнес калмык.
Калмык оказался прав – едва они подъехали к небольшой плоской балке, покрытой прочным одеревеневшим настом, как увидели крупного одноухого зайца. Косой буквально выпрыгнул из-под снега – будто выбитый из норы хорошим пороховым зарядом, взметнулся над метра на три – только ухо затряслось над головой. В то же мгновение из другой норы выскочил второй заяц, также взлетел в воздух метра на три и опустился на снег рядом с первым.
Удалов не выдержал, воскликнул восхищенно:
– Екаламенэ! – Вялость с него, как веником смахнуло, он приподнялся в седле, стал похож на гимназиста, получившего отличную оценку по нелюбимому предмету.
Зайцы, странное дело, совсем не обращали внимания на людей. Кони под всадниками остановились сами – тоже ошалели от такого беспечного поведения косых.
Тем временем одноухий подскочил к другому и вдруг что было силы шваркнул его лапой по физиономии. Затеялась драка.
Из-под снега выскочил третий зверек. Им оказалась самка. Приподнявшись над настом, зайчиха глянула на самцов, словно бы оценивая их, пошевелила ушами. Драчунов появление слабого пола здорово подогрело, они отчаянно замахали лапами. Одноухий, норовя сбить противника наземь, молотил того монотонно, будто барабан. Второй в долгу не оставался, действовал по-бойцовски напористо, также лупил соперника лапами – у одноухого только голова болталась из стороны в сторону. Находившихся неподалеку всадников зайцы не замечали, они словно ослепли и оглохли, видели только друг дружку.
– Чудеса какие-то, – сиплым шепотом проговорил Удалов, – зайцы дерутся… Никогда не видел.
– Нет, они не дерутся, – поправил его калмык, – это они перед дамочкой выхваляются, удаль свою показывают. Вишь, зайчиха за боем наблюдает?
– А если они один другому зубы повышибают?
– Никогда, – калмык засмеялся было, но поперхнулся холодным воздухом. – У них даже крови не бывает. Ни первой, ни второй…
Победил одноухий. Ловким шлепком лапы он сбил соперника – тот кубарем покатился по насту, а когда поднялся – ни зайчихи, ни одноухого соперника уже не было – исчезли. Заяц чихнул и в то же мгновение стремительно сел на задние лапы – почувствовал опасность. Тоненько пискнув, прыгнул вбок, потом вперед и понесся по насту в слепящее холодное пространство…
Сверху на зайца пикировал, широко расставив лапы, орел. Заяц не видел его, но хорошо чувствовал. Орел наваливался на жертву тяжелой глыбой. Он уже почти всадил когти ей в спину, приготовился долбануть железным клювом и оглушить, но ушастый неожиданно резко затормозил, сросся со снегом. И орел со свистом промахнул мимо, врезался лапами в наст, с громким треском проломил его и глубоко вошел в снег. Только блескучая морозная пыль поднялась над местом пролома.
Заяц же неспешно поднялся, встрепенулся и потрусил дальше, в следующую степную балку, на поиски зазнобы.
Удалов выбухал из себя кашель, сплюнул на снег.
– Вот так заяц! Кто бы мог ожидать такой прыти от косого? После того что мы с тобой, братка, увидели, зайцев стрелять рука не поднимается, – сиплым голосом проговорил он. – Ах, как ловко косой объегорил орла! Вот голова, два уха!
– И мне стрелять не хочется, – признался калмык, – грешно как-то. Но стрелять надо. И Еремея поднимать на ноги надо, и тебя поддержать, – он шумно вздохнул.
Удалов с хрипом втянул в себя воздух, встревоженно дернул головой и замер. Прислушался к чему-то далекому, для калмыка неведомому, ничего не услышал, поник всем телом, обвял…
– Как там Шурка моя, – прошептал озабоченно, тихо, и калмык понял, о ком говорит Удалов. – В городе куда голоднее, чем нам, – люди дохнут сотнями…
– Откуда знаешь? – спросил калмык.
– Знаю, – Удалов поежился, словно хотел поглубже забраться в свою одежду, но тесно было в ней, неудобно, а главное – холодно.
– Ну и что Шура? – калмык покосился на спутника. – Пишет?
– Ага, – Удалов усмехнулся, – письма привозит мне почтовый курьер на белой лошади…
– Ты чего, женился на ней? – полюбопытствовал калмык.
– Женился, – просто ответил Удалов, – без меня она пропадет.
– Это почему же?
– Те, кто побывал у атамана в руках – пропадают. А Шурке пропасть нельзя, у нее брат недозрелый на руках. Сгинут оба.
Удалов неожиданно начал заваливаться набок, сползая с седла, побледнев лицом, поспешно ухватился за луку, с трудом выпрямился. Ветер с воем поднял с наста горсть жесткого мелкого сеева, швырнул ему в лицо, словно издеваясь. Удалов хотел выругаться матом, но вновь вспомнил Сашу и улыбнулся.
– Чего расцвел, как подсолнух? – спросил у него калмык, хотя и без слов было понятно.
– Шурк, она… А Дутов здорово обидел её, – сказал Удалов, – очень сильно обидел.
– И что?
– Да то, что после этого он мне врагом заделался.
Продолжать разговор было опасно: хоть и безлюдна степь, и никого в ней, кроме зайцев, да орлов, а все, что в ней происходит, – известно бывает многим.
– Ты это, – голос у калмыка сделался хриплым, – умолкни! Понял?
Стрелять из карабинов по зайцам всегда несколько неудобно, и все же охотники добыли двух косых, привезли их в клуню. К вечеру приготовили шулюм – блюдо для больного человека вкусное и полезное. А главное – способное поставить его на ноги.
Калмык буквально висел над Еремеем, требовал, чтобы тот съел шулюм.
– Хлебай, хлебай, иначе не выздоровеешь.
Еремей отрицательно мотал головой, потный, слабый, сводил брови в одну упрямую линию, давился, но ел. С этого дня, с шулюма заячьего, заправленного степными корешками, дело пошло на поправку.
– Молодец, огурец! – смотрел на него калмык и радовался.
Глядя на приятеля, взбодрился, начал с проснувшимся интересом посматривать на жизнь и Удалов.Бои в те дни шли слабенькие – не бои, а обычные перестрелки. Дутов получил новое назначение – стал главным начальником Оренбургского края – такая должность родилась в недрах колчаковской Ставки – нечто вроде поста генерал-губернатора, если подходить к должности со старыми, царского времени мерками. В состав края была включена Оренбургская губерния – почти целиком, без двух уездов, Челябинского и Троицкого, чей недостаток компенсировался двумя уездами Тургайской области – Кустанайским и Актюбинским.
Довольный новой должностью, Дутов первым делом написал несколько воззваний, посвященных национальному вопросу. В армии он теперь почти не появлялся, твердо уверовав, что в конце лета, в августе, белые займут Москву.
Десятого мая девятнадцатого года армия, которой он командовал, была расформирована. Вместо нее появилась Южная армия, состоявшая из казаков лишь наполовину. Дутов был освобожден от должности командующего, но обстоятельством этим совершенно не огорчился, поскольку и тут его самолюбие не пострадало – он получил назначение на пост походного атамана всех казачьих войск России и одновременно стал генерал-инспектором кавалерии. Портфель же оренбургского войскового атамана Дутов сдавать пока не собирался, держал его при себе – а вдруг пригодится? Свои действия Александр Ильич просчитывал на несколько шагов вперед.
Однако напрасно он полагал, что армейскими делами ему больше не придется заниматься – будет он отныне творить лишь политику, да представительствовать в президиумах. К осени девятнадцатого года положение белых стало окончательно безнадежным, они оказались загнаны в угол. Южную армию вновь переименовали в Оренбургскую, и во главе ее опять встал Дутов. Начальником штаба был назначен генерал Зайцев [59] . Атаману очень хотелось, чтобы на эту должность вернулся Вагин, к которому он успел привыкнуть, либо кто-нибудь из генералов более близких, но стало не до жиру, и атаман согласно наклонил голову: пусть будет Зайцев.
Оренбургская армия начала отступать – драпала так, что красные части за ней не поспевали – в степи лишь могильные холмики вырастали. Дутов грешным делом даже всплакнул – станичников было жаль. Продуктов, лекарств и патронов не хватало, по степи гулял голод, свирепствовал тиф. Дутов понял – если он встанет на пути бегущих, его просто-напросто изрубят шашками. Атаман потемнел и похудел от забот, от понимания бесперспективности боевых действий, от того, что давно не ел нормальной горячей еды.
К середине октября тиф выкосил половину Оренбургской армии. Была надежда, что зима и болезни остановят красных, тогда, оторвавшись от них, можно отдышаться, прийти в себя, но надежда эта оказалась тщетной – красные не останавливались ни на миг. Шестнадцатого октября они заняли Петропавловск, оседлали железную дорогу и погнали по ней Дутова на восток.
Несся атаман по «колесухе» со скоростью курьерского поезда, да оглядывался, боясь, что части Пятой советской армии ворвутся к нему в тамбур вагона. Плохо было атаману. Рассчитывал он остановиться на Ишиме, но красные поднажали, и Дутов перелетел через реку, не сбавляя скорости и теряя людей.
Удалось задержаться на линии Атбасар – Кокчетав и приготовиться к обороне. Но шестого ноября поступило пренеприятнейшее известие – пал Омск, столица Верховного правителя. Пришлось снова собирать вещички и катиться дальше. И – изобретать новые методы борьбы.
Дутов начал подумывать о партизанской войне. И опять смешали все карты красные – они с севера устремились на Акмолинск и овладели им. В тылу у Дутова сложилась угрожающая обстановка – слишком много там скопилось неприятеля, – и части атамана продолжили отступление.Над мерзлой степью нависло плоское выстуженное небо. Полог его целиком, от края до края, был будто выкован из серого металла, на котором ничто не задерживалось – ни звезды, ни луна, ни солнце. Даже облака, и те соскальзывали с плотного чугунного полога, их место быстро занимали другие.
Платонов, небритый, с обожженным морозом лицом, выманил из норы сонного недоумевающего сурка, и в то же мгновение из винтовки его сшиб калмык. В крохотной низинке друзья развели костер, в закопченный котелок напихали снега и сварили сурка.
На запах еды сбежались голодные тощие солдаты – они были готовы смести горстку счастливцев, но над котелком поднялся Платонов и демонстративно подкинул в руке карабин:
– Ребята, не шуткуйте!
Солдаты, рыча, отступили от костра. Калмык зачерпнул ложкой немного варева, подул на него, причмокивая вкусно, попробовал:
– Соли мало.
Соль так же, как и хлеб, шла на весь золота. Платонов вздохнул, перебросил карабин из одной руки в другую, достал из кармана шинели мешочек:
– Расходуй с умом.
С похлебкой расправились в несколько минут. Последним на дно чугунка запустил ложку Еремей, ничего не выскреб и, облизав ложку, сунул ее в заплечный мешок. Крякнул с невольной досадой:
– Мало!
– Зверья в степи совсем нет. Я тут бывал раньше, охотился, – сказал калмык. – Здесь и лисы были, и волки, и коз много.
Еда из-под каждого стебля смотрела. А сейчас…
– Ушла еда на юг, – Еремей вздохнул, – война отогнала.
Потапов согласно кивнул.
– Было бы в армии больше коней и верблюдов – зарезали бы, – сказал он, спрятав ложку в карман.
Прапорщик вытянул вдруг голову, поспешно вскочил с места, гулко пристукнул каблуком одного сапога о другой и рявкнул сипло:
– Встать!
Вдоль костров шел в высокой казачьей папахе Дутов, за дни и месяцы отступления он стал еще меньше, совсем сдал в весе и росте, с серого лица устало смотрели черные глаза. Сапоги у атамана, несмотря на походные условия, были начищены до блеска. Он медленно двигался вдоль костров, прикладывая руку к папахе, останавливался, что-то говорил греющимся солдатам, шел дальше.
За атаманом вплотную, не отставая ни на шаг, перемещался ординарец – дюжий есаул, с торсом, плотно перехваченным кожаными ремнями. Есаул предусмотрительно расстегнул кобуру маузера, готовый в любую секунду прикрыть атамана. Поскольку Дутов занимал сейчас главную казачью должность в России и ему подчинялись все казачьи части от Терека и Екатеринодара до Хабаровска и Никольск-Уссурийска, то и в ординарцах у него теперь ходил не безродный Еремей Еремеев, а казак в хорошем офицерском чине – есаул Мишуков.
Подойдя к костру прапорщика Потапова, атаман увидел старых знакомых, улыбнулся слабо, через силу.
– Здравствуйте всем вам, – произнес сипло. Со вздохом качнул головой: – Сколько верст вместе пройдено, а?
– О-о, ваше высокопревосходительство, – протяжно начал Еремеев.
– Что-то ты ко мне по-старорежимному обращаешься, – Дутов по-простецки, будто классный дядька, покачал головой. – Превосходительства и высокоблагородия еще Керенским отменены.
– Зато звучит как здорово, Александр Ильич! – Еремеев указательным пальцем правой руки потыкал в небо. – Песня!
– Голодно, прапорщик? – неожиданно обратился атаман к Потапову.
Потапов вытянулся:
– Держимся!
– Продержитесь еще немного, – тон атамана сделался просящим, – пройдем степь, селений будет встречаться больше… В селах есть продукты, нас накормят.
– Держимся, господин атаман, – повторил Потапов, скребнул сапогами по снегу. – Не подведем.
– Верю, – тихо и благодарно проговорил Дутов, двинулся дальше.
Вместе с военными через степь уходили и гражданские, опасавшиеся прихода большевиков, упаковавшие все самое ценное в баулы и рванувшие вслед за Дутовым. В никуда. Те из них, кто был побогаче, купили себе верблюдов и в походе мерзли под ветром, покачиваясь на верху между горбами, те, кто победнее, шли пешком, с трудом разгребая снег и глухо стеная. Военным было в этом походе трудно, гражданским – еще труднее.
Верблюды лежали на снегу, окружая полукольцом их табор, поглядывая на людей отрешенно и высокомерно, как по команде начиная жевать жвачку – по команде и останавливаясь. В центре табора, на небольшом жестком ковре, свернутом в трубу, у пламени костра сидела тихая, скромная женщина с маленькой головой и волосами, забранными на затылке в пучок. Увидев подходящего к костру атамана, она подняла темный печальный взор, улыбнулась ему.
– Ольга Викторовна! – атаман опустился перед женщиной на одно колено, поцеловал ей руку. – Устали?– Устала, – тихо отозвалась женщина, у нее было очень милое молодое лицо.
– Потерпите еще немного, – попросил Дутов, – скоро полегче станет.
Женщина потупила голову, произнесла со вздохом:
– Я потерплю, – и, словно бы почувствовав что-то, улыбнулась Дутову, – я вообще очень терпеливая, Александр Ильич. Крест свой буду нести до конца… Не дрогну.
Атаман вновь поцеловал ей руку.
– Спасибо, Ольга Викторовна! – Дутов приподнялся, пошарил глазами вокруг. – Кривоносов, не изображай из себя разведчика! Где ты?
Из-за верблюда, лежавшего на снегу, будто сытый кот с подогнутыми под брюхо ногами, поднялся смущенный казак, поправил на голове папаху:
– Здесь я!
– Чего ты там делаешь?
Кривоносов засмущался, запоздало отвел взгляд в сторону:
– Да я это…
– Чего – это?
– Чтоб, значит, не мешать вам…
– Ты нам совсем не мешаешь, – атаман рассмеялся, не выдержав. – Поставь-ка лучше на костер чайник. Мы с Ольгой Викторовной чаю попьем.
Поспешно прижав ладонь к виску, Кривоносов отбежал в сторону, напихал в чайник чистого снега. Ординарец Мишуков распахнул узел, который нес в левой руке – правая лежала на кобуре маузера, – раскинул его на снегу.
В узле оказалось еще довоенное печенье, на котором искрились мелкие рисинки спекшегося сахара, несколько крупных, сизого неаппетитного цвета мармеладин и глиняная банка с надписью «сибирское топленое масло» – популярный оренбургский продукт. Масло это продавалось во многих городах России, поставляли его и за границу… У Кривоносова, когда он увидел эту глиняную черепушку, даже в горле запершило: слишком памятны были эти горшочки по детским годам…
Атаман сжимал в пальцах руку Ольги Викторовны, прикладывался к ней губами и произносил ничего не значащие фразы. Впрочем, если бы он произнес их один раз, слова эти кое-что еще бы значили, но от бесконечных повторений они сделались тусклыми, стерлись, поэтому Ольга Викторовна, слыша их, ничего не отвечала, а лишь кивала головой…
– Потерпите еще немного, голубушка, скоро будет легче…
– Да, да, да…
Дутов откинулся назад, с жалостью оглядел женщину, едва касаясь пальцами, разгладил крохотные морщинки на ее лице, проступившие за время похода, жалость еще больше овладела им, внутри родился странный тихий скрип, словно бы в человеке этом что-то перевернулось, глаза заблестели, и Дутов вновь поспешно ткнулся губами в руку Ольги Викторовны.
Чай в степи, у костра, на привале восхитителен, в такие часы Дутову всегда вспоминался чай его детства, когда отец мотался с полком по бухарским и хивинским пескам, а семья – вместе с ним. Обедать и ужинать приходилось на просторе, в затенях песчаных барханов, на пропахшей конским по́том кошме – это отпугивало змей. Иногда казаки вообще брали с собой в поход веревки, связанные из конских пут, обкладывали ими места стоянок – лучшего способа отогнать от себя гюрзу или кобру нет.
Дутов втянул в себя воздух, ему показалось, что он чувствует, слышит, зримо осязает запах детства – того самого детства, которое он всегда помнит и которое всегда остается с ним. Кривоносов поспешно разлил по кружкам чай.
Темное плотное небо над степью неожиданно раздернулось – что-то там произошло, в разрыве образовалось острое светлое пятно – то ли солнце это было, то ли луна, то ли чье-то око, не понять. По кострам, по снегу, по сидящим людям пробежался проворный луч, Дутов проследил за ним и улыбнулся: светлый луч – знак добрый словно намек, что поход их окончится благополучно.
Поход этот назвали «Голодным». Миловидная женщина с маленькой головой и гладкими, забранными на затылке в строгий пучок волосами стала женой Дутова. О ней мало кто чего ведал кроме того, что она разделила с ним судьбу.
Пафнутьев, маленький, кривоногий, совсем исхудавший, производил впечатление заморыша – казалось, ветер вот-вот собьет его с ног и завалит снегом. Он кренился опасно, упирался лбом в пространство, но на ногах удерживался: кряхтя, делал шаг, другой, хватался за шлею какого-нибудь проходящего мимо верблюда, прижимался и дальше двигался вместе с ним. Еды Пафнутьву доставалось столько, сколько и другим, но ему все время казалось, что её мало, и желудок от безделья совсем ссохся. В Пафнутьеве осталось только одно ощущение – голода, и это ощущение допекало его больше всего.
Иногда длинная колонна дутовцев проходила мимо какого-нибудь заснеженного кыргызского села, верблюды радостно фыркали и норовили свернуть туда, сердились, когда у них на шеях повисали люди, возвращая на старую дорогу – новые тропы было запрещено прокладывать, с кыргызами – никаких контактов. Командиры следили за этим строго. Они боялись, что солдаты, добравшись до селений, займутся грабежами, а это мигом поднимет кыргызов против казаков, кровь зальет степь. Против обоих – и преследующих войско советских частей и против кыргызов Дутову не устоять. Командиры ставили реденькую, с винтовками наперевес, цепь, которая отсекала селение от голодной казачьей колонны, и колонна следовала дальше.
В тот декабрьский, короткий, как прыжок вороны на снегу, день потеплело, откуда-то из глубин степи прибежал влажный ветер, обласкал людей – слишком мягким он показался измученным казакам, на их худых небритых лицах появились невольные улыбки. Ветры в здешней степи бывают совсем другие – жестокие, напористые, в несколько минут они могут превратить человека в груду мерзлых костей, в известняк – камень, который подрядчики привозят в кыргызские села для строительных нужд. Если гранит рассыпается на морозе в пыль, превращаясь в груду песка, то известняк кряхтит, ежится, стонет, будто живой, но пятидесятиградусную студь переносит без особых хлопот и среди кыргызов ценится очень высоко.
Пафнутьев с самого утра ощущал в желудке некое сосущее жжение, пламя это надо было обязательно погасить, иначе, казалось, мучительный огонь уже никогда не потухнет. Когда справа, в сумраке, стали проплывать очертания дувалов – колонна проходила очередное селение, – Пафнутьев, видя, что заслона нет, отцепился от верблюжьей шлеи и поспешно откатился в сторону.
– Ты куда, казак? – прокричал с верхотуры верблюжьих горбов старик купец, устроившийся меж них с баулом в руках.
– До ветра. По малому делу.
– Смотри, не пропади, – предупредил его купец. – Догоняй скорее.
Дутовцы в эту пору шли через селения, которые не поддерживали атамана, продукты там продавали под большим нажимом, из-под винтовки. Когда кыргызов спрашивали, почему они поддерживают красных, те морщились, будто у них болели зубы, и отвечали:
– Старая власть надоела!
Еда в селениях была, но Дутов старался брать там продукты лишь в крайних случаях – с одной стороны боялся, что подсунут что-нибудь отравленное, с другой – казаки рисковали во время торгов сцепиться с кыргызами, а это обязательно привело бы к большой беде. Поэтому атаман предпочитал время от времени пускать под нож коня или верблюда, ходить между кострами и уговаривать:
– Потерпите немного… Скоро все кончится.
Пафнутьев слушал атамана и злился: «Скоро-то скоро, да только не очень-то… Тебе, борову жирному, на лошади ехать, да из рук вестового коржиками кормиться, а нам каково?»…
По едва приметной тропке, проложенной между сугробами, Пафнутьев пробрался к дувалу, заглянул в него.
Во дворе, в углу, лежали два верблюда, смачно пережевывая жвачку, к ним жалось штук пятнадцать овец. Ни верблюды, ни овцы для Пафнутьева интереса не представляли, он подпрыгнул, вполз на стенку дувала животом и оглядел двор внимательнее – вдруг хозяйка вынесла кастрюлю с варевом остужаться или, например, собачью миску с едой – еду у собаки он отобьет. Но ничего этого, да и собаки во дворе не было.
Пафнутьев хотел уже соскользнуть с дувала и перебежать к другому двору, как неожиданно увидел у входа в кибитку небольшой ларь, сверху накрытый обрывком ковра. Он облизнулся – ящик-то продуктовый – и глянул вслед растворяющейся в вечернем сумраке колонне – как она там? Колонна плелась еле-еле. Казак успокоенно вздохнул – время у него еще есть, успеет сожрать то, что в ящике, да набить карманы на дальнейшую дорогу.
На несколько мгновений Пафнутьев замер – надо было еще раз проверить, не следит ли за ним из темного угла злой кыргыз, не затаился ли где с собакой и вообще чист ли двор. Ничего подозрительного не обнаружив, он поспешно перевалился через дувал.
В дощатом ящике действительно оказались продукты – завернутый в старую тряпицу круг свежего творога, отвердевший на морозе круг сыра в холщовом мешке, вяленое, приготовленное в дальнюю дорогу мясо, под ним – большой шмат свежего. Отдельно в бумажном куле лежали пряники. Пряники эти до слез тронули Пафнутьева, такими чужими они показались в этом ящике, совсем не к месту и не ко времени.
Вздохнув, он вцепился обеими руками в круг сыра, сдернул с него тряпицу и впился острыми, как у мыши, зубами во вкусную сливочную плоть. Отхватил для первого раза слишком много – почувствовал, что вот-вот задохнется, зарычал, замотал головой, справляясь с удушьем. Кусок он благополучно проглотил – справился и снова всадил зубы в круг.
Ему бы перемахнуть через дувал поскорее, пуститься вдогонку за своими, но вместо этого Пафнутьев увлекся едой.
Не совладал с собою… Уйти он не успел. Казак даже не услышал, как сзади к нему подобрался кыргыз с перекошенным от ярости широким лицом, засипел зло и в следующее мгновение накинул Пафнутьеву на горло веревку. Тот захрипел, изогнулся надломленно и выпустил из рук добытые продукты. Дернулся раз, другой, пытаясь вырваться из сильных рук, дернулся в третий раз и тихо сник – не заметил, как умер.
Кыргыз подтащил его к дувалу, перекинул через него в снег, утром, в предрассветной темноте, подцепил его петлей за ногу и отволок в степь. Через двое суток от Пафнутьева даже косточек не осталось – съели лисицы и волки. Бедный Пафнутьев разделил судьбу многих дутовцев, оставшихся лежать на страшной дороге: казаки умирали от тифа, голода, холода, усталости, падали и тянули руки вслед уходящей колонне:
– Люди, не бросайте нас!
Но уходящие не слышали упавших – самим бы спастись…Красные продолжали теснить белых, восемнадцатого ноября взяли Барнаул, двадцать седьмого – Семипалатинск. Шансов у Дутова на соединение с колчаковскими силам не осталось ни одного. Красные загоняли белых в Семиречье, как в глухой мешок – даже дырок в нем не было.
В Семиречье сидел неистовый, громкоголосый, похожий на кота, которого раздразнили колючей метлой, атаман Анненков Борис Владимирович. Он, как и большинство начальников гражданской войны, переступивших через одно-два, а то и через все три звания, носил теперь генеральские погоны. Приступы бешенства на него накатывали такие яростные, что, оставаясь наедине с собою, он готов был, кажется, сам себя кусать зубами за задницу. Дутов встречался с Анненковым раньше, знал его, и ничего хорошего от встречи с ним в Семиречье не ожидал. Однако иного выхода не было – атаман мог уйти только в Семиречье.
В последний день ноября красные заняли станицу Каркаралинскую, ставшую к этой поре настоящим городом. Дутовцы покатились дальше, к Сергиополю. Голодным, измученным людям предстояло пройти до Семиречья пятьсот пятьдесят верст.
Во время боев под Каркаралинском, который народ звал просто Каркаралой – слишком уж неудобное название имел этот городок – к дутовцам пристал партизанский отряд, человек семьдесят, все на лошадях. Отряд прорвался сквозь тройной заслон красных, в отчаянной рубке потеряв полтора десятка бойцов и очутился в лагере Дутова.
Атаман пожелал увидеть войскового старшину – командира отряда. Тот явился – подтянутый, высокий, тщательно выбритый, грудь перечеркнута ремнями… Дутов вгляделся в него.
– Что-то лицо ваше мне очень знакомо, – сказал он.
Войсковой старшина стянул с головы папаху. Пышные волосы рассыпались по обе стороны головы, были они белы, как снег – ни одного темного волоска.
– Не узнаете, Александр Ильич? – улыбаясь во весь рот, спросил войсковой старшина.
– Дерябин? – неуверенно произнес атаман.
Войсковой старшина улыбнулся еще шире. Серые глаза его потеплели.
– Он самый.
Атаман обнял войскового старшину.
– Господи, недаром говорят, – что гора с горой… – атаман почувствовал, как дыхание у него пресеклось, он умолк, закашлялся. Откашлявшись, выкрикнул зычно: – Мишуков!
Есаул словно из-под земли появился в ту же секунду.
– Я понимаю, Мишуков, это свинство – просить что-либо у тебя в таких условиях, но вдруг найдется по стопке водки для меня и для моего старого однополчанина?
– Найдется, – коротко выдохнул Машуков и исчез.
– Господи, мы не виделись целую жизнь, – озабоченно проговорил Дутов, усаживая своего бывшего заместителя на складной походный стул, – целую жизнь… Сколько ж мы не виделись?
– С марта семнадцатого года. С той самой поры, когда вы с фронта отправились в Петроград. Прощальный ужин в землянке помните?
– Помню, – наклонил голову Дутов, хотя, если честно, ничего не помнил.
Выпить водки не удалось. Со стороны Каркаралы принеслось несколько снарядов. Под один из снарядов попал верблюд, взрыв располовинил животное, в одну сторону понеслись ноги с недоуменно шамкающей, еще живой головой, в другую – задница с окровавленным тощим хвостом.
Дутов хладнокровно проследил за полетом половинок верблюда и неожиданно весело воскликнул:
– Вот и не надо будет сегодня резать двугорбого!
Смерти Дутов не боялся, он вообще не верил, что она способна опрокинуть его – относился к ней легко.В обозе жизнь проще, чем в передовом отряде. Здесь и парой сухарей к чаю можно разжиться, и при случае на санях подъехать, и ослабевшего офицерика подвезти – бывшие гимназисты, как правило, не выдерживали тягот перехода – спасти живую душу, доброе дело сделать.
Однако обоз был для Ивана Гордеенко чужим, несмотря на непригодность казака к строевой службе. Для обоза и характер надо было иметь обозный, и душу обозную, и амуницию, – у Ивана же все это было другим. Люди в обозах ездили с длинноствольными винтовками-трехлинейками системы капитана Мосина, а Гордеенко – с коротеньким удобным карабином. Голос у карабина был громче, чем у винтовки: когда Иван стрелял из него, то будто из пушки садил, даже верблюды приседали на задние ноги.
В тот вечер бывший пулеметчик достал картошки – четыре крупных, гладких, похожих на диковинные фрукты картофелины, отмытые до сливочного блеска, нарядных, как рождественские игрушки, – выменял в задах обоза на новенький суконный башлык, и вечером решил испечь их в костре. Сделать из них настоящую «печенку», с хрустящей корочкой, как в детстве. Он разделил добычу на две части: пару штук, посыпав крупной каменной солью, – своей, оренбургской, – решил съесть сразу, другие две – утром. Еще он разжился луковицей – крупной, твердой, в солнечной шелестящей одежке – настоящая была луковица, не гниль какая-нибудь. Что-то у Гордеенко зубы начали шататься. Луком он быстро поправит свои десны, и, даст Бог, переместится из обоза, из последних рядов в передние, в те, что с противником каждый день схлестываются.
Очередную ночевку, как и предыдущие, предстояло совершить в морозной степи. Хорошо, хоть ветер утихомирился, днем он до костей доставал.
– Ох-хо-хо! – Гордеенко похлопал себя руками по бокам и стал ладить костер.
Дровишки и растопку возили с собою, в степи этого товара не было, а у Ивана диковинная штука имелась: два ведра сопропеля, или иначе – торфа. Легкого, слоистого, спрессованного в плоские удобные брикеты, быстро разгорающиеся. Чтобы наладить костер, достаточно одного серника – эти фанерные спички с головками, обмакнутыми в густую серу, возчики важно, с вкусным хрустом отламывали от «расчески» и шваркали головками по шершавой фанерке, рождая вонючее желтое пламя.
Гордеенко расчистил снег почти до земли, сделал углубление, на дно его сунул несколько клочков бумаги – порванную листовку красных. Потом положил пару веток карагача, сверху – тощую, как кизяк, брикетину сопропеля. Приготовил еще пару веток карагача, которые надо будет подложить в огонь чуть позже, когда наступит пора печь картошку. Карагач – дерево жаркое, горит долго, угли от него – самые лучшие для разного печева – и хлеб пышный можно приготовить, и картошку, и мясо…
Прошло не менее получаса, прежде чем Иван пристроил картошку на обгорелых, тускло посвечивающих краснотой остатках карагача. Через несколько минут картофелины перевернул – каждую на свежий бочок, чтобы запекалась равномерно, будто в мешочке.
Вдруг Гордеенко почувствовал, что ему не хватает воздуха – будто бы кто-то перекрыл ему дыхание, стиснул грубой рукой глотку, – воздуху ни туда ни сюда. Иван захрипел, закрутил головой, в глазах потемнело… В следующее мгновение отпустило, воздух в грудь проник, возникшая было боль свернулась в клубок и через несколько секунд исчезла. Гордеенко ошалело распрямился, уставился на костерок, закусил зубами губы, боясь, что неведомая напасть навалится на него снова, но приступ не повторился.
– Что это было? – спросил Гордеенко самого себя и не смог ответить.
Он засипел зажато и в ту же пору зацепился ноздрями за горелый дух картошки. Казак запоздало испугался и птицей повис над костерком. Ухватил огрубелыми, не ощущающими жара пальцами одну картофелину, перевернул ее, потом другую. Синие, ничего не чувствующие от холода губы его зашевелились:
– Прости мя, Богородица, прости мя, Всевыший…
Он не успел испечь картошку. Вновь кто-то невидимый сдавил ему горло, стиснул что было силы, воздух перед глазами прочертила светлая молния, всадилась в снег, разбросала его, задела и костерок. Гордеенко накренился и ткнулся головой, обнажавшимся лбом прямо в угли, в горячую картошку, сплющил ее. В следующий миг он попробовал справиться с немощью своей, отклеиться от костерка, но сил у него не было уже совсем, он въехал волосами в карагачевые угли, дернулся один раз, второй и затих.
– Эй, земеля! – окликнул Ивана старый возница, старший в их десятке, обстоятельно расположившийся у соседнего костерка. Ответа не услышал, привстал на коленях: – Земеля!
Земеля не отзывался, он был мертв. Обозник все понял, сухое бородатое лицо его передернула судорога, на щеках заполыхали яркие туберкулезные пятна. Он горестно махнул рукой и приник к своему костерку, на котором стояла закопченная оловянная кружка с жиденьким, вкусно булькающим варевом. Ему надлежало похоронить умершего казака, но силы иссякли совершенно, да и не это было сейчас главным для старого возницы, главное – сварить в кружке похлебку из сухих хлебных крошек и поесть.
Труп через некоторое время осмотрел доктор, обслуживавший атамана, махнул рукой равнодушно:
– Тиф! Правда, форма редкая…
Но Ивану Гордеенко от такой редкости легче не стало. Похоронил обозник Ивана в снегу – не долбить же мерзлую, твердую как камень землю, когда вовсе нет сил, да и чужим был для него этот человек. Так что могилы у Гордеенко, считай, и не имелось.Потапов хранил эту офицерскую тетрадь в твердой обложке еще с Западного фронта и иногда делал на страницах записи. «Более тяжелого перехода, чем от Каркаралы до Сергиополя, у нашей армии не было, – написал он, с силой вдавливая твердый стержень карандаша в бумагу, прорывая ее и недовольно морщась. – Тысячи трупов, оставленных на обочинах нашей дороги, – вот главное, чего мы достигли. Дошла лишь половина армии».
Атаман Анненков – человек жестокий, смелый до безрассудства, признававший только один язык на белом свете – язык оружия – Семиречьем управлял безраздельно. Таких «штрюцких штукенций», как переговоры, дипломатия, необходимость находить приемлемое для всех сторон решение, он просто не признавал. Всякое миндальничание и «беседы по душам» он откровенно презирал, считал это «курощупством», которое никогда ни к чему хорошему не приводит. Большевиков атаман ненавидел яростно, эта ненависть была у него патологической – он рубил их лично, мастерски разваливая шашкой от макушки до копчика, крякал при этом словно мясник и сплевывал сквозь зубы.
Но больше красных он ненавидел Дутова и дутовцев. Ему казалось, что Дутов движется в Семиречье, чтобы свергнуть его и самому забраться в освободившееся кресло.
– Дутов – обычный хитрозадый лис, – говорил Анненков своим приближенным, недовольно двигая челюстью из стороны в сторону, – признак того, что семиреченский атаман здорово раздражен, – прется сюда, чтобы лично с ложкой и ножом усесться у раздачи в самом удобном месте. Но этот номер, друзья, у него не пройдет.
– Не пройдет, – дружным хором восклицали собутыльники семиреченского атамана.
– Вот за это мы и выпьем, – произносил в заключение Анненков, и все послушно наполняли глиняные кружки сладким местным вином.
Ночью, когда в город вошла первая колонна дутовцев, на улицах вспыхнула стрельба. Сразу в нескольких местах. Давно такого не было в анненковском стане. Если уж тут и стреляли, то по кринкам, либо в воздух, отмечая чьи-нибудь именины.
Анненков вскочил с постели, разъяренно распушил усы:
– Кто посмел? Разобраться!
Разобрались. Анненковские люди стреляли в казаков Дутова. Дутов подумал с тоскою: «Началось».
Глухая неприязнь двух атаманов вылилась в приказ Дутова, который тот написал лично, – он вообще готов был вести всю войсковую канцелярию сам, получая от этого большое удовольствие. Этот приказ стал для Дутова своеобразной капитуляцией: армию свою он преобразовывал в отряд, начальником отряда назначал генерала Бакича [60] , который полностью подчинялся Анненкову, – на себя же возлагал обязанности гражданского губернатора Семиреченского края со столицей в Лепсинске.
Подписав приказ, Дутов вздохнул тяжело. Губы его зашевелились. Похоже, он что-то говорил, но люди, находившиеся в кабинете, не слышали его, переглядывались тревожно – им неожиданно сделалось страшно. По убогой обстановке, по стенам кабинета ползали вялые, рано проснувшиеся мухи.
Первым из кабинета выскочил Бакич – ему было неприятно видеть слабость атамана, – в приемной отер платком лицо и произнес тихим свистящим шепотом:
– Это конец!
До Нового, тысяча девятьсот двадцатого года, оставалась ровно неделя…
Едва прошла пора глухих метелей, на севере вновь загрохотали пушки – красные бронепоезда расчищали себе дорогу громкими залпами, и Дутов понял: пересидеть смутное время в захолустном Лепсинске не удастся.
Он приехал в дом, где поселился, расстроенный, отпустил автомобиль, несколько минут постоял под высоким ореховым деревом, втягивая в себя ноздрями влажный весенний воздух, вглядываясь в тусклые звезды. Было начало марта. Вспомнился Оренбург. Там сейчас еще мели кудрявые вихри, сшибали с труб дымы, трепали их, как умелые бабьи руки треплют кудель, и народ старался выходить на улицу как можно реже. Дутов любил синие оренбургские метели, они ему снились на фронте, на западе, вызывали теплые слезы, печаль.
Он невольно подумал о том, как слаб все-таки человек, если может размякнуть от таких простых вещей… Ну что такое Родина? Дом, где ты впервые увидел свет, простор, пахнущий степной травой, ночные звезды над головой… Мало, очень мало надо человеку для того, чтобы стать счастливым: услышать нежную песню матери, звучащую, как в детстве, ободряюще, звонко, любяще. Песню, под которую мы все становимся людьми.
Дутов невольно вздохнул, с отвращением глянул на рукав своего штатского пальто: занимая пост сугубо гражданский, он был вынужден ходить в партикулярном платье, к которому всегда относился с предубеждением. Время надевать военный мундир! Раз красные жмут так, что даже дышать скоро будет невмоготу, пора вспомнить, что под пальто, на плечах у него – генеральские погоны.
Ветер, примчавшийся из-за низких, крайних домов Лепсинска, похожих на саманные клетушки, принес аппетитный запах свежего, хорошо просушенного сена, прошлогодних дынь и еще чего-то, неясного, сложного. Дутов попробовал определить, что же содержит в себе этот неясный, тревожащий душу запах: дух домашней еды, кумыса, вяленого мяса, поделок шорника?
Не сразу он понял, но понял очень отчетливо – это дух дороги. Надо снова собираться в путь – пора покидать родную землю. Только что вроде бы остановились, обжились – и снова надо трогаться… Когда это кончится?
Не было ответа Дутову. Не было ответа никому из тех, кто находился рядом с ним… Он миновал казака, стоявшего около крыльца на часах, и вошел в дом, выкрикнув зычно, стараясь громкостью голоса, резкостью его подавить квелость, засевшую внутри:
– Оля!
Когда жена появилась в прихожей, атаман произнес печально, буквально чеканя каждую букву, – словно бы приказ отстучал на «ундервуде»:
– Оля, пакуй вещи! Мы уезжаем.
– Куда? – озадаченно спросила жена.
– Отступаем. Все дальше и дальше… – Дутов не выдержал, махнул рукой – жест был безнадежным: – Туда, где нет русских.
Ольга Викторовна прижала ладони к щекам и покорным печальным эхом повторила вслед за мужем:
– Туда, где нет русских… – лицо у нее мелко задрожало, глаза наполнились слезами, она глянула в окно. – Боже! Саша, я чувствую, мы никогда с тобою больше не увидим России.
Дутов насупился, поерзал губами. Перед ним приоткрылась страшная истина, о которой он старался не думать, – а ведь они действительно никогда больше не увидят Россию. Нижняя половина лица у него затряслась, он поспешно шагнул к жене и обнял ее.
– Олечка… Оля. Успокойся, пожалуйста, – с нежностью, на которую только был способен, ощущая, что озноб и боль пробивают его насквозь, Дутов погладил жену ладонью по спине, по худым, острым, будто два крылышка, выступившим лопаткам. Прихватил завиток волос на шее, ощутил острую жалость, возникшую в нем. – Не надо, Оля, – попросил он, – ну, пожалуйста…
Дутову стало муторно. Неужели все, что составляло его жизнь, было связано с его заботами, его болью, надеждами и песнями, останется в России, здесь? И никогда больше не вернется?
Нет, вернется! Для этого гражданскому губернатору Семиреченского края надо вновь надеть военную форму и взяться за оружие. Из Бориса Владимировича Анненкова, несмотря на постоянное бряцанье шашкой, грозный вид и зло сжатые губы, воин плохой.
– Мы вернемся сюда, Оля, – судорожно глотая слова, прошептал Дутов, – обязательно вернемся… Верь мне, так оно и будет.В марте в горах еще нет прочных троп, надежных камней, за которые можно ухватиться или поставить на них ногу – все покрыто скользким льдом. На склонах постоянно набухают тяжелые лавины, готовые сорваться вниз не только от выстрела, – лавины в марте срываются даже от простого хлопка ладоней – дышат опасно, шевелятся.
Дорога в Китай была закрыта, но дутовцы пошли по этой дороге: не было у них ни иного выбора, ни пути иного.
Потапов в последнее время сдружился с Дерябиным. Хотя и в званиях своих, и в возрасте они были разные, но объединяло их одно: оба они были уроженцами Тульской губернии – один родился по одну сторону губернского города, второй – по другую. В Тулу их родители ездили на ярмарки за товаром, отцы в Туле выбирали ружья для охоты, в одном и том же магазине, хотя друг с другом знакомы не были.
Когда отступающая колонна дутовцев подходила к горам, по срезу которых пролегала граница, Дерябин неожиданно остановил коня, лицо у него странно задергалось, перекосилось, из груди вымахнул глубокий, едва слышный всхлип.
– Куда же я без России? – пробормотал он смято. – Кому я в Китае нужен? – казак исподлобья глянул на обледенелый, схожий с камнем снег, перевел взгляд на безмятежные, колюче посверкивавшие на солнце горы. – Кому?
Отряд, шедший с ним, остановился без всякой команды. Бойцы окружили командира, – ожидали, что скажет. Мимо тянулась нескончаемым потоком усталая, ко всему безразличная колонна отступающих. Иной боец вскидывал порою голову, оглядывая идущих рядом, и про себя недоумевал: «Почему такая силища отступает?».
Наконец Дерябин выпрямился в седле.
– Друзья мои, – произнес он тихо, – мы самоотверженно, честно боролись… Не наша вина в том, что мы проиграли эту борьбу. Но борьба борьбой, а Россия Россией, – в горле у Дерябина что-то забулькало, несколько мгновений войсковой старшина не мог справиться с собой, крутил головой беспомощно, потом справился, втянул сквозь зубы воздух и продолжил: – Россия у нас одна. Покинуть ее я не могу. – он замолчал и вновь обвел глазами людей. – Кто хочет остаться со мною – оставайтесь, будем вместе бороться дальше, кто хочет идти в Китай – идите!
С Дерябиным остался весь отряд – ни один человек не ушел от своего командира. Остался и Потапов.
– Куда я от земляка, – пробормотал он озадаченно, приподнялся в стременах, провожая взглядом колонну. Где-то там находились Еремеев, Удалов, калмык Африкан – люди, с которыми он успел побрататься – не разглядеть. – Ох, неладно как получилось, очень неладно – попрощаться с мужиками не успел.
Потапов сморщился, стряхнул что-то с глаз и отвернулся в сторону.Вечером, когда отряд Дутова втянулся в ущелье и по обледенелому, заснеженному руслу его начал карабкаться вверх, атаман неожиданно охнул и, переломившись в пояснице, ткнулся лбом в шею коня. К Дутову кинулся ординарец Мишуков:
– Александр Ильич, что случилось?
Атаман не ответил – он находился без сознания.
– Помогите кто-нибудь! – закричал Мишуков тонким обеспокоенным голосом. – Помогите снять Александра Ильича с коня!
Повозок в колонне отступавших не было – все повозки остались у гряды гор.
Привести в сознание Дутова не удалось – он хрипел, задыхался, глаза его закатывались, на вопросы не отвечал. Сколько врач ни пробовал заглянуть в глаза, ничего не получалось: были видны только белки, врач скорбно вздыхал и в очередной раз брал синими замерзшими пальцами атамана за запястье, щупая пульс.
– Ну что с Александром Ильичом? – каменной глыбой нависал над доктором Мишуков.
Тот скорбно вздыхал и, не отвечая ординарцу, поджимал губы.
– Что с атаманом? – подступал к нему Мишуков, зло вращал глазами, будто отпетый разбойник. – Ну!
Наконец врач вынес вердикт:
– Тиф!
Когда к мужу попробовала пробиться Ольга Викторовна, доктор неожиданно выказал профессиональную твердость и остановил ее дрожащей синюшной рукой:
– Стоп, сударыня! Это опасно!
Далее атамана везли, как куль, привязывая веревками к седлу; в трудных местах, где лошади срывались с обледенелых тропинок и с тоскливым долгим ржанием уносились вниз, окутанные алмазно поблескивающей пылью, Дутова снимали с седла и несли на руках.
Солнце вскоре исчезло, небо плотно затянуло ватой, стужа начала пробивать людей насквозь. Лица казаков сделались белыми, страшными, губы вспухли. Одному бедняге ножом отсекли отмороженные черные пальцы – иначе через сутки пришлось бы отсечь всю руку. Случалось, люди срывались в пропасть, кричали оттуда, еще живые, просили помочь, но доставать их даже не пытались – бесполезное дело.Кривоносов шел рядом с Ольгой Викторовной, страховал ее, иногда останавливался и печальными глазами смотрел назад, на хвост длинной усталой колонны, на мерзлые угловатые скалы, щурился жалобно, моргал словно в глаза ему что-то попало и, круто развернувшись, догонял Ольгу Викторовну.
– Скажите, Ольга Викторовна, – спрашивал он молящим тихим голосом, – мы в России еще находимся или уже в Китае?
Ольга Викторовна вздрагивала, будто от удара, осматривалась беспомощно:
– Не знаю, Семен.
– По-моему, мы еще по России топаем. Но скоро будет Китай.
– Не знаю, Семен, – привычно отвечала Ольга Викторовна. Она все бы отдала, чтобы остаться, но выбора у нее не было.
– Россия это, Россия, – успокоенно бормотал Кривоносов, словно бы хотел утвердиться в мысли, что Россию ему чудным образом не удастся покинуть – раскрывал облезшие, сочащиеся кровью губы в улыбке и умолкал.
Китай начинался за лютым, находящимся на огромной шестикилометровой высоте перевалом Кара-Сарык. Прежде чем оказаться в Поднебесной, надо было одолеть несколько опасных отвесных стен. Перед каждой из них у людей сами по себе закрывались веки и невольно кружились головы. Но глаза страшились, а руки делали. Позади оставались морозные пространства, усеянные трупами. Там оставалась Россия, впереди их ждала неизвестность. Лица людей были черны.
Дутов по-прежнему находился без памяти. Его перевязывали веревками, как куклу, делали ложе из ковра, снова перевязывали и спускали со стенок вниз, прямо в подставленные руки добровольцев. Иногда атаман, пребывая в беспамятстве, выгибался дугой, хрипел, закусывал себе язык, и тогда врач деревянной ложечкой осторожно освобождал язык, давал возможность немного дохнуть воздуха.
Самым страшным перевалом оказался сам Кара-Сарык, он словно бы навис и над Китаем – с одной стороны и над Россией – с другой. Поглядывал и туда и сюда страшными ледяными зрачками, плевался снегом, осколками камней и смерзшимися кусками льда, сваливал вниз на людей многотонные лавины. Если удавалось кого-то накрыть, хохотал гулко, злобно, крутя веретеном мелкую твердую порошу, если затягивал петлю на чьей-нибудь шее, хохотал радостно. Ветры прятались здесь в каждой расщелине. Страшный это был перевал. Дутов будто почувствовал в своем беспамятстве приближение опасности, неожиданно затих. Его тело сделалось меньше, ровно он усох, хрип, раздававшийся из-под края ковра, стал неприметным, а потом и вовсе исчез.
На перевале, на нижнюю страховку были отправлены два урядника – калмык и Удалов, недавно нацепивший на погоны лычки. Все спускались с округлого, похожего на большую ковригу многослойного плато, пышущего льдом, выбирали веревки и показывали пальцами на задымленную глубину пространства. Людям чудилось, что они видят в далекой дали, в тумане, что-то зеленое, некий расцветающий по весне оазис, растягивали губы в улыбке – неужели скоро всем мучениям конец? В следующее мгновение на лица вновь наползало неверящее выражение…
Когда спускали атамана, неожиданно лопнула одна из веревок – угодила на острое, опасное обколотое ребро и распустилась отдельными витыми кудряшками. Калмык, приготовившийся вместе с Удаловым принять Дутова в вытянутые руки, замер: сейчас Александр Ильич сорвется… Хорошо, кроме одной веревки ковер был перехвачен второй, страховочной, – она натянулась и также скользнула по каменному срезу, как по лезвию ножа. Африкан напрягся, закричал так, что над его головой задрожал серый воздух:
– Сто-о-ой!
Казаки, находившиеся наверху, под самыми облаками, замерли. Ковер, в который был закутан атаман, качнулся раз, другой и остановился. Калмык стоял с вытянутыми руками, ждал. Удалов вдруг демонстративно сунул руки в карманы и отвернулся в сторону.
– А по мне – плевать, – произнес он едва слышно, – по мне хоть хлопнулся бы он на камни. Похоронили бы его – так героями не мучались, вернулись бы в Россию.
– Тише дур-рак, – не разжимая рта, произнес калмык, – иначе контрразведка отведет тебя за ближайший пупырь и шлепнет.
– Тьфу! – Удалов с усмешкой повертел круглой, в неряшливых седых прядях головой. – Так и помрем, боясь всего и вся.
– Ты видел, около Ольги Викторовны, да около нашего Семена Кривоносова лысый попик с жидкой бородкой увивается?
– Видел. Взгляд у него тяжелый.
– Говорят, этот попик и есть наш новый начальник контрразведки.
– Фьють! – удивленно присвистнул Удалов. – Как бы наш Семен не вляпался в какой-нибудь навоз.
– Я тоже об этом думаю. Но – бог не выдаст, свинья не съест. Будем надеяться, что Сенька окажется хитрее этого попика.
Ковер с беспамятным атаманом тихонько, по сантиметру благополучно двинулся вниз, – поднимать его, чтобы заменить лопнувшую веревку, не стали, – а вдруг треснет и другая, и тогда спеленутый атаман сверзнется вниз, на камни.
– С каким бы удовольствием я плюнул бы на все и вернулся в Оренбург, – неожиданно проговорил Удалов вновь, приложил пальцы к ободранным, сочившимся сукровицей губам, – или в Семиречье.
– Тс-с-с! – калмык предупреждающе вскинул голову.
Но Удалов его не слышал.
– Семиреченская земля – такая богатая, что и белых бы прокормила, и красных… Чего нам делить и хлестать друг друга до смерти? А, Африкан? Почему мы этим занимаемся, а?
– Тс-с-с!
– Не затыкай мне рот, Африкан!
– А я и не затыкаю, – с сожалением посмотрел калмык на напарника.
Он и сам с удовольствием остался бы в Семиреченском крае, хлебном и рыбном, расположенном между великими кыргызскими озерами Балхаш, Сасыколь и Алаколь и грозными тянь-шаньскими и джунгарскими хребтами. По благословенной территории Семиречья протекает семь рек, потому край так и зовется, – это Или, Саратал, Биен, Аксу, Лепсы, Баскан, Сарканд.
На всех этих реках калмык бывал.
По лицу Бембеева пробежала судорога, он отвел глаза – не хотелось никого видеть, ни Удалова, ни Дутова, ни попика, который, словно что-то почувствовав, перевесился через ледяной карниз и теперь пристально вглядывался в калмыка. Была бы воля Африкана, он застрелил бы этого человека. Но нельзя. Сейчас положение такое, что не палить друг в дружку надо, а аккуратно поддерживать под локотки, потакать во всем, и держаться вместе. Только вместе. Если разойдутся и начнут действовать врозь – это будет конец. Для всех конец – для правых и виноватых, для контрразведчиков и для этих самых… как их? – чекистов, для казаков, полжизни проведших на фронте, и тех обозников, которые, кроме пука из кобыльей задницы, ничего толкового за все годы военной жизни и не нюхали, – всем каюк.
Ах, как напрягся священник! Интересно, почему он не носит крест? Может быть, он и не священник вовсе?…
Скрестились два взгляда, священника и калмыка, только искры во все стороны полетели. Вспыхнуло пламя и погасло. Никто не увидел его – только Африкан да попик, хотя ни один из них до конца и не понял, что происходит. А происходило нечто печальное – все они теряли родину. Навсегда.
Часть третьяКитайский Суйдун нельзя было назвать ни городом, ни селением, ни расхристанной косоглазой деревенькой – это была жалкая крепостишка, откуда местные власти пытались управлять людьми, живущими в горах. Когда-то Суйдун был серьезной крепостью, имел хорошее вооружение, прикрываясь его мощными каменными стенами, можно было месяцами отражать любое нападение, имел он и подземные колодцы, тюрьмы, кладовые с едой, пороховые погреба – словом, все что положено солидной цитадели. Но потом она измельчала, потеряла свое былое значение, превратилась в обычное пугало – от прежней славы остался лишь мрачный облик, да загаженные красноклювыми памирскими галками зубцы крепостных стен. Можно было бы, конечно, и эти зубцы снести к чертовой матери, но стены являлись частью здешних скал, коренной породой, чтобы смахнуть их, потребовался бы порох со всего Китая.
Суйдун был Богом забытым местом. Вот чего Дутов боялся в своей жизни – так это оказаться в забвении.
Перед уходом в Китай, – еще до болезни, – Александр Ильич отправил в штаб фронта донесение, где, в частности, отметил: «Я вывел в Сергиополь 14 000 человек [61] , более 150 пулеметов и 15 орудий, все госпитали Красного Креста и Согора [62] , все милиции и прочие вспомогательные части. Запасы снарядов и патронов имею. Все казначейства и прочие деньги при мне. Необходима теперь помощь нам – через китайское и японское правительства, которые имеют консулов в Чугучане – деньгами, зерном, обмундированием, короче, всем. Мы умираем с именем России на устах и за веру Православную и честь русскую. Верим только в одно – нашу окончательную победу». Закончил Дутов это послание словами, которые застряли у него в мозгу, были выцарапаны где-то в душе, по живому, кровью: «Донося обо всем, уверен, что мы здесь не будем брошены на произвол судьбы». Одного он боялся и от одного заклинал – и себя самого, и своих близких – не быть забытым и брошенным.
Пакет атаман отправил со штаб-офицером для особых поручений, войсковым старшиной Новокрещеным. Тот зашил его в шинель, нахлобучил на глаза мерлушковую солдатскую папаху и скрылся в метели. Дошел он до штаба фронта или нет, Дутову не было ведомо [63] .
Когда атаман пришел в сознание после тяжелого тифа, то поразился звонкой давящей тишине, которой было наполнено пространство. Она воспринималась им вообще много хуже, чем рвущий барабанные перепонки грохот снарядов и резкий, заставляющий зудеть зубы свист пуль. Тишина воспринималась им, как беда. Это всегда – чья-нибудь сломленная жизнь, горе или поражение. Атаман вытянул голову на подушке, прислушался и позвал жену:
– Оля!
– Очнулся? – возникнув неслышно из затемненного пространства, прошептала обрадованно Ольга.
– Да. Я что, долго болел?
– Долго.
– Оля, почему так тихо?
– Мы в Китае, Саша. Мы покинули Россию. По-ки-ну-ли. Нас вынудили.
– Мы покинули Россию, – повторил вслед за женой Дутов, также шепотом, едва слышно.
Атаман повозил головой по подушке и вновь потерял сознание.
Болезнь отступала от Дутова медленно, неохотно. Он и раньше болел тифом, но чтобы так тяжело, так долго…
Как-то вечером Дутов хотел позвать священника, чтобы исповедоваться – слишком плохо ему было, – но потом махнул рукой:
– Не надо священника!
Ольга Викторовна, сидевшая у его изголовья, не поняла:
– Чего?
Дутов не ответил, но минут через пять с удивлением увидел входящего отца Иону, пахнущего ладаном, с расчесанной редкой бородкой, с ясными, наполненными кротким светом глазами.
– Я, Александр Ильич, молебен за вас отслужил, – просто, совершенно по-мирски сообщил он, – чтобы вы скорее поправились.
– Спасибо, – тихо и печально произнес Дутов.
– А вот печалиться не надо – это грех.
– Знаю, что грех, но не печалиться не могу. Мы ушли из России. Простит ли нам это Господь?
– Господь милостив, Александр Ильич, он все простит. И потерю России тоже. Главное, чтобы мы в Россию вернулись.
– Вернемся, – едва слышно, но очень твердо проговорил Дутов. – Обязательно вернемся. Дайте только на ноги встать.
Иона оглянулся, словно заметил в комнате еще кого-то, приподнялся, глянул в небольшое тусклое окно – что там на улице, не сидит ли какой гад на завалинке, прислонив к стенке дома большое морщинистое ухо, не подслушивает ли их? Нет, никакого гада не было, да и часовые несли свою службу с усердием, не зевали. Отец Иона удовлетворенно опустился на табурет.
– Никого, – шепотом сообщил он Дутову.
Атаман равнодушно посмотрел на него, отвел глаза в сторону, как будто пытался вспомнить, кто такой отец Иона? Тот словно почувствовал, о чем думает атаман, и поспешно приложил руки к груди. Поклонился.
– Имею сан протоиерея, – сообщил он, – поддерживаю связи с Россией.
– Даже отсюда, из Китая? – неверяще спросил Дутов.
– Да, ваше высокопревосходительство. С Верным, с Пишпеком, с Джаркентом, с Сергиополем. Большевики собираются, кстати, Сергиополь переименовать.
– И как хотят назвать?
– Аягузом.
– Ни уму ни сердцу. Сергиополь – святое имя, и место обозначает святое. – Дутов не выдержал, кряхтя перевернулся на левый бок и сплюнул в платок. – Любят большевики потакать туземцам, думают, что те в лихую пору поддержат их, а те продадут всего за пару плевков, как продали нас. – Дутов глянул в платок и застонал.
– Вам плохо, Александр Ильич?
– Очень, – не стал скрывать Дутов, – никогда так тяжело не было. Тиф оставляет последствия, их надо перемочь.
– После сегодняшнего молебна вам станет лучше.
– Дай-то Бог. А то, что в России, отец…
– Иона.
– … отец Иона, вы оставили своих людей, это хорошо.
Это очень хорошо. Нам предстоит долгая и тяжелая борьба с большевиками.
Дутов закрыл глаза, давая понять, что визит отца Ионы закончен. Отец Иона вздохнул, привычно поклонился и вышел из комнаты, остро пахнувшей лекарствами.Китайцы с большим опасением отнеслись к просьбе дутовцев оставить при себе оружие. Умевшие воевать казаки, взяв в руки винтовки, могли за пару недель запросто завоевать половину Поднебесной. Сами китайцы солдатами были плохими, их больше интересовали рисовые лепешки со сладкой подливкой да толстые бабы, чем ратные дела. Генералы это хорошо знали, на доблесть подчиненных не рассчитывали и поэтому приказали частям Дутова сдать оружие, личному составу оставить только плетки. Хотя плетка в руках умелого наездника – тоже сильное средство: случалось казаки, громко хлопая плетками, без единого выстрела брали целые батареи.
– Как так – сдать оружие? – заволновались дутовцы. – Разве мы для этого сюда шли? – возмущению их не было предела.
Запахло скандалом. Китайцы поспешили подтянуть к Суйдуну все имеющиеся поблизости воинские соединения. Но тут подал голос атаман Дутов – и сделал это как нельзя вовремя:
– Братцы, скандалы нам не нужны. Смиритесь!
– А чем будем драться, когда вновь схлестнемся с красными? А? Нельзя сдавать оружие, Александр Ильич!
– Сдайте, казаки, – голос Дутова, несмотря на слабость, был тверд.
– Александр Ильич!
– Сдайте… С китайцами, когда нужно будет, мы договоримся – они ведь тоже большевиков не любят. Когда решим возвратиться в Семиречье, они нам оружие отдадут.
– Ну, ежели так… – казаки кряхтели недовольно, удрученно почесывали затылки и угрюмо поглядывали куда-то вдаль, за заснеженные гордые хребты, – хотя и боязно чего-то…
– Верьте мне, казаки, – Дутов старался, чтобы слабый голос его продолжал звучать твердо. – Разве я когда-нибудь подводил вас?
В конце концов оружие они сдали.
…Дутов, хрипя, выбрался из дома на улицу, огляделся, скользнул взглядом по каменным старым стенам крепости, с тоскою посмотрел на север, на розовую заснеженную полоску гор, плотно прикрывавшую далекую Россию, и чуть не заплакал. Лицо у него задергалось, атаман отвернулся от людей. Он еле-еле сдержал себя и шаркающей тяжелой походкой ушел в дом.
– Саша, на улицу больше не выходи, – заметила ему Ольга Викторовна, – на улицу тебе рано.
Вечером к нему наведался отец Иона, в пузырьке со стеклянной хорошо притертой пробкой принес коричневое китайское снадобье.
– Что это?
– Приготовил тибетский лама. Он в Суйдуне находится, третьего дня прибыл. Великий специалист по части восточного знахарства. Любого человека, даже самого безнадежного, поднимает на ноги. Так что воспользуйтесь, Александр Ильич, – в голосе отца Ионы послышались искренние просящие нотки.
Атаман взял пузырек, хотя не верил, что лекарство ламы – такое чудодейственное, как его расписывает отец Иона. Но оно подействовало – Дутов начал выздоравливать не по дням, а по часам.Отец Иона дело свое знал. Вскоре в Семиречье заполыхал Нарынский уезд, нескольким комиссарам там взрезали животы, а кишки на манер гирлянды развесили по веткам деревьев. Волнения были жестоко подавлены, в результате на ветках деревьев уже висели не комиссарские кишки, а требуха зачинщиков.
Регулярно посылал отец Иона своих гонцов в Нарынский уезд, суетился, писал прокламации и отправлял их за хребет – в общем, жизнь вел самую активную. Каждый вечер он теперь появлялся у атамана – «для конфиденса», как говорил, – докладывал, где чего в Советии подорвал, где большевика вздернули на столбе вверх ногами, и так далее. Атаман все более благосклонно относился к священнику, иногда даже удивлялся: а чего раньше он не был с ним знаком? Очень полезный человек.
Обстановка, сложившаяся в Семиречье, способствовала деятельности отца Ионы – очень многие не приняли новую власть, винили ее в разрухе, в голоде, вообще во всех смертных грехах, – вот Семиречье и ярилось, и полыхало, каждую ночь раздавались выстрелы и погибали люди. Оружия у народа скопилось столько, что можно оснастить целую армию, да еще на пару дивизий останется – не существовало семьи, где на чердаке либо в огороде не прятали бы пару-тройку винтовок или пулемет, патронов же понавезли такую уйму, что впору открывать оптовую торговлю боеприпасами.
Но главное – в крае было очень голодно. Расчет на то, что хлеб доставят из других районов, в частности, из Поволжья либо с юга Сибири, не оправдался – там хлеба тоже не было. Поэтому местная власть сделала ставку на тотальные поборы, которые скромно именовались «плановой продразверсткой». Таким способом руководители семиреченских волостей намеревались выгрести из хлебных потайных ям не менее пяти миллионов пудов зерна. Но из затеи этой ничего не вышло.
Тогда решили поступить по-другому. По инициативе низов, – закоперщиками [64] в этом деле выступали самые «беспортошные» – бедняки создали союзы мусульман, батраков, инвалидов, сирот, увечных воинов и тому подобное. Союзов этих оказалось так много – по несколько штук в каждом кишлаке, что они начали драться друг с другом. Были образованы также молодежные и женские организации, детские дома, избы-читальни и так далее. Комбеды с ревкомами, всем уже здорово намозолившие глаза, отошли на задний план. Затея удалась – в волостные центры потек хлеб, подвод для вывоза хлеба насчитывали теперь почти в два раза больше.
Дело пошло. Хитрая тактика распечатала Восток. И хотя еще не было ни денег, ни сил, ни материалов, семиреченские большевики уже собирались ремонтировать старое хозяйство и строить новое.
Все эти планы очень злили отца Иону, – с каждой новостью, принесенной из Советии, он спешил к атаману, и тот после таких встреч также начинал скрипеть зубами.
– Ну, погодите, – угрожающе бормотал атаман, – доберусь я до вас, шкуры со всех поспускаю.
Однажды вечером отец Иона пришел к атаману мрачный как туча.
– Что случилось? – прищурил глаз атаман.
– Чекисты в горах нашли наш тайник. Взяли одиннадцать винтовок, ящик с пироксилиновыми шашками, несколько пищевых котлов и плотницкий инструмент.
– А котлы зачем? – спросил Дутов.
– Ну как же, как же, Александр Ильич! Террористические группы должны питаться, иметь при себе и продукты, и шанцевый инструмент.
– Закладывайте еще тайники, отец Иона.
– Занимаюсь этим, каждодневно занимаюсь, Александр Ильич. Усердно, в поте лица.
Обнаружив в горах тайники, чекисты тряхнули семиреченскую знать. Всех, кто имел офицерские звания или хотя бы одним боком был причастен к белой армии, арестовали. Особенно подозрительно отнеслись к полковнику Бойко и его окружению. В результате пятьдесят восемь человек были расстреляны.
В Москву полетело несколько шифрованных телеграмм, смысл которых сводился к одному: все нити заговоров, сплетенных на советской территории, ведут в Китай, в крепость Суйдун. Судя по всему, в Москве состоялось очень бурное заседание, на котором решили провести ряд террористических актов против белых генералов, не смирившихся с потерей России и продолжающих засылать агентов в бывшие свои вотчины.
Неспокойно было на западной границе, каждую ночь полыхала граница дальневосточная, а теперь вон – огонь начал разгораться и в Средней Азии.
Существовали в ту пору среди подразделений Туркестанского фронта так называние регистрационные пункты. Под этими безобидными названиями скрывались мощные разведывательные отделы, в них работали люди, ни в чем не уступавшие хитрому отцу Ионе. «Всех белых недобитков – к ногтю! – такое дружное решение приняли начальники нескольких регистрационных пунктов на своем совещании в городе Верном – Алма-Ате.
Задача по ликвидации Дутова была поставлена Москвой перед Реввоенсоветом Туркестанского фронта. Председатель РВС получил из столицы, лично от Троцкого, соответствующую шифровку и, не мешкая ни минуты, вызвал к себе начальника Регистрационного отдела фронта. Тот взял секретную телеграмму и, начертав на ней размашисто «К немедленному исполнению», переправил шифровку в город Верный. Ну, а командир Верненского отделения Пятницкий, в свою очередь, спустил шифровку еще ниже – начальнику регистропункта в Джаркенте Давыдову.
Давыдов повертел в руках распечатку телеграммы, поскреб сильными корявыми пальцами темя. В конце концов произнес невнятно, на хохлацкий лад:
– Это дило трэба разжуваты!
Любое «разжуваты» в ту пору совершалось лишь с помощью маузеров, других способов не существовало.
Характер Давыдов имел упрямый, ко всякому поручению относился очень серьезно, шуток почти не признавал – мог тут же схватиться за ствол и наказать шутника. Он заслал своих «аскеров» в Китай и уже двадцать шестого сентября двадцатого года сообщил Пятницкому, что в ущелье Теректы «пасутся 500 лошадей казаков отряда Дутова». Сведения были самые верные, самые свежие, из-за них Давыдов потерял двух человек. Своему начальнику он написал: «Разрешите организовать перегон лошадей на советскую сторону, не прибегая к вооруженной силе и компенсируя услуги лошадьми. Также прошу разрешения организовать похищение Дутова живым, в крайнем случае – его ликвидацию. Ответ – срочно!»
Пятницкий, человек куда более осторожный, чем Давыдов, брать на себя ответственность не стал, послал срочную шифровку в Центр: «Что делать?». Ответ не заставил себя ждать: «Ликвидировать атамана Дутова любой ценой!»Крепость Суйдун Дутов почти не покидал, те редкие случаи, когда он выезжал за ворота, людям Давыдова засечь не удалось. Один атаман никогда не оставался – даже ночью у его дверей дежурили два казака. По крепости он передвигался в сопровождении целого отряда китайцев. Нападать на него казалось бесполезным. Надо было что-то придумать. Но что?
Давыдов долго ломал голову и придумал…
Новый жеребец, доставшийся Касымхану Чанышеву вместо охромевшего Ветра, был горячим и глупым, это начальник уездной милиции почувствовал, едва на Арасана накинули седло. Арасан захрипел, ударил задними копытами по воздуху, начал плеваться пеной, двое милиционеров едва удерживали его…
Покачав головой, Чанышев с силой сжал пальцами жеребцу храп, обнажил крепкие желтоватые зубы и сунул прямо в челюсти кусок хлеба. Кусок сплющился о зубы, в следующее мгновение Арасан раздвинул их, и хлеб, не задержавшись у него на языке, проскочил в бездонную утробу. Чанышев достал из кармана сахар, также сунул Арасану. Тот чуть не укусил хозяина за руку, но Касымхан оказался более ловким, и жеребец лишь впустую щелкнул зубами. Чанышев покачал головой:
– Ну и зверь! И кто только дал тебе такое ласковое имя? [65]
Достав из кармана старый, сплющенный, вкусно пахнущий мятой пряник, он притиснул его к опасным зубам жеребца.
– Ты не конь у нас, Арасан, а большая собака, – проговорил Чанышев ласково, – с лошадиной мордой.
На этот раз жеребец почувствовал вкус пряника, с удовольствием сжевал его, а через две минуты Чанышев уже сидел в седле. Арасан взбрыкнул задними ногами, опечатал ими воздух, но хозяин туго натянул поводья и хлопнул жеребца кулаком по крупу. Тот взвизгнул негодующе, поднялся на дыбы, передними ногами придавил воздух, забил копытами и… смирился. Понял, что человек сильнее его.
Касымхан ударил коня плетью, Арасан метеором понесся по узкой пыльной дороге. Через полкилометра Чанышев увидел, что навстречу ему движется всадник, холеный конь его идет спокойной широкой рысью. Чанышев на скаку расстегнул кобуру – как говорится, береженого Бог бережет.
Всадник оказался одет в кожаную черную куртку, на голове плотно сидела такая же кожаная фуражка, украшенная яркой красной звездой, через плечо, как и у Чанышева, был перекинул ремень маузера. «Кто-то из чекистов, – понял Чанышев, – вот только кто? Лицо вроде бы незнакомое. И вместе с тем – знакомое…» Чанышев хотел было придержать жеребца, но Арасан пулей несся по каменистой дороге.
Человек в кожаной куртке приветственно поднял руку, Чанышев в ответ также поднял руку, натянул повод. Конь протестующе захрапел, застриг копытами воздух, замотал головой – ему нравился собственный полет по земле, стук подков, даже всадник, и тот начал нравиться, а вот стоять… Нет, стоять – не его это песня.
– Товарищ Чанышев, если не ошибаюсь? – спросил всадник в кожаной куртке.
– Он самый, – Чанышев пригляделся к всаднику: все-таки они где-то встречались… На каком-нибудь совещании?
– Моя фамилия Давыдов, я – начальник Джаркентского регистропункта, – произнес всадник в кожаной куртке.
Теперь Чанышев вспомнил, где видел этого человека – полгода назад в Верном, в кабинете Павловского, замещавшего находившегося в командировке Пятницкого. Речь тогда шла о совместной операции армейских частей и милиции по прочесыванию белогвардейского подполья. Операцией той руководил Павловский.
Касымхан вскинул руку к козырьку фуражки:
– Здравствуйте, товарищ Давыдов!
Тот глянул на начальника милиции в упор острыми прощупывающими глазами.
– Скажите, товарищ Чанышев, у вас родственники в Китае имеются?
Чанышев невольно поежился: опасный вопрос и отвечать на него опасно. Выпрямился в седле, взгляда от глаз начальника регистропункта не отвел.
– Имеются. – Хотел было добавить, что не разделяет их антипролетарских убеждений, но не стал ничего говорить – если решили расстрелять за аристократов-родичей, то расстреляют без всяких его объяснений, а терять достоинство, хныкать – не в его правилах.
– Контакты с ними поддерживаете?
– Нет!
– А нам очень надо, чтобы вы возобновили эти контакты, – голос у Давыдова был мягким, доброжелательным. Впрочем, Чанышев хорошо понимал, что может оказаться за такой доверительной мягкостью… – Ведь это же родственники… – в мягкий голос Давыдова натекли укоризненные нотки. – Сможете возобновить?
Касымхан неопределенно качнул головой, приподнял плечо, но потом проговорил твердо:
– Думаю, да.
Происходил начальник уездной милиции из древнего княжеского рода, на фронте, будучи офицером, всегда отличался оригинальностью поступков и суждений. В частности, не дал расстрелять горлопанов-агитаторов, которых в бесчисленном количестве красные забрасывали в окопы, затем и сам стал большевиком, был храбр, за что получил среди офицеров прозвище – Кипчак.
– Касымхан, для нас это очень важно.
– Ну хорошо, я налажу контакты, найду свою родню в Китае…. А потом в Верный придет распоряжение товарища Троцкого немедленно расстрелять меня?
У Давыдова неожиданно задергался рот, он проговорил негромко, стараясь, чтобы голос звучал убедительно:
– Нет, не придет.
– …Ладно, – поколебавшись, произнес Чанышев, – верю. Теперь поясните, почему возникла такая необходимость?
– Чанышев, давай на «ты». Так проще.
– Хорошо, товарищ Давыдов.
– И Москва, и Верный, и Джаркент обеспокоены, что в Семиречье все время что-нибудь происходит – звучат выстрелы, полыхает огонь, кто-то постоянно подбрасывает в костер дрова… Провели глубокую разведку. Оказалось – все дороги ведут к атаману Дутову. Все исходит от него самого и его окружения. Террор этот велено пресечь любым способом.
– Теперь понятно, – сказал Чанышев. – Но, может, вместо меня лучше послать другого человека, который больше подходит, а?
– Нет, Касымхан. Это дело мы также обговорили. И не один раз. Лучше тебя для выполнения этого задания никого нет. Во-первых, ты коммунист. Во-вторых, ты командуешь милицией в целом уезде. В-третьих, тебе, как князю, доверия там будет больше, чем всем нам, вместе взятым. В-четвертых, в Китае ни у кого из нас родни нет. В-пятых, ты храбрый человек и, насколько я знаю, не отступишься, пока не выполнишь задания…
– Что я должен буду сделать с атаманом Дутовым?
– Похитить. Или убить.
Чанышев, услышав резкие слова, невольно поморщился, Давыдов заметил это и произнес негромко, стараясь, чтобы голос его звучал как можно мягче:
– Другого выхода у нас нет, Дутов сам приговорил себя. Посылать туда кого-либо еще – бесполезно. Любого иного человека там воспримут в штыки, он будет обречен и назад уже не вернется. Так что, Касымхан, прошу тебя – соглашайся, – Давыдов прижал руку к груди.
Невдалеке с плоского жидкого облака камнем свалился орел, послышался жалобный крик – хищник всадил в спину какого-то зверька свои кривые когти, в следующую секунду крик прервался: орел ударил зверька клювом, и тот стих.
Человека можно утихомирить еще быстрее, чем зверька. Чанышев вздохнул. Давыдов тоже вздохнул и прижал руку к груди сильнее.
– Имей в виду, Касымхан, я пока прошу тебя, а не приказываю, – Давыдов похлопал пальцами по коже куртки, – но вот те, кто находятся надо мной, просить уже не будут. Они вообще не знакомы с таким понятием… Там действует только приказ. Усвоил, Касымхан?
Чанышев в неопределенном движении приподнял плечо и произнес:
– Я согласен.
– Подпольная кличка твоя будет – Князь.
– Годится.
– Связь будешь поддерживать только со мной. Об условиях связи договоримся особо.Лето двадцатого года выдалось в Семиречье жарким. Трава сохла на корню, от ошпаривающего зноя негде было спрятаться – не спасала даже самая густая тень. Персиковые и абрикосовые деревья облысели, желтая листва ковром опустилась под стволы, накрыла землю шелестящим саваном.
Осень была такой же жаркой, как и лето. Если верить календарю, стоял сентябрь, но осенью совсем не пахло, лишь ночи были черными, много чернее обычного, что во всех краях – верный ее признак.
Похудевший, обросший щетиной, поседевший, словно на голову ему высыпали горсть соли и застряла она в волосах, прикипела – не вытряхнуть, Удалов слез с коня, завел своего Ходю – так он звал Воронка на китайский лад, – за камни, накинул ему на морду торбу с зерном. А сам приспособился удобнее в выемке с биноклем в руках. Прежде чем перейти границу, надо было понаблюдать за ней – не предвидятся ли какие неожиданности?
Он просидел так до вечера, засек только два конных наряда, неторопливо прошествовавших вдоль границы и одного дехканина, проехавшего на арбе по проселку, больше никого не было.
Когда серые, полные дребезжащего звона сверчков сумерки опустились на землю и растворили в себе все предметы вокруг – Удалов огляделся и сказал вслух:
– Пора! Ходя, где ты?
Опытный конь голос подал едва слышно. Удалов выбрался из-за камней и подхватил коня под уздцы.Дорогу через границу и ее продолжение на той стороне, он запомнил мертво – за день на пейзаж этот так налюбовался, что, наверное, нужны будут годы, чтобы все это выветрилось из памяти. Само задание – пробраться в Фергану с письмом Дутова – Удалову не нравилось, он чувствовал, что не все будет гладко. Тьфу! Что за жизнь!
В темноте Ходя видел, как собака, – каждый камешек различал, определял, прочно ли он сидит в земле, не поползет ли, едва на него ступишь, – казалось, мозги у этого коня человеческие. Небо было черным, густо усеянным слабо поблескивающими звездами. Ничего хорошего в таком небе – только тревога, ощущение опасности. Иногда Удалов останавливал своего боевого товарища, вслушивался в пространство, затем двигался дальше. Ему везло – он ни разу не заметил ни одного человека, и благополучно разошелся с пограничным нарядом. Бывший сапожник проводил пограничников внезапно заслезившимся взглядом, с благодарностью погладил коня ладонью по шее – если бы тот подал голос, приветствуя лошадей пограничного наряда, Удалов пропал бы…
Далеко уйти ему не было суждено. Ходя вдруг захрапел, вскинулся, а в следующий миг упал на колени. Удалов тяжелой неуклюжей рыбой нырнул вперед – через голову коня, – покатился по земле, ломая звонкие сухие травы.
Сверху на него навалился грузный, дышащий чесноком человек, одетый в кожаную куртку. Он ухватил Удалова за запястья и коротким резким движением завернул ему руки за спину.
– Пусти-и-и, – засипел Удалов, пытаясь выбраться из-под этого человека.
В висок ему ткнулся ствол револьвера.
– Тихо, – угрожающе проговорил человек в кожаной куртке, – мы за тобою, гадом белым, следили еще в ту пору, когда ты из-за камней в бинокль Советскую Россию рассматривал. Скажу прямо – очень не понравился ты нам. Очень…
– Пусти-и, – казак вновь просяще просипел.
– За какие такие заслуги? – холодный жесткий ствол револьвера отлип от виска. – Если я тебя сейчас, беляк, отпущу, то через пару дней ты все равно у стенки окажешься. Говори, куда тебя направил Дутов? К кому? С какой целью?
– Пси-и-и, – скулил Удалов.
В висок ему снова ткнулся ствол револьвера.
– Отвечай! Куда тебя направил Дутов?
– В Фергану, – с трудом выдавил из себя казак.
– К кому?
– К Ергаш-Бею.
– Адрес есть?
– Нет.
– А как же ты должен будешь найти этого бандита Ергаш-Бея?
– Верные люди должны вывести на него.
– «Верные», – человек в кожаной куртке усмехнулся. – По этим «верным людям» могила плачет. – Он сунул револьвер в кобуру, рывком поднялся, потом, ухватив Удалова за воротник, поднял его. Властно прокричал в темноту: – Забиякин, свяжи руки этому орлу. Иначе упорхнет.
– Й-есть, товарищ Давыдов! – громко рявкнул солдат из темноты.
– Да не рявкай ты так, – Давыдов поморщился и негодующе дохнул в темноту чесноком, – оглушить можешь. Сковородкин! Подбери-ка веревку! Нечего ей на земле валяться. Пригодится.
Удалов понял, как его вышибли из седла – натянули над землей веревку и Ходя налетел на нее. Он вгляделся в темноту: где конь? Не переломал ли себе ноги? Ходя стоял в темноте целый и невредимый, со сбитым набок седлом и ждал хозяина. Выкрутиться бы из всей этой передряги, сесть на верного Ходю, – лучшего коня у Удалова еще не было, – да рвануть бы в Оренбург, к разлюбезной своей Александре Афанасьевне… Как она там? Есть ли хлеб на столе и не обижают ли ее большевики?
Саша вместе со всеми устремилась было в поход в Китай, но потом задумалась и сказала мужу:
– А что мне делать в воинских походах? Мне не воевать надо, а дом обихаживать, да детей рожать. Нечего мне делать в чужих краях… Родилась я на оренбургской земле, тут и уйду в землю, – на глазах ее появились слезы.
Удалов вздохнул тяжело:
– Я тебя понимаю.
– А потом мне же придется встречать в дороге и этого хряка… – до Удалова лишь через несколько секунд дошло, кого она имела в виду, и кивнул. – А это мне неприятно. Я могу не сдержаться и пальнуть ему в брюхо.
Удалов вновь кивнул. Потом короткими, какими-то излишне поспешными движениями, словно боялся передумать, перекрестил жену и сказал: – С Богом, Саша! Возвращайся домой. Главное – чтобы ты теперь не попалась в руки ни к красным, ни к белым.
Удалов вторично перекрестил жену и ушел, не оглядываясь.
И вот он в плену. Ни страха, ни досады – все поглотила усталость. Жаль только одного: он не увидит Сашу, не дождется ребенка, никогда не будет тетешкать на руках своего родного мальчугана с носом-кнопочкой, похожего на него… Казак не сдержался, хлюпнул носом.
Допрашивали его в ближайшем кишлаке, большом и грязном, забитом крысами, кошками и собаками, странно уживающимися в эту голодную пору друг с другом… В кишлаке огней не было, но в кибитке, куда привели Удалова, под потолком висела тусклая семилинейная лампа. Увидев ее, Удалов уныло заморгал.
Допрашивал его Давыдов дотошно, часто возвращаясь и задавая один и тот же вопрос по нескольку раз. Из допроса стало понятно, что во всей этой истории чекиста интересует один только человек – атаман Дутов. Ергаш-Бей, отец Иона и прочие «отцы» и «беи» для Давыдова не были целью, он о них даже не вспоминал, а вот Дутов – это цель…
– Значит, говоришь, Дутов из дома почти не выходит? – спросил он у Удалова в шестой или в седьмой раз – счет этим вопросам Удалов уже потерял. – А?
– Не выходит, – подтвердил Удалов.
– Значит, сиднем сидит, как бирюк, и не выходит… И за пределы крепости почти не выезжает?
– Да, почти не выезжает.
– То-то мы его никак засечь не можем, – Давыдов озадаченно побарабанил пальцами по хлипкому столу, поставленному в центр кибитки, под лампу, чтобы лучше было видно лист бумаги.
– Охрана у него, говоришь, большая?
Удалов повторил, какая охрана у дома Дутова.
– Китайцы, говоришь, плотно пасут атамана?
– Верхом сидят, ноги с шеи свесили. Без сопровождения никуда не выпускают… Даже в нужник.
Непонятно было, верит Давыдов Удалову или нет. Давыдов сидел на табуретке, широко расставив ноги, мрачно барабанил пальцами по неровной крышке стола и вздыхал, будто болел чем-то.
– А число казаков, охраняющих вход в квартиру, на ночь увеличивается или нет?
– Ни разу не заметил, чтобы увеличивалось.
– Может быть, просто не замечал, не обращал внимания?
– Это не заметить нельзя, – Удалов неожиданно с силой стукнул себя по колену кулаком и произнес: – Поймите, я атамана ненавижу не меньше вас.
– Это с какой же такой стати? – Давыдов насмешливо сощурился.
– Да с той! – Удалов вновь ударил себя кулаком по колену. – Он над моей женой целых полгода измывался, насильничал…
Давыдов невольно присвистнул:
– Вот это фокус-покус! Ну-ка расскажи поподробнее!
– А чего тут рассказывать? – Удалов смахнул с глаз внезапно подступившие слезы, у него начала нехорошо подрагивать нижняя челюсть, зубы издавали мелкий громкий стук.
Говорить о Дутове и Саше было трудно, и тем не менее Удалов рассказал все, что знал.
– Н-да, вот, оказывается, какая сложная канделяшка – наша жизнь, – крякнул Давыдов, выслушав пленника, почесал пальцами затылок. – Расстреливать мы тебя не будем, – наконец произнес он, – поезжай к своему Ергаш-Бею, завязывай с ним контакт, закручивай в узел, но связи с нами не теряй… Понял, мужик?
– Понял, чем дед бабку донял.
– Иначе и дому твоему, и разлюбезной твоей придет конец – предупреждаю. Отпуская тебя, я рискую, это грозит мне расстрелом. Так что в твоих руках, мужик, не только твоя жизнь и жизнь твоих родных, но и моя, понял?
– Я не подведу, – твердо пообещал Удалов. – Я и сам бы хотел разделаться с атаманом, но как? В одиночку до него не добраться.
– Молодец, правильно мыслишь, – похвалил Удалова начальник регистропункта.
– Дутов – зверь матерый, брать его в одиночку опасно.
Через два часа Удалов двинулся дальше – в темноте, до утра, ему надо было одолеть изрядный кусок пути. Расщедрившийся Давыдов, несмотря на голодный паек Семиречья, дал ему в дорогу ковригу хлеба, кусок вяленой баранины, а для Ходи – полмешка овса.
– Считай, это твое жалование наперед, – сказал он, – ты ко мне на службу поступил, а я тебе плачу за это… Понял, мужик?
…Вечером в комнате, которую Давыдов снимал для «личных нужд», раздался тихий стук. Давыдов ужинал, перед ним на столе лежал рядом с хлебом тяжелый старый револьвер, горластый, крупного калибра, с убойной силой крепостного орудия. Давыдов поспешно взвел курок и накрыл оружие газетой.
– Кто там? – выкрикнул он. – Входи, коль не шутишь.
Не заперто!
Дверь открылась. На пороге стоял Чанышев.
– Касымхан! – возбужденно воскликнул Давыдов, поднялся с табуретки. – Вернулся? Живой?
– Как видите, живой, – Чанышев неожиданно смущенно улыбнулся. – Извините, если не оправдал ваших надежд.
– Давай на «ты», мы же договорились, – в голосе Давыдова появились виноватые нотки. – Садись, повечеряй со мной!
– Спасибо, сыт – Чанышев сделал церемонный жест, – уже поужинал.
Давыдов поспешно, легко, с неожиданным проворством для его плотной фигуры подскочил к гостю, обнял, похлопал ладонью по спине.
– Ну что там, в Китае, рассказывай, – потребовал он.
– Затевается большой заговор против России, – Чанышев двумя руками изобразил громоздкий «снежный ком». – Вот такой.
– Кто конкретно состоит в заговоре? Фамилии есть?
– Есть.
– Неужели тебе удалось подобраться к Дутову?
– Подобрался настолько близко, что виделся с ним едва ли не каждый день.
– Да ну! – возбужденно воскликнул Давыдов, вновь порывисто обнял гостя. – Выходит, он тебе поверил?
– Поверил, – наклонил голову Чанышев. – А как не поверить? Я происхожу из благородного аристократического жуза [66] , яростно ненавижу большевиков, хотя в силу сложившихся обстоятельств был вынужден остаться на их территории и поступить к ним на службу. Дослужился до высокой должности в милиции, – Чанышев улыбнулся, – но идеалам своим не изменил – готов бороться с большевиками дальше. А таких людей атаман ценит очень и очень, их у атамана не хватает просто катастрофически. Так что считай, товарищ Давыдов, что я вошел в десятку самых близких к Дутову людей.
– Поздравляю!
– Это еще не все. Я поступил к атаману на секретную службу.
Давыдов присвистнул, поспешно допил остывший чай и хлопнул донышком кружки о стол.
– Ничего себе фокус-покус! – лицо его вдруг приняло жесткое выражение.
Касымхан это заметил, махнул рукой, произнес с отчетливо проступившей горечью:
– Эх, Давыдов, Давыдов! Не веришь ты мне!
Давыдов крякнул, будто на спину ему кинули тяжелую вязанку дров.
– Наше дело ведь какое, Касымхан… – пробормотал он виновато, – мы очень часто сами себе не верим. Слишком много товарищей погибает. Вырубают их беляки, будто косой. Так и хожу по земле, постоянно оглядываясь. Не обессудь. К себе самому я отношусь точно так же, как и к тебе, ни в чем различия нет.
Так что… ежели что, извиняй меня, друг. Очень прошу.
Чанышев наклонил голову. Непонятно было, то ли он прощает Давыдова, то ли не хочет, чтобы тот видел его глаза.
– Результат следующий, – сообщил он, – у меня на руках находится список джаркентского белогвардейского подполья.
Давыдов не удержался, присвистнул вновь.
– Ты достоин ордена Красного Знамени! – Давыдов сделал было движение к Чанышеву, чтобы обнять, но тот остановил его.
– Ни один человек из этого подполья не должен быть не то, чтобы арестован, товарищ Давыдов, – он даже почувствовать не должен, что за ним следят… Иначе мы провалим операцию с Дутовым – загребем в сеть мелкую рыбешку, а крупную упустим.
– Согласен, – Давыдов кивнул.
– Такие же организации у Дутова есть в Омске, Ташкенте, Пишпеке, Верном, Талгаре, Пржевальске и Семипалатинске.
Все ждут сигнала, чтобы подняться и ударить по советской власти.
– Вот им! – Давыдов ткнул кукишем в пространство перед собой.
– Не знаю, им или нам… Силы у них собраны большие.
– Какова конечная цель у беляков? Вернуть царя? Созвать Учредительное собрание?
– В точку попал, товарищ Давыдов: созвать Учредительное собрание.
– Лихо! – Давыдов покрутил головой. – Очень лихо! Значит, подпольные группы только ждут щелчка?.. Пхе! Разведкой у них командует все тот же лысый попик?
– Так точно. Отец Иона. Очень неглупый, замечу, человек. Опасный противник. Многие зовут его святым. В походе против нас собирается использовать икону Табынской Божией Матери. Икона чудотворная, ей поклоняются.
– Когда Дутов намерен выступить?
– Это неведомо никому. В том числе, по-моему, и самому Дутову.
– Его надо бы убрать до всех походов. Выдрать с корнем… Этого еще не хватало – подполье в Верном! Вот удивится товарищ Пятницкий, – Давыдов говорил, говорил, а думал о чем-то своем, далеком, находящимся за стенами этой запыленной комнаты.
– Надо убрать Дутова, я согласен. Но как? Вот этот вопрос я решить пока не могу.
– Решай, решай… Ты – человек умный, отважный, поэтому партия и доверила тебе это ответственное дело.
– В крепости у Дутова силы небольшие, всего пятьсот человек казаков, все без винтовок – плетками отстегать можно, но недалеко от границы находится генерал Багич, а это уже серьезно. Это – шесть тысяч человек. Из них хорошо вооружены – хоть сейчас в атаку, – две тысячи человек. Четыре пулемета и два новеньких скорострельных орудия. С такими силами можно хоть на Верный идти, хоть на Семипалатинск.
– Неплохо бы и на Багича накинуть мешок.
– На двух медведей сразу – исключено.
– И все равно надо поломать над этим голову, Касымхан. Иначе Дутов наши собственные сломает. Так что думай, друг, думай.
Когда Чанышев ушел, Давыдов отодвинул в сторону горбушку хлеба, револьвер, оперся о стол тяжелыми локтями и погрузился в свои невеселые мысли. Если Дутов бросит на территорию Советской России шесть тысяч человек – его не сдержать.
Он здесь все смешает с землей, с огнем, цветущий край превратит в сплошной могильник. Давыдов сжал зубы, услышал недобрый костяной скрип.
Надо было что-то придумать. Ясно одно – пока Дутов жив, пока ходит по земле, дышит и трескает по утрам яичницу с салом, – покоя не будет. А покой нужен, очень нужен.Удалову повезло – он нашел Ергаш-Бея, затем снова побывал у Дутова, потом завернул в Джаркент и обо всем доложил Давыдову. Замолчал, глянул вопросительно на своего нового начальника и, со вздохом опустив голову, стал рассматривать потрепанные, в порезах и свищах головки кожаных сапог.
Давыдов, понимая, что беспокоит бывшего сапожника, положил ему руку на плечо.
– Ты это, мил человек… За женку свою не беспокойся. Нашли мы ее в Оренбурге, все с ней в порядке – жива и здорова. Продуктов ей кое-каких подкинули…
– Спасибо, – шевельнул белыми сухими губами Удалов.
– Все у нее хорошо, тебе привет передает и желает, чтобы поскорее вернулся домой.
Удалов, ощущая, как у него задрожали губы, приложил к ним ладонь.
– Спасибо, – вторично спорхнуло с языка у него едва слышное. Он неловко поклонился Давыдову.
– Чего там, – Давыдов, ощущая себя этаким волшебником, который может все, все ему по силам, – небрежно махнул рукой. – Напиши ей письмецо, мы передадим…
– Письмецо? – вид у Удалова сделался совсем ошалелым, губы запрыгали. – Письмецо… – Он сунул руку за пазуху, расстегнул подкладку, зашпиленную на две булавки и извлек мятый, склеенный из плотной бумаги конверт. – Вот.
– Что это?
– Послание атамана Дутова Ергаш-Бею.
– Фью-ю-ють, – не удержался Давыдов, присвистнул, взял конверт в руки с некой опаскою, будто тот был начинен гремучей смесью. – Ну ты и молодец-удалец, паря… Большой удалец!
В следующую минуту Давыдов разложил конверт на столе, как некую дорогую вещь, начал суетиться над ним, ахать, охать, стараясь выяснить, каким клеем он склеен. Потом выкрикнул по-вороньи гортанно: «Гхэ!» и запалил свечу. Установив ее поровнее на столе, коснулся краем конверта пламени. Запахло жженой бумагой, еще чем-то, то ли мясным, то ли молочным. Удалов не выдержал и испуганно вскричал:
– Сгорит!
– Тихо, родимый, – остановил его Давыдов, – ничего никогда у нас не горит. Мы этому ремеслу обучены весьма основательно.
Давыдов медленно повел склеенным краем конверта по пламени. Бумага начала раскрываться с тихим треском сама собою, – Давыдов действительно оказался большим мастаком по этой части. Через несколько минут он держал послание Дутова в руках.
– Ну-ка, ну-ка, господин генерал-лейтенант, посмотрим, чего вы тут начирикали. «Командующему армией в Фергане Ергаш-Бею», – прочитал он громко и хмыкнул: – Ишь ты, этот бандюга уже и командующим армией стал. Ну и ну! – Давыдов поскреб пальцами по щеке, похрустел щетиной. – «Еще летом тыща девятьсот восемнадцатого года от Вас…» Вежливый человек Дутов, «Вы» с большой буквы пишет. «От Вас прибыл ко мне в Оренбург человек с поручением – связаться и действовать вместе. Я послал с ним к Вам письмо, подарки: серебряную шашку и бархатный халат в знак нашей дружбы и боевой работы вместе.
Но, очевидно, человек этот до Вас не дошел. Ваше предложение – работать вместе – мною было доложено Войсковому правительству Оренбургского казачьего войска, и оно постановлением своим зачислило Вас в оренбургские казаки и пожаловало Вас чином есаула». Хм, есаула…
Чекист, отставив бумагу в сторону, иронично похмыкал:
– Естественно, подарки не доехали. В халате дутовском начальник милиции в Верном в баню ходит. Эполеты только сорвал, да в нужник выкинул. Ладно, едем дальше. «Теперь я жду только случая… ударить на Джаркент»… Ударить на Джаркент… – Давыдов задумчиво пожевал губами. – Скорее собственную задницу поцелует, чем ударит на Джаркент. – Он снова похмыкал, повертел бумагу, глянул в самый конец ее и проговорил одобрительно: – Бумагу атаман сам подписал, са-ам, собственноручно, не поленился. Работяга, – Давыдов почмокал насмешливо. – Ох и работяга! Редкостный!
Удалов молчал, никак не реагировал на эмоции и фиги начальника регистропункта – стоял с отрешенным видом у стола и мял в руках выцветшую казачью фуражку.
Давыдов умолк, сложил письмо.
– А как будем заклеивать конверт? – спросил Удалов.
– Языком, – Давыдов засмеялся, подмигнул. В следующее мгновение сделался серьезным и сказал: – Тем же способом, только наоборот. – Он хлопнул Удалова по плечу. – Все будет в порядке, не тушуйся. Ергаш-Бей никогда ни о чем не догадается.
Давыдов знал, что говорил, слово с делом у него не расходилось. Он снял с послания атамана копию, а письмо запечатал так ловко и умело, что невозможно было предположить, что оно когда-то было вскрыто.Касымхан Чанышев вновь устремился в Китай. Вернулся он с любопытной новостью:
– Генерал Багич Дутову не помощник, у него своих проблем выше крыши.
– Что за проблемы? – деловито сощурился Давыдов.
– Забастовали полторы тысячи башкир. Не хотят служить Багичу, не хотят воевать, бунтуют и просятся домой.
Давыдов обрадованно забарабанил пальцами по столу:
– А что, хорошая новость! Если, конечно…
– Что «если», товарищ Давыдов?
– Если, конечно, в этом нет ловушки. Ведь недаром говорят, что Дутов такой хитрый, что даже сам себя обыграть в карты может.
– Здесь вопрос не в Дутове, а в Багиче.
– В Дутове, дорогой товарищ Касымхан, в Дутове… Багич – это фигура второго плана, третьего, если не десятого.
– Дутов, кстати, заявил следующее: «Умирать я пойду на русскую землю, и в Китай больше не вернусь».
– Несладко, видать, атаману в Китае, очень несладко. Ежели бы во мне была жалость к белякам, я бы обязательно его пожалел. И что же удерживает башкирских цириков [67] , что мешает им наплевать на господ генералов и махнуть домой? А, Касымхан?
– Боязнь за себя: Дутов – человек мстительный, может взять и расстрелять каждого десятого.
Чанышев отвел глаза в сторону. Лицо его было бесстрастным, ничто не дрогнуло в нем.
– Кстати, о мусульманах, – добавил он тихо, – Дутов вводит у себя в армии отличительные знаки. Православные теперь будут носить на своих мундирах кресты, мусульмане – луну и звезду.В следующий свой приход из дутовской ставки Чанышев доставил тревожную новость:
– Атаман начал выпуск винтовочных патронов на подпольном заводе в Кульдже.
– Не дремлет атаман, – Давыдов недобро усмехнулся, – раз стал производить патроны – значит, выступление его не за горами. Шустрый мужик. Впереди пуза бежит. Как у тебя, Касымхан, продолжают складываться отношения?
– Пока – самым теплым образом, – Касымхан поплевал через плечо.
– Хорошо. А с этим самым… с попиком?
– С отцом Ионой? Немного сложнее, но все равно терпимо. Хотя он – человек резких решений – не задумываясь, стреляет во все подозрительное.
– Когда можно будет засылать ликвидационную группу в Суйдун?
– Еще рано, товарищ Давыдов. Чуть позже…
– В таком разе не забудь, достань для моих бойцов дутовских крестиков с ноликами.
– Отличительных знаков на обмундирование? Будет сделано.
Давыдов, вглядываясь в скуластое красивое лицо Чанышева, любовался его улыбкой – иногда далекой, скорбной, иногда во весь рот, – и спрашивал себя: верит он этому породистому кипчаку или нет? Ведь если Касымхан подведет, даст слабину или, того паче, переметнется на сторону атамана, Давыдову головы на плечах не сносить – его поставят к стенке… Давыдов простудно пошмыгал носом. Если честно, в душе его сидело неверие – и рад бы он поверить Чанышеву до конца, но слишком уж большое социальное расстояние разделяло их, слишком разную жизнь они прожили. Давыдов не понимал до конца Чанышева, а Чанышев – Давыдова.
Нужна подстраховка, хорошая подстраховка… Давыдов с хрипом втянул в себя воздух, сквозь прищур ресниц оглядел Чанышева и решил, что подстраховкой займется сегодня же. Немедленно. Как только Чанышев уйдет.Жизнь в Суйдуне была необустроенной, мрачной – ни одного светлого пятна в ней, сплошь темные безрадостные краски.
Оренбургские устроились, кто как. Большинство осело в старой казарме с мутными, никогда не мывшимися окнами, в которые были видны горные хребты с блестящими, будто бы покрытыми лаком островерхими шапками. Казакам, привыкшим к степям, эти каменные великаны казались чужими и враждебными, от них веяло холодом, оренбуржцы косились на них угрюмо и отводили взоры в сторону: хотелось домой, но думать о возврате – только расстраиваться. Любая попытка отправиться домой приведет к смерти: либо от дутовской пули, – говорят, отец Иона от имени атамана лично расстрелял из маузера несколько человек, – либо от пули большевистской.
На самое теплое местечко среди всех оренбуржских определился Семен Кривоносов – он еще в походе прилип к нему и теперь держался за это место обеими руками: Семен считался личным денщиком у нынешней супруги атамана, Ольги Викторовны. Он сумел прийтись супруге по нраву – был обходителен, из-под земли доставал хлеб и кипяток, укрывал «дражайшую» мягкой верблюжьей попоной – в общем, проявлял хозяйские качества.
Бывший сапожник Удалов, помрачневший, постаревший, похудевший, на себя не похожий, – калмык встретил его на узкой суйдунской улочке и разошелся, как с чужим, не узнал, – был привлечен к работе отцом Ионой, часто ездил в Фергану, привозил оттуда урюк и сушеные дыни. Удалов теперь и жил отдельно от остальных, и столовался отдельно.
– Ты, паря, не забывай старых друзей, – сказал ему как-то Еремеев, – не то так и родину свою оренбургскую забудешь…
Удалов ничего не ответил Еремею, прошел мимо, словно был глубоко погружен в свои мысли, а Еремей, остановившись, долго смотрел ему вслед, смотрел и удивлялся, соображал, все ли в порядке у бывшего сапожника с головой? Невдомек было Еремею, что Удалов заметил его, но повел себя странно лишь потому, что готовился к очередному походу к Ергаш-Бею и проверял, нет ли за ним слежки. Не хотел подставлять друга, хорошо зная, что отец Иона – человек недоверчивый, контролирует, испытывает на надежность всех, кто попадает в поле его зрения.
Африкан Бембеев и Еремей жили в казарме вместе с большинством оренбуржских казаков. Единственное, что они позволили себе – на правах Георгиевских кавалеров – отделили угол двумя одеялами, сколотили в отгородке небольшой столик и поставили на него керосинку. В общем, соорудили отдельную, очень крохотную жилую комнатенку, заглянуть в которую снаружи не было возможности – и хозяева этим обстоятельством оставались весьма довольны.
Жили голодно – продуктов не хватало, идти на рынок было не с чем, в карманах свистел ветер. Хорошо, навострились ловить на волосяные петли кекликов – крикливых горных куропаток. Если бы не куропатки, было бы Еремею с Бембеевым совсем худо; многие казаки здорово отощали, ходили, держась за стенки домов, чтобы случайно не свалил порыв ветра. Вечерами, сидя на топчанах, пили жидкий чай, зажимая алюминиевые кружки охолодавшими костлявыми пальцами, вспоминали Оренбург и прятали друг от друга влажные глаза: понимали – жизнь их может сложиться так, что родных мест они никогда больше не увидят.
В окно можно было разглядеть толстую неровную стену крепости, над которой чертили линии стремительные ласточки, да светились призрачно вечные горные хребты. По срезу стены иногда проходил китайский часовой с новенькой винтовкой – первоклассным маузером, партию этих винтовок Китай закупил еще до Великой войны в Германии. Иногда часовой останавливался, заглядывал в окна помещений, которые снимали дутовские офицеры, если видел что-то интересное, то садился на корточки и любовался тем, что видел, будто зритель в театре.
Одного такого любителя заглядывать в чужие окошки кто-то сбил со стены камнем, часовой шмякнулся наземь и минут пятнадцать пролежал без памяти. К Дутову немедленно примчался комендант крепости, заверещал, заявил что это международный скандал, но Дутов холодно обрезал визитера:
– Полноте, полковник. Ваш часовой вступил в спор с таким же простым бачкой [68] , как и он сам, в результате получил камнем по голове. И вы никогда не докажете, что камень этот побывал в руках у русского казака.
Свидетелей меткого броска камнем не оказалось, скандал «сдулся», а китайца из армии демобилизовали, и он отправился в родную деревню рассказывать землякам о том, как получил боевую травму в схватке с лютым врагом.
Ночи в крепости были тревожными – китайцы окружали казарму двумя плотными кольцами солдат, в последние время даже начали выставлять пулемет.
– Чего боятся – непонятно, – задумчиво теребил верхнюю губу Еремей, – может, считают, что мы свергнем их мандарина или ананаса и посадим своего? Нужны нам их дела как курице уздечка.
Однажды Еремей прснулся от странного ощущения, будто на него кто-то смотрит, – так пристально, как смерть смотрит на человека, которого избрала себе в попутчики. Он ознобно передернул плечами, вжался головой в сплющенную подушку, набитую соломой, и открыл глаза.
Сосед его, Африкан Бембеев, сидел на топчане и задумчиво посасывал зажатый в кулаке окурок, ноги его, обтянутые старыми кальсонами, белели в темноте. Еремеев рывком поднялся, сел, поинтересовался хриплым, словно бы дырявым со сна голосом:
– Ты чего, Африкан?
– Не спится, – пожаловался тот. – Сидит внутри что-то, здорово мешает. То ли боль, то ли тоска, то ли еще что-то – не понять.
Еремеев вздохнул. Спросил:
– Что, домой тянет?
– Тянет, – не стал скрывать калмык.
– И меня тянет. Обрыдла война, скитания. Везде мы чужие, даже в родной России, – Еремей вновь вздохнул.
Калмык перешел на шепот:
– Может, плюнуть на все и махнуть отсюда ко всем чертям? А?
Еремеев поежился:
– Одним неудобно. Вот ежели бы вместе со всеми – тогда другое дело. А одним… – Еремеев отрицательно покачал головой, – одним – нет. Народ не поймет.
Калмык сунул ноги под одеяло.
– Ну нет, так нет. Как скажешь, Еремей, – голос у него был тихим, каким-то севшим, словно в нем что-то разрядилось.
Еремей с неожиданной горечью ощутил, что между ним и Африканом именно в эту минуту пробежала трещина – будто змеюшка какая проползла. Утром, при свете дня, он глянул Бембееву в глаза – тот взгляда не отвел, посмотрел в упор ответно. Ничего во взоре Африкана не было – ни упрека, ни сожаления, ни мути какой. И Еремеев успокоился: насчет трещины он, похоже, ошибся…
Через две недели Бембеев исчез из казармы – постель его, несмятая, аккуратно заправленная, так несмятой и осталась до самого утра. Еремеев не спал всю ночь – ждал товарища.
– Ты, Еремей, не майся, – советовали с усмешкой казаки. – Твой Африкан китаяночку себе присмотрел – вдову восемнадцати годов, ночует у нее.
Еремей вместо ответа отрицательно качал головой, а когда друг не явился в казарму и утром, он отер пальцами красные глаза, сбил с них слезы:
– Вот и все. Никогда мы больше не увидим Африкана Бембеева.Дутов в эти дни плодотворно занимался литературным творчеством – это было единственное, что приносило ему удовлетворение, на полном бледном лице генерала появлялась далекая улыбка, иногда он отставлял в сторону страницу с текстом и, медленно шевеля губами, читал.
Он писал обращения к красноармейцам и к большевикам, призывая их «вспомнить Бога, своих детей и великую мать Россию и бросить свой большевизм и иностранщину», обращался к мусульманам, православным, казахам, а также к крестьянам, которым всегда, во все войны доставалось больше всех…
Особенно долго и вдохновенно он работал над статьей «К чему стремится атаман Дутов?». «Свобода, равенство и братство – в лучшем понимании этих слов – вот к чему стремится атаман Дутов» – очень похожее в ту пору часто произносил великий пролетарский вождь Ленин. Этот заклятый враг Дутова с удовольствием подписался бы под таким утверждением.
Будущее выглядело мутным, ни одного ясного ориентира. Все «цидули», которые он так самозабвенно строчил, кроме него, не нужны больше, кажется, никому, даже жена просто любила видеть его работающим и просветленным – Дутов это понимал, но старался о таких поверхностных сторонах творческой жизни не думать.
Он готовил сразу несколько восстаний на территории, «временно занятой Советами», бомбил письмами верных людей в Джаркенте и Пишпеке, в Талгаре и Верном, очень хотел как можно быстрее выбраться на волю из этого готового умертвить всякого свободного человека места как можно дальше. Опостылело ему здесь все до слез, до крика…
Надежный курьер привез ему письмо от Чанышева, оно обрадовало атамана: Чанышев сообщал, что есть возможность произвести заготовку хлеба и фуража. Всякий запас будет очень кстати, когда атаман выступит против большевиков, – тогда каждый фунт хлеба попадет на особый учет, будет работать на победу. Дутов положил перед собой несколько листов бумаги – превосходное сахарное «верже» [69] , тонко пахнущее духами Ольги Викторовны – и собственноручно написал ответ Чанышеву о своих достижениях:
– «Все находящиеся в Китае мною объединены. Имею связь с Врангелем…» – Дутов повторил вслух: – Да, имею связь с Врангелем…
«Началось восстание в Зайсане, наши дела идут отлично. Ожидаю на днях получение денег. Связь держите с Чимкентом, там есть полковник Янчис, он предупрежден… Продовольствие нужно: на первое время хлеб по расчету на тысячу человек, на три дня должен быть заготовлен в Боргузах или Джаркенте, и нужен клевер и овес. Мясо – тоже. Такой же запас в Чилике, на четыре тысячи человек, и фураж. Надо до двухсот лошадей. Даю слово никого не трогать и ничего не брать силой. Передайте мой поклон Вашим друзьям – они мои. Посылаю своего человека под Вашу защиту и этот ответ. Сообщите точное число войск на границе, как дела под Ташкентом и есть ли связь с Ергаш-Беем?»Письмом своим Дутов остался доволен – никаких рассусоливаний, мерлихрюндий, все по-деловому, без длинных фраз – чего не любил Дутов, и одновременно довольно тепло, по-дружески. Он запечатал письмо в конверт, придавил сверху каменным пресс-папье и выкрикнул зычно, будто поднимая в атаку пеший дивизион, как когда-то:
– Оля!
Жена неслышно появилась из глубины квартиры. Дутов, раскинув руки, привлек ее к себе, нежно поцеловал в щеку:
– Оля, подавай команду прислуге – пора обедать!
Отец Иона, когда ему сообщили о бегстве калмыка, стиснул свои желтоватые, некрупные, сточенные временем и болезнями зубы, покачал головой удрученно:
– Сам побег – явление рядовое, на жизнь воинов не повлияет, но пример этот – нехороший. С этим надо бороться. И вообще с побегами надо кончать, выкорчевывать их будем всякими способами: и мытьем, и катаньем. Крынки будем снимать с плетней, а на их место, на колы, – насаживать головы для просушки.
Отец Иона помял пальцами темя, выдернул из уха длинный вьющийся волосок, глянул на него – седой, – и поморщившись, звякнул в колокольчик. На зов явился плоский маленький казачонок с седыми висками, в новенькой фуражке и неожиданно умными, очень цепкими глазами.
– Ты вот что, – сказал ему отец Иона, – займись-ка одним делом. Из казармы ночью сбежал калмык…
– Не ночью, – не боясь грозного отца, поправил седеющий казачонок, подбил пальцем нарядную фуражку, приподнимая ее, – а без двадцати минут семь вечера.
– Это не имеет значения, – отец Иона махнул вялой рукой, – значение имеет другое: калмык не должен дойти до дома, понял?
Седеющий казачонок наклонил голову:
– Чего ж тут не понять?
– И весть об этом необходимо донести до казаков. Понял?
– И это понял, отец мой разлюбезный. Все будет исполнено в наилучшем виде.
Жизнь в Суйдуне шла своим чередом.Бембеев благополучно перешел границу и двинулся на север, к озеру Зайсан. Коню корма было больше, чем достаточно – степь огромная, о еде для себя калмык не беспокоился: за лето в степи и зайцы расплодились в количестве неимоверном, и птицы было полно, и козы бегали табунами. Патроны у Бембеева имелись, карабин тоже. Главное – не попадаться никому на глаза. А это посложнее, чем добыть на обед зайца и соорудить из него жаркое.
Спасало острое, как у беркута зрение, и такой же слух. Иногда конные разъезды возникали едва ли не из-под земли, но Бембееву везло – он замечал их до того, как те успевали материализоваться, и укладывал коня в высокую траву, либо скрывался в лощине.
Зайсан встретил его тишиной и прохладой. Солнце, золотясь ярко, с удовольствием купалось в глубокой спокойной воде, ныряло вниз, ко дну, высвечивало зелень, островками растущую среди ила, и устремлялось наверх. Здоровенные судаки высовывали головы из воды, клацали челюстями, норовя ухватить лучик.
Бембеев выпрыгнул из седла и припал к воде. Он пил и не мог напиться. Теплая вода Зайсана имела сладковатый привкус, отдавала тиной, травой, еще чем-то очень знакомым, но чем именно, Бембеев не мог вспомнить: запах этот крутился в памяти. Наконец Бембеев оторвался от воды, восхищенно потряс головой:
– Хор-рошо!
Он плеснул себе пару пригоршен на темя и вновь восхищенно воскликнул:
– Ох, хор-рошо!
Бембеев вытащил из конских зубов железные удила, стянул уздечку через голову коня и шлепнул ладонью по купу:
– Попей-ка водицы! Вку-усная!
Конь согласно мотнул головой и, распугав судаков, вошел в воду. Жадно всхрапнул, припадая к ней мордой.
Берег был пуст, и, хотя в полукилометре виднелась кривоватая глиняная мазанка, неумело слепленная рыбаками, ничто не свидетельствовало о том, что в ней кто-то обитает. И вообще, судя по пустынности, здесь вряд ли кто был в последние месяцы. Да и судаки потому так осмелели и разожрались.
Оставив поклажу на берегу, Бембеев подхватил карабин, сунул в карман галифе пару обойм и пошел обследовать мазанку. Коня выгонять из озера не стал, жалко стало: досталось коню в последнее время не меньше, чем хозяину; пусть отдыхает. По дороге Африкан спугнул толстую, похожую на обрубок серую змею, гревшуюся на солнце. Присутствие осторожной змеи на берегу лишний раз указывало на то, что здесь давно не было людей.
В мазанке пустой, убогой, крохотное слепое оконце было затянуто старым бычьим пузырем, в углу сложена печушка, от которой пахло закисшей золой, горелой сажей, еще чем-то лежалым. Дрова рыбаки, похоже, привозили с собой или вылавливали плавник – в округе их не имелось. Еще Бембеев обнаружил в избушке старую, набитую сопревшей соломой наволочку, обрадовался ей, солому вытряхнул в печушку, а наволочку взял с собой – постирать. Наволочка – примета дома, теплой постели, покоя…
Поскольку мазанка эта – рыбацкая, то, наверняка, где-нибудь должна быть спрятана и сеть хотя бы часть ее, рваная… В избушке кусок сети действительно нашелся, спрятанный в самом сухом месте – за печкой. Калмык поцецекал озадаченно языком – дыры в выбракованной сетке были очень большие – придется чинить. Бембеев почувствовал себя усталым, но собой остался доволен – все, что ни замышлял, – все ему удавалось.
Он, выглянув из мазанки, сунул в рот указательный палец, громко свистнул. Никто в дутовской армии не умел свистеть, как он, – ловко, одним пальцем, прижав его к языку, по-шамански хитро и лихо, лишь один Бембеев; нескольких человек он пробовал обучить этому лихому свисту – не получилось.
Конь, услышав команду хозяина, со звонким ржанием вынесся на берег, отряхнулся и с места пошел галопом. Только земля гулко задрожала под его копытами. Бембеев ухватил коня за храп, сунул в зубы сухарь – конь любил сухари, будто пьяница – шкалик. Конь с удовольствием сжевал каменной твердости сухарь, поддел хозяина мордой под локоть – давай; мол, еще…
Распустить сетку оказалось делом непростым – калмык кряхтел, напрягался, сдувал с кончика носа пот, но разгадать запутанные намертво узлы неведомого вязальщика не смог. Завидев человека около мазанки, начали слетаться чайки, шумно плюхались в воду, кричали, спрашивали у Африкана, когда же он забросит снасть в озеро? Африкан улыбался, сопел, впивался зубами в слипшиеся узлы и не отвечал птицам.Связь между Чанышевым и Дутовым работала бесперебойно, будто хорошо смазанный механизм: курьеры регулярно ходили в Суйдун, возвращались обратно.
Темной ночью, в начале октября, Чанышев ждал связиста в предгорьях, у двух дряхлых каменных зубов, распадающихся прямо на глазах. Связник опаздывал, и Чанышев нервничал – не случилось ли чего? Время ведь такое, что люди исчезают сотнями, и никому даже в голову не приходит искать. Хоть войне и пришел «кердык», как насмешливо выражался Давыдов, а она продолжается – невидимая, неслышимая, но очень злая, и крови на ней льется не меньше, чем на войне масштабной.
Наконец вдали послышался мягкий топот, сдобренный тряпичными куклами, специально намотанными на копыта. Чанышев прислушался – показалось, что топот был сдвоенным. Может, за связником скачет еще кто-то, выслеживает его?… Чанышев расстегнул деревянную кобуру, откинул верхнюю захлопывающуюся крышку, ощупал пальцами рукоять маузера… Вновь прислушался к темноте. Точно, топот копыт был двойным – вместо одного связника приближались двое. Чанышев всунул руку в карман куртки, проверил, есть ли патроны? Обычно он обязательно кидал десятка два россыпью на дно кармана – на всякий случай. Если стрельба оказывалась затяжной, то «рыжики» всегда бывали кстати – так патроны к револьверу звал «рыжиками», либо «грибочками» тот же Давыдов. Остроумный человек.
Метрах в ста от Чанышева всадники остановились. Тот, который скакал впереди, зажег спичку, трижды прикрыл ее ладонью и потушил. Это был условный знак, который мог подать только связной. Чанышев облегченно вздохнул и застегнул кобуру.
Всадники подъехали к каменным зубцам, спешились. С недалеких вершин потянуло холодом. Чанышев поежился, подержал руки некоторое время в карманах куртки, согревая, и, выйдя из-за громоздкого камня, проговорил негромко:
– С благополучным прибытием!
Связной первым подошел к нему, протянул руку:
– От Александра Ильича Дутова – личный посланец, – сказал он, кивнув в сторону человека позади. – Велено устроить на работу, помочь во всем и так далее…
– Устроим, – бодро произнес Чанышев, – поможем… Доволен будет.
– У меня к вам письмо, – тихим, едва различимым голосом сообщил посланец, добавил, наклонившись к Чанышеву: – от Александра Ильича лично.
– Генерал любит лично писать письма, я знаю… Имеет литературный дар, – Чанышев рывком протянул руку: – Давайте сюда письмо!
Фамилия у дутовского посланца была простая, очень русская – Еремеев. И звали его просто – Еремеем.К починенной, в четырех или пяти местах сетке нужен был кол, но найти на безлесом Зайсане деревяшку – дело почти безнадежное. Поэтому Бембеев, пометавшись по берегу, решил выбрать камыш потолще и обойтись им, иначе он вряд ли что поймает – все судаки с сазанами будут над ним смеяться. Сняв сапоги, развесив на кустах чернобыльника портянки, стянув брюки и также накинув их на упругий куст – пусть одежда подсохнет, – он в кальсонах залез в воду. Вода была теплой, ног касались своими гладкими телами рыбешки, щекотали кожу.
Выбрав несколько толстых, с узловатыми стволами стеблей камыша, Бембеев выдернул их и выволок на берег. Там один заострил, обрезал верх. Работой своей остался доволен, привычно цецекнул языком. Камышовые колья он вогнал в ил заостренным концом, подналег на них, укрепляя, примотал край сетки к одному, потом другому колу, проверил на прочность – не оборвется ли – с воодушевлением поплевал на руки – можно было делать первый заход.
Дно озера круто опускалось, под ноги попадались скользкие водоросли, какие-то ракушки, еще что-то. Африкан зашел в воду по шею и, сипя от напряжения, делая широкую дугу, поволок к берегу кол с привязанным концом сети. Пока тащил, упираясь в дно босыми пятками, почувствовал один сильный удар, за ним второй. Сердце у него радостно екнуло. Следом раздался еще один удар, чуть не выбивший у него из пальцев камышовый кол с сеткой, в голове мелькнула мысль, что это не рыба попала, а целый поросенок – слишком уж велико было сопротивление.
– Ого-го-го! – закричал калмык восторженно.
Возбужденные чайки поддержали его согласными воплями, взмыли в воздух, сыпя в озеро водяной сор, будто шрапнель. Африкан, чувствуя, что невидимая рыбина буквально выламывает у него из рук кол, засипел сильнее, поспешил к берегу. Мелькнула испуганная мысль «Уйдет ведь!» Рыба была не только сильная, но и хитрая, не боялась шевелящихся в воде белых ног. «Не сожрала бы!» – возникло в мозгу опасливое, и Африкан еще проворнее заработал ногами по дну.
Чем ближе была влажная темная кромка песка, тем сильнее становилось сопротивление добычи, тем буйнее вели себя «поросята», угодившие в сеть. Африкан не сдержался, радостно захохотал – он наварит не только ухи, но и навялит рыбы.
– Ого-го-го! – вновь закричал он, отпугивая от себя наглых остроклювых чаек.
Калмык благополучно выволок добычу на берег – хватило и ума, и сноровки, и фарта. Добыча оказалась все-таки не так велика, как казалось в воде: буйный сазан килограммов на шесть, который никак не мог смириться с тем, что спросонья угодил в неприятность, вполне приличный судачишко с мутным пьяным взглядом и штук шесть хулиганистого вида окуньков… Главное было – не упустить сазана, Африкан извлек из-под ноги здоровенную ракушку, саданул ею сазана по голове, целя в глаз.
– Не дергайся, – исступленно выкрикнул он, – не брызгайся бульоном, раз сидишь в супе.
Сазан покорно стих.
– Так-то, паря, – одобрил поведение сазана калмык.
У него с собой было несколько картофелин, тряпица с разными ароматными китайскими корешками, пяток луковиц и даже лаврушка – все то, без чего уха не бывает ухой. Он, правда, привык к ухе по-степному, а в нее обязательно добавляют несколько помидорин, – да еще три-четыре наперстка смирновской водки – но ни того, ни другого, увы не было… Африкан наполнил котелок водой, под днище сунул полдесятка изрезанных ножом камышовых кочерыжек, затем хряснул куском немецкой стальной подковы по кремнию, высек целый сноп ярких брызг, дружно нырнувших в кусок ваты. Вата немедленно поглотила горящие брызги, через несколько мгновений над ней поднялся вонючий сизый дымок. Прошло еще немного времени, и в котелке забулькала вода. Звук этот – уютный, – напомнил Африкану о доме и заставил повлажнеть глаза.
Над Зайсаном плыли невесомые прозрачные облака, чайки, сожрав все рыбьи внутренности, выброшенные Африканом на песок, проглотив чешую и слизь, теперь сонно качались на воде, напротив костра и также ожидали ухи.
Отвел Африкан Бембеев душу сполна. Отяжелел так, что даже не осталось сил, чтобы подняться – отполз в сторону, в камышовую тень, и там задремал.
Сквозь дрему Африкан услышал, как тихо заржал его конь, пасшийся в сотне метров от мазанки. В другой раз, особенно если бы дело происходило на фронте, Африкан обязательно бы обратил на это внимание, а сейчас лишь сыто шевельнулся, подумал, что конь увидел лягушку, вылезшую из воды. Он не знал, что ждет его впереди, и не хотел забивать себе голову озабоченными мыслями – рано еще.
Через несколько минут Африкан уже видел себя в степи, посреди волнующегося серебряного пространства, – отец установил юрту на мягком ковыльном пятаке. Африкан зачарованно смотрел на переливающиеся под ветром макушки ковыля, на крупный красный диск солнца, повисший низко над землей, и радовался жизни. Из юрты вышел отец, встал у сына за спиной, тряхнул роскошной волчьей шкурой, которую держал в руке.
– Посмотри сюда, – сказал он.
Шкура была хороша, выделана тщательно – мягкая, можно легко свернуть в рулон, волос блестящий, живой, от встряхивания по шерсти побежал волнистый свет.
– Я хочу сшить из нее тебе шапку.
– Спасибо, ата. Но из этой шкуры две шапки может получиться.
– Пусть будет одна, но очень хорошая.
Неожиданно крупное красное солнце заслонила чья-то тень. Бембеев, не просыпаясь, поднял голову, ничего не увидел, застонал с досадою и в следующее мгновение открыл глаза. Над ним стояли три человека с жестко сцепленными челюстями и холодными насмешливыми глазами. Бембеев поспешно подтянул к себе босые ноги.
– Отдыхаешь? – спросил один из незнакомцев, пожилой, с плохо выбритым седым подбородком, морщины густо обметали уголки его глаз.
Бембеев попробовал подняться, но один из незнакомцев с силой врезал ему ногой по груди – приложился всей ступней. Калмык ударился о землю спиной, застонал. Невольно подумал о том, что отец приснился ему недаром…
– Тебе вопрос задают, чего не отвечаешь? – поинтересовался человек с сабельным шрамом. – А?
– Отдыхаю, – сипло, давясь слипшимся в груди воздухом, ответил Бембеев.
– Мы приехали, чтобы отдых твой сделать вечным, – с пафосом произнес третий, скуластый красноносый казак, густо заросший рыжим диким волосом.
– Кто вы? – спросил Бембеев. – Что я вам сделал?
– Нам-то ты не сделал ничего, – сказал пожилой, кладя руку на новенькую кожаную кобуру, притороченную к ремню, – но лучше бы ты нам что-нибудь сделал, чем отцу Ионе.
– Это почему же? – прохрипел калмык.
Ему сейчас важно было выиграть время, увлечь этих людей каким-нибудь разговором, либо посулами – неважно чем, лишь бы они не открыли стрельбу раньше времени.
– Он еще спрашивает, – хмыкнул красноносый казак, сунул руки в накладные карманы английского френча, осуждающе качнул головой.
– От нас можно откупиться, – доверительно произнес старший, – от отца Ионы – никогда.
– Вы пришли меня убить? – просипел Африкан.
Непрошеные гости дружно захохотали.
– Нет, пришли накормить тебя мармеладом, – отхохотавшись, сообщил старший. – Вот скажи, голуба, – старший передвинул кобуру набок, присел перед калмыком на корточки и доверительно глянул ему в лицо, – с какой стати ты решил отправиться к красным? У тебя что, поручение какое-нибудь к ним имеется? Или что-то еще?
– Ничего у меня нет, – просипел Африкан, – и вообще я не понимаю, о чем идет речь.
– Не понимаешь? – старший ехидно ухмыльнулся.
– Не понимаю.
Сабельный шрам на лице молодого тем временем потемнел, налился краской, Африкан поспешно отодвинулся, изобразил испуг, парень со шрамом это заметил, брезгливо раздвинул губы, будто перед плевком. Калмык смерил глазами расстояние до красноносого казака, который откололся от остальных и заглядывал теперь в котелок, где находилась недоеденная уха, по-собачьи шумно нюхая и восхищенно поцокая языком:
– Однако тут и хлебово вкусное есть!
До красноносого было далеко, не достать, но именно он представлял сейчас для Африкана наибольшую опасность.
– Значит, не хочешь сказать, с каким поручением ты идешь к красным? – старший стер со лба мелкие бисеринки пота, глянул на ладонь.
– Нет у меня никакого поручения, – Африкан энергично помотал головой, – и никаких красных я не знаю. Я домой иду, домой… Понимаете?
Молодец, украшенный шрамом, сожалеюще вздохнул – ну чего стоило человеку признаться? – убили бы тогда без всяких мучений, а сейчас ему придется страдать, харкать кровью… Он занес ногу для удара и с кряканьем саданул ею Африкана. Но нога цели не достигла, повисла в воздухе – молодому вояке даже показалось, что она остановилась сама по себе. В следующее мгновение он полетел на своего старшего напарника, тот неверяще взвизгнул и, задрав конечности, впечатался спиной в песок. Африкан перескочил через него и кулаком вогнал голову молодца, украшенного шрамом, в глубину куста.
Красноносый казак, приспособившийся уже было к котелку, онемел, держа «варево» в руках. Он словно не верил тому, что видел, нижняя челюсть у него отвалилась, стал виден нездоровый язык.
Калмык действовал стремительно, как когда-то на борцовском ковре. Все забытые приемы мигом вспомнились; стиснув челюсти, он нанес молодцу второй удар, услышал, как под кулаком у того треснули зубы, изо всей силы рванул пистолет, призывно торчавший у молодца из кобуры, ловко, будто фокусник, подкинул его в руке и выстрелил в старшего. Старший запоздало дернулся, закричал – пуля попала ему в живот. Африкан, обрезая этот крик, снова выстрелил, всадил вторую пулю этому человеку в голову. Пуля насквозь пробила череп, будто пустую деревяшку.
Затем калмык перевел пистолет на казака, державшего в руках котелок с ухой. Тот стоял на месте, будто завороженный колдуном. Африкан повел стволом пистолета дальше и выстрелил в куст, примятый головой молодого налетчика со шрамом.
Над кустом взвихрилось мокрое красное облако. Африкан выстрелил в куст снова – для верности – пуля тяжело встряхнула тело налетчика, ноги в щегольских новеньких сапогах дернулись, гулко хлобыстнулись каблуками друг о дружку.
Красноносый продолжал держать котелок в руках – он остолбенел, мышцы у него сделались деревянными, – казак не сводил с Африкана огромных, вывалившихся из орбит глаз и, похоже, не видел его.
– Поставь котелок на место, – приказал красноносому Африкан.
Казак очнулся, закряхтел, будто держал бревно, со скрипом сложился и поставил котелок на песок.
– Молодец, – похвалил его Африкан, – а теперь три шага от котелка назад – арш!
Красноносый послушно исполнил.
– Кругом! – подал новую команду Африкан. – Ша-агом арш!
Казак вскинул голову – перед ним была вода. Куда идти-то? В озеро?
Африкан поднял ствол пистолета.
– Я же сказал: арш! Не выполнишь команду – застрелю! – в голосе калмыка зазвенели угрожающие железные нотки. – Пошел!
Красноносый всхлипнул вновь, оглянулся моляще – прозрачная мирная гладь озера его пугала, он сделал несколько нерешительных шагов к воде и остановился. Застояться красноносому Африкан не дал, подогнал резким, как удар хлыста, вскриком.
– Пошел!
Красноносый дернулся, будто его пинком опечатали ниже спины, сделал еще несколько шагов и снова остановился.
– И-и-и! – взвыл жалобно вояка.
Африкан, почти не глядя, ткнул перед собой пистолетом, нажал на спусковой крючок. Громыхнул выстрел.
– Пошел в воду! – крикнул он. – Плыви!
– Куда плыть-то? – голос у красноносого был слезным, дрожащим.
– На ту сторону Зайсана!
До противоположной стороны Зайсана было, наверное, не менее сотни километров. Красноносый хотел стащить с себя сапоги, но Африкан не дал ему сделать и этого, опять гулко саданул из пистолета.
– И-и-и-и! – красноносый взвыл снова, аккуратно разгреб носками сапог перед собою воду – будто бы раздвинул озеро – вошел в воду по колено, остановился.
– Что-то ты, паря, совсем ленивым стал, – насмешливо проговорил Африкан, ловко, будто фокусник в цирке, подкинул пистолет, поймал его, нажал на спусковую собачку.
Стрелял Африкан метко – пуля пробила воду у самых ног красноносого, загоняя его дальше в озеро. Войдя в воду по грудь, красноносый снова остановился и провыл, давясь воздухом, слезами:
– И-и-и-и! Я плохо плаваю.
– В воду марш!
Красноносый вошел в воду по шею, приподнялся на цыпочки и, взбивая крупные брызги, бухнул сапогами один раз, другой, третий и умолк.
– Вперед! – Африкан махнул пистолетом.Наступила пора, когда Дутов стал колебаться, не зная, как быть – то ли верить Касымхану Чанышеву, и верить до конца, либо не верить вообще. Отец Иона, понаблюдав за Чанышевым, пустив по его следу нескольких довольно толковых топтунов, задумчиво чесал пальцами жидкую бороду, слушая их доклад, но сам ничего не говорил, лишь усиленно ворочал мозгами, – и все про себя, молчком, молчком…
– Ты чего, святой отец? – спрашивал у него Дутов, но отец Иона, ничего не говорил. – Чуешь чего-нибудь? – настойчиво подступал к нему Дутов. – Может, факты какие-нибудь у тебя есть?
– Пока нет, – подавлял в себе вздох отец Иона.
– Тебя не поймешь, – сердито произносил Дутов, – то ты балаболишь безумолку, будто баба, успешно продавшая на базаре мешок картошки, то молчишь, словно к языку у тебя прилип кусок смолы. Скажи что-нибудь определенное!
– В том-то и дело, отец родной, что ничего определенного сказать не могу. Пока не разберусь…
– Ты разберись, разберись… Мне это важно знать. Чем быстрее – тем лучше.
Очень хотелось отцу Ионе в такой ситуации отличиться, прихватить на чем-нибудь Чанышева, уже несколько раз пробовал он это сделать, но все попытки оказались пустыми, и на Касымхана поп пока ничего не добыл, никакого компромата.
При встречах с Касымханом он был ласков, голос его делался тихим, воркующим, глаза прощупывали фигуру гостя, старались зацепиться за какую-нибудь костяшку, проникнуть внутрь, но ничего у отца Ионы из этого не получалось.
– Никак не могу понять, кто вы есть на самом деле, – как-то сказал Дутов Чанышеву.
В ответ тот тихо, едва приметно улыбнулся:
– Кто я есть на самом деле, вы, Александр Ильич, знаете не хуже меня.
– Это не ответ, господин Чанышев, – неудовлетворенно покачал головой Дутов.
– Почему, Александр Ильич?
– Говоря вашим языком, потому, что вы также знаете лучше меня.
Вскоре после этого разговора Чанышев уехал в Джаркент. Прошло немного времени, и Еремеев, работавший теперь коневодом в милиции, – лучшего места для него даже придумать было нельзя, оно очень устраивало постаревшего Еремея, – передал Касымхану письмо. Чанышев вопросительно глянул на коневода.
– От атамана, – коротко пояснил тот.
«К.Ч. Ваш обратный приезд в Джаркент меня удивил, и я не скрою, что принужден сомневаться и быть осторожным с Вами, поэтому впредь до доказательства Вами преданности нам, я не сообщу многого. Сообщу лишь последние сведения, полученные три дня тому назад».
Колючий тон письма Дутова нехорошо удивил Чанышева, он резко обернулся – если бы засек чей-то взгляд, постарался бы немедленно разобраться с этим человеком. Но на него никто не смотрел.
«Ваши большевики озверели потому, что им будет конец, – писал дальше атаман. Тон письма был нервным. – У меня был один мусульманин с Кубани и передал письмо Врангеля. Содержание его не скажу. Деньги от Врангеля я получил. Врангель взял Екатеринодар, Владикавказ, Новочеркасск и Астрахань. Все казачьи войска с ним. Мы теперь имеем тесную связь, и надо сейчас не играть на две лавочки, а идти прямо».
Чанышев невольно усмехнулся: насчет того, что не годится играть на две «лавочки», атаман бесконечно прав… Только у атамана своя правота, а у Чанышева – своя. И словами ее можно выразить совершенно одинаковыми, повторяющими друг друга, а вот результат будет разный.
«Я требую службы Родине, – писал далее атаман, – иначе я приду, и будет плохо. А если кто из русских в Джаркенте пострадает – ответите Вы, и очень скоро».
Чанышев не сдержался, усмехнулся вновь – что-то уж больно грозно заговорил атаман. На самом же деле руки у атамана даже короче, чем он думает, и вряд ли ему когда-нибудь удастся поднять восстание, как это делал он еще совсем недавно, вряд ли сможет поджигать дома и убивать людей. Все это у атамана в прошлом. Одно настораживало – слишком уж отчетливо, даже назойливо звучали нотки недоверия в письме. А ведь оттого, будет ли верить атаман Чанышеву, зависит, станут ли впредь гибнуть земляки Касымхана или нет.
В кабинет к Чанышеву заглянул заместитель – рыжий бородатый казак из Конной армии Буденного, человек силы необыкновенной, рубака, весельчак, любитель абрикосового самогона. Как заместитель, буденовец был слабоват, а вот как рубака и тамада на застольях – очень хорош.
– Останешься за меня, – сказал ему Чанышев. – Я – к Давыдову.
– Что, обстановка осложнилась? – хриплым от вчерашней попойки голосом спросил рубака.
– Осложнилась, – коротко ответил Чанышев.
Давыдов находился на месте, он словно ждал Чанышева, стол перед начальником регистрационного пункта был чист – ни единой бумажки, ни одной соринки. Давыдов показал рукой на кресло:
– Садись, гостем будешь!
Чанышев сел, стукнул пальцами по столу.
– Я так понял, от нашего подопечного пришло письмо? – проявив проницательность, спросил Давыдов.
– Совершенно верно, час назад передали. Засомневался он во мне, вот что, товарищ Давыдов.
– Считай, что во мне он тоже засомневался, – Давыдов обреченно махнул рукой, жест был красноречив: пропащие, дескать, они с Чанышевым люди – но в следующее мгновение не выдержал, засмеялся: – Тебя это очень огорчает?
– Очень, – признался Чанышев. – От этого же зависит успех операции.
– Я считаю – ничего страшного в этом нету, – сказал Давыдов. – Других людей у атамана на нашей территории все равно нет. Поэтому, как бы там ни было, он должен будет довольствоваться тем, что у него имеется в наличии. Отсюда делай выводы, товарищ Чанышев. Мы с атаманом повязаны одной веревочкой. Старайся дальше входить к атаману в доверие. Если считаешь, что воду здорово мутит поп, мы этого попа уберем быстрехонько – комар носа не подточит. Дай-ка письмо!
Чанышев отдал письмо начальнику регистропункта. Тот быстро пробежался взглядом по бумаге. Задержался на последнем абзаце. Перечитал его.
– А вот пожалуйста, специальный пункт для укрепления твоих, товарищ Чанышев, дружеских отношений с Дуговым. Он сам предлагает, лично – подчеркиваю, лично, что выполнение этого пункта резко повысит твои акции… Смотри, – Давыдов провел пальцем по бумаге. – «Я требую сдачи в Чимпандзе пятидесяти винтовок с патронами – иначе сами учтите, что будет. Вы сделать это можете, и тогда поздравляю Вас с чином и должностью высокой, почетом и уважением». А! – Давыдов громко хлопнул рукой по столу. – Да мы дадим дутовцам не пятьдесят, а семьдесят пять винтовок, пусть владеют! И патронов дадим. Три ящика!
– А если они начнут стрелять по нашим мирным гражданам, тогда что?
– А вот этого мы им не дадим, – Давыдов язвительно, будто Змей Горыныч перед полетом на дальние огороды Бабы-яги, оставшиеся без присмотра, ухмыльнулся, – не получится! – Он побарабанил пальцами по столу.
Чанышев тоже побарабанил, – сам не заметил, как повторил Давыдова, затем оба, словно поймав друг друга на чем-то запретном, засмеялись – это вышло у них очень даже неплохо.
– Чаю хочешь? – спросил Давыдов.
– Нет.
– Тогда бывай, – Давыдов приподнялся с кресла и сунул Чанышеву крепкую, в дубовых наростах мозолей руку, – мне еще работать надо.
– Мне тоже.Красноносый казак бухал, бухал сапогами и таким образом сумел отплыть от берега метров на пятьсот, потом силы у него кончились. Он прокричал что-то прощально и пошел на дно. Рыбам на корм.
Увидев, что зайсанская гладь сделалась чистой, никто не мутит воду, калмык небрежно помахал рукой:
– Прощевай! В следующий раз будешь знать, как на чужую уху зариться.
Он хотел было оставить трупы на берегу – через пару-тройку дней, от них ничего не останется, все подберет здешнее зверье, лисы, да камышовые коты, но потом решил, что лучше сдернуть тела в воду, пусть они, как и красноносый, покоятся в озере… Пускай у них будет общая судьба. И могила – общая.
Африкан хотел снова забраться под камыши и забыться на теплом песке хотя бы на пару часов, но песок был испачкан чужой, быстро почерневшей кровью, которую уже облепили жадные мухи, и Африкан прошел в мазанку.
Думал, что на озере он отдохнет, наловит рыбы на дорогу, но все испохабили непрошеные гости… Он невольно покосился и сторону Зайсана. Придется отсюда уходить. Хотя и не хочется. Однако есть силы, которые выше самого могучего человека. Есть обстоятельства, также человеком созданные, которые просто невозможно преодолеть. Есть судьба в конце концов, которую ни исправить, ни обмануть…
Африкан постоял немного в раздумии, поежился от неприятных мыслей, потом подхватил свои вещи, развернулся и вышел из мазанки, плотно прикрыв дверь и подперев ее снаружи толстым, одеревеневшим от времени камышовым обрубком. На берегу он оделся, свистнул своего коня, затем разыскал трех коней, которые никогда уже не понадобятся своим хозяевам, связал их общим поводом и двинулся на запад, в сторону солнца, начавшего краснеть – приближался вечер, а до темноты Африкану надо было определиться с ночлегом.
Еще одна забота не давала покоя Африкану – надо было обязательно понять, как его нашли эти трое? Случайно наткнулись или же двигались за ним по следу от самой крепости? В последнем случае домой, в Оренбург, нет смысла возвращаться, там его очень скоро возьмут тепленьким, и, как повезло сегодня, ему может не повезти. Вместо запада неплохо было бы двинуться в обратную сторону, осесть где-нибудь в Чите или в Благовещенске – незнакомых чужих городах… Воспользоваться чужими документами? Но кто гарантирует, что они не оказались бы фальшивкой или владельца их разыскивают не только в России…
Наконец Бембеев выпрямился в седле, застегнул воротник, сделавшись стройнее и собраннее, шевельнул вечерний воздух плеткой, и конь, разом забоявшись ее, запрядал ушами.– Не бойся, не трону, – сказал ему Африкан, глянул на крупное красное солнце, уже коснувшееся нижним краем земли, стер с глаз влагу, образовавшуюся внезапно, и повернул коня в противоположную от солнца сторону. – Поехали туда, – произнес он тихо, – домой нам нельзя. Нас там не ждут. Или наоборот – ждут очень даже…
Фигура Африкана, сидевшего на лошади, еще долго была видна, освещенная темным красным солнцем, потом нырнула куда-то вниз, в лощину, в лощину погрузились и трое коней, которых калмык вел за собой в поводу – все, в общем, исчезло: ни Африкана не стало, ни лошадей. Лишь печальный многоголосый звон стелился над степью…
Давыдов предложил Чанышеву использовать Еремея в качестве курьера:
– Нечего ему в коноводах отираться, пусть съездит в Суйдун. Мы его, кстати, проверили…
– Ну и что?
– Ни в чем серьезном не замешан. Иначе ты сам понимаешь… Ему бы давно был кердык. Ты бы сам привел приговор в исполнение. Если бы у тебя дрогнула рука – я бы привел… У меня рука не дрожит.
– Это верно. Но все-таки он не наш человек. Он – человек атамана.
– Тем лучше. Значит, ему веры там больше будет.
– На той стороне, не на этой… – пробормотал Чанышев.
– Ты, Касымхан, гибче будь, гибче… Революция любит гибких людей. Посмотри на Троцкого. Вертится, как угорь на горячей сковородке.
– Ладно, давай используем этого махрового дутовца в качестве курьера, – согласился Чанышев.
– Глядишь, на нашу сторону перетянем…
– Вряд ли.
– Тогда уничтожим. Одновременно с твоим коноводом надо послать своего курьера. Пусть все проверит и доставит нам точные данные.
Еремеев привез от Дутова письмо со следующим текстом:
«Вы спрашиваете новости. Сообщаю: генерал Врангель соединился с крестьянами Махно. Фронт его усиливается ежедневно. Франция, Италия и Америка официально признали генерала Врангеля главой всероссийского правительства, послали помощь: деньги, товары, оружие и 2 пехотных французских дивизии. Англия пока подготавливает общественное мнение против большевиков и на днях ожидается ее выступление. Дон и Кубань соединились с Врангелем. Бухара совместно с Афганистаном выступит на днях против соввласти. Думаю, что шаг за шагом коммуна погибнет, комиссарам грозят все последствия народного гнева. Советую семью Вашу перевезти в Кульджу под видом свидания с родственниками или закупки товаров. Пока все. Поклон Вам и другим, кто против народа не работал. А.Д.»
Прочитав это послание, Давыдов усмехнулся, поскреб щетину на щеках.
– Все-таки атаман больше похож на сочинителя сказок, витающего в «воздусях», чем на боевого генерала, – сказал он. – Я тут провел кое-какую разведку… – Давыдов снова поскреб пальцами жесткую, как проволока, щетину, поморщился с досадой: если заявится какой-нибудь «регистрационный» проверяющий, обязательно намылит шею за неопрятный вид. – И вот что выяснил. Прежде всего китайцы проводят у себя в Кульджинском округе частичную мобилизацию, призывают по восемьсот человек с каждой волости… Как ты думаешь, товарищ Чанышев, что это значит?
– Точно сказать не могу, хотя догадываюсь: Дутов стал опасен китайцам.
– Почти угадал. Но они не боятся Дутова. Дело в другом – китайцы хотят перекрыть атаману отход к ним в Китай, если тот ввяжется с нами в боевые действия и проиграет. А он, судя по всему, обязательно ввяжется – по письму хорошо видно, как он петушится и усиленно готовится к нападению. Китайцы покумекали и решили, что ссорится с нами им совсем не резон. Замечу, Касымхан, мобилизации не подлежат дунгане и тарачинцы [70] . А что это значит? Это значит, что среди дунган и тарачинцев могут быть люди, близкие к Дутову.
– В общем, обстановка накаляется…
– Совершенно верно. Четыре дня назад китайские представители выезжали на границу, обследовали, насколько она надежна. Это тоже показательная штука. И еще. По моим сведениям, атаман ищет подходы к опиуму, хранящемуся у нас на складах и Джаркенте…
– Такие сведения привез и Еремеев.
– Верно. Это свидетельствует о том, что никаких особых денег атаман не имеет и помощи ни от кого, кроме как от генерала Багича, не ждет. А деньги и помощь ему ой как нужны.
Чанышев согласно качнул головой.
– В общем, понятно одно: надо ускорять ликвидацию атамана. Не будет Дутова – не будет и этой головной боли. – Касымхан побарабанил пальцами по столу.
– Молодец, товарищ Чанышев! – громко воскликнул начальник регистрационного пункта. – За что я тебя люблю, знаешь? За сообразительность.
Чанышев потрогал усы и ничего не сказал Давыдову. Конечно, ускорить ликвидацию атамана нужно, но и торопиться тоже нельзя, – операция может сорваться. Тогда ни Чанышеву, ни Давыдову голов не сносить.
На улице стоял ноябрь. Холодный ноябрь двадцатого года.
Через несколько дней в кабинет Чанышева в Джаркенте постучался красноармеец в обмотках, с самодельными костылями, – судя по всему, он только что выписался из госпиталя. Войдя в кабинет, красноармеец оглянулся подозрительно, словно бы проверял, есть у здешних стен уши или нет, и сказал:
– Я от Александра Ильича.
Чанышев оценивающе оглядел красноармейца:
– Письмо есть?
– Есть.
– Давай сюда, – протянул руку Чанышев.
Красноармеец полез за пазуху… Письмо действительно было от атамана, написано его рукой, – Дутов просил пристроить своего агента по фамилии Нехорошко куда-нибудь в советское учреждение на неприметную должность. На следующий день в милиции появился новый писарь. По фамилии Нехорошко. У Чанышева теперь работали уже два агента атамана – Еремеев и Нехорошко.Проезжая по крепости на экипаже, Дутов неожиданно заметил плечистого господина, с откровенным любопытством разглядывавшего его.
Наряжен господин был так, как никто в крепости, наверное, не наряжался: в старую генеральскую шинель с красными отворотами и споротыми погонами. Давно не стиранный клетчатый шарф не скрывал шею, покрытую синеватой куриной кожей.
На ногах незнакомца красовались роскошные отлитые из чистой гутапперчи, американские галоши яркого оранжевого цвета, кое-где испачканные грязью. На голове вороньим гнездом торчала нахлобученная по самые уши старая шляпа, украшенная дыркой. И если лицо этого диковинного господина мало о чем говорило Дутову, то галоши, похожие на гусиные лапы, мигом вернули его в прошлое, в Оренбург пятнадцатого года и в Петроград семнадцатого, напомнив об одном из борцов, на чьем поединке Дутов когда-то присутствовал.
– Святой отец, – атаман толкнул локтем сидевшего рядом отца Иону, – того казаки стали звать совсем не по праву «святым отцом», но Иона против этого не возражал, – а, святой отец!
Отец Иона, клевавший носом после бессонной ночи, – пришлось выяснять у одного казака, где тот взял красные листовки, отпечатанные в городе Верном, – дернулся, вскинул голову и обвел мутными глазами пространство.
– Я весь внимание, Александр Ильич, – слазал он.
– Глянь-ка на это чучело, – попросил Дутов.
– Какое чучело?
– Вон, у хлебной лавки стоит.
Отец Иона оценивающим взглядом окинул бывшего борца.
– Ну?
– Лазутчик ведь. Присмотри за ним!
Лицо у отца Ионы дрогнуло, смуглые полные щеки посветлели, веки опустились на глаза. Впрочем, сквозь реденькие, кокетливыми запятушками загнутые ресницы пробивался наружу острый колючий свет, – несмотря на внешнюю сонливость, отец Иона всегда находился начеку, все видел и все слышал.
– Угу, – произнес он едва различимо, в себя.
Вечером бывшего борца пытали, стараясь выяснить, какое же задание он получил от красных комиссаров, что ему надо в Суйдуне. Но борец молчал. Он и сам не знал, если откровенно, что ему надо в крепости. Забрел он сюда в основном ради любопытства, красных комиссаров в глаза не видел, хотя слышал про их кожаные тужурки, да про маузеры, но это совершенно не имело отношения к нему, к борцовскому ковру и к цирку. Отец Иона внушал тихим ласковым голосом:
– Ты должен уразуметь, что я с тебя шкуру сниму с живого, но правды добьюсь… Говори, что тебе наказали красные комиссары?
Борец с трудом шевелил челюстью, слизывал языком кровь с губ и отрицательно качал головой:
– Я не знаю никаких комиссаров… Поверьте мне! Честное слово!
– Зачем ты сюда приехал? Что тебе надо в Суйдуне?
– Цирк… – борца трепала одышка, внутри сидела боль, скручивала его в веревку, ему хотелось сейчас одного: заползти в угол этого темного вонючего помещения и затихнуть там. – Цирк… – горло, грудную клетку ему здорово трепал кашель, борец гхакал так, что у него чуть зубы не вылетали.
– Цирка нам только не хватало, – отец Иона поморщился, – ко всем нашим бедам и заботам… Пхе! – Он повернулся к угрюмому звероватому казаку с плоским лицом и блестящими глазами. – Выдерни-ка ему пару ногтей на правой руке…
Борец ничего не мог сказать, потому что приехал организовать в Суйдуне гастроли передвижного цирка, отец Иона по воле атамана загубил невинную душу. Утром часовые нашли за крепостной стеной, в сточной канаве окоченевший громоздкий труп с босыми грязными ногами. Роскошные галоши борца приглянулись одному из «аборигенов», и тот поспешил присвоить их себе. Похоронили его, как «неизвестное лицо», установив на могиле фанерку с соответственной надписью, фанерку кто-то вскоре украл, еще через месяц могила сровнялась с землей, и ничто уже не свидетельствовало о том, что тут похоронен человек.Дутов продолжал готовить переворот в России и прежде всего – в Семиречье – с утра находился на ногах, стремительно перемещался по крепости в сопровождении конвоя, пугая здешних собак и кур. Обстоятельства, однако, складывались совсем не так, как ему хотелось.
Давыдов вызвал к себе Чанышева, поставил перед ним стакан горячего чая, в блюдце крутой горкой насыпал черного, антрацитово поблескивающего изюма – это был особый сорт, сладкий, как сахар, без косточек – сабза. Давыдов пил с сабзой чай, как с сахаром, щурился и причмокивал от удовольствия, стирая широкой ладонью пот со лба: «Хар-рошо!»
– Садись! – пригласил он Чанышева к столу. – Чай настоящий – товарищи из Индии привезли. Изюм – «цыганский», его не только люди обожают – даже лошади, – он зачерпнул щепоть сабзы и отправил в рот. – Вот что, товарищ Касымхан… Пора снова собираться в Китай, к Дутову.
Чанышев сделал один глоток, сладко почмокал губами:
– Курьеры ездят постоянно.
– Курьеры – не то, – сказал Давыдов. – Курьеров надо проверять. В общем, наступила пора очередной проверки. Дутов хорохорится, печатает статейки, хвалится, что денег у него куры не клюют: и Врангель ему подкинул, и французы в торжественной обстановке вручили, и англичане облагодетельствовали… Словом, атаман все больше и больше становится бельмом на глазу. Чем раньше мы его ликвидируем – тем лучше. Как идет подготовка?
– Идет, – уклончиво ответил Чанышев, – как только все будет готово – доложу.
– Имей в виду, Касымхан, чем раньше это произойдет – тем лучше. Да ты и сам так считаешь… В общем, доверие тебе, Касымхан, полное, поэтому и к сведениям, которые ты привезешь из Суйдуна, отношение будет такое же. По ним и будем принимать решение.
– Я вас понял.
– Раз понял – тогда вперед!
Чай допили в молчании. Пустой стакан Чанышев отставил в сторону, поднялся, щелкнул каблуками и произнес буднично словно бухгалтер из артели, занятый сбором рогов и копыт:
– Я пошел.
– Валяй! – продолжая пребывать в глубине своих мыслей, разрешил Давыдов.
Мысли его мучили, что называется, трудные, пробраться через их хитросплетения было непросто. Давыдов Чанышеву доверял, но, с другой стороны, не забывал и о пословице, рожденной, вполне возможно, революционными годами, «Доверяй, но проверяй».Напрасно ожидал отец Иона трех своих агентов, которых он отправил в погоню за калмыком, – агенты в Суйдун так и не вернулись.
– Неужто красные их прихлопнули? – озадаченно скреб бороду отец Иона. – Как мух – березовой веткой? Не может этого быть! Мужики ведь были опытные.
Он поймал себя на мысли о том, что размышляет об агентах в прошедшем времени, будто их уже нет в живых, недовольно поморщился, скорбно вздохнул. Чтобы понять, что произошло, надо было копнуть приятелей калмыка, оставшихся здесь, в Суйдуне, наверняка, наведут на какой-нибудь след. Таких было трое, все – Георгиевские кавалеры: Еремеев, Кривоносов и Удалов.
Расспросить Еремеева не было возможности: его атаман лично послал в Совдепию присматривать за обстановкой и разным непутевым народом. Урядник Еремеев уже больше месяца находился в Джаркенте – сумел там устроиться на работу и время от времени присылал в крепость донесения с разными второстепенными сведениями. Отец Иона все, о чем сообщал урядник, знал и без донесений, из других источников, но тем не менее одобрял работу Еремеева в Совдепии, и прежде всего потому, что так повелел Дутов…
Второй приятель калмыка, бывший оренбургский сапожник Удалов, также находился в Совдепии, в Фергане – наводил мосты с Ергаш-Беем… Отец Иона расчесал пальцами бороду, потом прижал ее к ноздрям. Борода пахла дешевыми конфетками-подушечками, очень популярными у китайцев… И до Удалова сейчас не добраться.
Есть еще Семен Кривоносов, который никуда из крепости не уходил и не собирался уходить – стал личным ординарцем Ольги Викторовны. Без него матушка, как без рук – и яичек свежих с рынка без него некому принести, и дров для печи наколоть, и двор подмести, и самовар раскочегарить, и заварки хорошей, китайской либо индийской, достать, и грязь с обуви стереть – все это входит в обязанности Сеньки Кривоносова. Стоит ему только где-то застрять, как в доме занавески колышатся от крика:
– Семе-ен! Где вы?
Даже есаул Мишуков, здоровяк и красавец, ординарец атамана, был лишен права вмешиваться в дела Сеньки Кривоносова, вот ведь как. Отец Иона не выдержал, досадливо крякнул. Тьфу!
Выдернуть в такой обстановке Кривоносова на элементарный разговор, не говоря уже о допросе, – штука сложная… Отец Иона поддел рукою бородку, задрал ее вверх, с шумом втянул в себя воздух. М-да, пора бы и в баню наведаться… Однако он все равно извернется и допросит Сеньку Кривоносова, а Ольга Викторовна об этом никогда и не узнает.
У отца Ионы было несколько помощников, один из них даже говорить не умел, только мычал. Были и офицеры, сотник и подъесаул. Имелся даже судебный исполнитель в прошлом, знаток права, примкнувший к войску еще в Оренбурге. Поэтому отец Иона решил, что сам он связываться с Сенькой не будет – слишком опасно, а вот кому-нибудь из своих помощников поручит. Пусть аккуратненько прощупают «дамского угодника», вдруг у него есть какие-нибудь сведения и он укажет, куда нырнул этот проклятый калмык. Вздохнув озабоченно, отец Иона начал мысленно перебирать имена помощников. В конце концов он остановился на татарине Абдулле. Ему можно было доверять, как самому себе, – человеком он был верным.
Он призвал татарина к себе, тот вошел совершенно беззвучно, даже слабого шороха не произвел, поклонился учтиво, низко.
– Абдулла, ты ординарца Ольги Викторовны знаешь?
– Сеньку-то? А кто ж его не знает?
– Поговорить с ним надо. По душам. Сможешь?
– А чего не смочь. Только ведь он все расскажет атамановой бабе. У нас тогда что физиономии, что задницы – одного размера будут.
– А ты аккуратненько, аккуратненько… Я бы и сам этот разговор провел, но мне нельзя.
– Понимаю, начальник, – Абдулла наклонил крупную бритую голову в тюбетейке. – Атаман спросит – тебе и ответить нечего будет. – Абдулла ко всем обращался на «ты», в том числе и к начальству, и даже к генералам.
– Именно это имей в виду и не выпускай из вида… Понял, Абдулла? Действуй!
Абдулла подошел к Сеньке Кривоносову на рынке – тот у менялы обращал в местную валюту бумажные российские деньги. Торговцы, приезжавшие в крепость из ближайших деревень, русские кредитки перестали признавать.
– Ну что, Сенька? – спросил у Кривоносова Абдулла.
– Совсем обнаглели косоглазые, – пожаловался Сенька, – в обмен на свои кизяки требуют золотые червонцы… Тьфу! – Кривоносов удрученно покачал головой, затем подозрительно глянул на татарина. – А тебе, собственно, чего надо? Уж не по мою ли душу пришел?
– Да не-ет, – безразличным тоном протянул Абдулла в ответ, махнул рукой – дескать, просто подошел поздороваться.
– Не то ведь с вашей конторой как поведешься, так потом красных соплей не оберешься.
– Ну, не такие уж мы и страшные, – с укоризненной улыбкой проговорил Абдулла, оглядывая продавцов на рынке – не бросится ли в глаза что-нибудь подозрительное? – У нас много интеллигентных офицеров, – слово «интеллигентный» было совсем не из лексикона Абдуллы, но он с ним справился довольно успешно. – Один есть – даже Акадэмию Генерального штаба окончил. – Абдулла специально слово «Акадэмия» произнес манерно, по моде двадцатого года.
– Ага, – Кривоносов хмыкнул весело, – а на деле этот «акадэмик» – большой мастер наматывать жилы на локоть.
– А вообще-то один разговор к тебе есть, – сказал Абдулла. – Может, зайдем к нам, попьем чайку?
– Без захода нельзя? – деловито осведомился Сенька.
– Так ведь здесь поговорить не дадут, – Абдулла обвел быстрым взглядом базар. – Тут – суета, крики, пока стоишь в толпе, – обязательно кто-нибудь карман вырежет. Вместе с деньгами, – Абдулла демонстративно ощупал карманы форменных казачьих штанов, украшенных синими лампасами. – Давай заглянем к нам, Сенька?
– Ох, и надоедлив ты, Абдулка! Прилипнешь так, что клещами не отодрать. Москит ты!
– А это кто такой? – подозрительно сощурился Абдулла.
– По-персидски – комар.
– Ты и персидский язык знаешь?
– Знаю.
– Ну пойдем, Сенька… – заныл Абдулла.
Так он казака нытьем и взял.
– А шкалик у тебя найдется? – перед тем как сдаться окончательно деловито спросил Кривоносов, поправил пальцами усы, прихорошился – увидел красивую китаяночку.
– Для дорогого гостя все найду, – пообещал Абдулла.
Контрразведка находилась недалеко от рынка, на перекрестке четырех узких кривых каменных улочек, в простеньком доме, сложенном из простых глиняных блоков. На запыленной поверхности кирпичей поблескивали светлые чистые капли.
– Уж не слезы ли это? – посмеиваясь нервно, воскликнул Кривоносов. – Тех невинных, что замучены в здешнем подвале?
– Да у нас и подвала-то нет, – отмахнулся от казака татарин, – только чердак. – А что на чердаке можно делать? Лишь рыбу вялить.
– Тогда почему на глине слезы проступили?
– Это не слезы, это – пот. Глина такая странная – потеет. Если дождь затевается – на стенках обязательно проступают капли.
В каморке, которую занимал Абдулла, был установлен маленький соединенный из двух табуреток столик, который с двух сторон поджимали стулья. Татарин ткнул рукой в один из стульев:
– Садись, Сенька!
Казак сел. Огляделся:
– Однако тут у тебя особо не развернешься.
– На тесноту не жалуемся, – Абдулла достал из самодельного шкафчика, врезанного в стенку, большую бутыль, заткнутую деревянной пробкой, – в оренбургских станицах в таких бутылях хранили керосин, – выдернул затычку и наполовину наполнил желтоватой пахучей жидкостью помятую алюминиевую кружку.
– Что это? – спросил Сенька.
– Ханка.
Ханка, она же ханжа – местная водка, похожая на русскую самогонку, но самогонке здорово уступающая. Хорошую, но слабую ханку делали из чего угодно, из риса, из гаоляна [71] , из проса, плохую – тоже из чего угодно, даже из бычьих лепешек и деревянной стружки, но одна ханка отличалась от другой очень сильно. Кривоносов придвинул кружку поближе к себе, затем ловко ухватился за нее пальцами, приподнял. Понюхал. Передернул плечами.
– Ну и запах! – Глянул искоса на татарина. – А себе?
– Я не пью, – сказал Абдулла, – Коран запрещает.
– Водка – единственная штука, которая примиряет нас с создавшимся положением, – Кривоносов приподнял кружку за ручку, вновь затянулся сивушным духом. – Выпьешь – и мир из серого сразу делается ярким, радостным. Удивительная штука, – Сенька выпил ханку, притиснул к ноздрям рукав и зашипел, будто Змей, севший голым задом на раскаленные угли. – Крепкая, зар-раза, пхы! Как паяльная кислота.
– Скажи, Семен, – татарин неожиданно заговорил строгим учительским тоном, – ты Африкана Бембеева хорошо знал?
– А-а, вот зачем ты меня позвал… Все ясно.
– Мне ничего не ясно, святому отцу ничего не ясно, а тебе все ясно, – недобро пробурчал Абдулла. – Какой догадливый.
– Конечно, Африкана я хорошо знаю, – сказал Сенька, – мы же вместе воевали, в одной пешей команде, потом в войске Александра Ильича друг дружки держались…
– Не знаю, а знал, – запоздало поправил Сеньку татарин.
– Это почему же так?
– Да потому, что его уже нет в живых.
– Господи, – Сенька стянул с головы шапку и перекрестился. – Господи!
– Он же в Аллаха веровал, не в твоего Бога, чего ты так за него печешься, молишься? – Абдулла подозрительно сощурил глаза. – А? Или он тебе наследство оставил?
– Какое там наследство! – Сенька обреченно махнул рукой. – Африкан был гол как сокол, все, что попадало ему в руки, – все друзьякам своим отдавал.
– А ты был у него… этим самым… друзьяком?…
– Конечно, был, – не стал отнекиваться Сенька. – А как же иначе?
Он не боялся ни Абдуллы, ни его грозного начальника, потому что за спиной у него стояла могущественная Ольга Викторовна, – Бембеев убежал к красным, – Абдулла ухватился за нижнюю челюсть, двинул ее в одну сторону, потом в другую, лицо у него сделалось злым, – и уволок с собою все наши секреты… Скажи, Сенька, о чем вы с ним говорили в последний раз?
– Не помню, – Кривоносов помотал головой, словно бы сбивая с себя некое наваждение, – об Оренбурге, может быть…
– А когда вы последний раз встречались?
Кривоносов вновь мотнул головой:
– Не так давно это было… А! На базаре нос к носу столкнулись. Месяц назад примерно.
– Как раз в ту пору, когда Бембеев ушел из крепости.
– А что, разве это имеет какое-то значение?
– Имеет, еще как имеет, – Абдулла ткнул в Сеньку железным, прямым словно ствол пистолета пальцем, – для тебя прежде всего!
– Но-но-но, – захорохорился Кривоносов, приподнялся на табуретке.
Абдулла резким точным движением, будто ударом, посадил его на место. Сенькины щеки сделались бледными.
– Ты чего? – спросил он хриплым шепотом. – Ты же меня на чай, да на стопку ханки пригласил… А сам чего делаешь?
– Что мне велено, то и делаю, – грозно рявкнул Абдулла.
Семен приподнялся на табурете опять, и вновь Абдулла коротким точным движением усадил его на место.
– Ты чего-о-о? – У Кривоносова бледными сделались не только щеки – все лицо. – Я сегодня же пожалуюсь на тебя атаману.
– Не пожалуешься, – жестко, очень уверенно, хрипловатым страшный голосом произнес Абдулла. – Могу об заклад с кем угодно побиться.
– Это почему же? – Кривоносов отодвинулся от татарина, но попытка не удалась – стул будто прирос к полу, не двигался ни туда ни сюда.
Сеньке сделалось трудно дышать. Абдулла широко, мстительно улыбнулся:
– Потому что не сможешь. Разве ты этого еще не понял?
– Ты не посмеешь, Абдулла, не посмеешь. Я очень хорошо знаком с Александром Ильичом. Мы вместе воевали, столько дорог рука об руку прошли. Начинали на реке Прут. И потом все время шли вместе. Я у него в Петрограде, в Союзе казачьих войск адъютантом был.
– Не адъютантом, а подавальщиком галош, – поправил Сеньку Абдулла.
– Я к Керенскому со специальным поручением ездил.
– За это тебя прямо сейчас расстрелять надо. Не дожидаясь ночи.
Кривоносову показалось, что Абдулла приколотил его гвоздями к стулу. На лбу Сенькином появился пот.
– Ты же меня на чай приглашал, покалякать о бабах, – Сенька сгреб широкой ладонью пот с лица, – об Оренбурге…
– Я не из Оренбурга, я из Казани, – предупредил гостя Абдулла.
– И вместо этого… – Кривоносов укоризненно покачал головой. – Эх, ты!
– Нам надо найти Бембеева. Помоги это сделать – и можешь спокойно шагать к своей атаманше.
– Если бы я знал, где он находится – помог бы. Но я не знаю…
Абдулла навис над Кривоносовым и сжал глаза в щелки, будто хотел просветить Сеньку насквозь, проверить, что у него внутри – нет ли чего гнилого? Стоял он так над несчастным урядником минут пять, не меньше, потом, что-то решив про себя, откинулся назад и сипло рассмеялся:
– А перетрухнул ты, Сенька, здорово.
– А ты на моем месте разве не перетрухнул бы? А?
– Вряд ли, – Абдулла махнул рукой и протянул тихо, почти неслышно: – Иди, Сенька, домой.
– Что, проверка кончилась?
– Кончилась. То, что мне нужно было, я узнал…
Вскоре Абдулла решительно доложил попу результаты:
– Пустой мужичок. К бегству Бембеева не причастен.
Отец Иона помял пальцами бороду, вздохнул жалостливо, будто в большой карточной игре спустил все козыри, и на него наползло нечто обиженное, почти слезное: а ведь сыграть-то надо было по-другому…
На щеках Абдуллы плотными каменными буграми заходили желваки, на гладком сизом темени выступили капли пота.
– Что нужно сделать, чтобы этого не случилось? – спросил он.
– Нет человека – нет никакой опасности. Все очень просто, Абдулла, – отец Иона поднес ко рту кулак, покашлял в него. – Формула эта работает безотказно.
– Понимаю, господин, – Абдулла наклонил голову. – А как быть со сбежавшим казаком? Что делать?
– Ничего. Думаю, что его уже нет в живых.
– Тогда почему не вернулись наши люди?
– Я же не Господь Бог, Абдулла, чтобы все знать, – в тихом голосе отца Ионы появились раздраженные нотки, – может быть, в засаду попали, может, их перекупили, может, произошло что-то еще… Не зна-ю.Совершив очередную поездку в Суйдун, Чанышев пришел к выводу, что дела у Дутова совсем плохи. Во-первых, атаман совершенно пал духом – у него даже лицо сделалось серым от неприятностей, и изо рта здорово попахивало ханкой – Дутов начал пить. Во-вторых, когда Чанышев попросил не скрывать от него ничего, сообщить, что происходит на самом деле и чего им следует опасаться в Джаркенте, Дутов вяло махнул рукой:
– Дела, брат, обстоят неважно. Красные Врангеля прогнали – сумели-таки, с поляками замирились… – Дутов сжал пальцы правой руки в кулак, саданул им по ладони левой руки. – Все началось в Петрограде – Петроградом и закончится, – атаман вздохнул. – Похоже, не нам и не в Суйдуне решать судьбу России.
В-третьих, у Дутова совершенно не было денег, все его россказни о том, что ему регулярно присылают помощь, деньги, товары Англия, Франция и другие страны, вплоть до Афганистана, – блеф. Чанышев попросил атамана выделить немного средств на организационные расходы, в ответ Дутов лишь красноречиво развел руки и неожиданно перешел на «ты»:
– Потерпи, брат. Работай пока без денег. И жди, жди, жди. Терпи. Победа над большевиками недалеко. И тогда я не забуду верных слуг России, не бросивших меня в трудную минуту, – атаман покровительственно похлопал Чанышева по плечу.
– Тогда хотя бы несколько автоматических винтовок, – попросил Чанышев.
– И тут вынужден тебе отказать, дорогой князь, – вздохнув, сказал Дутов. – Как только китайцы дадут их мне, тут же получишь десять штук… Нет, для начала пять, а потом получишь еще.
Багич, на которого очень рассчитывал Дутов, запутался в делах своих собственных, в распрях и склоках, и не только не явился в Суйдун, под начало атамана, но даже перестал отвечать на его письма.
То, что прошлое уходит безвозвратно, неожиданно подтвердили менялы в Кульдже. Этот старый китайский город всегда считался бойким, торговым, в нем можно было купить все, от чисто вымытого индийского слона до суконного мундира императора Павла Первого, от живого эфиопа до дубового сундука капитана Кидда, не говоря уже о сугубо китайских товарах. Деньги тут обычно меняли всякие, даже каменные, которыми в прошлом пользовались неотесанные папуасы Тихого океана и африканские людоеды. Русские «катеньки» и «лебеди» в Кульдже были популяры и всегда ценились высоко. А тут нет – коса налетела на дубовый пень: Чанышев попробовал обменять насколько «катенек» на замызганные юани, так менялы презрительно отводили от него свои носы:
– А ничего другого, бачка, ты предложить не можешь?
– Что другое-то? – озадаченно спрашивал Чанышев.
– Ну-у… Американские доллары, например. Или мексиканские.
Ни американских, ни мексиканских долларов у Чанышева не было. В конце концов он обменял «катеньки» по самому низкому курсу, который когда-либо действовал в Суйдуне.
– Ну, бачата, вы и даете! – удрученно качал Чанышев головой. – Клиентов обдираете как липки.
– Звини, бачка, – меняла изогнулся перед ним вопросительным знаком, – не я в этом виноват, – китаец вторично изогнулся. – Я тебе дал самую высокую цену за русские деньги. Посмотри, сколько здесь народа, – меняла обвел рукой волнующийся базар, – но ни один из этих людей не даст тебе столько за твои отжившие свое картинки, сколько дал я. Понял, господин?
– Понял, – ответил Чанышев и, не попрощавшись, покинул менялу.
Когда он выходил с рынка, то увидел отца Иону, стоявшего у ворот, в новой рясе, с нарядным крестом, поблескивавшем на яркой, хорошо начищенной цепи. За спиной у отца Ионы стоял крутоплечий татарин с мощной шеей и наголо обритой сизой головой.
– Товарищ Чанышев! – ласковым вкрадчивым голосом позвал отец Иона.
Чанышев от этого голоса едва не вздрогнул.
– Типун вам на язык, святой отец, – проговорил он, встреча с Ионой была совсем не кстати, хотя Чанышев собирался встретиться с ним обязательно, более того – передать подарок, задобрить: слишком уж опасные токи исходили от этого внешне мягкого, очень ласкового человека. – Какой я вам товарищ!
– Извини, извини, Касымхан, – отец Иона в примиряющем движении поднял ладонь. – Мне бы переговорить с тобою надо…
– Нет ничего проще. Я как раз привез вам из Советской России подарок.
– Интересно, интересно… В таком разе я жду у себя ровно через час. Устраивает, Касымхан?..
Чанышев привез отцу Ионе две бутылки довоенной смирновской водки, украшенной нарядными, сплошь в выставочных медалях этикетками. Завернутые в белесую хрустящую бумагу бутылки протянул Ионе:
– Редкая штука по нынешним временам.
Отец Иона сдернул с одной из бутылок бумагу и восхищенно всплеснул руками:
– Бог мой, действительно редкая штука! Произведено на заводах Петра Арсентьевича Смирнова… Лично! – он не удержался, чмокнул бутылку в прохладный стеклянный бок. – «Столовое вино номер двадцать один». До сих пор не пойму, почему Петр Арсентьевич назвал водку «столовым вином»?
– Наверное, имел в виду, что вино это подается к столу…
– Тогда почему номер двадцать один?
– У этого вина были разные номера – и двадцать, и сорок.
– Чем же они отличались друг от друга, позвольте спросить?
– Крепостью, жесткостью, горькостью. Но только двадцать первый номер оказался любимым у русских людей, – в самый раз…
– Манифик, как говорят французы, – отец Иона сложил два пальца колечком, показал Чанышеву.
– Манифик, – Чанышев в отличие от отца Ионы французский знал много лучше, владел интонациями.– Или, как говорят русские люди, – очко.
– Очко! – эхом повторил за священником Чанышев.
– Скажите, Касымхан… – задумчиво проговорил отец Иона и умолк, прокрутил большими пальцами обеих рук на животе «мельницу».
Чанышев внимательно смотрел на отца Иону и молчал, лицо его ничего не выражало.
– Вам известна такая фамилия – Давыдов? – наконец спросил отец Иона.
Ничто не дрогнуло в лице Чанышева.
– Известна, – ответил он.
– Вы с ним знакомы?
– Нет.
– Ну, на нет и суда нет, – вздохнул отец Иона. – А откуда вам известна эта фамилия?
– Милиции, святой отец, многое известно, не только это. Милиция – это ведь то же самое, что и полиция в старые времена, при государе Николае Александровиче, только помноженная на два, – на губах у Чанышева появилась легкая улыбка. – Это во-первых. А во-вторых, иногда мы встречаемся на совещаниях по борьбе с так называемым бандитизмом.
– В число бандитов входит, естественно, и армия генерала Дутова?
– Естественно, входит.
– Гм, – отец Иона усмехнулся. – А познакомиться, что… не было возможности?
– Возможность была, желания не было.
– Понимаю, понимаю, – отец Иона похмыкал в кулак.
Беседовал он с Чанышевым, глядя куда-то в сторону, в глаза собеседнику не смотрел, и Чанышеву не было понятно, что происходит: то ли отец Иона проверяет его, то ли действительно ищет подходы к Давыдову. В общем, ухо надо было держать востро. Отец Иона – человек непростой, и разговор насчет Давыдова завел неспроста.
– Постараетесь познакомиться с Давыдовым, когда вернетесь в Джаркент, – попросил отец Иона.
– Не думаю, что это легко будет сделать, но я постараюсь, – пообещал Чанышев.
– Постарайтесь, голубчик мой, постарайтесь очень, – сказал отец Иона и прижал к груди ладонь, – Родина вас не забудет. И мы с Александром Ильичом тоже не забудем. Офицерский Георгиевский крест вам обеспечен.
Чанышев поспешно вытянулся:
– Служу Отечеству! – звонко произнес он обрадованным тоном и по-гвардейски гордо вскинул голову.
Отец Иона остановил его неспешным движением руки:
– Секретов от вас, Касымхан, нет ни у меня, ни у Александра Ильича. К нам поступили сведения, что Давыдов замышляет ряд террористических актов здесь, в Суйдуне, – отец Иона прижал к мякоти ладони палец, потом прижал еще два пальца подряд, – а также в Кульдже, в Куре, – священник вздохнул расстроенно, – еще кое-где. И чего людям неймется, не пойму. В общем, Давыдова надо… – отец Иона перестал крутить на животе «мельницу», поднял руки и скрестил их. – Дело это поручается, Касымхан, вам. Александр Ильич в курсе этого поручения.
Чанышев повел головой в сторону, подумал о том, что жизнь многогранна, сюжеты ее и пути неисповедимы, и часто случается так, что события, расклад, веления повторяются – ну просто до мелочей повторяются. Вряд ли Давыдов мог предположить, что из охотника он превратится в дичь.
Прошло несколько дней. Наступил декабрь – сырой, студеный. Холодный воздух пробирал до костей, люди старались как можно меньше времени проводить на улице. В один из таких дней Чанышев встретился с Давыдовым.
– О том, что отец Иона решил ликвидировать меня, я знаю, – сказал Давыдов.
– Хорошо работает разведка! – не сдержал одобрительного восклицания Чанышев.
– Хорошо-то хорошо, да не все мы знаем об атамане, – Давыдов достал из кармана кисет, выдернул из него газетный прямоугольничек, насыпал табака, свернул «козью ногу». Пожаловался: – Папиросы кончились. У белогвардейцев этого добра небось завались?
– Нет, тоже бедствуют.
– Ну им-то положено это за их заслуги, а нам за что? А? Что Дутов? Приветы шлет?
– Шлет, – Чанышев не сдержался, усмехнулся, – самые теплые. Предложил запастись оружием, при всяком удобном случае делиться им с единомышленниками. На нынешний день понятно одно: ни Анненков, ни Багич на помощь к нему не придут.
– Что так? Разуверились в Белом движении?
– Заняты своими делам. Отец Иона, кажется, поверил мне окончательно. Хотя точку зрения он может менять по нескольку раз на день.
– Да у него, у отца этого, выхода нету. Где, в каком краю, в каком сне он еще сможет завербовать начальника уездной милиции?
Это была правда. Сколько ни пробовал отец Иона дотянуться из Суйдуна до партийных работников Семиречья, до сельсоветских и исполкомовских сотрудников, до милиции – ничего не получилось, Чанышев был для «святого отца» птичкой, которая сама спрыгнула с ветки в руки. Атаман тоже считал так.
Долгими вечерами Дутов просиживал над картой, планируя поход в Семиречье, потом писал. Иногда в кабинет заглядывала Ольга Викторовна, садилась в кресло и наблюдала за мужем.
Он планировал поднять восстание одновременно в Верном и Пржевальске, в Алакуле и Апсинске, в Чугучеке и Кольджате, еще в нескольких местах. Часть из того, что выходило из-под пера Дутова, попадала к Чанышеву, от Чанышева – к Давыдову, от Давыдова – в Верный, к Пятницкому, а оттуда прямиком, по телеграфным проводам – в Москву.
– Пора, Касымхан, нашего героя отправлять в последний путь, – сказал Давыдов Чанышеву, выразительно поднял глаза к потолку.
– Пора, – согласился Чанышев, – группа готова.
Ночью Давыдова вызвали в Верный, в регистроотделение. Принимал его Щербетиньский – заместитель Пятницкого.
– Вы уверены в Чанышеве, товарищ Давыдов? – спросил Щербетиньский.
– Уверен.
– Как в самом себе?
– Совершенно точно, – не колеблясь ни секунды, ответил Давыдов.
Щербетиньский укоризненно покачал головой.
– Вы очень доверчивы, товарищ Давыдов. У нас есть сведения, что Чанышев намеренно затягивает операцию по ликвидации Дутова.
– Этого быть не может.
– Оказывается, может. И вообще возникает вопрос, не только у меня, – Щербетиньский поднял указательный палец, требуя, чтобы Давыдов не перебивал его, – почему Чанышев затягивает сроки исполнения нашего приговора, вынесенного Дутову?
Уж не преднамеренно ли?
– У меня этот вопрос не возникает, товарищ Щербетиньский. Касымхан Чанышев делу революции предан!
– Подожди, товарищ Давыдов, не стучи себя кулаком в грудь прежде времени, – Щербетиньский поморщился. – Вначале посомневайся, проверь… – в голосе Щербетиньского послышались раздраженные нотки. – Надо менять руководителя этой акции.
– Я против, – Давыдов потяжелел лицом, стукнул о колено кулаком: он знал, если будет принято решение об отстранении Чанышева от операции, то жизнь начальника Джаркентской милиции будет перечеркнута жирным крестом.
– Даже если тебе прикажет вышестоящий командир, ты все равно будешь против? – Щербетиньский удивленно поднял брови.
– Все равно буду против, – мотнул головой Давыдов, – иначе Чанышеву будет кердык!
– Кердык… Какое интересное словцо.
– Если мое мнение не будет учтено, я напишу в Москву, товарищу Дзержинскому, – пообещал Давыдов.
– Не прыгай поперед батьки через тын, – предупредил его Щербетиньский, – не советую. И не цепляйся так упрямо за Чанышева.
– Не могу не цепляться. Совесть потом замучает.
– Тоже мне… Совестливый, – Щербетиньский хмыкнул. – Раньше совестливым не был, не помню я этого за тобой. Смотри, не попади вместе с Чанышевым под крутую революционную расправу.
Давыдов молчал. Сидел с окаменевшим лицом, уставившись в одну точку.
На следующий день состоялось объединенное заседание в губернской чрезвычайке, в котором приняли участие представители всех органов, имеющих отношение к «карающему мечу революции», а также несколько членов реввоенсовета, наделенных правом голосовать за весь реввоенсовет. По сути, на этом заседании Чанышеву было выражено недоверие и намечен жесткий срок ликвидации атамана, который истекал седьмого февраля в полдень.
Чекисты арестовали близких Касымхану людей – всего девять человек – самому же Чанышеву было объявлено: если он к двенадцати часам дня седьмого февраля не отправит Дутова на тот свет, то будет расстрелян. Если же явится в Джаркент, запоздает или скроется где-нибудь в Китае – будут расстреляны все девять заложников. Карательная машина революции была запущена на полный ход. Более беспощадной машины в России еще не было…
Кривоносов будто почувствовал, что над головой его завис меч – есаул как и атаман Дутов в последнее время, перестал выходить из дома, сделался замкнутым, задумчивым.
– Что с вами происходит, Семен? – удивляясь, спрашивала у него Ольга Викторовна. – Уж не заболели ль?
– Нет, не заболел, – твердым голосом отвечал Кривоносов. – А насчет того, что происходит… не знаю, Ольга Викторовна.
– Что-то все-таки происходит.
Темным январским вечером к ним в дом зашел Абдулла, подул на озябшие руки – ни перчаток, ни рукавиц морозоустойчивый татарин не носил, жаловался, что быстро теряет их, – проткнул Кривоносова недобрым черным взглядом.
– Ты бы зашел как-нибудь к нам, – сказал он.
– Зачем? – угрюмо спросил Семен.
– Дело есть.
– Не могу. Я с нынешнего вечера заступаю на внутреннюю охрану квартиры Александра Ильича.
– Тебя вроде бы в списках часовых не было… – озадаченно сомкнул брови татарин.
– А ты чего, Абдулла, грамоте сумел обучиться? Списки часовых уже составляешь? Сам?
Скулы у татарина покраснели: он был неграмотным.
– Нет, отец Иона говорил, – пробормотал он. – Так ты все-таки загляни к нам.
Абдулла вновь стрельнул в Кривоносова недобрым взглядом – будто пару пуль всадил в казака. Кривонос все понял, сжал губы в иронической скобке.
– Не обещаю, Абдулла, – сказал он, – не обессудь.
Ни хитрый татарин Абдулла, ни умный проницательный отец Иона не сумели выманить Сеньку Кривоносова из атаманского дома, и в конце концов отец Иона махнул рукой:
– Ладно, пусть живет. Тем более, нас атаману он не заложил.
Февраль в Суйдуне стоял суровый, с таким ветром, что на улице невозможно было открыть рот – ветер сразу же запихивал в него жесткий крупитчатый снег. Кривоносов мрачно поглядывал из-за занавески в окно, ежился, словно ему было холодно, хотя в доме было тепло – в дутовской квартире топлива не жалели, – шмыгал носом и вспоминал своего фронтового приятеля Африкана Бембеева… Вовремя ушел Африкан из Суйдуна. Где-то он сейчас? Жив ли?
По ночам ему все чаще и чаще снилась родная станица, длинная улица, освещенная солнцем, полная незнакомого народа, в основном женского пола; плетни, которыми были обнесены казачьи подворья, колы с повешенными на них горшками, подсолнухи с яркими золотыми шапками, кусты чубушника…
Мужских лиц не было, только женские, и Сенька, пребывая во сне, недоуменно шарил глазами по сторонам, гадал, а где же мужики? Куда они подевались? Не было Кривоносову ответа. И от того, что не было ответа, делалось тревожно, сумеречно, сердце билось заполошно, безуспешно пыталось выпрыгнуть из грудной клетки, найти выход, но не могло отыскать его.
– Где мужики? – спрашивал Сенька у окружающих и не получал ответа. – Куда все подевались?
– А ты разве не знаешь, куда все подевались? – погасив улыбку на лице, спросила у него незнакомая щекастая молодка.
– Нет, – Сенька энергично мотнул головой.
Молодка хотела ему сказать по секрету, куда же пропало мужское население станицы, но не успела, поспешно растворилась в воздухе – была женщина и не стало ее. Просыпался Кривоносов с мокрыми щеками и долго потом лежал неподвижно, пусто хлопал глазами, глядя в темноту, – заснуть до самого рассвета уже не удавалось. Одно спасение – круглосуточные наряды у дверей атаманской квартиры.
Он видел, как бестолково ведет себя атаман, мечется, понимал, что Александр Ильич ощущает себя загнанным, чует опасность, но не может понять, откуда, из какого угла она придет. Сеньке было жаль растерянного атамана, жаль было милейшую Ольгу Викторовну, жаль самого себя, поскольку он связал с этими людьми свою жизнь. Кривоносов вздыхал, замыкался… Он видел за окном серое неровное небо, серый снег, и тоска Сенькина делалась сильнее, становилась острой, как плач. Хотелось домой.
Среди казаков ходили слухи, что скоро они все отправятся домой, лица их от этих разговоров разглаживались, светлели. Правда, причины возвращения называли разные: одни считали, что атаман специально договорился с красными об условиях возвращения и даже подписал какую-то бумагу, приняв требования комиссаров, другие, напротив, обсуждали версию, что атаман с комиссарами договориться не сумел и поэтому поднимает в Советской России восстание. А всякое восстание – это война.
Казаки вздыхали:
– Ох, не хотелось бы воевать!
– Но домой-то тянет?
В ответ вновь раздавались вздохи:
– Очень тянет.
– Тогда за это дело и повоевать можно.
У казаков была своя правда, у начальства – своя. И над всем этим стоял атаман.
Дутов понимал: чем дальше оттягиваются сроки восстания в Советской России, тем меньше проку от самого восстания, оно будет задавлено. Целиком исчезнет такой важный фактор, как внезапность, а ожидание всегда очень изматывает людей, и они из сильных, способных перемалывать сталь воинов, превращаются в тлю. Разлагающую суть ожидания атаман познал на себе, да и половина тех людей, которых подготовил Чанышев, скорее всего, уже превратились в обычную вареную кашу. Кроме того, чекисты тоже ртом мух не ловят, агентура у них сильная, к каждому кто собирается принять участие в восстании уже наверняка приставили пару ловцов в кожаных фуражках и не с мухобойками в руках.
Поэтому, когда Чанышев прислал с Еремеевым донесение Дутову о том, что к восстанию готов целый полк красных, атаман немедленно настрочил Касымхану ответ, где приказал выслать им оружие на границу для вооружения, перерезать телеграф и выслать гонцов в указанные им места.
Именно это письмо подстегнуло руководство Семиречья к решительным действиям. Дутова надо было уничтожить как можно скорее. Подходила к концу первая февральская семидневка.Тот вечер был обычным. Александр Ильич писал очередную прокламацию, адресованную красноармейцам, рассчитывая, что с помощью Чанышева она дойдет до «заблудших душ». Ольга Викторовна сидела за рукоделием. Казаки, стоявшие в наряде у атаманской квартиры, тихо переговаривались, что в крепости ничего нельзя купить – ни мяса свежего, ни овощей, а рыбой тут и не пахнет, более того – даже простую катушку ниток не всегда приобретешь, – очень дорого. Словом, не жизнь наступила, а хрен знает что – чужбина есть чужбина, она всегда горька.
Раньше, когда старые сивоусые казаки при Сеньке рассуждали об этом, он пропускал их речи мимо ушей, сейчас Кривоносов жалел о том, что не слушал старых казаков. Возможно, речи их пригодились бы, возможно, казаки знали какие-то способы борьбы с тоской… От жалости к себе Кривоносов задыхался, шмыгал носом, сопел, – ему казалось, будто в груди образовалась дырка, и в нее уходил не только воздух, но сама жизнь.
Хоть день в предчувствии весны уже и пошел в рост, и светлого времени вроде бы прибавилось, а темнело в Суйдуне все равно рано. В воздухе появлялось темно-серое пятно, схожее с пчелиным роем, быстро распространялось и в течение нескольких минут на землю, на угрюмые крепостные стены опускался предночной морок, в котором даже пальцев на руке не увидеть. Морок стремительно сгущался, и очень скоро делалось так темно, что по кривым мерзлым улочкам Суйдуна можно было ходить лишь с фонарем, либо с факелом.
Для дежурных казаков в доме имелась своя каптерка – угловая комната с крохотными окнами, провонявшая насквозь прелым табаком, потными портянками и какой-то странной тухлятиной, совершенно неведомой пришлому оренбургскому люду. Возможно, это было что-то китайское, особое, кулинарное, этакое национальное, для приготовления которого требуются дохлые тараканы, сухие червяки и застоявшийся гадючий яд.
– Ну и запашок тут, – не выдержал как-то Сенька, зажав пальцами нос, исподлобья оглядел казаков. – Уж не от вас ли так воняет?
– Да нет, старшой, – язвительно улыбнулся один из них, Егоша Егошев, молодой казак с впалыми старческими щеками, – видать, ты чем-то больной, – от нас не пахнет… Ты лучше к себе принюхайся.
Кривоносов от этой реплики даже дернулся – никакого почтения к старшим, – выпятил грудь, на которой красовался Георгиевский крест, протер награду рукавом рубахи, хотел сказать что-нибудь такое, от чего Егошка красным бы сделался, как перец в супе. Но слова у него прилипли к языку, в голове не было ничего путного, сплошная пустота, да еще тоска и тревожная болезненная звень, разрывающая уши. Он высморкался – хотел сделать это по привычке в угол помещения, но вовремя спохватился, достал из синих шаровар смятую, давно не стираную тряпицу – и вышел из караулки.
Егошка становился «на часы» в паре с Сенькой. Кривоносову это было неприятно, но такой распорядок дежурства утвердил адъютант атамана, неразговорчивый войсковой старшина с тяжелым боксерским подбородком. Видя этот подбородок, Сенька всякий раз вспоминал калмыка Африкана, а следом как неприятное продолжение – беседу с Абдуллой в контрразведке и недобрые глаза отца Ионы… Главное сейчас – не высовываться, быть осторожным.
Выдвигаясь к квартире на часы, Сенька в очередной раз пожалел о том, что у него нет даже зажигалки. Вздохнул, увидев сонного белоглазого Егошку, уставившегося на него с язвительным видом, и отвернулся. Замухрышистый, неприятный все-таки человечек этот Егошка. Как-нибудь, когда не будет свидетелей, надо будет рукоятью шашки съездить ему по зубам. Чтобы нос не задирал…
Вместо этого Кривоносов заступил на дежурство – старшим в наряде. Перед дежурством выпил с подопечными чаю и сказал:
– Жаль, оружия у нас нет, казаки. Ну какие мы без оружия часовые? Хотя бы пистолетик какой-нибудь завалящий дали… Или пугач.
Вооружена охрана была только шашками. Все остальное отобрали китайцы и прочно запечатали в своих каменных складах. Говорили, даже не в Суйдуне, а в другом городе.
В вязком сумраке с недалеких каменных кряжей принесся ветер, посыпал тропки, мерзлой крупой, посшибал с крыш ошмотья снега, завалил одну гнилую трубу и стих. С ветром в Суйдун приволокся и мороз – скрипучий, острекающий, будто крапива. С силой стиснул камни и сугробы. Погода установилась неприятная.
Днем в Суйдун пришло сообщение, что у красных вспыхнуло восстание – дехкане убили нескольких комиссаров по продовольствию, уничтожили охрану, находившуюся при них, сожгли несколько подвод, на которых должны были везти хлеб.
– Хорошая новость! – одобрил это дело Сенька и, воодушевляясь на будущие подвиги, поправил усы. – Ежели дело так и дальше пойдет, то красное Семиречье скоро присоединится к Суйдуну.
Ободряющую весть принес верный человек атамана – начальник джаркентской милиции. Фамилии его Кривоносов не знал, да и зачем ему ее знать. В четырнадцать сорок этот человек в сопровождении двух своих спутников, – видать охранников, – пришел в дом Дутова.
– Мне бы к Александру Ильичу, – попросился гость на прием, – есть очень важное сообщение.
– Александр Ильич работает, сейчас принять никак не сможет, – ответил Сенька, – велел до шести часов вечера никого не пускать, даже начальника штаба.
– Вот нелады, – с досадою вздохнул гость, – тут такие новости, такие новости…
– Какие? – строго спросил Сенька. – Если, конечно, не секрет.
«Секреты» эти Чанышев выдавать не боялся – все они были профильтрованы на той стороне, отобраны и дополнены разными комментариями. Частично комментарии эти соответствовали реальному положению вещей, частично нет.
– Под Джаркентом восстал пятый полк. Надоела солдатам красная власть, – переходя на шепот и делая заговорщицкое лицо, сообщил Чанышев, – это р-раз; в одном из уездов, недалеко от Верного, вспыхнул сельский бунт, хлебный – это два; нам удалось добыть оружие и переправить его на границу своим людям, чтобы они подстраховали выдвижение Александра Ильича на нашу сторону, поддержали огнем, – это три, – Чанышев загнул на руке три пальца. – Но это еще не все. Есть и… – он загнул четвертый палец, а потом и пятый, показал Кривоносову, будто паспорт предъявил. – В общем, то, о что мы задумали, – свершается!
На Сенькином лице мелькнула обрадованная улыбка, такая же улыбка возникла и на лице Чанышева. Возникла и исчезла.
– Приходи часов в шесть, – сказал Чанышеву Сенька, – мы сразу же пропустим тебя к Александру Ильичу. Он как раз к этой поре освободится.
– Хорошо, – сказал Чанышев, окинул быстрым взглядом двух дюжих казаков, стоявших у дверей, и откланялся. – До вечера! – Он сделал два шага и остановился. – Да, если я не смогу вечером явиться к Александру Ильичу, то придет вот он, – Чанышев взял за плечо человека, стоявшего рядом с ним, одетого в легкий зипун с воротником из темной кашгарской лисицы и в таком же малахае, повернул лицом к Сеньке, – письмо принесет… Ладно? Александр Ильич его знает.
Лицо у чанышевского напарника было сухим, плоским, бесстрастным.
– Ладно, – согласился Сенька. – Скажи только, как его зовут?
– Махмуд. Фамилия – Хаджамиаров.
– Пусть приходит, – смягчил голос Сенька, – а лучше приходите вдвоем.
– Дай Бог тебе хорошей жены, – пожелал Чанышев и вышел на улицу.
На улице он неторопливо огляделся, поднял воротник, защищаясь от острого ветра, и толкнул локтем напарника:
– Ну что, наступает «последний и решительный»… А?
Тот откашлялся в кулак и ничего не ответил начальнику.
Передвигаться вечером по тесным кривым улочкам Суйдуна – штука сложная, а когда нет ни одного светлого пятна, не горит ни одна коптюшка, – не просто сложная, но и опасная. Хорошо, что Чанышев с самого первого появления здесь старался запомнить все изгибы, тупики и проходные лазы крепостных улочек, знал уже, где можно пройти пешком, где верхом, а где надо ползти на карачках и тянуть за собой в поводу упирающуюся лошадь. Суйдун – это Суйдун, других таких мест в Китае нет.
В темноте Чанышев подтянул всю свою группу к дому Дутова, расставил людей по местам, одного определил с конями на крохотной площади, облюбованной водоносами и продавцами замороженного, в кругах, молока.
– Лошади будут находиться здесь, – предупредил Чанышев своих спутников, – запомните это место. Ежели кто отобьется, застрянет либо вырвется раньше – приходите сюда.
Кривобокие домики, окружавшие крохотную площадь, были темны, угрюмы, только в одном светилось небольшое оконце. Из-за крыш тянуло гарью, – то ли чей-то домишко сгорел, то ли неподалеку замерзающий китайский люд жег костер.
– Пора, Махмуд! – Чанышев подтолкнул Хаджамиарова под лопатки.
Тот согласно кивнул, поправил малахай и произнес просто, будто собирался найти и пригнать в табун отбившегося жеребенка:
– Я пошел!
– Я буду страховать тебя, Махмуд, – сказал ему Чанышев, и в следующее мгновение, подбадривая товарища, зачастил, давясь словами, – я все время буду находиться рядом.
– Все будет в порядке, Касымхан, – сказал ему Махмуд и вошел в дом Дутова.
Следом за Махмудом Чанышев послал Мухая Байсмакова – молчаливого крупного казаха, способного руками свернуть голову быку. Байсмаков считался не только сильным человеком, но и метким стрелком: на расстоянии двадцати метров попадал в камень-голыш размером не более семишника – старой двухкопеечной монеты. В карманах Байсмаков держал по револьверу. Мера была хотя и лишняя, но нужная: а вдруг один даст осечку?
Сам Чанышев занял место напротив караулки. Перед самой караулкой, на дверном косяке горела лампа-семилинейка, повешенная на гвоздь. Стекло лампы кто-то из казаков недавно хорошо обработал ершиком, почистил. Касымхану с улицы были хорошо видны и дверь помещения, в котором отдыхал казачий наряд, и окно. Чанышев нащупал в кармане рукоятку нагана.
Было тихо. В небе – очень низком, плотном, что-то шевелилось, лопалось, возникали тусклые могильные огоньки и тут же исчезали, о стены домов скребся с железным звуком ветер, швырял в стекла пригоршни крупы, старался выдавить их… Нехорошо было, тревожно. Чанышев ждал.Александр Ильич Дутов продолжал работать. Настроение было скверное, виски стискивал железный обруч. Иногда, казалось, не хватало дыхания, сердце начинало работать с перебоями, пальцы костенели – это был плохой признак. Тогда атаман неохотно отодвигал от себя бумагу и ручку, вставал и начинал нервными торопливыми шагами измерять кабинет. Застоявшаяся кровь потихоньку оживала, больно билась в виски, Дутов дул на кончики пальцев и снова садился за стол.
В последнее время у него все чаще и чаще возникало ощущение, рождающее в душе некий испуганный озноб: в этом мире он остался один, совершенно один – ни родичей у него нет, ни фронтовых товарищей, ни по-настоящему близкой ему подруги – словом, один он… Ощущение это было гнетущим.
Те люди, на которых он рассчитывал, сдали свои позиции. И Врангель, и Деникин, и атаман Семенов. Последний хоть немного помог деньгами, расщедрился. Особенно Дутов ощущал эту поддержку, когда Семенов женихался с одной из племянниц Александра Ильича, но потом племянница читинскому правителю надоела, и Семенов охладел не только к ней, но и к самому Дутову.
Атаман откинулся на спинку стула, задумался. Говорят, Семенов сейчас также находится где-то в Китае… явно где-нибудь на побережье, в районе Порт-Артура или Дальнего, либо в Корее – в Посьете. Неплохо бы с ним связаться… Правда, сколько Дутов ни обращался на этот счет к самим китайцам, к властям, к военным чинам, регулярно появляющимся в Суйдуне, все лишь вежливо кланялись и лопотали на плохом русском языке:
– Обожди немного, генерала!
А чего, собственно, ждать-то? Когда рак на горе свистнет? Внутри у Дутова все клокотало от досады, от злости, но он сдерживал себя: ссориться с китайцами совсем не с руки.
– Я обожду, – глухо бормотал он, – главное, чтобы толк от этих жданок был.
Дутов помассировал пальцами затылок. Контузия заставляла реагировать на все изменения погоды, – то кости у атамана ломило, то жилы трещали, словно попав под электрическое напряжение, то по всему телу прокатывалась судорога. И что плохо: контузию никакие снадобья, микстуры с порошками не берут, ее не излечишь…
В дверь раздался тихий стук.
– Войдите, – отрываясь от своих мыслей, произнес Дутов, поморщился: стук хоть и негромкий был, а отозвался в затылке болью. – Входите же, ради Бога! – через мгновение добавил он. – Смелее!
На пороге возник молодой казах с широким плоским лицом. В руках он держал записку.
– Вот, – произнес казах, протягивая записку Дутову. – От Касымхана.
– А чего Касымхан сам не пришел?
– Дело у него спешное, господин генерал. Просил извиниться.
Казах стрельнул быстрым рысьим взором в атамана, наложил одну ладонь на другую, прикрыл половину, вторую половину оставил открытой. Этот жест Дутов знал, так поступают, когда хотят молчаливо выказать уважение к своему собеседнику. Дутов кивнул, протянул к казаху руку:
– Ладно, давай сюда записку. Жаль только, что Касымхан сам не сумел прийти.
Дутов взял записку, торопливо развернул, заметил, что пальцы противно подрагивают, будто у пьяницы. Мотнул головой протестующе – этого еще не хватало. Попробовал вчитаться в текст записки, но строчки, слова начали у него расползаться на отдельные буквы – ничего не понять. И Дутов, словно бы обжегшись, с шипеньем втянув в себя воздух, поднял глаза, будто бы кто-то специально толкнул его, предупредив об опасности. Прямо в лицо ему смотрел черный глазок пистолета.
Атаман, нутро которого опалил холод, хотел было закричать, но усилием воли сдержал себя, усмехнулся жестко, покосился на огонь большой сальной свечи, стоявшей на столе, и проговорил тихим усталым голосом:
– Хочешь убить меня? Напрасно. Моя смерть ничего не изменит…
В следующее мгновение тишину дома разорвал грохот.
Из взора Дутова исчезло все, что он только что видел: темная убогая стена кабинета, дверь с медной ручкой отполированной ладонями до блеска, подрагивающий в воздухе силуэт карандашницы, на которую падал неяркий свечной свет. По стене ходила, заваливаясь то в одну сторону, то в другую, будто живая, тень. На миг вспыхнуло в сознании лицо казаха, стрелявшего в него… Неприятное было это лицо.
Дутов ткнулся головой в стол, скребнув пальцами по листу бумаги, который всего несколько минут назад заполнял торопливыми строчками, вздохнул жалобно, прощаясь с этим жестоким миром, и тихо сполз на пол…
Через несколько часов представитель ВЧК в Туркестане Яков Христофорович Петерс [72] послал в Москву телеграмму, в которой извещал, что шестого февраля 1921 года в шесть часов вечера в китайской крепости Суйдун был застрелен атаман Оренбурского казачьего войска генерал-лейтенант Дутов.
Спустя пять дней в центр полетела новая шифровка, также подписанная Яковом Петерсом, сообщающая подробности:
«Руководящий операцией зашел в квартиру Дутова, подал ему письмо и, воспользовавшись моментом, двумя выстрелами убил Дутова, третьим – адъютанта. Двое оставшихся для прикрытия отступления убили двух казаков из личной охраны атамана, бросившихся на выстрелы в квартиру. Восьмого февраля трупы убитых отправлены в Кульджу. Наши сегодня благополучно вернулись в Джаркент».
Чанышева вызвали в Верный, выделили отдельную комнату, дали внушительную стопку бумаги, чернильницу, до краев заполненную фиолетовыми, остро попахивающими плохой химией чернилами, ручку со стальным пером «рондо» и велели:
– Опиши все, как было!
– Что было? – не понял Чанышев.
– Не придуривайся! Ты где находишься?
Находился Чанышев в «чрезвычайке» – конторе, за которой шла крутая слава. Он вздохнул, придвинул к себе бумагу, поскреб по ногтю острием пера и принялся за работу.
Из доклада Чанышева стали известны некоторые подробности операции, которые Касымхан поведал впервые. Сначала он познакомился в Кульдже с Ионой – через Мидовского, сбежавшего джаркентского городского голову, а через Аблайханова – друга детства, оказавшего переводчиком Дутова, уже был непосредственно приглашен атаманом. Всех их он уверил, что у него имеется 200 человек вооруженных милиционеров, с которыми он свободно может произвести восстание в Джаркентском уезде.
Неожиданный отъезд Касымхана домой, подорвавший было доверие атамана к нему, был вызван опасной проверкой Чанышева дутовским агентом Падариным в Кульдже. А недоверие чекистов – тем, что первоначальный план уничтожения атамана сорвался из-за Рождества, когда Дутов не выходил из дома, а последующее восстание Маньчжурского полка в Куре возможности не дало вообще проникнуть в крепость, где жил Дутов.
В роковой записке Дутову Касымхан отыгрался: «Господин Атаман. Хватит нам ждать, пора начинать, все сделано. Ждем только первого выстрела. Прощайте».ПослесловиеСенька Кривоносов, уроженец станицы Остроленской, был застрелен в тот злополучный вечер шестого февраля 1921 года у дверей квартиры атамана. Бывшего сапожника, Георгиевского кавалера Удалова вместе с женой Александрой Афанасьевной Васильевой расстреляли в тридцать седьмом году. Следы Африкана Бембеева, – как, впрочем, и Еремея Еремеева, – затерялись на просторах великой России; если первого никто никогда уже не видел после побега из Суйдуна, то второй был либо арестован ночью чекистами и расстрелян тайно, как «пламенный дутовец», либо просто предпочел сбежать куда-нибудь на Алтай или же в Сибирь.
Про Касымхана Чанышева, непосредственного исполнителя террористической акции, говорили разное. Одни утверждали, что он удостоился повышения и покинул Семиречье, другие – что попал в беду и его вскоре не стало, третьи – что расстрелян в мрачном тридцать седьмом, четвертые еще что-то. Кому можно верить, а кому нельзя, трудно судить. Интересный факт: «В штабе Дутова был найден штабс-капитан, который за амнистию согласился организовать убийство Дутова. Исполнил акцию Чернышев, которому Дутов доверял. Штабс-капитан покончил с собой в одной из психиатрических лечебниц Ташкента» [73] .
Возможно, англичане просто перепутали две фамилии «Чанышев» и «Чернышев», звучавшие для британского уха одинаково, а вот версия насчет штабс-капитана – это что-то новенькое. Может быть, штабс-капитан и Чанышев – одно и то же лицо? Однако история о том, что Чанышев после убийства Дутова попал в психиатрическую больницу и там покончил с собой, повесился – довольно известна.
Отец Иона также исчез куда-то – произошло это после того, как четверо убитых были отпеты восьмого февраля в Суйдуне, затем на санях отправлены в город Кульджу и там похоронены.
Что касается Дутова, то, по некоторым свидетельствам, могила атамана была вскрыта и тело извлечено наружу. Как знать – ни белые, ни чекисты, ни мародеры не были слишком разборчивы в средствах.
Примечания
1
Романов – внук Николая I, дядя Николая II, генерал-адъютант, генерал от кавалерии, Верховный главнокомандующий (июль 1914 – август 1915), потом наместник Его Величества на Кавказе, главнокомандующий Кавказской армией, войсковой наказной атаман Кавказского войска. Интриговал против Николая II.
2
Федор Артурович Келлер (1857–1918) – в 1906–1910 гг. командир лейб-гвардии Драгунского полка, генерал от инфантерии, командир 3-го кавалерийского корпуса. В ноябре 1918 г. – главнокомандующий всеми вооруженными силами на территории Украины в гетманской армии. 21 декабря 1918 г. убит петлюровцами в Киеве.
3
Фольварк ( польск . folwark от диалектизма нем . Vorwerk) – мыза, усадьба, обособленное поселение, принадлежащее одному владельцу, помещичье хозяйство.
4
Пироксилин – взрывчатое вещество, изготовляется из обработанной азотной кислотой целлюлозой.
5
Земеля – земляк.
6
Отонок – пленка, тонкая оболочка.
7
Кулеш – суп, как правило, из пшена, с добавлением других ингредиентов (сало, копчености).
8
Першерон – порода лошадей, получившая название по области разведения Perche (Франция) и пригодная для использования в качестве тяжеловозов для сельскохозяйственных работ.
9
«Шимоза» – вид артиллерийских снарядов с особым сильновзрывчатым составом, изобретенным японским военным инженером Шимонозой.
10
Сидор – солдатский вещевой мешок.
11
Капонир – оборонительное сооружение для ведения огня в двух противоположных направлениях.
12
Забусить – здесь: забрызгать.
13
Кизяк – высушенный в форме кирпичей навоз с примесью соломы, служащий топливом на юге, иногда употреблявшийся и для построек.
14
Матвей Иванович Платов (1751–1818) – атаман донских казаков, граф, генерал от кавалерии. Отличился еще при штурмах Очакова и Измаила. За успешные действия во время Отечественной войны 1812 г. был возведен в графское достоинство. В начале января 1813 г. вступил в пределы Пруссии, получил начальство над особым корпусом, взял в плен около 15 000 человек.
15
«Чемодан» – прозвище английского двухфюзеляжного самолета-разведчика, применявшегося в Первой мировой войне.
16
Орднунг – ordnung (нем.) – порядок.
17
Кремешок – (ум. – ласк.) небольшой кусок кремня.
18
Николай Владимирович Рузский (1854–1918) – генерал от инфантерии, участник Русско-турецкой и Русско-японской войн. В Первую мировую войну командовал рядом армий и фронтов. С апреля 1917 г. в отставке по болезни, в 1918-м был арестован и убит.
19
Николай Иудович Иванов (1851–1919) – русский генерал от артиллерии, в Первую мировую войну командовал Юго-Западным фронтом. В феврале 1917-го по приказу Николая I был направлен на подавление революционных выступлений, но потерпел поражение. В 1919 г. командовал белоказачьей армией у генерала Краснова, умер от тифа.
20
Александр Иванович Гучков (1862–1936) – депутат и с 1910 г. председатель Третьей Государственной думы, а в 1915–1917 гг. – председатель Центрального военно-промышленного комитета. В 1917 г. военный и морской министр. Один из организаторов корниловского мятежа. Эмигрировал.
21
Лавр Георгиевич Корнилов (1870–1918) – генерал от инфантерии. После Февральской революции командовал войсками Петроградского военного округа, Восьмой армией и Юго-Западным фронтом. В июле – августе 1917-го – Верховный главнокомандующий. В конце августа поднял мятеж, после его разгрома арестован, бежал в Новочеркасск, где принял участие в создании Добровольческой армии. Убит при штурме Екатеринодара.
22
Александр Михайлович Крымов (1871–1917) – из дворян. С апреля 1917 г. занимал должность командира Третьего кавалерийского корпуса, генерал-лейтенант. В период Корниловского выступления назначен главнокомандующим отдельной Петроградской армией, после его провала представил А.Ф. Керенскому свои объяснения произошедших событий. Вернувшись от Керенского, застрелился.
23
Алексей Максимович Каледин (1861–1918) – генерал от кавалерии. В июле 1917 г. на Большом Войсковом круге избран атаманом войска Донского. В октябре 1917 г. возглавил выступление донского казачества против советской власти, которое было подавлено. Застрелился.
24
«Монополька» – водка, продававшаяся в начале XX века в государственных винных лавках (монополиях).
25
Самуил Моисеевич Цвиллинг (1891–1918) – активист революционного движения в Тобольске, Екатеринбурге, в Троицке. С июля 1917 г. – член Уральского областного комитета РСДРП(б). Будучи делегатом 2-го Всероссийского съезда Советов, участвовал в Октябрьском вооруж. восстании в Петрограде. В ноябре 1917 г. вернулся в Оренбург. Организатор освобождения Оренбурга от белоказаков, председатель Оренбургского ВРК. Убит дутовцами.
26
Петр Алексеевич Кобозев (1878–1941) – участник революции 1905–1907 гг., член Рижского комитета РСДРП. В 1915–1916 гг. находился в ссылке в Оренбурге, член комитета Оренбургской организации большевиков. С ноября 1917 г. чрезвычайный комиссар ВЦИК и СНК РСФСР в Западной Сибири и Средней Азии, возглавлял борьбу с Дутовым.
27
Притартать – принести чего-либо.
28
Лейба Давидович Бронштейн (Лев Давидович Троцкий – псевдоним) (1879–1940) – один из организаторов Октябрьской революции 1917 г. и один из создателей Красной армии, теоретик марксизма. Один из основателей и идеологов Коминтерна, член Исполкома Коминтерна. В советском правительстве – нарком по иностранным делам, нарком по военным и морским делам и председатель Революционного военного совета. Мобилизовал в Красную армию большое число военспецов, использовал карательные меры для её укрепления. С 1923 г. – лидер внутрипартийной левой оппозиции.
29
Аппельбаум (Радомысльский, фамилия матери – Апфельбаум, первое имя Евсей, второе имя Герш, отчество Аронович) – Григорий Евсеевич Зиновьев (псевдоним) (1883–1936), революционер, советский политический и государственный деятель. В октябре 1917 г. проголосовал против курса на вооруженное восстание, чтобы не отпугнуть большинство крестьянской страны. Выступал за политику «красного террора» в Петрограде. В 1919–1926 гг. был председателем Исполкома Коминтерна, поощрял фракционные склоки. Боролся за политическое лидерство с Лениным, Троцким и Сталиным. Был признан оппозиционером, приговорен к расстрелу.
30
Николай Дмитриевич Каширин (1888–1938) – служил в кавалерийских частях Оренбургского казачьего войска. В 1917 г. – председатель полкового казачьего комитета, перешел на сторону большевиков. В 1918 г. сформировал в Верхнеуральске казачий добровольческий отряд и вел борьбу с Дутовым, избран главкомом Уральской партизанской армии, действовавшей в тылу белых на Южном Урале.
31
Иван Григорьевич Акулинин (1879/80—1944) – окончил академию Генштаба. Офицер в штабе Третьей Донской казачьей дивизии, офицер в Генеральном штабе. Помощник Оренбургского войскового атамана Дутова в 1917 г., с декабря – зам. председателя войскового правительства. В 1918 г. – командующий войсками Оренбургского военного округа; главный начальник округа. В 1919 г. начальник штаба походного атамана Оренбургского казачьего войска при Ставке Колчака в Омске, командир 2-го Оренбургского казачьего корпуса, представитель войск Оренбургского казачества при штабе ВСЮР Деникина. В конце 1920 г. эмигрировал.
32
Шевровый – сделанный из шевро – сорта мягкой хромовой козьей кожи.
33
Опойковый – сделанный из опойка – шкуры теленка, которого кормили молоком.
34
Василий Патрикеевич Мартынов (1863–1920) – генерал-майор, в 1917–1918 гг. – войсковой атаман и командующий войсками Уральской области. Расстрелян.
35
Борис Владимирович Анненков (1890–1927) – из дворян. Есаул Первого Сибирского казачьего полка. Сформировал и возглавил партизанскую Сибирскую казачью дивизию. С конца 1917 г. та действовала в районе Омска, прославилась при подавлении восстания на Алтае. С июля 1918 г. – войсковой старшина, потом генерал-майор, командующий Отдельной Семиреченской армией. Эмигрировал в Китай, выдан большевикам, расстрелян.
36
Григорий Михайлович Семенов (1890–1946) – есаул, генерал-лейтенант (1919). После Февральской революции комиссар Временного правительства в Забайкалье. В ноябре – декабре 1917 г. поднял мятеж против советской власти. После разгрома в 1921 г. возглавлял в Китае белую эмиграцию. В 1945 г. казнен.
37
Василий Константинович Блюхер (1890–1938) – маршал Советского Союза (1935), Первый кавалер ордена Красного Знамени. С марта 1918 г. командовал Восточным отрядом, действовавшим против Оренбургской армии, затем – командующий партизанской Уральской армией. Позже – военный министр, главком народно-революционной армии Дальневосточной республики, главный военный советник революционного Китая, председатель военного трибунала. В 1938 г. арестован. Умер во время следствия.
38
Анатолий Михайлович Назаров (1876–1918) – генерал-майор. Окончил академию Генштаба. В октябре 1917 г. – командир кавалерийского корпуса на Кавказском фронте. По приказу Каледина остался на Дону, с декабря – походный атаман Донского казачьего войска. После того как Каледин застрелился, избран атаманом войска Донского. Расстрелян.
39
Проран – (перен.) отвестие в сооружении, прорванном потоком.
40
Василий Блюхер родился в селе Барщинка в крестьянской семье. В фамилию превратилось прозвище прадеда, полученное от помещика, который называл его именем известного фельдмаршала Гебгарда-Лебрехта Блюхера (1742–1819), вероятно, по той причине, что крепостной, отданный в солдаты, вернулся с Русско-турецкой войны с большим числом наград.
41
Царский указ от 25 июня 1916 г. о мобилизации в армию на тыловые работы «инородческого» мужского населения Казахстана, Средней Азии и частично Сибири в возрасте от 19 до 43 лет, стал поводом к восстанию. Карательный корпус генерал-лейтенанта А. Лаврентьева действовал в районе Тургая.
42
Владимир Оскарович Каппель (1893–1920) – генерал-лейтенант. В 1918 г. командовал группой белогвардейских войск, в 1919-м – корпусом, армией, с декабря – колчаковским Восточным фронтом.
43
Блиндированные – имеющие дополнительные защитные приспособления для усиления военных сооружений и техники.
44
Иван Михайлович Брушвит (1879–1946) – эсер, член распущенного большевиками Учредительного собрания, председатель Объединения российских земских и городских деятелей в чехословацкой республике. В 1918 г. в Самаре – в составе Комитета членов Учредительного собрания, председатель В.К. Вольский. В июне – августе 1918-го власть Комуча распространялась на Самарскую, часть Саратовской, Симбирскую, Казанскую, Уфимскую губернии.
45
Василий Георгиевич Болдырев (1875–1933) – генерал-лейтенант, командующий Пятой армией. В сентябре – ноябре 1918 г. – главнокомандующий Уфимской директории, затем выслан в Японию. В апреле 1920 г. вернулся во Владивосток, член правительства ДВР; главнокомандующий войсками Временного правительства Приморской областной земской управы. В 1922 г. арестован, летом 1923 г. освобожден и служил в советских учреждениях, в 1933 г. расстрелян.
46
* Жамка – круглый (мятный, обычно) пряник.
47
Лазарь Федорович Бичерахов (1882–1952) – подъесаул, георгиевский кавалер. В 1918-м руководитель борьбы с большевиками в Дагестане, командовал войсками «Диктатуры Центрокаспия», затем возглавлял союзное Кавказско-Каспийское правительство. Уфимской директорией назначен командующим войсками Западно-Каспийского побережья и произведен в генерал-майоры. В начале 1919-го перешел в Вооруженные силы Юга России. Не признал власти Деникина и считался в русских кругах сепаратистом. Эмигрировал в Германию.
48
Михаил Николаевич Тухачевский (1893–1937) – участвовал в разгроме Донской армии. Будучи командующим Первой армией Восточного фронта, отказался поддержать мятеж эсера Муравьева, возглавлявшего этот фронт, за что 11 июля 1918 г. был им арестован и едва избежал расстрела. В апреле – ноябре 1919 г. Тухачевский командовал Пятой армией Восточного фронта. За умелое руководство армией при разгроме войск Колчака, освобождение Урала и Западной Сибири награжден орденом Красного Знамени.
49
Бела Кун (1886–1938) – один из организаторов и руководителей компартии Венгрии. В Россию попал в 1916 г. как военнопленный, вступил в РСДРП. Участвовал в обороне Петрограда и подавлении эсеровского мятежа в Москве. Член Реввоенсовета Южного фронта.
50
Дмитрий Антонович Лебедев (1883–1928) – закончил Академию Генштаба, член Главного комитета Союза офицеров, способствовал приходу к власти Колчака. 1919-й – командир Степной группы, начштаба Верховного главнокомандующего и военный министр. Находился в конфликтных отношениях с министерством, не допускал в Ставку опытных штабистов, вступал в конфликты, активно вмешивался в гражданские дела. Позже командовал Отдельной Степной группой войск и Уральской группой войск. В 1922 г. – генерал-лейтенант. Эмигрировал в Китай.
51
Александр Васильевич Колчак (1874–1920) – адмирал, в 1916–1917 гг. командующий Черноморским флотом. В 1918–1920 гг. – Верховный правитель Российского государства. Постановлением Иркутского ВРК расстрелян.
52
Ахмет-Заки Ахметшахович Валидов (1890–1970) – начальник Башкирского войскового управления и председатель Башкирского военного совета. В марте 1919 г. Башкирский корпус из состава Отдельной Оренбургской армии переформирован в Девятую Башкирскую дивизию. Впоследствии Валидов – востоковед-тюрколог, профессор, почетный доктор Манчестерского университета.
53
Федор Евдокимович Махин – подполковник Генштаба. Перешел от красных, с июля 1918-го в Народной армии на командных постах. В октябре – декабре 1918 г. – начальник Оренбургской казачьей пластунской дивизии, командующий Актюбинской группой Первой Оренбургской армии. С декабря 1918 г. убыл в командировку за границу.
54
Гая Д(и)митриевич Гай (настоящее имя Гайк Бжишкян(ц) 1887–1937) – прапорщик, командир Красной армии. В 1918 г. он во главе частей, которые сформировал, вел борьбу против белочехов и дутовцев. Автор книги «Первый удар по Колчаку». Репрессирован, расстрелян, реабилитирован посмертно.
55
Шубат – кисломолочный напиток из верблюжьего молока, жирнее кумыса.
56
Николай Тимофеевич Сукин (1878–1937) – выпускник Академии Генштаба, полковник Оренбургского казачьего войска. В январе 1918 г. арестован за агитацию против войскового атамана. Воевал в белых войсках Восточного фронта, генерал-майор, начальник штаба 3-го Уральского армейского корпуса, с 1919 г. возглавлял 6-й Уральский армейский корпус, затем – командир 2-го Уфимского армейского корпуса. Участник сибирского «Ледяного похода». В 1920 г. – начальник Северной колонны 2-й армии, затем – начштаба армии Г. Семенова. Эмигрировал в Китай, вернулся в СССР, расстрелян.
57
Александр Николаевич Вагин (1884–1953) – генерал-майор. С июня 1918-го – начальник штаба Оренбургской армии, Оренбургского, Иркутского военных округов. Эмигрировал в Харбин.
58
Клуня – помещение для молотьбы и складирования снопов.
59
Иван Матвеевич Зайцев (1879–1934) – полковник русского экспедиционного отряда в Персии. Участник боев с большевиками весной 1918 г., член «Туркестанской военной организации». В 1919-м – начальник штаба Оренбургской армии, генерал-майор. В 1920 г. убыл на Дальний Восток. С 1929 г. жил в Харбине, покончил самоубийством.
60
Андрей Степанович Бакич (1878–1922) – полковник. Летом 1918-го командовал Сызранской группой Народной армии, начальник Второй Сызранской стрелковой дивизии, с февраля 1919-го – командир Четвертого Оренбургского армейского корпуса, генерал-майор. В марте 1920 г. эмигрировал в Китай. Возглавил «Голодный поход» остатков Оренбургской армии в Монголию. Весной 1921 г. взят в плен и расстрелян.
61
Видимо, Дутов имел в виду не только воинские части, но и гражданское население, сотрудников учреждений и разных штатских тыловых структур.
62
Согор – Временный главный комитет Всероссийского союза городов за границей – российская общественная организация, занимавшаяся оказанием благотворительной помощи беженцам в Чехословакии главным образом.
63
Скорее всего, не дошел, поскольку донесение это находится в архиве КГБ.
64
Закоперщик – тот, кто затевает какое-либо (обычно неблаговидное) дело; зачинщик.
65
Арасан – целебный источник (казах.) .
66
Жуз – исторически сложившееся объединение казахов.
67
Цирик – боец армии Монгольской, изначально, народной республики.
68
Бачка (бача) – новобранец, необученный солдат.
69
Бумага верже ( фр . vergé – полосатая) – белая или цветная бумага с ярко выраженной, видимой на просвет, сеткой из частых полос, пересеченных под прямым углом более редкими полосами.
70
Дунгане – народ, проживающий в Киргизии, южном Казахстане и Узбекистане. Также в КНР проживает более 9,8 млн китаеязычных мусульман хуэйцзу, которых часто относят к той же национальности. Тарачинцы – одна из малых монгольских народностей.
71
Гаолян – разновидность проса с очень высокими стеблями, распространенная в Маньчжурии; сено.
72
Яков Христофорович Петерс (1886–1938) – член Петроградского ВРК, с 1917 г. – член коллегии ВЧК, председатель Ревтребунала. В 1920–1922 гг. – председатель ВЧК в Туркестане.
73
Из книги М.К. Басханова «Генерал Лавр Корнилов». London, Skiff Press, 2000.
ОглавлениеЧасть перваяЧасть втораяЧасть третьяПослесловие

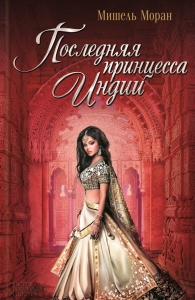
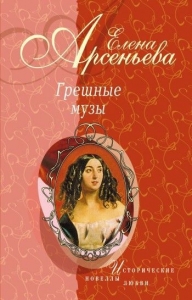

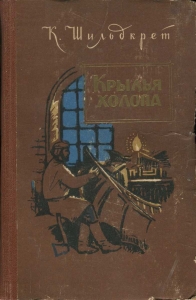

Комментарии к книге «Оренбургский владыка», Валерий Дмитриевич Поволяев
Всего 0 комментариев