Шапи Казиев Ахульго
Жизнь не умещается в набор фактов или документов, она значительно многообразнее и интереснее. Тем более, когда речь идет о переломных исторических событиях, в которых особенно ярко проявляются сила, величие и красота человеческого духа.
В работе над романом меня ожидало много открытий и откровений, но поразительнее всего было то, с какой убежденностью и мужеством наши предки утверждали современные представления о свободе личности в те далекие времена. Самоотверженная борьба за священную свободу для людей всех наций и вер, борьба, которая велась в окружении по сути рабовладельческих государств, изменила не только судьбы участников событий, но и значительно повлияла на общественное сознание. Ахульго – это не просто историческое событие, это триумф и трагедия на пути исторического развития народов Дагестана.
Основой событийной канвы романа стали многочисленные исторические хроники, документы, мемуары, дневники и письма участников событий, современные научные исследования и рассказы краеведов, с которыми мне довелось встречаться на Ахульго и в близлежащих селах.
Вместе с тем создание полнокровных образов, эволюция судеб героев повествования, разработка фабулы романа и сюжетных перипетий потребовали как художественной реконструкции событий, не освещенных в исторических источниках, так и раскрытия внутренних движущих сил, казалось бы, известных фактов. В повествовании действует и ряд персонажей, являющихся плодом творческого воображения, но порожденных той исторической эпохой. Впрочем, как известно, литературные герои порой оказываются не менее живыми, чем реальные персонажи. Но в этом и есть одна из тайн творчества.
Выражаю искреннюю признательность Гамзату Гамзатову, автору идеи создания романа «Ахульго», незабвенному Гаджи Абашилову, горячо поддержавшему этот проект, Юсупу Дадаеву, который помог мне посетить места событий и снабдил уникальными документами.
Особая благодарность – Издательскому дому «Эпоха», который заботливо опекал автора и блестяще осуществил этот большой проект.
Шапи КазиевГлава 1
Генералу Граббе приснилась гора. Проступая из мрака, она надвигалась на генерала и была похожа на исполинское каменное чудовище, которое кто-то дерзнул потревожить. Гора была окутана дымом и глухо ревела, угрожая раздавить генерала. Вдруг со страшным грохотом гора раздалась надвое, и неодолимая сила повлекла Граббе в ее жуткое чрево.
От ужаса Павел Христофорович проснулся.
Увидев над собой потолок, под которым носились первые весенние мухи, Граббе облегченно вздохнул и перекрестился.
За окном было раннее утро. В доме еще спали.
Граббе поднялся, стараясь не потревожить супругу, и подошел к окну.
«К чему бы такая гора? – недоумевал генерал, разглядывая пологие макушки пятиглавого Бештау.
– Разве такие бывают?».
Пятигорск просыпался. Где-то мычали коровы, а молочницы-казачки уже неслись с корзинами, полными бутылей, по улицам курортного городка, голося:
– А вот молока!
– А сметана для хана!
Их корзины вмещали в себя и кое-что другое, о чем казачки сообщали особенно звонко:
– А винца для молодца!
Все как обычно. Скоро откроют источники, и потянется к ним курортная публика. Откроются городские ворота, и начнут возвращаться с ночных пикников офицеры, утомленные, как после боевых походов. Распахнут двери разные заведения, и в них осядут посетители, чтобы откушать и обсудить важные известия.
Вот уже третий год, что семейство Граббе жило на Водах, здесь почти ничего не менялось.
Впрочем, вынужденное бездействие генерала скрашивало семейное счастье. И месяца не прошло, как супруга принесла ему пятого ребенка. Мальчика назвали Александром. Граббе чтил царствующую династию и называл своих детей в честь императоров, великих князей и княгинь. Николаю Граббе было шесть лет, Михаилу – четыре, еще младше были дочери Софья и Мария. И вот теперь – Александр. Особенно Павел Христофорович почитал Марию Федоровну, супругу Павла I. Юный Граббе воспитывался в Сухопутном кадетском корпусе, когда он, его братья и сестры остались сиротами, и императрица великодушно о них позаботилась.
Был у Граббе еще один сын, тоже Николай, но младенец не прожил и года, а следом скончалась и его мать – первая жена Граббе. Вера Михайловна Скоропадская, из рода гетмана Запорожского, оставила супругу богатое имение в Харьковской губернии. Он женился на ней нечаянно, ошалев от счастья, когда его выпустили из казематов, в которые он угодил «за прикосновенность к делу декабристов». Когда Граббе проезжал через имение Скоропадских, у него сломался экипаж. Пока чинили, статного полковника пригласили в господский дом, где он был тронут радушием хозяев и сражен красотой младшей дочери Скоропадских. В свой Северский конно-егерский полк он отбыл с молодой женой.
Его вторая женитьба была еще необыкновенней. В 1829 году, в войне с Турцией, Граббе начальствовал авангардом русских войск в Малой Валахии. Победоносная война избавила Валахию от османского владычества, и освободители кутили в Бухаресте. Им было за что выпить. Граббе, раненный в ногу при переправе через Дунай, но не оставивший полк, получил звание генерал-майора, орден Святого Владимира 3-й степени и золотую саблю с надписью «За храбрость». Но главный тост в офицерских компаниях всегда был за смуглую красавицу Катеньку – дочь местного врача, царицу всех балов. Отец ее был человеком строгих правил и, от греха подальше, выдал Катеньку за пожилого богатого молдаванина. Но новобрачная оказалась строптивой, заперлась в спальне, а затем свила веревку из простыней, подожгла комнату и спустилась через окно прямо в руки Граббе. Новоиспеченный генерал-майор был человеком напористым, что и испытал на себе тамошний архиерей, которого Граббе заставил расторгнуть постылый брак Катеньки и обвенчать ее с русским генералом.
Екатерина Евстафьевна боготворила своего супруга и исправно рожала ему детей, несмотря на то, что беспрерывные войны мешали Граббе сполна наслаждаться семейной идиллией. Она достойно несла крест жены боевого генерала, и, когда в 1835 году Граббе был уволен для излечения болезней на Кавказские Минеральные Воды, наступило абсолютное счастье.
Здесь они могли жить на широкую ногу, доходы от имений первой супруги и самого Граббе в Полтавской губернии это позволяли. Да и жалование генерала было немалым, даже когда он не воевал. Но Граббе не любил роскоши, он придерживался спартанского образа жизни, тем более, что имел пример в лице самого государя. Но жене и детям ни в чем не отказывал. Няньки, кормилицы и прочая прислуга носились по дому целыми днями. И только старый денщик Иван понимал, как тягостно барину это богатое безделье, когда вместо полковых гремят детские барабаны, а где-то за соседними горами генералы добывают себе славу и почести.
Когда Граббе вышел в сад, Иван уже ждал его с кувшином теплой воды и полотенцем. Граббе умывался водой из местных целебных источников. Пить ее он отказывался, но на лицо она действовала благотворно. Граббе было почти пятьдесят, но он сохранил молодцеватую выправку под стать его высокому росту и берег свое лицо, которым, как он считал, походил на государя императора и которое, он верил, еще будет узнаваемо среди первых на воинском поприще.
Пока цирюльник манипулировал своей бритвой, Граббе следил за каждым его движением. Следовало быть очень деликатным с длинными бакенбардами, едва не переходящими в усики в точности, как у Николая I.
– Усердствуй, – велел Граббе.
– Не извольте беспокоиться, ваше превосходительство, – заверил цирюльник.
– Знаю я вас, мошенников, – ворчал Граббе.
– Вам бы только кровь пускать.
– Токмо их благородий пользуем, – лебезил цирюльник.
– Даже если покойники, то непременно чтобы офицеры.
– Какие еще покойники? – поморщился Граббе.
– Известное дело, дуэлянты.
– Цирюльник перекрестился.
– На войне не убьют, так здесь под пули лезут.
– Так ты что же, каналья, и покойников этой же бритвой? – гневно вскинул брови Граббе.
– Как можно, ваше превосходительство! – замахал руками перепуганный цирюльник.
– Для дуэлянтов особая статья. Их даже в церкви не отпевают, как самоубийц. Вот и брею, не глядя, шилом таким особым.
– Смотри у меня!
– Насчет бакенбардиков как прикажете – перьями пустить на античный манер или подвить?
– Подвей! Который уже раз тебе толкую.
– Не извольте беспокоиться.
Цирюльник пустил в дело особые щеточки, щипцы и припарки. Он знал свое дело, и Граббе каждый раз находил в своем облике все больше сходства с августейшим оригиналом. Но втайне Граббе наслаждался и своим превосходством. Глаза у него были особенные. Не столь значительные, как у государя, но такие цепкие, что от них не могли укрыться тайные замыслы неприятеля. И когда Граббе был военным агентом в Баварии, глаза его весьма послужили отечеству. Кроме того, они были чарующе синими и с таким особым блеском, что чужие жены падали из пылающих спален в его крепкие объятия. С годами во взгляде Граббе появилась тень недосказанности, затаенной обиды, но это лишь придавало ему веса в обществе.
– Силь вуп ле! – воскликнул цирюльник, завершая свои манипуляции нижайшим поклоном и поднося большое зеркало.
Граббе поглядел на свое отражение с разных позиций, притронулся кончиками пальцев к бакенбардам «а ля Николай» и царственно кивнул, отпуская цирюльника.
– Ступай.
Дом понемногу оживал, наполнялся суетой и детским гомоном. Дети ссорились, не успев проснуться. Постичь причины их недовольств Граббе не пытался, считая это не генеральским делом.
С улицы послышался цокот копыт. Граббе вспомнил свой полк и легко взбежал на бельведер, чтобы полюбоваться на лихих молодцов. Но вместо этого перед ним предстала печальная процессия.
Мимо дома ехали раненые кавалеристы, у некоторых к седлам были приторочены костыли. Следом тянулась вереница телег. Лошади шли медленно, бережно переступая через рытвины и ямы. Везли тяжелораненых.
Граббе отвернулся. Не потому, что вид несчастных мог его слишком опечалить. За свою бурную боевую жизнь он повидал всякое. Его смущало совсем другое. На Кавказе шла война. А он, храбрый генерал, полный сил и боевого опыта, влачил существование отставного ветерана.
Позавтракав, он устроился в кресле-качалке со своим дневником. Только ему он поверял свои мысли, никто другой не в силах был понять и принять его высокие чаяния и душевные муки. Но даже с дневником Граббе был осторожен, помня, как перед арестом по делу восстания 14 декабря 1825 года лихорадочно жег свои записи, письма и прочие бумаги, могущие выдать его либеральные увлечения. Бумаги горели медленно, и он помогал пламени, рубя предательские листы своей саблей.
Теперь он писал иначе, в надежде, что дневник его не останется тайной: «Бывают времена, Государь, в которые немилость царей есть только несчастие. В наше же – она и стыд. В сию эпоху славы и благоденствия Вами покоющейся и во всяком благе возрастающей России быть отверженным, как негодное орудие, в полном обладании всех душевных и телесных сил, с живейшим рвением ко всему полезному, с готовностью на всякую по мановению Вашему опасность и на всякий труд, с непритворною и пламенною в сердце и уме к Вам приверженностью быть отринуту есть великое несчастье, – дерзаю выговорить, Государь, несчастие, мною не заслуженное».
Глава 2
В горах наступила весна.
Серые громады скал украсились первыми цветами, уступы покрылись изумрудными травами и окутались нежно-розовыми лепестками абрикосовые деревья.
Повсюду бежали юркие ручейки, наполняя шумящие в ущельях реки. На склонах паслись овцы с пушистыми ягнятами, а на узких рукотворных террасах чернели лоскуты вспаханных полей.
С перевала спускались всадники. Они двигались по двое и издалека были похожи на четки, скользящие из чудесной невидимой руки. Узлом этих четок был Шамиль.
Он ехал на белом арабском коне, грызшем от нетерпения удила. Шамиль был одет в зеленую черкеску с серебряными газырями и коричневую папаху, обвитую чалмой из светлой кисеи. Красивый кинжал, изящный пистолет в вышитой кобуре и сабля, известная своей величиной и молниеносностью, дополняли его костюм. Не было на нем только ружья, зато легкие горские ружья были у всех его мюридов.
Шамилю было за сорок лет, но стройное тело его было по-прежнему крепко и полно сил. Его благородное умное лицо выражало несокрушимую волю и вместе с тем доброту. Борода его уже начала седеть и была слегка окрашена хной. Голубые, со стальным оттенком глаза Шамиля были слегка прикрыты, как будто он читал молитву.
Позади имама ехали его ближайшие помощники. Юнус из Чиркея гордо держал над собой знамя имама – простое белое полотнище. Знамя цвета чистоты, цвета ихрама – одеяния, в котором совершают хадж, было украшено арабской надписью «Во имя Аллаха милостивого, милосердного». Рядом ехал телохранитель Шамиля – молчаливый гигант Султанбек из Дылыма.
За ними следовало около сотни отборных джигитов – гвардия имама. Они составляли костяк его регулярных войск, еще немногочисленных, но правильно организованных и отлично вооруженных.
Шамиль возвращался в свою резиденцию из долгого похода. Это была не военная операция, но была важнее многих битв. Имам был в колеблющихся аулах, убеждая горцев объединиться в единую несокрушимую силу, с которой придется считаться и отступникам, и продажным ханам.
Это была непростая задача. Вольные общества, объединявшие десятки аулов, не спешили признавать чью-либо власть. Каждый аул жил по своим законам, а независимый характер горцы впитывали с молоком матери. Но с тех пор, как в горах появились царские солдаты со своими пушками, независимость даже вольных обществ была сильно поколеблена, а ханы стремились расширить свою власть и сломить всякое сопротивление.
– Засучите рукава для установления закона Милосердного и устранения наущения дьявола, – наставлял Шамиль.
– Знайте, что мы никому не причиним вреда за грехи и упущения, бывшие в прошлом. Аллах помилует вас, если вы отныне примете шариат, а если не примете, то у меня будет ко всякому, кто противится Аллаху и его посланнику, враждебное отношение, которое не изменится, пока я не одержу верх или буду убит.
В этом походе Шамиль совершил и дело особенной важности. Имам выкупил у одного общества брошенный аул и отдал его вместе с землями мухаджирам. Это были люди, не желавшие жить под властью царских крепостей, ушедшие к Шамилю от ханов. Были среди них и беглые солдаты, измученные муштрой, и казаки, не желавшие воевать с кунаками-горцами, и поляки, сосланные на Кавказ после подавления Польских восстаний.
Поселяя перебежчиков на новом месте, Шамиль говорил местным джамаатам:
– Знайте, что те, которые к нам перешли от русских, являются верными нам, поверьте и вы им. Эти люди – наши чистосердечные друзья. Создайте им все возможности к жизни.
Перебежчики появились в горах уже давно. Многие стали настоящими горцами, женились, заводили семьи. А в военных делах были незаменимыми разведчиками, инженерами, умели составлять карты, чинили трофейные ружья и понимали в артиллерии. И бились они до последнего, потому что прощения от прежнего начальства не ждали.
Шамиль придержал коня, чтобы полюбоваться открывшейся перед ним величественной панорамой. Это было то самое место, где две большие горные реки Андийское и Аварское Койсу с грохотом сливались в одну. Здесь рождался полноводный Сулак, который нес свои воды через гигантские каньоны, чтобы затем спокойно влиться в Каспийское море. Это было особое место, которое всегда напоминало Шамилю о том, как закалялась его дружба с Магомедом – будущим первым имамом. Место слияния двух рек считалось очень опасным, и переплыть этот ужасный водоворот мало кто осмеливался. Но Шамиль, который во всем превосходил своих сверстников, решился сделать то, что удалось Магомеду, хотя и был младше него на целых пять лет. Бурные воды уже готовы были поглотить Шамиля, когда на помощь пришел его друг. Магомед спас его от верной гибели, и с тех пор они почти не расставались, как две реки, слившиеся в одну.
Магомед был не по годам учен, а Шамиль – не по годам жаден до знаний. Они часто уединялись и, заткнув уши воском, предавались исступленным молитвам, открывая в священной книге потаенные смыслы и сокровенные знания.
Вскоре отцу пришлось забрать Шамиля из гимринского медресе. Учитель жаловался, что Шамиль пришел к нему не учиться, а учить.
Магомед говорил другу, что есть в горах другие – большие учителя, знания которых дороже всех сокровищ. И вскоре друзья отправились странствовать по Дагестану в поисках настоящих учителей и сокровенных знаний. Жизнь учеников-муталимов была нелегкой. Они жили в кельях при мечетях, а досыта ели только в праздники, когда принято особенно щедро наделять нуждающихся. Средства к существованию друзья добывали переписыванием Корана и других почитаемых книг. Но никакие лишения не останавливали будущих имамов, которые искали знания, как жаждущий ищет в пустыне оазис. Они обошли почти весь Дагестан, от учителя к учителю. Уже знаменитые ученые – потомок пророка Джамалуддин Казикумухский, Саид Араканский, Абдурахман-хаджи Согратлинский, Хаджи-Магомед Ирганайский называли их своими лучшими учениками, но они теперь жаждали иного.
Ученых в Дагестане было много, но веры, свободы и справедливости становилось все меньше Они видели разобщенность народов, продаваемых в рабство людей, разрушенные аулы, царские крепости, построенные в горах. В ханских владениях процветало неприкрытое варварство: неугодных сбрасывали со скал, обливали кипящим маслом, им выкалывали глаза и отрезали уши, а девушек выменивали на лошадей. Царские генералы тоже не особенно церемонились, когда речь шла о наказании непокорных. Но явно было и то, что в горах зрела ненависть к ханам и прочей знати, деспотизм которой был защищен царскими штыками и обретал уже невыносимые размеры. И в конце концов кроткие алимы преобразились в яростных проповедников свободы и справедливости, без которых гибла и сама вера.
Магомед убедил Шамиля, что первым делом нужно искоренить адаты – древние обычаи, которые противоречили шариату – исламскому праву и толкали Дагестан в хаос беззакония. Затем Магомед написал «Блистательное доказательство отступничества старшин Дагестана», в котором объявил адаты собраниями трудов поклонников сатаны. А отступникам предрекал: «Если вы не предпочтете покорность своему господу, то да будете рабами мучителей».
Магомед обрел множество последователей, призывая людей принять шариат, по которому все должны быть свободны, равны и независимы, который не позволял какого-либо угнетения одного человека другим и ставил вне закона все, что вредило людям и обществу, вроде рабства или ростовщичества. Однако только проповеди, даже самые пламенные, неспособны были вернуть горцев на путь истинный. И молодые реформаторы не замедлили присовокупить к ним самые решительные действия. Восставшие по их призыву горцы объединялись, изгоняли нечестивцев, а зависимые выходили из повиновения.
Шамиль и сам не ожидал такого успеха. Шариат распространялся как очистительный ливень, сметая недовольных мулл и лицемерных старшин. Шамиль вспоминал, как терявшая влияние и рабов знать пробовала урезонить Магомеда. Как Аслан-хан Казикумухский пригласил его к себе и стал упрекать, что он подбивает народ к непослушанию:
– Кто ты такой, чем ты гордишься, не тем ли, что умеешь изъясняться на арабском языке?
– Я-то горжусь, что я ученый, а вот вы чем гордитесь? – отвечал гость.
– Сегодня вы на троне, а завтра можете оказаться в аду.
Когда волнения охватывали уже подвластные царским властям области, остановить Магомеда попытался и самый могущественный человек в Дагестане – шамхал Тарковский. Он пригласил проповедника к себе, в Тарки, будто бы для введения шариата. Но Магомед заявил
ему:
– Не знания должны идти за человеком, а человек за знаниями.
Едва придя в себя от такой дерзости, Тарковский бросился в Темир-Хан-Шуру и потребовал от царских властей покончить с мятежниками.
Больнее всего было для Шамиля то, что против них выступил и один из их учителей, почитаемый в горах ученый Саид Араканский. Он написал своим ученикам письма, в которых требовал оставить опасные проповеди и вернуться к ученым занятиям. В ответ Магомед и Шамиль призвали его поддержать их намерение ввести шариат и сплотить горцев для борьбы с греховной знатью. Араканский не соглашался, полагая, что дело это безнадежное и непосильное. Но было уже слишком поздно. Магомед и Шамиль со своими приверженцами явились в Араканы и разогнали отступников. Саид сказал, что его кусает щенок, которого он сам выкормил, и бежал в Дженгутай к Ахмед-хану Мехтулинскому, оставив в Араканах свою библиотеку, считавшуюся самой большой в Дагестане.
Теперь отступать было некуда, и Магомед с Шамилем решили поднять на борьбу весь Дагестан. Движение их считалось мирным, но все чаще натыкалось на ханские сабли и царские штыки. И когда стало ясно, что шариат нуждается в острых кинжалах, Магомед и Шамиль обратились к духовным руководителям горцев за разрешением на священную войну.
Столпом веры в Дагестане почитался шейх Накшибандийского тариката Магомед Ярагский, который был очередным звеном Золотой цепи шейхов, восходящей к самому пророку. Он был кроток с праведниками и суров с теми, кто отступал от веры ради бренных земных благ. Главным условием веры шейх объявил свободу, но поначалу проповедовал мирный, духовный газават против дьявольской порчи в людских душах. Его последователи, вооружившись деревянными мечами, ходили по селам, призывая людей покаяться и вернуться к чистоте веры.
За деревянными мечами ханы распознали угрозу появления настоящих, которые были бы направлены против них. Забеспокоились и царские власти, велев ханам пресечь опасные брожения в своих владениях. Местному правителю это не удалось. Тогда к шейху было решено послать почтенного Джамалуддина Казикумухского, чтобы ученый уговорил ученого не гневить царские власти. Джамалуддин был секретарем хана, который осыпал его почестями, щедрыми дарами и даже пожаловал ему три аула, когда Джамалуддин предсказал правителю рождение сына.
Но путь Джамалуддина сопровождало столько необъяснимых явлений, что, явившись к Ярагскому, он желал лишь одного – принятия от него тариката – суфийского пути к познанию истины. Шейх посвятил Джамалуддина, и он стал его мюршидом – духовным наместником, которому позволялось самому направлять желающих вступить на истинный путь. Вернувшись в Кази-Кумух, Джамалуддин обратился к Аллаху с полным раскаяньем, раздал людям все свои богатства и объявил хану, что отказывается от должности секретаря, ибо не желает быть соучастником грехов и злодеяний. Хан попытался наказать Джамалуддина, но натолкнулся на невидимую силу, которая едва не погубила его самого. Своим ученикам, число которых росло с каждым днем, Джамалуддин начал проповедовать шариат – первую ступень тариката.
Предпочитая миролюбивое распространение учения, он позвал к себе Магомеда и Шамиля, надеясь умерить их пыл и предостеречь от войны, в которую ханы непременно втянули бы царские войска, не тревожившие еще горный Дагестан. А борьбу с заведомо более сильным противником Джамалуддин считал губительной для народа. Шамиль уважал мнение мудрого наставника, но Магомед считал тарикатистов излишне мирными и ехать к Джамалуддину согласился лишь для того, чтобы убедиться, действительно ли он обладает необычайными дарованиями, о которых шла молва по всему Дагестану.
Входя в дом Джамалуддина, Магомед послал вперед с Шамилем одного из своих друзей, а сам сел с краю.
– Добро пожаловать, Магомед! – вдруг обратился к нему Джамалуддин, а затем взял за руку и посадил рядом с собой.
– Вот место, которого ты достоин.
Эта встреча произвела на гостей столь глубокое впечатление, что даже Магомед почувствовал непреодолимое желание принять у Джамалуддина посвящение в тарикат. Воинственные вожди шариатистов превратились в смиренных послушников, для которых молитвы стали делом более важным, чем война с отступниками.
С тем они и вернулись. Магомеда будто подменили. Ему открылся новый, захватывающий душу мир, и он надолго уединялся для изучения полученных от Джамалуддина книг. А вместо кинжалов вновь взялся за проповеди, что очень удивляло его последователей. Люди стали расходиться по домам, а успехи шариатистов обращались в пыль. Но Магомед недолго оставался в плену очарования Джамалуддином. Он уже колебался между тягой к постижению пленительных высот тариката и стремлением к решительному искоренению разобщающих горцев адатов, чтобы заменить их едиными для всех законами шариата. Но тут пришло письмо от Джамалуддина, в котором мюршид писал:
«Совершенный ученый мюрид Магомед, если ты вступил на путь накшибандийских наставников, тебе нужно неотступно уйти в уединение и многократно славословить Аллаха, и наставлять тех, кто тебя навестит, тому, что ты знаешь. Тебе нет нужды толкать людей на смуту и гибель. Известно, что смуты будут продолжаться без конца, если ты начнешь дело, которое ты хочешь».
Но Магомеда это не убедило, он уже изнемогал от бездействия и в конце концов объявил Шамилю:
– Что бы там ни говорили Ярагский с Джамалуддином о тарикате, на какой бы манер мы с тобой ни молились и каких бы чудес ни делали, а с одним тарикатом мы не спасемся: без газавата не быть нам в царствии небесном. Давай, Шамиль, газават делать.
Они взялись за оружие и развернули борьбу с новой силой. Все больше обществ Дагестана признавало шариат, который становился основой их единения и гарантией независимости.
В горах установилось двоевластие: народ поддерживал Магомеда, но его главный противник – Хунзахский ханский дом, один из самых древних и почитаемых в Дагестане, – был еще силен. Тогда Магомед с восьмитысячным отрядом сподвижников обложил его столицу Хунзах и предложил ханше принять шариат:
– Аллаху было угодно очистить и возвеличить веру! Мы лишь смиренные исполнители его воли!
Гордая ханша ответил огнем. Отряд повстанцев ворвался в Хунзах, но потерпел поражение. Магомед и Шамиль остались живы лишь благодаря заступничеству дервиша Магомеда из Инхо.
Уцелевшие повстанцы разошлись по домам, а Магомед и Шамиль с ближайшими сподвижниками вернулись в Гимры. Но скоро туда явился отряд царских войск с пушками, и под угрозой разрушения аула гимринцам было велено изгнать Магомеда с его сподвижниками. Они ушли сами и построили невдалеке от аула башню. Шамиль хорошо помнил, как Магомед предсказал тогда то, что потом сбылось:
– Они еще придут на меня. И я погибну на этом месте.
Опечаленный Джамалуддин велел Магомеду и Шамилю оставить такой образ действий, если они называются его мюридами в тарикате. Однако они не собирались опускать руки. Под Хунзахом они потерпели поражение, но в народном мнении они одержали победу, дерзнув пошатнуть главную опору отступников в Нагорном Дагестане. Однако в том, как действовать дальше, мнения друзей расходились. Магомед был убежден, что, пока остаются ханы, свободы в горах не будет, что сперва нужно вырвать с корнем ханское племя, а иначе, что бы они ни взрастили, все будет чахнуть.
Шамиль понимал, что он прав, но без поддержки духовных руководителей, без их разрешения, которое много значило для народа, все снова могло кончиться, как в Хунзахе.
Горячие споры и мучительные сомнения привели Магомеда к шейху Ярагскому.
– Аллах велит воевать против неверных, а Джамалуддин запрещает нам это, – сказал Магомед.
– Что же нам делать?
Убедившись в праведности намерений Магомеда, в чистоте его страстной веры, шейх счел, что отшельников-мюридов можно найти много, а настоящие военачальники и народные предводители слишком редки. И разрешил его так сомнения:
– Предпочтительнее повиноваться велению Аллаха, чем распоряжениям людей. Но ты выбери то, что считаешь нужным.
Магомед выбрал борьбу. Благословив его, Ярагский призывал в своих молитвах:
– О Аллах, ты посылал пророку сподвижников, пошли же мне имамов, чтобы наставить народ на верный путь и поддерживать его с помощью шейхов Золотой цепи.
Магомед был покорен не только мудростью святого угодника, но и красотой его дочери Хафисат, на которой вскоре и женился. В Гимры он вернулся другим человеком и с тех пор чувствовал незримую помощь, придававшую ему новые силы.
Молва о том, что Магомед получил разрешение шейха, всколыхнула весь Дагестан. Число последователей Магомеда стало неудержимо расти. В том же 1830 году Ярагский созвал в ауле Унцукуль съезд представителей народов Дагестана, где произнес слова, которым суждено было изменить историю Кавказа:
– Находясь под властью неверных или чьей бы то ни было, все ваши намазы, уроки, все странствования в Мекку, ваш брак и все ваши дети – незаконны. Кто мусульманин, тот должен быть свободным человеком, и между всеми должно быть равенство.
Затем он объявил о необходимости избрать имама – вождя народов Дагестана. Имамом, при общем согласии, избрали Магомеда. А к его имени теперь добавлялось «Гази» – почетный титул борца за веру.
Принимая имамское звание, Гази-Магомед сказал:
– Душа горца соткана из веры и свободы. Такими уж создал нас Всевышний. Но нет веры под властью неверных. Вставайте же на священную войну, братья! Газават изменникам! Газават отступникам! Газават всем, кто посягает на нашу свободу!
Шамиль стал ближайшим сподвижником имама, и они развернули борьбу по всему Дагестану. Как и предсказывал Джамалуддин, после первых же схваток с ханскими отрядами на помощь им пришли царские войска. Тогда Гази-Магомед решил сначала отсечь их от гор, а затем уже покончить с ханами. Мюриды Гази-Магомеда взяли Параул – резиденцию шамхала Тарковского. Оттуда они угнали большое стадо овец. Шамиль улыбался, когда рассказывал, как его потом делили и как имам показал разницу между адатами и шариатом.
– Какого раздела вы желаете? – спросил Гази-Магомед своих воинов.
– Как принято или как надо?
– Как принято, – ответили воины, полагая, что это будет более справедливым.
Тогда имам дал одному две овцы, другому – три, следующему – четыре. Увидев этот странный дележ, мюриды возроптали, но имам сказал им:
– Разве не так разделено все в горах? Одним – все, другим – ничего.
Мюриды согласились, что так оно и есть, но затем сказали:
– Такого раздела мы не хотим.
– Тогда поделим, как надо, по шариату, – сказал имам, и все получили поровну.
Вскоре затем имам осадил крепость Бурную, располагавшуюся над Тарками – столицей шамхальства у берега Каспия. Но здесь они стали жертвой военной хитрости. Видя, что крепость вот-вот будет взята, гарнизон покинул ее, заложив там сильные пороховые заряды. И как только мюриды ворвались в Бурную, раздался ужасный взрыв. Большие потери и прибытие царских подкреплений вынудили Гази-Магомеда отступить, но не заставили отказаться от своих целей.
Многочисленности царских войск горцы противопоставили тактику стремительных рейдов. Отряды имама осаждали крепость Внезапную, поджигали нефтяные колодцы вокруг Грозной, атаковали укрепления на Кумыкской плоскости. Когда Гази-Магомед осадил на юге Дербент, но не смог взять древнюю крепость с ее большим гарнизоном, к нему прибыл шейх Ярагский со своим семейством. Аслан-хан подверг гонениям его и его мюридов, приходивших к шейху отовсюду. Тогда имам увез шейха к себе в Гимры, после чего поселил его с семейством в Эрпели. Затем шейх жил в Чиркее, а последние годы – в Согратле, не переставая поддерживать своих учеников словом, делом и молитвой.
После неудачи на юге, под Дербентом, Гази-Магомед прорвал Кавказскую линию на севере и захватил крепость Кизляр. Успехи повстанцев так обеспокоили Николая I, что он решил усилить Кавказский корпус частями, освободившимися после очередной русско-турецкой войны. Но войска Паскевича, командовавшего на Кавказе, не поспевали за имамом. На сторону Гази-Магомеда вставали не только простые горцы, но и известные влиятельные люди. Пополнялись отряды повстанцев и бывшими рабами, которых освобождал имам. Но вовсе неожиданным было то, что к горцам начали переходить солдаты и сосланные на Кавказ поляки из войск Паскевича. Свободы желали не только горцы. Мир вокруг неудержимо менялся, прежние устои рушились, и на их руинах Гази-Магомед возводил Имамат – государство свободных людей.
Восстание расширялось, захватив почти всю Чечню и перевалив за Кавказский хребет, в Джаро-Белоканы и Закаталы. В союзе с чеченскими вождями Гази-Магомед совершал нападения на укрепления пограничной линии, снова угрожал крепости Грозной. А когда горцы подступали уже к Владикавказу, в коня имама угодило ядро. Гази-Магомед был контужен. Когда имам пришел в себя, сподвижники спросили, кто будет после него, если он погибнет?
– Шамиль, – ответил Гази-Магомед, ссылаясь на видение, посетившее его на грани жизни и смерти.
– Он будет долговечнее меня и успеет сделать гораздо больше благодеяний для народа.
Разгневанный император велел покончить с бунтовщиками и покарать имама, дерзнувшего бросить вызов ханам, а с ними и царскому владычеству на Кавказе. Против Гази-Магомеда был послан большой отряд. Сначала войска двинулись через Чечню, разоряя восставшие села и штурмуя укрепления горцев, но добраться до имама так и не смогли. А затем, пополнив в Шуре потери, двинулись на Гимры – родину Гази-Магомеда и Шамиля.
Имам поспешил на помощь, но обоз с трофеями замедлял его движение. Тогда Шамиль предложил избавиться от добычи, раздав ее разоряемому войной народу.
– У хорошего воина карманы должны быть пусты, – согласился имам.
– Наша награда – у Аллаха.
Они успели к Гимрам на несколько дней раньше неприятеля. Шамиль двинулся навстречу передовому отряду Вельяминова, пытаясь его сдержать, а Гази-Магомед принялся укреплять аул. Само же ущелье было перегорожено каменной стеной и завалами. Гимринцы считали, что в их крепость может проникнуть лишь дождь. Они были недалеки от истины, только дождь тот оказался из пуль и ядер.
Шамиль помнил тот ожесточенный бой, как они отражали штурм за штурмом и как немногие уцелевшие воины засели в башне за аулом, которую они построили после сражения в Хунзахе. Башня была окружена, подверглась обстрелу из орудий, а смельчаки из солдат влезли на крышу, проделали в ней дыры и бросали внутрь гранаты и горящие фитили, пытаясь выкурить мюридов. Горцы отстреливались, пока их оружие не пришло в негодность. Убедившись, что живыми им отсюда не уйти, Гази-Магомед сказал: – Лучше встретить смерть в битве, чем дожидаться ее здесь.
Подавая пример, он засучил рукава и воскликнул, потрясая саблей:
– Встретимся перед судом Всевышнего!
Имам окинул друзей прощальным взглядом и бросился из башни в гущу солдат. Шамиль увидел, как штыки пронзили его на взлете и как Гази-Магомед упал перед башней. Мученик лежал с умиротворенной улыбкой на лице. Одной рукой он сжимал бороду, а другой указывал в небо, туда, где была теперь его душа – в божественных пределах, недосягаемых для пуль и штыков. Тогда Шамиль, не давая отчаянию вселиться в души товарищей, воскликнул:
– Райские гурии посещают мучеников раньше, чем их покидают души. Возможно, они уже ожидают нас вместе с нашим имамом!
Затем разбежался и выбросился из башни так же, как сделал это Гази-Магомед. Шамиль и теперь не понимал, как ему удалось перепрыгнуть через частокол штыков, как удалось пробиться сквозь солдатские шеренги, стоявшие по обе стороны дороги. Может быть, потому, что он спасал не себя, а желание отомстить за своего имама и продолжить его дело?
Прыжок Шамиля был так неожидан, а вид его так страшен, что солдаты не сразу пришли в себя от изумления. Брошенный кем-то камень разбил Шамилю плечо, но он продолжал драться, сметая со своего пути каждого, кто пытался его остановить. Тогда еще один солдат изловчился и проткнул Шамиля штыком, но он схватился за штык, притянул к себе солдата и свалил его ударом сабли. Затем вырвал штык из груди и бросился дальше. По нему начали стрелять, но пули миновали Шамиля. На пути его встал офицер. Шамиль выбил шашку из его рук, тот стал защищаться буркой, но это его не спасло.
Тогда, вслед за Шамилем, спасся и гимринский муэдзин Магомед-Али. Он тоже выпрыгнул из башни, но остался невредимым, потому что все были заняты Шамилем. Этому юноше Шамиль остался благодарным навсегда. Когда израненный Шамиль лишился сил и сознания, он укрыл его от врагов. А потом, когда Шамиль счел себя уже мертвым и просил оставить его, чтобы спастись самому, он его не послушал. Магомед-Али как мог боролся за его жизнь. А когда Шамиль пришел в себя, помог ему добраться до Унцукуля и позвал тестя Шамиля лекаря Абдул-Азиза. Страшные раны оставляли мало надежд, но лекарь пустил в ход все свое умение, чтобы спасти Шамиля.
Шамиль все дальше углублялся в волнующие воспоминания, но его вернул к действительности чей-то крик.
– Шамиль! – неслось издалека.
– Имам!
Шамиль остановил коня и вгляделся туда, откуда несся зов. С гребня горы к ним спускался юноша в разодранной черкеске.
Султанбек преградил ему дорогу и спросил:
– Кто ты и зачем зовешь имама?
– Ханские нукеры ограбили наш аул, – рассказывал запыхавшийся юноша.
– Мы дрались, но их было слишком много…
– Где эти псы? – помрачнел Шамиль.
– Собирались уходить, – торопливо говорил юноша.
– Но если пойти напрямик, можно еще успеть.
Поход Шамиля и без того был нелегок, но он не мог оставить в беде людей, которые верили в него и нуждались в его помощи.
– Показывай дорогу, – велел Шамиль, поворачивая коня.
Строй мюридов рассыпался, и всадники начали взбираться на гребень следом за юношей.
Глава 3
Уже оправившаяся после родов, даже похорошевшая Екатерина Евстафьевна Граббе в окружении очаровательных деток являла собой воплощение семейного счастья. За обедом в доме Граббе присутствовала Елизавета Нерская, кузина фрейлины императрицы и душевная подруга Катеньки Граббе. Лиза, как звали ее близкие знакомые, была пикантная, хотя и несколько экстравагантная особа, полная нерастраченных чувств.
Судьба Лизы была романтически трагична. Ее муж, князь Михаил Нерский, оказался среди главных участников заговора, приведшего к декабрьскому восстанию на Сенатской площади. Не желая присягать Николаю, восставшие звали на престол Константина, считая его законным наследником неожиданно скончавшегося императора Александра I. А заодно требовали принятия Конституции. Солдаты и мужики полагали, что Конституция – просто жена Константина, до которой им дела не было. Но им сулили волю и отмену крепостного рабства, за которыми и пошли с их благородиями. Бунт – дело веселое, но обернулось оно кровавой бойней. На следствии выяснилось, что на самом деле заговорщики мечтали свергнуть самодержавие и учредить республику на европейский манер.
Свадьба Лизы была назначена на следующий день после восстания, которое началось внезапно, в надежде не допустить переприсяги новому царю. Михаил смог скрыться после расстрела на Сенатской площади, но его быстро выследили. Жениха ждали у церкви, позволив лишь обвенчаться. Вместо брачного алькова Михаил оказался к казематах Шлиссельбургской крепости.
Но несчастная супруга была преданна мужу и бросилась к кузине-фрейлине хлопотать за Нерского. Но ни ее слезы, ни влияние княжеской семьи не смогли умалить тяжести его преступления. Лиза только и смогла, что передать супругу медальон, в котором был миниатюрный портрет Лизы.
Лишь милость нового императора Николая позволила Михаилу избежать плахи. Неустанные хлопоты Лизы вырвали Михаила из каторжных рудников. Он был отправлен на Кавказ искупать вину простым солдатом. И, хотя общество весьма сочувствовало ссыльным декабристам, тянуть солдатскую лямку дворянам было нелегко. Оставалось выбивать штыком офицерские эполеты и утраченное дворянство. Многие сложили на этом поприще головы, как тот же Бестужев-Марлинский, книжками которого зачитывались молодые офицеры. Но кому-то все же удалось вернуться в благородное общество. Вот и Михаил Нерский, явивший в делах с горцами примерную храбрость, получил офицерский чин прапорщика. Чин, хотя и был 14-м, последним по классу, но все же был первым обер-офицерским.
Прочитав об этом в особом отделе «Русского инвалида», Лиза бросила все и помчалась на Кавказ. Однако само производство все не выходило, дело о нем где-то застряло. И вместо встречи с мужем, Лиза только получала от него письма.
Лиза решила дожидаться его тут, и жила в доме Граббе. Она усердно слала кузине душераздирающие письма, а в остальное время пользовалась лечебными водами, надеясь облегчить свои душевные недуги.
Вот и сегодня она уже успела посетить несколько источников и поговорить со множеством людей, совершавших утренний моцион. Это давало ей возможность знать все, что происходило на Водах, расспрашивать офицеров, не встречал ли кто ее мужа, и узнавать о ходе войны.
Все это было нелегко. Дичавшие на войне офицеры только и думали, за кем бы поволочиться. Надеясь расположить к себе пикантную особу, они живописали свои геройские подвиги, приводя в подтверждение свои раны. А некоторые, подвыпив, и вовсе вдруг сообщали, что муж ее, Михаил, перешел к горцам или – и того хуже – убит. Все это приводило несчастную Лизу в ужас. Она не спала ночами, воображая себе опасности, которым подвергался ее любимый супруг, хотя письма его были совсем другого свойства. Он называл ее, как прежде, Лизонькой и описывал чудесные кавказские пейзажи, а военные походы представлял увлекательными прогулками. Она плакала и без конца перечитывали его драгоценные письма.
«Милый мой ангел! Судьба разлучила нас, но таков уж промысел Божий, без испытаний нет любви! Медальон с образом твоим ненаглядным всегда у моего сердца, он бережет меня от несчастий, а любовь твоя освещает мой путь светлой надеждой. Скоро уже, поверь, душа моя, очень скоро мы будем вместе. Поцелуем запечатываю письмо сие, и ты непременно ощутишь жар его страсти.
Муж твой Михаил Нерский».
Только письма его пахли порохом, а почерк становился все более резким. И это еще больше пугало Лизу.
Ей было уже тридцать, красота ее увядала, пленительные прежде взоры теряли свое очарование. Она была замужем, но не имела ни настоящего мужа, ни детей. И это становилось все невыносимее, когда подруги ее давно обзавелись большими семействами, новыми связями и блистательным положением в свете. Дети Граббе ее умиляли, а в Павле Христофоровиче она видела олицетворение своих сокровенных надежд. Ведь он тоже когда-то был декабристом. Но когда она заговаривала об этом, Граббе нервно прерывал ее:
– Сударыня! Это дело прошлое. Это пора забыть!
Упоминание о тех днях декабря 1828 года его коробило. Не случись ему оказаться среди членов «Союза благоденствия», его судьба могла сложиться куда лучше. Он вышел из Общества за четыре года до известных событий, но тень их преследовала его всю жизнь. Эта злополучная «прикосновенность» висела над ним Дамокловым мечом, грозя обрушиться в любую минуту, несмотря на все его отличия и награды на государевой службе.
– Простите, Павел Христофорович, – утирала слезы Лиза.
– Но если он теперь офицер, отчего письма по-прежнему приходят вскрытыми? Разве можно этак бесцеремонно?
– У нас все можно, – многозначительно отвечал Граббе, у которого были свои обиды на правительство.
Лиза этого не понимала. Ей казалось, что тайные цензоры безжалостно вынимают из писем душу, а ей достается что-то другое, утратившее самое драгоценное, на что никто, кроме нее, не может иметь прав.
– А верно ли, что есть тайный указ насчет декабристов, чтобы за отличия не представлять к повышению, но доносить только, какое отличие ими сделано?
Граббе знал про этот указ, как и про многие другие, но обсуждать действия правительства, тем более с женщинами, не считал возможным.
– Но вот ведь повысили князя, – сказал он.
– Не князя, – поправила Лиза.
– Солдата.
– Как вам будет угодно, – развел руками Граббе.
– Все мы у государя – солдаты.
– И все же, – не могла взять себя в руки Лиза.
– Когда вы были… То есть когда Михаил оказался в заговорщиках, он ведь желал отечеству пользы? Пусть он ошибался, но ведь из любви… Вот и мне говорил, отчего, мол, мы французов разбили, вернули Европе свободу, а сами и мечтать о ней не смеем?
– Химеры! – вспылил Граббе.
– Разве не сами же главари декабристов, Пестель да Муравьев, царство им небесное, в проектах своих указывали, что для спокойствия государства надобен специальный жандармский корпус, особая тайная полиция? Вот государь и прислушался. А граф Бенкендорф возглавил. Потому и письма ваши приходят вскрытыми.
Граббе хотел было продолжить обличительную речь, но сумел взять себя в руки. Как бывший тайный агент, он отлично видел, что на Кавказских Минеральных Водах шныряли стаи субъектов, которые следили за всем и доносили обо всем. Не говоря уже о собственно голубых жандармских мундирах, к которым все давно привыкли, но брезгливо сторонились. И для Граббе не было секретом, что любое неосторожное слово, всякое подозрение в неблагонадежности становились известными в столице. Даже храбрый служака-офицер, далекий от политики, а только, захмелев, чистосердечно порицавший процветавшее на Кавказе казнокрадство, раздачу наград приближенным или бездарность воинских начальников, мог дорого поплатиться за свое вольнодумство.
Генерал несколько раз уже порывался отказать Лизе от дома, но положение при дворе ее кузины, которой она не ленилась сообщать о герое Граббе, незаслуженно пребывающем не у дел, удерживало его от резкого шага. Никогда не мешает напомнить о себе при дворе, даже таким способом. Кроме того, Лиза снабжала семейство Граббе последними сплетнями, которые деликатно именовались новостями, и только в особых случаях это называлось «нонсенс».
Новость, которую она сообщила на этот раз, повергла Граббе в изумление.
– А вы про генерала Вельяминова слышали? – спросила Лиза, отпивая чаю.
– А что Вельяминов? – насторожился Граббе.
– Говорят, умер.
– Как умер?!
Граббе вскочил и заходил по комнате, не в силах осознать случившееся.
– Алексей Александрович, такой крепкий мужчина, герой, и вдруг – умер? – не верила Екатерина Евстафьевна.
– Вероятно, вы хотели сказать – убит? – нервно говорил Граббе
– На войне, случается, убивают.
– Да нет же, – настаивала Лиза
– Умер! Заболел и умер.
– Чем же он болел? – все еще сомневался Граббе.
– Не слышал, чтобы он лечился.
– Говорят, открылась тяжкая водяная болезнь. Он в экспедиции был против черкесов. Солдаты из сил выбивались, а граф решил подать пример и полдня шел по глубокому снегу.
– Это же надо так простыть! – перекрестилась Екатерина Евстафьевна.
– А какой был красавец!
– Государь даже своего лейб-медика прислал, но все оказалось напрасно, – продолжала Лиза.
– А хоронить где будут? – спросила Екатерина Евстафьевна.
– У покойного имение в Тульской губернии, – сказал Граббе и перекрестился.
– Туда и повезли, – кивнула Лиза.
– Все только об этом и говорят.
Неожиданная смерть генерал-лейтенанта Вельяминова могла многое изменить. Граббе знал его еще по войнам с Наполеоном. Вельяминов был сверстником Граббе и служил в артиллерии у Ермолова, когда Граббе был у того адъютантом.
Став командующим на Кавказе, Ермолов сделал Вельяминова начальником штаба Отдельного грузинского корпуса, и с тех пор его протеже участвовал во всех войнах, случавшихся на Кавказе и вокруг него. После Турецкой войны он получил пост командующего войсками на Кавказской линии и в Черномории. Он не гнулся перед начальством и не всегда соглашался с военным министром Чернышевым, за что Граббе уважал его особенно, так как имел свои счеты с этим царедворцем, больше занятым интригами, чем настоящими военными делами. Наперекор Чернышеву, Вельяминов не признавал оборону и отдавал предпочтение сильным набегам. Его считали вольтерьянцем за томик веселого философа, с которым Вельяминов не расставался даже в походах. Читал он в очках, за что солдаты прозвали его «четырехглазым». Он сочинил «Способ ускорить покорение горцев», но применить его на деле так и не сумел. Вельяминов слыл распорядительным и хладнокровным командиром, умевшим вселять отвагу в самое слабое сердце. Но в смысле гражданского управления Граббе его не одобрял, потому что здесь творились очевидные безобразия и полнейшая неразбериха.
Взволнованный Граббе понимал, что Лиза не могла знать всего, а происходить теперь должно было многое. Генерал решил выйти в город, чтобы узнать о чрезвычайном событии побольше.
Граббе надел мундир и украсил его своим главным орденом – Святого Георгия 3-й степени, который красноречиво свидетельствовал о множестве прочих. Золотой крест с расходящимися белыми лучами давался за особые боевые заслуги, его полагалось носить на шейной ленте и никогда не снимать. Граббе получил его за Польскую компанию. Тогда, в должности начальника штаба 1-го пехотного корпуса, он участвовал в нескольких сражениях и штурмовал Варшаву.
Глава 4
Дамы вызвались сопровождать генерала. Жене не терпелось поговорить со знакомыми о своем прелестном младенце. А Лиза стремилась в магазин Челахова, где можно было не только купить модные вещицы, но и найти свежий номер «Русского инвалида», в котором она надеялась прочесть о новом повышении мужа по службе. Ее не столько опечалила смерть знаменитого генерала, сколько беспокоила мысль о том, как бы заступивший на место Вельяминова не отменил прежние представления о производстве в новые звания.
Курорт на минеральных водах у гор Машук и Горячая было велено учредить в начале века. Но настоящее свое развитие он получил при Ермолове, в правление которого здесь появились минеральные ванны, так и прозванные – Ермоловскими. Началось кипучее строительство лечебниц, лазаретов, павильонов, дач и гостиниц. По украшавшей пейзаж пятиглавой горе Бештау город получил свое название – Пятигорск. Поначалу здесь лечились раненые и больные с Кавказского театра военных действий, но со временем Пятигорск разросся и превратился в модный южный курорт, где бурлила светская жизнь.
Пятигорский бульвар, обсаженный липами, был многолюден и напоминал Невский проспект. Все «водяное общество» прогуливалось здесь в перерывах между употреблением предписанных докторами порций из целебных источников. Публика была весьма разнообразная, и костюмы встречались поразительные – от вуалей и ярких шляп до статских фраков и разнообразных вариаций военных мундиров, украшенных папахами, бурками и всевозможным оружием.
Казалось, здесь никому и дела не было до умершего Вельяминова. Все были заняты способами водного излечения и афишами заезжих гастролеров. Дамы же, заняв все скамейки вдоль бульвара, внимательно изучали наряды соперниц, особенно недавно прибывших из столиц и, следовательно, имевших больше понятия о последних модах.
Гомеопатических наклонностей местных докторов Граббе не разделял, считая, что настоящий лев должен питаться мясом. А на страдальцев с горящими глазами, принимающих натощак невообразимое количество дурно пахнущих минеральных вод, смотрел снисходительно, как на помешанных. Граббе лишь сдержанно раскланивался с редкими знакомыми и внутренне негодовал на это сборище ряженых, среди которых не находил ни одной значительной персоны, мнение которой могло бы что-то значить.
Наконец, они добрались до нужного дамам магазина, над которым красовалась вывеска «Депо разных галантерейных, косметических и азиатских товаров».
Генерал магазинов не посещал. Оставив дам за их любимым занятием, он направился в ресторацию, служившую центром здешней светской жизни.
Ужасная гора, виденная Граббе во сне, не шла у него из головы, и генерал чувствовал, что существует какая-то неуловимая связь между ней и кончиной Вельяминова.
Владелец магазина армянин Челахов устроил его на столичный манер, и приезжие могли найти в нем все, что могло понадобиться для отдыха, лечения и развлечений. Цены у Челахова были ниже столичных, а товары не хуже. Сверх того предлагались кавказские костюмы, оружие и прочие местные принадлежности отменного качества. Покупать у Челахова считалось хорошим тоном, и здесь всегда хватало посетителей.
Екатерина Евстафьевна с восторгом перебирала детские наряды, только что поступившие из Парижа. Она обожала своих детей и денег на них не жалела. А Лиза принялась листать журналы, все еще надеясь выискать в них дорогое ей имя. Ничего не найдя, она отложила журналы и с грустью смотрела на хлопоты счастливой матери, которая покупала платьице за платьицем. Это было так трогательно и так невыносимо. Лиза отвернулась, чтобы украдкой смахнуть слезу, но тут ее внимание привлек смуглый молодой господин, выбиравший кавказскую саблю.
– А нет ли поострее? – любопытствовал покупатель, неумело размахивая тяжелой саблей.
– Найдется, – сладко улыбался продавец и подавал другую саблю, полегче.
– Вот, извольте.
– Да, – согласился покупатель, рубя воздух новой саблей.
– Эта не в пример острее будет.
– Ежели на войну идти изволите, то рекомендую и кинжал, – предлагал товар продавец.
– Гвозди рубит, шайтан.
– А-а, – неуверенно кивал покупатель.
– На Шамиля в самый раз!
– Если на Шамиля, – принял серьезный вид продавец,
– Вам непременно пистолет надобен. Имеем новейших конструкций.
– Пистолет у меня уже есть, – сообщил покупатель.
– Даже два. Французских! Таких и в столице не найти.
– Простите, сударь, – не удержалась Лиза.
– А вы в какой полк намерены?
– Я, собственно, еще ни в какой, – отвечал покупатель.
– Я по личному желанию, сударыня. Как волонтер… В тот, что к Шамилю поближе будет.
– Вы такой храбрый! – улыбнулась Лиза.
– Да! – воскликнул волонтер.
– То есть… У меня особая цель. Я специально приехал. Однако же позвольте представиться. Честь имею, Аркадий Синицын, бывший студент.
– Елизавета Нерская, – протянула руку для поцелуя Лиза.
– Я на тот предмет спрашиваю, что муж мой в Дагестане служит. И если вы его увидите… Я бы хотела…
– Сочту за честь! – обрадовался Аркадий.
– А бурочку не желаете ли? – напомнил о себе продавец, набрасывая на плечи Аркадия черную бурку.
– Господи Боже! – воскликнула Лиза, глядя на преобразившегося Аркадия.
– Вылитый черкес!
– Бурка в горах – первое дело, – убеждал продавец.
– И от непогоды спасает, и от ран бережет. Опять же папаха…
– Это я и сам знаю, – сказал Аркадий, скидывая бурку.
– Вы это все мне заверните.
Он достал деньги расплатился не глядя.
– Куда прикажете принесть?
– В гостиницу. Знаете, тут, за углом. В седьмой нумер.
– Всенепременно, ваше благородие, – кланялся продавец.
– И бутылочку вина приложим от заведения. У нас все по высшему разряду.
Довольный произведенным на даму впечатлением, Аркадий рискнул продолжить знакомство.
– Не позволите ли вас проводить, сударыня, в смысле моциона?
Этот молодой человек был так не похож на местных нахальных донжуанов, что Лиза решилась прогуляться с ним по бульвару. Про Екатерину Евстафьевну она тут же позабыла.
В помпезном здании ресторации, над которым весьма потрудился архитектор Шарлемань, устраивались балы, представления и благотворительные вечера в пользу раненых, а дважды в неделю проходили благородные собрания. За вход брали по пятьдесят копеек серебром, из которых платили музыкантам и покупались свечи для освещения. Прочие удовольствия, равно как и изысканные напитки, посетители оплачивали сами. Но в этот день с посетителей денег не брали в память о Вельяминове, который немало способствовал устройству этой ресторации.
Когда Граббе вошел в просторную, красиво убранную залу, к нему сразу же бросилось несколько его знакомых. В отличие от бульвара, здесь были весьма озабочены вестью о кончине Вельяминова.
– Вы уже слышали, Павел Христофорович? – спрашивали генералы и полковники, почтительно здороваясь с Граббе.
– Какое несчастье, ваше превосходительство!
– Прямо беда!
– А что Шамиль?
– Пока сидит тихо.
– То-то! Пусть только попробует мюридов своих бунтовать.
– И зачем было в снегу стоять? Генеральское ли это дело?
– Генеральское дело – во всем быть примером, – ответил Граббе.
– И в снегу, и даже под ядрами.
– А какой был генерал! Самого Аббас-Мирзу за Аракс загнал!
– И ведь всюду поспевал! Помню, шли мы с ним через Балканы…
– А учен был! Бывало, принесут ему голову абрека, так он ее непременно в столицу для научного обозрения!
– Что же теперь будет?
– Неисповедимы пути господни…
– Дас, – глубокомысленно, со значением кивал Граббе.
– Все мы смертны…
Граббе имел много что сказать о Вельяминове, и даже поболее остальных, но в обществе мелькавших здесь голубых мундиров предпочел ограничиться тирадой насчет боевого товарищества с Вельяминовым в Наполеоновскую кампанию, давая понять, что заслуги их под Смоленском и при Бородино были оценены менее чем скромно.
Подали рюмки с водкой. Все выпили, поминая генерала. Затем разговоры переместились в кружки, и к сожалениям стали примешиваться иные тревоги. Кто теперь заступит на место Вельяминова? Что будет с теми, кому он протежировал, кому обещал должности? Сменится ли штаб? Оставят ли горцев в покое или, напротив, велят безотлагательно усмирить? Было о чем призадуматься, особенно тем, кто служил на Кавказе. И втайне почти всякий прочил себя на соблазнительную вакансию, ибо каждый мнил себя Наполеоном.
Лиза и Аркадий прогуливались по бульвару, как старые знакомые. Она держалась от кавалера на достаточно деликатном расстоянии, которое не могло бы бросить на нее и малейшую тень компрометации. Лизе вовсе не хотелось подвергать сомнению свою репутацию, которую она гордо берегла столько лет. Но Лиза так давно не разговаривала с молодыми людьми, даже на таком расстоянии, что была в некоторой растерянности. Особенно ее смущали завистливые взгляды стареющих дам, которые расселись на скамейках вдоль аллеи и подозрительно перешептывались, слишком внимательно разглядывая ее кавалера.
Чтобы не обращать на них внимания, Лиза представляла, будто прогуливается со своим супругом… Ведь именно для этого она сюда и приехала – броситься на шею мужу, вышедшему в офицеры. Эта ничего не значащая прогулка оборачивалась опасным искушением.
– А позвольте полюбопытствовать, вы здесь с папенькой? – решился спросить Аркадий.
– Вовсе нет, я живу у семейства генерала Граббе.
– Граббе! – воскликнул Аркадий, будто услышал имя старого приятеля.
– Как же, как же!
– Он истинный герой, – кивала Лиза.
– И даже был декабрист.
– Вот-вот, из декабристов! – кивал Аркадий.
– Они, декабристы, такие. Им ничего не страшно.
– И знаком с моим мужем.
Но Аркадия мало занимал муж Лизы, ему больше нравилось думать, что Граббе может составить ему протекцию.
– А генерал, он на каком фланге? Где Шамиль?
– Он… – не знала, что ответить Лиза.
– Он сейчас в отпуске. Поправляет здоровье.
– А когда поправит? – не унимался Аркадий.
Но Лиза решила перевести разговор на другой предмет.
– Вы говорили, пистолеты у вас особенные.
Аркадий засиял от гордости:
– Я открою вам тайну.
– Тайну? – удивилась Лиза.
– Только дайте слово, что не скажете генералу.
– Как вы могли подумать! Ну, говорите же!
– Это дуэльные пистолеты.
– Дуэльные? – не понимала Лиза.
– Я прибыл, чтобы вызвать на дуэль Шамиля.
– Что вы такое говорите? – не верила Лиза.
– Разве вы знаете Шамиля?
– Я его никогда не видел, но, по рассказам бывалых офицеров, он – человек благородный. Стало быть, примет вызов.
– За что же вы его намерены вызвать?
– Я вижу в вас аристократическую особу, я очарован вами и потому откроюсь лишь вам, – произнес Аркадий с видом заговорщика.
– Благодарю вас, сударь. Но продолжайте же. Это очень волнительно.
Аркадий уже собрался было с духом, но тут навстречу выкатился открытый экипаж, в котором веселая компания в окружении цыган распевала модный романс «В горах я встретила черкеса».
Лиза наметанным глазом определила, что кутили настоящие «кавказцы». Это было видно по загорелым лицам. Была весна, но высоко в горах можно загореть и зимой. И еще она знала, что эти молодцы – с Правого фланга, на который в том, 1838 году, было обращено главное внимание кавказского начальства и откуда прибывало больше всего раненых.
Следом катили парные дрожки, и возницы созывали желающих отправиться на Щелочные, Кислые и Железные Воды, посетить загадочный Провал или полюбоваться видами с горы Машук.
Затем показался и разукрашенный тарантас, из которого выскакивали клоуны, жонглеры и ученые собачки, приглашая на свои представления. А маги и чародеи сулили открыть любые тайны и предсказать будущее.
В благородном собрании разбирали военную компанию против горцев. Толковали о Вельяминове, который не сумел взять Шамиля в Гимрах, в разбитой и окруженной башне, о Фезе, который запер Шамиля в далеком ауле, но выпустил. Да к тому же подписал с ним мир, который вселил в горцев уверенность в своей непобедимости. О государе, который в свой визит на Кавказ был так разгневан, что ему не представили раскаявшегося Шамиля, что уволил Розена и положился на Головина, обещавшего быстро кончить войну. Обо всех вместе главных кавказских командирах, которые валили вину друг на друга. А главное – о том, что Кавказ превратился в Ахиллесову пяту России. Долгая и непопулярная война становилась вредной привычкой вроде пьянства. А много ли проку от пьянства? Одни долги да дуэли. Надо бы кончать, только духу не хватает. Хотя и для войск – недурная школа. Только это вечное оправдание уже теряло смысл. После школы люди умнее становятся, а тут – жизни лишаются.
Как карты, в которые невозможно выиграть, а выиграв – обогатиться. Но вот вопрос: имеют ли горцы право на независимость? Философический вопрос. Ханы-то их давно на государевой службе. Выходит, Шамиль – бунтарь. А разве можно с бунтарями мириться? Эдак и в России крестьяне на помещиков восстанут. А мужику волю давать – хуже нет. Все устои рухнут.
Граббе на Кавказе не воевал, но имел мнение и на сей счет, которое заключалось в том, что война на Кавказе ведется неправильно. То ли дело в Европе воевать. Вот тебе авангард, вот арьергард, маневры, артиллерия. А тут – сам черт не разберет. И порядка никакого нет. Вот древние римляне, те были воины! Французы – так себе вояки, а Шамиль и его мюриды – чистые разбойники! Таких в два счета можно расщелкать, надо только правильную методу применить.
Бывалые кавказцы осторожно возражали. Воевали они и в Европах, только Кавказ – штука мудреная. Тут не в маневрах дело. Наполеон был антихрист, Москву сжег, там ясно было, с кем дерутся и за что. А Шамиль – материя особенная. Впрочем, в политику предпочитали не углубляться, на то в штабах мудрецы сидят, а здесь люди военные.
Граббе ценил древних полководцев и не удержался от того, чтобы объяснить простые средства для успокоения Кавказа, если бы он сам был на месте Македонского или того же Ганнибала. Он был красноречив, но сильно увлекался, а когда пришел в себя, обнаружил, что остался наедине с пьяным поручиком. Тот, размахивая бокалом с вином, цитировал ему стихи Лермонтова на смерть Пушкина, за которые тот был сослан на Кавказ:
Погиб поэт! – невольник чести – Пал, оклеветанный…
– Э-э… Как там было?.. – силился вспомнить поручик.
Не вынесла душа поэта!..
– Э-э… А, вот!
Вы, жадною толпой стоящие у трона, Свободы, Гения и Славы палачи! Таитесь вы под сению закона, Пред вами суд и правда – все молчи!.. Но есть и божий суд, наперсники разврата!..
– Что-с? – грозно воззрел на него Граббе.
– Это в каком смысле?
– Я на тот предмет, что не имел счастья быть знакомым с Пушкиным, а вы, я слышал, удостоились…
– Вы пьяны, милостивый государь, – отрезал Граббе, отстраняя от себя поручика.
– И, похоже, достаточно излечились, чтобы вернуться к месту службы.
– Всенепременно, – кивнул поручик, допивая вино.
– Сегодня обещали шансонеток, да вот незадача… Головин…
И поручик нетвердой походкой направился в буфет. Там его дожидался приятель – штабс-капитан с рукой на перевязи.
Граббе уже давал себе слово не посещать этот вертеп, где всякий раз находятся наглецы, готовые нагрубить генералу. Однако тут были особенные обстоятельства. С Пушкиным он действительно был знаком. Но о гибели его на дуэли вовсе не сокрушался. Во-первых, потому, что дуэли запрещены законом. Во-вторых, он был обижен на Пушкина, назвавшего письмо Граббе царю после арестов декабристов глупым унижением перед правительством. Знал бы он, как храбро держался Граббе на допросах! Сам-то поэт и до столицы не доехал, заяц, видите ли, ему дорогу перебежал. И еще смел рассуждать о заслуженных генералах, когда сам пороху не нюхал. Всего-то и подвигов явил, что взял у казака пику и погнался за отступающими турками.
Да и поэзию его Граббе невысоко ценил. Они познакомились четыре года назад у Раевского-младшего. Говорили о 12-м годе, а потом разочарованный Граббе записал в своем дневнике: «К досаде моей, Пушкин часто сбивался на французский язык, а мне нужно было его чистое, поэтическое русское слово… Вообще, пылкого, вдохновенного Пушкина уже не было. Какая-то грусть лежала на лице его».
Привлеченные веселым гомоном, на бульваре начали появляться отоспавшиеся после ночных увеселений «фазаны». Так здесь именовали честолюбивую молодежь, слетавшуюся на Кавказ со всей России. Это были отпрыски знатных семейств и разночинцы, околдованные романтическими героями Бестужева, жаждавшие сильных чувств, мечтавшие щегольнуть, отличиться в какой-нибудь недолгой и не слишком опасной экспедиции. Эта «золотая молодежь» искренне полагала, что война с горцами – не более чем веселый пикник на природе с фейерверками вместо пушек и наградами, сыплющимися градом вместо пуль.
Других приводили на Кавказ неоплаченные карточные долги, амурные неудачи, скука столичных салонов и отвращение к наукам, которыми потчевали студентов старые профессора.
Третьи, наслышавшись об экономических чудесах, сопутствовавших долгим войнам, надеялись сделать карьеру, чтобы вернуться домой в чинах и с приличным капиталом. Они полагались на рекомендательные письма, протекции и благосклонность судьбы, в которой успели усомниться на мирном поприще.
На Водах «фазаны» проходили нечто вроде карантина, привыкая к новой жизни и постепенно теряя старые привычки. Да и на то, чтобы уяснить, не готовятся ли новые экспедиции, на каком фланге, в какой полк им лучше приписаться, чтобы вернее всего удовлетворить свои чаяния, требовалось время. Перед тем, как ринуться за наградами и прочими вожделенными отличиями, эти волонтеры заводили дружбу с настоящими военными кавказцами, усваивали их манеры, оригинальные костюмы, мотали на ус изумительные случаи из боевой жизни.
Лечившиеся на Водах офицеры смотрели на «фазанов» свысока, как бы с Кавказских гор, но покутить за их счет были не прочь. Слишком богатых и неопытных они ловко обыгрывали в карты, оставляли почти ни с чем, чтобы те умоляли своих папенек и маменек прислать им еще денег «на покупку лошади взамен подстреленной горцами».
Некоторые «фазаны» до того преуспевали в заочном познании боевой кавказской жизни, что возвращались обратно, полагая, что с них и того довольно. Без наград, зато и без ран, живые-здоровые и с множеством мемуаров, из которых даже пытались составлять книжки на манер Марлинского.
– Пусть уж лучше перья скрипят, чем пули свистят, – благоразумно рассуждали кавказские «ветераны».
Граббе так и не дождался влиятельных персон. Вероятно, у них появились заботы поважнее. Вокруг выпивали и закусывали. Тон задавали бывшие декабристы, разжалованные в солдаты, но сумевшие выбиться в офицеры. И разговоры сами собой перетекали в предосудительное русло. Однако кавказские офицеры умели не только воевать. Жандарм в голубом мундире уже сидел за их столом в сильном подпитии, поминутно поправляя нахлобученную кем-то папаху. И до того уклонился от обязанностей, что провозгласил тост за Шамиля:
– Не явись он на имамство, – улыбался жандарм приятелям, – вы бы, господа мои хорошие, так и гнили на своей каторге!
Затем принялись рассуждать о том, кому эта война выгодна, и сошлись на казнокрадах.
– Да вот взять хотя бы Эолову арфу, – объяснял капитан, пытаясь обратить на это внимание осоловевшего жандарма.
– Я на инженера учился, я знаю. Одно – что арфа эта и не звучит вовсе, а другое – заметьте, что потрачено на нее двенадцать казенных тысяч, когда я бы и за пару лучше соорудил, и она бы у меня не то что пела – польку бы плясала!
Граббе решительно направился к выходу. Бывшие декабристы провожали его ироничными ухмылками. Они недолюбливали Граббе, полагая, что он вышел «сухим из воды». Они не смели сказать ему это в глаза, но не упускали случая поддеть его самолюбие. Вот и на этот раз, когда он проходил мимо столика, за которым офицеры играли в ломбер, кто-то нарочито громко назвал ненавистное Граббе имя генерала, которого уже прочили на место Вельяминова.
Барон Анреп! На царском смотре вышло недоразумение, когда Граббе неточно передал Анрепу повеление государя, и тот со своей бригадой исполнил не то движение, какое следовало. Государь остался недоволен. Последовало нелицеприятное объяснение Анрепа с Граббе, кончившееся вызовом на дуэль. Стреляться решено было за границей. Анреп отбыл туда немедленно, но Граббе так и не дождался. И теперь упоминал о нем с нескрываемым презрением.
– Его тут только недоставало, – мрачно думал Граббе, направляясь к выходу.
– Этот фанфарон должен бы меня благодарить! Отказавшись от дуэли, я спас его от государственного преступления. И от смерти тоже, ведь первый выстрел был за мной… Впрочем, он все еще за мной, и если приведет судьба…
Его размышления прервало эхо, которое вдруг пронеслось по всему собранию:
– Граббе!..
Генерал остановился, не понимая, что происходит. Со всех сторон на него смотрели удивленные, злые и заискивающие лица.
– Ваше превосходительство, господин генерал-лейтенант!
Перед Граббе возник усталого вида фельдъегерь, одной рукой отдавая честь, а другой протягивая ему запечатанный красным сургучом конверт.
– Извольте принять.
– Что это? – спросил Граббе, тоже отдавая честь.
– Экстренное. Из Петербурга. По высочайшему именному повелению.
Граббе взял пакет. Собрался с духом и распечатал. Это было приказание немедленно явиться к военному министру Чернышеву. У Граббе потемнело в глазах. Слишком много несчастий для одного дня. Если Анреп был всего лишь его недругом, то Чернышев был могущественным и злопамятным врагом.
Когда шум на бульваре улегся и отдыхающие вновь предались целительному моциону, Лиза решила вернуться к прерванному разговору.
– Так вы говорите, дуэльные пистолеты?
– Настоящие. Безотказные, и пули не выкатываются, – с готовностью рассказывал Аркадий.
– Папенька их с войны с Наполеоном привез. А я позаимствовал. Ради чрезвычайно важного, и даже в историческом смысле, дела.
– Так чем же вам Шамиль не угодил? – допытывалась Лиза.
– Собственно, он тут ни при чем, – сказал Аркадий.
– Однако и без него не обошлось.
– Я вас не понимаю, Аркадий. Умоляю, скажите же, в чем дело!
– Вы мне не верите?
– Напротив. Мне это очень важно, – говорила Лиза.
– Если вы таким образом решили кончить войну, значит, и муж мой скоро вернется.
Аркадий огляделся, будто боялся, что их кто-то подслушает, и тихо сказал:
– У меня была невеста. Я ее любил без памяти, – Аркадий перевел дух и продолжил: – Но вдруг явился с Кавказа весь в орденах полковник. И моя невеста…
– Она вам отказала? – ужаснулась Лиза.
– Как в обморок упала, а очнулась его невестой.
– Я вам очень сочувствую, – сказала Лиза.
– И даже очень понимаю ваши страдания. Однако же не Шамиль увел у вас невесту.
– Увел полковник весьма геройского вида. Будь я девицей… То есть я хотел сказать… – Аркадий смутился, затем снова перевел дух и выпалил: – Я тогда-то все и понял. Если Шамиль не уймется, оружие не сложит, то так и будет плодить героев-полковников на горе отвергнутым женихам.
– Я и сама еще не стара, но плохо понимаю нынешнюю молодежь, – вздохнула Лиза.
– Как-то у вас все диковинно выходит. Полковник вам обиду нанес, а вы Шамиля на дуэль желаете вызвать.
– И вызову! Я от своего не отступлюсь! – пообещал Аркадий.
– Она узнает, каковы бывают настоящие герои!
– Да вы и не воевали еще, а уже в моих глазах – герой, – всплеснула руками Лиза.
– Что же будет, когда до горцев доберетесь?!
– Я всем докажу! – горячился польщенный Аркадий.
– Вы меня не знаете, сударыня. Я такое сотворю, что в историю впишут!
Послышались выстрелы. Это была бутафорская пальба в кукольном представлении. Лиза и Аркадий невольно остановились, увидев, как бойко кувыркались уморительные фигурки. Отважные генералы наскакивали на горцев, стягивали их с гор, учили уму-разуму и уводили в плен самого Шамиля.
Глава 5
Из небольшого аула, который хунзахские ханы считали своей собственностью, выползала вереница ароб. Впереди ехал на коне ханский нукер, грызя кусок сушеного мяса. Арбы были нагружены всякой всячиной – от медных тазов и кувшинов до домотканых ковров. Следом семенили привязанные за рога овцы и осел на аркане.
Хватаясь за арбу, шла рядом плачущая женщина.
– Чтоб вы подавились! – стенала она.
– Придержи язык! – орал нукер.
– Чтобы мое добро у вас носом пошло! – не унималась женщина.
– Прочь! – Нукер отгонял женщину нагайкой.
– Пока я не отправил твоего мужа чистить ханские конюшни!
Серпантин дороги сделал очередной поворот, и повозки остановились. Перед ними стояли мюриды.
– Салам алейкум, – сказал Шамиль.
– Ва алейкум салам, – растерянно ответил нукер.
– Вы кто такие?
– Мусульмане, – сказал Юнус.
– А ты – тоже правоверный? – спросил Шамиль, сощурив глаза.
– Шайтаны они, а не мусульмане! – запричитала женщина.
– Последнее отняли! Все им мало!
– Мы взяли только то, что причитается, – оправдывался нукер.
– Кому причитается? – холодно спросил Шамиль.
– Хану! – приосанился нукер.
– И никто не смеет посягать на его права.
– Человек имеет право только на то, что создал своими руками, – сказал Шамиль.
– А грабителям причитается наказание.
– Сами вы грабители! – заорал нукер.
– Хан с вас шкуру сдерет!
– Как этот мужлан разговаривает с имамом? – удивился Султанбек, кладя свою огромную руку на рукоять сабли.
– Может, ты и имам, – осклабился ханский нукер.
– Но здесь владения хана.
Юнус выехал вперед и схватил коня нукеру за уздечку.
– Я научу этого раба почтению.
Поняв, что дело плохо, нукер пришпорил коня, надеясь вырваться из окружения. Но крепкая рука Султанбека вырвала его из седла. Подоспевшие мюриды скрутили сборщика, а юноша, который привел помощь, снял с нукера оружие. Перепуганные возницы слезли со своих ароб и поклонились Шамилю.
– А заодно отучите их кланяться, – велел Шамиль мюридам.
От удивления женщина перестала плакать и побежала обратно в аул, размахивая руками и крича:
– Вай! Люди! Имам идет! Люди! Шамиль идет!
Когда имам и мюриды с возвращенным добром и связанным сборщиком податей въехали в аул, их никто не встретил. Все будто вымерло. Только блестели то тут, то там испуганные глазенки мальчишек.
Шамиль немного подождал, а затем крикнул:
– Мусульмане! Разве так в горах встречают гостей?
– Это имам Шамиль! – кричал юноша.
– Не бойтесь!
– Уходите! – донесся откуда-то старческий голос.
– Не могу поверить, что вы испугались, – кружил на коне Шамиль.
– Не надо меня бояться! Не надо бояться ханов! Бойтесь Аллаха, который не велит нам быть рабами и платить подати кому бы то ни было!
– До Аллаха высоко, а хан близко, – ответил тот же голос.
– Вы – плохие мусульмане, если так думаете, – говорил Шамиль, обращаясь к закрытым воротам и окнам.
– Аллах ближе, чем вы думаете, и ангелы его пишут сейчас о вашей трусости. А это – грех!
На одной из плоских крыш появился старик в накинутом на плечи полушубке.
– С приездом, имам. Но ты уйдешь, а хан пришлет Хаджи-Мурада, и он разорит наш аул.
– Пусть попробует! – сказал Султанбек.
– А могут и солдаты из крепости прийти со своими пушками, – продолжал старик.
– Разве Аллах не сильнее их пушек? – спросил Шамиль.
– Сильнее. Но сын говорил, что эти пушки стреляют железными яблоками. Он видел. А есть, которые стреляют целыми арбузами.
– Они не придут, – сказал Шамиль.
– Я заключил мир с их начальником.
– Их пушки про твой мир не знают, – качал головой старик.
– Что вы за люди, – развел руками Шамиль.
– Если каждый будет дрожать за свою саклю, пока грабят соседа, вы никогда не станете свободными.
– Свобода, – кивал старик.
– Она хороша для орла. Высоко летает и берет что хочет. А люди живут на земле.
– Разве это жизнь, отец? – кричал в ответ юноша.
– Другой у нас нет, – вздохнул старик.
– Если вы боитесь, уходите, – сказал Шамиль.
– Многие аулы так уже сделали.
– Уйти? – не понял старик.
– Оставить все и уйти?
– Здесь вы оставите только страх.
– Эта падаль больше не будет вас обирать, – сказал Юнус, бросая на землю связанного сборщика.
Разгневанный юноша решил покарать грабителя и уже занес над ним кинжал, но Шамиль остановил его:
– Не торопись, на все есть свой порядок.
Юноша с сожалением вложил кинжал в ножны.
– Пощадите его, – попросил старик.
– Он – плохой человек, но это лишь пыль у ног хана.
– Вы хотите, чтобы они и дальше пили вашу кровь? – удивился Шамиль.
– Они требовали дров для крепости, которую построили в Хунзахе, – объяснял старик.
– По вязанке с дома. Но у нас леса не растут. Вот они и похватали, что нашли. Мол, продадут и купят дрова для солдат.
– Вы должны кормить своих детей, а не служить ханам, – говорил Шамиль.
– Вы обязаны быть свободными людьми, если не хотите божьего наказания.
– Может, и так, – сомневался старик.
– Зато наш аул цел, а твои Гимры и Ашильта лежат в развалинах.
– И с вами будет то же, если не скинете ханское ярмо, – сказал Шамиль.
– Выпрямите свои спины, не терпите унижений! Будьте горцами, будьте людьми!
– Забирайте свое добро! – кричал Юнус.
Но никто не решался это сделать. Тогда Юнус вдруг встал на седло и снял с крыши босоного мальчишку.
– Где мамин кувшин?
– Вон он! – показал мальчишка.
– Забирай и неси домой. И не бойся, мы тебя в обиду не дадим.
– А я не боюсь, – важно сказал мальчишка.
– Только мама не разрешает.
– Будь мужчиной! – сказал юноша и подтолкнул мальчишку к арбе.
Тот влез на арбу, вытащил старый кувшин, а затем достал еще один.
– А это нашей тети!
Он стащил с арбы кувшины, но уходить не спешил. Мальчишка зачарованно смотрел на огромного Султанбека, затем подергал его за кинжал и спросил:
– А меня в мюриды возьмете?
– Конечно, – потрепал его по голове Султанбек.
– Такого храбреца!
Мальчишка расплылся в счастливой улыбке и побежал домой.
Вдруг начали открываться окна, двери, и арбы окружили люди, разбирая свой скарб.
– Да смилостивится над вами Аллах, – говорила старушка.
– Этот ковер я ткала, когда была невестой… А эти шакалы ничем не брезгуют.
– И она плюнула в лицо ханскому нукеру.
Нукер взвыл от злобы, но в ответ на него посыпались проклятия и пинки. Дети начали швырять в него грязью, а женщина разорвала подушку и швырнула ее в лицо ханскому нукеру.
– Ешь!
Весь в грязи и перьях, сборщик дико таращил глаза и поминутно чихал. Мюриды с трудом оттеснили от него разгневанных аульчан.
– Чей это осел? – спросил Юнус.
– Мой! – хрипел кровью сборщик
– Так и быть, не станем разлучать друзей, – сказал Юнус и взглядом указал мюридам на сборщика.
Его тут же подняли и усадили на осла задом наперед.
– Даже с преступниками надо поступать по закону, – сказал Шамиль.
– По какому еще закону? – чуть не рыдал с досады сборщик.
– По тому, который дал нам всевышний, – пояснил Шамиль.
– По шариату.
– А что ему полагается? – спросил юноша.
– Самое меньшее – сто ударов палкой.
– А за прошлые грабежи – тоже по сто? – спросил старик.
– Ему давно пора руки отрубить, – усмехнулся Султанбек, привязывая сборщика к ослу.
– Но имам милостив.
Султанбек развернул осла и хорошенько его пришпорил, ударив плашмя кинжалом. Осел взревел и помчался из аула.
– Скорее, скотина! – подгонял его пятками сборщик.
– Я покажу этим разбойникам, кто они и кто хан!
На аульской площади собралось все село, но еще оставалось несколько тазов и овца, хозяева которых не объявились. Юнус трижды спросил, есть ли у овцы хозяин, и, когда никто не отозвался, Шамиль объявил овцу общественным имуществом. Мюриды закололи овцу, и аульчане приготовили для гостей ароматный хинкал – кукурузные галушки, сваренные в мясном бульоне.
До поздней ночи люди слушали Шамиля и не могли поверить, что отныне их не будут угнетать ханы, им не придется платить подати, работать на ханских полях и терпеть прочие повинности, которые они исполняли веками. И это счастье называлось Имамат. Но вдруг запылали далеко в ночи сигнальные костры, засвистели дозорные, и прибежали мальчишки:
– Хаджи-Мурад идет!
Мюриды вскочили на коней, зарядили винтовки и вынули сабли.
– Не лучше ли встретить их здесь? – спросил Юнус.
– Аул ни в чем не виноват, – ответил Шамиль.
– Мы выйдем навстречу. Он поднял руку, свел пальцы в кулак и выбросил его вперед.
Мюриды двинулись за имамом, сверкая саблями и воспевая всевышнего.
– Ла илагьа илла ллагь, – пели мюриды.
– «Нет бога кроме Аллаха».
Вдохновленные этим зрелищем, мужчины аула тоже обнажили свое оружие и двинулись за мюридами, вторя их гимну:
– МухIаммада-р-расулуллагь! – «Мухаммед – посланник Аллаха».
– Давно я ждал этой встречи, – говорил Шамиль.
– Очень давно.
У имама были свои счеты к Хаджи-Мураду, который был среди тех, кто убил Гамзатбека, второго имама, избранного после гибели Гази-Магомеда.
Глава 6
Тогда, после Гимринского разгрома, казалось, что в Дагестане наступило затишье. Но это был обманчивый покой лавины, ждавшей рокового толчка. Шейх Ярагский был опечален потерей своего зятя, но дело, начатое имамом Гази-Магомедом, взывало о преемнике. Шейх, как и весь народ, видел его в Шамиле. Но Шамиль был едва жив после тяжелых ранений, а медлить с избранием нового имама было нельзя.
Вторым, после Шамиля, влиятельным сподвижником Гази-Магомеда был Гамзат Гоцатлинский, происходивший из рода аварских беков. Его происхождение придавало борьбе горцев особое значение. Те, кто желал представить восстание бунтом черни против знати, теперь вынуждены были признать, что и знатные люди готовы жертвовать всем во имя свободы гор и человеческого достоинства.
Гамзатбек был человеком ученым и отважным. Отец его Алискендер-бек почитался как храбрый военачальник, немало послуживший могуществу ханского дома, но твердо сохранявший независимость, когда дело касалось Гоцатлинского общества и его земель. Когда Гамзатбек пресытился праздностью и окунулся в познание наук, отец определил его к знаменитому ученому Нур-Магомеду из Хунзаха. Помня о заслугах Алискендер-бека, ханша поселила Гамзата в своем доме. И здесь он увидел, сколь ничтожны все его старания по сравнению с могуществом, которое иным достается без особых трудов, по наследству. Его гордое сердце не способно было долго выносить унижений, хотя и не явных, которые он встречал в ханском доме. Чаша его терпения переполнилась, когда ему отказали в руке ханской дочери. Ханша просто не принимала в расчет небогатого бека, пообещав свою дочь сыну Аслан-хана, но затем отказала и ему и отдала дочь сыну шамхала Тарковского. А когда в горах возвысился простой горец Гази-Магомед, приводивший в трепет великих ханов, Гамзат почувствовал, что судьба предлагает ему возможность изменить свою постылую участь. И он решительно ступил на это тернистое, но столь притягательное поприще, уверенный, что его природные дарования позволят ему занять достойное место в меняющемся мире.
Гамзатбек решительно порвал с ханским домом и сделался ревностным сподвижником имама Гази-Магомеда. Когда джаробелоканцы, жившие за Кавказским хребтом, восстали и призвали на помощь имама, он направил к ним Гамзатбека с отрядом мюридов. Гамзатбек действовал удачно и даже захватил четыре пушки. Ему удалось сдержать двигавшиеся с юга на Дагестан царские войска. Но рано наступившая зима засыпала снегом горные перевалы и сделала невозможным его возвращение. Надеясь выиграть время, Гамзатбек вступил в переговоры и явился в крепость Закаталы. Однако генерал Стрекалов задержал его под предлогом, что такие переговоры может вести лишь главнокомандующий, и отправил Гамзатбека под охраной в Тифлис, где он и был арестован. Через несколько месяцев за пленного вступился Аслан-хан. Гамзатбека отпустили, но оставили в заложниках его племянника. Хан с почестями принял Гамзатбека, на которого имел свои виды, надеясь с его помощью отомстить хунзахской ханше, отказавшей его сыну в руке своей дочери. Когда стало известно, что племянник Гамзатбека бежал, но, пробираясь в Дагестан, замерз на перевале Кавказского хребта, Гамзатбек снова оказался в рядах сподвижников Гази-Магомеда.
В дни Гимринской трагедии отряд Гамзатбека шел на выручку к имаму, но был атакован из засады и не смог пробиться к осажденным.
Для избрания нового имама общества Дагестана прислали своих представителей в аул Корода. С тем, что имамом должен стать Гамзатбек, как предлагал Ярагский, соглашались не все. Сердца большинства склонялись к Шамилю, но тут было оглашено его письмо:
«Для поддержания ислама нужно единодушие. Кто бы ни был предводителем мюридов, внушите народу повиноваться ему. Да не будут наши горцы подобны собакам, которые грызутся из-за кости властолюбия, тогда как кость эта может быть похищена неверными. Соединимся новыми силами, призвав Аллаха на помощь и избрав одного для исполнения его воли. Так делали наши отцы, первые мусульмане. Мир вам».
Чаша весов окончательно склонилась в пользу Гамзатбека. Избранный имамом, он обратился к народу:
– Мудрые сподвижники тариката, почетные старшины храбрых обществ! Гази-Магомед молится за нас на небесах. Он не умер, он святой, он в раю, и прелестные гурии услаждают новую жизнь его! Из вас, правоверные мусульмане, может всякий быть вместе с ним, если будете следовать его примеру. Он свято исполнял тарикат, первый объявил газават отступникам и притеснителям и погиб с оружием в руках, защищая нашу свободу и веру. Будем ли мы ему не признательны, уменьшим ли ревность к исполнению тариката, ослабнем ли духом после смерти Гази-Магомеда, когда он во всяком деле будет помогать нам, оставляя на время битвы гурий и рай из любви к нам? Мы не будем его видеть, но он будет показываться гяурам во время боя на белом коне в зеленой одежде, и все мюриды, с ним погибшие, будут рядом с ним. Меч его будет сокрушителен, и гяуры, объятые ужасом, будут искать спасения в бегстве.
Воодушевляя делегатов, Гамзатбек поклялся продолжить и завершить дело, начатое Гази-Магомедом. На призыв нового имама стали стекаться мюриды. Вдова Гази-Магомеда передала ему имамскую казну, и Гамзатбек не скупился, наделяя своих приверженцев оружием, конями и властью. Влияние Гамзата распространялась незаметно, но быстро. Общества, не желавшие присоединяться к Гамзату добровольно, покорялись силой. Слава его предшественника и личная неустрашимость Гамзата обезоруживали противников задолго до появления имамских мюридов.
Оправившийся от ран Шамиль тоже поспешил к имаму, и мюриды с ликованием встретили своего любимца.
Гамзатбек будто чувствовал, что век его будет недолог, и спешил разжечь восстание до такой степени, когда возврат к прежнему состоянию был бы уже невозможен. Он безжалостно изничтожал знать, освобождал рабов и разбивал отряды горских владетелей, пытавшихся погасить пламя народного гнева. На втором году своего имамства он обложил Хунзах – своего главного противника в горах.
Но Гамзатбек не решался сразу напасть на столицу ханства. Он вспомнил годы, проведенные в ханском доме, сыновей ханши, которые были его друзьями, и доброго своего учителя Нур-Магомеда, кадия Хунзаха. Еще надеясь решить дело миром, Гамзатбек предложил ханше ввести у себя шариат и действовать вместе, чтобы изгнать из Дагестана царские войска.
Шамиль убеждал Гамзата быть решительней, раз уж он взялся за такое непростое дело. Шамиль призывал не терять напрасно время и немедленно напасть на Хунзах, пока к ханше не подоспела помощь и пока усталые и голодные мюриды не разошлись по своим домам.
Не дождавшись от других ханов помощи, ханша поняла, что, согласившись на условия Гамзата, она потеряет ханство, не говоря уже о царском жаловании. Отвергнув же их, она потеряла бы и голову. Оставалась одна надежда – послать к имаму его бывшего учителя Нур-Магомеда. Кадий прибыл в лагерь Гамзата и старался уговорить его отойти от Хунзаха. Он сообщил, что ханша согласна ввести в своих владениях шариат и готова принять от Гамзата ученого для его истолкования, но борьбу с царскими войсками считает делом безнадежным ввиду несоизмеримости сил. А если Гамзат все же станет с ними воевать, то обещала ему не мешать.
Гамзатбек ответил, что пришлет проповедника шариата, только если ханша в подтверждение своих намерений выдаст ему в аманаты младшего сына Булач-хана. Скрепя сердце Бахубика послала в лагерь Гамзата своего сына в сопровождении почетных людей. Имам принял их с подобающими почестями, отправил Булач-хана в свою резиденцию в Гоцатле, а сам отступил на несколько верст от Хунзаха.
На следующий день к ханше явился новый посланец Гамзата, приглашая двух других ее сыновей явиться к имаму для переговоров о судьбе ханского дома. Ханша почувствовала неладное, но ей не оставалось выбора. Отправляя к Гамзату своих сыновей Абу-Нуцал-хана и Умма-хана в сопровождении свиты из двухсот хунзахских удальцов, ханша поручила своему надежному нукеру и тайную миссию.
Гамзат принял молодых ханов с теми же почестями и пригласил в свой шатер. А тем временем тайный посланец ханши разыскал Шамиля и передал ее слова: «Ты пользуешься у Гамзата доверием, имеешь на него сильное влияние. Отвлеки его от Хунзаха на плоскость против шамхала и получишь в награду две тысячи рублей».
Это стало роковой ошибкой ханши. Возмущенный ее лицемерием, Шамиль сообщил обо всем Гамзату. Тогда имам, желая окончательно убедиться в намерениях ханши, послал Шамиля в Хунзах с требованием немедленно разрушить все башни и другие оборонительные сооружения. Выслушав Шамиля, ханша пришла в отчаяние, но исполнить требование отказалась. Вместо этого она велела своим воинам готовиться к нападению на лагерь Гамзата, чтобы спасти молодых ханов.
Ситуация накалялась, и переговоры были на грани срыва. Тогда Гамзатбек, надеясь умерить страсти, вышел из шатра, чтобы совершить у реки омовение перед молитвой. Остальные собирались последовать за ним, но тут в свите аварских ханов был замечен Буга Цудахарский, которого давно разыскивали за убийство двоюродного брата Гамзатбека. Сподвижники имама узнали кровника и потребовали выдать его для расплаты. Ханы отказались это сделать, и тогда завязалась яростная схватка, в которой с обеих сторон погибли десятки людей. Ханы бились с отчаянием обреченных, мужественно и отважно, но, в конце концов, били убиты. Шамиль был ранен, а среди убитых мюридов оказался и родной брат Гамзата.
Пылая мщением, Гамзатбек ворвался в Хунзах и захватил ханский дворец. Но дом оказался пуст и разграблен. Имам велел хунзахцам немедленно вернуть ханское добро и казну, угрожая мародерам неминуемой расправой. Возвращенным добром наполнили десяток ароб и отправили в Гоцатль, но затем вернули, так как Гамзат решил сделать ханский дворец, который был хорошо ему знаком, своей резиденцией.
Вскоре были найдены ханша и управлявший частью ханства Сурхай-хан. Гамзат знал, что казнь старой ханши не понравится ни хунзахцам, ни его мюридам. Но отступать было некуда – слишком сильно было влияние ханского дома, и Гамзат был полон решимости сокрушить его до основания. Бахубика и Сурхай-хан были казнены. В живых осталась лишь беременная жена убитого сына ханши Нуцал-хана.
Шамиль советовал имаму не оставаться в Хунзахе среди кровных врагов. Он считал, что Гамзату лучше вернуться домой и предаться молитвам. Однако Гамзат его не послушал. Он надеялся завоевать сердца хунзахцев своей щедростью и красноречием.
Истребление ханского дома и утверждение власти Гамзатбека многое изменило. Став полновластным владыкой гор, Гамзатбек решил завершить и другие дела, не удавшиеся Гази-Магомеду, – овладеть Дербентом и Внезапной, а затем вытеснить царские войска из Дагестана.
Однако первая же его попытка двинуться на Дербент встретила неожиданное сопротивление вольных обществ Акуша и Цудахар, сохранявших нейтралитет. Не сумев пробиться к Дербенту, имам вернулся в Хунзах, однако воинственный дух его не был поколеблен.
Он начал готовиться к новым походам, создавая регулярную армию, набирая новых воинов и запасаясь оружием. Приводилось в порядок и государственное устройство Имамата. Гамзатбек назначал наибов, пытался ввести справедливую систему налогообложения и укреплял главенство шариата как правовой основы государства. Чтобы смягчить враждебность хунзахцев, он приглашал их к себе на службу и устраивал для них угощения. Тогда мюриды, добывшие победу над ханшей, начали роптать, говоря, что, увлеченный напрасными мечтаниями, Гамзат забыл об их повседневных нуждах. Они не имели достаточно еды, даже одежда их пришла в негодность, а семьи их давно уже пребывали в нужде, оставшись без своих кормильцев.
Шамиль попросил Гамзатбека удовлетворить потребности заслуженных воинов из государственной казны. Но вместо этого имам принялся строить в Хунзахе большую мечеть. Разочарованный Шамиль сказал Гамзату, что он поступает опрометчиво, и вернулся со своим отрядом в Гимры.
Обеспокоенные потерей опоры в стратегически важной Аварии и расширением восстания, царские власти собирали силы для большой экспедиции против Гамзатбека. К делу охотно примкнули шамхал Тарковский, Ахмед-хан Мехтулинский и другая знать, опасавшаяся за сохранность своих владений. Генерал-майору Ланскому с его тринадцатью батальонами, сорока орудиями и тысячью казаков было приказано положить конец успехам имама и вернуть аварский трон его законным владельцам.
«По взятии Хунзаха и восстановлении там правителя обласкайте аварцев, – говорилось в предписании Ланскому.
– Распоряжениями вашими и дисциплиной войск вселите в них выгодное об нас мнение; тем же, кои будут держаться стороны Гамзата, угрожайте наказанием, и если найдутся таковых целые селения, то истребите оных совершенно».
Но на пути к Хунзаху Ланской получил известие, что Гамзатбек пал жертвой кровной мести.
Заговор против имама возглавили молочные братья убитых ханов Осман и Хаджи-Мурад. Решимости им добавляло и то, что отец Хаджи-Мурада был убит при первом нападении мюридов на Хунзах. Заговорщики решили убить Гамзатбека в мечети во время пятничной молитвы. Об этом стало известно, но имам отнесся к просьбам сподвижников не ходить в пятницу в мечеть и немедленно арестовать заговорщиков хладнокровно:
– Можете ли вы остановить ангелов, если они придут за моею душой? – спросил он.
– Что определено Аллахом, того не избежим, и если завтра назначено умереть мне, то завтрашний день – день моей смерти.
Фатализм Гамзата, его уверенность в своей счастливой судьбе перешли все разумные пределы. Когда имам вошел в мечеть, Осман воскликнул:
– Что же вы не встаете, когда великий имам пришел в вашу мечеть?
Это было знаком, по которому со всех сторон раздались выстрелы. В ответ начали стрелять мюриды. Затем в ход пошли кинжалы и сабли. Падая, сраженный пулей Гамзатбек успел лишь поднять полу бурки, чтобы не испачкать ковры мечети своей кровью. Был убит и Осман. А крови в мечети пролилось столько, что она вытекала через порог на улицу.
Уцелевшие мюриды засели в ханском дворце. Тогда Хаджи-Мурад велел поджечь дом. Спасшихся из огня схватили и сбросили в пропасть, открывавшую свои страшные объятия сразу за Хунзахом. Тело Гамзатбека три дня пролежало у мечети, а затем было погребено на хунзахском кладбище.
Расправившись с мюридами, хунзахцы выбрали своим старшиной Хаджи-Мурада. А царские власти пожаловали ему чин прапорщика милиции и доверили управлять ханством до водворения на трон если и не прямых наследников, то хотя бы законных владельцев из родственников хунзахских ханов.
Узнав о случившемся, Шамиль двинулся на Хунзах, намереваясь покарать убийц имама. Но решимость хунзахцев защищаться и известие о приближении царских войск сделали осаду Хунзаха невозможной. В отместку за гибель Гамзатбека был сброшен в реку последний из прямых наследников ханского дома Булач-хан. Но люди поговаривали, что все было иначе, и Булач-хан утонул, когда соревновался с гоцатлинскими мальчишками в том, кто скорее переплывет бурное Аварское Койсу.
Ланской не желал возвращаться ни с чем и двинулся на Гимры, считавшиеся источником всех мятежных замыслов. После жаркой схватки Гимры были взяты, дома сожжены, а сады окрест вырублены. Явившийся на помощь Шамиль атаковал отряд Ланского и вынудил его отступить.
Через несколько дней после возвращения из Гимров генерал Ланской скончался от желтухи. На его место заступил ученик Ермолова полковник Клюки фон Клюгенау. Чтобы восстановить ханский трон и снова утвердиться в Хунзахе, отряд Клюгенау спешно двинулся в горы. Через десять дней он подступил к Гергебилю, располагающемуся у подножия Хунзахского плато. Здесь его уже поджидали мюриды Шамиля, который решил сначала отбить наступление Клюгенау, а с оставшимся в тылу Хунзахом разделаться позже.
Штурм Гергебиля во многом повторил ужасы первой битвы в Гимрах. Имамские гвардейцы сдаваться отказались и решили биться до конца. Опасаясь потерять всех своих сподвижников, Шамиль отступил к Гоцатлю, чтобы там дать решительный бой.
После взятия Гергебиля Клюгенау получил известие, что вдова Нуцал-хана родила сына, который теперь был законным и единственным наследником ханского престола. Наследнику требовался опекун, которым был назначен Аслан-хан Казикумухский. Если он действительно помышлял об овладении Хунзахским троном, когда вызволял из тифлисского плена Гамзатбека, то план его увенчался совершенным успехом.
Он вступил на Хунзахское плато с небольшим отрядом, демонстрируя горцам, что желает лишь успокоения и порядка и готов посредничать между непримиримыми мюридами и царским командованием. И это всех устроило. Недоволен был лишь Хаджи-Мурад, предчувствуя потерю своей власти в Хунзахе.
Клюгенау тем временем штурмовал Гоцатль, державшийся, пока в нем оставались люди, способные поднять оружие. После упорного сопротивления поредевшие отряды Шамиля ушли дальше в горы.
Заняв Гоцатль, Клюгенау намеревался двинуться дальше, но вскоре из Хунзаха явилась депутация с заверениями в верноподданности. Затем прибыл и Аслан-хан Казикумухский вместе со старейшинами нескольких обществ, которых он успел расположить к себе щедрыми обещаниями. Хунзахцы объявили, что готовы принять Аслан-хана в качестве временного управляющего ханством, пока не подрастет законный наследник. К тому же они резонно опасались, что приход в Хунзах царских войск грозит новыми стычками с партиями мюридов.
Сочтя, что цель экспедиции вполне достигнута, Клюгенау вернулся в Темир-Хан-Шуру и принялся перестраивать тамошние укрепления, чтобы превратить их в мощную крепость – форпост у ворот в Нагорный Дагестан.
Шамиль помнил, в какой растерянности был тогда народ, оставшийся без имама, и какие усилия предпринял шейх Ярагский, чтобы продолжить дело, начатое первыми имамами. Он вновь созвал представителей горских обществ и почитаемых ученых, чтобы избрать преемника Гамзатбека. Прибывшие говорили Шамилю, что он – их единственная надежда, но Шамиль знал, как тяжела эта ноша, и не торопился принимать на себя имамское звание.
Когда открылся совет и Ярагский предложил избрать Шамиля имамом, он ответил:
– Будет лучше, если я останусь помощником имама, каким был при Гази-Магомеде и Гамзатбеке. Потому прошу вас избрать имама среди более достойных людей, которые здесь присутствуют.
Но собравшиеся не согласились с Шамилем:
– Мы не видим другого, кто более достоин стать имамом.
– Истинно, ты самый храбрый, знающий и совершенный среди нас.
– Будь нашим имамом, Шамиль!
Но Шамиль не соглашался, считая, что воевать куда легче, чем управлять народами гор, давая им единые законы и требуя их исполнения.
– Для этого нужен человек знающий и мудрый, – убеждал собравшихся Шамиль.
– Такой, как почтенный Саид из Игали.
– Это не мое дело, – возразил Саид.
– Я твердо знаю, что не в состоянии взять на себя имамство.
– Будь нашим имамом, Шамиль! – настаивали встревоженные посланцы обществ.
– Только ты сможешь собрать народы гор в единый народ!
– Только в твоих руках власть принесет пользу людям!
– Лучше пусть будет имамом Сурхай из Коло, – упорствовал Шамиль.
– Его ученость безгранична, и он обладает многими талантами.
– Чтобы быть имамом, этого недостаточно, – ответил Сурхай.
– Имамом должен стать ты, которого любит и уважает народ, – сказал Газияв Андийский.
– Мы не можем разойтись, пока не изберем имама, – добавил Саид.
– Кто знает, сможем ли мы собраться еще раз? Нашим врагам это будет только на руку, и они обязательно этим воспользуются. Соглашайся, Шамиль, если хочешь народу добра.
– Не огорчай отказом людей, которые ждут твоего имамства, – призывал Ярагский.
– Они прибыли сюда не спорить с тобой, а исполнить то, что поручили им их общества.
Шамиль колебался. Он понимал, как трудно будет принимать решения, от которых зависит судьба всего Дагестана. Слишком большая ответственность ложилась на плечи имама, и так же высока была бы цена ошибок, если бы он их совершил.
Шейх будто читал его мысли. Он положил руку на плечо Шамиля и сказал.
– Соглашайся. А вопросы, которые ты не сможешь решить сам, мы решим вместе. У нас много мудрых и ученых людей. Мы изберем совет, меджлис, который всегда поможет имаму найти правильное решение. Кроме того, Имамату потребуются новые законы. Ты можешь их предлагать, но утверждать их будет совет.
Теперь у Шамиля не оставалось выбора, и он сказал собравшимся:
– Если так, то я приму на себя имамство, не вдаваясь в то, трудное это дело или легкое.
– Наш имам – Шамиль! – провозгласил шейх, обнимая Шамиля.
– Да будет долгим его имамство! Да поможет ему Аллах!
Люди радовались благополучному завершению столь важного дела и спешили поздравить своего избранника. А затем наступила тишина – люди хотели услышать первые слова нового имама Дагестана.
Шамиль молчал, ясно ощущая, как неведомая светлая сила наполняет все его существо. Он будто преобразился и начал говорить, сам удивляясь словам, которые произносил. Шамиль призвал забыть взаимные обиды и сплотиться перед опасностью полного порабощения. Главным он считал вовсе не войну, а необходимость завершить то, что начали первые имамы – объединить народы гор в независимое государство – Имамат, основанное на равенстве и свободе, вере и справедливости. Он вдохновенно убеждал собравшихся, что только единое государство свободных людей, какой бы ни была их вера, сможет себя защитить, что только так можно избавиться от нужды и притеснений, и с ними станут всерьез считаться великие державы. И что лишь так можно обрести мир и покончить с войнами.
В конце речи он воздел руку к небу и сжал пальцы в кулак, ясно обозначив свои истинные намерения. А затем добавил, по-своему развив завет Ярагского и напоминая сподвижникам о том, что освобождение народа нужно начинать с самих себя и своих людей:
– Каждый человек должен быть свободным, не должен покоряться и не должен стремиться покорить другого человека. Рабовладелец тоже раб.
Убедившись, что их судьба теперь в надежных руках, люди разъехались по горам, объявляя повсюду волю нового имама.
Хаджи-Мурад, которого хунзахцы избрали своим предводителем, был еще очень молод, но люди уважали его за редкую отвагу. Ахмед-хан Мехтулинский, ставший регентом при малолетнем наследнике Хунзахского ханства, завидовал славе Хаджи-Мурада и втайне его опасался. Но Хаджи-Мурад делал то, что не могли сделать другие – берег от мюридов ханский дом, и с ним приходилось считаться.
Вот и теперь, когда опозоренный сборщик податей въехал в Хунзах на осле и сообщил о случившемся Хаджи-Мураду, тот не стал долго раздумывать. Он пригрозил сборщику, что отрежет ему язык, если тот не будет помалкивать, а сам собрал имевшихся под рукой нукеров и помчался к взбунтовавшемуся аулу. Людей у него было немного, утром он отправил основные силы усмирять другой аул, решивший отложиться от ханства и перейти к Шамилю.
Комендант крепости полковник Педяш предложил Хаджи-Мураду свою помощь, но гордый джигит отказался.
– Это наше дело, – сказал он полковнику.
– Я сам потолкую с мюридами.
Про Шамиля он даже не упомянул, чтобы в Хунзахе не началась паника.
Хаджи-Мурад уже подходил к аулу, когда увидел, что оттуда движется целое войско. Было темно, но сотни мерцавших в ночи факелов свидетельствовали о том, что Хаджи-Мурада ждет жаркая встреча.
Хаджи-Мурад подал знак остановиться. Всадники замерли, и из ночи до них долетел гимн мюридов, двигавшихся на него с горы. Соразмерив силы и расположение противника, Хаджи-Мурад решил не искушать судьбу и велел поворачивать обратно.
– Разве мы не нападем на них? – удивлялись нукеры, привыкшие, что Хаджи-Мурад не ведает страха.
– Можно было бы и напасть, – ответил Хаджи-Мурад.
– Но тогда будет резня, в которой мало кто уцелеет.
– Тебе что, мюридов жалко? – удивлялись нукеры.
– Мне жаль этих глупых людей, которые пошли за мюридами, – сказал Хаджи-Мурад.
– А ханское стадо надо беречь.
Он решил дождаться возвращения своих основных сил, а уж потом проучить бунтарей так, чтобы об этом вспоминали их дальние потомки. И еще он рассчитывал на то, что, упиваясь победой над самим Хаджи-Мурадом, Шамиль не уйдет и дождется его возвращения.
Его нукеры вернулись только через день, сильно потрепанные и злые от того, что им не удалось захватить аул, вышедший из повиновения ханам. И таких аулов становилось все больше, несмотря на бахвальство Фезе, объявившего, что вся Авария им занята и приведена в надлежащую покорность. Фезе ушел, а вместе с ним ушла и мнимая покорность.
Взбешенный Хаджи-Мурад, не дав своим людям передохнуть, повел их на Шамиля. Добравшись до аула, он отправил часть конницы в обход, а сам ринулся на аул во главе самых храбрых джигитов.
Аул был взят. И он был пуст. Люди ушли к Шамилю.
В кольцо на двери мечети было вложено письмо: «Если тебе нужны дрова, разрушь наши дома».
Глава 7
Когда Екатерина Евстафьевна Граббе узнала, что ее супруга безотлагательно вызывают в Петербург, у нее случилась истерика.
– Я знаю, это все – Чернышев! – рыдала она, заламывая руки.
– Этот злой демон!
Граббе и сам так считал. Это началось еще в 1826 году, когда арестованного Граббе допрашивали по делу декабристов. Чернышев, бывший тогда генералом от кавалерии и членом Следственного комитета, сразу невзлюбил Граббе за его вызывающе независимое поведение. Но Граббе считал себя невиновным. Он не отрицал, что вступил в тайный «Союз благоденствия» и участвовал в его съезде в 1821 году. Тогда все бредили отменой крепостничества и свободами, которые они видели в Европе. И не последние люди были его друзьями по обществу, взять хотя бы Михаила Орлова, генерала, принимавшего капитуляцию Парижа. Или Федора Глинку, тоже героя войны и поэта… Не говоря уже о самом Трубецком. Но тогда съезд объявил себя распущенным, и Граббе больше политикой не увлекался. Тем более, что тогда же и поплатился за недолгое участие в тайном обществе увольнением со службы и ссылкой в Ярославль на жительство под надзором. И не его вина, что Трубецкой, как оказалось, закрыл «Союз благоденствия» только для виду. Выяснилось, что руководители Общества желали избавиться от подозрительных членов и сбить со следа ищеек. А уже на следующий день Трубецкой учредил с братьями Муравьевыми новое, еще более тайное общество, положив целью уничтожение самодержавия, освобождение крестьян и введение конституционного правления на европейский манер.
Однако Чернышев не верил оправданиям Граббе. Да и как мог верить бывший глава шпионской сети во Франции бывшему тайному агенту в Баварии? Но явных доказательств не было, а Граббе стоял на своем.
До самозабвения увлеченный разоблачениями известнейших в России лиц, Чернышев видел во всех, кто имел отношение к делу декабристов, опаснейших государственных преступников. И отлично понимал, что уничтожением влиятельных прежде соперников расчищает себе путь к сияющим вершинам власти. Так оно потом и случилось. А на следствии Чернышев не щадил ни себя, ни подследственных, грубя князьям, угрожая генералам и унижая всех без разбору.
Граббе терпел недолго. Природное упрямство сделало свое дело, и он дерзнул поставить Чернышеву на вид, что, пока он, полковник Граббе, не осужден, закон не позволяет с ним так обращаться. И что он не позволит кому бы то ни было оскорблять его, пользуясь своею безнаказанностью.
Чернышев пришел в бешенство. Граббе продолжал дерзить, решившись положить голову, но не спустить обидчику. Суд оправдал Граббе, не найдя достаточных улик. Но могущественный враг, которого нажил себе Граббе, не дремал. Не успев выйти из Главной гауптвахты, Граббе был вновь арестован и заключен в Динамюндскую крепость за дерзкие ответы, данные комиссии. Его выпустили только через четыре месяца.
Служебное рвение Чернышева сделало его близким к императору человеком, и он получил пост военного министра.
– Он преследует нас! – рыдала Екатерина Евстафьевна.
– Он хочет нашей крови!
– Делать нечего, душенька, – говорил Граббе.
– Надобно ехать.
Он стоял у окна и смотрел на игравших в саду детей, будто навсегда с ними прощаясь.
– Он тебе мстит! – продолжала причитать жена.
– Я поеду с тобой! Брошусь в ноги императрице.
– Поеду один, – сказал Граббе.
– Еще ничего не известно.
– Этот сатрап, этот нахальный выскочка, парвеню!..
– Довольно! – уже тверже сказал Граббе.
– Он как-никак военный министр. К тому же граф.
– Граф! – горько усмехнулась Екатерина Евстафьевна.
– Разве благородные люди так поступают?
– Да, мы повздорили, но это дело прошлое, – сказал Граббе.
– Я служил, и наградами меня не обходили.
– Другому дали бы больше, – гневилась жена.
– А знаешь ли ты, что этот пошлый Чернышев…
– Полноте, Катенька, – прервал ее Граббе.
– Люди услышат.
– Нет уж позволь… – упрямилась Екатерина Евстафьевна.
– Не хотела тебе говорить, но раз уж на то пошло…
– Так в чем дело? – насторожился Граббе.
– А в том, что военные министры у нас заняты не солдатским обмундированием, а дамскими юбками.
– В каком это смысле? – не понял Граббе.
И супруга принялась излагать весьма пикантную историю.
– Супруга его, в девичестве графиня Зотова, по матери внучка князя Куракина, – начала издалека Екатерина Евстафьевна.
– А у того побочные семейства…
– Ну так что же? – торопил Граббе жену.
– Так вот одна девица, тоже внучка Куракина, жила у Чернышевых, – продолжала Екатерина Евстафьевна.
– И наш военный министр не замедлил ее соблазнить.
«Ловко!» – подумал Граббе, но жене сказал:
– Это нонсенс!
– А потому, как нужно было сбыть опозоренную девицу с рук, – рассказывала Екатерина Евстафьевна с видом заговорщицы.
– Чернышев подыскал ей покладистого мужа.
– Кого же? – спросил Граббе, хотя его это мало интересовало. Он уже перебирал свои ордена, решая, какие надеть.
– Некоего Траскина.
– Кто таков? – поморщился Граббе, впервые услышав это имя.
– Временщик, подстать Чернышеву, – сообщила Екатерина Евстафьевна.
– Известно только, что на лицо безобразен, тучен до уродливости и жаден неописуемо. Вот его и пустили по интендантской части.
Увидев, чем занят супруг, она уткнулась ему в плечо и сказала:
– Надень все. Ты их кровью своей заслужил, ранениями.
Но Граббе решил явить скромность и ограничиться Георгием 3-й степени, какой был и у Чернышева, и тот знал цену этому ордену. А что до остальных, то, во-первых, они не ценились так высоко, как Георгий, а во-вторых, Граббе слишком хорошо понимал, что никакие ордена, никакие заслуги не в силах заслонить тяжкое клеймо «прикосновенности к делу декабристов».
Граббе надеялся, что с годами все забудется. Он уже и сам начал забывать былые неприятности. На все это он уже смотрел иначе. Он теперь сам начинал верить, что в тайное общество его завлекли обманом и что у него хватило ума вовремя покинуть логово заговорщиков. Стране нужен был порядок, а эти масоны… Нет, убеждал себя Граббе, он им вовсе не сочувствовал, он просто изучал этих демонов в человеческом обличии. Он тогда еще понял, в какую гибельную бездну они толкали государство! Вроде той горы, что чуть не поглотила его во сне.
Граббе считал, что верной службой государю давно искупил свои недолгие заблуждения. Но всякий раз, когда открывались новые обстоятельства, Чернышев первым делом приказывал вызвать и допросить Граббе.
Вернулась Лиза. Она была переполнена впечатлениями и почти позабытыми чувствами, которые испытала от близкого общения с молодым мужчиной.
– Добрый вечер, – улыбнулась Лиза, виновата хлопая ресницами.
– Здравствуй, душенька, – сказала Екатерина Евстафьевна, беря себя в руки.
– Мое почтение, – кивнул Граббе, откладывая ордена.
Лиза почувствовала царившее в доме напряжение.
– Здоровы ли вы, Павел Христофорович?
– Генерала экстренно приглашают в Петербург, – объяснила Екатерина Евстафьевна.
– Не сочти за труд, Лиза, вели подавать ужин.
– Конечно, сударыня, – засуетилась Лиза.
– В Петербург! Как это хорошо!
– Пришло именное повеление от самого императора! – добавила Екатерина Евстафьевна.
– Я знала! – хлопала в ладоши Лиза.
– Я всякий раз писала кузине, какой Павел Христофорович замечательный, благородный человек!
– Уж лучше бы не писала, – вздохнула Екатерина Евстафьевна.
– Отчего же? – удивилась Лиза.
– А вдруг император соблаговолит еще более возвысить вашего супруга?
– Дай-то Бог, – с надеждой перекрестилась Екатерина Евстафьевна.
– Когда же ехать?
– С утра.
– Вот и славно, – радостно улыбалась Лиза.
– Я распоряжусь об ужине, а после напишу кузине письмо. Уж больно задерживают насчет Михаила. Офицеру эполеты положены, а он все еще в солдатах!
Лиза упорхнула, оставив супругов одних.
– Ты уж детей береги, – сказал Граббе, сдержанно обнимая жену.
– Ты бы себя поберег, – с грустью отвечала жена.
– А дети – что с ними станется? Растут, как грибы…
Глава 8
Отряд Шамиля переехал по мосту через небольшую реку, когда Юнус радостно воскликнул:
– Ашильта!
Погруженный в раздумья Шамиль поднял глаза.
Перед ними лежали развалины большого аула. Груды камней вперемежку с бревнами представляли собой странный живописный хаос, обвитый лозами винограда, на которых уже пробивались первые листья.
Уцелевших домов почти не осталось. Кое-где торчали останки цагуров – больших деревянных ларей, домашних кладовок, в которых горцы хранили муку и другие припасы.
Шамиль повернул коня и двинулся по крутой, мощенной речным булыжником улочке. Слегка пригнувшись, он протиснулся под низкой каменной аркой и выехал к дому своей матери. Было странно увидеть почти невредимую саклю, под крышей которой голуби свили гнезда и теперь кормили своих птенцов.
Многие мюриды сами были ашильтинцами, и каждый спешил увидеть, что стало с его домом.
В Ашильте Шамиль прожил три года, после того как перебрался сюда из Гимров, следуя примеру пророка, который покинул Мекку, не желавшую поначалу принимать его веру, и переселился в Медину, Сюда прибывали на совет известные ученые и народные предводители. Отсюда он начинал свои походы, назначал наибов и рассылал воззвания, призывая народы к совместной борьбе за свободу.
Получив разрешение ашильтинцев, Шамиль принялся строить столицу Имамата на горе Ахульго, неподалеку от Ашильты. Вернее, это были две крутые горы, стоявшие так близко друг к другу, что между ними был перекинут мост. Их разделяло узкое ущелье, по которому текла речка Ашильтинка. Низвергаясь за аулом красивым водопадом, речка бежала между Старым и Новым Ахульго и вливалась в полноводную реку Андийское Койсу, которое огибало оба Ахульго двумя полукругами и образовывало гигантский каньон.
Вид у Ахульго был величественный и неприступный. Новое Ахульго соединялось с остальным миром узким перешейком, по которому едва можно было пройти. А Старое Ахульго ашильтинцы и вовсе называли «горой, на которую нет дороги». Обе горы, сверх того, были изрыты пещерами, которые издавна служили убежищами от врагов. В тяжелые времена здесь скрывались не только ашильтинцы, но и беженцы из далеких мест.
Лучшего места для столицы трудно было найти, и скоро здесь вырос новый аул с башнями, мечетями, школой и библиотекой. Ахульго уже становился полнокровной столицей Имамата, когда явился генерал Фезе со своими пушками.
Расположенный амфитеатром над речкой, аул Ашильта тоже был превращен жителями в крепость. Окна и двери они заложили бревнами, в стенах проделали бойницы, а узкие улицы завалили большими камнями.
Разгорелась упорная битва. Но силы оказались слишком неравными, а Шамиль, осажденный в Телетле, не в силах был помочь ашильтинцам.
После штурма и разрушения Ашильты Фезе приказал вырубить и богатые сады ашильтинцев, которые они взращивали веками. Затем генерал принялся за Ахульго, громя его из полевых орудий. Жители столицы и спасавшиеся там семьи ашильтинцев едва успели бежать в соседний аул Чирката. Там же теперь жил и Шамиль со своей семьей. Дом, построенный для него чиркатинцами, служил и резиденцией имама.
Превратив аул на Ахульго в развалины, Фезе велел придать оставшееся огню. Но чудесным образом дом самого Шамиля не сгорел. Как не пострадала и библиотека, укрытая в тайной пещере. Точно так же не сгорел дом Шамиля в Гимрах, когда пылали другие. Люди приписывали это Божьему провидению.
Шамилю больно было смотреть на следы ужасного погрома, он даже не оглядывался на Ахульго, вершины которого призывно смотрели на него из-за ущелья. Ахульго и означало – «Гора призыва» или «Набатная гора». На ней издавна загорались сигнальные костры, если поблизости появлялся неприятель, и с нее звали окрестные аулы на помощь.
Отряд уже покидал Ашильту, когда Шамиль заметил, что над несколькими домами поднимаются дымки. Кое-где на крышах стояли люди, приветственно махая руками. А в садах уже кипела работа. Люди прививали старые деревья и сажали новые. На виноградниках делали обрезку, удобряли землю, выкорчевывали погибшие лозы. В Ашильту возвращалась жизнь.
Завидев Шамиля и его мюридов, к ним отовсюду сбегались дети. Их поднимали на коней и разрешали немного покататься с уздечкой в руках. Кому-то доставалась сушеная курага, кому-то кусок сыру, кому-то горсть мелкой черной хурмы из походных запасов.
Шамиля окружали люди, каждый старался пожать имаму руку, и со всех сторон слышались обычные в горах приветствия:
– С приездом, Шамиль!
– Был ли удачен твой путь?
– Исполнились ли желания твоего сердца?
– Остались ли вы все невредимы?
– Прогнал ли ты своих врагов?
Шамиль старался для каждого найти доброе слово, отвечал, что благодаря Аллаху все хорошо. А затем спросил людей:
– Не рано ли вы принялись за работы?
– Мир ведь, – улыбались люди.
– И дни теплые. Кто тут все восстановит, если не мы?
Всадники потянулись к чиркатинской дороге, вившейся вдоль реки.
– Мир, – говорил про себя Шамиль.
– Надолго ли?
Дорогу перегородила большая овечья отара. Это возвращался с первых весенних пастбищ пожилой чабан со шрамом во всю щеку. Увидев Шамиля, он поспешил к нему навстречу, яростно расталкивая овец.
– Шамиль!
Имам узнал в чабане Курбана из Чиркаты – давнего своего приятеля, раненого при защите Ашильты от войск Фезе. Шамиль сошел с коня, обнял чабана и стал его расспрашивать о житье-бытье.
– Засиделся что-то, – молодецки встряхивал плечами Курбан.
– Взял бы ты меня в мюриды, я бы еще показал, как воевать надо.
– И так все видели, как ты работал саблей за двоих, – улыбался Шамиль.
– Она еще цела?
– Целее меня, – потряс ярлыгой Курбан, подтверждая, что крепка еще его сабля.
Сабля эта была знаменита. Добытая его предком в битве с Надир-шахом, сабля имела два клинка, которые расходились при взмахе. Звалась такая сабля «зулькарнай» – двурогая, и защищаться от нее было очень трудно.
– Теперь я зову ее Ахульго, – важно сообщил Курбан.
– Потому что двойная.
Он похлопал имама по плечу и пригласил в свой шалаш отдохнуть с дороги и отведать хинкал с курдюком.
Но Шамиль вежливо отказался, ссылаясь на то, что его ждут в Чиркате.
– Я тоже тебя ждал! – сказал Курбан.
– Сына хочу женить.
– Дай Аллах, дай Аллах, – кивал Шамиль.
– Хорошее дело. На чьей дочери женишь?
– Махмуда дочь, ашильтинца. Помнишь, в которого из пушки попали?
Шамиль погрустнел. Махмуд был смелым воином. И был отличным каменотесом. Он строил дом Шамиля на Ахульго. А когда полетели ядра, решился на ночную вылазку, чтобы опрокинуть пушку в пропасть. Они успели сбросить одну пушку, когда с другой батареи по смельчакам ударили картечью.
– Помню, да упокоится душа его в раю.
– Хорошо, что ты вернулся, – говорил Курбан.
– А то никак со свадьбой не выходит.
– Почему? – удивился Шамиль. —
Невеста не нравится?
– Нравится она ему! – уверял Курбан.
– Такая красавица – сам бы женился!
– В чем же тогда дело?
– Некогда, говорит. В мюриды хочет.
– Разве одно мешает другому?
– Вот и я ему говорю: у имама целых две жены!
– Если сын не слушает отца, как он будет мюридом имама?
– Слушает он, – оправдывался Курбан.
– Но если ты ему велишь – сразу женится! Он тебя знаешь, как уважает!
– Посмотрим, – улыбнулся имам.
– Пришли его ко мне.
Шамиль тронул коня, но Курбан шел рядом, продолжая говорить:
– Не гневись имам, но в Чиркате тебя дожидается столько важных людей! Начнутся хабары, дела, не до моего сына будет. Да и зачем отнимать время у великого имама? Ты скажи свое слово, а я ему передам.
– Тогда скажи, что женатый мюрид – хороший мюрид. А, братья? – обернулся он к своим спутникам.
– Правда, – улыбался Султанбек.
– Если мы не будем жениться, откуда возьмутся новые мюриды? – смеялся Юнус.
– Женатые дерутся лучше! – весело откликались остальные.
– И любят крепче, когда мужья долго дома не бывают!
– Когда жена рядом, даже пес злее кусается!
– Так и скажу, – радостно улыбался чабан.
– Имам велел жениться!
– Так и скажи, – кивнул Шамиль.
– А когда свадьбу играть? – спросил Юнус.
– Чем скорее, тем лучше.
– Имам сказал – значит, так и будет! – объявил Курбан.
– Все приходите!
– Нас слишком много, – покачал головой Шамиль.
– Вот и хорошо, – говорил Курбан, оглядываясь на мюридов.
– Баранов у меня хватит. Я же чабан как-никак.
– Придем, если будет на то воля Аллаха, – пообещал Шамиль.
Имам пришпорил коня и понесся вперед. Мюриды бросились его догонять.
А чабан принялся собирать отару, которая успела разбрестись по пригоркам.
– Ну-ка пошли домой! Котлы по вас плачут!
Глава 9
Уже вечерело, когда Шамиль увидел костры, расположенные в определенном порядке. Они горели неподалеку от моста через реку, за которой на нескольких уступах раскинулся аул Чирката, окруженный цветущими садами.
Вокруг костров отдыхало по нескольку десятков мюридов, а неподалеку паслись их кони. Шамиль был рад видеть столь организованные отряды, что для горцев было весьма необычно.
Приближаясь к лагерю, имам узнавал знамена своих наибов. Вот зеленое, с красной каймой, двухконечное знамя наиба Магомеда Ахбердилава из Хунзаха. Ученый и храбрый, добрый и сдержанный, он был правой рукой Шамиля. Ахбердилав был соратником первых имамов, и Шамиль мог положиться на него в самых трудных делах. Славу Ахбердилаву принесли не только его удачные походы, но и мудрое терпение, с которым он разрешал споры между селами, склоняя их к добрососедству и побуждая к борьбе с общими для всех притеснителями. Это он чуть не бросился на генерала Клюгенау, когда тот уговаривал Шамиля явиться в Тифлис просить императора о помиловании, а затем отвел руку Шамиля, когда тот хотел пожать руку протянутую генералом. Клюгенау вспылил, и Шамилю едва удалось разнять разгневанных противников.
А вон там, справа, красное с зелеными углами у древка, двухконечное знамя Ташава-хаджи Эндиреевского. Наиб своим знаменем очень гордился, потому что унаследовал его от первого имама Гази-Магомеда. Ташав тоже был весьма учен и титул хаджи носил по праву, совершив в молодости хадж в священную Мекку. Он дрался еще с Ермоловым, а затем и другими царскими генералами. Он был муллой древнего аула Эндирей, лежавшего на плоскости и подверженного опасностям куда больше, чем горные аулы. Тем не менее Ташав-хаджи вдохновенно утверждал шариат как лучший путь к спасению души каждого и всего народа. Действуя в Кумыкии и Чечне, он, когда возникала надобность, являлся к имаму со своим отрядом джигитов, собранных из разных народов. Неподалеку от Эндирея теперь стояла большая царская крепость Внезапная, Ташав был оттеснен в чеченские леса, но влияние его было по-прежнему велико.
Трепетало на ветру и двухконечное, украшенное цитатами из Корана, белое знамя наиба Сурхая из Коло. Он к тому же был кадием – шариатским судьей аула Ансалта. Сурхай умел воздвигать башни и строить крепости. Мюриды его явили чудеса храбрости, когда защищали Ашильту от Фезе. Так же, как и мюриды Али-бека Хунзахского, который был кадием в Ирганае.
Белое знамя Али-бека, тоже украшенное надписями, реяло неподалеку от знамени Сурхая. Они всегда старались держаться вместе. И вместе атаковали отряд отступавшего Фезе.
Наибы собрались вместе и двинулись навстречу имаму. Один поторопил коня, другой стегнул своего. Они ехали быстрей и быстрей, увлеченные горской страстью к состязаниям, и вот уже скакали во весь опор, соревнуясь в молодецкой удали и показывая силу своих коней.
Шамиль сделал знак остановиться, чтобы его мюриды могли насладиться скачкой.
– Ахбердилав придет первым, – предположил Султанбек.
– Сурхай! – говорил Юнус.
– Смотри, как коня гонит.
– И Ташав не отстанет, – сказал Шамиль.
– У него отличный конь из ханской конюшни.
Наибы уже мчались во весь опор, под гиканье и присвисты мюридов, но раньше других успел пожать руку Шамилю Али-бек.
Разгоряченные наибы кружили вокруг Шамиля, поздравляя с возвращением и сообщая ему о своих походах.
Ахбердилав со смехом рассказывал, как прогнал людей Хаджи-Мурада, своего земляка, из двух аулов, которые те пытались вернуть в покорность хунзахскому хану.
Али-бек считал, что нужно спешно укрепить Ирганай, на который, как он слышал, собирается напасть Хаджи-Мурад, который обид не прощает и непременно захочет отомстить.
Ташав сообщил, что в крепости у Эндирея было большое беспокойство. Верные люди дали ему знать, что в Черкесии умер какой-то важный генерал, и гарнизон привели в осадное положение. Но теперь все успокоилось, и даже снова открылись базары.
Сурхай рассказывал о своем походе в дальние аулы, где ему пришлось заниматься тем же, чем занимался и Шамиль, утверждая шариат и наказывая нечестивцев. И о том, что отправил несколько человек учиться пушкарному делу, как имам и велел. Эти люди направились в Мекку, чтобы совершить хадж. Но затем должны были разойтись по разным тамошним странам, ища знаний и учась тому, чего горцы еще не умели. Артиллерия была главным врагом горцев, и им нечего было ей противопоставить. Безнаказанные обстрелы аулов наносили большой урон и выводили горцев из себя. Порой им удавалось отбить пушку, но для того, чтобы правильно пользоваться орудием, нужны были и особые снаряды, и знания. Горские умельцы пробовали изготавливать пушки сами. Но дальше опытов дело не шло: самодельные пушки разрушались от первого же выстрела.
Подъезжая к лагерю мюридов, Шамиль спросил:
– Почему ваши люди здесь, а не в Чиркате?
Наибы переглянулись.
– Не хотели стеснять людей, – ответил Ахбердилав.
– Ты говоришь не все, – сказал Шамиль, почувствовал в его ответе некоторую неуверенность.
Проезжая мимо костров, Шамиль заметил, что пустые котлы лежат рядом с кострами, а едой даже не пахнет.
– Кое-кто считает, что в Чиркате и так много гостей, – сказал Сурхай.
– Они отказали вам в крове?! – не поверил Шамиль.
– В каждом стаде находится паршивая овца, – сказал Али-бек.
– Не думаю, что это чиркатинцы, но какие-то люди кричали, что разрушат мост, если мы решим войти в аул.
– Знаю я этих мунапиков-отступников, – сказал Юнус.
– Они давно нам вредят.
– Может, боятся, что их мост обрушится под копытами наших коней? – предположил Ташав.
– Тут что-то не так, – сказал Шамиль.
– Чиркатинцы – люди верные и надежные. Они приютили много людей и чтут законы гостеприимства.
Он гневно сжал губы и направился к мосту, велев наибам не отставать. Султанбек и Юнус тоже последовали за имамом.
Чиркатинский мост был построен из бревен, так же, как и другие мосты через горные реки. Мосты эти строились просто. Сначала в берега наклонно вбивалось по нескольку бревен, сверху вбивался другой ряд, который выступал уже дальше первого, а на основание наваливались тяжелые камни. Затем на выступавшие части бревен накладывали в ряд другие, привязывая их к первым виноградными лозами или веревками. Потом клали следующие ряды, пока концы бревен не сходились над рекой в виде арки. Концы связывались тем же способом и покрывались настилом, а вдоль моста приделывались перила. Мосты получались достаточно прочными. А при необходимости их можно было быстро разрушить или сжечь.
За Чиркатинским мостом стояло несколько человек, наблюдая за тем, что происходит в лагере мюридов. Завидев приближающегося Шамиля, они помчались в аул и укрылись в мечети.
Шамиль и его спутники миновали мост и начали подниматься к аулу, когда по нему уже разнеслась весть о прибытии имама.
– Шамиль вернулся! – летело от дома к дому.
Люди выходили навстречу имаму, поздравляя с благополучным прибытием. Но Шамиль был мрачен и холодно отвечал на приветствия.
Среди встречавших Шамиля были и его дети – семилетний Джамалуддин и трехлетний Гази-Магомед.
– Это наш отец! – гордо объяснял товарищам Гази-Магомед.
– Я тоже буду, как Шамиль, – обещали мальчишки.
– Это я буду Шамилем, – спорили другие.
– Я сильнее тебя!
– Куда тебе, – смеялись третьи.
– Ты еще Коран читать не умеешь!
– Умею!
– А зачем же учитель бил тебя палкой?
– Я в одном только месте ошибся, – спорил мальчишка.
– А у вас зато кинжала нет!
– Есть! – сердились его друзья.
– Просто мы еще не наточили как следует. А твоим тупым только собак пугать!
Шамиль слегка улыбнулся своим сыновьям, но продолжал двигаться вперед. Затем к нему подбежали его жены – Патимат и Джавгарат. Горянки взяли под уздцы коня своего мужа и повели его домой, как это было принято в горах. Но Шамиль одернул уздечку и сказал женам.
– Идите домой. У нас будут гости.
Жены забрали детей и поспешили домой.
У мечети Шамиль сошел с коня, отдал повод Юнусу и позвал:
– Эй, кади!
Дверь со скрипом отворилась, и на пороге появился красный от волнения кади.
– Салам алейкум, имам Шамиль, – произнес он, опуская глаза.
– Ва алейкум салам, – ответил Шамиль.
– Я слышал, здесь перестали уважать гостей?
– Кто тебе такое сказал? – развел руками кади.
– Те, кто находится за мостом, те, кто поклялся положить свои головы, чтобы горцы жили как братья и никто не смел посягать на нашу свободу. Так велит нам Аллах. И разве гость не посланник его?
– С этим никто не спорит, – говорил кади.
– Просто некоторым тут кажется, что когда гостей слишком много…
– Ответь мне, кади, бывает ли слишком много братьев?
– Люди, на которых ты гневаешься, ни сделали ничего дурного, Шамиль, – принялся оправдываться кади.
– Они всегда делали и теперь готовы делать все, в чем ты нуждаешься.
– Я нуждаюсь только в том, для чего меня избрал народ, – ответил Шамиль.
– И если человек не может прийти к своему имаму, значит, у него нет имама.
– Может, эти люди и не правы, но и мне кажется, что для Имамата нужна своя столица, – продолжал оправдываться кади.
– Аул переполнен. В мечети не хватает места. Сады – и те полны приезжих.
– Если кто-то из мюридов травил ваши посевы, ломал деревья или обидел хотя бы ребенка, я накажу его так, как велит шариат, – пообещал Шамиль.
– А те, кто на них клевещет, пусть выйдут сюда. Я хочу полюбоваться на их храбрость.
– Лучше пойдем в мечеть и обсудим это дело сами, – предложил кади.
– Ты – судья, – ответил Шамиль.
– И ты знаешь, что полагается за нарушение святых законов. А я не сойду с этого места, пока ты не осудишь преступников. И так будет с каждым, кто коснется моста чем либо, кроме ноги или копыта своего коня!
Кади покорно кивнул. Он собрался было вернуться в мечеть, но затем обернулся и показал глазами на окружение имама.
– Решить дело по шариату нетрудно. Но чтобы привести приговор в исполнение, мне понадобится помощь.
Все тут же сошли с коней, но Шамиль остановил наибов и кивнул на своих помощников.
– Они сами справятся.
Юнус и Султанбек привязали коней к столбу у мечети и вошли в нее вслед за кади.
Глава 10
Курбан, переполненный радостью от предстоящей женитьбы сына, старался гнать отару как можно быстрей. Но когда увидел расположившиеся у дороги мюридов, повернул отару в их сторону.
Мюриды времени не теряли. Кто чистил коней, кто смазывал ружья или точил сабли, кто читал Коран. Курбан поприветствовал воинов, и те отвечали ему с почтением к его сединам, а баранов его будто вовсе не замечали. Курбан знал, что на содержание мюридов выделялись деньги из имамской казны, но и сам решил пожертвовать несколько баранов. Накормить путников – дело богоугодное. Ведь и его сын скоро может оказаться среди них, и его кто-нибудь накормит в походе.
Он смотрел на этих парней и видел, что они из разных мест. Он различал особые черты салатавцев, андийцев, койсубулинцев, гумбетовцев, мехтулинцев, ауховцев, ичкерийцев, кумыков, людей из других обществ и народов. Но было у них всех и нечто общее, что отличает праведников от остальных людей. Шамилю было на кого положиться.
Курбан прикидывал, как бы выглядел его сын среди этих удальцов, а еще ему хотелось показать, что он и сам кое на что годится.
– Джигиты! – крикнул Курбан.
– Дарю барана тому, кто меня одолеет!
– А если одолеешь ты? – оглянулся на него стройный красавец, проверявший патроны в своих газырях.
– Тогда… – Курбан на мгновенье задумался.
– Тогда вспомните меня в своих молитвах.
– Хочешь бороться, отец? – спросил широкоплечий парень, откладывая отточенный кинжал.
– Давай!
Курбан слез с коня, скинул чуху, снял кинжал с пояса и закатал рукава рубахи.
– Валла-билла, – приговаривал крепыш, поплевывал на руки.
– Только потом не обижайся.
– Давай, Сулейман! – поддерживали его друзья, мгновенно собравшиеся в круг.
– Давно не ели жирных баранов!
Сулейман не нападал, выжидая, пока борьбу начнет старший. Курбан сделал отвлекающий выпад, парень невольно отшатнулся, и Курбану хватило этого мгновения, чтобы обхватить Сулеймана за пояс. Удивленный такой ловкостью, Сулейман решил бороться всерьез, резко вывернулся, приподнял Курбана и хотел уже бросить его на землю. Но тот успел зацепить своей ногой ногу соперника, и они упали вместе.
– Все, все! – закричали зрители, беспокоившиеся за Курбана.
– Хватит!
– Ничья!
Соперники поднялись, но Курбан все еще порывался снова вступить в схватку.
– Ладно, отец, ты победил, – улыбался Сулейман, отирая со лба пот.
– Давай еще! – требовал Курбан.
– Я тебе покажу, как надо бороться!
– Видел бы меня отец – уши бы мне оборвал, – сказал Сулейман.
– А как тебя зовут?
– Курбан я, – сказал чабан, миролюбиво пожимая сопернику руку.
– Ты силач, Курбан! – говорили мюриды, тоже пожимая ему руку.
– А шрам такой у тебя откуда?
– Было дело! – кивнул Курбан, одеваясь и возвращая кинжал на место. Затем показал ярлыгой вдаль: – Вон, видите, верхушки торчат? Ахульго! Мы там неделю против пушек стояли, а потом на штыки бросились.
– У меня там брат погиб, – сказал Сулейман.
– Брат? – насторожился Курбан.
– Как его звали?
– Малик из Согратля.
– Не помню, – признался Курбан.
– Из Согратля много людей было.
– Они на подмогу пошли.
– Да будет им доволен всевышний, – сказал Курбан, а затем показал на отару.
– Пять баранов! Они ваши.
Мюриды бросились ловить баранов. Увидев среди пойманных белого барана с лихо закрученными рогами, Курбан сказал:
– Этого оставьте, – чабан подцепил ярлыгой за ногу большого черного барана и передал его мюридам вместо белого.
– Этот мой, а белый – соседа, без разрешения не могу. Да мой, сами видите, пожирнее будет.
На площади у мечети собирался народ. Плоские кровли домов были полны женщин и детей. Посмотреть на то, что станет с отступниками, выбрались даже сгорбленные, будто окаменевшие старухи с орлиными носами. Они так много повидали на своем веку, что их уже трудно было чем-то удивить. Они давно перестали ждать добрых новостей, привыкнув к вестям печальным и горестным, но Шамиль был необычным человеком, которому удавалось то, что было невозможно для других. Из каждой беды он выходил еще более сильным. Посмотреть на такого имама было интересно даже старухам.
– Машаалла! – восторгались одни.
– Астауфирулла! – немели от страха другие.
– Иншаалла! – желали побед Шамилю третьи.
Девушек, успевших принарядиться, больше занимали молодые мюриды Шамиля. Девушки рассказывали про них удивительные истории и старались выяснить, все ли из них женаты. А если и женаты, то сколько у них жен? Две, как у Шамиля, или все четыре, как это разрешено по шариату?
– А какое богатое оружие!
– А какими орлами смотрят!
– Львы, а не люди!
Сам Шамиль давно уже стал для горцев живой легендой. Чудесным было само рождение Шамиля. Вернее, его перерождение. Имя его сначала было Али. Но когда младенец вдруг сильно заболел и оказался на грани смерти, родители прибегли к крайнему средству. В надежде сбить с пути ангелов смерти, когда те явятся за душой Али, ребенку дали другое имя – Шамиль. Мало кто верил, что это поможет, но мальчик стал быстро поправляться и с годами преобразился в юношу, с которым никто и ни в чем не мог соперничать. В руках его всегда были кинжал или Коран, а чаще – и то, и другое. Драться с ним на кинжалах, даже в шутку, мало кто решался, потому что Шамиль так упорно упражнялся, что владел левой рукой не хуже, чем правой, и мог драться обеими сразу. Он будто знал, что ему предстоят испытания, каких еще никто не переносил, и упрямо твердил своей матери, опасавшейся за его здоровье:
– Аллах дал мне это тело не для того, чтобы я жалел его сегодня, а за тем, чтобы оно спасло меня завтра.
Мальчишки рассказывали друг другу про то, как юный Шамиль усмирял самых строптивых коней, про огромную змею, которую он убил, и про многие другие его подвиги, пленявшие воображение. Старики многое подтверждали, особенно то, как Шамиль отучил отца пить вино, поклявшись, что убьет себя на его глазах, но во многое и сами не могли поверить. Но и того, что было несомненной правдой, хватило бы на десяток великих героев. Чего стоила одна Гимринская башня, из которой Шамиль спасся, перепрыгнув через лес штыков, со сквозной раной в груди, которая другим принесла бы верную смерть. Люди верили, что Бог возродил его из мертвых, чтобы он спас живых.
Наконец, открылась дверь мечети, и из нее показались Юнус и Султанбек.
– Что вы там делали так долго? – спросил Шамиль.
– Молились, – сказал Юнус, хитро улыбаясь Султанбеку.
– Возмещали пропущенные в пути молитвы, – кивнул тот.
Вслед за ними, понурив головы, стали выходить те, кто угрожал разрушить мост, чтобы не пускать в аул новые сотни прибывших. Затем вышел и кади, читая на ходу судебную книгу.
– Какое решение ты принял? – спросил Шамиль.
– Они во всем раскаялись, – сообщил кади.
– И, если имам позволит, наказание может быть заменено штрафом.
Шамиль сурово взглянул на преступников и вскочил на коня.
– О люди! Почтенный джамаат! – воскликнул Шамиль, обращаясь ко всему народу.
– Вы дали мне кров, согрели мою семью и не раз явили свою отвагу! Но эти люди хотели бросить тень на славное имя вашего аула. Им не нравится, что мюридов становится все больше. Но разве не для вашей защиты люди становятся мюридами? Не для того ли, чтобы сохранить нашу свободу, они предают себя в руки всевышнего?
– Да, верно! – кричали люди.
– Накажи этих негодяев!
– Они заслуживают наказания, – соглашался Шамиль.
– Но это ваша земля и ваши люди. И на этот раз я решу так, как вы скажете.
– Будь к ним милостив, – попросил Курбан.
– Ради свадьбы моего сына.
– Так и быть, не буду омрачать праздник старому другу, – сказал имам, а затем указал на преступников.
– Я выберу им наказание помягче, чтобы они вспомнили, где живут и что происходит на нашей земле. Пусть каждый из них примет по десять мюридов и угощает как лучших друзей!
Народ одобрительно зашумел. Шамиль уже хотел взобраться на коня, когда Курбан подтолкнул к нему своего сына.
– Так это он? – улыбнулся Шамиль, пожимая парню руку.
– Как тебя зовут?
– Хабиб, – ответил парень.
– Он исполнит твою волю, – торопливо говорил Курбан, опасаясь, что Шамиля что-нибудь снова отвлечет.
– Но вот невеста…
– Кто может отказаться от такого жениха? – удивился Шамиль.
– И от такого мюрида?
– Невеста тоже согласна.
– Так в чем же дело? – не понимал Шамиль.
– Неудобно говорить… Этот кади… Он обещал заключить брак, но теперь мне и самому не хочется с ним связываться. У меня один сын, а кади… Кто теперь будет его уважать?
– Найди другого, – посоветовал Шамиль.
– Или попроси муллу.
– С ним у меня тоже нелады, – опустил голову Курбан.
– Волки его овцу загрызли, а я виноват…
– Выходит, препятствий много, – усмехнулся Шамиль.
– Только лучше жени сына, пока не поздно.
– А не мог бы ты?..
– несмело сказал Курбан.
– Тем более, что у невесты нет отца… А заодно будешь ее представителем, вакилем.
– У нее совсем никого нет, что ты меня об этом просишь? – спросил Шамиль.
– Мать только, – развел руками Курбан.
– Остальные на Ахульго погибли. Она сама меня попросила найти вакиля.
– Разве больше некому сделать доброе дело?
– Ну, это же быстро. А ты – всем ученым ученый. Не откажи, имам. Я на радостях твоим мюридам пять баранов отдал.
Шамиль улыбнулся и отдал уздечку Юнусу:
– Где мать невесты?
– Вон она, – указал Курбан на соседнюю крышу.
– Эй, Хадижат! Ты согласна?
И он принялся делать ей знаки, объясняя, что ее вакилем может стать Шамиль.
– Вай, Курбан! Конечно! Дай Аллах ему счастья и долгой жизни!
– Подойди, – велел Шамиль оробевшему от смущения парню.
Тот подошел.
– Дай руку.
Парень несмело протянул руку имаму. Шамиль взял ее и торжественно произнес:
– Бисмиллягьи ррахIмани ррахIим, что означало «Во имя Аллаха, Милостивого, Милосердного» и без чего не начиналась ни молитва, ни другое богоугодное дело.
Затем он соединил свою ладонь с ладонью парня и сложил большие пальцы так, чтобы палец жениха был чуть выше пальца представителя невесты, после чего накрыл их указательным пальцем своей левой руки и произнес:
– С помощью и с соизволения Аллаха и по пути, указанному пророком, отдаю невесту за… – Он повернулся к Курбану.
– За сколько отдают невесту?
– Договорились за пятьдесят серебряных монет.
– Много, – сказал Шамиль.
– Так у нас все холостыми останутся. Скажи ее матери, чтобы отдала за десять.
Курбан бросился к Хадижат, внимательно наблюдавшей за брачным сговором, и принялся горячо обсуждать с ней новые условия. Растерянная Хадижат только всплеснула руками и согласно закивала, испуганно поглядывая на Шамиля.
– Согласна, – сообщил Курбан, возвращаясь к важному делу.
– Отдает!
Шамиль повторил условия договора и спросил парня:
– Берешь ли ты ее в жены?
– Беру, – взволнованно ответил Хабиб.
Они повторили вопрос и согласие три раза. После чего Шамиль прочитал благословляющую молитву, объявил брак заключенным и снова взобрался на своего коня.
Счастливый отец похлопал сына по плечу:
– Ну, готовься к свадьбе.
– А когда играть будем? – растеряно спросил Хабиб.
– Чем скорее – тем лучше. Шамиль так сказал.
Хабиб приложил руку к сердцу и обратился к Шамилю, не смея смотреть имаму в глаза.
– Великий имам! Когда мне приходить в мюриды?
– Через год, – улыбнулся Шамиль.
– Когда станешь отцом. Если не передумаешь. И если разрешит твой отец.
Глава 11
В доме Шамиля ждали гостей.
В просторной кунацкой стояла большая тахта, накрытая красивым войлоком и с небольшими подушками вдоль стены. Посреди комнаты – невысокий стол с треугольными стульями. Потолочные балки подпирал резной деревянный столб, на котором висело множества разного оружия и были вырезаны стихи из Корана. В стенных нишах лежали книги и четки. В углу были сложены коврики для намазов, и рядом стояло знамя Шамиля. Пол украшал палас, на стенах висели ковры, а окна были затянуты промасленной бумагой, едва пропускавшей свет.
В кунацкой всегда было прибрано. Но следовало еще много чего приготовить, потому что к Шамилю, как правило, приезжали непростые гости.
Еще очень молодая Джавгарат, на которой Шамиль женился совсем недавно, носилась по дому, доставала из холодного погреба масло, сыр, мясо, муку, наливала в пиалы мед. А еще нужно было сходить за водой, испечь хлеб и растопить самовар, то ли купленный на базаре в Шуре, то ли отбитый в какой-то стычке.
Все свое детство она слышала про необыкновенного гимринца Шамиля, а теперь сама стала женой имама. Чтобы Шамиль был ею доволен, Джавгарат старалась ладить с его первой женой Патимат. У той уже было два сына, и она по праву была в доме полновластной хозяйкой. Джавгарат слушалась ее, и это шло на пользу молодой жене. А если и случались между ними размолвки, то лишь по причине излишнего усердия Джавгарат.
Новая жена еще не совсем освоилась в доме имама, и всей ей было в диковинку. Но Джавгарат твердо усвоила, что Шамиль относится к ней тепло, и старалась угодить мужу как могла. Особенно хорошо у нее получалась каша из кураги с урбечем – густой подливой из молотых семян льна и косточек абрикоса, меда и масла. Готовить ее надо было уметь, и Джавгарат старалась, потому что Шамиль всегда хвалил ее блюдо, несмотря на свою воздержанность в еде.
В душе Джавгарат чувствовала, что Шамиль к ней не просто добр, но любит ее, хотя и старался сдерживать свои чувства. Джавгарат тоже молчала о своей тайной радости. Не рассказывать же об этом Патимат? У них и без того было о чем поговорить. И выходило, что две жены – лучше, чем одна, когда глава семьи так редко бывает дома. Не так сушило душу одиночество, а скучать и вовсе было некогда. В доме имама всегда было полно хлопот.
Джавгарат помогала Патимат с детьми, уследить за которыми становилось все трудней. Вот и теперь Патимат варила хинкал на вделанном в стену очаге, а попутно умывала и наряжала детей, которые успели изодрать свою одежду в бесконечных странствиях по аулу. Как тут не помочь? Эти мальчишки давно стали ей как родные. Они были в своего отца. Вот и Шамиль, хоть и имам, а воюет порой, как обычный мюрид. И бешмет, и черкеска его после походов приходят в такой вид, что починить их нет никакой возможности. Приходится доставать новые. На этот раз Джавгарат сшила ему белую черкеску, такие Шамилю нравились больше других.
И только по ночам Джавгарат прислушивалась к себе – ей начинало казаться, что под ее сердцем уже бьется новая жизнь. Пусть это будет сын. У такого отца должно быть много сыновей, славы на всех хватит. А ее сын и сам станет славным джигитом. И она будет им гордиться.
Патимат была замужем уже восемь лет. Но перенесла за эти годы столько, что другим хватило бы на всю жизнь. Не успела она стать женой Шамиля и родить сына, названного Джамалуддином в честь наставника Шамиля, как муж ее чуть не погиб в башне под Гимрами. Тогда она успела убежать с младенцем к своему отцу в Унцукуль. Туда же чудом добрался и полуживой Шамиль. Слава Аллаху, что отец ее Абдул-Азиз – искусный лекарь. Несколько месяцев Шамиль находился на грани жизни и смерти, отец выбивался из сил, добывал травы для особых снадобий, а она выхаживала мужа и молила всевышнего сохранить ему жизнь.
Шамиль выжил. И первым делом отправился помогать новому имаму Гамзат-беку. Снова началась беспокойная, полная волнений жизнь, когда, прощаясь с мужем, она не знала, вернется ли он обратно.
А когда погиб Гамзатбек и имамом избрали Шамиля, она и вовсе потеряла покой. У нее родился еще один сын, названный Гази-Магомедом в честь первого имама. Семья росла, а постоянного дома все еще не было. Приходилось часто переезжать из аула в аул, обустраиваться на новом месте и думать, куда придется перебираться в следующий раз, что брать с собой, а что оставить или раздать и куда девать корову? Битвы следовали за битвами, ханы подсылали убийц, звали на помощь царские войска, и конца этому ужасу не было видно.
Красота ее увядала от вечных переживаний. Забот прибавлялось с каждым днем. Раньше ей завидовали подруги, а теперь Патимат завидовала тем, чьи мужья занимались своими делами и в войну старались не ввязываться. Когда Шамиль женился во второй раз, Патимат стало немного легче. Она не видела в этой наивной Джавгарат соперницу. Она втайне жалела ее, не знавшую, как трудно быть женой имама, тем более такого, как Шамиль, который думает о чем угодно, кроме себя и своей семьи. И не понимает, что подарки, которые он им присылает, когда долго не может вернуться, эти красивые шали и украшения, ничто по сравнению с покоем и счастьем, которые бы обрели жены, будь он рядом с ними.
За окнами послышался цокот копыт и зафыркали кони.
– Отец едет! – закричал с террасы Джамалуддин.
Джавгарат бросилась к окну и увидела, что к дому подъезжает Шамиль с наибами и своими вечными спутниками – Юнусом и Султанбеком.
– Не забудь приготовить чай, – велела Патимат, накладывая на чеканный поднос угощения.
– Как только помолятся, все должно быть готово.
Джавгарат разожгла самовар, бросив в трубу уголья из очага. Затем достала фабричный чайник и принялась накладывать заварку: обычный чай, немного шиповника, розовых лепестков, чабрец, листок мяты, чуть-чуть тмина. Такой чай был почти лекарством.
Джамалуддин слетел с террасы и принялся открывать ворота. Шамиль и гости спешились. Наибы следом за имамом вошли в дом и поднялись по лестнице на второй этаж. Обычно лестницами в саклях служили толстые бревна, на которых вырубались ступени, но для имама чиркатинцы сделали настоящую каменную лестницу, как у ханов. Да и кто были эти грешники по сравнению с имамом?
Мюриды сняли с коней седла и внесли их во двор. Затем Юнус повел коней на водопой, а Султанбек закрыл ворота и принялся насыпать овес в торбы для лошадей.
Когда приезжали гости, у Джамалуддина появлялись свои обязанности. Сначала он уважительно жал протянутые ему руки, коротко отвечал на приветствия, а затем брал небольшой кувшин с изогнутым носиком и лил воду, помогая гостям совершать омовение. Вот и в этот раз не успели гости войти, как с минарета запел будун, призывая правоверных на молитву.
Пока совершалось омовение, маленький Гази-Магомед, уже понимавший что к чему, расстелил коврики для намазов, один – впереди для отца, а остальные – за ним в ряд по числу гостей.
Шамиль встал на молитву, поднял к голове раскрытые ладони и произнес азан. Гости повторяли молитвы шепотом, а где полагалось подхватывали вслух, следуя за имамом по заведенному порядку.
Среди молитв, произносимых во время намаза, были две непременные. Первая сура Корана «Аль-Фатиха» или «АльхIам» – «Открывающая» возвещала:
Во имя Аллаха, Милостивого, Милосердного. Хвала Аллаху, господу миров, Милостивому, Милосердному, Царю в День Суда! Только Тебе мы поклоняемся и только Тебя просим о помощи! Веди нас по дороге прямой, По пути тех, которых Ты благодетельствовал, А не тех, которые находятся под гневом, и не заблудших.
В сто двенадцатой суре «Аль-Ихляс» или «Къулгьу» – «Очищение» говорилось:
Во имя Аллаха, Милостивого, Милосердного. Скажи: Он, Аллах – Един, Аллах – Вечный, Не родил и не был рожден И не был Ему равным ни один!
Позади старших успели стать и сыновья Шамиля. Джамалуддин уже все знал и умел, а Гази-Магомед старался повторять за братом и был горд, что хотя бы в молитве он такой же, как и взрослые.
Когда молитва закончилась, Шамиль сел на тахту, поджав под себя ноги. Ахбердилав с Ташавом-хаджи последовали его примеру. Сурхай и Али-бек сели на стулья, чтобы видеть лица свои друзей.
Жены Шамиля принесли угощения. Уходя, они хотели забрать мальчиков, но Шамиль сказал:
– Пусть расскажут, как у них дела. Все же Джамалуддин оставался старшим мужчиной в доме.
– Все хорошо, отец, – сказал Джамалуддин, почтительно опустив глаза.
– Доволен ли тобой учитель?
– Я стараюсь.
– Я слышал, он делает успехи, – похвалил Сурхай.
– Идите, – велел детям Шамиль, не считая правильным, что их хвалят при отце.
– Потом поговорим.
Дети убежали.
– Отпусти его со мной в Ирганай, я сделаю из него настоящего алима, – сказал Али-бек.
– Здесь тоже есть хорошие ученые, – сказал Шамиль.
– А кади пора сменить, – сказал Ахбердилав.
– У меня есть подходящий, – кивнул Ташав.
– Аул сожгли, теперь без дела в лесу сидит.
– Дела всем хватит, – улыбнулся Шамиль.
Затем произнес: «Бисмиллягьи ррахIмани ррахIим» – и положил на кончик языка несколько крупинок соли.
– Бисмилля… – повторили гости, принимаясь за еду.
Тем временем дети Шамиля испытывали силу Султанбека. Любимым их занятием было смотреть, как он поднимает тяжеленный каток, вытесанный из горного мрамора. Им утрамбовывали после дождя земляные крыши домов. А так как двор одного дома зачастую был крышей другого, то от этого выходила двойная польза.
Султанбек легко поднял каток и поставил его стоймя. Затем вынул саблю и чиркнул ею о каток, да так, что полетели искры.
Мальчишки заворожено наблюдали. Джамалуддин провел по катку своим кинжалом – и тоже полетели искры. Гази-Магомед ухватился за брата, требуя дать кинжал и ему. Заполучив кинжал, он принялся царапать им каток и смеялся от счастья.
Когда ужин был закончен, когда унесли самовар, Шамиль сказал:
– Алхамдуллиля.
И все прочитали благодарственную молитву, прося всевышнего уделить душам ушедших в мир иной долю из того, что они съели за этим столом.
Затем явился Гази-Магомед с кувшином, чашей для мытья рук и полотенцем. Покончив с трапезой, Шамиль перешел к делам, ради которых они собрались.
В горах не только просыпалась природа, гораздо важнее было, что обновлялась, очищалась вера. Люди, освобождавшиеся от невыносимых оков своих давних владетелей, начинали понимать, что счастье неразрывно связано со свободой, что Шамиль не стяжает богатства, а трудится для их блага. Позор хоть и неявного рабства все более тяготил зависимых горцев, когда другие, по соседству, давно жили по своей воле, а если приходилось – с оружием в руках отстаивали свою независимость.
– Ханы почуяли, что под ними зашаталась земля, – говорил Али-бек Хунзахский.
– Они боятся, – добавил Сурхай Колинский.
– Уже сами рады, что царь строит на их землях крепости, надеются отсидеться за высокими стенами.
– Наш враг – не русские, – говорил Шамиль.
– С ними можно поладить, когда имеешь дело с умными генералами. Царю от этой войны никакой пользы. Вся беда от своих, от знати, которая никак не хочет расстаться со своими правами. Вот эти алчные шайтаны и ищут от нас защиты.
– Будь поблизости турки или персы, они бы и за их армиями спрятались, – согласился Ахбердилав.
– Люди от них устали, – говорил Шамиль.
– Когда ханы боролись против иноземцев, народ был с ними. Но теперь они пошли против своего народа и против нашей веры. Когда я читал проповедь в одном ауле, люди сказали, что проповедь может быть и покороче, главное, чтобы сабли были подлиннее.
– Это верно, – кивнул молчавший до того Ташав-хаджи Эндиреевский.
– Но здесь, в Дагестане, воевать трудно.
– И нам трудно, и генералам нелегко, – не соглашался Сурхай.
– Нельзя оставлять Дагестан, – поддержал его Ахбердилав.
– Лучше очистим его от недругов.
– Тут каждый аул – крепость, – говорил Сурхай.
– И до них еще добраться надо.
– В Чечне – совсем другое дело, – убеждал Ташав.
– Леса! И укрыться легко, и до царских крепостей близко. Оттуда хоть каждый день нападай.
– Леса вырубить можно, – сказал Али-бек.
– А скалы никуда не денутся.
– Скалы тоже не железные, – сомневался Ташав.
– Русские пушки вон что с Ахульго сделали, весь аул разнесли.
– Не так надо было строить, – сказал Сурхай.
– Всегда так строили, – возразил Али-бек.
– Адаты тоже были всегда, зачем же мы их искореняем? – спросил Шамиль.
– Потому что шариат лучше, – согласился Али-бек.
– Как одна большая крепость вместо сотен башенок.
– Так как же теперь надо строить? – допытывался Шамиль у Сурхая, зная его инженерные способности.
– Я кое-что придумал, – ответил Сурхай.
– Но сначала надо испробовать.
– Они обкладывают нас со всех сторон, – сказал Ахбердилав.
– Так что ты, Сурхай, думай, но только поскорей.
– Нам нужна не просто крепость, – сказал Шамиль.
– Нам нужна неприступная столица Имамата. В Чиркате и в самом деле становится тесно.
– Мы построим такую крепость, какой еще не было! – пообещал Сурхай.
– Люди должны видеть, что мы никого не боимся, – говорил Шамиль.
– Должны знать, что мы всегда готовы придти на помощь, тогда и они нас не оставят, если придется трудно. Нужно выбрать такое место, откуда можно угрожать врагу и быть для него недоступным.
– Аргвани, – предложил Ахбердилав.
– Крепкий аул.
– И расположен хорошо, – согласился Сурхай, – Но это аул. Его не переделаешь, как я задумал.
– Может, лучше уйти в Чечню? – напомнил Ташав.
– Их леса не так легко вырубить.
– Твои укрепления нам еще пригодятся, – сказал ему Шамиль.
– Но я думаю об Ахульго.
– Ахульго? – удивился Ахбердилав.
– Генералы уже знают туда дорогу, – сказал Али-бек.
– Они ее забудут, – пообещал Сурхай.
– Увидите, во что я превращу Ахульго!
Чтобы положить конец сомнениям, Шамиль твердо сказал:
– Лучшего места нам не найти.
Они еще долго обсуждали положение, сложившееся в Дагестане. Все менялось в пользу Шамиля. Но ясно было и другое: ханы и их защитники-генералы недолго будут терпеть эту горскую вольницу и всеми силами попытаются ее задушить.
Вопрос был в том, насколько окрепнет Имамат до того, как за него всерьез примутся генералы.
Затем перешли к другим делам. Решили, в каких аулах построят пороховые заводы, и освободили от военных походов жителей аулов, доставлявших серу. Договорились, как обеспечить всем необходимым ружейных мастеров. Поручили Али-беку открыть новые школы для детей мухаджиров, прибывающих в Имамат из других мест. Условились о ценах, по которым будут платить за продовольствие. И решили еще множество насущных дел.
Секретарь Шамиля Амирхан Чиркеевский лежал раненый, и его пока заменял старший сын Шамиля Джамалуддин, писавший красивым почерком.
Но сначала, чтобы немного развлечь гостей, Шамиль позвал младшего сына Гази-Магомеда и велел ему принести все, что нужно для письма. Тот понятливо кивнул и через минуту притащил старый дедовский кинжал. Гости похвалили древнее оружие, а Шамиль с деланной строгостью велел сыну все же принести бумагу, калам и чернила. Тот снова убежал и вернулся с пистолетом, саблей и ружьем, которые волок по полу с радостным усердием. Гости одобрительно улыбались.
– Вот видите, – сказал Шамиль.
– Даже этот ребенок знает, что законы в горах пишутся не чернилами, а кинжалами.
Затем он сделал знак Джамалуддину, который унес оружие, принес то, что было нужно, и приготовился писать.
– От повелителя правоверных Шамиля его братьям, – начал диктовать Шамиль.
– Мир вам. А затем…
Наутро, когда разъезжались наибы, аул был охвачен праздничной суетой. Женщины шли в дом невесты, чтобы помочь и поглядеть на приданное. Принарядившаяся молодежь гарцевала на конях, а празднично одетые девушки спешили стайками к роднику. У реки резали баранов и чистили песком большие котлы. На площади разводили костры.
Весь день Шамиль принимал посетителей, которые прибывали из разных аулов к верховному правителю за помощью, за советом, за разрешением трудных споров или с жалобами.
Имам выслушивал людей, принимал решения, а затем писал письма наибам, кадиям, джамаатам аулов и обществам. Среди посетителей попадались и клеветники, которых Шамиль сразу распознавал по их мерзким повадкам. Таким он отвечал:
– Твой наиб потому сделан наибом, что он умный, честный и ученый человек; к тому же он разбирал твое дело и знает его лучше меня. Стало быть, оно решено по справедливости. Ступай себе с Богом.
А следом слал письмо самому наибу: «О благородный брат, никогда не думай, что я помышляю относительно тебя, поверив словам доносчиков, клевещущих на тебя. Я испытал на себе деяния людей с давних пор и понял, что многие из них поступают, как собаки, волки, лисы и дьявол-искуситель. Приободрись. Распоряжайся в своем вилайете, руководствуясь высокочтимым шариатом. Запрещай им неприличные дурные поступки и распутство. Избавь себя и семью свою от того, что ненавистно твоему господу, и люди будут довольны тобой».
Курбан не стал откладывать свадьбу сына. К вечеру запела зурна, застучали барабаны и затрещали выстрелы. Это свита жениха направлялась за невестой. Заводилой процессии был шут – голосистый и бойкий парень, который за словом в карман не лез и назывался «ишаком». Следом шли аксакалы, женщины и дети. Была здесь и жена Шамиля Джавгарат, которой было интересно увидеть, похож ли этот свадебный обряд на то, как проходят свадьбы в ее родных Гимрах. И ей казалось, что ее выдавали замуж куда скромнее, а тут веселье било через край. Сын пастуха женился куда шумнее, чем имам.
Невесту выдавали не из ее дома, а из дома соседей, как было принято. Предводитель процессии попросил разрешения войти в дом и, получив его от матери невесты, перешагнул порог, приветствуя окружение новобрачной в самых почтительных выражениях. Следом вошли остальные. Гостей пригласили за стол, угостили как следует и вдоволь посмеялись над шутками-прибаутками шута-заводилы. Но когда друг жениха попросил разрешения отпустить новобрачную к мужу, ему для начала отказали. Лишь когда он повторил просьбу несколько раз, уверяя, что супруг ее не вынесет долгого ожидания, появилась, наконец, и невеста, закрытая платком, украшенная монистами, кольцами, браслетами и в старинном серебряном поясе, который обхватывал ее стройный стан.
Невесту провожали песнями, благословляя на счастливую жизнь, желая ей доброго мужа и много сыновей. Лица женщин сияли радостью, и только мать роняла слезы, как и ее дочь, покидавшая отчий дом.
До мужнего дома было недалеко, но сопровождавшая новобрачную процессия, состоявшая из ликующей свиты жениха, женщин, несших на головах подарки, и лошадей, нагруженных сундуками с приданным, шла долго. Свадебное шествие часто останавливали мальчишки, преграждая путь и требуя выкуп. Мелкие монеты и сладости постепенно расчищали путь, и, наконец, суженая добралась до своего нового дома.
Мать Курбана встретила невестку у входа, помазала ей губы медом, чтобы жизнь ее была сладкой, и повела в дом под величальную песню, которую пели собравшиеся вокруг женщины. Но невеста остановилась у порога и не переступила его, пока к ней не вывели корову и не надрезали ухо в знак того, что корова поступает в распоряжение новобрачной.
Когда невеста вошла в дом своего жениха, снова затрещали выстрелы, заиграла музыка, и молодежь пустилась в яростную лезгинку. Родственники новобрачного принялись осыпать невесту деньгами и зерном в знак будущего благополучия, а дети бросились собирать монеты.
Тем временем новобрачную усадили в особый угол, занавешенный тонким ковром, а гостей усадили за свадебный стол и принялись угощать всевозможными яствами. За отдельным столом сидел новоиспеченный муж, над которым неустанно подшучивали его приятели. Новобрачному полагалось помалкивать, а отвечал за него друг, которому приходилось отдуваться за пребывающего в счастливой эйфории приятеля.
Приходили все новые гости со своими подарками. Пришла, наконец, и Патимат. Она поздравила невесту и подарила ей красивые серьги, с которыми рассталась не без сожаления.
Звали на свадьбу и Шамиля, но сначала он был занят посетителями, а потом и сам не спешил идти. Шумное веселье казалось ему неуместным, когда в горах было так неспокойно. Праздные развлечения с музыкой и танцами сделались большой редкостью, исключение делалось только для свадеб. Но не оказать уважение старому другу Шамиль не мог и пришел поздравить молодоженов.
Веселье продолжалось до полуночи, когда новобрачных проводили в отведенную им комнату, а друг жениха занял пост у дверей, чтобы молодых никто не посмел потревожить.
Глава 12
Пока кони мчали Павла Христофоровича Граббе через необъятные просторы, отделявшие Кавказ от Петербурга, у него было время поразмыслить.
От Чернышева он ожидал всего. Этот царедворец достиг такого могущества, что дерзить ему снова у Граббе не хватало духу. Тогда, после расследования дела декабристов, император остался так доволен Чернышевым, что в день своей коронации, 22 августа, возвел его в графское достоинство.
То, что вызов в Петербург – затея Чернышева, Граббе не сомневался. Но что могло теперь вызвать неудовольствие военного министра? Неужели Граббе был неосторожен в высказываниях? Или жена сболтнула лишнего после его ночных исповедей? Или злосчастный Анреп снова выставил его на посмешище?
Граббе терялся в догадках, и оттого еще более холодела кровь, еще глубже натягивал он генеральскую шляпу с плюмажем и туже запахивал неудобную шинель, под которой топорщились генеральские эполеты.
Как ни гордился Граббе своими подвигами, а должен был признать, что и Чернышев был вояка не из последних. Аустерлиц, Наполеоновские кампании, взятие в плен французского генерала Риго и отбитие у врага двух русских генералов – Нарышкина и Винценгероде – это чего-то стоило. Граббе довелось отвозить письмо Александра к Наполеону, и он этим весьма гордился. Однако Чернышев превзошел его и на этом поприще, несколько лет прослужив обоим императорам доверенным курьером. И до того расположил к себе Наполеона, что тот был несказанно рад, когда Чернышева сделали постоянным представителем России при французском императоре. А уж там Чернышев столько шпионов наплодил, что после его возвращения в Россию их еще долго ловили и отправляли на гильотину, как Мишеля из Военного министерства.
Заслуг у Чернышева хватало, приходилось это признать, но высокомерного к себе отношения Граббе простить ему не мог. И ему казалось странным, что неоспоримая храбрость может соседствовать в столь высокопоставленном вельможе с хамством и банальным волокитством. Конечно, если молва не врет насчет любовницы Чернышева и несчастного Траскина, которому пришлось на ней жениться. Впрочем, военный министр в его прощении не нуждался. А что он задумал на этот раз, Граббе не мог и предположить. От мрачных предчувствий Граббе лишился сна. Вместо этого он впадал в некое оцепенение, проваливаясь в какую-то гудящую тьму. И там ему снова являлась ужасная гора, жаждущая его раздавить.
Вот уже начался Петербург, где Граббе все было знакомо. Нависли мрачные здания, засверкали золоченые шпили, замелькали на улицах бледные лица петербуржцев. А кони несли смятенного Граббе туда, ко дворцу, в лицемерные объятия смертельного врага.
Экипаж остановился у Зимнего дворца. Граббе ступил на Дворцовую площадь и замер от изумления. Зимний дворец, гнездо императоров, был сожжен. Только теперь Граббе начал вспоминать, сколько шуму наделал этот пожар 1837 года, когда по неосторожности прислуги сгорел великолепный дворец. Едва успели спасти гвардейские знамена и портреты из Фельдмаршальской залы да образа и святые мощи из дворцовой церкви. Огонь пощадил Эрмитаж, примыкавший к Зимнему, зато уничтожил парадные залы и покои императора.
Зимний все еще стоял без крыши, с пустыми обгорелыми глазницами окон. Граббе приехал не туда. Он решил, что это дурной знак, но ничего не оставалось, как ехать в Военное министерство.
Оно располагалось неподалеку, на Адмиралтейском проспекте, в бывшем доме князя Лобанова-Ростовского. Совет, две канцелярии и семь департаментов трудились здесь не покладая рук, зная тяжелый нрав своего начальника.
Встретивший Граббе дежурный адъютант сообщил, что князь теперь в Петергофе, у императора, куда и ему велено было ехать по прибытии в Петербург.
Измученный тревожной неизвестностью, которой он желал положить конец, Граббе бросился в Петергоф. И эти последние без малого тридцать верст вдоль Финского залива показались ему чуть ли не длиннее тех тысяч, которые он уже проехал.
Чтобы успокоиться и взять себя в руки, Граббе решил взойти ко дворцу через Аллею фонтанов и Большой каскад. Великолепие Петергофа наполнило душу Граббе благодатью. Посреди этого грандиозного величия, казалось Граббе, не могло существовать ничего, кроме царственного милосердия. Титаническая фигура золоченого Самсона, раздирающего пасть «шведского» льва, казалась восторженному Граббе олицетворением самого императора, наказующего клевету и лицемерие.
Переведя дух и перекрестившись, Граббе вошел в Большой дворец. Дежурные офицеры отдали ему честь, лакей принял шинель. Граббе подошел к стоявшему у стены большому зеркалу в затейливой раме и оглядел себя с головы до ног. При полной парадной форме, в треугольной шляпе с плюмажем он смотрелся внушительно.
Во дворце было суетно. Бегали вестовые, что-то возбужденно обсуждали сановники, торопились по срочным делам адъютанты. И никому не было дела до Граббе, который велел доложить о себе и прогуливался по дворцу, любуясь его убранством.
Император Николай I принял его в Аудиенц-зале, слепящая роскошь которого повергла Граббе в необыкновенное для него смирение.
Николай спросил Граббе о здоровье, о семье, но так, будто самого Граббе здесь не было. Император считал его доблестным генералом, но плохим подданным.
Граббе отвечал коротко, с глубоким почтением и ждал, когда будет произнесено главное, то, для чего его вытребовали из далекого Пятигорска. Но император уже смотрел в окно, как если бы вовсе позабыл про Граббе. Павел Христофорович вопросительно поглядывал то на генерал-адъютанта Адлерберга, то на дежурного генерала, но и те смотрели куда-то мимо. Все это повергало Граббе в трепет. Но тут вдруг император начал говорить:
– Милостивый государь, известно ли вам, что горцы упорствуют?
– Так точно, ваше императорское величество, – с готовностью ответил Граббе.
Но государю такой ответ не понравился. Он вообще не ждал от Граббе ответа. Он говорил сам с собой.
– Эти бунтовщики не поспешили воспользоваться нашей милостью. Шамиль не вышел. А я был там, в Тифлисе, и кавказские начальники докладывали, что он покорился.
Граббе только кивал, не смея перебивать императора и все еще не понимая своей связи с Шамилем.
– Горцы шалят, – продолжал император.
– Это более не может быть терпимо. Вся Европа у моих ног, а эти абреки мнят из себя революционеров. Те же гибельные идеалы! Те же эфемерные иллюзии!
Свобода! Независимость! И где? Не в просвещенной Европе даже, а в дикой горной стране, где и понятия не имеют о том, что есть демократия! Зачем же лезть на штыки из одного лишь ложного понятия о свободе? Не потерплю!
Граббе собрался было изложить свое мнение, но император обернулся к Граббе и с некоторым удивлением посмотрел на его бакенбарды, как в зеркало. Вместо ответа Граббе опустил голову еще ниже, почувствовав, что переусердствовал в своем стремлении походить на императора хотя бы внешне.
Николай вспоминал свою поездку и находил все больше поводов для неудовольствия. Каждый новый командующий брался усмирить горцев в два счета, а эта «малая», «внутренняя» война длится уже двадцать лет. Кавказская война представлялась ему чем-то неприятным, но необходимым, как докторское кровопускание. Только вот генералы были плохие доктора, они умели пустить кровь, но остановить ее были не в состоянии.
Фельдмаршал Паскевич со своим «проектом двадцати отрядов» потерпел фиаско, хотя ему были даны все средства. Генерал Розен, протеже Чернышева, тоже мало чего добился. Ему даже Шамиль не поверил, когда тот звал его на аудиенцию к самому императору. Зять его, командир Эриванского гренадерского полка флигель-адъютант Дадиани, проворовался. Император самолично сорвал с него эполеты и сослал в Бобруйск охранять арестантов. Хорошо, у Розена ума хватило самому подать в отставку. Вместо него командиром Отдельного Кавказского корпуса Николай назначил генерала Головина. Но все осталось по-прежнему. Противореча друг другу, генералы слали удивительные реляции: если собрать их вместе, выходило, что на Кавказе и горцев уже не осталось, и горы с землей сровнены. Тогда с кем они там еще воюют? Шеф корпуса жандармов Бенкендорф докладывал, что в армии брожение умов, кругом обман и предательство, казнокрадство превысило все мыслимые размеры, а на дорогах разбои. Уже сами войска стреляют и грабят проезжих.
На Черном море настроили укреплений, но это мало помогало усмирению черкесов. Крепости, города и вся Военно-Грузинская дорога постоянно находились на осадном положении. В Дагестане как будто все спокойно, но Николай подозревал в этом спокойствии зреющую бурю. Император снова оглянулся на Граббе и холодно спросил:
– Доколе?
Граббе начал догадываться, зачем его позвали.
Вдруг застучали каблуки, и в залу торопливо вошел Чернышев. В руках у него была красная папка с золоченым вензелем.
– Ваше императорское величество! – говорил Чернышев, не обращая внимания на Граббе.
– Во исполнение высочайшего повеления составлены проекты о новых назначениях.
– Дайте, – Николай требовательно протянул руку.
Чернышев достал из папки бумагу и с поклоном подал императору. Император уже не доверял ему, как раньше. Особенно после поездки на Кавказ. Протеже Чернышева привели дела края в совершенный хаос и мало что сделали для умиротворения горцев. Их кинжалы ставили под сомнение репутацию Николая как монарха всесильной державы. К тому же казна – не скатерть-самобранка, чтобы реки денег всякий раз исчезали в глухих ущельях Кавказа.
Император наскоро проглядел бумагу и несколько разочарованно отдал ее своему флигель-адъютанту.
– Изволите одобрить? – просил Чернышев.
– Возможно.
– Николай многозначительно взглянул на Чернышева и удалился со своей усыпанной орденами свитой, хотя сам, как и Граббе, носил только орден Святого Георгия, но выше классом.
Наконец, военный министр обратил внимание и на генерал-лейтенанта.
– Павел Христофорович! – расцвел он, обнимая Граббе.
– Несказанно рад вас видеть.
– Я тоже, граф, – пожал Граббе протянутую руку.
– Как добрались? Как драгоценная ваша супруга? Детки радуют?
– Благодарю, ваше сиятельство, – отвечал Граббе, не ожидавший такого участия.
– Все в полном здравии.
– Очень радс, очень радс, – сладко улыбался Чернышев.
– А то, знаете ли, Кавказ…
Александр Иванович Чернышев, генерал от кавалерии, был еще молодцеват. Он был бы совсем орел, если бы не предательские мешки под глазами – следствие дворцовых интриг и ночных похождений.
– Государь разгневан, – перешел к делу Чернышев.
– А монарший гнев – событие государственное, я бы даже сказал – политическое.
– Я, собственно, не совсем понимаю, – сказал Граббе.
– Верно, – согласился Чернышев.
– Не все могут понимать нашего государя. Но я объясню. Велено покончить с Шамилем, если не покорится.
– Давно пора, – кивнул Граббе.
– Шалит, как изволили выразиться их императорское величество.
– Дерзит! – поднял палец Чернышев.
– Так вот и нам дерзкий человек надобен, – со значением сказал Чернышев.
– Вы, Павел Христофорович.
– Я?
– Больше некому. Заступите на место Вельяминова… Достойное поприще, не правда ли?
В дружеское расположение к нему Чернышева Граббе не верил. Но воля императора – совсем иное дело. Он лихорадочно соображал, как ему теперь следует себя поставить, но Чернышев не давал ему сосредоточиться.
– Знали бы вы, любезный Павел Христофорович, каких трудов мне стоило убедить императора забыть прежние недоразумения…
Чернышев с большим удовольствием засадил бы Граббе на гауптвахту. Стоило лишь перетряхнуть дело декабристов, в котором всегда отыщется новый предлог. Но фрейлина наплела что-то императрице про письмо своей кузины, что-де Граббе мечется, как лев в клетке, и с прискорбием взирает на неумелые действия кавказских начальников. Император к супруге прислушался.
Чернышев пытался убедить императора, что Граббе – не та фигура: слишком прямолинеен. Но императору, вернувшемуся из поездки на Кавказ в дурном расположении духа, именно эта прямота Граббе и показалась необходимой для дела. Именно такой генерал, упрямый, с апломбом и непризнанием авторитетов, желанием выслужиться, был надобен против Шамиля. Перемены, произведенные императором на Кавказе, замены начальников и неудовольствие, выраженное им Генеральному штабу, дела не поправили. И, когда неожиданно скончался Вельяминов, император вспомнил о Граббе.
Это было очень некстати. У Чернышева был свой, преданный ему человек, которого он прочил на место Вельяминова. Но теперь было поздно. Нужно было исполнять высочайшее повеление. Только Чернышев был далеко не так прост, чтобы облагодетельствовать своего врага, не связав его сначала по рукам и ногам.
– Таким образом, осталось лишь дождаться высочайшего приказа о назначении вашем командующим войсками на Кавказской линии и в Черномории. Надеюсь, император с этим не замедлит.
– Вы во мне не ошибетесь, граф, – сказал Граббе, окрыленный нежданной милостью императора.
– А по прибытии на Кавказ, по вхождении в дела вверенной вам области не замедлите представить соображения к скорейшему приведению горцев в покорность.
– Всенепременно, – кивнул Граббе.
– А пока извольте полюбопытствовать.
– Чернышев достал из папки бумагу.
– Плоды трудов отважного генерала Фезе, выпустившего Шамиля, когда он был почти у него в руках.
Граббе взял бумагу. Это был перевод письма Шамиля к Фезе после заключения с ним договора.
– Читайте, читайте, – настаивал Чернышев.
– По письму выходит, что генерал взял на себя смелость признать Шамиля равным его величеству императору, а его Имамат – особым государством!
В письме говорилось:
«Мы заключили мир с Российским государством, которого никто из нас не нарушит, с тем, однако, условием, чтобы ни с какой стороны не было оказано ни малейшей обиды против другой. Если же какая-либо сторона нарушит данное ею обещание, то она будет считаться изменницей, а изменник почтется проклятым перед Богом и перед народом. Сие наше письмо объяснит всю точность и справедливость наших намерений».
– Как же теперь быть с Шамилем? – растерялся Граббе.
– В смысле политическом?
– Как с бунтовщиком, – объяснил Чернышев.
– Государь велел усмирить или истребить. По обстоятельствам. С подданными договоров не заключают!
– В порошок сотру! – пообещал Граббе.
– Да, вот еще что… – Чернышев взял Граббе под руку и повел по залу.
– Дело вам предстоит многотрудное. Опять же штаб надобно будет перетряхнуть… Так вот я прикомандирую к вам поручика Милютина. Способный малый, из Генерального штаба. Обучался в Императорской Военной академии. Он мне тут такие карты рисовал – шедевры, а не карты. Весьма сведущ в военных науках. В журналах статьи публикует. И мечтает теории свои применить к практике. Или, напротив, практику обратить в наставления для войск. А Кавказ для этого благодатное поприще. Под вашим-то началом.
– Чрезвычайно вам благодарен, – согласился Граббе.
– Новые взгляды всегда на пользу отечеству.
Чернышев внимательно посмотрел на Граббе, размышляя, что имел в виду под «новыми взглядами» господин, имевший прикосновенность к делу декабристов.
– Тем более, когда рядом будут опытные люди, коих на Кавказе множество, – продолжал Граббе, все более увлекаясь чарующими перспективами.
Чернышев немного успокоился и продолжал:
– Война – дело дорогое, но все же вот вам совет: куда штыком не дотянетесь, туда деньгами проникнуть пробуйте. Не знаю, как в Дагестане, а в иных местах золото – первое средство поселить между племенами раздор. Так что просите побольше. И войск, и денег. Чтобы наверняка. А уж я позабочусь, чтобы ни в чем не было отказа. И не спешите. Горцев наскоком не возьмешь.
У Граббе голова шла кругом.
Отчего бы такая необыкновенная щедрость? – размышлял про себя генерал. Или Шамиль стал так опасен, что уже ничего не жалко, только бы добыть его голову?
Но Чернышеву нужны были громкие победы, а не окончание войны. И причины его неслыханной щедрости скоро объяснились, когда он сообщил Граббе об еще одном, более важном назначении:
– Начальником штаба у вас будет флигель-адъютант полковник Генерального штаба Траскин. Очень рекомендую! Александр Семенович – дельный человек, я сам имел случай в этом убедиться.
Тот самый Траскин! – припомнил Граббе сплетню о том, как Чернышев пристраивал замуж своих любовниц.
– При ваших стратегических занятиях кому-то нужно и остальные дела вершить, – убеждал Чернышев.
– Особенно по части хозяйственной. Подряды, расходы, продовольствие, обмундирование… Одним словом, болото! Не генеральское это дело.
Дьявол! – чертыхался про себя Граббе, сохраняя, тем не менее, учтивое выражение на лице. Приставил ко мне шпиона, да и вора, похоже, изрядного. Ну да ничего, там видно будет, чья возьмет.
– Вот и договорились, – улыбался Чернышев, пожимая Граббе руку.
– А ежели превзойдете Фезе, за монаршей милостью дело не станет.
– Не извольте сомневаться, – заверил Граббе.
– Нус, не смею более задерживать.
Обратно Граббе летел как на крыльях. Теперь он снова в силе, да еще в какой! Фезе дело провалил, и посрамить его – это Граббе считал делом чести. У него не уйдешь. Хватка у Граббе еще крепкая. Попляшут теперь мюриды. А Шамиль еще сам о пощаде запросит. И всякие там Анрепы со своими глупыми дуэлями будут у него по струнке ходить!
Граббе не терпелось выехать к месту назначения и безотлагательно приступить к соображениям о радикальных действиях против Шамиля. А там, глядишь, и для скорейшего и окончательного покорения Кавказа.
Ожидая в Петербурге высочайшего повеления, Граббе узнал от знакомых, что история насчет Траскина и любовницы Чернышева – правда. Но выяснилось важное обстоятельство. Жена Траскина умерла при родах. Мнимый муж был теперь Чернышеву не нужен в Петербурге, зато мог с пользой служить ему на Кавказе, приглядывая за Граббе и распоряжаясь гигантскими суммами так, как повелит его покровитель.
Наконец, высочайший приказ был получен. Из щедрого жалования, полученного на три месяца вперед, Граббе купил новый экипаж и немедля отправился в путь.
Глава 13
В Чиркату потянулись землекопы и каменщики, которых присылали наибы. Их встречали, хорошо кормили и отправляли на Ахульго, где они поступали в распоряжение Сурхая. Горский инженер просил Шамиля не приезжать, пока не будут готовы первые сооружения. Но Шамилю давно хотелось взглянуть на то, что там происходит. Узнав, что от Сурхая прибыли люди, чтобы забрать порох, необходимый для работ, Шамиль отправился с ними поговорить.
Пороховой завод был построен на окраине аула. Недалеко от Чиркаты издавна разрабатывалось месторождение серы. В отвесном склоне были проделаны длинные штольни, где добывали богатую руду, из которой затем и выплавляли серу. За этот важный труд Шамиль освободил мастеров от воинской обязанности, а кроме того, еще платил по пятидесяти копеек за пуд. На таком же положении были и те горцы, которые производили селитру, необходимую для получения пороха. Древесный уголь – третью составную часть пороха – доставляли по реке андийцы.
На чиркатинском заводе были установлены четыре каменные ступы, в которых смесь серы, селитры и угля тщательно крошилась и перетиралась. Делалось это с помощью больших пестов, которые приводились в движение хитроумным механизмом, связанным с водяной мельницей на реке. Полученный порошок спрыскивали водой и снова перемешивали. Затем это подобие теста перекладывали в бурдюк из бараньей шкуры, долго мяли, поколачивали и встряхивали, пока тесто не превращалось в зерна. Это и был порох, который оставалось как следует просушить и разложить по мешкам.
Порох получался достаточно хороший. Порох, который делали в других аулах, несколько отличался от чиркатинского. Все дело было в пропорциях, которые каждый мастер устанавливал на свой вкус. Но никакой горский порох не шел в сравнение с русским, который иногда удавалось купить в крепостях. Вот и вчера Джамал, старшина аула Чиркей, прислал два бочонка отличного фабричного пороха.
Джамал был человек известный и влиятельный. За ум и ловкость, с которой он устраивал самые деликатные дела, его уважали даже царские власти. Само положение Чиркея, этого большого и богатого аула поблизости от царских крепостей, вынуждало Джамала вести тонкую дипломатическую игру. А его сын даже завел приятелей среди русских начальников.
Чиркей считался мирным, но с условием, чтобы в него не вступали ничьи войска. В результате аул сделался важным посредником между непокорными горами и равниной, находившейся под контролем царских войск. Торговля с обществами, приверженными Шамилю, была запрещена, но через посредничество Чиркея они получали соль и другие необходимые товары. Особенно важным было то, что овечьи стада горных аулов паслись зимой на равнинах под видом чиркеевских.
– Чиркей Шамилю не слуга, – заверял Джамал, но при этом помогал имаму чем только мог.
Когда Шамиль в сопровождении Юнуса и Султанбека подъезжал к пороховому заводу, раздался взрыв. Все вокруг заволокло едким дымом. Потом из сизого тумана выбежали три лошади, за которыми гнались их хозяева. В ауле заголосили женщины, а к заводу начали сбегаться люди.
Дым постепенно рассеивался. Двинувшиеся вперед всадники увидели, что механизмы исправно делали свое дело, в ступах растирались составные части пороха, а в дальнем углу вокруг груды искореженного металла стояли обескураженные горцы.
– Имам! – растерянно сказал Мухтар, заведовавший пороховыми делами.
– Скажи этому сумасшедшему, чтобы оставил нас в покое!
Он показывал на седобородого старика, колдовавшего над дымящимся железом. Магомед был неугомонным изобретателем, мечтавшим сделать настоящую пушку. Меди, чтобы отлить ее, у него не было. Тогда Магомед придумал выковывать пушки кузнечным способом из железных полос, а затем обшивать их буйволиной кожей и стягивать обручами. Шамиль запретил ему эти опасные опыты, но он надеялся убедить имама этим последним испытанием. И конструкция снова не выдержала.
– Магомед! – позвал его Шамиль.
– Разве не просил я тебя оставить свои выдумки?
– У меня почти получилось! – оправдывался перепачканный копотью Магомед.
– Говорил я ему, чтобы не клал так много пороху, – говорил Мухтар.
– Хотя пушка, правду сказать, была красивая.
– Без хорошего заряда ядро не полетит, – спорил Магомед.
– Просто у тебя порох неправильный. Дыму много, а толку мало. Вот и разорвало пушку.
– На мой порох еще никто не жаловался, – не соглашался Мухтар.
– Серы мало кладете, – гнул свое Магомед.
– Достаточно, – кипел Мухтар.
– А пушка испортилась потому, что ствол плохо сварили!
Шамиль решил положить конец этой перепалке и вернулся к неудачному испытанию. Ему не хотелось обижать старика. В конце концов он рисковал жизнью ради общего дела. Но Шамиль все же сказал:
– Оставь это, ради Аллаха. И жизнь свою сохранишь, и русские не будут над нами смеяться.
– Лучше отруби мне голову, – ответил Магомед.
– Зачем мне голова, которая не может придумать несчастную пушку?
– Лучше вместе попробуйте сделать наш порох лучше фабричного, – посоветовал Шамиль.
– Порох пусть они сами делают, – упрямился Магомед.
– А у меня будет пушка, имам!
Он омыл лицо водой, сделал пару глотков и, махнув рукой, пошел со двора.
– Не обижайся, отец! – добродушно крикнул ему вслед Шамиль.
– Я не вернусь, – ответил Магомед.
– Без пушки не вернусь!
Шамиль желал иметь орудия не меньше Магомеда. Вот и людей отправили учиться этому ремеслу. А пока оставалось надеяться, что удастся отбить пушки в боях.
Люди, убедившись, что никто не погиб, начали расходиться, толкуя об опасностях военных ремесел и рассуждая о том, не слишком ли близко от села поставили пороховой завод. Да еще этот неугомонный Магомед лезет со своими кожаными пушками.
Тем временем лошади были пойманы и возвращены.
– Берите скорее, – указал Мухтар мюридам на мешки с готовым порохом, – пока другие не забрали.
Мюриды, а это были люди, присланные с Ахульго, принялись навьючивать лошадей.
– Как идут дела? – спросил их Шамиль.
– Не так быстро, как хочет Сурхай, и не так медленно, как бы хотелось нашим врагам, – ответил мюрид.
– Что уже построили?
– Сурхай не велел говорить, – ответил мюрид.
– Даже мне? – удивился Шамиль.
– Тут есть и другие люди, – сказал мюрид.
– Я поеду с вами, – объявил Шамиль.
– Воля твоя, – кивнул мюрид, снимая с себя ответственность.
– А я делаю, как наиб велел.
– Правильно делаешь, – согласился Шамиль.
– Тайное должно оставаться тайным.
Мюриды тяжело навьючили лошадей, добавили к вьюкам плетеную корзину с яблоками, которую им дал Мухтар, и тронулись в путь.
– И эти возьмите, – Шамиль показал на стоявшие отдельно бочонки с фабричным порохом, присланные Джамалом.
– Хоть один оставьте, – просил Мухтар.
– Для сравнения.
– Сурхаю они нужнее, – возразил мюрид.
– А тебе Джамал еще пришлет, – сказал Шамиль.
– Он слово держит.
Они двигались вдоль реки. Шамиль разглядывал надвигавшиеся громады Ахульго, но не замечал никаких перемен. Разве что развалины прежнего аула будто и вовсе исчезли. Могло показаться, что Сурхай не строил новое, а разрушал старое. Отправив мюридов с порохом наверх, Шамиль не торопясь объехал Ахульго, разглядывая гору со всех сторон. И опять ничего не заметил.
Только увидел пещеру, в которой он побывал в далеком детстве, когда еще был учеником. Тогда, прослышав о необычайной смелости Шамиля, местные мальчишки решили его испытать. На Ахульго было много пещер, но эта считалась самой страшной.
Одни говорили, что в пещере обитают злые духи, которые губят всех, кто в нее входит. Другие рассказывали про огромную змею, живущую в бесконечной пещере, что она утаскивает туда целых быков. Третьи клялись, что по ночам из пещеры вылетает кровожадный дракон аждаха, и горе тому, кто его потревожит. Но Шамиль только смеялся над этими суевериями. Он поспорил, что разгонит злых духов, если они там есть, завяжет в узел змею, если она там прячется, и оседлает аждаху, только бы он ему попался.
И они отправились к пещере, которая открывала свою темную пасть над Койсу. Мальчишки вооружились кинжалами и ружьями на случай битвы с чудовищами. А Шамиль взял с собой, кроме факела, только длинную веревку, чтобы не заблудиться, если пещера и на самом деле окажется такой глубокой, как говорили, или начнет разветвляться. В доказательство того, что он дойдет до конца, Шамиль снял с одного из мальчишек шапку. Он сказал, что оставит ее в конце пещеры, и если они ему не поверят – пусть потом сходят и заберут ее.
Пещера находилась не очень высоко, но добраться до нее можно было лишь по едва заметной козьей тропке, тянувшейся вдоль отвесной стены Ахульго. Для горских мальчишек такие дороги были привычным делом. У входа в пещеру Шамиль зажег факел и шагнул в пугающую неизвестность.
По высоким неровным сводам забегали блики от факела. Но впереди была гулкая темнота, и края пещеры видно не было. Шамиль шел, натыкаясь на камни и кости животных, и пещера, то сужаясь, то снова расширяясь, делая поворот за поворотом, уходила в чрево горы.
Факел высвечивал то висящих вниз головой летучих мышей, которые смотрели на Шамиля немигающими горящими глазками, то выступавшие из темноты разноцветные колонны, торчавшие клыками дракона. Иногда под ногами что-то шуршало, и Шамиль видел ускользающих змей. Но это были обычные змеи, каких можно встретить где угодно.
Пещера нырнула вглубь. Чтобы спуститься, пришлось привязать веревку к большому камню. Шамиль, зажав факел зубами, полез вниз. На его счастье, дно оказалось недалеко. Здесь пещера заканчивалась, а еще дальше уходила узкая щель, из которой сочилась вода. Пролезть в эту щель было невозможно. Шамиль сунул туда факел, чтобы посмотреть, что там, но мрак поглотил слабый свет, а затем факел и вовсе погас.
Шамиль оказался к абсолютной тьме. Только слышен был странный гул. То ли от несущейся неподалеку реки, то ли это был голос тишины, какой не бывает на поверхности. Но Шамилю начало казаться, что это бьется сердце горы Ахульго, а сочившаяся вода как будто была ее кровью.
Найдя в темноте веревку, Шамиль выбрался в верхнюю галерею, положил на краю шапку своего приятеля и начал на ощупь пробираться к выходу.
Его приятели так переволновались, что ожидали чего угодно, только не появления целого и невредимого Шамиля. Он спустился вниз, сел у дерева и не сразу пришел в себя. Мальчишки тормошили его, изнывая от любопытства. Наконец, Шамиль все им рассказал. Ему не поверили. Но теперь настал их черед проверить, правду ли говорит Шамиль. Они уже жалели, что Шамиль оставил шапку в пещере, и теперь приходится за ней идти. Но желание испытать и свою смелость превозмогало страх. Они взобрались наверх, зажгли факелы и, призывая на помощь Аллаха, двинулись внутрь пещеры.
Шамиль успел искупаться в реке, помолиться и теперь отдыхал на теплом камне, когда мальчишки вернулись. С круглыми от ужаса глазами они показывали Шамилю шапку и убеждали его, что ели унесли ноги от огромной змеи. И сколько ни убеждал их Шамиль, что это, наверное, была веревка, забытая им в пещере, они стояли на своем. Немного успокоившись, они вернулись в аул, весьма гордые своим подвигом и втайне завидуя Шамилю, который совершил его первым.
Глава 14
Когда Шамиль и его спутники поднялись к узкому перешейку, который вел на Новое Ахульго, они опять ничего не увидели, кроме знамени Сурхая, стоявшего на самой высокой точке горы.
Шамиль тронул коня и двинулся по острому гребню.
– Яблоки! – показал Юнус.
Вдоль перешейка, будто указывая путь, цепочкой лежали яблоки. Но стоило спутникам двинуться дальше, как раздался выстрел. Ближайшее к ним яблоко разлетелось на куски. Шамиль выхватил саблю. Юнус с Султанбеком сдернули со спин ружья и бросились вперед, защищая Шамиля. Но яблоки продолжали разлетаться, а откуда стреляли было непонятно.
Когда они миновали перешеек и выбрались на Новое Ахульго, перед ними будто из-под земли выросли мюриды. А затем показался и сияющий от произведенного эффекта Сурхай. Султанбек двинулся на него, пылая негодованием.
– Салам алейкум, имам! – крикнул Сурхай, хватая коня Султанбека под уздцы.
– Ва алейкум салам, – ответил
Шамиль, сходя с коня.
– Хорошо же ты встречаешь гостей.
– Так мы будем встречать врагов, – сказал Сурхай.
– Ты видел, откуда стреляли?
– Из-под земли? – догадался Шамиль, сходя с коня.
– Спрятались, как кроты, – сердился Юнус.
– Где же твои постройки? – спросил Шамиль.
– Приглядитесь, – показал Сурхай в сторону небольшого холма.
– Вон там, видите?
Теперь и Шамиль увидел узкие щели, которые расходились в обе стороны от тропинки и были едва заметны.
– Подземные бойницы? – удивился Шамиль.
– Подземная крепость, – гордо сообщил Сурхай и подал знак своему мюриду.
Тот свистнул, и повсюду начали подниматься люди с кирками и лопатами в руках.
После погрома, учиненного Фезе, Сурхай решил спрятать крепость в самой горе.
Он показал Шамилю свои чертежи, по которым предполагалось устроить несколько линий укреплений, а передовые – в несколько ярусов. Между ними должны были проходить скрытые траншеи и подземные ходы. В дальней части горы, обращенной к реке и более безопасной, Сурхай собирался построить оружейную мастерскую, пороховой склад, хранилище для воды и многое другое. И все это тоже зарывалось в землю. На Ахульго создавалась мощная крепость, рассчитанная на долгую оборону.
– Никакие пушки нас не возьмут, – уверял Сурхай, направляясь к скрытому в камнях входу.
Они спустились в просторную каменную галерею и пошли осматривать фортификационные работы.
Сурхаю помогали мастера, прибывшие из Дагестана и Чечни. Они хорошо знали свое дело, а когда встречались препятствия, быстро находили способ их устранить. Одни пробивали штольни в каменном теле горы, другие укрепляли подземные ходы, третьи проделывали бойницы, четвертые оборудовали главные пункты обороны. Каменные глыбы, которые невозможно было разбить, взрывали. К пещерам, которых на Ахульго было немало, прокладывались пути по отвесным склонам. В некоторые удавалось попасть, пробив свод сверху.
Из переднего ряда скрытых бойниц простреливались все подступы. Юнус прицелился из винтовки по уцелевшему яблоку и выстрелил. Яблоко подлетело в воздух и покатилось по отвесной стене в пропасть.
– Машаалла! – удивлялся Юнус.
– Да продлит Аллах твои дни, Сурхай.
– А если в рукопашную? – интересовался Султанбек.
– Если пули кончатся? Тогда как?
– Как всегда, – пожал плечами Юнус.
– Вылезаешь и дерешься.
– Но можно выйти и там, где не ждут, – сказал Сурхай.
– Или пропустить, а потом напасть сзади.
– Машаалла! – качал головой Юнус.
– Если что – и могила готова.
Когда они выбрались на поверхность горы, то смотрели вокруг уже другими глазами. Сурхай старался использовать каждый бугорок, каждую расщелину горы, чтобы сделать ее еще более неприступной. А любой выступ, который мог бы помочь осаждающим, безжалостно сбивался. Камни и бревна, оставшиеся от разрушенных Фезе домов, обломки взорванных скал, не пошедшие в дело, – все это собирали на опасных участках, чтобы обрушить на противника, если он рискнет брать Ахульго штурмом. Узкий перешеек, соединявший Ахульго с остальным миром, предполагалось глубоко перекопать в нескольких местах.
Шамиль был доволен увиденным, а его помощники, не переставая, цокали языками от изумления.
План Сурхая был необычен, но его подсказывала сама природа. Горький опыт пошел горцам на пользу, и они учились быть предусмотрительными.
– А где будут жить наши семьи? – спросил Шамиль.
– Я думал, здесь будут одни мужчины, – растерялся Сурхай.
– Что тут делать семьям?
– Нельзя же вечно воевать, – сказал Шамиль.
– Я ведь говорил, что Ахульго будет не только крепостью, но и нашей столицей. В Чиркате, действительно, становится слишком много людей.
– Можно и дома построить, – согласился Сурхай.
– И мечеть, – напомнил Шамиль.
– Большую, для всего джамаата.
– Да, имам, но где взять столько строителей?
– Люди будут, – пообещал Шамиль.
– Мы создадим такую столицу, какой еще никогда не было. Даст Аллах, никто не посмеет нас тут тревожить.
– А если посмеет? – сомневался Сурхай.
– Тогда это будет долгая битва, – размышлял Шамиль.
– И, чтобы лучше к ней подготовиться, нам необходимо выиграть время.
– Год нужен, – сказал Сурхай и постучал кулаком о камень.
– Гора слишком крепкая.
– Осенью они на нас не пойдут, – сказал Шамиль.
– Сил не хватит. Зимой они в горах не воюют. А к весне… К весне надо все закончить.
– Мои люди трудятся не покладая рук, – сказал Сурхай.
– Все трудятся, – сказал Шамиль.
Он вскочил на коня и двинулся обратно. Когда открылась узкая теснина между двумя Ахульго, Шамиль увидел старый деревянный мост, перекинутый между горами высоко над рекой.
– Надо бы его укрепить, – подумал Шамиль, полагая, что не следует ограничиваться работами на Новом Ахульго.
Глава 15
Новый командующий войсками на Кавказской линии и в Черномории направлялся в свои владения. Судя по бумагам, полученным в канцелярии военного министра, Граббе унаследовал от Вельяминова обширный театр военных действий. Он включал в себя грандиозную систему крепостей и укреплений, охватывавших с севера предгорья Кавказа и тянувшихся затем вдоль Черного моря. Главная Линия делилась на множество других, как правило, вдоль рек и их притоков. Правым крылом Линия упиралась в Черное море у Тамани, где впадала Кубань, а левым – в Каспийское, у устья Терека.
Войск по бумагам числилось немалое количество, но на деле был некомплект. Битвы с горцами, болезни и побеги солдат наносили войскам немалый урон.
empty-line/>
Все более и более входя в дела, Граббе проехал Москву, Воронеж и столицу Донского войска Новочеркасск, где еще живы были воспоминания о недавнем визите императора.
Изучение всех бумаг, которыми снабдили Граббе, могло занять столько времени, что он успел бы обогнуть земной шар. А потому он сосредоточился на тех, которые считал более важными. Но и они ему скоро наскучили. Куда интереснее было читать цветастые донесения Николая Раевского-младшего, того самого, который при Бородино шел за отцом со знаменем. Граббе давно его знал. Раевский был сибарит и мало походил на военного, скорее напоминая английского денди и в одежде, и в манерах. Он участвовал еще в нескольких войнах, но походы Раевского на Кавказе были известны не столько важными результатами, сколько непечатного содержания частушками, которые распевали его солдаты на радость своему командиру.
Однако реляции генерал-майора были позанятнее повестей Марлинского и касались не столько военных действий, сколько кавказских начальников, которых Раевский цинично высмеивал. Сверх того, Раевский регулярно подавал самые фантастические проекты. И он даже не писал их, а просто диктовал, причем по-французски, так как был не в ладах с русской словесностью. А на бумагу их перекладывал не кто иной, как Лев Пушкин – брат русского гения, тоже не лишенный некоторого дарования. Переводчик чертыхался, когда рассказывал об этом на Водах. Он говорил Раевскому, что его реляции выходят из всякого правдоподобия, но тот его успокаивал:
– Любезный Лев Сергеевич, вы глупы и ничего не понимаете: чем больше вранья представлять в Петербург, тем более его восхищаешь!
Пушкин клялся, что это невозможный сумбур самого дурацкого пошиба, но Раевский стоял на своем:
– Мудрецы Петербурга, гиганты в невежестве и дурости, всякому верят, когда умеешь изложить.
Граббе читал и невольно посмеивался, особенно над искусно вставленными остротами. Читал он с пристрастием, но не потому, что его слишком интересовали дела в Черномории, а совсем по другой причине. Очаровательная наглость сочинений Раевского, полных безудержного бахвальства и таинственных предсказаний, бесила Чернышева, но приводила в восторг императора. Николай понимал, что эти реляции далеки от действительности, но милостиво относился к герою Бородино и ни в чем ему не отказывал. А писания его давал читать сначала императрице для развлечения, а уж потом – военному министру.
Граббе прикидывал, как будет писать свои реляции и что в них важнее – правда или ловкий вымысел, приправленный сарказмом. Смешить начальство он все же не предполагал, но считал, что слегка приукрасить действительность никогда не помешает. Впрочем, Граббе был уверен, что подвиги его на новом поприще превзойдут самые изощренные вымыслы Раевского.
Местопребыванием начальника Черноморской линии была Керчь, но Граббе не стал заворачивать к своему подчиненному, с него было достаточно его фантазий. Миновав Ростов, Павел Христофорович оказался в Екатеринодаре – центре Черноморского казачьего войска, которое было теперь подведомственно Граббе. Казаки прокричали новому начальнику «Любо!» и отправили с ним сотню почетного эскорта. Уже начинался настоящий Кавказ, и это было отнюдь не лишне.
Добравшись до Новороссийска, Граббе двинулся вдоль Черноморской береговой линии. Одни укрепления уже стояли, другие строились, третьи восстанавливались после нападений черкесов. Оттесненные в горы со своих насиженных мест, они держали Линию в постоянном напряжении, и дороги между крепостями были небезопасны. Лихорадка и прочие южные болезни косили гарнизоны, а неурожаи и голод в горах вынуждали горцев искать добычу в непрестанных набегах.
Форты и укрепления строились большей частью у бухт и в устьях рек. Раньше в них укрывались юркие турецкие фелюги, за которыми не поспевали русские корабли. Турки доставляли черкесам оружие, порох и привозили польских легионеров, желавших воевать против царских войск после поражений у себя на родине. Не брезговали контрабандисты и живым товаром, похищая славившихся своей красотой черкешенок и продавая их в гаремы турецких вельмож.
Блокаду рисковали прорывать и сами горцы на небольших лодках. Для борьбы с ними были пущены весельные баркасы с азовскими казаками, вооруженными небольшими пушками.
Содержание линии стоило больших денег и жертв, но Раевского это мало заботило. Его больше увлекали эксперименты по внедрению цивилизованных методов управления и поощрение торговли с черкесами как залога будущего умиротворения.
Вокруг все цвело и обильно плодоносило. Если бы не крепости и военные корабли, сновавшие вдоль берега, этот край можно было принять за рай земной. Война была здесь непрошеной гостьей.
Через Геленджик Граббе добрался до Адлера, где погиб в десанте обожаемый кавказскими офицерами Бестужев-Марлинский. Декабрист, сосланный на Кавказ драться, решил вдруг брататься с горцами, выводя их романтическими героями и поселив в обществе моду на все кавказское. Он возмечтал отличиться в десанте, чтобы быть представленным государю императору, посетившему тогда Кавказ. Популярный литератор и храбрый воин, Бестужев надеялся убедить Николая, поклонника своего таланта, кончить дело миром, но исчез в абхазских дебрях. Потом ходило много слухов, что он то ли ушел к Шамилю, то ли он сам и есть Шамиль, но никто Марлинского больше не видел.
Царь и сам желал конца этой войны, но Фезе не сумел ни взять Шамиля, ни договориться с ним. Шамиль после этого чрезвычайно возвысился, и война снова пошла своим чередом. Оставалось надеяться на новых кавказских начальников. Наполеона одолели, пора бы и с имамом справится.
Граббе проехал Сухум, свернул в горы, к Кутаису, а там уже и до самого Тифлиса было рукой подать.
В столице Грузии располагалось управление Отдельного Кавказского корпуса. Его новым командиром, а вместе с тем главноуправляющим гражданской частью Кавказа был генерал-лейтенант Евгений Головин. Ему следовало представиться первым делом, так как он считался непосредственным начальником Граббе.
Тифлис встретил Граббе невыносимой жарой, которую тифлисцы будто и не замечали. Восточная живость и сладкая нега в тени узких улочек и резных деревянных балконов мирно сосуществовали в этом древнем городе. Раскинувшись на крутых склонах гор вдоль Куры, Тифлис являл собой изящное переплетение грузинской, армянской и персидской культур, которые затмевали собой островки особой жизни немецких колонистов и русских переселенцев. Христианские храмы, соборы и церкви соседствовали с мечетями и цитаделями разных эпох. Базар пленял умопомрачительными ароматами, изумлял щедрым разнообразием товаров, которые привозили сюда на осликах, мулах, лошадях, быках и верблюдах. Неутомимые водоносы таскали от реки тяжелые кувшины. Под особыми навесами, поджав ноги, сидели мирзы – писцы и нотариусы одновременно. Повсюду пекли лаваши и жарили шашлыки, а из всевозможных бурдюков, от бычьих до небольших козлиных, лилось нескончаемое вино.
Много раз сожженный и не единожды разоренный, Тифлис всякий раз возрождался в новом обличии, но сохранял и свое прежнее лицо города изобилия, торговли и веселья.
С присоединением Грузии к России опустошительные набеги беспокойных соседей прекратились, а рядом со старым Тифлисом начал расти новый город с прямыми улицами и домами в европейском стиле. Здесь-то и находился построенный при Ермолове штаб Кавказской армии.
Головина в Тифлисе не оказалось. Дежурный штаб-офицер сообщил, что корпусной командир отбыл в тенистый Боржом отдохнуть от жары и попользоваться тамошними целебными водами.
Граббе поселили неподалеку, в новомодной гостинице. Вечером он был приглашен на ужин к начальнику штаба, где присутствовали также обер-квартирмейстер и другие штабные офицеры. Среди прочих Граббе представили молоденького корнета князя Виктора Васильчикова. Этот юноша благообразной наружности и с небольшими усиками только что окончил Пажеский корпус и явился на Кавказ за подвигами и славой. Места князь еще не получил, зато успел изучить самые темные закоулки Тифлиса.
На том же ужине Граббе познакомился с весьма приятным человеком – Тадж-Эддином Мустафиным, ученым эфенди из казанских татар, назначенным на Кавказ в роли посредника между властями и мусульманским населением. Эфенди со своим семейством уже два года жил в Тифлисе, получал в канцелярии Головина жалование и успел заслужить признательность местного начальства, проповедуя умиротворение и почтение к властям.
Мусульмане здесь были покладистые, большей частью – торговый люд, не меньше Головина желавший покоя и порядка. Недоразумения происходили в основном из-за незнания пришлыми мусульманами часто менявшихся порядков. Лучшие бурки, которые ценились и в жару, и в холод, выделывались в дагестанском селении Анди. На них всегда был спрос, но торговлю бурками из немирных гор то разрешали, то запрещали, конфискуя товар. Разоренные торговцы бросались к эфенди, и тот отправлялся ходатаем к начальству, обещая помочь единоверцам. Однако из этого редко что выходило.
О том, что творилось в недрах дагестанских гор, воспламененных Шамилем, Мустафин говорил весьма неопределенно, повторяя лишь, что от всей этой смуты проистекает много беспокойств. Было видно, что он многого не договаривает. Узнав, что Граббе направляется в Дагестан, эфенди тяжело вздохнул и посоветовал быть там поосторожнее.
В ожидании главного кавказского начальника Граббе взял Васильчикова в проводники и принялся осматривать местные достопримечательности. Среди прочих его особенно впечатлила могила Грибоедова в почти висящем над городом монастыре Святого Давида. Граббе полагал, что у него с Грибоедовым было много общего, особенно насчет «прикосновенности к делу декабристов». Предупрежденный Ермоловым, поэт едва успел уничтожить компрометирующие бумаги и тоже легко отделался. Правда, судьба уготовила ему еще более ужасную участь – пасть жертвой разгневанной толпы в Тегеране, где Грибоедов отважно стоял на страже российских интересов.
Прах Грибоедова покоился в гроте с северной стороны храма. На пьедестале из черного камня стоял крест, к которому припадала безутешная бронзовая женщина. Эпитафию под портретом поэта дополняла краткая надпись: «Незабвенному его Нина». Но монастырь был более известен ручьем, проистекавшим из его основания. Считалось, что вода его помогает зачинать бесплодным женщинам.
После российских прохлад Тифлис казался Граббе невозможным пеклом, и затянувшееся ожидание выводило его из себя. Днем он спасался в садах, где под музыку и песни отдыхали тифлисцы всех сословий. А вечером посещал старые персидские бани на майдане, которые знал по описаниям Пушкина, но которые на деле оказались куда интереснее. Особенно его впечатлил старый персиянин, который его усердно мял, тер подушками с пеной миндального мыла и окатывал серными водами. Граббе казалось, что он от этого молодеет. Он был не против скинуть несколько лет, особенно последних, которые состарили его в вынужденном бездействии.
Наконец, прибыл фельдъегерь с письмом от Головина. Корпусной командир поздравлял Граббе с назначением, извинялся, что обстоятельства не позволяют ему лично засвидетельствовать генералу свое почтение, и предписывал безотлагательно отправляться в назначенное ему место службы. Вместе с тем Головин сообщил, что утверждение на Черноморском побережье считает делом куда более важным, чем «внутренние» дагестанские неурядицы, но до представления императору плана окончательного покорения горцев велел Граббе составить свой проект.
Граббе невысоко ставил воинские таланты Головина, не желал признавать себя его подчиненным, а свой проект намерен был направить сразу в Петербург, лишь уведомив об этом Головина. Да и как можно было полагать, что Дагестан – дело второстепенное? Как хорошо натасканная гончая, Граббе чуял, что не будет покоя на всем Кавказе, пока Шамиль правит в своих горах. В душе Граббе соглашался с Ермоловым, считавшим, что Головин – столько же военный человек, сколько он, Ермолов, митрополит.
Понравившегося ему своей расторопностью и учтивостью князя Васильчикова Граббе решил взять себе в адъютанты. Корнет несказанно обрадовался, помчался к начальнику штаба и в тот же день получил его соизволение.
Глава 16
Ехать дальше нужно было по Военно-Грузинской дороге. Казаков с их пиками сменила дружина грузинской милиции, состоявшая из вооруженных до зубов отпрысков знатных семейств.
Дорога, проложенная русскими войсками через Главный Кавказский хребет, была дорогой только по названию. Впрочем, для милиционеров она была достаточно просторна, чего нельзя было сказать о карете Граббе. Пока они ехали долиной реки Арагвы, дорога еще была терпимой, но когда ее серпантины начали подниматься к возвышавшемуся над остальными горами Казбеку, все изменилось. Ныряя в туманы и скользя по утренним гололедицам, дорога становилась все более опасной. Граббе не раз приходилось выходить из кареты и пересаживаться на коня, чтобы не подвергать себя смертельному риску.
Преодолевая слякоть и расчищая путь от обвалов, кавалькада добралась до Рокского перевала. Путь вниз, к ущельям Терека, был не менее труден. Однако грандиозная панорама Дарьяльской теснины, этих «Ворот Кавказа», беспрерывно сменяющиеся живописные виды и веселый нрав грузинских милиционеров, распевавших песни на все голоса, придавали путешествию некоторое очарование. Повсюду на скалистых уступах были видны башни, иногда заключавшие в себе целые аулы. Их грозный вид напоминал о том, что здесь начинается другая страна, полная настоящих опасностей и не прощающая слабости.
Начальник милиционеров пичкал Граббе местными преданиями, толковал про амазонок, показывал гору, к которой якобы был прикован Прометей, называя ее то Эльбрусом, то Ялбузом. Ко всякой легенде он добавлял свое умозаключение, сводившееся к тому, что горцы уважают только силу, а церемониться с абреками – пустое дело.
Показал он и башню Тамары, стоявшую на величественном утесе. Чтобы получше ее рассмотреть, Граббе достал свою подзорную трубу, но ничего особенного не увидел. Зато у подножья утеса, под легендарной башней, Граббе разглядел вполне действующую Дарьяльскую крепость с зубцами по стенам, дозорными на башнях и часовыми у ворот.
Граббе чувствовал себя Ганнибалом, явившимся с боевыми слонами в Италию, перейдя Альпы. Теперь все это принадлежало ему. Он был тут главным начальником и мог все. Разве что не мог приказать горам снять снежные папахи и поклониться генерал-лейтенанту Граббе. Но они все равно ему нравились, они его вдохновляли, не то что та ужасная гора, которая являлась ему в беспокойных снах.
Первую большую остановку они сделали в крепости Владикавказ. Но с виду это было уютное поселение с черепичными крышами домов, окруженных аккуратными садиками, и мощеными речным голышом улицами, вдоль которых стояли пирамидальные тополя. Построенный еще Потемкиным как форпост Военно-Грузинской дороги, Владикавказ обрел важное значение при Ермолове, но теперь снова обратился в провинцию с некоторыми учреждениями, разнообразным населением и хорошей торговлей.
Немного передохнув, Граббе отправился дальше, в Ставрополь, где располагалось управление командующего войсками на Кавказской линии и в Черномории.
Ставрополь разительно отличался от Владикавказа своей неустроенностью. Прошедший недавно дождь превратил улицы в слякотные реки, миновать которые способны были лишь всадники. Однако непролазная грязь не мешала щеголеватым «фазанам» – волонтерам и авантюристам – вовремя явиться в штаб в надежде получить выгодное место.
Искатели наград и чинов поспешили в Ставрополь, как только на Водах узнали о назначении на линию нового командующего. В ожидании Граббе они обхаживали начальника штаба Траскина. Тот давно уже явился в Ставрополь, где принялся наводить свои порядки. Его непомерная тучность никого не смущала, напротив, она вселяла надежду. Такой большой во всех смыслах человек должен был иметь большие потребности. А удовлетворить их могли благодарные протеже. Кому место, кому награду, кому подряд – глядишь, и капиталец сам собой образуется.
С непонятливыми чиновниками Траскин не миндальничал. У него был особый нюх на вороватых интендантов, за которыми он быстро обнаружил ворох злоупотреблений. Траскин пригрозил найти и более серьезные беззакония, но интенданты вовремя сообразили, с кем имеют дело, и тут же исправились в прибыльном для Траскина смысле.
Обер-квартирмейстер и дежурный штаб– офицер показались Траскину людьми исполнительными и остались при своих должностях. Неугодные исчезали – кто за штат, кто на лечение, а кто и сам просился в отставку.
Ставрополь заметно ожил и повеселел. Теперь каждый вечер закатывались невиданные пиры с музыкой и цыганами в честь их высокоблагородия начальника штаба полковника Траскина. Некоторые специально являлись посмотреть, сколько может выпить и съесть эта живая гора. За столом Траскин мог переплюнуть пятерых, а там, где пахло деньгами, ему и вовсе не было равных. Перечить ему никто не решался, зная, что покровительствует Траскину сам военный министр Чернышев. Нашлись и игривые красавицы, сумевшие утешить несчастного вдовца. Такая война с горцами Траскину была по душе. Однако скорое появление Граббе нарушило его благоденствие.
У въезда в город карета Граббе увязла в грязи, но ее быстро вытащили местные казаки, выехавшие встречать командующего во главе со своим атаманом. Затем, желая поздравить Граббе с прибытием, казаки гарцевали на лошадях, палили в воздух и носились по городку со смоляными факелами.
Граббе взялся за дела рьяно.
Для начала перетряхнул состав штаба, сообщил Траскину, что адъютант у него уже есть, вот он, князь Васильчиков, прошу любить и жаловать. А прикомандированный Милютин должен вскорости явиться. У Траскина были свои кандидаты, но им пришлось подыскать другие места. В хозяйственные дела Граббе решил не вдаваться, и Траскин расценил это как заключение негласного договора о разделе вотчин. В своем распоряжении Граббе оставил лишь некоторые финансовые статьи, включая экстраординарные суммы на содержание лазутчиков, организацию секретных диверсий, на подкуп и награды за ценные сведения. Но в случае необходимости ими мог распорядиться и Траскин как начальник штаба.
Затем Граббе сделал выговор атаману за то, что его казаки слишком вольно себя ведут. Атаман не вполне понял претензии педантичного генерала, но для отвода глаз пообещал перепороть виновных нагайками.
На следующий день прибыл и Милютин – энергичный поручик с серыми, всегда удивленными глазами и пышными бакенбардами. Милютина сопровождало несколько больших чемоданов – багаж не свойственный молодым офицерам. Кроме книг и походных принадлежностей, при нем был целый набор инструментов для составления карт.
После беглого ознакомления со штабными делами Граббе велел Траскину озаботиться надлежащим обеспечением войск и глубже вникнуть в дела управления краем, а сам в компании с молодыми офицерами, с охраной из казаков двинулся в путь по Моздокской линии через Георгиевск.
Граббе направлялся в Дагестан, на главный театр военных действий. План компании против Шамиля у него уже созрел и был гениально прост: «Разбить и разогнать все скопища, а Шамиля пленить». Но чтобы представить проект на высочайшее благоусмотрение, необходима была пышная рама, как для живописного полотна. На самом полотне следовало явить знание предмета и связать его с положением вещей в Дагестане, показать распорядительность по части передислокации застоявшихся войск, продемонстрировать строгость к местным владетелям, не умеющим управлять народом, и суровость к нерадивым чиновникам. Словом, напустить дыму и фейерверков, а внизу, на табличке, чтобы огнем горело: «Граббе».
В карете он чувствовал себя неуютно. Насчет Васильчикова Граббе был спокоен, но этот Милютин из Генерального штаба казался ему тенью Чернышева. Однако молодой гвардейский поручик вел себя весьма учтиво и на вопросы отвечал прямо. Оказалось, что Милютин, как когда-то и сам Граббе, начинал службу в артиллерии. Происходил Милютин из знатного дворянского рода, окончил Благородный пансион Московского университета и на военную службу определился по своему желанию. Но его больше увлекали науки, почему он и поступил в Императорскую Военную академию. Несмотря на свои молодые годы, а Милютину исполнилось лишь двадцать два года, он уже публиковал статьи по военной истории и увлекался картографией, успев составить и издать «Руководство к съемке планов». Это и послужило поводом к тому, что Милютина причислили к Генеральному штабу. Граббе окончательно успокоился, лишь узнав, что Милютина прикомандировали к нему в надежде, что успехи его в науке дадут замечательные плоды, укоренившись в военной практике.
По части теории Милютин был молодец. Если Васильчиков в тонкостях узнал грузинские нравы и тайны Тифлиса, то Милютин имел множество энциклопедических сведений насчет здешнего Кавказа. И они регулярно находили подтверждение. К примеру, он сообщил, что в Моздоке построен первый в России нефтяной завод. И он действительно там оказался и среди прочего делал керосин.
После Моздока они ехали вдоль Терека. На левой стороне реки стояли казачьи станицы с белеными хатами, с расписными ставнями, двойными плетнями в виде бастионов и сторожевыми вышками. Между станицами устроены были посты, над которыми торчали сигнальные шесты со смоляными бочонками, которые поджигались в случае тревоги. Еще чаще встречались пикеты с часовыми, и вдоль всей этой цепи курсировали казачьи разъезды.
На другом берегу, на фоне недалеких Черных гор, виднелись аулы горцев. Они имели куда более суровый вид и грозно поглядывали на бывшие свои земли.
И те, и другие утопали в садах, на изобильных покосах стояли стога сена, в сочных высоких травах паслись тучные стада. И тем, и другим щедро светило солнце.
Вскоре свернули к крепости Грозной, стоявшей у излучены реки Сунжи и сторожившей выход на равнину из Ханкальского ущелья.
Для военного теоретика эта крепость представляла особый интерес. Ермолов основал ее в 1818 году, оттеснив чеченцев со среднего течения Терека за Сунжу.
Но Граббе торопился, и в крепости остановился, только чтобы перекусить. Однако дело этим не кончилось. Граббе усмотрел в гарнизоне непорядки, распек солдат за дурную выправку, за незастегнутые пуговицы, за неумение ходить строевым шагом по всей форме и полный хаос в вооружении, среди которого было много кавказского. Нагнал на командиров страху и велел посадить провинившихся на гауптвахту.
Пока Граббе наводил в крепости надлежащий порядок, Милютин с Васильчиковым отправились изучать ее устройство. Все здесь было для них ново, и они жадно впитывали реалии Кавказской войны.
Крепость представляла собой правильный шестиугольник, из концов которого выдавались бастионы, очень похожие на бастионы Петропавловской крепости в Петербурге. Размеры крепостей не шли ни в какое сравнение, зато военное значение Грозной теперь было едва ли не большим, чем Петропавловской.
На бастионах стояли крепостные пушки. А на правую сторону Сунжы был перекинут мост, защищенный орудийным редутом.
В самой крепости располагались дома для офицеров, отдельный дом коменданта, казармы, лазарет, кухня и прочие здания, включая помещение для пленных и аманатов-заложников. К крепости примыкал подземный пороховой погреб, а недалеко от моста располагался инженерный двор. Но оказалось, что, несмотря на свой устрашающий вид, крепость не раз подвергалась нападениям.
Милютин уже начал добираться до подробностей, когда Граббе велел собираться в дорогу. Его больше интересовала другая крепость, располагавшаяся в пятидесяти верстах восточнее этой, в Дагестане.
Глава 17
Ставропольских казаков сменили терские. С виду это были чистые горцы, если бы не вихры, торчавшие из-под папах.
Миром здесь давно не пахло, но близкое соседство все равно давало о себе знать, и куначество между горцами и казаками были привычным делом.
Но еще больше Граббе удивляло другое: если в России крестьяне кланялись ему чуть ли не до земли, то тут никто не думал даже шапку снять перед барином, а господином величали только из вынужденной вежливости. Впрочем, баре сюда никогда и не заглядывали, в этих вольных местах им бы пришлось несладко.
Через несколько часов пути они оказались в Дагестане. Граббе спешил в крепость Внезапную, где предполагал устроить главную базу своих будущих походов.
Желая поскорее проникнуться кавказским духом, Милютин с Васильчиковым ехали верхом. Веселый урядник, унтер-офицер казачьих войск, охотно рассказывал им о местных обыкновениях, между делом упоминая о страшных историях, которые якобы случались тут на каждом шагу.
– А вот давеча сунулись чечены в ночное, коней наших уводить, а казаки в секрете поджидали.
– И как же вышло? – с замиранием сердца спрашивал Васильчиков.
– Да так и вышло, – говорил урядник.
– Баш на баш.
– То есть как это? – не понимал Милютин.
– Мы – ихнего, они – нашего.
– Насмерть? – округлил глаза Васильчиков.
– А то как же. Мы им не спускаем, – сказал урядник.
– А кони? – спросил Милютин.
– А что кони? Кони свое место знают. Сами вернулись.
– Откуда вернулись? – допытывался Васильчиков.
– Из-за реки. Один уводил, а другой отстреливался. А как подмога в другом месте реку перешла, так этот коней и бросил, чтобы товарища унести, раненого.
– Так он ранен был только?
– Царапнуло малость.
– А казак что же – убит?
– Его разве убьешь? Тот еще кабан. Кинжалом только полоснули, – разъяснил урядник.
– А вот когда мы за их баранами полезли, тут другое было…
– Что же? – спрашивал Васильчиков.
– Резня.
– М-да, – протянул Васильчиков, начиная жалеть, что покинул тихий Тифлис. Пил бы теперь кахетинское после персидской бани да шашлыками лакомился.
– И кто кого? – спросил Милютин.
– Чечены двоих зарезали, – сказал урядник и, насладившись произведенным эффектом, продолжил: – Баранов!
– Как – баранов? – не понимал Васильчиков.
– А оченно просто. Кунаки оказались.
– Так это вы шутить изволите? – негодовал Васильчиков.
– Война – дело нешуточное, – сказал урядник.
– Веселись, пока жив.
Затем вдруг стегнул нагайкой свою лошадь и бросился вперед.
– Митрий! – кричал урядник молодому казаку, который остановился и встал на седло, чтобы сорвать яблоко с нависшего над дорогой дерева.
– Зелены ишо! Давай ходу!
Встречать Граббе выехал полковник Пулло, управляющий Сунженской линией, и командир Куринского егерского полка. Сын командира Керченского адмиралтейства, Александр Павлович Пулло был завзятым служакой. Выше всего он ставил волю начальства, которую умел ловко применить к своим личным интересам. Чаяния местного населения были для него пустым звуком, что и возбуждало кругом ропот. Но Пулло полагался только на силу, убеждал начальство, что горцев следует держать в постоянном страхе, и регулярно отправлялся в экспедиции, когда был уверен, что не встретит сильного сопротивления, а добыча сулит оказаться немалой.
Ко всему этому теперь прибавилась жажда отомстить за то, что в приезд императора народные представители, вместо принесения безусловной покорности, посмели представить императору истинное положение вещей и пожаловаться на безобразия и лихоимства, творящиеся на линии.
Граббе внимал Пулло благосклонно, видя в нем средство обезопасить себя от восстаний в тылу, когда генерал примется за самого Шамиля. Пулло совершенно его заверил в водворении на Линии строгого порядка и полного повиновения. Наиба Шамиля Ташава-хаджи, не дававшего Пулло покоя, он представил заядлым бунтовщиком, которого он, Пулло, загнал в глухие леса. О том, что наиб сам не раз прогонял Пулло за Терек и в народе весьма уважаем, полковник предпочел не упоминать.
Крепость Внезапная была расположена у реки Акташ, чуть выше древнего кумыкского села Эндирей. Форма крепости была не столь правильная, как у Грозной, зато вполне соответствовала местности. Ермолов заложил Внезапную как стратегический пункт у подножья дагестанских гор, с одной стороны, и для контроля над приморскими равнинами – с другой.
Соседство крепости с большим аулом, где мало что делалось без разрешения наиба Шамиля Ташава, имело, тем не менее, и свои преимущества. Отсюда шли наезженные дороги в разные концы края, собирались большие базары и хватало простора для учебных маневров. Войска и обозы, присылаемые на Кавказ из России, имели тут отдых и перевалочные пункты. Здесь же перед большими походами собирались туземные милиции.
По некоторой отдаленности от самих гор нападения мюридов были редки, хотя и чувствительны. Имам Гази-Магомед едва не взял Внезапную после правильной осады, отбивая вылазки и подбираясь шанцами к самим стенам. Гарнизон спас подоспевший генерал Эммануэль, которого имам разбил затем в Ауховских лесах.
Во Внезапной, приняв надлежащие доклады и отобедав, Граббе вышел прогуляться. Гарнизон стоял в торжественном построении, ожидая смотра.
У Пулло был заметен порядок. И, хотя роты напоминали дикие ватаги, ружейные приемы исполнялись хорошо. Упражнения в стрельбе Граббе тоже одобрил, увидев, как мишень превратилась в решето после первых же залпов.
В дальнем углу, в скрытом от глаз сарае, Милютин и Васильчиков обнаружили местных жителей, закованных в кандалы. Они мрачно поглядывали на молодых офицеров, без слов объясняя, что с ними будет, встреть они их на горной дороге.
– Кто такие? – уставился на горцев Граббе.
– Абреки, ваше превосходительство, – объяснил Пулло.
– Подстрекатели. От Шамиля засланы.
– Сидят смирно? – спросил Граббе часовых.
– Никак нет, вашество! – взяли под козырьки часовые.
– Буянят! Начальство требуют!
– Ну, я начальство, – улыбнулся горцам Граббе.
– Что имеете заявить?
Горцы переглянулись и начали говорить:
– Я на базар ходил, зачем взяли?
– Мы – мирные.
– Знаю я вас, чертей! – усмехался Пулло.
– Разбойники да конокрады!
– Зачем врешь? – говорили горцы.
– Но-но, – прикрикнул на горца Пулло.
– Поговори у меня!
– Баранов тоже отняли, – сообщали горцы.
Граббе оглянулся на Пулло.
– Конфисковали, ваше превосходительство, – развел руками Пулло.
– Другой раз поостерегутся бунтовать!
– Мы не мюриды, – уверяли горцы.
– Чем докажешь? – не верил Пулло.
– Если бы мюрид, вы бы меня не взяли, – осклабился горец.
– Мюриды в плен не ходят.
Граббе хмыкнул, резко развернулся и двинулся дальше, бросив через плечо:
– В каторгу негодяев.
– А как же суд? – не понимал Милютин.
– По закону надлежит сначала судить.
– Судить? – удивился Пулло.
– Этих-то башибузуков?
– Но когда вина еще не доказана, – поддержал приятеля Васильчиков, – разве можно наказывать?
– Господа хорошие, – снова развел руками Пулло с совершенно невинным видом.
– Убивать, значит, можно, а наказывать нельзя?
– И убивать без приговора не положено, – стоял на своем Милютин.
– Так на войне каждый день убивают, – напомнил Пулло.
– Без всяких резолюций. Не то, пока будете разбирать правых и виноватых, сами голов лишитесь.
Оставив офицеров недоумевать, Пулло поспешил за Граббе.
– Неугомонный народ, ваше благородие, – объяснял часовой.
– Толкуешь им: не спорь с начальством, а они опять за свое. Не признают новых порядков, бестии, хоть на кол сажай.
Милютин и Васильчиков были подавлены увиденным. Но Граббе, напротив, Внезапная пришлась по душе. Пулло свое дело знал.
– Вы насчет беглых солдат говорили, – напомнил Граббе.
– Много ли таковых дезертиров?
– Раньше мало было, – отводил глаза Пулло.
– От долгов бежали, от расправ да муштры. Сапоги пропьет, вахлак этакий, и поминай как звали. А как стал Шамиль власть забирать, так не поймешь, с чего и бегут, особенно поляки.
– Известные смутьяны, – поморщился Граббе.
– Совершенно справедливо, – заметил Пулло.
– И чего их на Кавказ шлют? Слали бы в Сибирь остудиться.
Граббе хотел было высказать свое особое мнение насчет Чернышева и его военного управления, но сдержался.
– Кого куда посылать – на то есть Военное министерство, – поднял палец Граббе.
– А наше дело службу нести.
– Рады стараться, – кивал Пулло.
– Не щадя живота своего…
– Беглыхто ловите? – с надеждой в голосе спросил Граббе.
– Как поймаем – так расстрел по новому положению, чтобы неповадно было.
– А которые в плену у горцев, с ними как?
– Выкупаем, если солдат хороший, – объяснял Пулло.
– Или на соль меняем.
По крайности – на ихних же пленных или аманатов.
– Тех, что на цепи сидят?
– На них, разбойников. Вы бы, ваше превосходительство, распорядились, чтобы не всех в Сибирь. Они и тут пригодятся, для вымена.
– Там видно будет, – ответил Граббе, задумчиво покручивая ус.
– Да, вот еще что. Известите здешних владетелей, чтобы явились ко мне для совещания.
– Сюда вызвать мошенников? – спросил Пулло.
– Ханов, – строго поправил его Граббе.
– Пусть явятся в Шуру, я намерен отправиться туда в ближайшее время.
– Будет исполнено, – кивнул Пулло.
– Да уж извольте распорядиться, – велел Граббе.
Глава 18
Первой на Ахульго перебралась семья Шамиля. Тем самым имам дал всем понять, что обосновался здесь надолго. Следом потянулись семьи наибов и многих мюридов.
Поначалу всем было неуютно в ауле, задуманном как орудие войны. Люди привыкли к другим аулам, где хоть и учитывалась необходимость отражать неприятелей, но все же солнечный свет и радость жизни были весомее. Потому и строились аулы на склонах, обращенных к солнцу. Однако, попривыкнув на Ахульго, люди ощутили спокойствие, которого давно не чувствовали в своих аулах.
Жить в подземных катакомбах было непросто. Ночью бывало прохладно, зато днем не мучила жара. Освещались помещения бронзовыми масляными светильниками. Чтобы в жилища проникал дневной свет, Сурхай устроил специальные отверстия, которые можно было в случае необходимости закладывать камнями. Через них же поступал и свежий воздух. Для вделанных в стены очагов, которыми обогревали дома и в которых готовили еду, были устроены отдельные трубы.
Для скота были отведены загоны на краю горы, так, что со стороны Ашильты их не было видно.
Детям на новом месте нравилось. Они весело носились по подземным лабиринтам, играли с друзьями в прятки, ходили в гости и в школу при мечети, куда тоже можно было попасть подземными ходами. Взрослые предпочитали чаще бывать на поверхности, тем более что дел еще было много.
Временная резиденция Шамиля находилась в мечети – самом большом помещении на Ахульго и единственном, которое не было полностью под землей. И с его невысокого минарета уже пели муэдзины, призывая правоверных на молитвы.
Дом Шамиля был немногим больше тех, что предназначались для других семей, но привычная ко всему Патимат старалась создать уют и в этом жилище. На полу и стенах красовались ковры, а на полках в несколько рядов помещались всевозможная посуда, медные луженые кувшины, чеканные подносы, здесь же на стене висел учалтан – разукрашенный поставец для деревянных ложек, вилок и соли. У стены стоял большой деревянный ларь – цагур, покрытый нехитрой резьбой. Его Патимат привезла с собой из Чиркаты. В нескольких его отделениях хранились мука, кукуруза, бобы, орехи, сушеная курага и прочие запасы. Под потолком висели курдюки, сушеная баранина, вяленая колбаса. В специальной нише, в противоположной от очага стене, за деревянной дверцей, стояли глиняные кувшины с сыром, маслом и медом.
У жен были и свои отдельные помещения, которые трудно были назвать комнатами, потому что в них не было окон. Зато в каждой был сундук, в котором хранилась одежда, а сверху громоздились сложенные ковры, одеяла и подушки. А на стенах висело по зеркалу.
Они обустраивались здесь уже вторую неделю, но Патимат почти все приходилось делать самой. Джавгарат должна была вот-вот родить. Поначалу хотели перенести переезд, но обстоятельства звали Шамиля в очередной поход, и Джавгарат решилась ехать, чтобы ждать возвращения мужа уже на новом месте. Ее везли на арбе, пока позволяла дорога, затем пересадили на ослика, а на само Ахульго она уже взбиралась сама, поддерживаемая Патимат.
Когда они взошли на вершину горы, ее ребенок, который прежде вел себя тихо, вдруг заколотил ножками, будто чувствовал что-то недоброе. Джавгарат мысленно успокаивала его, уговаривала, называла ласковыми именами, но ребенок противился этому месту, пока не затих от усталости.
– Вот, поешь, – сказала Патимат, держа перед лежащей Джавгарат тарелку с блюдом для рожениц. Это была каша из разваренной муки, политая медом и маслом.
– Что-то не хочется, – отказывалась Джавгарат.
– Тебе не хочется, а ребенку надо, – настаивала Патимат.
Джавгарат через силу съела несколько ложек.
– А это больно? – спросила Джавгарат, проводя рукой по своему животу.
– Лучше подумай о том, как обрадуется Шамиль, когда ты родишь ему сына.
– А если будет дочь? – улыбнулась Джавгарат.
– Будет сестра для братьев, – сказала Патимат.
– Я хочу сына, – сказала Джавгарат.
– Если у всех будут одни сыновья, где мы возьмем им невест? – улыбалась Патимат.
– Мне кажется, это – сын, – прислушивалась к своему ребенку Джавгарат.
– Так сильно шевелится.
Патимат погладила встревоженную Джавгарат по голове и сказала:
– Аллах лучше знает. А твое дело – не переживать понапрасну. Главное, чтобы младенец родился здоровым. Береги силы, сестра.
Патимат заботилась о Джавгарат так, как не заботились о ней самой, когда ждала первого ребенка. Но в душе ей было немного грустно. Она чувствовала, что родится мальчик, знала, как будет рад Шамиль, хотя и постарается не показывать своего счастья. И понимала, что теперь главной в доме станет Джавгарат, хотя и не надолго, но по праву матери, родившей сына Шамилю.
– Иди, – сказала ей Джавгарат.
– Мне ничего не надо. Мне хорошо.
– Так и быть, схожу посмотрю, где мои сорванцы, – заторопилась Патимат.
– Тут кругом пропасти, а дети такие непоседливые.
Джавгарат осталась одна. Она смотрела в мрачный каменный потолок, на котором остались следы от кирки, и плакала. Она так хотела родить сына. И ей было так обидно, что родится он не в светлом доме, окруженном цветущим садом, как в родных Гимрах, а в подземелье, больше похожем на могилу, чем на дом.
Навещавшие ее женщины говорили, что ребенок должен был родиться несколько дней назад, еще до возвращения Шамиля. Но младенец как будто не хотел появляться на свет.
Шамилю об этом не говорили, но он знал, что ребенок вот-вот родится. В ожидании приятного известия он обходил Новое Ахульго, проверяя, как идут дела. Затем по бревенчатому мосту перешел на Старое Ахульго, где Сурхай тоже развернул большое строительство.
Каждый день приходили мастера и простые горцы, присланные наибами в помощь Сурхаю. И каждый день на Ахульго перебирались семьи ашильтинцев, приходили люди из других аулов и даже из мест, над которыми Шамиль не имел власти.
Они оставили свои дома и многие земные блага ради общего дела, из искреннего желания оставаться свободными и бороться за независимость всех остальных. Глядя на этих людей, Шамиль вспоминал те аулы, в которых недавно побывал. Люди там были разные. Одни звали его, чтобы избавиться от владычества ханов, другие желали влиться в Имамат, третьи признавали его власть, но не хотели признавать его законы. Иногда Шамилю казалось, что легче воевать с отступниками, чем приучать к порядку тех, кто и так был на его стороне. Еще много было в горах своевольных людей, которым законы шариата казались слишком обременительными.
– Имам, – окликнул его Юнус, сопровождавший Шамиля вместе с Султанбеком.
– Посмотри туда.
Шамиль вгляделся в ту сторону, куда указывал Юнус, и увидел, что к Ахульго приближается отряд горцев, сопровождаемый отарой овец.
– Судя по одежде, они с юга, – сказал Султанбек.
– Да это же Ага-бек! – обрадовался Шамиль.
– Ага-бек Рутульский! Отважный воин и умный человек!
Ага-бек был народным вождем Южного Дагестана. Его отряды не давали покоя царским властям от Дербента до реки Самур и даже дальше, за Кавказским хребтом, в Кубинском и Шекинском ханствах. В погоне за ним войска бросались то в одну сторону, то в другую, но Ага-бек отражал нападения и успевал поднять восстание в других местах. Волнения вспыхивали одно за другим, то в Табасаране, то в Кайтаге, то под самим Дербентом. Постоянное рассредоточение войск не давало Розену, а теперь и Головину собрать силы для решительного удара по Шамилю. Отряды Ага-бека все более усиливались, и он направлял их действия из своей ставки в Ахтах.
Шамиль вскочил на коня и выехал навстречу своему старому другу, с которым они познакомились, когда еще были учениками-муталимами. Завидев имама, соратники Ага-бека принялись гарцевать на конях. Тепло поздоровавшись с другом, Шамиль повел Ага-бека на Ахульго.
– Мне бы такую крепость, – восхищался Ага-бек, вникая в инженерные замыслы Сурхая.
– А мне бы твои густые леса, – улыбался Шамиль, польщенный тем, что гостю нравилась столица Имамата.
Они вошли в мечеть, совершили общую молитву, а затем расположились в углу на подушках.
– Я получил твое письмо, имам, – сказал Ага-бек.
– Но сразу приехать не смог. Зато поручение твое выполнил. У тебя теперь тысячи сторонников, которые передают тебе салам и молятся за твое благополучие.
– Я знал, что ты прибудешь, как только сможешь, – кивнул Шамиль.
– Удивляюсь, как тебе удалось пройти пол Дагестана вместе с отарой.
– Овец я приобрел по дороге, – сказал Ага-бек.
– Не все аулы, через которые мы проходили, любят твой шариат.
– Это верно, – согласился Шамиль.
– У нас тоже таких хватает.
– Вот я и решил их проучить, – усмехнулся Ага-бек.
– Не сами, так пусть хотя бы их бараны послужат святому делу.
– Ты отнял у них отару? – удивился Шамиль.
– Ну, я же не разбойник, – покачал головой Ага-бек.
– Мы посчитали их стада и отделили положенный по шариату налог на общие нужды. Царским властям они отдают во много раз больше.
– Да будет тобой доволен Аллах, как я тобой доволен, – сказал Шамиль.
– Будешь доволен ты, будет доволен и Аллах, – сказал Ага-бек.
– Чистые люди почитают тебя как пророка, да благословит его Аллах и приветствует.
– Не говори так, – покачал головой Шамиль.
– Пророк у нас один, а мы лишь стараемся идти по его пути.
– Вот что, Шамиль, – сказал Ага-бек.
– Мы с тобой старые друзья, и дело у нас общее. Но теперь наступают времена, когда нельзя, чтобы каждый вел свою войну.
– Затем я тебя и позвал, – согласился Шамиль.
– Если мы не сплотимся, мы будем побеждены.
– Царские войска усиливаются, – говорил Ага-бек.
– А чтобы поднять на борьбу больше людей, нужно, чтобы они шли за мной, как за тобой. Думаю, ты меня понимаешь.
– Брат мой, – сказал Шамиль.
– Если ты согласишься принять на себя звание наиба, ты окажешь мне честь и как имаму, и как твоему другу.
– Благодарю, Шамиль, – кивнул гость.
– Наиб Ага-бек не уронит своего звания.
В дверях мечети появился Юнус.
– Извините, что прерываю вашу бесед у.
– Говори, – разрешил Шамиль, знавший, что Юнус не стал бы понапрасну их тревожить.
– Прибыл посланец от Ташава-хаджи. У него важные новости.
– Я пойду полюбуюсь на твою крепость, – поднялся Ага-бек, желая оставить Шамиля наедине с новым гостем.
– Останься, – удержал его Шамиль.
– От тебя у меня секретов нет.
– Затем сказал Юнусу: – Пусть войдет.
Посланцем Ташава оказался юноша, который ездил по аулам как странствующий дервиш. В кувшине для омовения, который он возил с собой, было двойное дно. Оттуда он и достал письмо наиба.
Ташав сообщал, что в крепость у Эндирея прибыл большой начальник, генерал, который заменил умершего Вельяминова, того самого, который обстреливал из пушек башню в Гимрах, когда погиб первый имам. Что этот новый, которого зовут Граббе, наводит свои порядки, и вызвал в Шуру местных князей для важного совещания.
Отпустив посланца, Шамиль сказал:
– Я знал, что они снова пойдут на нас.
– А я слышал, что ты заключил с ними мир, – сказал Ага-бек.
– Заключил, когда генералу Фезе некуда было деваться, – горько усмехнулся Шамиль.
– И он первый его нарушит, если почувствует свою силу.
– Посмотрим, – сказал Ага-бек.
Вдруг неподалеку раздались выстрелы. Сначала один, а затем целая канонада.
– Что это? – удивился Ага-бек, хватаясь за кинжал.
– Не беспокойся, – улыбнулся Шамиль.
– Думаю, это хорошая стрельба.
В дверях появился сияющий Юнус.
– Поздравляю, имам! У тебя родился еще один наследник!
– Спасибо, Юнус, – ответил имам, снимая со стены свой пистолет и вручая его мюриду.
– Это тебе за радостную весть.
Когда Шамиль и Ага-бек вышли из мечети, к дому Шамиля уже спешили женщины. Завидев имама, они бросали на ходу:
– Пусть сын твой будет счастлив!
– Да порадует он отца!
– Пусть жизнь его будет долгой!
У дома Шамиля уже собрались мюриды и остальные жители Ахульго, и все поздравляли имама и пожимали ему руку по горскому обычаю.
В доме Шамиля собрались его родственницы. Одни готовили еду, а другие наряжали детскую кроватку. Это была деревянная колыбель с полукруглыми ножками, на которых она раскачивалась. Таким же округлым был и верх колыбели с продольной перекладиной. Колыбели передавались по наследству. В этой качала своих детей жена Шамиля Патимат, и могло оказаться, что и сам Шамиль когда-то лежал в ней младенцем.
Когда вошли Шамиль и Ага-бек, женщины встали, приветствуя мужчин, а из комнаты Джавгарат вышла старшая сестра Шамиля Патимат с плачущим младенцем на руках. Шамиль осторожно пожал крошечную руку сына. Младенец посмотрел на Шамиля и затих.
– На отца похож, – сказала Патимат.
– Похож? – улыбался Шамиль, теребя свою бороду.
– Когда родился, ты был точно таким.
– Пусть сын будет таким же сильным и благочестивым, как его отец, – сказал Ага-бек, снимая свой дорогой кинжал и кладя его на руки Патимат рядом с младенцем.
– Пусть будет лучше меня, – сказал Шамиль.
– Как себя чувствует его мать?
– Помучилась немного, – опустила глаза Патимат.
– Устала бедняжка, но теперь все хорошо.
– Присмотрите за ней, – попросил Шамиль и улыбнулся своему сыну, который не отрывал от отца своих серо-голубых глаз.
Когда они вернулись наверх, неподалеку уже резали жертвенных баранов.
– Это от меня! – помахал окровавленным ножом ашильтинский чабан Курбан.
– Даст Аллах, скоро и у моего сына появится наследник!
– Дай Аллах, дай Аллах, – кивал Шамиль.
– Когда у тебя родится внук, бараны будут мои.
Шамиль немного успокоился. Мир теперь казался ему прекрасным, как эти горы, окружающие Ахульго. И трудно было представить, что есть на свете что-то, что могло бы нарушить эту чудесную гармонию мироздания.
Вдруг раздался взрыв, от которого слегка задрожала земля. Это Сурхай на Старом Ахульго строил для людей подземные убежища. Осколки развороченной горы собирали, чтобы строить из них укрепления и завалы.
Со стороны Ашильты поднимались ослы, которые волоком тащили по паре бревен. Эти были бревна из разрушенных Фезе ашильтинских домов.
Затем раздался еще один взрыв. К этому все давно привыкли, но Шамилю послышалось, будто новорожденный испуганно заплакал.
На мавлид – благодарственную молитву собрался весь ахульгинский джамаат. Честь наречения имени сыну имама была предоставлена Курбану. Он взял младенца на руки и произнес:
– Бисмиллягьи ррахIмани ррахIим!
Затем нашептал на уши младенцу особую молитву, читаемую в таких случаях, и воскликнул:
– Да будет он Саид!
Имя это означало почетный титул наследников пророка.
– Да будет он Саид! – подхватили остальные.
– Да благословит его Аллах!
Утром Шамиль провожал Ага-бека.
– Я оставлю у тебя несколько своих людей, – сказал наиб.
– Это хорошие строители, располагай ими, как сочтешь нужным. И еще я оставлю тебе голубей.
– Голубей? – удивился Шамиль.
– Они обучены приносить письма. Когда захочешь приказать мне что-то, они доставят письмо в тот же день, а затем вернутся обратно.
Глава 19
На рассвете ворота крепости Внезапной открылись, из них выехала сотня казаков, а следом появилась коляска, в которой ехал Граббе с помощниками. Замыкало колонну походное орудие, прыгавшее на ухабах. Пулло проводил гостей через мост, проехал с ними аул Эндирей, а затем повернул назад.
Конечной целью путешествия Граббе была Темир-Хан-Шура, считавшаяся столицей Дагестана. И именно там, в непосредственной близости от владений Шамиля, Граббе предполагал составить окончательный проект кампании против имама.
Граббе пребывал в отличном расположении духа. Но когда он видел на дороге горцев, нехотя уступавших дорогу экипажу с эскортом и мрачно поглядывавших вслед, на сердце у него скребли кошки. Его все больше начинало раздражать, что тут всякий, на коне или арбе, ехал рыцарем, не признающим авторитетов. И гарантией его достоинства служили непременный кинжал, который он не замедлит пустить в ход по своему разумению. А встречались еще и с пистолетами. Казаки – другое дело, им по службе положено. А на что кинжалы этим бандитам?
– Необузданный народ, – размышлял Граббе уже вслух.
– Последний босяк, и тот генералом смотрит.
Молодые офицеры только переглядывались, не смея противоречить генералу. Дух воинской удали, царствовавший на Кавказе, живо напомнил им повести Марлинского. Им самим уже хотелось ощутить себя частью этого живого, поэтичного и полного опасностей бытия. Атмосфера противоборства, которой здесь все было пропитано, будоражила кровь и заставляла чаще биться взволнованные сердца. Они лишь беспокоились о том, смогут ли стать вровень с этим новым миром, не признающим слабости и лелеющим человеческое достоинство.
– Разоружу разбойников, – пообещал Граббе.
– Вот только с Шамилем разделаюсь.
Кавалькада миновала Чир-юрт и начала подниматься на невысокий перевал, за которым лежала Темир-Хан-Шура. Туда, на встречу с новым начальником, должны были явиться и горские ханы, которые желали покончить с Шамилем не меньше, чем Граббе.
Ухабистый серпантин дороги утомил генерала, и он задремал, продолжая думать о будущих своих подвигах и следующей за ними славе покорителя Шамиля. Граббе представилось, как он с супругой и детьми входит в императорский театр и садится в собственную ложу. Как занимает соседнюю ложу семейство самого императора Николая I. Как оркестр играет торжественную увертюру, прежде чем занавес откроется и явит изумленной публике сюрприз, приготовленный генералом Граббе.
Шамиль в колодках и на цепи – это будет поважнее взятия Парижа!
Наконец, увертюра заканчивается, и вступает труба, знаменуя великое историческое событие. Вот открывается занавес…И зал приходит в ужас перед устрашающего вида горой, которая, разламывая узкую для нее рампу, надвигается на зрителей.
Граббе очнулся, и видение исчезло. Но труба продолжала звучать. Генерал не мог сообразить, что это за мелодия. Ему казалось, что он уже где-то ее слышал. Откинув занавеску, Граббе выглянул в окно.
Они подъезжали к крепости. Почти рядом с дорогой, на пригорке, сидел музыкант, самозабвенно выводя печальную мелодию на сияющей от яркого солнца трубе. Он был в форме унтер-офицера Апшеронского полка и так увлекся, что не замечал ничего вокруг.
Граббе велел остановиться. Только теперь музыкант увидел кавалькаду, перестал играть и вытянулся по струнке. Точно так же вытянулись и его сослуживцы, державшие в руках военные горны.
Желая окончательно избавиться от преследующего его видения, а заодно размять ноги, Граббе вышел из кареты и направился к музыкантам. К тому же он любил музыку, особенно военную. Увидев генерала, солдаты отдали честь и дружно прокричали:
– Здравия желаем, ваше превосходительство!
Граббе понравилось, как его приветствуют, лишь несколько смущал польский акцент трубача.
– Подходи, – велел ему Граббе.
Трубач, держа руку у козырька и выпятив грудь, отчеканил три шага.
– Апшеронского пехотного полка старший музыкант по вашему приказанию…
– Как звать? – перебил его Граббе.
– Стефан Развадовский, ваше превосходительство.
– Поляк? – спросил Граббе, хотя сомнений и без того уже не оставалось.
– Так точно, ваше превосходительство!
– Почему играешь не по уставу?
– Легкие разминал, ваше превосходительство! Доктора велели.
– И как же именуется их рецепт? – усмехнулся Граббе.
– Полонез. Композитора Огинского.
– А, бунтовщика! – вспомнил Граббе.
– Графа, ваше превосходительство, – уточнил унтер.
Граббе, не сносивший непочтительного отношения, тем более от каких-то унтеров, грозно уставился на поляка и приказал.
– Играй генерал-марш.
Поляк взял наизготовку трубу и заиграл так, что Граббе сменил гнев на милость, а затем повелел:
– И остальных выучи.
– Слушаюсь, ваше превосходительство! – отдал честь унтер.
– Налево кругом, в свое место, – скомандовал генерал и вернулся к своей карете.
Перепуганные солдаты едва дождались, пока генерал уедет. Переведя дух, они накинулись на Стефана:
– Ты что же, унтер, под монастырь нас подвести хочешь?
– Дальше Кавказа не пошлют, ясные пане, – успокоил их Стефан.
– Сослать – не сошлют, а сквозь строй провести могут, хоть ты и пан, – сердились солдаты.
– Выпороли бы самого розгами, хоть разок, знал бы как с генералами разговаривать!
Унтер хоть и был младшим офицером, но солдаты с ним не церемонились, не признавая поляка настоящим начальником. От настоящих можно было получить зуботычину, а этот требовал только правильной игры, и остальное его не интересовало.
Стефан преспокойно открыл тетрадочку с нотами и положил ее перед трубачами:
– По нумерам играй.
Горнисты уставились в ноты и начали прилежно выдувать простые, но такие важные на войне сигналы.
Стефан снял фуражку, под которой обнаружилась рыжая шевелюра, отер выступивший от напряжения пот и бросил вслед Граббе:
– Пся крев, что означало по-польски «собачья кровь».
Полковые музыканты расположились здесь, потому что в Шуре их гоняли из казармы в казарму. Когда офицеры играли в карты, музыка им мешала. Другое дело – балы и представления, где Стефан с оркестром, который он умудрился создать из солдат, был непременным участником. Он потому и выбился из солдат в унтеры, что дамам нравилась его музыка, и они уговорили мужей поспособствовать повышению Стефана.
На Кавказ он был сослан шесть лет назад. Он не был участником Польского восстания, как большинство его здешних земляков. Не увлекался он и патриотическими мечтаниями или сочинением предосудительных песен. Он просто учился в консерватории, мечтая стать великим музыкантом. Но однажды, когда он навещал родителей в их имении, к ним нагрянули повстанцы. Отец дал им еды и денег, но принимать в доме отказался, опасаясь стоявших неподалеку полков Паскевича. Повстанцы укрылись в соседней роще, а ночью появились драгуны, которым кто-то донес, где прячутся бунтари. Увидев, как кавалерия окружает рощу, Стефан открыл окно отцовского дома и сыграл воинские сигналы, предупреждая повстанцев об опасности. Партизаны успели уйти, а Стефана схватили как сообщника бунтовщиков.
На Кавказе он участвовал в нескольких походах, но предпочитал играть, а не стрелять. Музыканты были в цене, и Стефана оставили при его нотах. Труба его всегда сияла, как отточенная шашка, но музыка облегчала душу. Да и другим в тяжелых походах хотелось забыться в музыке жизни, когда становилась невыносимой музыка смерти, исполняемая пулями и снарядами.
Он видел, как похожи судьбы Кавказа и Польши, знал, что поляки перебегают к горцам, желая бороться «За нашу и вашу свободу», и не раз подумывал последовать их примеру. Но мысли о семье его останавливали. Отец Стефана скончался от сердечного удара, когда арестовали сына и конфисковали имение. Для несчастной матери и двух его сестер Стефан был последней надеждой.
Не проявляя служебного рвения, Стефан втайне надеялся выбиться в старшие офицеры, когда он сможет сыграть прощальный марш и отправиться на обожаемую родину к матери и сестрам.
Встречать Граббе выехал командир Апшеронского полка полковник Попов, в пышной свите которого было и несколько беков из горской знати.
Торжественно представившись командующему, Попов почтительно поехал рядом с каретой.
– А что ваш музыкант? – спросил Граббе.
– Строптив не по чину?
Уразумев, что Граббе уже имел удовольствие с ним пообщаться, полковник сообщил:
– Более ничего предосудительного не замечено.
– Хорошо ли служит?
– Не нарадуемся, ваше превосходительство, – выгораживал подчиненного командир.
– У нас тут образовалось общество. Так если праздник какой или полковые учения – музыка выше всяких похвал.
– Я на тот предмет спрашиваю, – говорил Граббе, – что люблю искусство.
– Смею надеяться, что у нас вам скучать не придется, – уверял Попов.
– Бывало, корпусной командир нагрянет – сейчас же требует наших музыкантов.
– Музыка на войне – первое дело, – согласился Граббе.
– Или если поход – тоже все в лучшем виде, – хвалился Попов.
– Белиссимо, если позволите так выразиться. Стоит нашему полковому оркестру пустить в ход свои орудия, так, не поверите, горцы порой разбегаются.
– Это я одобряю, – кивнул Граббе.
– Им бы трубы Иерихонские, – мечтательно закатывал глаза Попов.
– Так и горы бы рушили.
Он надеялся, что поляк уже позабыт. В Шуре генерала ждали с хлебом-солью, и Попов старался произвести на новое начальство самое благоприятное впечатление. А там, глядишь, отбудет Граббе в свой Ставрополь, и в Дагестане опять наступит затишье. Попов устал от бесконечных походов, не приносивших никакой пользы. Он хотел лишь одного – дотянуть до отставки, следуя старому кавказскому правилу: «Ни на что не напрашиваться, ни от чего не отказываться».
Глава 20
Слева от въезда в Шуру располагался артиллерийский парк. Вдоль крепостной стены стояли в ряд орудия, отливая на солнце темной медью. Артиллеристы дремали в палатках, а вдоль пушек разгуливал вихрастый ротный воспитанник Ефимка, одетый в белую солдатскую форму. За ним гуськом шли восхищенные местные мальчишки. Они были босы, но при кинжалах, а их стриженые головы украшали драные папахи.
Мальчишки принесли с собой корзину винограда и держали наготове спелые кисти, чтобы их сверстник-пушкарь вдруг не передумал и не прогнал их.
Ефимка состоял на довольствии артиллерийской роты. На самом деле, он ни в каких списках не значился, но канониры относились к нему как к родному сыну. Попал Ефимка на Кавказ необыкновенным образом. Однажды, когда через их деревню следовала конноартил-лерийская рота, тяжелая повозка увязла глубоко в грязи, провалившись в невидимую яму. Ефимка возвращался с речки, где ловил карасей, и был поражен грозным видом орудий, стоявших вдоль дороги.
Пока мужики волокли бревна и извлекали повозку из ямы, Ефимка, сам не зная как, залез в зарядный ящик. Когда пушки двинулись дальше, на дороге остались удочка Ефимки и три тощих карася. Он долго сидел в ящике, боясь высунуться, чтобы его не прогнали. Ему было страшно, но еще страшнее было оставаться в деревне, где барин собирался обменять его на какую-то породистую собаку. Когда Ефимку нашли, артиллеристы не стали прогонять мальчишку и уговорили своего командира оставить его при роте. Так он и уехал с ними на Кавказ.
Ефимке дали фамилию Пушкарев и берегли, как родного. Он и был им родным, потому что свои семьи многие успели позабыть за долгую службу. А этот сорванец грел их простывшие души, напоминая о семье и детках.
Ефимка лакомился виноградом и со знанием дела толковал об орудиях.
– А это видали? – гладил он пушку с торчавшими сверху ручками, стоявшее на длиннохвостом лафете.
– Единорог! Гранаты бросает.
– Эдинрог, – повторяли мальчишки.
– А почему единорог? – важно спрашивал Ефимка.
– Не знаю, – пожимал плечами босой горец.
– Сюда глядите, – показывал Ефимка выбитого на стволе зверя, похожего на коня, но изо лба которого торчал длинный прямой рог.
– Аждаха? – удивлялись ребята.
– Конь рогатый, – объяснял Ефимка.
– Князей Шуваловых герб!
– Киняз? – удивлялись ребята.
– У наш киняз такой нет.
– Толкуй с вами, татарва, – махнул рукой Ефимка и принялся за новую гроздь.
– Мы не татар, – объясняли ребята.
– Мы – кумык, а он, – они показали на самого маленького, – авар.
Но Ефимка уже демонстрировал другое орудие, похожее на бочонок.
– Мортира!
– Ваа-а… – тянули ребята.
Они со страхом трогали пузатую пушку и заглядывали в ее короткое жерло.
– Не тронь! – отогнал ребят Ефимка.
– Чисти потом после вас. И так руки отваливаются.
Ребята нехотя отошли от пушки.
– Это когда крепость или абреки на горе засядут, – просвещал Ефимка.
– А мы их навесным огнем! Ядра – что арбузы ваши, сунешь сюда, а он подскочит и накроет, хотя абреков и не видать.
– Абрек, да, – соглашались ребята.
– Он тебе секир башка будет делат.
– Руки коротки, – важно ответил Ефимка.
– А сунется – мы его картечью! Вона, двенадцатифунтовая, – показывал Ефимка следующее орудие.
– Раз только, и готово!
Затем Ефимка перешел к горной артиллерии.
– А эти – на Шамиля вашего в самый раз.
– Шамиль? – удивлялись ребята и недоверчиво цокали языками.
– Шамиль твоя пушка вниз бросит.
– Куда ему, – качал головой Ефимка.
– Она, знаешь, какая тяжелая. Четыре лошади еле волокут.
Затем Ефимка открыл зарядный ящик и показал ребятам ядра.
– Видали? Против наших снарядов никакая крепость не устоит.
Ребята со страхом смотрели на лоснящиеся, смазанные маслом ядра. Затем старший показал на стоявший у стены пушечный шомпол.
– Эта зачем?
– Банник, дурья твоя башка! – рассмеялся Ефимка.
– Батька твой, когда стреляет, ружье чистит?
– Да, – ответил паренек.
– Вот и пушки чистят. Я тоже умею!
Ефимка ухватил банник и собрался было сунуть его в жерло горной пушки, когда из палатки показался старый фельд фебель Михей с седой окладистой бородой.
– Фимка! – прохрипел он.
– Гони со двора лазутчиков!
– Кунаки мои, – гордо сообщил Ефимка, делая ребятам знаки, чтобы те уходили.
– Винограду вот принесли!
– Тогда и нам тащи, – сказал Михей, зевая и потягиваясь.
– А пущать никого не велено!
Ребята убежали вовремя, потому что к артиллерийскому парку приближалась большая кавалькада.
Уже подъезжая к воротам Шуринской крепости, Граббе заприметил орудия, и пушечная душа его не выдержала искушения.
В парк влетел адъютант Попова и заорал:
– Выходи строиться! Неча на службе дремать!
Палатки зашевелились, из них высыпали солдаты, и через минуту орудийная прислуга уже стояла по своим местам.
– Здорово, молодцы! – крикнул Граббе, любуясь на выправку артиллеристов.
– Здравия желаем, вашество! – грянули пушкари.
– Каково служится?
– Рады стараться, вашество!
Граббе заметил Ефимку, который стоял позади своего расчета с приставленным к ноге, на манер ружья, банником.
– А это что за воин? – повернулся Граббе к Попову.
– Сирота, – доложил Попов.
– Пригрели по милосердию. Расторопный малый.
Граббе подошел к Ефимке, зажмурившему от страха глаза, и одарил его гривенником.
– Благодарствуйте, ваше превосходительство! – заорал Ефимка, зажав монету в кулаке.
– Орел, – похвалил Граббе.
– Из таких генералы выходят.
Ефимка покраснел от удовольствия и сказал:
– Еще увидите, какой я солдат!
– Усердствуй, – кивнул Граббе, похлопал по единорогу и вдруг скомандовал: – Заряжай!
– Холостым прикажете? – осведомился Попов, когда вокруг забегала пушечная прислуга.
– Гранатой.
– Гранатой заряжай! – крикнул Попов.
Артиллеристы по заведенному порядку снарядили орудие.
– Куда прикажете целить? – спрашивал Попов, все еще надеясь, что это только проверка орудийного расчета.
Граббе прикрыл глаза от солнца и отыскал глазами пригорок, на котором упражнялись музыканты. Было слышно, что Стефан опять принялся за неуставные мелодии.
– Поляка видите?
– Так точно, ваше превосходительство, – отвечал Попов.
– Цельте выше.
Когда пушка была наведена, Граббе скомандовал:
– Пли!
Пушка громыхнула, выбросив вслед за гранатой язык пламени и сизое облако дыма. Граната пролетела над музыкантами и разорвалась среди деревьев, спугнув стаю ворон, которые представились Граббе разбегающимися мюридами.
Музыка на мгновенье смолка. Затем послышался еще неумелый сигнал горниста, выдувавшего «На караул!».
– То-то, – удовлетворенно сказал Граббе и пошел к карете.
– Музыка и пушки – это уже кое-что, – думал про себя генерал.
– Как тут в поход не сходить?
Глава 21
На Водах царило беспокойство. Неожиданное известие о назначении Граббе командующим войсками на Кавказской линии и в Черномории наделало много шума.
– Тот самый Граббе! – волновалось общество.
– Вот как Планида распоряжается!
– Кто бы мог подумать?
– А ведь гуляли по одним улицам!
– И в ресторации имели честь беседовать. И вот на тебе!
Одни уверяли, что ему далеко до покойного Вельяминова. Другие полагали, что теперь дела поправятся, что горцы присмиреют, и война скоро закончится. Упрямый и своенравный характер Граббе сделался теперь важным достоинством, каким не обладал Вельяминов. Поговаривали, что Граббе не станет читать в походах Вольтера, а примется учить горцев российским законам.
Бывшие декабристы приуныли. Одно дело было глумиться над почти отставленным в запас генералом, променявшим идеалы на карьеру, и совсем другое – служить под его начальством.
Засидевшиеся на Водах искатели воинских почестей ринулись в Ставрополь, в штаб, к Траскину, про которого шла молва как о человеке добром, который может и помочь с хорошим назначением. Но более честолюбивые бросились сразу в Дагестан, где предполагались главные события. Затем начали возвращаться в свои полки излечившиеся офицеры. Тех же, кто не особенно торопился, отыскивали жандармы и предъявляли суровые предписания, в которых предлагалось выехать немедленно в свое место службы. Офицеры расписывались на обороте предписаний в том, что их читали, и принимались за сборы. Но многим не хотелось менять веселую жизнь на Водах на беспокойные военные будни, и они бросались к докторам, чтобы добыть свидетельство о болезни. Счастливчиков помещали в госпитали, а так как мест там было немного, то их отпускали на квартиры.
Граббе слишком хорошо знал нравы, царившие на Водах, и требовал безотлагательно очистить их от симулянтов и бездельников. А болтунов отправлять в первую очередь.
Екатерина Евстафьевна Граббе, пребывавшая в страхе и потерявшая от волнений сон, облегченно вздохнула. Чего только она не передумала за время, пока не было известий от мужа, каких только ужасов себе не представляла, а дело обернулось совсем иначе.
Теперь она тоже волновалась, но уже совсем по другому поводу. Муж велел ей перебираться с семьей в Ставрополь, где будет дом Граббе, положенный ему по должности. Прибыли даже квартирмейстер с помощниками, чтобы перевезти семейство. Но Екатерина Евстафьевна, как ни старалась, все не могла собраться. Она отвыкла от походной жизни, да и дети подрастают, что им делать в Ставрополе? Она слышала, что городок этот неуютный, продуваемый всеми ветрами, а вся светская жизнь заключается в званых обедах. И что вместо вечерних оркестров на Пятигорском бульваре будет только тоскливая ночная перекличка часовых: «Слу-у-шаай!..».
Но делать было нечего, и день отъезда неумолимо приближался. Впрочем, расстройство Екатерина Евстафьевна тщательно скрывала, тем более что к ним теперь зачастили старые знакомые, которые прежде их сторонились. Власть притягивала людей, как жезл заезжего фокусника притягивал всевозможные предметы. Он называл это электрическими опытами. Екатерина Евстафьевна называла вспыхнувшее вокруг почтение завистью и лицемерием. Фокусник, лишившись публики, готов был гастролировать во фронтовых полках.
В эти дни Екатерину Евстафьевну постиг еще один удар. Лиза, к которой она привыкла, как к родной сестре, объявила, что ехать в Ставрополь не может.
Казалось бы, все устроилось. Мужа ее, Михаила, произвели в прапорщики. И даже каким-то чудом петербургская кузина Лизы, фрейлина императрицы, сумела получить и прислать ей эполеты для бывшего декабриста, выбившегося в офицеры. Эполеты, пусть и не золотые, как у Граббе, зато украшенные маленькой звездочкой, Лизе были дороже генеральских. Вместе с эполетами прислана была копия приказа о производстве Нерского в прапорщики. Но это-то и сыграло роковую роль. Теперь Лиза твердо решила сама отправиться в Дагестан, чтобы, наконец, встретиться с мужем и подарить ему его эполеты, ради которых она окропила горестными слезами столько писем к фрейлине императрицы. В чиновничью расторопность она уже не верила. Зато видела, что на Воды каждый день привозили раненых, и многие из них умирали.
Офицеру полагался отпуск. Но и Лизе пора было отдохнуть от стольких лет ожидания. А еще, она знала, офицер может подать в отставку. И Лиза тайно надеялась вовсе вырвать из беспощадных лап войны обожаемого супруга, с которым еще не провела ни одной ночи.
Женщина поплакали, попеняли на судьбу, и семейство Граббе отбыло в Ставрополь. Проводив карету, Лиза долго смотрела ей вслед. А затем подняла глаза на горы, за которыми томился ее несчастный супруг. Она ждала его уже двенадцать лет, она не видела его целую вечность. За эти годы многое переменилось, но воспитанные в ней понятия о супружеской верности и обязанностях благородных дам Лиза берегла, как святыню. Разве что с годами изменилась она сама. Зеркало было безжалостно, но Лиза оставалась тверда в своих убеждениях. И знала, что ее долг – спасти супруга.
Она перечитала его письма, расцеловала долгожданные эполеты и отправилась искать попутчика, которому могла бы довериться. На эту роль Лиза избрала смешного и горячего Аркадия.
Она опасалась, что он уже уехал, как другие волонтеры, спешившие за открывающимися возможностями, как бабочки на огонь.
Об Аркадии никто не говорил ничего определенного. Старых его приятелей как ветром сдуло. Почти отчаявшись найти Аркадия, Лиза зашла в магазин Челахова, где все что-то покупали в дорогу. Продавец долго морщил лоб, пока не припомнил, о ком идет речь.
– Здеся, – кивнул продавец.
– Намедни хотел кинжал вернуть за полцены.
– Отчего же – вернуть? – испугалась Лиза, которая теряла попутчика.
– Он ведь на войну собирался?
– Известное дело, – усмехнулся продавец.
– Небось, в карты продулся.
Он наговорил еще много нелепостей, которые никак не могли относиться к Аркадию, которого Лиза знала как человека порядочного и воздержанного, если не принимать во внимание его блажь насчет вызова на дуэль самого Шамиля. Хотя на Воды и не такие еще оригиналы заворачивали. Во всяком случае, было ясно, что Аркадий еще не уехал. А может, потому и не уехал, что находился в стесненных обстоятельствах.
Лиза лихорадочно размышляла, где еще можно искать Аркадия, и вдруг вспомнила: «Седьмой нумер!». Кажется, туда он просил отнести свои покупки, когда они познакомились в магазине.
Ей было неловко идти в гостинцу, тем более одной. Но ноги сами несли ее к зданию, пользовавшемуся в городе сомнительной славой. Выждав, когда проедет экипаж, в котором ехали знакомые дамы, вдовы полковников, Лиза раскрыла веер и, стараясь быть неузнанной, вошла в гостиницу.
– Чем могу? – нахально уставился на нее лакей.
– Мне господина Синицына из седьмого нумера, – взволнованно выдохнула Лиза.
– Напрасно стараетесь, дамочка, – ухмыльнулся лакей.
– Они нынче на мели. Вторую неделю за нумер не платят.
– Веди, – велела Лиза, едва сдерживая негодование от оскорбительного лакейского обращения.
– Извольте.
Лакей провел ее на второй этаж и бесцеремонно толкнул незапертую дверь.
– Пошел прочь! – раздалось из номера.
– Когда прикажете получить по счету? – полюбопытствовал в ответ лакей.
– Сколько вам причитается? – спросила Лиза, открывая сумочку.
– С обедами – сорок шесть рублев, – прикинул лакей.
Лиза брезгливо сунула ему ассигнацию и закрыла за собой дверь. Лакей присвистнул от удивления, почесал затылок и убрался.
– Господин Синицын? – позвала Лиза, стоя у двери и еще не видя Аркадия.
– Чего еще? – снова послышался голос Аркадия.
Затем он появился и сам, небритый, с кинжалом в руке и сильно старясь походить на свирепого черкеса. Аркадий был в легком подпитии, но, увидев Лизу, мгновенно протрезвел.
– Чему обязан, сударыня?
Он спрятал кинжал в ножны и засуетился, приводя себя в порядок.
– Вы еще хотите вызвать Шамиля на дуэль? – спросила Лиза.
– А вам какое дело? – обиженно ответил Аркадий.
– Все уже уехали, – сказала Лиза.
– И если вы не передумали, я готова поехать с вами.
– Со мной? – сел от удивления Аркадий.
– И немедленно.
– Это невозможно, – покачал головой Аркадий.
– Отчего же невозможно? – огорчилась Лиза.
Опомнившись, Аркадий вскочил с кресла и предложил его даме.
– Присаживайтесь, сударыня. Прошу прощения, я несколько не в том виде…
Аркадию очень не хотелось рассказывать Лизе про сложные обстоятельства, приведшие его в такое положение, но он все же не выдержал.
– Все дело в пистолетах, – почти выкрикнул Аркадий.
– Они не в порядке? – не понимала Лиза.
– Напротив, они в отменном порядке. Я уже имел честь сообщать вам, что надежнее этих пистолетов не сыскать.
– Тогда я вас не совсем понимаю, – пожала плечами Лиза.
– Один мой приятель одолжил их на дуэль, – начал рассказывать Аркадий.
– Вы же знаете, тут все подряд стреляются от нечего делать… Судьбу испытывают… Или за карточные долги – один другому оскорбление сделает, а тот его к барьеру. Таким образом, выстроилась очередь, и получить мои пистолеты обратно не было никакой возможности.
– Боже мой! – всплеснула руками Лиза.
– Что же они на саблях не дерутся?
– Шик не тот. Им подавай французские пистолеты. Сначала клико, шампанское, тоже французское, а потом – стреляться.
– Да ведь это запрещено, – говорила Лиза.
– У нас много чего запрещено, а делается. Попы тоже говорят, мол, грех это, самоубийство. Ни отпевать не хотят, ни хоронить на кладбище. Так их за погостом, как скотину, закапывают. Сколько я их отговаривал – не слушают. Зелен, говорят, духу нашего не понимаешь. Это, брат, говорят, – Кавказ!
– А вы скажите, что вам и самому стреляться надо, – посоветовала Лиза.
– Пробовал, – сокрушался Аркадий.
– Даже хотел вызвать одного капитана на дуэль. Шулер! Обобрал меня до нитки, а карты оказались крапленые. Послал к нему секундантов, а его и след простыл. В ту же ночь в полк свой отбыл. Авось, не моя, так черкесская пуля его отыщет.
– Как это неблагородно, – сказала Лиза.
– А остальные как сговорились, никто не хочет со мной стреляться, – разводил руками Аркадий.
– Тебя подстрелят, говорят, а нам потом с Шамилем воюй. Уж лучше ты, говорят, сперва сам с ним сойдись, как мечтаешь. На двадцать шагов.
– И что же теперь? – пыталась добраться до главного препятствия Лиза.
– А теперь и того хуже. Последний, кто должен был стреляться, противника не дождался. Того полиция выслала к месту службы. А этот с горя заложил мои пистолеты ростовщику. А потом и самого в полк отозвали.
– Час от часу не легче, – вздыхала Лиза.
– Катастрофа! – соглашался Аркадий.
– Батюшка денег не шлет. Требует, чтобы назад воротился. Хоть сам стреляйся, то есть вешайся. Застрелиться – и то нечем.
– Кажется, вашей беде можно помочь, – сказала Лиза.
– Нет, сударыня, все кончено!
– Мы выкупим ваши пистолеты, – пообещала Лиза.
– Что вы такое говорите! – воскликнул Аркадий.
– Мне за нумер платить нечем.
– Не беда. Я сама выкуплю ваши пистолеты.
– Я не могу этого позволить.
– Аркадий сложил на груди руки.
– Я дворянин.
– Поедемте к ростовщику, пока не поздно, – просила Лиза.
– Я сам все поправлю, – упорствовал Аркадий.
– Пока кто другой не выкупил, – уговаривала его Лиза.
– Я найду средства, – стоял на своем Аркадий.
– А за достоинство свое не беспокойтесь, – утешала его Лиза. Затем подошла к Аркадию и, чуть коснувшись губами, поцеловала его в щеку.
– Лиза! – вспыхнул от смущения Аркадий.
– Проводите меня до Дагестана, – попросила Лиза.
– Мне к мужу надо. А взамен я подарю вам пистолеты.
– Не знаю, могу ли я так поступить, – усомнился Аркадий, хотя предложение ему показалось убедительным.
– Пистолеты мне ни к чему, – улыбнулась Лиза, вставая.
– А вам они еще могут понадобиться.
Пистолеты были выкуплены в тот же день.
Теперь нужно было найти способ доехать до Дагестана. Пролеток было много, но ни один кучер не соглашался ехать без охраны. Оставалось ждать оказию, которая бы направлялась в Дагестан с конвоем.
Глава 22
Крепость Темир-Хан-Шура была центром военного управления Дагестана. Здесь же располагалась штаб-квартира Апшеронского пехотного полка – непременного участника всех баталий с горцами. Крепость располагалась у одноименного аула, получившего свое название от завоевателя Тимура, который некогда стоял здесь лагерем. Ермолов не счел необходимым менять столь значимое название.
Крепость страдала от недостатка хорошей воды и от пыли, которая после дождей обращалась в непролазную грязь. Однако стратегическое положение Шуры, считавшейся воротами в горный Дагестан, превосходило ее недостатки. Крепость была обнесена рвом, защищена батареями крепостных пушек, у трех ворот – Дербентских, Ишкартынских и Кафыр-Кумухских – стояли часовые.
Отсюда был ясно виден хребет, отделявший владения Шамхала Тарковского, на земле которого располагалась Темир-Хан-Шура, от горной обители свободы.
Вокруг крепости стояли кавалерийские части, дозоры и сторожевые башни, между которыми сновали патрули. Но после перемирия, заключенного Шамилем с Фезе, плоскость никто не тревожил, и жизнь в Шуре стала напоминать жизнь губернского городка. Вдоль прямых улиц выросли каменные здания, появилась церковь, образовалось кое-какое общество, по тротуарам прогуливались офицерские жены с детьми. Вечерами давались представления, ночами кутили и играли в карты. Была даже небольшая библиотека, но офицеры читали мало и больше были заняты обсуждением штабных интриг, грезами о повышении в чинах, гипотезами о предстоящих военных действиях и следующих затем наградах.
В городке открывались магазины, торговцы, откупщики и подрядчики из разных народов быстро находили общий язык и заметно развивали свои предприятия. Ремесленники и портные удовлетворяли потребности все более взыскательного населения. По воскресеньям у крепости разливался большой базар.
Попов, получивший полк после гибели прежнего командира графа Ивелича под Ашильтой, во время похода Фезе, старался поддерживать на своем участке спокойствие. В том, что военные действия возобновятся, он не сомневался, но излишне горячим подчиненным твердил: «Не буди лиха, пока оно тихо».
Однако по всему было видно, что спокойствию приходит конец. Сначала в город слетелись «фазаны», взбудоражившие полусветскую жизнь Шуры столичным лоском. Затем начались лихорадочные инспекции, обнаружившие не только финансовые злоупотребления, но и значительную убыль в войсках, когда ни одна часть не могла похвастать полным комплектом, а порой не хватало и половины. И вот теперь пожаловал сам командующий Линией, генерал с богатой боевой биографией и не заглаженной виной перед государем.
– Этот наделает делов, – невесело размышлял Попов.
– Такому только дай.
Подъехавшего к штаб-квартире Граббе встретили хлебом-солью. Он откушал, надломив каравай и тронув им соль. Затем полковой священник осенил генерала иконой и пропел «Многая лета». Граббе был лютеранского вероисповедания, но православному обряду не противился и только радовался, видя, как воодушевленно крестятся тысячи его подчиненных.
Устроившись в гостевой квартире и отобедав, Граббе взялся за дела.
– А что господа местные владетели? – спрашивал он Попова.
– Все извещены, ваше превосходительство, – сообщил полковник.
– И где же они?
– Не сегодня-завтра будут, ваше превосходительство.
– Отчего задержка? – недовольно смотрел Граббе.
– Разве они не на службе его величества?
– Так точно, и жалование получают, – подтвердил Попов.
– И не малое, я полагаю.
– По две тысячи рублей серебром. И прочие также ассигнования. К примеру, на содержание милиции.
– Любопытно было бы взглянуть на отчетность в полученных деньгах, – с подозрением сказал Граббе.
– Боюсь, ваше превосходительство, что это будет затруднительно, – развел руками Попов.
– В каком это смысле? – возмутился Граббе.
– Прошу принять во внимание, что они понятия не имеют об установленных формах насчет денежного содержания, – объяснял Попов.
– Но это еще полбеды…
– Я самоуправства не допущу! – стукнул кулаком по столу Граббе.
– Я уже имел честь докладывать по начальству, – продолжал Попов.
– С ханами приходится иметь особое обхождение. Одним словом, если станем требовать от них отчета в законном употреблении сих денег, то вряд ли чего дождемся. А то, что мы не увидим их милиций, когда возникнет надобность, – это уж как Бог свят.
– Дас, – недовольно протянул Граббе.
– Так уж тут заведено. Податей предписанных – и тех не платят. И даже арбы для походных нужд присылают через раз, хотя арбяная повинность возложена по закону. А не заплатишь – такую арбу пришлют, что волы на ходу дохнут.
– Так явятся эти мошенники или нет? – вопрошал Граббе.
– Будут, – заверил Попов.
– Потому как Шамиль им уже поперек горла стал. Задержка проистекает лишь по удаленности их от Шуры.
– Изъясняйтесь точнее, господин полковник.
– Во владениях у них неспокойно, – объяснял Попов.
– Агитаторы Шамиля подбивают жителей к неповиновению.
– А ханы что же? – вскинул брови Граббе.
– Приводят подданных своих в покорность, ваше превосходительство.
– Надеюсь, успешно?
– Отчасти, – кивнул Попов.
– Говорите, как есть, – велел Граббе, начиная терять терпение.
– По правде сказать, ваше превосходительство, – развел руками Попов, – ханы здешние – еще те правители.
– Пьяницы? – предположил Граббе.
– Пить – не пьют, вера не позволяет, – говорил Попов.
– Зато так распоясались, что народ готов их растерзать и без шамилевских проповедей.
– Что же, и закона на них нет? – недоумевал Граббе.
– Мы в их дела не вмешиваемся, – рассказывал Попов.
– А они под нашим крылом осмелели и принялись такими податями народ обкладывать, каких никогда и не было. Вот население и склоняется к Шамилю.
– Зачем же своими руками бунтарей плодить? Неужто нельзя этот произвол как-то пресечь?
– Стали мы к ним помощников наших назначать, офицеров, для ведения переписки и наблюдения за прочим.
– И что, присмирели?
– Куда там! – покачал головой Попов.
– Это же сущие деспоты! А уж про вольные общества в горах и говорить не приходится.
– То есть как – вольные? – не понял Граббе.
– Дагестан, изволите ли видеть, большой, – пустился объяснять Попов, раскладывая на столе карту.
– Почти все, что вдоль моря Каспийского, издавна в руках князей местных – шамхалов, уцмиев, ханов и прочих владетельных лиц.
– А то, что в горах?
– В горах тоже есть влиятельные дома, – показывал на карте Попов.
– К примеру, Кази-Кумухское ханство. Или вот ханство Хунзахское, которое теперь в Нагорном Дагестане, наш главный союзник. Остальное все по природной недоступности, или вовсе независимо ни от какой власти, как веками сложилось, или приняло сторону Шамиля.
– А сам-то он где засел? – разглядывал карту Граббе.
– Вот здесь его ставка, – показывал Попов.
– По полученным сведениям, имам новый замок опять на Ахульго возводит. Место, доложу вам, ужасное, головоломной крутизны.
– Господин поручик, – обернулся к Милютину Граббе.
– Полюбопытствуйте.
Но Милютин, стоявший с Васильчиковым за спиной у Граббе, и без того уже рассмотрел карту.
– Осмелюсь доложить, карта никуда не годится, – заявил Милютин.
– В каком смысле? – запротестовал Попов.
– Я по ней с генералом Фезе на Ахульго… Вернее мы ее потом нарисовали, после похода.
– Оно и видно, – сердился Граббе.
– Где были, то и обозначили. Одну только дорогу и вижу, до Хунзаха. А если другим путем идти?
– Тут, ваше превосходительство, особенное дело… – замялся Попов.
– Бывает, известна дорога, а как сунешься – ее и нет.
– Как это нет? – не понял Граббе.
– Выходит, лазутчики ваши даром хлеб едят?
– Осмелюсь пояснить, ваше превосходительство, – оправдывался Попов.
– Дороги в здешних горах, что у нас тропинки, вот горцы их и портят нещадно. Или завалят, или и вовсе взорвут.
– А касательно перевалов, высот, рек, мостов, переправ? – допытывался Милютин.
– Где можно путь пробить, а где, я слышал, и пропасти невозможные?
– Тут всего хватает, – вздыхал Попов.
– А как в поход двинешься, там все и видно бывает. И проводники у ханов имеются.
– Проводники надежные? – сомневался Граббе.
– Когда как, – признался Попов.
– Могут так завести, что не выберешься. Все они тут заодно.
– С такой картой только по паркетам шаркать, – теребил ус Граббе.
– Одна бутафория.
– Других не имеется, – пожал плечами Попов.
– Да мы и без них ходили.
– Скажите лучше – бродили, – поправил Граббе.
– Двадцать лет уже, и безо всякой пользы.
– И масштаб неясен, – вглядывался в карту Милютин.
– Это не карта, а шарада какая-то, – заключил Граббе.
– Надобно же знать, куда день идти, а куда неделю.
– А это и вовсе невозможно, – объявил Попов.
– Зависит – встанут ли на пути мюриды.
– Господа, – обратился Граббе к Милютину с Васильчиковым.
– Потолкуйте с бывалыми людьми, может, что и выяснится.
– Слушаюсь, ваше превосходительство! – козырнул Милютин и принялся сворачивать карту.
– Спросите в штабе Жахпар-агу, – посоветовал Попов.
– Капитана дагестанской милиции. Он из Гимров, может, чего и укажет.
Дождавшись, пока Милютин и Васильчиков выйдут, Граббе вперил тяжелый взгляд в Попова.
– А как, позвольте полюбопытствовать, у вас обстоит с лазутчиками?
На сей счет полковник был достаточно осведомлен и тут же представил генералу полную картину этого щекотливого дела.
– Всех лазутчиков – двадцать пять, – докладывал Попов.
– Каково их содержание? – вникал Граббе.
– Двадцать рублей серебром в месяц.
– Всего-то? – удивился Граббе, знавший, как бывший тайный агент, цену важным сведениям.
– Они и того не выслуживают, – развел руками Попов.
– Да еще по десяти рублей накидываем, если важное что выведают.
– И много ли выведали?
– Знаем маленько. Кто-где, кто к Шамилю перекинулся, кто на нас надеется. Вообще теперь чрезвычайно трудно иметь полезные сведения. Даже и хорошие лазутчики не могут ничего верного узнать.
– Вы правы-с, – начинал сердиться Граббе.
– Грош цена таким лазутчикам.
– Где же других-то взять? – разводил руками Попов.
– И учат их наши жандармские, и карты рисуют, и в беглые записывают, а толку мало. Или без вести пропадают, или сведений приносят с гулькин нос.
– А нет ли у вас особенно надежного человека? – едва слышно спросил Граббе.
– На какой предмет? – насторожился Попов.
– Для дела экстренной важности, – сказал Граббе, многозначительно глядя на Попова.
– И чтобы смел был, и желание имел горячее…
Попов понятливо прищурился:
– Насчет чтобы самого Шамиля того?..
– Вы весьма догадливы, полковник.
– Пробовали, – сообщил Попов.
– Его превосходительство генерал Головин, корпусной командир, тоже надеялся, что среди преданных нам горцев найдутся отважные люди, которые за хорошую награду возьмутся доставить голову возмутителя.
– Выходит, не нашлись?
– Отчего же, нашлись, – нахмурился Попов.
– Испытать эту меру было возложено на вашего покорного слугу. Желающих тайно убить Шамиля было несколько, причем людей, известных мне отважностью, преданностью и предприимчивостью. По тысяче рублей предлагал.
– Ну и?
– Вместо головы возмутителя прислана была голова нашего лучшего агента. В мешке, с записочкой: «Голова ваш, мешок наш».
– Скверно, – вздохнул Граббе, которому очень бы хотелось превзойти своих предшественников каким-нибудь необычайно быстрым и эффектным образом.
– А если за три тысячи?
– К Шамилю не подобраться, – покачал головой Попов.
– Там все свои. Нашего за версту чуют. Да и кто теперь возьмется? Разве что, прошу прощения, безумец какой-нибудь.
– А за пять? – в упор посмотрел Граббе на полковника.
– Даже за десять тысяч. Золотом!
Попов побледнел, приложил руку к козырьку и прошептал:
– Найдем!
Глава 23
Первым в Шуру явился шамхал Тарковский, генерал-майор, со своими нукерами. В честь знакомства с новым начальником, он подарил Граббе пистолет в искусной отделке и красивого коня.
Следом прибыл, тоже генерал-майор, Ахмед-хан Мехтулинский, управлявший заодно и Хунзахским ханством по малолетству законного наследника.
Затем подоспели и другие дагестанские владетели со своими свитами и подарками. Бурок, папах, кинжалов, сабель и прочего кавказского оружия собралось столько, что кое-что перепало даже Милютину с Васильчиковым, чему они были несказанно рады.
По прибытии всех приглашенных состоялся церемониальный марш под музыку полкового оркестра, а затем Граббе учинил смотр. Чтобы произвести благоприятное впечатление на своих ближайших союзников, Граббе проявлял милость в обращении и строгость в распоряжениях.
Взобравшись на дареного коня, с которым с трудом справлялся, Граббе двинулся вдоль парадного строя, сопровождаемый Поповым и ханами. Одним Граббе выражал легкое неудовольствие, другим делал суровые взыскания. Конным казакам велел исполнить «вольт направо», а когда те смешались, не понимая, чего от них требуют, Граббе объявил их есаулу выговор.
– Так служить нельзяс! – гневался Граббе.
Тем, как пехота исполняла заряжение ружей на двенадцать темпов, Граббе остался доволен. Но маршировка никуда не годилась. Командиры выбивались из сил, но солдаты никак не могли взять в толк, как исполнять мудреные команды Граббе вроде «Четверть круга направо заходи!» В наказание Граббе велел всему батальону взять ружья на плечо и стоять так до особого распоряжения.
– Я от вас службы потребую! – грозно обещал генерал.
Солдаты, привыкшие воевать и давно отвыкшие от пустой муштры, с недоумением взирали на странного генерала, путавшего российские плац-парады с кавказской военной жизнью. Граббе требовал «мертвой» дисциплины, а бывалые солдаты этого не понимали. Они слишком хорошо знали, что успех в бою зависит не столько от приказов, сколько от их собственной храбрости и смекалки. Их командиры тоже были не в восторге от нового командующего. Они едва сдерживали усмешки, слыша мелочные придирки никогда не воевавшего на Кавказе Граббе. Утешало их только то, что генерал, судя по всему, не замедлит двинуться в поход.
Отправиться в поход офицеры желали больше всего. И не только из надежды на получение наград. Походы эти всегда были опасны, а награды не всегда следовали. Но долгое стояние без дела в скучной Шуре, когда уже не хотелось ни играть в карты, ни волочиться за дамами, ни кутить, доводила офицеров до сущих безумств.
Особым шиком считалось переодеться абреком и украсть ночью барана из какого-нибудь мирного аула. Или таким же образом угнать лошадь у своих же, невзирая на секреты, засады и часовых, которые открывали пальбу на каждый шорох. Случались и жертвы, но набеги продолжались, и даже заключались пари.
В конце смотра Граббе добрался до ханских нукеров, стоявших нестройными рядами. Это живописное зрелище его озадачило. Тут были и лощеные беки, и дикого вида верзилы, но все были обвешаны невероятным количеством оружия, представляя собой походный арсенал.
– Каковы же у Шамиля мюриды? – размышлял про себя Граббе.
– Если даже эти головорезы не могут их одолеть.
Ханам новый начальник понравился. Вид он имел величественный, был красноречив и строг. Осталось лишь убедить его не терять времени и броситься на мюридов.
Вечером был дан торжественный ужин, и горские владетели не преминули воспользоваться случаем. Ханы были люди умные и довольно искушенные. Они уже успели разузнать о Граббе у состоявших при них приставов и теперь возлагали на него серьезные надежды. Для начала они превознесли воинские доблести нового начальника и заверили в своем глубоком к нему почтении. Затем принялись пространно описывать свои старания по удержанию в крае спокойствия и повиновения правительству. Выходило, что для полного успеха не хватало только сильной руки, протянутой из Шуры самим Граббе.
– За этим дело не станет, будьте покойны, – заверял польщенный Граббе, которому и самому не терпелось явить чудеса мгновенного разрешения кавказских проблем.
Обрадованные владетели начали вводить Граббе в курс дела:
– Этот самозванец шариат проповедует.
– А шариат не признает ни нашу, ни вашу власть.
– Ничего, – успокаивал Граббе.
– Наши пушки его образумят.
– Торопиться надо, – настаивали ханы.
– Шамиль обещает всем свободу, равенство без разбору нации и веры, и через то вся чернь поголовно вооружается и переходит к нему.
– Liberte, egalite, fraternite, – сказал Граббе, а затем пояснил: – Знакомая история. Французы тоже обещали свободу, равенство и братство, когда революцию делали.
– Революцию? – встревожился Ахмед-хан.
– Я слышал, у них ничего не вышло, – сказал шамхал Тарковский.
– Это у нас не выш… – Граббе едва сдержался, чтобы не произнести слова, смертельно опасные для лица, «прикосновенного к декабристам».
Но было похоже, что никто не обратил на это никакого внимания. Милютин с Васильчиковым вместе с Поповым, ханскими нукерами и капитаном Жахпар-агой колдовали над картой, причем горцы ожесточенно между собой спорили. А горские князьки мало что смыслили в европейской политике, хотя и слушали Граббе с большим интересом.
– Так вот, – продолжал Граббе.
– Бунтари там захватили власть и сочинили манифест, в коем в первой же статье провозгласили: «Люди рождаются и остаются свободными и равными в правах».
– И Шамиль то же проповедует, – помрачнел Ахмед-хан.
– А во второй, – продолжал Граббе, который изучал этот манифест, когда еще состоял в тайном «Союзе благоденствия», – записали: «Они имеют право на собственность, а также право на безопасность и на сопротивление угнетению».
– Куда же их царь смотрел? – сердился шамхал Тарковский.
– Короля они свергли, – сообщил Граббе.
Ханы тревожно переглянулись, не понимая, куда клонит Граббе.
– А потом и вовсе отрубили ему голову на гильотине.
Ханы мрачно уставились на Граббе, будто это он возвел французского короля на эшафот. Насладившись произведенным эффектом, Граббе продолжил:
– И что в результате?
– Что? – вместе спросили ханы.
– Иллюзии скоро развеялись, – сказал Граббе.
– Начали со свободы, а кончили императором Наполеоном!
Ханы облегченно вздохнули.
– Это который на Москву ходил? – спросил шамхал.
– Он самый, – кивнул Граббе.
– И я не раз имел честь его видеть.
– А потом что было? – спросил Ахмед-хан.
– Потом мы взяли Париж, а Наполеон умер в ссылке, посреди океана, на острове Святой Елены. Так-то!
– Шамиля бы тоже туда, – мечтал шамхал.
– Со всеми его революционерами.
– Мюридами, – поправил Ахмед-хан.
– Франция – где, а они – тут. Сначала нас истребить хотят, господин генерал, а потом за вас возьмутся.
– Нет уж, – покровительственно улыбался Граббе.
– Прежде мы сами за них примемся.
– Мудрые слова, – похвалил шамхал.
– Давно пора, – кивал Ахмед-хан.
– В горах ни одного надежного аула не осталось. Каждый на законную власть кинжал точит. А у нас на всех сил не хватает.
– Надобно не столько числом воевать, сколько умением, – изрек Граббе.
– А главное – порядок во всем надобен. У меня не забалуешь.
– Очень правильно, – закивал Ахмед-хан.
– Когда сила есть, и порядок будет.
Ханы отбыли весьма удовлетворенные, пообещав содействовать Граббе чем только могут. Вопрос теперь стоял о жизни и смерти: или они – или Шамиль. Горы не могли долго терпеть разных правителей. Перед лицом общей опасности владетели решили действовать сообща и забыть бывшие между ними раздоры.
Понимая, как нелегко приходилось в горах Ахмед-хану, уже не имевшему сил, чтобы оградить свои владения от влияния Шамиля, шамхал Тарковский решил сделать благородный жест. Опасаясь, как бы последнего наследника Хунзахских ханов не постигла участь французского короля, шамхал пообещал вернуть во владение пятилетнего Султан-Ахмеда, который приходился ему племянником, аулы Урма, Параул и Дургели. Эти аулы располагались неподалеку и были защищены царскими войсками. В свое время они были отобраны Ермоловым у воевавшего против него Ахмед-хана Аварского и подарены шамхалу Тарковскому – покойному отцу нынешнего шамхала Абу-Муслима.
– Как думаешь, – прищурил глаз Ахмед-хан, – пойдет Граббе на Шамиля?
– Ему это нужно больше, чем нам, – ответил Абу-Муслим.
– А будет тянуть, скажу, что мюриды хотят захватить Хунзахскую крепость, – пообещал Ахмед-хан, которому царская крепость у него под боком тоже не нравилась, но делать было нечего, приходилось терпеть.
– А разве уже не хотят? – удивился шамхал Тарковский.
– Думаешь, Шамиль забыл, как в Хунзахе убили имама Гамзатбека? Он бы давно все горы к рукам прибрал, если бы не Хунзах с его крепостью. Я бы на твоем месте не ждал. Эти генералы ничего не понимают. Раз мы пустили их на свои земли, путь воюют.
Ахмед-хан внял совету шамхала, как только прибыл в Хунзах. К тому же оказалось, что еще несколько аулов перешли на сторону Шамиля и вернуть их в покорность не мог даже отчаянный храбрец Хаджи-Мурад. Брожения начались и среди самим хунзахцев, подозревавших, что царская крепость построена не столько для того, чтобы защитить их от мюридов, а затем, чтобы обратить в крестьян самих хунзахцев.
Комендант крепости всегда от них чего-то требовал, прибывавшие отряды становились лагерями вокруг крепости, вытаптывая луга и поля, лошади их превращали родники в грязное месиво, солдаты съедали целые отары овец. А теперь еще велено был снабжать крепость дровами, которых было негде взять на Хунзахском плато. Когда последнее требование не было выполнено, солдаты принялись таскать бревна из пустых домов. Пустые не значило – ничьи. Но обиженных хозяев никто не слушал.
Власть Ахмед-хана становилась все более шаткой, а влияние Шамиля неудержимо росло. Даже теперь, когда он не предпринимал никаких серьезных действий и был занят строительством на Ахульго да исправлением нравов своих соплеменников.
Ахмед-хан, не долго думая, призвал своего мирзу, секретаря, и велел ему сочинить письмо о страшных бедствиях, которые постигнут Хунзахское ханство и весь Кавказ, если власти Шамиля не будет теперь же положен конец.
Мирза постарался так, что ему стало немного жаль расставаться со своим произведением. Это был истинный шедевр, украшенный представлениями горцев о Страшном суде. Прочитав письмо, Ахмед-хан удивленно почесал голову, а затем велел сделать еще одну копию, чтобы отправить ее в Тифлис, главному начальнику. Усердный мирза переписал письмо дважды, оставив одну копию и себе, для примера потомкам.
Глава 24
Наступала осень, ночи становились все холоднее. По вечерам над Ахульго курились дымки, исходившие из подземных жилищ. Кое-где горели костры и на самой горе, делая ее похожей на дремлющий вулкан, готовый взорваться в любое мгновение.
Сурхай все еще продолжал строить. Закончив с жилищами, он вновь укреплял оборонительные сооружения. Людей у него было немного, потому что большинство было отпущено по домам собирать урожай и готовиться к зиме.
Сурхай часто взбирался на скалу, возвышавшуюся над перешейком, который вел на Ахульго, а теперь был глубоко перекопан. Сурхай смотрел на результаты своих стараний отсюда, сверху, и ему хотелось верить, что Ахульго теперь неприступно. Беспокоила его только сама эта скала, с которой он обозревал Ахульго. Дорога из Ашильты шла как раз мимо нее. И если бы ему удалось превратить в крепость и саму эту скалу, то горцы смогли бы не только на ней обороняться, но и защищать подступы к Ахульго.
Сурхай решил так и сделать. Но сил на это уже не было, и ему пришлось отложить свой план до лучших времен, а пока поразмыслить над тем, какой именно должна быть эта крепость на высокой скале.
Имам уже отвык получать добрые вести, но на днях случилось то, чего он давно ждал. Жены, дети, гости – все это было очень важно, но Шамиль не чувствовал себя на Ахульго вполне уютно, пока не привезли на нескольких лошадях его книги. Они уже были на Ахульго в доме Шамиля, когда сюда приходил Фезе. Генерал разрушил аул, но книги уцелели. Их спас благочестивый ашильтинец Магомед, укрывшись с ними в узкой пещере и завалив за собой вход. Его считали погибшим, но на третий день он сумел выбраться. Это сочли чудесным воскрешением, но сам он уверял, что его спасли книги, от которых исходила особая сила. Сурхай тоже любил книги и хорошо понимал, что они значат для Шамиля. Потому и построил отдельную келью для библиотеки имама.
Мечеть на Ахульго была не так велика, чтобы позволить Шамилю уединяться. В медресе при мечети было теперь много учеников, и занятия шли целыми днями с перерывами для общих молитв. Оставаться наедине со своими мыслями не удавалось и дома, где всегда хватало гостей и хлопот.
Наконец, все переменилось. Тюки с книгами были внесены в библиотеку, и Шамиль закрыл за собой дверь. Он хотел сам принять своих старых друзей, взять в руки каждую книгу и каждую положить на предназначенное для нее место.
Что бы ни происходило в жизни Шамиля, книги оставались единственным его богатством. Если бы у него не осталось ничего, кроме его книг, он и тогда бы чувствовал себя богаче великих владык.
Шамиль устроился около тюков и начал доставать из них свои сокровища. Вот первый переписанный им Коран. Тогда он был совсем юным муталимом. Они с Гази-Магомедом скитались по горам в поисках знаний, учились в разных медресе и зарабатывали на жизнь переписыванием книг. Тогда его друг и будущий первый имам был еще просто Магомедом из Гимров.
А этот Коран… Его хотел купить один добрый согратлинец, но Шамиль не стал его продавать. Для согратлинца он переписал еще один. А этот всегда носил с собой. Он успел обтрепаться, страницы пожелтели, кожа на переплете обтерлась. Но когда Шамиль бережно открыл его и начал листать страницы, исписанные еще не очень уверенным почерком, рядом ним встала его юность. Он находил на полях Корана свои пометки, и ему казалось, что он сделал их только вчера. Тогда, когда Шамиль был уверен, что стоит лишь донести до людей откровения, дарованные всевышним своему благородному посланнику Мухаммеду, как мир вокруг изменится, исчезнет зло и восторжествует добро. Он вчитывался в великие строки, и ему становилось жаль людей, которые не могли или не желали увидеть в них путь к спасению в этом и будущем мире. Шамиль не переставал удивляться, что многие вовсе и не заботились о вечной жизни, тратя эту, бренную, на поступки, унизительные для лучшего творения всевышнего. И поводырями этих отступников, слепо спешащих к адским мукам, была горская знать – существа испорченные, корыстолюбивые, коварные и жестокие. Тем не менее эти лицемеры считали себя правоверными мусульманами и вставали на молитву как праведники, лишь заслышав призыв муэдзина. А ведь в нем ясно говорилось:
Аллах велик.
Я свидетельствую, что нет никакого божества, кроме Аллаха. Я свидетельствую, что, истинно, Мухаммад – Посланник Аллаха. Спешите на молитву. Спешите к спасению. Аллах велик. Нет никакого божества, кроме Аллаха.
Но отступники не беспокоились о спасении, у них были дела поважнее.
Шамиль доставал все новые книги, будто доставал из вечности крупицу своей жизни. Он вспоминал, как обрел каждую из этих книг, что она ему открыла, какую радость познания принесли с собой ее страницы.
Вот книга, которую Шамиль перечитывал множество раз. Это был сборник хадисов – преданий о поступках и изречениях пророка. Шамиль возвращался к ним снова и снова, когда ему было трудно, когда он начинал терять веру в себя, в возможность изменить мир и людей. Эта книга была для него прохладным родником в знойной пустыне. В ней он находил примеры, освещавшие ему путь даже во мраке отчаяния. А люди потом невольно сравнивали жизнь Шамиля с деяниями Мухаммеда.
Сегодня у Шамиля был счастливый день. Он бережно вынимал из тюков книгу за книгой. И воздух в библиотеке будто уплотнялся от множества воспоминаний. Ему казалось, что книги тоже помнят, как они встретились, знают, о чем думал Шамиль, когда читал их. Это были сокровенные размышления Шамиля, его радости, сомнения, несогласия… Но книги, с которыми он иногда спорил, понимали его лучше других. Они были его добрыми собеседниками и учителями. Они испытывали Шамиля, обличали его ошибки, радовались его успехам.
Вот «Начало праведного пути» Аль-Газали. Вот «Разъяснение тысячи смыслов», «Ключи от рая», «Великий источник равновесия и согласия», «Трудности следования по пути пророка», «Сад ищущих», «Дары Мекки», «Постижение знаний»…
Шамиль раскрывал очередную книгу и долго не мог оторваться. И многое понимал уже совсем иначе, чем прежде.
В книгах было столько хорошего, что чем больше он читал, тем больше ему хотелось читать. С ними можно было забыть обо всем. Он знал много людей, с которыми предпочел бы никогда больше не встречаться, но среди сотен этих книг не было ни одной, с которой он согласился бы расстаться.
Иногда Шамиль думал, что лучше бы он жил не теперь, а тогда, когда писались эти книги, или потом, когда бы все на земле устроилось и никто бы не мешал ему читать столько, сколько вмещали его душа и разум. Но сегодня он не мог себе позволить этого даже в подземной библиотеке. В дверь негромко, но настойчиво стучали. Это был Юнус, который принес тревожные вести. Разведчик Шамиля, служивший в Шуре, в штабе Апшеронского полка, сообщал об отряде, который двинулся в Хунзах. Отряд был куда больше, чем те, что обычно сопровождали транспорты. Вместе с ханской милицией он мог быть очень опасен.
– Мы ведь договорились не трогать друг друга, – сказал Шамиль.
– Наверное, они решили надежнее защитить Хунзах, – докладывал Юнус.
– К новому начальнику приезжали ханы и уговаривали его пойти на тебя.
– Пусть попробуют, – сказал Шамиль.
– Они уже пришли, – продолжал Юнус.
– Утром прибыл человек из верхних аулов. Говорит, что войска расположились на границе Хунзахского ханства. Они что-то замышляют.
Но еще тревожнее было то, что люди из верхних аулов, не спросив Шамиля, решили напасть на пришельцев.
– Я запретил нападать первыми, – говорил Шамиль, с сожалением откладывая книги и надевая оружие.
– У нас мир с русскими.
– Их мулла говорит, что мир – у тебя, а у них газават к тем, кто покушается на их землю.
– Собери людей, – велел Шамиль, закрывая библиотеку на ключ.
– Мы выступаем.
Вслед за тем были посланы приказы наибам, чтобы те явились с отрядами в указанное место. Сурхая Шамиль оставил защищать Ахульго на случай появления новых отрядов противника.
А в Южный Дагестан, к Ага-беку, полетел почтовый голубь, к лапке которого было привязано письмо имама.
– Лети, – сказал Шамиль, выпуская птицу.
– И не забудь вернуться.
К вечеру Шамиль со своими мюридами двинулся в горы.
Глава 25
Когда имам прибыл на место, то застал обескураженных горцев, потерпевших неудачу. Они возвращались в свое село, везя убитых и раненых.
Вдалеке, на холме, белели палатки пришельцев, горели костры и блестели металлом пушки.
Мулла, который перед стычкой воспламенял горцев проповедями, предстал перед Шамилем с опущенной головой.
– Где теперь твои призывы? – спросил его Шамиль.
– Разве я не запрещал вам выступать без моего приказа?
– Клянусь, у меня и в мыслях не было нарушать твою волю, – отвечал мулла.
– Люди сами бросились на гяуров, а я не мог их оставить.
– Если каждый начнет мерить опасность своей меркой, беда обрушится на всех, – сказал Шамиль.
– Вы решили напасть на них, а теперь они придут на вас.
– Мы будем защищать аул! – выкрикнул мулла.
– А сначала выгоним отступников!
– Отступников? – переспросил Шамиль.
– Кое-кто, увидев большое войско, послал их начальнику приглашение занять аул.
– Лучше бы вы наказали предателей.
чем бросаться на пушки их друзей.
– Но ты же не разрешаешь казнить без суда, – оправдывался мулла.
– А пушки смотрели на нас целый день. Вот люди и не выдержали.
– Если вы не смогли справиться со своими предателями, я сам с ними поговорю, – пообещал Шамиль.
Жители аула спешно готовились к обороне. А отступники заперлись в доме бека, выжидая прихода Фезе.
Имам занял позицию на гребне горы, над селом, и выставил на видном месте свой флаг.
Генерал-майор Карл Фезе, командовавший отрядом, смотрел на противника в подзорную трубу.
– Взгляните-ка, – сказа Фезе, передавая трубу адъютанту.
– Вон там, не белом коне.
Адъютант навел трубу и воскликнул:
– Шамиль!
– Вы уверены?
– Да, ваше превосходительство. Все сходится. И шашка на правом боку! Так только Шамиль носит!
– Имам! – обрадовался Фезе, приникая к трубе.
– Сам пожаловал!
Это сулило удачу. Фезе затем и пришел в горы, чтобы спасти свою репутацию. После того, как он безуспешно осаждал Шамиля в Ашильте, не смог взять имама, а затем был вынужден подписать с ним мир, начальство к Фезе охладело. Этот швейцарский наемник лез из кожи вон, чтобы выслужиться, но его употребляли на второстепенные надобности. Он рыскал с отрядом по Южному Дагестану в тщетных попытках привести его в покорность и покарать повстанцев.
Когда в Шуру прибыл Граббе, Фезе поспешил к нему. Старые счеты с Шамилем не давали ему покоя, а Граббе жгучее желание Фезе поквитаться с имамом пришлось как нельзя кстати. Тем более что ханы слали панические письма, требуя остановить Шамиля, пока он не овладел форпостом царского владычества в горах – самой Хунзахской крепостью.
Фезе убеждал, что теперь-то Шамиля не упустит, что дороги знает, а в недра гор проникнет незаметно, под видом доставки транспортов с провиантом в Хунзах, и что следует поторопиться, пока Шамиль не превратил Ахульго в неприступную крепость.
Граббе и сам был готов ринуться в горы, но Головин считал такую экспедицию преждевременной, поскольку, как он писал: «Общества Нагорного Дагестана спокойны, и они не предпринимают противу нас никаких враждебных действий». И пока Шамиль его не беспокоил, Головин главное свое внимание обратил на Черноморскую линию.
Но Граббе не терпелось доказать, кто на Кавказе главный стратег. Тем более что представился случай сделать это руками обезумевшего от служебного рвения Фезе.
– Авось, и выйдет что-нибудь? – размышлял Граббе, которому неожиданные наскоки прежде не раз приносили успех.
– А если Фезе сломает себе шею, так пусть пеняет на себя.
На просьбы Фезе дать ему отряд побольше, чем он имел сам, Граббе отговаривался недостатком в войсках и предлагал присоединить к отряду гарнизон Хунзахской крепости. Но в надежде на ретивость Фезе Граббе дал ему несколько горных пушек.
Узнав о предстоящем выступлении, юный артиллерист Ефимка начал приставать к уходившему в дело Михею, чтобы взяли и его. Но бывалый фельдфебель знал, что на благоразумие Фезе полагаться не приходится, и оставил Ефимку до следующего раза, сказав, что в горах теперь будет холодно, а пушки берут лишь для видимости.
Многие офицеры-апшеронцы тоже просились в поход, но им было отказано. Зато надоевшие Граббе «фазаны», мечтавшие поскорее отличиться, такую возможность получили. Перекрестившись, они вписывали свои имена в список желающих участвовать в экспедиции, а затем отправлялись на базар покупать лошадей.
Командовать волонтерами Попов поручил бывшему декабристу Михаилу Нерскому. Полковник недолюбливал его не столько за прошлые бунтарские помыслы, сколько за острый язык, который стал еще острее, когда его произвели в прапорщики. Но утвержденные бумаги все не приходили, Нерский слышал вечное «ничего об вас еще нет» и ходил в офицерском мундире, хотя и без эполетов.
Строптивость и упрямое нежелание выполнять команды вроде «Шапки долой!» раздражали начальство, однако в бою Нерский был храбр, пулям не кланялся и офицерство выслужил кровью.
В молодости он учился на инженера, но слишком сильно увлекся идеями свержения самодержавия и установления республики, которая виделась ему идеалом равноправия и справедливости. Эти опасные идеи и привели князя сначала на каторгу, а затем и на Кавказ. За десять лет в солдатах Михаил много чего насмотрелся и много чему у солдат научился, но неистребимые аристократические манеры по-прежнему выдавали его благородное происхождение. Тем не менее солдаты его любили. Он был горд, но не спесив и никогда не отказывал, если солдаты просили его написать письмо их родным.
Постоянные унижения, исключения из списков отличившихся и неусыпный жандармский надзор за солдатом «из государственных преступников» посеребрили голову Нерского, но не сломили духа. Больше всего на свете Михаил хотел вернуться домой, к свой жене, которую не видел столько лет. Но он не мог удовлетвориться званием прапорщика и желал выйти в отставку хотя бы поручиком, если не капитаном, звание которого давало право на восстановление в дворянских правах. И, когда стало известно о готовящемся походе, Нерский вызвался в числе первых.
Попов с радостью откомандировал его в отряд Фезе. Присутствие Нерского в Шуре грозило Попову большими неприятностями. Сохранивший дворянскую привычку иметь обо всем свое мнение, Нерский в офицерской компании успел высказаться и насчет Граббе. Узнав, что тот назначен вместо Вельяминова командовать войсками на Кавказской линии, Нерский поднял тост за декабристов, из которых выходят такие славные генералы. Попов и сам знал о прошлом Граббе, как знал и о том, что теперь он декабристов недолюбливал. А потому назначил в отряд Фезе и всех остальных разжалованных за ту декабрьскую смуту.
Обложив село, Фезе ждал подхода хунзахской милиции во главе с Хаджи-Мурадом. Даже вместе с гарнизоном Хунзахской крепости, подошедшим вовремя, сил все равно было недостаточно, когда приходилось иметь дело с самим Шамилем. Но милиции все не было.
Хаджи-Мурад не спешил выполнять приказ Ахмед-хана, отношения с которым ухудшались у него день ото дня. Сославшись на рану, полученную в стычке с очередным аулом, отпавшим от ханства, Хаджи-Мурад объявил, что не может сейчас выступить. Рана была легкая, но прапорщик хотел, чтобы Ахмед-хан сам показал, как надо драться с мюридами, а не только попрекал Хаджи-Мурада за его неудачи. Рассерженный Ахмед-хан велел милиционерам выступать, но у одних оказались неоседланными лошади, у других не хватало пороха, у третьих затупились шашки… Без Хаджи-Мурада они воевать не хотели.
Не дождавшись хунзахской милиции, Фезе решил атаковать сам. Послышались сигналы горнов, дробь барабанов. Отряд начал строиться в боевые ряды. Пушки зарядили картечью и навели на аул. Все замерли в тревожном ожидании. Фезе уже готов был начать штурм, когда от имама прибыл парламентер. Это был Юнус, который привез послание Шамиля.
«Знайте, что я не намерен нарушать мир, заключенный с вами, и не желаю прослыть клятвопреступником, – писал Шамиль.
– Люди, которые напали на вас, сделали это по своей воле, как нападают на них по своей воле и люди Ахмед-хана. Если вы благоразумны, то подумайте, что будет впоследствии. Если же вы хотите сражаться, то знайте, что мы – мужчины, которые не отказываются от войны».
Фезе ответил демонстративным залпом из орудий.
Видя, что Фезе готовится наступать, Шамиль велел жителям покинуть аул. Женщины и дети уходили, нагрузив пожитками и люльками арбы и ослов.
Шамиль тем временем начал маневрировать, стараясь сбить генерала с толку. Небольшой отряд мюридов разбился на десятки и двинулся в разных направлениях. Одни делали вид, что хотят обойти Фезе с фланга, другие намеревались зайти в тыл.
Растерянный Фезе перестраивал отряд, менял направление готовящегося удара, приказывал разворачивать пушки. Он понимал, что Шамиль с ним играет, желая выиграть время. Но генерал и сам еще надеялся дождаться появления Хаджи-Мурада и его джигитов.
Так продолжалось целый день, пока со стороны Хунзаха не прибыл Ахмед-хан с небольшим отрядом. Ему с трудом удалось набрать тридцать милиционеров, не считая собственных нукеров.
– Почему не атакуете, генерал? – мрачно полюбопытствовал Ахмед-хан.
– Хотел спросить вашего ханского разрешения, – съязвил рассерженный Фезе.
– Может, вы еще у Шамиля разрешения спросите? – ответил Ахмед-хан.
Фезе хотел было указать хану на его нерасторопность, но взял себя в руки и приказал адъютанту:
– Снайпера ко мне!
Явился молодой егерь, имевший, в отличие от остальных, штуцер – винтовку с нарезным дулом последнего английского образца.
– Вон того, на белом коне, примечаешь?
– Вижу, ваше превосходительство!
– Сними-ка мне его.
– Рад стараться! – козырнул снайпер и бросился искать подходящее место для стрельбы.
Когда он вполне устроился, всадника на коне уже не было видно. Снайпер стал водить мушкой, ища цель.
– Да где же он?
Вместо Шамиля он увидел новую партию мюридов, спускавшихся к аулу.
– Ваше превосходительство! – закричал снайпер, показывая куда-то вдаль.
– Еще горцы идут!
Фезе навел трубу и увидел то, чего втайне опасался. На помощь Шамилю прибыло подкрепление.
Первым наибом, пришедшим на помощь, был Али-бек Хунзахский с полусотней мюридов. Шамиль с наибом спустились к селу и вошли в него с разных сторон. Мюриды заняли передовые позиции, а Шамиль с Али-беком направились к дому, в котором засели отступники.
– Их там много, – предостерег мулла.
– Я делаю это для того, чтобы у вас не было кровной мести, – отвечал Шамиль, не обращая внимания на предостережения.
– Если они не раскаются, если не станут на верный путь, им лучше расстаться с жизнью с нашей помощью. Может, тогда Аллах простит их заблуждения.
Остановившись перед домом, Шамиль крикнул:
– Выходите.
В ответ послышалось:
– Убирайся из нашего аула, оборванец!
Не дожидаясь повеления имама, Султанбек схватил лежавший у дома каменный каток и швырнул его в ворота, за которыми укрылись отступники.
Створки ворот треснули и распахнулись. В образовавшийся проход бросились Юнус и еще несколько мюридов. Во дворе завязалась жаркая схватка. Отступников оказалось около дюжины. Одни рубились с мюридами, а другие, засев на втором этаже, целились в Шамиля из пистолетов.
Грянули выстрелы, но Шамиль и Али-бек успели укрыться за каменной стеной. Не дожидаясь, пока отступники снова зарядят пистолеты, они бросились во двор, взбежали по каменной лестнице и бросились в шашки. Но отступники уже не могли сопротивляться, потому что Султанбек успел взобраться на крышу и, свесившись оттуда, уже держал обоих за бороды.
Разделавшись с остальными, мюриды взлетели на второй этаж и скрутили отступников.
– Что скажете? – спросил Шамиль, пряча шашку в ножны.
Но отступники только злобно скрипели зубами. Тот, что бы постарше, сплюнул кровью и отвернулся, не выдержав взгляда Шамиля.
– Мне можете не отвечать, но перед Аллахом отвечать придется, – сказал Шамиль и покинул дом отступников, оставив их в распоряжении Юнуса и Султанбека.
Глава 26
Хан вертелся на коне, торопя Фезе: – Надо на них напасть, пока Шамиль не ушел и пока другие не явились!
– Я того же мнения, – ответил Фезе.
Он выехал вперед и приказал:
– В атаку!
Забили барабаны, войско Фезе двинулось вперед, где на подступах к аулу разгоралась битва.
Фезе все еще надеялся взять Шамиля. Но жители защищали аул вместе с опытными и отлично вооруженными мюридами.
Несколько атак захлебнулось. Шамиль позволял убирать раненых и убитых, надеясь, что Фезе поймет тщетность своих усилий и отойдет. Но генерал жаждал реванша. Он отвел солдат, чтобы снова пустить в ход артиллерию.
На перевале, справа от села, появилась толпа конных и пеших горцев. Это прибыл Ахбердилав с мюридами и поднятыми по тревоге ополченцами. Не зная, как теперь поведет себя Шамиль, Фезе прекратил атаки, выстроил войска прямоугольником, в каре, и стал выжидать.
Увидев, как обстоят дела, Ахбердилав предложил Шамилю атаковать неприятеля.
– Пока нам лучше оставаться здесь, – сказал Шамиль.
Тут из рядов прибывших мюридов показался седобородый изобретатель Магомед.
– Но у них пушки!
– А нам их так не хватает, – с сожалением качал головой Ахбердилав.
– Мы их захватим! – убеждал Магомед.
– Ты хочешь, чтобы я отдал всех наших людей ради какой-то пушки? – осадил его Шамиль.
– Слишком дорогая цена.
Вдруг о стену рядом с Шамилем чиркнула пуля. Затем рядом просвистела еще одна.
Шамиль спешился, и тут над его головой пролетела третья пуля, выбив из стены осколки.
– Снайпер, – определил Юнус.
– Они узнали тебя по шашке на правом боку, – предположил Султанбек.
– Солдаты думают, что ты левша.
– Горе им, если я возьму шашку в правую руку, – усмехнулся Шамиль, перевешивая шашку на другой бок.
Противники простояли в том же положении еще один день. Вечером на плечо Юнуса сел голубь, вернувшийся от Ага-бека.
– Умная птица, – улыбнулся Шамиль.
– Накорми ее и спрячь в клетку.
Ночью в русский лагерь, переодевшись солдатами, пробрались Магомед и Султанбек. Они собирались похитить пушку. Орудия стояли на взгорке, готовые к движению и удерживаемые только подпорками. Пока Султанбек удерживал оглушенных солдат, Магомед вынул подпорки. Пушка сдвинулась с места, а затем покатилась с горы, круша по пути костры и палатки. Пушка оказалась слишком тяжелой. Она не остановилась, как рассчитывал Магомед, на дороге под аулом, а пронеслась через все рытвины и полетела в пропасть. Магомед чуть не плакал от досады и готов был последовать за пушкой, если бы его не удержал Султанбек.
В лагере начался переполох, но никого поймать не удалось.
Ночью выпал снег, и утром на нем была ясно видна колея от колес пушечного лафета, которая вела прямо к пропасти. Потерю пушки списали на нерадивых пушкарей, плохо поставивших подпорки. В наказание Фезе приказал их расстрелять, потом заменил расстрел на шпицрутены. Когда началась экзекуция, Фезе отменил и ее во избежание солдатского бунта. А преступных пушкарей поставил во главе колонны, коей предполагал начинать атаку на аул.
Наутро явился Хаджи-Мурад с остальной милицией. Он не смог усидеть в Хунзахе, когда неподалеку был знаменитый Шамиль, с которым Хаджи-Мураду давно хотелось помериться силой и храбростью.
Фезе снова открыл артиллерийский обстрел, а затем приготовился двинуться на штурм двумя колоннами. Первую колонну замыкала рота волонтеров, вооруженных чем попало. Впереди стоял Михаил с солдатским ружьем. Он примкнул штык, на который в таких делах полагался больше, чем на ружье, и обратился к волонтерам:
– Господа! Держаться вместе! Команды исполнять в точности! И не пытайтесь поймать горцев руками. Под пули не лезьте. Коли суждено, они сами вас найдут.
Затем Михаил достал из-под рубахи золотой медальон, в котором хранилось изображение его любимой супруги Елизаветы, поцеловал его и перекрестился.
Коннице Ахмед-хана велено было обойти аул с тыла. Но хан, поговорив с Хаджи-Мурадом, сказал, что его джигиты пойдут на аул в лоб, а колонны пусть окружают.
– Конница – в лоб? – удивился Фезе.
– На завалы? Это неправильно.
– Наше дело, – сказал Хаджи-Мурад и, свистом подав сигнал, бросился вперед.
Следом помчались его нукеры. Колонны были еще далеко, когда Хаджи-Мурад уже ворвался в аул. Его джигиты носились по узким улочкам, нигде не встречая сопротивления, но все еще ожидая засады.
– Ушел, – сообщил Хаджи-Мурад, когда начали подходить колонны.
– Шамиль ушел? – не верил Фезе.
– Весь аул.
Услышав, что аул пуст, солдаты закричали «Ура!», а волонтеры бросились за трофеями, чтобы иметь доказательства участия в славном деле.
Они успели возмужать, когда увидели кровь во время первой атаки. И у многих пропало желание идти в следующую. Но выглядеть трусом никто не хотел. И, когда все так благополучно разрешилось, они резвились, как дети, штурмуя пустые дома. Кому-то везло, он находил брошенную папаху, сломанный кинжал или разбитое ружье.
Юнкер Стрелецкий счел, что ему повезло больше других, когда в доме на окраине аула он обнаружил настоящего горца, хотя и очень старого. Старик сидел в накинутой на плечи овчинной шубе с длинными, ушитыми на концах рукавами. Сидел, прислонившись к каменной стене и беззвучно шевелил губами, будто читая молитву. Старик не захотел покидать свой аул. А кинжал положил на пол перед собой, сдаваясь на милость победителей.
Стрелецкий, держа наготове пистолет, осторожно подошел к старику и наклонился, чтобы забрать его кинжал. В это мгновенье старик выхватил из рукава овчины саблю и нанес Стрелецкому удар. Юнкер рухнул, едва успев выстрелить. На выстрел сбежались его друзья.
Старик выставил перед собой окровавленную саблю и тихо смеялся, обнажив почти беззубый рот.
– Бей его, ребята! – крикнул кто-то, но волонтеры все не решались подойти.
– Может, лучше его пристрелить? – предложил другой волонтер.
Но тут подоспел их командир Нерский.
– Чего стоите? – закричал он на волонтером.
– Унесите раненого!
Волонтеры, будто опомнившись, подхватили раненого Стрелецкого и понесли его со двора. Но один остался, не сводя со старика пистолета.
– Не стрелять, – приказал Нерский.
– Он моего друга ранил, Сашку Стрелецкого! А может, и вовсе убил! – отвечал волонтер, не сводя со старика испуганных глаз.
– Мы пришли в его дом с оружием, – сказал Нерский.
– За это и мы французов убивали.
– То – французы! – растерялся волонтер.
– Уходи, – велел Нерский волонтеру и направил штык на старика, – не то будут потом кошмары мучить. Я сам его.
Волонтер опустил пистолет и побежал за своими друзьями. Седобородый, не переставая смеяться, покачал головой и бросил саблю перед Нерским.
– Сам одной ногой в могиле, а туда же, воевать, – покачал головой Нерский. Затем опустил штык, поднял саблю старика и ушел.
Вскоре за тем во двор въехал Хаджи-Мурад. Увидев его, старик перестал смеяться.
– Зачем не ушел? – спросил его Хаджи-Мурат, кружа на коне по двору.
– Хотел на тебя посмотреть, – прошамкал старик.
– Ты, говорят, герой.
– Они возьмут тебя в плен, – сказал Хаджи-Мурад.
– В плен? – опять засмеялся старик.
– Я даже молюсь сидя, ноги не держат. Какой из меня аманат?
– А рука еще крепкая, – сказал Хаджи-Мурад, поворачивая коня обратно.
– Лучше пусть убьют, – сказал старик.
– И примут на себя мои грехи. Чего мне еще желать?
Хаджи-Мурад ничего не ответил и выехал со двора.
Рана Стрелецкого оказалась неопасной. Волонтеры окружили перевязанного приятеля, наливая ему в походную кружку рому и попутно делясь впечатлениями.
– А того абрека старого кто порешил? – спрашивал Стрелецкий, прижимая к себе трофейный кинжал, который теперь принадлежал ему по праву.
– Андрюха, – отвечали друзья.
– Из пистолета.
– Кажется…
– Да нет, его командир наш штыком пригвоздил!
Юнкер испугано улыбался и лихорадочно отхлебывал ром из кружки.
Убедившись, что аул полностью оставлен, что кроме кур тут ничего нет, Фезе приказал разрушить дома. Но Ахмед-хан с ним не согласился.
– Этот аул всегда принадлежал хунзахским ханам, – сказал он.
– Зачем же уничтожать нашу собственность? Люди могут вернуться, если им будет где жить. Тогда я обложу их штрафом и заставлю платить подати.
– Но это дома преступников, – настаивал Фезе.
– Их следует покарать!
– Наверное, – согласился Ахмед-хан.
– Но дома не виноваты.
Фезе простоял в ауле еще день, не решаясь преследовать Шамиля по заснеженным горам. Тем временем прибыл посыльный с плохими известиями. Ага-бек в Южном Дагестане, в Самурской долине, поднял новое восстание, грозившее перекинуться на Шекинскую провинцию.
Фезе предписывалось срочно вернуться назад. Генерал был в отчаянии. Он снова упустил Шамиля. Фезе понимал, что это был его последний шанс и он его не использовал.
Ахмед-хан почувствовал облегчение, когда Шамиль удалился. Но мысль о том, что восстание в Южном Дагестане вспыхнуло не случайно, наводило его на мрачные предположения. Хаджи-Мурад тоже считал, что все это неспроста. И не удержался, чтобы не сказать:
– Сегодня Ага-бек бунтует, завтра Ташав Чечню поднимет. Скоро генералам будет не до Хунзаха.
– Главное, чтобы им было дело до Шамиля, – злился Ахмед-хан.
Глава 27
Флигель-адъютант полковник Генерального штаба Траскин, человек столь значительных размеров и веса, что в карету он едва помещался, а у легких экипажей ломались рессоры, прибыл в Темир-Хан-Шуру.
Первым делом следовало представиться генералу Граббе, у которого Траскин был теперь начальником штаба. Но в штабе полка генерала не оказалось, хотя его давно уже дожидался почерневший от усталости вестовой, прибывший с посланием от Фезе. Не было Граббе и на квартире. Наконец, адъютант Траскина выяснил, что генерал в лазарете, где его пользует местный костоправ.
Траскин поразмыслил и решил, что и ему не мешало бы размять кости после дороги, которая была очень нелегка и чересчур пыльна. Но сначала следовало перекусить.
Ему накрыли в отдельной столовой, где всегда было наготове несколько блюд, которые предпочитал Граббе. Но когда лакеи увидели Траскина, то быстро сообразили, что им придется потрудиться, чтобы накормить столь важное лицо. Адъютант Траскина живо объяснил поварам предпочтения своего начальника, присовокупил пару зуботычин, и работа на кухне закипела.
Стол был сервирован отменно. Слушая новости, которые успел собрать адъютант, Траскин дегустировал местные деликатесы в виде куропаток на вертеле и запеченной в сметане форели. Вскоре подоспели и прочие яства. К тому же местные купцы и маркитанты, прослышав о прибытии столь важного для них чиновника, поздравили полковника бочонком отменного вина и кадкой меда. Самих их к Траскину не допустили, и они только издали кланялись его силуэту в окне, надеясь на более близкое знакомство в ближайшем будущем.
Траскин действительно проделал немалый путь, в котором было столь много забот, что поесть по-человечески не удавалось. Инспектируя Линию на предмет материального снабжения, Траскин вполне успел вникнуть в местные реалии. На первый взгляд, они представляли совершенный хаос, но по здравому размышлению хаос этот имел и выгодную оборотную сторону, подтверждавшую известное в войсках правило: «Одни воюют, другие воруют». Казнокрадство процветало в невообразимых размерах, но Траскин быстро направил его в надлежащее русло, так, чтобы мошенники не могли миновать его интересов.
Если население несло повинности, за которые полагалась плата, но которую им никто не выдавал, то Траскин плату увеличил вдвое. Теперь поденщики получали хоть что-то, вернее, то, что оставалось после кармана Траскина.
На многое Траскин закрывал глаза, к примеру – на грабежи мирных аулов, которые выдавались за военные операции. Награбленное имущество спускалось на базаре и пропивалось, фураж и скот употреблялись на воинские нужды, а отпускавшиеся на это деньги присваивались ушлыми командирами. Или того проще – аулы не грабить, а располагать в них войска на постой, и пусть только попробуют оставить солдат голодными.
Но самой прибыльной статьей был провиант, и особенно сухари, без которых невозможны были никакие походы. Очередную партию как раз привезли кораблями по Каспию из Астрахани в Порт-Петровск, когда в этот приморский городок прибыл Траскин. Удостоверившись в полном количестве годового запаса муки и сухарей, предназначенных для Темир-Хан-Шуры, располагавшейся неподалеку от Петровска, Траскин велел отправить провиант в Дербент, причем на подводах. Дербент располагался совсем в другой стороне, далеко на юге, и туда легче было доплыть, чем везти на телегах, вернее, на арбах, нанятых у местного населения. Но Траскина это не смущало. Из Дербента провиант предполагалось перевезти в Кизляр, на север, оттуда – в другие пункты и так до бесконечности. В результате – неразбериха, подряды на перевозки, убыль в весе и продажа за бесценок из-за негодности к употреблению. Все эти премудрости были хорошо знакомы ловким чиновникам, открыто гордившимся своим лихоимством, поощряемым самим Траскиным, который тоже в накладе не оставался.
– Военная бухгалтерия, – поучал Траскин подрядчиков, – это такая наука, которую не всякий ученый осилит, а смышленый подрядчик вмиг ухватит.
Беспокоило Траскина лишь одно, чтобы Граббе невзначай не начал больших экспедиций, когда во всем могли всплыть большие недостачи.
– Хорошая, однако, штука эта война, – втайне радовался Траскин, принимаясь за фаршированного ягненка.
– По мне, так и не кончалась бы никогда. На мирном-то деле столько не наживешь. Главное, чтобы Шамиль не сдавался, дай Бог ему здоровья.
Когда экипаж Траскина остановился у лазарета, стоявшая у входа охрана взяла на караул, да так и остались стоять, отдавая честь, с изумлением взирая на этого необыкновенного человека.
– С прибытием, господин полковник! – выбежал к нему навстречу адъютант Граббе Васильчиков.
– Здравствуйте, корнет, – кивнул ему Траскин.
– А что, командующий еще здесь?
– Точно так, – сказал Васильчиков, пытаясь остановить Траскина.
– Его превосходительство принимает процедуры и велел его не беспокоить.
– Молчать! – рявкнул Траскин, обдав Васильчикова сигарным духом, и распахнул дверь в предбанник.
Граббе блаженствовал под искусными руками костоправа. Он привык делать это на Водах и не хотел изменять своим правилам.
Генерал уже освоился в Шуре, успел нагнать на гарнизон страху, самые нерадивые офицеры отведали у него гауптвахты, а вконец распустившиеся солдаты были высечены в назидание остальным. И теперь, в ожидании известий от Фезе, Граббе позволил себе отдохнуть от трудов праведных.
Он лежал на разогретой каменной плите, умащенный особыми маслами, способными, по уверению костоправа, укрепить силы и благотворно воздействовать на нервную систему. Граббе окружало благоухание, а деликатные приемы костоправа навевали дремоту.
В легком тумане, наполнявшем кабинет, плавали призрачные фигуры. Это были отражения всадников и прохожих, сновавших за окнами. И вдруг из призрачных видений материализовалась гора. Эта гора была не такой страшной, как те, что снились ему раньше, но и в ней было что-то зловещее.
– Счастлив вас приветствовать, ваше превосходительство, – сказал гора, превратившись в расплывшуюся в сладкой улыбке физиономию Траскина.
– Полковник? Вы? – опешил Граббе.
– Я, милейший Павел Христофорович!
Завернутый в простыни необъятный Траскин присел на край плиты.
– Какими судьбами?
– По долгу службы-с, – докладывал Траскин.
– Спешу уведомить ваше превосходительство, как дражайшего начальника, о вверенных мне вашей милостью делах.
Граббе почувствовал себя неуютно и отослал костоправа. Тот накрыл его теплым полотенцем и удалился.
– Следовало бы подать рапорт, господин полковник, как надлежит, по форме, – сказал Граббе.
– Всенепременно, – кивнул Траскин.
– Однако же в рапорте всего не напишешь.
– Отчего же? – осведомился Граббе.
– На Линии такое творится, что, боюсь, и бумага не стерпит, – сообщил Траскин.
– А сверх того, имеются сведения особого рода.
Граббе был заинтригован.
– Так говорите же, полковник!
– Ну, насчет безобразий в нашей епархии можете не беспокоиться, я уже все уладил, – успокаивал Траскин генерала.
– А что касаемо Шамиля…
– Шамиля? – приподнялся Граббе.
– Вы позволите? – скорее для формы спросил Траскин, ложась на соседнюю плиту.
– Все бока отбил по этим ужасным дорогам.
– Так что насчет Шамиля? – с надеждой спросил Граббе.
– Взят!?
– С вашего позволения, – сказал Траскин, выдержав томительную для Граббе паузу.
– Полагаю, что Фезе Шамиля опять не возьмет.
– Отчего вы так полагаете?
– На Шамиля капкан нужен, а Фезе с силками по горам носится.
– Капкан? – переспросил Граббе, которого самоуверенный Траскин раздражал все больше.
– Я в том смысле, как их сиятельство военный министр советовали, – разъяснял Траскин.
– Поспешность тут ни к чему и даже некоторым образом вредна.
– Чем скорей, тем лучше, – возразил Граббе.
– Вам, разумеется, видней, ваше превосходительство. Я лишь со свой стороны усматриваю, что для успешного окончания дела нужно обстоятельно подготовиться. Даже и в воинском отношении, чтобы на каждый выстрел отвечать сотней. Опять же в рассуждении обмундирования и провианта. А спирту сколько надобно! В горах, небось, холодно. А денег на разные нужды! И ведь ассигнациями не берут, шельмы. Им звонкую монету подавай.
– Войск, действительно, маловато, – согласился Граббе.
– И в вооружениях сильная нехватка.
– Сами видите, Павел Христофорович! – обрадовался Траскин.
– Отчего бы и не попросить пополнения, во всех смыслах? Ведь даже их сиятельство граф Чернышев велел не скромничать. Зато уж, когда всего будет в достатке, взять смутьяна наверняка.
– Надеюсь, что всего этого не потребуется, – упрямился Граббе.
– Фезе свое дело знает.
– Совершенно с вами согласен, – сказал Траскин.
– Я как раз видел в штабе его вестового. Вашего превосходительства дожидается.
– Что же вы сразу не сказали? – вспылил Граббе.
– Не хотел огорчать понапрасну, – пожал плечами Траскин.
– Вид у вестового не сказать, чтобы праздничный.
– Вынужден вас покинуть.
Граббе решительно поднялся, накинул халат и пошел одеваться. Траскин привстал, чтобы соблюсти субординацию, а затем вновь распластался на теплой плите. Выждав несколько минут, он позвал:
– Человек!
В ту же секунду явился костоправ.
– Чего изволите, ваше благородие?
– Потрудись-ка, братец.
Костоправ в ужасе смотрел на лежавшую перед ним гору, но отступать было некуда. Он перекрестился и принялся за Траскина. Не обращая внимания на мучения костоправа, полковник погрузился в приятные размышления: «Надо бы Чернышеву, благодетелю, гостинец послать. Оружия всякого, в убранстве, да ковров… Жаль, тут слонов не держат. Вот был бы сюрприз в Петербурге! И отчего не держат? Края теплые, и скотина занятная. Пусть бы радовался, мерзавец… – Траскин не удержался от тяжелых воспоминаний: – Супругу мою обрюхатил, царство ей небесное. Хотя она мне еще и не супруга была. Однако же все равно – подлец».
Глава 28
Граббе был очень расстроен, получив от Фезе рапорт о результатах экспедиции. Они были плачевны, хотя Фезе и представил их подвигами. Среди прочего сообщалось, что горцы потеряли в этом деле до трехсот человек убитыми и ранеными, в том числе двух почетнейших старшин и четырнадцать главных мюридов Шамиля. Что сам Шамиль бежал, оставив на поле сражения значительное количество оружия. И что если бы не снег, выпавший неожиданно, и не срочный отзыв в Южный Дагестан, с Шамилем бы было покончено. Потери самого Фезе выглядели мизерными по сравнению с неприятельскими: убито пять нижних чинов, ранен один обер-офицер, нижних чинов – девятнадцать, лошадей убито три.
Окрестные деревни, уверял Фезе, покорены без боя и переданы в законное владение хунзахского хана. Деревни отдаленные, удостоверясь в благонамеренности войск и дружеском их обхождении с мирными племенами, изгнали от себя мюридов и желают вступить в подданство Его Императорского Величества.
Волонтеров, прикомандированных к отряду, Фезе оставил в Хунзахе, дабы они имели новые возможности явить свою отвагу в делах с неприятелем.
Граббе не верил не единому его слову и лишь сделал вывод, что Шамиль преспокойно вернулся на Ахульго, а часть отряда брошена в Хунзахе.
– Спасибо, хоть от «фазанов» избавил, – подумал Граббе, и продолжал читать этот изумительный рапорт, видя в нем образец особого литературного жанра, который по праву можно было именовать «кавказским».
В довершение всего Фезе горячо ходатайствовал о награждении отличившихся. Кроме него самого, его ближайших помощников и адъютанта, в списке было еще с дюжину героев, которым он испрашивал награды за примерное мужество, соединенное с благоразумной распорядительностью, а также за отличное усердие, храбрость и превосходное знание военного дела.
Среди представленных к наградам Граббе наткнулся на знакомую фамилию: прапорщик Михаил Нерский.
– Не тот ли это Нерский? – обратился Граббе к стоявшему перед ним Попову.
Попов похолодел, решив, что Граббе донесли о нелицеприятных высказываниях прапорщика без эполетов.
– Некоторым образом, – туманно ответил Попов.
– Не извольте беспокоиться, ваше превосходительство. Каждый получит по заслугам.
Но Граббе думал о другом. И награждать бывшего декабриста вовсе не собирался. Из политических соображений, будь он трижды герой. Да и мало ли чего Фезе напишет. Однажды он написал, что Шамиль покорился и мечтает принести раскаяние к стопам императора. Но Шамиль и не подумал явиться в Тифлис, где ожидал его император. И даже напротив, покорность Шамиля больше походила на договор между двумя государствами, обязавшимися не нарушать мир.
Дело было в жене Нерского – Лизе. Она, конечно, приятная дама и преданная жена. И о Граббе хлопотала перед кузиной-фрейлиной, что при дворе императрицы. Но Чернышев может понять такое расположение к Нерскому, который все еще числился по графе «из государственных преступников», весьма превратно. Нет уж, Граббе тут для великих дел и спотыкаться о никчемные кочки не намерен. Пусть Попов сам представит этого Нерского к награде как полковой командир. Да хоть в капитаны, но не через Граббе, а через самого Головина. И не теперь, а потом как-нибудь, когда Граббе покончит с Шамилем.
– Ничего не поделаешь, – размышлял Граббе, – Придется браться за дело самому. Этим наполеонам Шамиль не по зубам.
И все же не дать ход рапорту Фезе было бы ошибкой. Тем более, что Граббе здесь ничего не терял. Вскроется, что Фезе продолжает фантазировать – пусть его и наказывают. А Граббе не может не верить боевым генералам.
Граббе вычеркнул из представленных к наградам Нерского и велел направить копию рапорта в Тифлис, Головину. К копии Граббе приложил свое мнение, назвав экспедицию всего лишь удачной рекогносцировкой с целью разведать дороги и силы Шамиля. Кроме того, Граббе полагал полезным движение войск в Нагорном Дагестане для удостоверения горцев в том, что царские власти не перестают заботиться о приведении их в покорность. Вместе с тем Граббе обращал внимание главнокомандующего на то, что в Дагестане не так спокойно, как полагает Головин, и особо отметил нехватку войск, из-за чего Фезе и мечется по горам без решительного успеха. «А, как известно, за двумя зайцами погонишься – ни одного не поймаешь, – добавил Граббе уже про себя.
– Не говоря уже о таком матером волке, как Шамиль».
Подошла пора подавать на высочайшее благоусмотрение план действий на будущий год. Собственно, для того Граббе и назначили, чтобы покончить с непокорными горцами. Граббе был красноречив и умел выдавать пустоту за необъятную вселенную. Однако он уже несколько раз брался за составление своих предположений, но его всегда что-то отвлекало.
По утрам Граббе терзал излишним служебным рвением адъютант, жаждавший важных распоряжений. Затем являлся Траскин и принимался на чем свет стоит клеймить казначея и квартирмейстера, лихоимство интендантов и нерадивость поставщиков. Да так, что у Граббе голова шла кругом, и он только рад был, когда Траскин обещал сам управиться с казнокрадами. А ведь была еще прорва прочих начальников, и всех нужно было выслушать и направить. Разве что лазареты содержались в некотором порядке, больных было в соразмерности с числом войск, а заразных болезней не имелось.
Радовали Граббе только музыканты. Для проверки вызывались старший музыкант, барабанный староста, штаб-горнист, песенники, и вся эта публика со своими подчиненными под общим началом Стефана Развадовского устраивала небольшой концерт. Особенно хорошо у них выходил гимн.
Гимн был коротким и впечатляющим. Шесть строчек поэта Жуковского, положенные на музыку Львовым, композитором и командиром конвоя его величества, отлично подходили для военного оркестра.
Приложив руку к козырьку, Граббе повторял вслед за песенниками: Боже, Царя храни! Сильный, державный, Царствуй на славу нам; Царствуй на страх врагам, Царь православный! Боже, Царя храни!
Он помнил, как впервые его услышал. Тогда, в 1834 году, он был начальником 2-й драгунской дивизии и прибыл в Петербург испрашивать увольнения для излечения ран. 30 августа, в память победы над Наполеоном, торжественно открывали Александровский столп на Дворцовой площади. И тогда певчие и военный оркестр исполнили новый гимн, который явно понравился императору и публике. Гимн велено было исполнять взамен старого, который был музыкальной копией английского «Боже, храни королеву».
Граббе ревностно следил, чтобы гимн исполняли при каждом удобном случае, демонстрируя свои монархические убеждения в противовес ходившей за ним молве о его сочувствии врагам самодержавия.
Но как ни любил Граббе искусства, на них почти не оставалось времени. Генерала поражало количество бездельников, каждый день возникавших на пороге его кабинета. Все эти господа, не нюхавшие пороху, стремились служить под его началом, надеясь на большие походы и немалые награды. Не успевал он отделаться от одних, как прибывали другие. И каждый имел при себе рекомендательные письма.
– Ваше превосходительство, честь имею явиться…
– Когда прибыли? Где служили?
Вместо послужного списка доставались бумаги от вельмож, их сиятельств и высокопревосходительств, коим невозможно было отказать. Войска, таким образом, пополнялись лишними людьми, которых порой самих нужно было охранять, вместо того чтобы иметь от них пользу в делах с горцами. Выслушивая, кроме прочего, словесные поручения вельмож передать Граббе поклон, он почти автоматически отвечал:
– Извольте явиться в канцелярию и ожидать распоряжений.
Затем, обводя всех посетителей взглядом, сухо говорил:
– Мое почтение.
Это означало конец аудиенции.
Но прием у Граббе этим не заканчивался. В очереди ждали еще сомнение, неуверенность и страх не справиться с главным делом, ради которого он был здесь. Стоило Граббе закрыть глаза, как в мерцающей темноте вспыхивало: «Разбить и разогнать, а Шамиля пленить». И чем труднее представлялось исполнение этого простого плана, тем больше он напоминал страшное пророчество, явившееся на пиру Валтасару, пророчество, погубившее и его, и Вавилон.
Интересы корыстного Траскина Граббе презирал, но к совету Чернышева прислушался. Без тьмы войск одолеть Шамиля он уже не надеялся. А потому в предварительном проекте запросил столько сил и средств, что изумленный Головин не сразу нашелся, что и ответить.
Траскин тем временем наслаждался жизнью. Царившая в Шуре атмосфера пришлась ему по вкусу. Жизнь в крепости была шумная, несмотря на все усилия Граббе навести в гарнизоне железный порядок. На кутежах и обедах, беспрерывно сменявших друг друга, Траскин сделался непременным тамадой.
Горская знать привозила зажаренных баранов и даже телят, чтобы только полюбоваться, как Траскин их поглощает. Заключались пари на его аппетит, и в накладе всегда оставались те, кто сомневался в фантастических возможностях его желудка.
Спасение от тревог войны офицеры находили в картежном азарте и танцевальных вечерах. В дамах недостатка не было, и нравы здесь сложились далеко не пуританские. Но даже в эту вольницу Траскин сумел добавить веселые ноты. Он затеял маскарад. Для Шуры это было ново, но в столицах маскарады были в большой моде. Даже сам император с удовольствием принимал в них участие, скрываясь под маской, которую все, разумеется, узнавали.
У Траскина маскарад вызывал особенные, весьма деликатные воспоминания. Для него один из таких балов, на которые публика являлась в характерных костюмах и масках, стал подарком судьбы. Вернее, сначала Траскин получил сокрушительную оплеуху от графа Алексея Орлова, известного своей тяжелой рукой и могучим телосложением. Наряженный китайским мандарином Траскин имел неосторожность подшутить над графом, который и без того был чем-то сильно огорчен. Это случилось после репетиции во дворце. А уже на самом маскараде во время кадрили Траскин упал на свою огромную спину, от чего затрясся паркет и зазвенели канделябры, а император разразился неистовым хохотом. Два этих прискорбных недоразумения сделали Траскина знаменитым. Орлов, узнав, что проучил полковника Генерального штаба, взял над ним покровительство, а государь обратил на него особое внимание и возвел в звание флигель-адъютанта. Чернышев приметил Траскина еще раньше, когда тот проявил необычайное рвение, оказывая правительству услуги во время восстания декабристов на Сенатской площади.
Граббе затея с маскарадом понравилась.
– А этот Траскин чрезвычайно проворный малый – думал Граббе.
– Пусть себе усердствует, а то заплыл жиром, как свинья.
Граббе был большой охотник до подобных развлечений, когда люди скрывали лица за масками, зато открывали всю свою подноготную. Светские условности уступали место обычно тщательно скрываемым чувствам, запретные желания вырывались на волю, чины пасовали перед очарованием тайны. Но Граббе не желал отдавать пальму первенства Траскину. Балы, даже костюмированные, не могли обойтись без музыки, и Граббе призвал к себе Развадовского. Когда этот дока по музыкальной части явился, Граббе спросил:
– Маскарад знаешь?
– Так точно, ваше превосходительство, – отрапортовал музыкант.
– Докладывай.
– Там много любопытного, ваше превосходительство. И даже поучительного, – припоминал Развадовский.
– К примеру…
И Развадовский начал цитировать: О, малый он неоцененный: Семь лет он в Грузии служил, Иль послан был с каким-то генералом, Из-за угла кого-то там хватил, Пять лет сидел он под началом.
И крест на шею получил…
– Что-с?! – вскочил взбешенный Граббе.
– Да как ты смеешь?!
– Прошу прощения, ваше превосходительство, – побледнел Развадовский.
– Но ведь вы изволили про «Маскарад» спрашивать?
– Дас, милостивый государь. А причем же тут крест на шею? – Граббе тыкал в свой крест.
– Я его кровью заслужил, не щадя живота своего!
Но Развадовский тоже не совсем понимал генерала.
– Так я говорил… То есть… Это и есть из «Маскарада»… Из драмы Лермонтова.
– Осел! – взревел Граббе.
– Только этого пиита мне тут не хватало! Мало, что его на Кавказ сослали, его бы в каторгу, негодяя! Я тебе про настоящий маскарад толкую! Про бал! В масках!
– Ах, вот оно что, – закивал Развадовский.
– Прошу покорнейше простить, ваше превосходительство… Этот маскарад я тоже знаю. Не единожды участвовал в Польше.
– К вечеру представь программу, – велел Граббе, едва сдерживая гнев.
– А теперь прочь с глаз!
– Рад стараться! – козырнул Развадовский и исчез.
Граббе в ярости вышагивал по кабинету:
– Лермонтов! Мальчишка! Возвел Пушкина в гении, когда того убили на дуэли, и обвинил в его гибели все общество. За что и поплатился. Думал «Бородином» оправдаться, да не вышло. И битву описал кое-как, и главных людей упомянуть не соизволил. Лермонтовым при Бородино и не пахло, а Граббе там воевал, при самом Барклаеде-Толли состоял адъютантом!
Глава 29
Ахульго грелось в лучах осеннего солнца, которое дарило свое последнее перед зимой тепло. На вершинах хребтов, окружавших Ахульго, уже лежал снег.
Джавгарат качала люльку, в которой лежал ее маленький Саид, и напевала колыбельную. Она пела сыну о том, как он вырастет и станет отважным джигитом, как его полюбит самая красивая девушка, как он победит всех врагов и прославится на весь Дагестан.
Младенец улыбался, будто понимал, о чем поет его мать. А может, от того, как весело кружилось веретено в руках Патимат, которая сидела рядом и пряла шерсть.
В накинутых поверх платков теплых шалях они сидели на шубе, разостланной на большом плоском камне.
– Когда же он вернется? – вздыхала Джавгарат, глядя на уходящую вдаль дорогу.
– Это нам он муж, а для остальных – имам, – отвечала Патимат, сноровисто скручивая нитки.
– То одни зовут, то другие.
– А для нас он разве не имам? – говорила Джавгарат.
– Давай и мы его позовем.
– Вот погоди, – улыбнулась Патимат.
– Будут у тебя еще дети, скучать станет некогда.
– Я не об этом думала, – смутилась Джавгарат.
– Саид его ждет.
– Да он еще ничего не понимает, – сказала Патимат.
– Вот мои дети – да, им давно пора отведать отцовской плетки. Совсем от рук отбились.
– Понимает, – погладила ребенка Джавгарат.
– Говорить не может, а вдруг так посмотрит, будто спрашивает, где его отец.
– Приедет, – тяжело вздохнула Патимат.
– Сама знаешь, какой у нас народ. Одним достаточно сказать слово или письмо написать, а до других, пока кинжал не покажешь, ничего не доходит.
– Ему своих сыновей воспитывать некогда, как же ему столько дурных людей исправить?
– На то он и имам, чтобы наставлять народ на верный путь. И нас он спрашивать не станет.
– А меня спросил, – сказала Джавгарат.
– О чем? – встревожилась Патимат. Она едва заставила себя относиться к Джавгарат как к равной, но ее превосходство было бы для Патимат невыносимо.
– Хорошо ли мне здесь.
– А ты что ответила?
– Я сказала, что мне хорошо там, где мой муж и моя семья.
– Правильно сказала, – кивнула немного успокоившаяся Патимат.
– Ты ведь тоже так отвечаешь.
– Я? – удивилась Патимат.
– А как еще я должна отвечать?
– А еще хотела сказать…
– Что?
Патимат опустила веретено, и Саид тут же заплакал.
– Вот видишь, этим мальчишкам всегда нужно, чтобы что-то делалось.
Она снова закружила веретено, и Саид успокоился.
– Я хотела сказать… – Джавгарат старалась подобрать слова поточнее.
– Что хорошо, когда Шамиль дома, и плохо, когда его нет.
– Думаешь, ему без нас лучше? – сказала Патимат.
– Он, хоть и имам, но тоже живой человек. И видеть своих жен, не говоря уже о сыновьях, ему куда приятнее, чем своих врагов.
– О Аллах, – снова вздыхала Джавгарат.
– Когда же это кончится?
– Посмотри-ка, – сказала Патимат, прикладывая ко лбу ладонь.
– Едет кто-то.
Джавгарат даже встала, чтобы получше разглядеть вереницу всадников, приближавшихся на Ахульго со стороны Ашильты.
– Кажется, это знамя Сурхая, – всматривалась в даль Джавгарат.
– Вон он и сам едет.
– А Шамиль? – спросила Патимат.
– Ты его видишь?
– Нет, – ответила Джавгарат.
– А это, наверное, жена Сурхая.
– На арбе?
– Да нет, позади арбы, – показывала Джавгарат.
– На лошади, с ребенком на руках.
– Теперь вижу, – кивнула Патимат.
– И мюриды с ними.
– И еще люди, – продолжала Джавгарат.
– И пожитки свои везут.
Казалось, этой веренице не будет конца.
Сурхай возвращался со своей семьей. С ним пришли люди, решившие переселиться на Ахульго из своих аулов, находившихся в опасной близости от ханских владений. Многие ушли к родственникам и кунакам, но те, кто горел желанием бороться, приходили сюда. Возвращались на Ахульго и те, кто уходил, чтобы закончить осенние работы, заготовить для скотины сено, а овец отправить на зимние пастбища, в предгорья.
Следом за Сурхаем ехал его взрослый сын, унаследовавший от отца мастеровитость и тягу к знаниям. На арбе помещались родители Сурхая и давно ослепший дед, которому перевалило за сто лет. Жена Сурхая везла пятилетнюю дочь Муслимат. Синеглазая девочка была удивительно красива. Казалось, что от нее исходил свет, освещая путь в наступавших сумерках.
У тропинки, поднимавшейся на Ахульго, повозки пришлось оставить. Женщины принялись разбирать свой скарб, водружали на головы большие узлы, поднимали на спины маленьких детей и колыбели, прихватывали кувшины и посуду. И тонкой цепочкой взбирались на гору. Одна старушка несла на себе вязанку дров, другая – сноп сена: не пропадать же добру понапрасну. Несколько женщин гнали перед собой ослов, навьюченных высокими корзинами с кизяком.
Мюриды брали на плечи и несли тяжелые мешки с мукой и пшеницей, бочонки с маслом, туши вяленых баранов.
Слепой старик поискал на арбе и извлек из под груды вещей пандур – деревянный музыкальный инструмент с двумя струнами.
Его правнук, сын Сурхая, хотел взять старика на руки, но тот отказался:
– Сам дойду.
– Ты же ничего не видишь, – сказал юноша.
– Не дай Аллах тебе увидеть то, что я видел, – ответил старик и двинулся вперед, ощупывая дорогу палкой.
– Тут очень узкая дорога, а по бокам пропасть, – пытался быть полезным юноша.
– Я знаю, – кивал дед.
– Я ее чувствую.
– Хорошо, – сказал юноша, видимо, привыкший к причудам аксакала.
– Тогда я пойду помогу другим.
Но не ушел, а остался позади прадеда, опасаясь, чтобы тот не сделал неверный шаг. Но аксакал шел спокойно, только иногда останавливался, чтобы прислушаться.
– Внизу одна река или две? – обернулся старик.
– Две, – выдал себя юноша.
– Андийская река огибает Ахульго, а Ашильтинка делит Ахульго надвое.
– На что похоже? – спросил старик.
– На курдюк, – ответил юноша.
– Как две его половинки.
– А твой отец говорил, что Ахульго – это два кулака, которые выставили горы.
Аксакал поднял пандур, ударил по струнам и прислушался.
– Слышишь? – спросил он.
– Что? – не понял его правнук.
– Я поздоровался с Ахульго. И гора ответила.
– Я ничего не слышал, – улыбнулся юноша.
– Ты разве глухой? – сердился старик.
– Гора ответила на мой салам.
И они продолжили путь.
Первыми на Ахульго взобрались мальчишки.
– А где аул? – недоумевали они.
– Голая гора!
– Здесь же ничего нет!
Но вдруг, как из-под земли, начали появляться их сверстники, держа наготове луки со стрелами и кинжалы, кто деревянные, а кто и настоящие. Удивленные новички схватились за свои кинжалы, а у кого их не было, подняли с земли камни. Но тут вперед вышел Джамалуддин и важно сказал:
– Салам алейкум!
– Ва алейкум салам, – ответили гости.
– Зачем пришли? – спросил Джамалуддин.
– А вы что тут делаете? – в свою очередь спросил тот из гостей, который был постарше.
– Охраняем крепость.
Гости рассмеялись.
– Где же ваша крепость?
– Она что, невидимая?
– Да, – заявил Джамалуддин.
– Она подземная.
– Ты не шутить? – удивленно произнес мальчишка.
Джамалуддин свистнул, подавая знак, и еще с десяток мальчишек появились из-под земли позади гостей.
– Ва! – удивлялись гости.
– И вправду подземная?
– А что вы умеете? – спросил Джамалуддин.
– Мы умеем бороться, – ответил мальчишка.
– И камни кидать, – добавили его друзья.
– И хвастунов можем проучить.
– Это я хвастун? – вспыхнул Джамалуддин, снимая кинжал с пояса и засучивая рукава.
– Давай бороться.
Мальчишка тоже снял кинжал и приготовился к схватке.
– Эй, богатыри! – окликнул их проезжавший мимо Сурхай.
– Разве так встречают гостей?
– А чего они… – опустил голову Джамалуддин.
– Пожмите руки! – велел Сурхай. Ребята начали пожимать друг другу руки. И через минуту это была уже одна ватага. Затем они устроили состязания в бросании камней. Было интересно, кто бросит камень дальше, тем более что камень летел в пропасть и падал в реку. Когда мимо проходил слепой аксакал, он повернулся к ребятам и велел:
– Перестаньте. Эти камни еще могут понадобиться.
Состязание было в самом разгаре, но дети не смели ослушаться старика.
– Лучше давайте стрелять, – сказал Джамалуддин.
Он взял лук, натянул тетиву и выпустил стрелу в мишень, которой служил дырявый глиняный кувшин. Стрела попала в цель и отскочила.
– Лучше по-другому, – сказал мальчишка, снимая пояс.
Он сделал из него пращу, вложил небольшой камешек и метнул его так метко, что кувшин разлетелся вдребезги.
– Вот это выстрел! – восторженно воскликнул Джамалуддин.
– А я смогу так?
– Запросто, – сказал мальчишка.
– А тебя как зовут? – спросил Джамалуддин, сооружая пращу.
– Гамзат А чей ты сын?
– Абдуллы, – насупился мальчишка.
– Его отца ханские нукеры убили, – сообщили новички.
– Когда аул грабили.
– Я им еще отомщу! – пообещал мальчишка, надевая свой пояс.
– А мы тебе поможем, – сказал Джамалуддин, дружески кладя руку ему на плечо.
– А тебя как зовут?
– Джамалуддин. Я теперь твой друг.
– Это сын Шамиля, – сказали новичкам.
– Имама сын.
– Самого Шамиля? – удивился Гамзат.
– А это – мой младший брат, – показал Джамалуддин на Гази-Магомеда.
– А мы его мюриды! – объявили юные жители Ахульго.
– Мы тоже, – сказали гости.
Джамалуддин раскрутил свою пращу и метнул камень. Следом полетели камни, которые метали его друзья.
– Я попал! – сказал Джамалуддин.
– Нет, это я попал! – спорили другие.
– Нет, я!
– Когда научитесь, все будете попадать, – успокоил спорщиков Гамзат.
– А вы нам подземную крепость покажете?
– Пошли, – сказал Джамалуддин.
И новички со страхом и любопытством последовали за своими новыми друзьями в тайные подземелья.
К маленькой Муслимат подошла ахульгинская девочка. Она во все глаза разглядывала ее красивое платье, перехваченное серебряным пояском, белый платок, а главное – куклу, которую она испуганно прижимала к себе.
– У меня тоже была такая, – сказала девочка.
– Неправда, – сказала Муслимат.
– Была.
– Где же она тогда?
– Сгорела.
– Почему? – удивилась Муслимат.
– Когда наш дом сгорел.
– Его сожгли враги? – спросила Муслимат.
– Мама сказала, что в дом попала молния, – утирала слезы девочка.
– Раз – и все сгорело.
Муслимат протянула ей свою куклу.
– Возьми.
Девочка радостно схватила куклу.
– А тебе?
– Я новую сделаю.
– Ты умеешь? – не верила девочка.
– Конечно, – кивнула Муслимат.
– Надо только взять ложку и несколько лоскутков.
Девочка нырнула в подземелье и скоро вернулась с деревянной ложкой и тряпицами. Муслимат завернула ложку в ткань, повязала сверху ярким лоскутком, пририсовала угольком глаза, и кукла была готова. Муслимат положила ее на руки и начала убаюкивать:
– Спи, моя золотая…
Девочка-ахульгинка принялась баюкать свою куклу:
– Спи, моя голубка…
Жена Сурхая привезла женам Шамиля корзину винограда. Патимат и Джавгарат тепло встретили гостью и принялись ее расспрашивать, попутно нахваливая ее красавицу-дочь и уверяя, что она – вылитая мать.
В ответ жена наиба поздравила Джавгарат с сыном, положила в люльку подарок – несколько серебряных монет и принялась рассказывать последние новости. Она знала много такого, чего не знали жены Шамиля. Не знала она только главного – где теперь имам и скоро ли он вернется домой?
Уже почти стемнело, когда Сурхай, распределив прибывших по подземным жилищам, пришел за женой и дочерью, которых нашел в доме Шамиля, у горящего очага.
– Пусть они останутся у нас, – попросила Патимат.
– Места хватит.
– Спасибо, – ответила жена наиба.
– Но у меня теперь тоже здесь дом и большая семья.
Они расцеловали друг друга и расстались. Проводив гостью, Патимат отправилась искать своих сорванцов. Джавгарат распеленала ребенка, взяла его на руки и принялась кормить.
– Ну же, сынок, – уговаривала она Саида.
– Отец хочет, чтобы ты вырос большим и сильным.
Глава 30
Лиза выбивалась из сил в поисках возможности отправиться к мужу в Дагестан. Оказию обещали со дня на день, но прошло несколько недель, пока один из казачьих эскадронов, затребованный для пополнения войск, не двинулся в Кизляр. Вместе с казаками, позади их легких пушек, двинулась вереница экипажей, в которых ехала гражданская публика. Кто по служебным делам, кто возвращался после поправки здоровья, а кто и по торговым надобностям. Среди этих последних ехали в пролетке и Лиза с Аркадием.
Добравшись до Кизляра, они прождали в крепости еще неделю, пока не подвернулась почтовая карета до Петровска. Небольшой этот городок, продуваемый холодными порывистыми ветрами, стоял на берегу Каспийского моря и включал в себя обнесенное валом Низовое укрепление и пристань. Пристань была завалена горами кулей с провиантом, тюками с амуницией, и тут же стояли на брусьях чугунные орудия, окруженные артиллерийскими припасами. Рядом с пристанью располагались склады и несколько десятков домишек, один из которых именовался гостиницей.
Вдоль каменистого берега сновали небольшие суденышки, а те, что побольше, стояли поодаль на якорях, терзаемые высокими волнами.
В двух верстах на склоне большой горы виднелся аул Тарки – столица шамхальства, а над аулом – крепость Бурная. Вернее, сама крепость была уже упразднена, а ее строения переданы Апшеронскому полку для устройства лазарета и помещения гарнизоном одного батальона.
Проведя в Петровске несколько дней, путешественники присоединились к транспорту, перевозившему артиллерийские припасы в Шуру.
Они выехали утром. К обеду миновали аул Кумтуркала, подле которого высилась неизвестно откуда взявшаяся песчаная гора. И к вечеру, одолев тридцать пять верст, въехали в Темир-Хан-Шуру.
Лиза была очень взволнована, ожидая встретить супруга на каждом шагу. Она была в шляпке с густой вуалью, что позволяло ей всматриваться в каждого встречного, не нарушая приличий. Во многих офицерах ей чудилось что-то знакомое, но того, в ком бы она признала своего мужа даже после стольких лет разлуки, Лиза не находила.
Аркадий тоже был неспокоен. Теперь он выглядел настоящим горцем, отрастив бородку и окончательно сменив гражданское платье на кавказский наряд из магазина Челахова. Но, в отличие от Лизы, Аркадий разглядывал туземцев, вооруженных не хуже него. Многие, как ему казалось, вполне могли бы оказаться Шамилем, если бы не равнодушие, с которым относились к ним офицеры. Тем не менее Аркадий заносчиво поглядывал на каждого кандидата в дуэльную пару, поминутно хватался за кинжал и с сожалением вздыхал, вспомнив, что футляр с пистолетами лежит в багаже.
И Лизу, и Аркадия несколько обеспокоило, что в крепости было много горцев и очень редко попадались военные. Но это заблуждение скоро рассеялось. В офицерском клубе горели все окна и гремела музыка. В Шуре проходил грандиозный бал-маскарад.
Большой зал был убран со всей возможной роскошью. Вдоль потолка висели гирлянды бумажных фонариков, окна были увиты цветами и ветками с южными плодами. Повсюду свисали лозы с кистями спелого винограда. Стены были затянуты коврами и яркими шалями.
Когда Лиза и Аркадий вошли в зал, на них никто не обратил внимания. Опешившие гости не верили своим глазам. Публика веселилась так, будто это была счастливая Венеция, а не затерянная в горах Кавказа военная Шура. Аркадий в горском костюме и Лиза в дорожном платье, под вуалью выглядели здесь так необычно, что их принимали за карнавальные персонажи.
Вокруг кружились испанские доньи, пираты, турецкие султаны, амазонки, арабские паши и вакханки. Мелькали маски и полумаски, диковинные шляпки, множество домино в виде разноцветных плащей с капюшонами, яркие накидки, короткие мантии, сюртуки и фраки… Все это хаотично двигалось, но центром веселья все равно оставался персонаж в шелковом китайском костюме, глядя на которого, могло показаться, что под халатом у него спрятана дюжина подушек.
Аркадий робко прижался к стене, а Лиза отважно шагнула в круговорот загадочных масок. Ей казалось, что она вот-вот встретит своего мужа, и ей следовало быть на виду, чтобы и он мог узнать ее. Маски смеялись ей в лицо, подшучивали над ее костюмом, но никто Лизу не узнавал.
У нее уже начала кружиться голова, когда, сквозь музыку и смех вдруг явственно донеслось:
– Лиза!
Не смея верить в свое счастье, Лиза закрыла глаза и обернулась, протянув лишь руки навстречу голосу, произнесшему ее имя.
– Вы здесь? Какими судьбами?
Лиза узнала этот голос. Она открыла глаза и увидела перед собой маску, одетую в костюм римского патриция с лавровым венком на голове.
– Генерал? – слабым голосом произнесла Лиза.
Это был Граббе. Он взял ее за руки и усадил на диванчик у стены.
– Какими судьбами, сударыня?
– Я… Вы… Как хорошо, что я вас встретила, Павел Христофорович!
– Я тоже несказанно счастлив, – деланно радовался Граббе.
– Однако же такой сюрприз…
– А где Михаил? – спросила Лиза.
– Он здесь?
– Не совсем, – ответил Граббе.
– Как вас понимать, генерал? – спросила Лиза упавшим голосом.
– Он, видите ли, в Хунзахе. По долгу службы.
– Он… Он жив?
– Вполне, – успокоил ее Граббе.
– Он у вас настоящий герой.
– А где это – в Хунзахе?
– Тут, неподалеку. В горах.
– Я должна ехать, – решительно сказала Лиза.
– Видите ли, – гладил ее руку Граббе.
– Вам туда нельзя.
– Я еду сейчас же, – настаивала Лиза.
– Туда нелегко добраться, – пытался объяснить Граббе, восхищаясь этой отважной женщиной и внутренне негодуя за ее опрометчивость.
– Проще доехать до Петербурга, чем до Хунзаха.
– Вы поможете мне, Павел Христофорович? Я должна его видеть!
– Всенепременно, сударыня. Надо только немного подождать.
– Почему? – не понимала Лиза.
– В горах уже снег, дороги невозможные, – убеждал Граббе.
– Давайте лучше потанцуем.
– Благодарю вас.
– Лиза отвернулась, утирая платком выступившие слезы.
– Я не могу теперь. Я устала в дороге.
– Всего один тур вальса, – настаивал Граббе, беря Лизу под руку.
– Усталость как рукой снимет.
– Я не расположена, – отказывалась Лиза.
– Нет уж, позвольте! – настаивал Граббе, желавший показать свою безграничную власть.
Но тут между ними встал Аркадий.
– Сударь!
– Что-с? – недоуменно уставился на него Граббе.
– Кто таков?
– Честь имею, Аркадий Синицын, дворянин! – отрекомендовался Аркадий.
– А выглядите, как шут гороховый, – усмехнулся Граббе.
– Как вы смеете? – двинулся на Граббе Аркадий.
– Я не позволю!
– Это генерал Граббе, – представила генерала Лиза.
Аркадий остолбенело уставился на римского патриция и руки его невольно вытянулись по швам.
– Господин Синицын оказал мне много добрых услуг, – говорила Лиза, стараясь сгладить недоразумение.
– Он сопровождал меня от самого Ставрополя.
– Наглец, и больше ничего, – вставил стоявший поблизости китаец Траскин.
– А вы, милостивый государь… – негодовал Аркадий.
– Этот милостивый государь – начальник моего штаба, – сообщил Граббе.
– Флигель-адъютант полковник Траскин.
Аркадий был ошеломлен. Люди, от которых могла зависеть его судьба, смотрели на него как на последнее ничтожество.
– Траскин? – вспомнила Лиза и ужаснулась.
– Вы меня знаете? – расплылся в улыбке подвыпивший китаец.
– Я слышала о вас много…
– Замечательного, – закончил за нее Граббе.
– Вы мне льстите, – любезничал Траскин, которому понравилась эта особа.
– Вы еще здесь? – покосился на Аркадия Граббе.
– Слушаюсь, – невпопад ответил Аркадий.
Неумело чеканя шаг, он вернулся к стене и рухнул на диванчик.
– Похоже, он немного не в себе? – оглянулся на Аркадия Траскин.
– Он очень милый молодой человек, – защищала Аркадия Лиза.
– Вы не представляете, какие у него высокие помыслы.
– Высокие? – усомнился Граббе.
– У этого неотесанного субъекта?
– Поверьте мне, – сказала Лиза.
– И не судите его строго.
– На маскараде чего не бывает, – примирительно сказал Граббе.
– Все, решительно все может на маскараде случиться, – сказал Траскин со знанием дела.
– Одного не бывает, чтобы дамы не танцевали.
И он почти силой увлек Лизу в круг разгоряченной публики. Граббе удивился бесцеремонности полковника, но, с другой стороны, был ему благодарен за избавление от женских слез.
– Черт ее дернул сюда явиться, – сердился Граббе.
– Весь праздник испортила, несносная дама. Да еще какого-то помешанного за собой притащила.
Граббе искоса взглянул на Аркадия. Тот сидел, сокрушенно уронив голову на ладони.
– Чудная картина. Плачущий горец! – усмехнулся Граббе.
– Маскарад, надо признать, удался.
А Траскин тем временем кружил в вальсе Лизу, нашептывая ей разные любезности. Она его не слышала, занятая мыслями о своем муже. Она и в такт не могла попасть, опасаясь, как бы Траскин не наступил ей на ногу и не раздавил ее своим огромным неуклюжим и потным телом.
Рядом с Граббе выросли Милютин и Васильчиков. Первый был флибустьером, а другой представлял венецианского дожа.
– Прикажете проучить нахала, ваше превосходительство? – осведомился Милютин.
– Не мешало бы, – кивнул Граббе.
– Пусть знает свое место.
– Не извольте беспокоиться, – сказал появившийся тут же Попов в наряде мавра.
Попов сделал знак своим помощникам. Двое дюжих адъютантов, изображавших пиратов, подхватили под руки Аркадия и стремительно повели из залы.
– Позвольте, господа, – сопротивлялся Аркадий.
– Как вы смеете?
– Скоро узнаешь, – пообещали пираты.
– Мы тебя научим манерам.
Проводив глазами Аркадия, Граббе приказал своему адъютанту:
– Озаботьтесь дамой. Она устала с дороги. Найдите ей подходящую квартиру.
– Будет исполнено, – козырнул Васильчиков.
– Полноте, – улыбнулся Граббе.
– На маскараде честь не отдают и по именам не называют. Заметьте себе на будущее.
Молодые офицеры не могли представить, как им удастся вырвать Лизу из лап Траскина, который не оставлял попыток покорить загадочную даму. Но вскоре сам запыхавшийся Траскин шаром подкатил к Васильчикову и передал ему Лизу, которая едва держалась на ногах.
– Неприступна, как крепость, – шепнул Траскин и укатился обратно.
Аркадия препроводили на гауптвахту, где он долго возмущался дикими нравами, пока вдруг не сник и не заснул.
Утром его разбудили, накормили и отвели в небольшую комнатку, где его ждал Попов.
– С кем имею честь? – спросил Аркадий.
– Полковник Попов. Командир Апшеронского полка, – представился Попов.
– А вы, насколько мне известно, господин Синицын?
– Чем обязан? – спросил Аркадий, который и в самом деле не понимал, зачем сюда явился сам полковой командир.
– Видите ли, – улыбнулся Попов, – когда в мое расположение приезжают такие гости, я просто обязан оказать им подобающее внимание.
Попов оказался весьма любезным собеседником. Он расспрашивал Аркадия, как старый знакомый. Рисовал чарующие перспективы службы под своим началом. И сумел так расположить к себе Аркадия, что тот выложил ему все, включая цель своего прибытия в Дагестан, не забыв упомянуть и об отменном качестве своих дуэльных пистолетов.
Попов с самого начала предполагал, что этот человек не в своем уме. А услышав о его намерении вызвать на дуэль самого Шамиля, понял, что господин Синицын – тот самый человек, который ему нужен. Из этого помешанного, столь похожего на горца, мог получиться отличный лазутчик, которого желал иметь Граббе. Ему даже не было надобности врать. Расскажи он горцам, зачем направляется к имаму, они стали бы показывать этого сумасшедшего на базарах за деньги, да еще бы и к самому Шамилю привели.
Попов понимал, что чересчур увлекся манящими перспективами, но этот забавный субъект вызывал у него нешуточный интерес. И Попов решил Синицына приберечь, чтобы посмотреть, выйдет ли из него толк.
Глава 31
Власть Шамиля распространялась все шире, охватывая все новые общества и аулы. Одних привлекало к имаму проповедуемое им всеобщее равенство, другие мечтали поквитаться с ханами, от которых натерпелись на многие годы, но с которыми не в силах были справиться сами. К тому же Шамиль освобождал зависимых крестьян и делал их равными узденям – свободным горцам. Но не все проходило гладко. Многие опасались, что ханы снова возьмут верх, и тогда крестьянам придется хуже, чем прежде. Но те, кто решился сбросить оковы, предпочитали скорее смерть, чем возвращение под ханский произвол.
Кроме всего прочего, шариат Шамиля был горцам понятен и выгоден. Теперь они могли судиться по единому и понятному для всех закону, к тому же осененному Божьей волей. И кара незамедлительно настигала любого преступника, от простого горца до наиба. В ханствах же законом были лишь воля и каприз владетеля, а жаловаться на произвол было уже некому.
Шамиль назначал новых кадиев и мулл, давал освобожденным аулам своих наибов. Многие джамааты, только прослышав, что к ним направляется Шамиль, сами изгоняли нечестивцев и обязывались исполнять повеления имама.
Пошел уже второй месяц с тех пор, как Шамиль оставил Ах.
– ульго, призываемый восставшими аулами. Он думал теперь только о том, как вернется к своим женам и возьмет на руки своего младшего сына Саида.
Шамиль уже отдал приказ возвращаться, когда в его лагерь явился избитый пожилой мулла.
– Что случилось, почтенный? – спросил Шамиль.
– Слава Аллаху, хоть жив остался, – качал головой мулла.
– Кто на тебя напал?
– Те, кому я объяснял, что шариат – это путь к спасению, – говорил старик, умывая лицо.
– И что не исполняющий священные законы горько раскается, но будет слишком поздно.
Шамиль велел накормить гостя. Тот ел и рассказывал про высокогорный аул, в который был назначен муллой по рекомендации наиба и приказу Шамиля. Это был один из тех аулов, которые всегда готовы были ополчиться, защищая свою извечную вольность. Но они не спешили кому бы то ни было подчиняться и с кем-либо объединяться, полагаясь лишь на собственную силу и недоступность своих заоблачных жилищ. А всеобщая свобода и поголовное равенство, которые провозглашал Шамиль, казались им покушением на свои права, никогда и никем не ограниченные.
– Это настоящие разбойники! – говорил мулла.
– И сами в грехах погрязли, и соседям покоя не дают. Да сверх того на дорогах грабят. Шайтаны!
– Куда же ваш наиб смотрит?
– Наиб, когда приходил, снял пару голов, так остальные быстро присмирели. Но у наиба и другие дела есть. Оставил меня исправлять этих дикарей и ушел.
– И что же было потом?
– Даже неловко рассказывать, все-таки они наши люди.
– Говори, – велел имам.
– Посмотрим, какие они наши.
– Когда наиб ушел, они призвали всех своих родственников и решили меня убить.
– За что? – не верил Шамиль.
– Шариат им поперек горла стал.
– Как это?
– Я же говорю, не люди, а какие-то одержимые! И обычаи у них дикие.
Из сбивчивого рассказа муллы выяснилось, что в этом ауле веками процветало варварство, и жили там только дерзкими набегами на соседей. Кроме того, эти разбойники похищали девушек и обращали в своих наложниц. Таким образом, почти все эти разбойники были незаконнорожденными, но этого ничуть не стеснялись и даже гордились своим происхождением, уверенные, что только так родятся настоящие герои. Мулла изо всех сил пытался вернуть им человеческий облик, но они его не слушали и усердствовали лишь в потакании своим буйным нравам. А так как шариат все это запрещал, то они решили от него избавиться, а заодно и от муллы.
Через день Шамиль со своими мюридами появился в виду этого разбойничьего гнезда. Аул, оседлавший высокую скалу, почти сплошь состоял из башен, торчавших рогами на фоне синего неба. К аулу вела крутая тропинка, да и та была преграждена завалами.
Извещенный о прибытии имама, здесь его уже ждал наиб Абдурахман с двумя десятками мюридов и людьми из окрестных сел, которым от соседей-разбойников не было никакого житья. Не желая кровопролития, Шамиль сначала послал к ним своего парламентера Юнуса. Но дальше первого завала его не пустили. На предложение покориться без боя, ему ответили отказом, причем в самых грубых выражениях, не оставлявших сомнений в их намерениях. Затем из-за завала выбросили мешок, а главарь мятежников нагло расхохотался:
– Забирайте свой шариат. Мы его уже и в мешок уложили!
– Как бы в нем не оказалась твоя голова, – сказал Юнус, поднимая мешок.
Выслушав вернувшегося Юнуса, Шамиль подивился на упрямых отступников и двинул мюридов вперед.
Решительность имамского войска смутила даже отъявленных разбойников. Не успели они опомниться, как первый завал был уже взят и разметан. Следом быстро поднимались остальные воины имама, сопровождаемые местными жителями.
На помощь передовому заслону кинулось из аула несколько десятков человек. Шамиль врезался в их ряды, кося отступников направо и налево. Имаму помогали мюриды. И скоро уцелевшие бросились к своим башням. Но там уже были мюриды, которых Шамиль послал в обход села.
Яростная схватка продолжалась несколько часов, пока бунтари не были полностью разбиты. Немногие успели запереться в башнях, но судьба их была предрешена.
Башни эти представляли собой многоярусные крепости. На нижнем этаже помещались лошади и скот, на следующем были кладовые, на третьем этаже обитал хозяин со свой законной семьей, на четвертом хранилось имущество и добыча, а на пятом, самом верхнем, содержались похищенные женщины, пока не смирялись со своей судьбой.
Мюриды во главе с Султанбеком взяли тяжелое бревно и выломали ветхие двери. Разбойники были так уверены в своей безнаказанности, что не особенно беспокоились о прочности засовов. Выгнав лошадей и скот и опустошив кладовые, мюриды еще раз предложили отступникам сдаться. Было слышно, как воют женщины, как плачут дети, но никто не сдавался, а из бойниц летели пули. Тогда Юнус пригрозил, что подожжет башни изнутри. К башням начали сносить хворост. Султанбек уже поднял факел, когда бунтари согласились покориться. Около пятидесяти человек, среди которых были и женщины, вышли из башен и положили перед Шамилем оружие.
– Если так, давай обратно свой шариат, – сказал одноглазый старик, который, похоже, был главным хранителем варварских обычаев.
Затем из башен начали выходить старики и старухи, держа за руки чумазых малышей. Мюриды оттеснили их от башен и принялись искать оставшихся.
Шамиль удрученно разглядывал одичавших от беззакония людей, заслуживавших самого сурового наказания. Но имам решил иначе. Сначала он велел им похоронить своих убитых. На следующий день приказал разрушить до основания свои башни.
Когда с башнями было покончено, Шамиль разделил отступников по семьям и отправил на жительство в те аулы, которым они более всего досаждали. Скот был реквизирован в пользу Имамата, а остальная добыча обращена в пользу пострадавших от разбойников.
Когда побежденных уводили, мулла бросился к имаму:
– У кого я буду муллой, если все уйдут?
– Если я их оставлю, они тебя убьют, – сказал Шамиль.
– Как же мне теперь быть?
Дело нашлось и для муллы. Ему вручили мешок с книгами и показали на одноглазого.
– Наиб посадит его на цепь, пока он не выучит все эти книги наизусть, – сказал Шамиль.
– А ты следи, чтобы старался.
Когда Шамиль покидал этот край, в окрестных селах его встречали как освободителя и обещали сделать из бывших разбойников примерных земледельцев и смиренных поборников шариата.
Глава 32
Шура все еще находилась под впечатлением от небывалого маскарада. Дамы обсуждали наряды, а офицеры толковали о новых амурных увлечениях и крупных ставках, делавшихся в карточных играх, которыми закончился шуринский карнавал. Проигравшие ходили мрачные и подумывали, не сделать ли набег на соседние аулы, чтобы поправить свои денежные дела.
Деятельный Траскин решил не останавливаться на достигнутом. По пути в Темир-Хан-Шуру он побывал в Кизляре, окруженном бескрайними виноградниками. Там его особенно радушно встречали местные винозаводчики, потчуя своими разнообразными напитками, среди которых особенно выделялась водка Кизлярка, делаемая казаками и отдававшая самогоном. Имелись и более благородные напитки, которые гордо именовались коньяками. Их делали армяне, переселившиеся сюда из беспокойного Карабаха, страдавшего от персидских нашествий. Производством вин заведовали грузины, знавшие в этом толк. Траскин велел представить образцы в Шуру на предмет дегустации, от результатов которой зависело, соблаговолит ли Траскин подумать о средствах для развития винокуренных заводов и с кем из откупщиков будет иметь дело.
Граббе, считавший себя знатоком по части напитков, производил дегустацию самолично во главе штабных офицеров. Отдавая должное искусству виноделов, Граббе несколько увлекся и уже третий день страдал головными болями. Он не велел никого принимать, и растерянные винозаводчики со страхом ждали решения своей участи. А тем временем гарнизон расправлялся с их запасами.
Траскин после ознакомления с множеством напитков, к которым были привезены и достойные закуски, пребывал в отличном расположении духа. Наконец, он отпустил кизлярских кудесников, обещав если не пособить, то хотя бы не мешать бурно развивавшейся отрасли. На прощанье он велел присылать к нему образцы ежемесячно для удостоверения в неизменном их качестве и договорился о поставках спирта для армейских нужд.
Граббе, торопясь обрести ясность ума, целыми днями пил кофе. Но оно мало помогало. Кизлярские напитки брали свое. Тогда Граббе перешел на чай, а потом и на квас.
Васильчиков каждое утро докладывал о визитерах, но Граббе по-прежнему не хотел никого принимать, ссылаясь на нездоровье.
– А госпожа Елизавета Нерская? – напомнил адъютант.
– Третий день уже просит аудиенции.
– А, Лиза, – поморщился Граббе.
– Насчет мужа своего, декабриста?
– Точно так, ваше превосходительство, – ответил Васильчиков.
– Просит вернуть его в Шуру или дозволить ей отправиться в Хунзах.
– Не принимать, – махнул рукой Граббе.
– Слезы льет, ваше превосходительство.
– Дурабаба, – сердился Граббе.
– Я ведь уже говорил ей. Сама не знает, чего просит.
– Также ханы настаивают увидеться с вами.
– Чего им надобно?
– Насчет Шамиля, – пояснил адъютант.
– Они до чрезвычайности обеспокоены его успехами.
– Проморгали злодея, а теперь жалуются, – говорил Граббе, отхлебывая квас из бокала.
– Не принимать. То есть пусть обождут пару дней. Еще есть важное?
– Прибыл фельдъегерь из Тифлиса.
– От Головина? – встрепенулся Граббе.
– Из Главного штаба, ваше превосходительство, – кивнул Васильчиков.
– Любопытно будет взглянуть, – сказал Граббе, ставя бокал на стол и набрасывая на плечи мундир.
– Несите бумаги. И Милютина ко мне.
Когда Васильчиков вернулся с Милютиным, Граббе спросил:
– Что там?
– Ответ на рапорт вашего превосходительства, – ответил Милютин, пробежав глазами бумаги.
– Читайте, – велел Граббе.
– Милостивый государь! – начал Милютин.
– Усмотрев из донесения Вашего превосходительства, что для скорейшего покорения гор и уничтожения главного нашего противника Шамиля вам необходимы силы и средства несоразмерные, коими Кавказский корпус в Дагестане не располагает, а также принимая во внимание то, что сам Шамиль пребывает в покое и наши расположения не беспокоит…
– Довольно, – прервал Милютина Граббе.
– Сдается мне, корпусной командир плохо представляет грозящую нашему владычеству опасность.
– Осмелюсь доложить, ваше превосходительство, – сказал Милютин, заглядывая в бумаги.
– Головин также испрашивает объяснений…
– Объяснений? – хмыкнул Граббе.
– На какой же предмет?
– Он полагает, что проект ваш хорош в общих чертах, однако в частностях…
– Что – в частностях?
– В деталях, – поправился Милютин.
– Ну? Говорите же! – велел Граббе.
– Когда ваше превосходительство предлагает разбить и разогнать полчища Шамиля, господин корпусной командир желает знать, какие войска должно на это употребить?
– Лучшие! – раздраженно сказал Граббе.
– …И какой численности?
– Достаточной!
– Также насчет продовольствия, госпиталей, мест расположения… – растерянно продолжал Милютин.
– Соответственно потребностям!
– Сверх того, насчет артиллерийского парка и снаряжения…
– Надлежащего! – отчеканил Граббе и усмехнулся.
– Траскин – и тот лучше разбирается!
– Как прикажете отвечать, ваше превосходительство? – подал голос Васильчиков.
– Никак, – сказал Граббе и задумался.
Помолчав с минуту, Граббе обернулся к офицерам, будто удивляясь, что они еще здесь.
– Мое почтение, господа.
Офицеры козырнули и вышли.
Граббе торжествовал. Его план блестяще удался. Он получил от Головина такой ответ, которого желал. Он и сам знал, что сил против Шамиля недостаточно, но теперь у Граббе были развязаны руки. Теперь он считал себя вправе обратиться прямо к военному министру Чернышеву, даже к самому государю императору, минуя Головина, который надеялся сыграть с Шамилем шахматную партию, тогда как Граббе жаждал идти ва-банк, чего бы это ни стоило.
Граббе вспомнил о ханах. Хорошо было бы пристегнуть к делу и их, пока хотя бы словесно. Оказалось, что в Шуре остался только Ахмед-хан Мехтулинский, остальные разъехались.
– Он-то мне и нужен, – потирал руки Граббе.
Хан был польщен, что был принят, когда прочим было отказано.
– Рад вас видеть, генерал, – обнял его повеселевший Граббе.
– Как ваше здоровье? – беспокоился хан, соблюдая этикет.
– Пустяки. Легкое недомогание.
– Легкое для вас и очень тяжелое для нас, – участливо говорил хан.
– Садитесь, почтеннейший, – пригласил Граббе.
Они сели на диван, что означало необыкновенную благосклонность Граббе.
– Как мюриды, все досаждают? – приступил Граббе к нужной теме.
– Жалят, как осы, отовсюду! – жаловался Ахмед-хан.
– Ханов уже ни во что не ставят, а значит, и вас, покровителей наших.
– Так уж и ни во что? – деланно удивлялся Граббе.
– Все к Шамилю бегут, – говорил хан.
– И чернь, и абреки, и прочие разбойники. А кто сам не хочет, тех он силой заставляет. Недавно целый аул разрушил и жителей выселил.
– Ваш аул? – осведомился Граббе.
– Тот сам по себе был, шариат не хотел принимать.
– Стало быть, пора кончать с бунтовщиками? – спросил Граббе.
– Золотые слова, генерал.
– Пора-то пора, – кивнул Граббе.
– Но ведь зима теперь.
– Зима, – вздохнул хан.
– Холод меня не остановит, – уверял Граббе.
– Только вот дорог нет.
– Дороги – что, их сделать можно, – сказал Ахмед-хан.
– А вот чем коней кормить? Надо весной за Шамиля приняться, по-настоящему.
– Я вас вот о чем попрошу, любезный.
– Граббе встал, подошел к столу и положил руку на бумаги, пришедшие от Головина.
– Некоторые господа ничего не смыслят, думают, что если Шамиля не трогать, то и он их не тронет.
– Еще как тронет! – вскочил Ахмед-хан.
– И так почти весь народ его сторону принял! Даже те аулы, которые от вас недалеко, которые называют себя мирными, и те ему тайно помогают.
– Какие же это аулы? – спросил Граббе.
– Хотя бы Чиркей или Миатли. Кругом крепости ваши, а они мюридов снабжают и людьми, и припасами. Их надо в первую очередь наказать!
– Совершенно с вами согласен, – прервал хана Граббе.
– Однако же будет лучше, если вы все бесчинства Шамиля, особенно что население к нему склоняется, подробнейшим образом изложите на бумаге.
– На бумаге? – переспросил Ахмед-хан.
– В письменной, так сказать, форме. У вас ведь есть наш помощник?
– Как не быть, – кивнул Ахмед-хан.
– Вот вы ему и изложите о бесчинствах Шамиля, а он все преотлично запишет, – объяснял Граббе.
– Мне нужно от вас свидетельство, чтобы предпринять решительные действия. И другим владетелям предложите то же сделать.
– Это можно, – согласился Ахмед-хан.
– А про все мои убытки тоже писать?
– И это пишите без стеснения, – сказал Граббе.
– Я приобщу ваши рапорты к своему письму на имя государя императора.
– Самого царя? – не верил Ахмед-хан.
– Кто же еще даст нам средства, коими с Шамилем совладать можно? Не Головин же.
– Напишем, – пообещал Ахмед-хан.
– Все напишем.
– Рад, что вы меня понимаете, – сказал Граббе.
– А за сим…
Граббе хотел уже закончить аудиенцию, но Ахмед-хан не хотел уходить с одними обещаниями.
– Господин генерал, – сказал Ахмед-хан, упершись руками о стол.
– Зима длинная. Надо что-то делать. Шамиль на месте сидеть не будет. У него теперь мюриды, вроде гвардии, они на зимние квартиры не уходят, как ваши.
– Что же вы предлагаете? – спросил Граббе.
– Даже когда имам сидит в своем Ахульго, его мюриды по аулам ездят, народ волнуют.
– Агитаторы? – догадался Граббе.
– Проповеди читают, – продолжал Ахмед-хан.
– Адскими муками пугают, кто не будет исполнять шариат. Даже сюда, на равнину приходят.
– Может, и нам следует агитаторов послать?
– Надо бы, – соглашался Ахмед-хан.
– Еще много есть аулов, которые колеблются, которые еще не поддались коварным речам мюридов.
– Вот и наставьте их в должном смысле, – предложил Граббе.
– Я сам мусульманин, – ударил себя в грудь хан.
– И шариат знаю. Но я не проповедник. Надо таких людей найти, которые объяснят нашим невеждам, что Шамиль их обманывает и неправильно толкует шариат!
– Это вы дело говорите, – кивал Граббе.
– Главное, чтобы человек этот был ученый, большой ученый, не наш, – предупредил Ахмед-хан.
– Почему же? Разве своим не больше верят?
– Наших народ слушать не станет, – объяснял Ахмед-хан.
– Шамиль и первый еще имам Гази-Магомед, когда узнали, что один из учителей их пьет вино, стали упрекать его, что тот нарушает шариат. А тот говорит: яйца курицу не учат.
– А они что? – спросил Граббе.
– Ничего.
– Совсем ничего?
– Вылили все его вино и разрушили дом, а сам он убежал к шамхалу.
– Кажется, я знаю человека, который нам нужен, – припоминал Граббе.
– Кто он? – обрадовался Ахмед-хан.
– Большой ученый.
– Тогда давайте его сюда, и поскорее, – советовал Ахмед-хан.
– Пока весь Кавказ не загорелся от моря до моря!
– Я напишу в Тифлис.
– В Тифлис? – насторожился Ахмед-хан.
– Он там живет, – объяснил Граббе.
– На жаловании у нас состоит.
– Казанский муфтий? – прищурился хан.
– Мустафин?
– Кажется, так, – кивнул Граббе.
– Вы его знаете?
– Его тут все знают, – махнул рукой Ахмед-хан.
– Его уже присылали.
– И что же?
– Он теперь, наверное, благодарит Аллаха, что живой отсюда ушел, – рассказывал Ахмед-хан.
– А когда приезжал, обещал всех успокоить и даже самого Шамиля убедить, что тот неправильно толкует шариат, сеет смуту и напрасно поднимает кинжал против ханской власти и могущественного царя.
– Народ, выходит, не внял проповедям?
– Послушали, поспорили, а потом пригрозили муфтию, что убьют, если в Тифлис не уберется.
– Дас, – задумчиво произнес Граббе.
– Так они и другого не послушают.
– Смотря кого, – пожал плечами Ахмед-хан.
– А вы как полагаете? – спросил Граббе.
– Не знаете ли таких, кто действительно может повлиять на заблудших?
– Знаю, генерал, – загадочно произнес Ахмед-хан.
– Их все слушаются.
– Кто же сии господа? – любопытствовал Граббе.
– Сила и золото, – ухмыльнулся Ахмед-хан.
Глава 33
Сурхай осмотрел работы, сделанные без него, и остался доволен. Кроме подземных сооружений, были возведены две линии укреплений, защищавших Ахульго со стороны возможного наступления через перешеек, который тоже был перекопан рвами. У окраины Ахульго, скрытой покатостями горы, возвели резиденцию для имама, а подземную мечеть надстроили еще одним этажом и минаретом. Когда работы были закончены, Сурхай повел строителей на скалу, возвышавшуюся над подступами к Ахульго. Сама природа подсказывала, что на этом месте должна быть возведена цитадель. Скалу, и без того прозванную Щулатлулгох – Прочной горой или Твердыней, Сурхай намеревался сделать и вовсе неприступной.
Подъезжая к Ахульго, Шамиль увидел сотни людей облепивших Щулатлул-гох. Они передавали друг другу камни, поднимали на веревках тяжелые бревна, обрушивали выступающие части скалы и строили вокруг вершины стены. Повсюду стучали кирки и тесла, высекая из скального камня снопы искр. По узкой тропинке, поднимавшейся по гребню перешейка, женщины носили в кувшинах воду, а дети вели ослов, которые волоком тащили брусья. На саму скалу люди поднимали все это уже на себе.
На краю Ашильты, на речке, была устроена мельница, в которой дробили и перемалывали известняк. Затем в него добавляли молоко и яйца, а полученную смесь в деревянных ведрах тоже отправляли на скалу, где строилось укрепление.
Шамилю хотелось поскорее увидеть свою семью, но он решил сначала взглянуть на старания Сурхая.
Несмотря на легкие раны, полученные в походе и еще не до конца зажившие, Шамиль поднял на плечи тяжелый брус и начал подниматься на утес. Его примеру последовали и Юнус с Султанбеком, но последний взвалил поверх своих двух брусьев еще и мешок с известью.
Люди приветствовали своего имама и поздравляли с благополучным возвращением. Шамиль в ответ кивал и отвечал, как принято, только не пожимал рук, потому что руки его были заняты. Юноши просили имама отдать им свой брус, но он отказывался и быстро поднимался в гору.
Вокруг кипела работа, не видимая снизу. Рылись траншеи, пробивались ходы между частями крепости, укорененной в недрах скалы, вкладывались камнем бойницы. У одной из внутренних стен стоял Сурхай, распекая своего сына.
– Куда ты смотрел? Эта стена должна быть толще!
– Мастер сказал, что камень твердый, что и так достаточно, – оправдывался сын.
– А я говорю, недостаточно, – настаивал Сурхай.
– Он привык строить дома, а стены должны выдерживать огонь самых больших пушек!
– Разве эту стену видно снизу? – удивлялся мастер.
– Как они в нее попадут?
– У них есть пушки, которые стреляют вверх, а ядра падают вниз, – объяснил Шамиль, опуская свою ношу.
– Вах? – удивился строитель, поправляя съехавшую на лоб папаху.
– И такие бывают?
– Имам! – обрадовался Сурхай, завидев Шамиля.
– Наконец-то ты вернулся.
– Раньше не смог, – здоровался Шамиль с мастерами.
– Народ у нас, сами знаете, гостеприимный, не хотели отпускать.
– И упрямый, – добавил Сурхай.
– Говоришь им: клади в три камня, а они – по-своему, в два. Над каждым стоять приходится!
Но строитель делал вид, что не слышит. Он отвалил от стены уже поставленный на место камень и положил его поперек, так получалось шире.
– Не надо их ругать, – сказал Шамиль.
– Они пришли сюда по доброй воле и знают свое дело. Лучше расскажи, что тут будет.
– Настоящая крепость, – принялся показывать Сурхай, разворачивая свиток с планом. Он показывал чертеж, а затем демонстрировал строящиеся сооружения.
– Посредине – главная башня, но видна будет только верхняя часть. По бокам еще две. Между ними крепкая стена. Вокруг, по краю, тоже прочные стены с бойницами. Само собой – подземные ходы, пещеры для припасов…
– К весне закончишь? – прервал его Шамиль.
– Надо.
– Поторопись.
– Шамиль положил руку на плечо Сурхая.
– Лето будет жаркое.
– Пусть только сунутся! – воскликнул Сурхай.
– На эту крепость не то что лезть, смотреть будет страшно!
– А что там? – показывал Шамиль в сторону Нового Ахульго.
– Мечеть, вижу, стала выше. Это ты хорошо сделал, с минарета должно быть видно небо. А рядом?
– Твой дом, – гордо сообщил Сурхай.
– Дом? – удивился Шамиль.
– Мне хватало и того, что был. Как у всех остальных.
– Это дом имама, – объяснял Сурхай.
– Резиденция! Имаму не пристало принимать почетных гостей в подземелье. Да и будет где совет собирать, чтобы из окон весь Дагестан был виден.
– Ты прав, брат мой, – согласился Шамиль.
– Мы строим Имамат не для того, чтобы от кого-то прятаться, как мыши, а чтобы жить, как свободные люди.
Пожелав строителям помощи всевышнего, Шамиль отправился на Ахульго.
Неподалеку от новой резиденции горел костер, вокруг которого собралось много людей. Женщины с детьми на руках, дети постарше, девушки, старики – все слушали аксакала, который, наигрывая на пандуре, пел о том, что видел, когда не был слеп, и что слышал потом. Это было повествование о грозном завоевателе Надир-шахе, который пришел покорить Дагестан и которого горцы разбили наголову.
Старик пел, раскачиваясь в такт своей музыке:
Персии стал он владыкой, И турок разбил Надир-шах, Афганистан захватил он, И в Индию двинул войска,
Дели разграбил и сжег, Индии сердце он вырвал. Назвался «Владыкою мира» И руку решил наложить На непокорный Кавказ…
Люди увидели Шамиля, и по рядам пробежал шепот:
– Имам!
– Шамиль вернулся!
Люди начали вставать, хотя Шамиль и показывал знаками, чтобы они сидели и не нарушали песнь старика. Но аксакал сам прервал свое повествование и тоже встал.
– Салам алейкум, имам!
– Ва алейкум салам, – пожал его руку Шамиль.
– Как ты узнал, что это я?
– Тебя все узнают. Посмотри, даже твой младший сын тянет к тебе руки.
И действительно, Саид во все глаза смотрел на отца и тянул к нему ручонки. Джавгарат поднесла сына, Шамиль подержал его за руку и улыбнулся. Ему хотелось прижать сына к сердцу, но на людях не принято было проявлять нежные чувства. Старшие сыновья вырвались из рук Патимат и бросились к Шамилю. Но он только пожал им руки и вернул сыновей на место. Жены Шамиля засобирались домой, чтобы принять долгожданного главу семейства как подобает, но Шамиль велел им остаться.
– Продолжай, почтенный, – сказал Шамиль старику.
– Я тоже послушаю.
– Рассказываю, что было, – сказал старик, усаживаясь обратно на свою шубу.
– Я был тогда совсем мальчишкой, но такое не забывается.
Старик отпил воды из кувшина и снова ударил по струнам.
О люди, послушайте, что он творил в Дагестане, Этот шакал кровожадный, этот безжалостный зверь.
Старик пел, и перед людьми вставали ужасные картины.
Свирепые воины шаха громили села и топтали конями младенцев. Возводили курганы из отрезанных голов и кормили собак глазами, вырванными у детей. Уводили в рабство юношей и девушек, а стариков сбрасывали в пропасть.
Затем аксакал сменил мелодию и начал рассказ о том, как дагестанцы положили конец бесчинствам шаха:
Вместо аулов цветущих он оставлял пепелища, Пока Дагестана народы не стали народом одним, Чтоб напоить палача кровью его же нукеров, Чтоб уничтожить злодея и страшное войско его. Вышли на битву мужчины, и женщины вышли за ними, И растерзали шакалов барсы ущелий и гор.
Глаза мальчишек горели гордым пламенем, девочки вытирали слезы и начинали улыбаться, а старик продолжал свою песню, уже под новую мелодию, более звонкую и радостную:
От нас бежал, как трус, «Владыка мира», Забыв свой трон, корону и казну. И в бешенстве рыдал, ни с чем оставшись, И говорил потом, скрипя зубами: «Лишь глупый шах пойдет на Дагестан!»
– А что потом стало с Надир-шахом? – спрашивали дети.
– Его наши убили?
– Его свои же кинжалом закололи, – ответил аксакал.
– Как это, говорят, так? Полмира завоевали, а какие-то горцы у тебя корону отняли?
– Ты видел ту битву? – спросил Шамиль.
– Тогда я был уже слеп, – ответил старик.
– Там погиб наш отец, а мои старшие братья привезли его в аул. Они-то бились и все видели.
– А где корона шаха? – спрашивали дети.
– Потерялась?
– Корона! – торжествующе поднял палец аксакал.
– Разве могло потеряться это свидетельство шахского позора? Мои братья ее сберегли.
– Корону самого Надир-шаха? – удивился Юнус.
– Сейчас увидите!
Старик отложил пандур и стал что-то искать под своей шубой. Люди, не веря, столпились вокруг старика. Но тот действительно извлек из-под шубы что-то похожее на венец.
– Вот она, корона того, кто хотел нас покорить! – объявил аксакал и протянул ее Шамилю.
– Ее нашли мои братья, когда шах сбежал.
Шамиль с интересом рассматривал великий трофей. Корона была сделана из железа, покрытого серебром. Золотые возвышения вокруг короны служили оправой для драгоценных камней, но уже потеряли часть своего чудесного убранства. Зато уцелели золотые перья, исходившие от этих возвышений. Посредине, над большой глазницей, обрамлявшей некогда самый крупный драгоценный камень, золотое перо стояло прямо. Над этим пером сохранилось еще одно, усыпанное небольшими бриллиантами. Даже в таком истерзанном виде корона зримо олицетворяла воинскую славу Дагестана.
На золотом ободке короны Шамиль разглядел полустершуюся надпись.
– Мы даровали тебе победу, – прочел Шамиль.
– Всевышний простит грехи твои, прежние и будущие. Он прольет на тебя мудрость Свою. Он наставит тебя на путь истинный. Он твой помощник.
– Ай, шайтан, – покачал головой Юнус.
– Сам себе грехи прощает!
– За свои дела он будет гореть в самом пекле, – сказал Шамиль, продолжая рассматривать корону.
– И чего этому шаху тут понадобилось? – недоумевал Юнус.
– Он шел на Россию, – сказал старик.
– И думал, что легко перешагнет наши горы.
– Надо бы рассказать это русскому царю, – сказал Юнус.
– Его предки это помнили, – сказал Шамиль.
– Они с нами дружили и не жалели об этом.
– А ханы тоже воевали с Надир-шахом? – спросил Султанбек.
– И ханы, и свободные горцы, – сказал старик.
– Тогда все стояли вместе, как стена.
– Выходит, у наших ханов память короткая, – сказал Юнус.
– Раньше ханы были настоящими владыками, – рассказывал старик.
– Над ними не было никаких хозяев. Они воевали и ходили в походы. Когда явился Ермолов, они и с ним воевали. Только Надир-шаха одолели все вместе, а с Ермоловым – каждый воевал за себя. Но у генерала была большая армия, против которой трудно было устоять. Ермолов сначала потеснил чеченцев, а затем принялся за Дагестан. Он подавлял восстания, побеждал ханов, отнимал их земли и назначал новых ханов, которые ему повиновались. Даже хунзахский Нуцал-хан по примеру отца дрался с Ермоловым. А когда он умер, Ермолов не признал его наследника и назначил править ханского родственника. Начались смуты и раздоры, и вдова Нуцал-хана Бахубика, надеясь сохранить ханство, признала власть Ермолова. Только ханы – это еще не весь Дагестан, свободный народ желал оставаться свободным. А новые ханы, получив царские ордена, решили, что теперь им подвластно все. Такие уж они люди, что готовы служить кому угодно, лишь бы им разрешили делать с остальными все, что им вздумается. На людей обрушились бедствия, которые народ никогда не терпел, даже вера начала приходить в упадок. Но нашлись люди, наши имамы, которые решили спасти народ от унижения и очистить веру. А что было дальше, вы и сами знаете. А кто не знает – пусть спросит Шамиля.
Все хотели потрогать корону и передавали ее из рук в руки. Заметив, что кто-то пытается выковырнуть из нее камешек, Юнус отобрал корону и вернул ее старику, но тот протянул ее Шамилю.
– Возьми ее, имам, – сказал аксакал.
– Это слишком дорогой подарок, – сказал Шамиль.
– Назови цену.
– Тогда скажи, сколько стоит свобода? – спросил старик.
– Она бесценна, – ответил Шамиль.
– Потому что в ней наша жизнь,
– Я дарю эту корону Имамату, – сказал старик.
– Пусть все ее видят, и пусть все знают, на что способны горцы ради свободы.
– С нее начнется наша казна, – сказал имам.
Он передал корону Юнусу и велел отнести ее в свою резиденцию, а сам, сделав знак женам, отправился домой.
Патимат и Джавгарат заспешили, стараясь опередить своего мужа. Они знали, что Шамилю нужно отдохнуть и что к кому-то из них он ночью постучится. Шамиль навещал жен по очереди, стараясь не обижать ни одну, ни другую. Но после долгого отсутствия он мог постучаться к любой из них.
Глава 34
Свой проект окончательного покорения горцев Граббе решил подготовить основательно. План компании был прежний – «Разбить и разогнать все скопища, а Шамиля пленить», но теперь Граббе уже мог продемонстрировать знание предмета.
«Даже самые отдаленные племена обязались по первому требованию явиться к Шамилю для неприязненных против нас действий, – рисовал угрожающую картину Граббе.
– Главнейшие сообщники его с партиями мюридов разъезжают по Дагестану, силою и убеждением побуждают присоединиться к имаму тех горцев, которые ему еще не повинуются, и принуждают их к исполнению разных требований сего возмутителя…».
Кроме прочего, важно было намекнуть на заблуждения Головина, не способного отличить мнимую угрозу от настоящей. Дать понять, что правительство должно полагаться только на Граббе, предоставив все средства, кои ему понадобятся, иначе генерал за успех не ручается.
Подсчитывать потребности намечавшейся на следующий год операции Граббе поручил Траскину, Попову и Милютину. А сам взялся расписывать уже свершившиеся успехи, выдавая за них последний поход Фезе.
Ко всему этому Граббе намерен был присовокупить письма от горских владетелей, изнемогающих от нападений мюридов. Однако жалобы ханов могли породить сомнение в успехах войск под началом Граббе. Для большей убедительности не хватало какой-нибудь явной и значительной победы.
Ахмед-хан упоминал о мирных аулах, которые тайно содействовали Шамилю. Покарать их – означало лишить Шамиля важной помощи, а Граббе смог бы записать на свой счет блистательные успехи.
Граббе велел вызвать к себе полковника Пулло, у которого давно чесались руки на богатые аулы.
Полковник Пулло явился на следующий же день. В возможность овладеть Чиркеем он сомневался, не имея на то достаточно сил. А что до Миатли, большого аула, до которого от ставки Пулло, крепости Внезапной, было рукой подать, то соблазн этот был велик. Нашелся и повод. Лазутчики сообщали, что Миатли не только содействуют Шамилю, но и принимают его мюридов.
Благословив Пулло на подвиги, которые следовало совершить как можно скорее, Граббе взялся за дело и с другой стороны. Он был уверен, что горцы – народ легковерный, если поддались на убеждения смутьянов. А значит, их можно убедить и в обратном, если сделать это умеючи. Уверенный в своем неотразимом красноречии, Граббе решил самолично написать прокламацию, которая бы образумила заблудших и привела в трепет остальных.
Велев никого не принимать, Граббе засел за сочинительство. Он начинал несколько раз, но все выходило не то. Сначала воззвание получилось таким большим, что Граббе уставал его декламировать перед зеркалом. Затем он сократил воззвание до предела, но боялся, что горцы не поймут всю силу, скрытую между его строк. Он сломал уже несколько перьев, а грозная увертюра его будущих побед все не звучала.
Тогда Граббе подумал, что не лишне было бы взглянуть на то, к чему призывал горцев Мустафин, хотя и безуспешно. Граббе вызвал адъютанта и велел ему разыскать в канцелярии что-нибудь о деятельности эфенди.
Васильчиков вернулся с папкой, в которой содержались документы о визите Мустафина. Среди прочего здесь была и копия воззвания эфенди к горцам.
– Тут есть человек, ваше превосходительство, который при сем присутствовал, – сообщил Васильчиков.
– Кто таков?
– Штабной переводчик, из туземцев.
– Давай-ка его сюда, братец, – приказал Граббе, просматривая документы.
Васильчиков приоткрыл дверь и позвал:
– Пожалуйте!
Перед Граббе предстал лоснящийся от удовольствия горец, удостоившийся аудиенции у самого генерала.
– Как звать? – спросил Граббе, не отрываясь от бумаг.
– Биякай, – сообщил переводчик, протягивая руку.
– Давно у нас служишь?
– Два года, господин генерал.
Биякай был в своем роде особенной личностью. Кипучая жажда деятельности, соединялась в нем с неудовлетворенным тщеславием. Он был говорлив, но речи его были пусты и вызывали у соплеменников только насмешки. Не сумев возвыситься среди горцев, Биякай мечтал отличиться на царской службе. Но и тут его рвение ценилось мало, потому что слишком явно было его лицемерное холуйство, которое офицеры презирали. Биякай был свободным человеком, а стал слугой на жаловании, которое казалось ему слишком ничтожным, чтобы возместить его оскорбленное самолюбие. Теперь он ненавидел и русских, и горцев, но все еще надеялся при удобном случае сделаться значительным человеком.
– Говори, – велел ему Граббе, не обращая внимания на протянутую для пожатия руку.
– Как дело было?
Биякай одернул руку, проглотил подкативший к горлу ком и начал:
– Я видел, как он в Чиркей приезжал.
– И что же?
– Сначала приехал, потом уехал.
– Говори толком, – поднял глаза на переводчика Граббе.
– Рассказывал, что мюриды сами шариат не знают, а только выгоды ищут, власти хотят.
– А народ что?
– Эти бездельники разве умных людей слушают? – развел руками Биякай.
– Мы, говорят, люди свободные, нам царь не нужен.
– Царь? – не понял Граббе.
– А разве не велено было этому проповеднику, чтобы он не показывал вида, что послан от правительства?
– Я же тоже с ним был, – важно сообщил Биякай.
– А у нас все знают, что я честно служу сардару. И охрана была.
– Так-с, – Граббе положил папку на стол.
– Его Ташав-хаджи убить обещал, если в горы приедет, – докладывал Биякай.
– Продолжай.
– Я им тоже советовал, что лучше служить царю, чем Шамилю, – горячо говорил Биякай.
– Что у царя сила, а у Шамиля шариат один. Что у царя всякому открыт путь к возвышению, и все одинаково поощряются в службе его. Хотя, господин генерал, я служу-служу, а жалование…
– Недоволен? – возвысил голос Граббе.
– Я не ради денег служу… – оправдывался Биякай.
– Я ради общего блага и спокойствия.
– То-то, – сказал Граббе, возвращаясь к бумагам.
– Дальше что было?
– Дальше нехорошо получилось, – продолжал Биякай.
– Ученый им говорит, что все беды у горцев от того, что они неправильно шариат толкуют и не хотят законные власти признавать. И что всевышний посылает им наказание за их грехи и дурной характер. А он говорит…
– Кто – он? – переспросил Граббе.
– Джамал Чиркеевский! – выкрикнул Биякай с таким видом, будто давно мечтал обличить врага.
– Вы думаете, он ваш друг, а он – друг Шамиля.
– Что же говорил этот Джамал?
– Выходит, говорит, горцы во всем виноваты, а царь и его генералы ни в чем не виноваты? А народ смеялся.
– Довольно! – не выдержал Граббе.
– Ступай.
– Господин генерал, – кричал Биякай, выпроваживаемый Васильчиковым.
– Вы этого Джамала еще не знаете!..
– Дикари, – заключил Граббе и поморщился, будто съел что-то несъедобное.
Но ощущение было глубже, мучительнее. Граббе вдруг почувствовал, что этот Биякай чем-то напоминал ему самого себя. Чтобы отвлечься от неприятных мыслей, Граббе извлек из папки копию воззвания Мустафина. Отпечатанное типографским способом на русском и арабском языках, воззвание гласило:
«О мусульманская община! Как мы, так и вы совершенно осчастливлены нахождением под покровительством доброжелательного всем государя великого императора, именуемого Николаем Павловичем, высокопоставленного, высокочтимого, а щедростью своей могущего охватить все климаты Ирана, Хошемтая в своей храбрости, героя в мужестве, владеющего гербом Константина, Фагфара китайского в обращении с людьми, Зулькарная в богатстве, Соломона в милосердии, Давида в превратностях, высоковнимательного к людям и милостивого к бедноте как в большом, так и в малом.
Как нам, так и вам следует возносить молитвы великому императору, служа ему от всего сердца, чтобы получить за малую работу большее вознаграждение, каждодневно возносить молитвы ему по утрам и по вечерам с целью пробудить в его душе милосердие к подданным, чтобы он утвердил нацию в своей нации, дабы священный шариат благоденствовал, а его душа освободилась от горестей. Мы в настоящее время в лице государя имеем до того совершенного в милости, что если кто-либо из начальников задумает мысль об угнетении, он его низложит, назначит на его место начальника другого, совершеннейшего по милосердию, ибо он уже назначил для всех областей Кавказа лицо, совершенное в милостивости, обладающего многими щедростями, молимого для всех великого наместника генерал-лейтенанта Головина, первого в городе Тифлисе, для похвал которого не хватит слов.
Чтобы в Дагестане не было никаких недоразумений по отношению к населению, назначен был для этого совершенный ученый, хозяин щедрый генерал-лейтенант Фезе. В настоящее время не имеется никого, кто бы жаловался на недостатки. Он назначил ученых муфтиев, определил жалование для воспрепятствования тем неразумным и невеждам, кто, не разумея шариат наш, не подчиняясь великому императору, чинит кражи, разбои на дорогах и причиняет вред населению.
Народ, собравшийся в настоящее время в данном собрании, должен возносить свои молитвы великому императору и его детям, дабы все указанные положения были исполняемы. Аминь».
Граббе хмыкнул, полагая, что такое беззубое и напыщенное сочинение мог утвердить только Головин, ничего не смыслящий ни в горцах, ни в высоком слоге. Граббе теперь не сомневался, что сумеет затмить Мустафина, хотя тот и подписывался пышными титулами шейхуль-ислама и муфтия.
Глава 35
Проведя несколько дней с семьей и залечив небольшие раны, полученные в походе, Шамиль отправился в свою резиденцию. Туда же он велел позвать ученых алимов, бывших на Ахульго, – Сурхая и кадия Ахульгинской мечети.
Резиденцией имама управлял сподвижник прежних имамов и давний друг Шамиля Амирхан Чиркеевский. Кроме множества других обязанностей, он был еще и доверенным секретарем имама, умевшим вести переписку и составлять важные бумаги. Пока имам был в походе, Амирхану пришлось немало потрудиться. Только он знал, какой должна быть резиденция имама и что в ней должно было находиться.
Невысокое, но довольно просторное здание имело светлые окна, настоящие стекла для которых с величайшими предосторожностями прислал Джамал – односельчанин Амирхана. А под крышей успели свить гнезда ласточки, которые теперь выкармливали своих птенцов.
Над сводчатой входной дверью была вырезана в камне особая молитва, защищающая от несчастий. Снаружи дом из голого камня был едва различим на фоне горы, но внутри стены были выбелены известью.
Потолок был привычный, из поперечных балок, края которых лежали на стенах, а посредине поддерживались дубовым столбом с расходящимися крыльями, украшенными резными надписями и орнаментом. Только сами балки и опорный столб были толще, чем обычно, потому что крыша была сделана в несколько слоев, которые должны были защитить от навесного огня артиллерии. А на окнах, на русский манер, были крепкие ставни.
В стенах были ниши для книг, а посреди комнаты стоял большой стол, окруженный треногими табуретами. Во главе стола возвышалось деревянное резное кресло с высокой спинкой и подлокотниками, напоминавшее трон, а на самом столе лежала корона Надир-шаха. У стен стояли два длинных дивана, накрытых войлоками, поверх которых лежали небольшие подушки. Каменные полы были застелены паласами и коврами. В углу был еще один невысокий стол с письменными принадлежностями. За этим-то столом, подложив под себя подушку и скрестив ноги, и сидел Амирхан, сосредоточенно что-то записывая в большую книгу.
Когда имам вошел, Амирхан отложил работу и поднялся ему навстречу.
– Слава Аллаху, что ты уже здоров, имам, – сказал Амирхан.
– Раны были небольшие, – улыбнулся Шамиль.
– Усталость была больше.
– Я слышал, поход был удачным?
– Не знаю, можно ли называть удачей то, что приходится карать своих же людей, – сказал Шамиль, разглядывая убранство резиденции.
– Заразу приходится выжигать, – сказал Амирхан, – пока она не погубила остальных.
– Приобщи это к казне, – велел Шамиль, показывая на корону.
Амирхан достал с полки особую книгу и принялся записывать в нее прибыток.
– Это корона самого Надира, – сказал Шамиль.
– Ее и общипали, как самого шаха, – усмехнулся Амирхан.
Пока они обменивались новостями, явился старый кади, а за ним и Сурхай. Шамиль пригласил их садиться, и сам сел на диван напротив, подложив под локоть подушку.
– Я хотел собрать государственный совет, пригласить главных наибов, народных представителей, мудрых и почитаемых людей, – сказал Шамиль.
– Но придется оставить это на будущее. А пока попробуем решить на нашем, хоть и небольшом, совете алимов, как быть с казной Имамата.
– Мы слушаем тебя, – кивнул кади.
– До сих пор мы просто клали доходы в сундук, а потом раздавали по надобностям, – говорил Шамиль.
– Так можно поступать дома, но государственной казне требуется определенный порядок.
– Но ведь Амирхан завел для этого особые книги, – сказал кади.
– Теперь ничего не пропадет.
– Мы должны научиться тратить наши средства, – сказал Шамиль.
– Знать, что у нас есть или будет и на что это лучше употребить.
– Ты это знаешь лучше нас, – сказал Сурхай, который мало интересовался денежными делами.
– Деньги – вещь опасная, – не согласился Шамиль.
– Если не будет ясности, что и куда уходит, люди могут подумать, что мы употребляем их на свои личные нужды. Но мы не ханы, чтобы действовать по наущению шайтана. Казна Имамата – это деньги народа, каждого нашего человека, который порой отдает последнее на общее дело.
– Мы верим тебе, – удивился кади.
– И люди хорошо знают твое бескорыстие.
– Дело не во мне, – сказал Шамиль.
– Мы должны думать о будущем. Если все распределять, как раньше, на что-то может не хватить, а где-то будет избыток.
– Это так, – согласился Сурхай.
– У меня люди работают бесплатно, но их нужно хотя бы кормить. Не говоря уже о семьях строителей, которым тоже нужно что-то есть, когда отец долго не возвращается.
– Амирхан, покажи-ка нам свои книги, – велел Шамиль.
Секретарь подал ученым книги, на одной из которых было написано: «Это – закят и его распределение по назначению». Кади и Сурхай принялись читать записи.
– Я вижу, казна наполняется, – обрадовался Сурхай.
– Люди вносят налоги, – пояснил Амирхан.
– У нас нет налогов, – сказал Шамиль.
– А закят предписан шариатом.
– Да тут не только закят, – удивлялся кади.
– Конечно, – объяснял Амирхан.
– Есть добровольные пожертвования, подати с бывших ханских земель, доля военных трофеев, штрафы, имущество преступников, выкупы за пленных…
– Действительно, – согласился кади.
– В этом деле пора навести порядок.
– Сначала нужно обеспечить семьи, и не только строителей, но и мюридов, – предложил Шамиль.
– Они почти не бывают дома, рискуют жизнью, и их дети тоже хотят есть.
– Мы не сможем прокормить всех, даже если продадим корону Надир-шаха, – развел руками Амирхан.
– Тогда… – размышлял Шамиль.
– Тогда богатые должны платить больше.
– Они и так платят закят, – напомнил Амирхан.
– Если они помогут нуждающимся сверх закята, им это зачтется вдвойне, – сказал Сурхай.
– Кто сможет, будет платить больше, – согласился Шамиль.
– Пусть за этим проследят наибы, но не принуждают людей сверх меры.
– А как начет медресе? – спросил кади.
– По твоему повелению, имам, их открыто немало, но учеников тоже надо кормить.
– Верно, – согласился Шамиль, вспоминая свои годы учебы, когда ему доводилось и голодать.
– У мечетей есть земли и доходы от пожертвований. Пусть не скупятся.
– А как быть с трофеями? – спросил Амирхан, положив руку на корону.
– Казна получает пятую часть всей добычи. Но как ее расходовать?
– Разве ты не знаешь? – удивился Шамиль.
– Ты же ученый. А ученый, который не применяет своих знаний, подобен человеку, который пашет, но не сеет.
– Я-то знаю, – развел руками Амир-хан.
– Но здесь я всего лишь секретарь, а нужно, чтобы было высокое решение, на бумаге, с печатью имама.
– Скажи, – велел Шамиль.
– А мы послушаем, чтобы прийти к одному мнению.
– Надо разделить эту долю еще на пять частей, а затем одна часть должна быть отдана курейшитам – потомкам пророка, да благословит его Аллах и приветствует.
– Их у нас не так много, – сказал кади.
– Сеид Джамалуддин Казикумухский и еще несколько человек, – подтвердил Амирхан.
– Джамалуддин писал мне, что отказывается от своей части ради общего дела, – сказал Шамиль.
– Я не хочу впадать в грех, – сказал Амирхан.
– Было бы лучше получить от него письмо.
– Не беспокойся, – успокоил его Шамиль.
– И продолжай.
– Другая часть расходуется на содержание ученых и дервишей. И еще – тарикатских мюридов, которых становится все больше и которые объявляют, что заняты делом более важным делом, чем война за свободу.
– Польза от истинно преданных тарикату несомненна, – сказал Шамиль.
– Но мне тоже кажется, что их становится слишком много.
– Халиф Омар говорил: «Лучше приносить пользу людям и обществу, чем семьдесят лет молиться и держать пост, не выходя из дому», – напомнил Сурхай.
– Этот вопрос решить нетрудно, – сказал Шамиль.
– Я велю устроить им экзамен. А от трусов тарикату пользы не будет.
– Остаток этой части расходуется на постройку мечетей, медресе, дорог, мостов и прочие общественные нужды, – перечислял Амирхан.
– Но остается на это слишком мало.
– С мечетями и медресе мы уже решили, – напомнил Шамиль.
– А дороги и мосты пусть пока остаются такими, какие есть.
– Верно, – кивал Сурхай.
– Некоторые даже портить приходится, чтобы враги по ним не прошли.
– А на прочее пусть расходуется то, что останется.
– Третья часть должна употребляться на нужды паломников, совершающих хадж, – продолжал Амирхан.
– Но теперь их почти не стало, из Дагестана выпускают только покорных, с пропусками от ханов.
– Тогда употребим эти деньги на содержание войска, иначе границы для нас никогда не откроются, – предложил Шамиль.
– Мюридам нужны лошади, оружие и прочее, в чем нуждаются люди. А для начала выделим им для пропитания часть нашего стада, что мы и так уже делаем.
– Четвертая часть – мискин – для нуждающихся, – продолжал секретарь.
– Таких у нас слишком много, – сказал кади.
– Наверное, будет лучше, если мы объединим ее с фукар – пятой частью, – сказал Шамиль.
– Ведь она для тех, кто вовсе не способен добывать себе хлеб. Вдовы, сироты, раненые, больные – они нуждаются не меньше других. Если мы называем Имамат государством, то должны заботиться о своих людях. А кроме того, сказано: «Бедность близка к безбожию».
Остальные с этим согласились. Амир-хан записал решение, под которым все поставили свои подписи, а Шамиль скрепил документ своей печатью.
Глава 36
Для нападения на Миатли, один из главных аулов Салатавского общества, владевшего к тому же важной переправой через Сулак, был отправлен особый отряд, которым командовал Пулло.
Древний аул, считавшийся мирным, но остававшийся независимым, был неожиданно окружен. На требование выдать мюридов Шамиля миатлинцы ответили отказом. Тогда заговорили пушки.
После ожесточенной схватки аул был захвачен и сожжен. Богатые миатлинские сады пощадили, сочтя их полезным приобретением для казны. Стада были конфискованы. В плен было взято около тридцати мужчин и женщин и примерно столько же младенцев. С жителей взяли обязательство не помогать Шамилю и позволили вернуться в село, отдав младенцев и раненых. После чего отряд возвратился на зимние квартиры.
Граббе ликовал. Столь блистательные результаты, несмотря на чувствительные потери, как нельзя лучше подходили для бравурных реляций. И это так его вдохновило, что он, наконец, закончил писать свое воззвание к горцам. Граббе и его тоже намеревался приложить к плану покорения Дагестана, который собирался представить в Петербург. Грозное воззвание гласило:
«Имеющий уши да услышит!
Я прибыл в ваши земли с намерением оказать вам мое покровительство, поражать и истреблять только Шамиля и тех изменников, которые нарушают общественное спокойствие своими гнусными злодействами.
Предупреждаю вас, что малейшее сопротивление немедленно повлечет за собой гибель ваших аулов. При движении отряда старшины всех окрестных деревень должны ко мне явиться для принесения покорности, не исполнивших сего я буду считать изменниками. Одною покорностью можете вы обезоружить справедливый мой гнев. Но горе вам, если вы встретите войска мои с оружием в руках. Тогда всякое селение, вблизи коего я буду вынужден силою оружия очищать себе дорогу, будет разрушено до основания.
Даю вам выбор: или покорность без условий, или вечное разорение. Войска под моим начальством горят нетерпением наказать бунтарей за неблагоразумие.
Я иду вперед – берегитесь!
Генерал-лейтенант Граббе».
Траскин с Поповым и Милютиным тоже постарались на славу. Граббе был слегка удивлен количеством войск, денег и всего прочего, испрашиваемого для уничтожения Шамиля, но Траскин его заверил, что беспокоиться не о чем и отказа не будет. Все вместе, включая панические письма ханов, представляло собой план грандиозной кампании, результаты которой должны были вознести Граббе на недосягаемую для его недругов высоту. Не говоря уже о наградах и благосклонности государя императора.
Запечатав пакет, Граббе велел отправить его в Петербург, военному министру Чернышеву. Попов распорядился, и фельдъегерь с усиленной охраной отбыл из Темир-Хан-Шуры.
Наступала зима. Граббе полагал, что на этом его пребывание в Дагестане может быть закончено. По крайней мере, до весны. Ответа из Петербурга он предполагал дожидаться в Ставрополе. Из штаба приходили депеши, из которых следовало, что в Черномории дела обстоят не лучшим образом. Но Граббе знал, что Раевский всегда найдет способ успокоить высшее начальство. Павла Христофоровича больше интересовало, как устроилось в Ставрополе его семейство. Он соскучился по жене и детям, которые писали ему нежные письма и ждали его хотя бы на Рождество.
Перед отъездом Граббе собрал своих ближайших подчиненных.
– Господа, – торжественно начал Граббе.
– Обязанности командующего войсками на Кавказской линии и в Черномории призывают меня в штаб, в Ставрополь. Полагаю, что господин Попов отменно справляется со своими обязанностями, коими не пренебрежет и в будущем.
– Рад стараться, ваше превосходительство, – отчеканил Попов.
– Также и господину начальнику штаба, – обернулся Граббе к Траскину, – надлежит по окончании здешних дел отбыть в штаб, где я буду с нетерпением его ожидать.
– Всенепременно, – кивнул Траскин.
– Как только здесь управлюсь, так сразу в Ставрополь.
– Засим хочу напомнить господам, что в следующем году предполагается большая экспедиция с известными вам целями, – продолжал Граббе.
– А посему надлежит приложить особые старания для разведывания дорог в логово неприятеля.
– Ежели идти через Хунзах, ваше превосходительство, то дороги более-менее известны, – сообщил Попов.
– Придется разве что немного исправить их после зимы. Или если мюриды успели где-то испортить.
– Но тогда не будет внезапности, ваше превосходительство – вставил Милютин.
– Верно, – похвалил Граббе.
– Лезть напролом – дело немудреное, но весьма хлопотное. Надо бы и другие дороги узнать.
– Приложим старания, – вздохнул Попов.
– Однако до весны…
– Вот именно, до весны, – подчеркнул Граббе.
– Противник пусть думает, что мы спим, как медведи в берлоге, а мы, тем временем, бдим на страже государевых интересов!
– Совершенно справедливо, – поддержал его Траскин.
– Ловкий лазутчик везде пройдет.
– Да, вот еще что, – вспомнил Граббе, многозначительно глядя на Попова.
– Помнится, вы обещали сыскать человека, который бы за хорошую плату решился исполнить деликатное поручение.
– Ищем, – ответил Попов.
– И даже… Словом, есть тут один оригинал.
– Вот и славно, – похлопал Попова по плечу Граббе.
– А за деньгами господин начальник штаба не постоит.
– За какими, позвольте узнать, деньгами? – встревожился Траскин.
– У меня каждый рубль на счету.
– Из экстраординарных сумм, – уточнил Граббе.
– Ах, это… – разочарованно протянул Траскин.
– Смотря сколько, ваше превосходительство, и на что.
– На дело особой важности, – заверил его Граббе.
– Господин полковник вам все разъяснит.
– Так точно, ваше превосходительство, – кивнул Попов.
– Завтра на рассвете я намерен отбыть в Ставрополь, – объявил Граббе.
– Торжественное построение войск приказываю отменить.
– Как же так, ваше превосходительство? – растерялся Попов.
– Такие времена, любезный, – ответил Граббе.
– Секретность – половина успеха.
– Как прикажете.
– Однако прощальный ужин – непременно! – настаивал Траскин.
– Тут, доложу я вам, такие деликатесы произрастают.
– Полковая традиция, – поддержал Траскина Попов.
– Без прощального ужина никак нельзя.
– А вина! – закатил глаза Траскин.
– Знай про них французы, сюда бы двинулись, а не на Москву!
– Ну что ж, – развел руками Граббе.
– Шариат, конечно, это не приветствует…
Остальные заулыбались, оценив изощренный юмор генерала.
– Но адат нам несравненно ближе, – рассмеялся генерал.
– И дам не забудьте.
– Как можно? – улыбался Попов.
– Им маскарад до сих пор снится.
– И вы на манер Ганнибала, – ухмылялся Траскин.
– А лет эдак через сто кто-нибудь и в виде генерала Граббе на маскарад явится.
– Дай-то Бог! – поддержал Васильчиков.
Милютин тоже хотел что-то прибавить, но сдержался, опасаясь впасть в двусмысленность.
– Вы что-то имели сказать? – обратился к нему Граббе, которому комплименты пришлись явно по душе.
– Я… Насчет дам, – нашелся Милютин.
– А именно? – любопытствовал Траскин.
– Насчет сударыни Нерской… – напомнил Милютин.
– Слезно просила принять.
– Ну что ж, – согласился Граббе.
– Вы ее на ужин пригласите и спросите, не желает ли она отбыть со мною в Ставрополь. Она близка была с моей женой… Что ей зимой делать в Шуре?
– А пусть остается, – предложил Траскин.
– На маскараде она была восхитительна.
– Так что не забудьте, – внушительно сказал Граббе Милютину.
– А за сим, господа, мое почтение.
Попрощавшись с каждым за руку, Граббе остался один.
Ему не хотелось идти на ужин, его уже воротило от деликатесов Траскина, а стенания Лизы, которую черт сюда принес, только будили в нем неуютные воспоминания. Граббе хотелось спать. Но спать генерал опасался, потому что прошлой ночью ему снова явилась ужасная гора. Генерал решил только немного вздремнуть, но провалился в сон, как в пропасть.
Глава 37
Лиза жила в Шуре ожиданиями. Местное женское общество ей быстро наскучило. Вернее, ей было неуютно среди дам, которые появлялись со своими мужьями или кавалерами и жили здесь какой-то другой жизнью, которую Лиза принимала с большим трудом. Лиза была ослеплена своим несчастьем и не могла видеть, что жизнь и здесь, в гарнизоне, имела свои особенные прелести. Постоянная близость войны меняла людей, они жадно наслаждались каждым днем, понимая, что любой из них мог оказаться последним.
Лизе отвели комнату в доме маркитанта, которого она изводила вопросами насчет дороги в Хунзах. Опасаясь, что она вздумает ехать туда сама, пожилой армянин пугал ее ужасными историями, приключавшимися на дорогах. Обычно это происходило вечером, за чаем.
– Вот недавно, – рассказывал Аванес, выпучив для убедительности глаза, – целый подполковник приехал из Казанищ, это тут рядом, там у меня лавка. Значит, приехал в бане попариться и визиты сделать. Обедал у командующего, потом в свой батальон возвращался.
– Один? – спрашивала Лиза.
– С ним унтер был и шестеро солдат, – повествовал Аванес, отхлебывая чай из блюдца.
– Вот, едут вместе, а подполковник вперед выехал, конь у него был хороший.
– Ну, выехал, – торопила Лиза, привыкшая, что Аванес любил рассказывать долго, будто товар выбирал.
– Трех минут не прошло! – размахивал руками Аванес.
– Выстрел! Солдаты с унтером подбегают, а подполковник убитый лежит.
– Господи Боже мой, – перекрестилась Лиза.
– Лошади нет, и шашка пропала, – говорил Аванес.
– Дорогая была шашка, из трофейных, в серебре, он ее у меня покупал.
– И что же, нашли разбойников?
– Куда там! – махнул рукой Аванес.
– Разве найдешь? Тут и свои могут под видом абреков. А ты говоришь – Хунзах!
– Что же мне здесь до весны сидеть? – горевала Лиза.
– Жди теперь, пока дороги откроются, – со знанием дела говорил Аванес.
– Я же жду. А весной дела пойдут. Первым делом войска в Хунзах двинутся или из Хунзаха.
– А далеко ли туда?
– Зимой – далеко, а летом, когда дороги, не так чтобы далеко.
– И ты пойдешь?
– Как не идти! – напомнила о себе Каринэ – жена маркитанта.
– У нас, знаете, сколько должников? Отправятся в поход – и поминай, как звали. А если убьют – так и вовсе беда.
– Поход для маркитанта – первое дело, – принялся просвещать Лизу Аванес.
– Господа офицеры любят налегке ездить. А как привал – давай сюда Аванеса. А у Аванеса и выпить, и закусить. Вина да водка лучше колбасы идут. А иным шампанское подавай, и непременно, чтобы французское, особенно Клико в почете. Этого у нас хватает, в Кизляре делают.
– А не страшно? – спрашивала Лиза.
– Привык, – улыбался Аванес, подливая себе чаю.
– И стреляли в меня, и грабили. А я вот он, царь-герой. Обещали к медали представить.
После таких историй Лиза долго не могла заснуть. Но ей было страшно не за себя. Она жалела своего мужа. Если такие ужасы творились на проезжих дорогах, под носом у целых полков, то каково же было ее Михаилу в Хунзахе, посреди этих страшных горцев? А если еще воевать приходится?
Лиза целовала мужние эполеты и слезно молила Бога уберечь Михаила от пуль и кинжалов. Она все еще надеялась, что Граббе вызволит Михаила из Хунзаха и вернет его в объятия преданной супруги.
Когда Лиза получила приглашение на ужин у генерала, то долго прихорашивалась перед зеркалом. Затем нарядилась в лучшее свое платье и отправилась в офицерское собрание с твердым намерением добиться от генерала положительного решения ее дела.
– Пусть хоть полк посылают в этот Хунзах, – говорила она себе.
– Все равно они тут от безделья маются, так пусть хоть несчастную женщину осчастливят.
На званый ужин собралось высшее полковое общество. Но Граббе все не появлялся.
Устав ждать генерала, Траскин подал пример чревоугодия, и компания принялась за яства и напитки. Застолье обернулось пиром, за которым о Граббе помнила только Лиза, намеревавшаяся добиться от генерала конвоя, с которым она бы могла отправиться к мужу в Хунзах.
Оркестр уже устал играть, публика утомилась от танцев, но Граббе не появлялся. В отчаянии Лиза пила вино, которым настойчиво угощал ее Траскин. Он надеялся добиться ее благосклонности, но Лиза была неприступна. Траскин все подливал ей вина, пока выпитое не ударило Лизе в голову. Она вдруг упала в объятия Траскина и расплакалась у него на плече. Траскин понадеялся было, что дело сделано, но, к его разочарованию, Лиза принялась изливать ему душу, рассказывая, как сильно любит своего замечательного мужа-прапорщика и как по нему тоскует.
Растерянный Траскин выслушал печальную исповедь и деликатно отстранил от себя Лизу, не забыв выразить ей свое сочувствие. Но для себя решил, что разжалованный декабрист, даже если он теперь прапорщик, останется в Хунзахе, чтобы иметь случай еще более загладить свою вину или дождаться горской пули. В конце концов в Шуре были дамы, не имевшие столь вздорных романтических претензий и почитавшие за счастье услаждать начальника штаба.
Около полуночи Васильчиков решил узнать, намерен ли генерал спуститься на прощальный ужин. Но, застав Граббе спящим, не стал его беспокоить, потому что сон его, судя по всему, и без того был тревожен.
Ранним утром Граббе отбыл из Темир-Хан-Шуры. С ним уехал Васильчиков, а Милютин был пока оставлен в Шуре на предмет исполнения важного поручения.
Глава 38
Пехлеваны-канатоходцы всюду были желанными гостями. На базаре в Шуре посмотреть на них тоже собралось много народу.
После очередного представления, когда Айдемир, как звали потомственного трюкача, собирал со зрителей деньги, особенно щедрым оказался Жахпар-ага, капитан горской милиции, служивший при штабе полка в Шуре. Он дал канатоходцу полтину и шепнул, чтобы тот зашел к нему вечером.
Явившись куда следовало, Айдемир застал у Жахпар-аги еще и жандармского ротмистра. Когда канатоходец услышал, чего от него хотят, то согласился на рискованную затею не сразу. Но грозный вид Жахпар-аги и хорошие деньги, которые сулил ротмистр, сделали канатоходца еще более гибким, чем того требовала его профессия. Тем более что отказ повлек бы за собой запрещение выступать в крепостях, где сборы бывали самыми большими.
Жахпар-ага и жандарм привели его в штаб, где представили Попову и Милютину, которые должны были решить, годится ли Айдемир в лазутчики.
Попов уже видел его представление и полагал, что этот худощавый и ловкий, как кошка, горец вполне годится для тайной роли. Его интересовало лишь, согласится ли он взять в попутчики господина Синицына.
Когда позвали Аркадия, Айдемир оценивающе оглядел его со всех сторон и заявил:
– Пехлевана из него не получится.
– Отчего же? – полюбопытствовал Попов.
– Кость не та. Пружины нет, – объяснял Айдемир.
– Сами видите – стоит, как осел.
– Как он смеет?! – вскипел Синицын.
– Не обращайте внимания, – успокаивал его Милютин.
– Осел разве может по канату ходить? – продолжал Айдемир.
– Дикие люди, – шепнул Аркадию Попов.
– Танцевать умеешь? – спросил Айдемир кандидата в канатоходцы.
– Танцевать? – не понял Аркадий.
– Лезгинку.
– Не приходилось, – признался Аркадий.
– Если на земле не может, как на канате танцевать будет? – недоумевал Айдемир.
– А ты научи, – велел Жахпар-ага.
– Ты тоже не на канате родился.
– Мне Аллах дал, – упрямился Айдемир.
– А ему не дал.
– Его тоже Бог не обделил, – вступился за Аркадия Попов.
– Смел, как мюрид, умен. А вырядился как? От горца не отличишь.
– Тогда пусть шутом будет.
– Как то есть шутом? – опешил Аркадий.
– Это в каком смысле? – спросил канатоходца Попов.
– У канатоходца шут бывает в страшной маске, – объяснял Айдемир.
– Я на веревке танцую, а он, как дурак, внизу повторяет, народ веселит.
– Бывает такой, – подтвердил Жахпар-ага.
– Дразнит всех и деньги собирает.
– И мне хорошо, и денег больше, – добавил Айдемир.
– У меня тоже был, но потом к Шамилю убежал.
– Так он у Шамиля? – насторожился жандармский ротмистр.
– Я слышал, погиб он, – сказал Айдемир.
– Это хорошо, – облегченно вздохнул жандарм.
– Так ты говоришь, наш человек у тебя ряженым будет? – спросил Попов.
– Не канатоходцем же.
– А что, господа? – улыбался Милютин.
– Дело нехитрое, и все кругом обозреть можно.
– Шутом не пойду, – упирался Аркадий.
– Это как-то неблагородно.
– Комедиантом! – поправил жандарм.
– Актером, – добавил Милютин.
– Как на маскараде.
– Я научу, – успокаивал Аркадия Айдемир.
– Но я… – не решался Аркадий.
– Я не сумею.
– Вам крупно повезло, господин Синицын, – убеждал Попов.
– Лучшего случая добраться до вашей желанной цели и не придумаешь.
– Да? – неуверенно произнес Аркадий, вспомнив про свои дуэльные пистолеты.
– Пожалуй…
– Жаль, я не в ваших летах, сам бы отправился! – деланно вздыхал Попов.
– Я… Я согласен, – объявил Аркадий.
Траскин был занят с откупщиками и подрядчиками, и Попову с Милютиным пришлось долго ожидать аудиенции. Наконец, Траскин принял и их. Узнав о цели визита и вспомнив распоряжение Граббе, Траскин кивнул им на стулья, а сам уселся на диван, потому что в кресле не помещался.
– Десять тысяч?! – изумился Траскин.
– На что же вы предполагаете употребить такую уйму казенных денег?
– Видите ли, господин полковник, – сказал Попов.
– Велено вызнать лучшие дороги к ставке Шамиля.
– За десять тысяч вам Шамиля на аркане приведут, – сказал Траскин.
– Позволю себе с вами не согласиться, – возразил Попов.
– Шамиль теперь стоит куда больше.
– Что же вы предлагаете? – спросил Траскин.
– Послать хорошего лазутчика, – сказал Милютин.
– Всего-то? – рассмеялся Траскин.
– Да я вам таких по червонцу найду, целую роту.
– Не просто лазутчика, – объяснял Попов.
– А который бы, при удачном стечении обстоятельств, смог произвести решительный выстрел.
– Выстрел? – не понял Траскин.
– В кого?
– Его превосходительство генерал-лейтенант Граббе считают, что целью должен стать сам Шамиль.
– Шамиль? – привстал от удивления Траскин.
– Как же вы намерены до него добраться?
– Мы предполагали разные способы, – сказал Попов.
– К примеру, представить нашего лазутчика богатым пленником, – добавил Милютин.
– Таких, как у горцев заведено, доставляют к Шамилю.
– Весьма правдоподобно, – кивнул Траскин.
– Однако есть вероятность, что богатого пленника наибы для себя приберегут или абреки отбить могут, – сказал Попов.
– Бывали случаи.
– Остановились на канатоходце, – заключил Милютин.
– На ком? – Траскин опять уселся на диван.
– Канатный плясун, комедиант бродячий, – сообщал Милютин.
– Дает представления по аулам.
– Надежный человек? – сомневался Траскин.
– Нам его Жахпар-ага посоветовал, капитан горской милиции, – сказал Попов.
– При штабе служит.
– Как же дерзает плясун браться за такое дело? – не верил Траскин.
– Не сам, господин полковник, – сказал Попов.
– Тогда кто же?
– Наш человек, – заверил Попов.
– Отчаянная голова, доложу я вам.
– Кто же это?
– Из вольноопределяющихся.
– Он разве на канате плясать умеет? Это все же не шашкой махать.
– При канатоходцах шуты положены, – объяснял Попов.
– Ряженые. Так вот господин Синицын решился испытать судьбу.
– Синицын? – припомнил Попов.
– Это не тот ли наглец, что посмел предлагать поединок самому генералу?
– Он самый, – кивнул Попов.
– По дерзости своей и согласился на такое дело.
– Он, думаю, и стрелять-то не умеет.
– Обучили, – сообщал Милютин.
– К тому же он затем сюда и явился.
– Извольте объяснить, поручик, – недоумевал Траскин.
– Изволите ли видеть, господин полковник, у него к Шамилю личные счеты, – говорил Попов.
– Какие – не говорит, но цель его жизни заключается в том, чтобы вызвать Шамиля на дуэль.
– А он в своем уме? – постучал по своему лбу Траскин.
– Надеюсь, что не совсем, – улыбнулся Попов.
– При здравом-то уме кто же на такое решится? Однако же прибыл сюда с дуэльными пистолетами французского образца.
– Он, конечно, человек не военный, – добавил Милютин.
– Но и в том есть преимущество. Военного горцы сразу отличат.
– Тому есть прискорбные примеры, – сообщал Попов.
– Начальству было угодно отправить из Генерального штаба подполковника Бергенгейма из Хунзаха в Кахетию, а поручика Гордеева через южные лезгинские общества. И оба они от засад, неизвестно кем поставленных, погибли. После смерти упомянутых офицеров командир Отдельного Кавказского корпуса решил, что положение Дагестана таково, что впредь отправлять офицеров в горы невозможно…
– Так вы говорите – цель жизни?
– Я самолично его отговаривал, – убеждал Попов.
– А он на своем стоит. Не возьмете, говорит, в поход – сам уйду! Вот я и подумал, зачем же такому сорвиголове напрасно пропадать? Чем черт не шутит?
– Дас, – произнес Траскин.
– На свете чего не бывает…
– А не доберется до Шамиля, так хоть дороги выведает, – сказал Милютин.
– Я его и глазомерной съемке обучил, и насчет составления карт с ним занимался.
– И языками он почти овладел, – вставил Попов.
– На базарах практиковался и с переводчиком тоже.
– Так вы полагаете, он и в самом деле пойдет в горы?
– Если на цепь не посадим, пойдет, – заверил Попов.
Траскин задумался, а затем велел Милютину.
– Оставьте-ка нас на минутку с полковником.
Милютин козырнул и вышел.
– Я одного не возьму в толк, господин полковник, – обратился Траскин к Попову.
– Ежели этот ваш сумасброд Синицын так горячо желает стреляться с Шамилем, что само по себе событие чрезвычайное, то на что ему десять тысяч?
– Его превосходительство решили, – отвечал Попов, – что зло, которое причиняет нам Шамиль, оправдывает всякую меру, которая с успехом может быть употреблена для его истребления.
– Это верно, – согласился Траскин.
– Однако же фанатики на деньги не смотрят. Уже если что засядет им в башку, пушкой не вышибешь. Видал я таких, когда декабристов после бунта допрашивали.
– Траскин перевел дух и продолжал: – Ведь если рассудить, мы помогаем господину Синицыну исполнить его заветное чаяние. К тому же если предприятие сие увенчается успехом, то слава его затмит всех наших героев.
– Он, наверное, готов и бесплатно… – неуверенно предположил Попов.
– Зачем же бесплатно? – возразил Траскин.
– Всякое дело имеет цену.
– Долгов у него всего на триста рублей, – сообщил Попов.
– Да и те можно отнести на полковые издержки.
– Вы меня не понимаете, господин полковник.
– Траскин поднялся и навис над Поповым, сверля его глазами.
– Десять тысяч – так десять тысяч. За ценой не постоим. Только не вперед, а после.
– А если не справится? – спросил Попов.
– Значит, на то воля Божья, – вздохнул Траскин.
– Тогда к награде представим. Посмертно.
– А деньги?..
– начал понимать Попов.
– Я слышал, у вас семья? – участливо спросил Траскин.
– А жалование, знаю, небогатое.
– По совести говоря, едва хватает, – признался Попов.
– Ну так вот, триста Синицыну, авансом, – прикидывал Траскин, загибая пальцы.
– И плясуну канатному…
– Двести, – вставил Попов.
– Чтобы не выдал.
– Пожалуй, – согласился Траскин.
– Ассигнациями.
– Золотом, – настаивал Попов – В крайнем случае – серебром. Ассигнации горцы не принимают.
– Тогда хватит с него и ста, под расписочку.
– А остальное? – осторожно спросил Попов.
– Пополам, вам и мне, – улыбнулся Траскин.
– И пусть себе этот ваш истинно помешанный Синицын хоть на канате пляшет, хоть к горцам перебегает, хоть с мюридами стреляется, но чтобы духу его здесь не было!
– Но как же сведения? – опомнился Попов.
– Сведения? – расхохотался Траскин.
– Вы что же, полковник, всерьез полагаете, что он живым оттуда вернется?
– Бог его знает, – ответил Попов.
– Дуракам, говорят, везет.
– А ежели вернется, так в лазарет его, в дом умалишенных, на вечное излечение!
Глава 39
В семье Шамиля был торжественный день. Маленькому Саиду в первый раз брили голову.
Джавгарат держала младенца на руках, а Шамиль остро отточенным ножом снимал с его головки невесомые волоски. Саид беспокойно вертел головкой, и Шамилю приходилось ее удерживать. Только когда сын встретился глазами с отцом, он затих и улыбнулся.
– Только не порежь, – беспокоилась Джавгарат.
– Он еще такой маленький.
Шамиль кивнул, он потому и не доверил это важное дело кому-то еще, что опасался поранить своего младшего сына.
– Не успеешь оглянуться, как большой вырастет, – улыбалась Патимат, вытирая полотенцем головки своих сыновей, которых только что тоже побрили.
– Все уже? – торопил мать Джамалуддин.
– Нет, не все, – ответила Патимат.
– У вашего брата сегодня праздник. Поэтому у вас будут новые папахи.
– Новые! – обрадовался Джамалуддин.
– Ну да, старые-то давно обтрепались.
Патимат достала с полки две новые овчинные папахи и надела их на своих сыновей.
– Настоящие мужчины! – похвалила их Джавгарат.
Мальчики примеряли папахи и, отталкивая друг друга, смотрелись в висевшее на стене небольшое зеркало.
– Обещайте, что больше не будете драться, – сказал Шамиль.
– А чего он? – отталкивал брата Джамалуддин.
– А он меня играть не пускает, – жаловался Гази-Магомед.
– Ты со своими играй, – отвечал Джамалуддин.
– Нечего к старшим лезть.
– Слушай старшего брата, – наставлял сына Шамиль.
– А он будет тебя защищать.
– Гази-Магомеда? – усмехнулся Джамалуддин.
– Мы когда с друзьями боремся, он сам мне помогать лезет.
– И правильно делает, вы же братья, – сказала Джавгарат.
– Когда Саид вырастет, тоже будет вашим помощником.
– Да когда он еще вырастет! – махнул рукой Джамалуддин.
– Я и так всех уложу!
– И я уложу, – вторил брату Гази-Магомед.
– Ладно, – взял его за руку Джамалуддин.
– Пойдем посмотрим, как новых коней объезжают.
Но прежде, чем братья ушли, Патимат достала с полки большую деревянную тарелку, на которой лежала нарезанная кусочками халва с орехами.
– Раздайте это друзьям, – сказала она.
– Друзьям? – удивился Джамалуддин, набивая халвой рот и угощая Гази-Магомеда.
– А если останется, то всем, кого встретите, – велел Шамиль.
– У нас праздник, – улыбнулась Патимат, кивая на сверкающую головку Саида.
– А когда нам в первый раз брили, тоже халву раздавали? – спросил Джамалуддин.
– Так положено, – кивнула Патимат.
– А я не помню, – удивился Джамалуддин.
– И я не помню, – добавил ГазиМа-гомед.
– Ты еще маленький был, – объяснил брату Джамалуддин.
Братья схватили сладости и умчались.
Шамиль убрал нож, вытер руки и зашептал благодарственную молитву. Жены тоже подняли перед собой руки, добавляя после каждой просьбы Шамиля к всевышнему свое «Аминь». После молитвы Патимат достала из цагура муку и принялась месить тесто.
– Для гостей будет хинкал, – сказала она, а затем велела Джавгарат: – Поставь котел на огонь.
Джавгарат уложила ребенка в люльку и достала с полки большой котел. Но в кувшине не оказалось воды. Тогда она накинула теплый платок и отправилась за водой.
– Дай Аллах здоровья Сурхаю, – сказала Патимат.
– Теперь не надо спускаться к реке.
– Пойду, посмотрю, как у него дела, – сказал Шамиль, набрасывая на плечи шубу.
Большое, выложенное из камня хранилище для воды, которое Сурхай устроил на Ахульго, немного облегчил женщинам жизнь. На горе не было родников, и раньше приходилось спускаться к реке по крутым тропам, а затем подниматься обратно с тяжелыми большими кувшинами. Теперь на Ахульго были свои запасы. Для их пополнения был проведен деревянный желоб. Он тянулся от родника на окраине Ашильты у соснового бора.
У входа в дом сидел Султанбек, наводя красоту на свою шашку. Увидев имама, он поднялся.
– Пойдем, посмотрим, что Сурхай делает, – сказал Шамиль.
– Обещал, что скоро закончит, – сказал Султанбек, убирая шашку в ножны.
– А где Юнус? – спросил Шамиль.
– В Чиркату поехал, – сообщил Султанбек.
– Зачем?
– Сообщили, что туда явился человек из Шуры.
Письмо тебе принес, – докладывал Султанбек.
– А почему ко мне не пришел?
– Говорят, лошадь поскользнулась. На перевалах все обледенело. Еле живой был, когда до Чиркаты добрался.
На Ахульго лежал снег, по которому бежало несколько тропинок. Самая широкая вела к хранилищу воды. Там, где под землей были очаги, снег таял и поднималась испарина.
Ровных мест на Ахульго было мало. На одном из них, за мечетью, ахульгинская молодежь объезжала коней. Посмотреть на удальцов собралось много людей. При однообразной жизни на голой горе это было волнующим зрелищем.
На коня уже успели накинуть арканы, и двое парней тянули их в разные стороны, чтобы удержать коня на месте. Еще двое, держа скакуна за уши, надевали на него уздечку.
Собравшиеся подавали советы:
– Держите крепче!
– Теперь к удилам привязывайте!
Парни сняли арканы с шеи коня и начали привязывать их к удилам. Тем временем Хабиб, сын чабана Курбана, сумел набросить на коня седло и подтянуть подпругу. Он уже собирался и сам вскочить на коня, когда послышались предостерегающие крики:
– Рано лезешь!
– Убьет!
– Пусть перебесится сначала!
Конь, будто опомнившись, взвился на дыбы и начал бешено метаться. Но веревки, привязанные к удилам, не давали ему освободиться. Когда конь устал и тяжело дышал, роняя пену, на него вскочил Хабиб. Почувствовав на себе седока, конь с новой силой встал на дыбы. Бешено вращая глазами, конь прыгал в стороны, пятился, снова поднимался на дыбы, но Хабиб к нему будто прирос, усмиряя коня уздечкой и плетью.
– Зверь, а не конь! – кричали горцы.
– Смотри, смотри что делает!
– Если ляжет – соскакивай!
Конь чуть было не опрокинулся на спину, но наездник только потерял папаху, а коня заставил присесть на задние ноги и снова подняться.
– Теперь по кругу пускайте, – советовали знатоки.
– Пока совсем не устанет.
– Пусть успокоится.
– А потом воды дайте, чтобы хозяина почувствовал.
– Хороший конь.
Шамиль видел, с каким азартом наблюдают за смельчаками его дети. И вспоминал, как сам в юности объезжал коней, делая это без чьей-либо помощи.
Хабиб укротил коня и подъехал на нем к Шамилю.
– Теперь возьмешь в мюриды, имам?
– Вижу, в мюриды ты годишься, – чуть улыбнувшись ответил Шамиль.
– А отцом ты уже стал?
– Уже скоро, – смущенно ответил Хабиб.
– Тогда и приходи, – сказал Шамиль.
Крепость на скале, которую люди успели прозвать Сурхаевой башней, величественно возвышалась над Ахульго. Трудно было представить, что кто-то сможет сюда забраться, а тем более – захватить эту небольшую, но крепкую цитадель, защищенную самой природой и окруженную мощной каменной стеной.
Шамиль с Султанбеком осматривали крепость, удивляясь, что могут сотворить люди, имеющие ясную цель и умелого начальника. Это был настоящий замок, который опоясывал вершину скалы. Слева от нее располагалась двухэтажная башня, на крыше которой был устроен квадратный завал из срубов и камней. Этот завал защищал вход в оба нижних этажа и в третий – подземный. Завал занимал примерно треть крыши и располагался с южной стороны, обращенной в сторону гор и Ашильта.
От основной стены замка на юго-запад тянулась еще одна стена, прикрывавшая отдельную саклю и окруженная завалами, обращенными к почти отвесному ущелью. Между этим ответвлением и замком находился вход в большую пещеру, связанную подземными коридорами с помещениями самого замка.
Справа от пика скалы располагались две одноэтажные каменные сакли, окруженные общей замковой стеной. Большая из них имела выход к Ахульго. Меньшая тоже имела выход, но уже к отдельной части замка, расположенной к юго-востоку и связанной с главным замком толстой каменной стеной. Здесь высилась трехэтажная башня. А под ней, за стенами, располагались еще и отдельные нижние завалы.
Таким образом, крепость представляла собой что-то вроде панциря, надетого на скалу. Она преграждала путь к Ахульго и защищала все подступы, которые простреливались из многочисленных бойниц. Вдоль стен высились горы камней, оставшихся от строительства и теперь тоже обращенных в оружие. Для того же служили и не пошедшие в дело бревна.
Строительные работы были закончены. Теперь Сурхай обустраивал помещения, в которых должны были жить защитники крепости. Сюда же, для временного гарнизона, собирали сушеное мясо, муку и бурдюки с водой. В отдельных пещерах складывали мешки с порохом, пули и оружие.
– Еще бы пушки сюда, – сказал Султанбек.
– Пусть тогда попробуют взять, – кивнул Сурхай.
– Магомед обещал, – напомнил Султанбек.
– Я слышал, наш мастер отправился к Ташаву, – сказал Шамиль.
– Там есть одна пушка, которую мы отбили, когда ходили с первым имамом на Владикавказ. Потом мы отправили ее в Беной.
– Наверное, хочет узнать, как настоящая пушка сделана, – предположил Султанбек.
– Мы и без пушек сможем держаться, – заверил Сурхай.
– Сурхай, – сказал Шамиль, пожимая руку строителю.
– Я не могу отблагодарить тебя так, как это сможет всевышний. Но то, что ты сделал, народ не забудет.
– Мы вместе это сделали, – ответил Сурхай.
– Говоря по совести, мне было стыдно перед людьми. Что я им мог дать?
Построй они такую крепость какому-нибудь хану, их бы озолотили.
– Значит, еще не все на свете меряется золотом.
Отсюда открывалась замечательная панорама. Оба Ахульго были исчерчены дорожками по белому снегу, как чернилами по бумаге. А вокруг, куда хватало глаз, громоздились высокие хребты. Река, огибая Ахульго, текла в сторону Гимров и исчезала в глубоком каньоне. Напротив Ахульго, на другом берегу реки, поднимались уступами горы с похожими на шатры макушками. Левее, над изгибом реки, виднелись сады и дома Чиркаты. Над аулом рядами поднимались горы, уходя к небу все более высокими гребнями, как волны окаменевшего океана. Еще левее, перед рекой, снова поднимались каменные громады, по склонам которых вилась дорога из Чиркаты в Ашильту и на Ахульго.
– Сколько мы сможем выстоять? – размышлял про себя Шамиль.
– Месяц, два, полгода? А сколько может длиться осада? Осада… Почему они должны защищаться на собственной земле? Почему генералы не соблюдают мирный договор? Почему эти люди должны покидать свои дома и прятаться в подземельях? Почему на этом свете столько зла? Почему он, имам, не может сделать свой народ счастливым? Или он делает что-то не так?..
– Юнус скачет, – показал Султанбек вдаль, туда, где по дороге из Чиркаты мчался всадник
– Юнус? – очнулся от своих раздумий Шамиль.
– Я его коня узнаю. Несется, как по ровной дороге.
Юнус прибыл из Чиркаты с важным сообщением, которое прислал человек Шамиля в Шуре.
– Как чувствует себя посланец? – спросил Шамиль.
– Немного обморозил ноги, но скоро поправится, – ответил Юнус.
Сообщение помещалось в серебряной монете, которую мог открыть только тот, кто знал ее секрет. Шамиль вынул свернутый листок, развернул его и отошел к краю крепости, куда падали солнечные лучи, чтобы получше разглядеть мелкие строчки.
В сообщении говорилось о том, что в горы посылают нового лазутчика с целью убить Шамиля, а заодно разведать новые дороги к Ахульго. Автор письма просил Шамиля быть осторожным. И еще он спрашивал, какой дорогой направить лазутчика?
Пока Юнус с Султанбеком осматривали законченную крепость, Шамиль совещался с Сурхаем.
– Зачем им новые дороги? – спросил Сурхай.
– Чтобы напасть с разных сторон?
– Если они придут, как раньше, из Шуры, по Хунзахской дороге, то за нашими спинами будут сильные аулы, – размышлял Шамиль.
– И они нам помогут, – кивнул Сурхай.
– Конечно, но плохо то, что царские войска со своими пушками смогут добраться до Ахульго без особого труда, – сказал Шамиль.
– А на этот раз сардар пошлет против нас большую армию.
– Мне тоже кажется, что они собирают силы.
– Хотят нанести решающий удар, – предположил Шамиль.
– А если мы сможем направить их по другой дороге, со стороны Эндирея, от их главной крепости, – Шамиль показал на хребты, возвышавшиеся за Чиркатой, – то им придется воевать на каждом шагу.
– Там и дорог-то нет, – сказал Сурхай.
– Одни тропинки.
– Верно, – кивнул Шамиль.
– И в этом наше преимущество.
– Зато там много мюридов, и никогда не ступала нога солдата, – добавил Сурхай.
– Ни один вольный аул не сдастся без боя, – продолжал размышлять Шамиль.
– А мы сможем встретить войско сардара, где и когда сочтем нужным.
– Значит, нужно указать им тот путь, который нам нужен?
– И убедить, что он безопасен, – добавил Шамиль.
– Они должны думать, что встретят только склоненные головы, что никто не ударит им в тыл и не посмеет придти на помощь к нам.
– А когда войска втянутся в горы… – понимающе кивал Сурхай.
– Мы заставим их пожалеть о том, что они пошли на Ахульго.
– Если они вообще сюда дойдут, – усмехнулся Сурхай.
– Для друзей – сердце, для врагов – кинжал.
Шамиль на мгновение задумался, а затем предложил маршрут для Граббе:
– Внезапная – Буртунай – Аргвани.
– О Буртунай и Аргвани они сломают все зубы, – сказал Сурхай.
– Но сначала нужно получить согласие обществ, через которые могут пойти войска Граббе, – сказал Шамиль.
– Я напишу им письма, и пусть тамошние наибы немедленно пришлют их ответы.
– Доставим как можно быстрее, – заверил Юнус.
– Если они согласятся, наш человек в Шуре будет знать, по какому пути направить лазутчиков, – продолжал Шамиль.
– А пока позаботьтесь, чтобы его посланца хорошо лечили. Если скоро не поправится, пусть пошлют другого человека туда, куда он укажет.
– Я все понял, имам, – сказал Юнус.
– Письма я напишу утром, – сказал Шамиль и улыбнулся: – А пока нас ждет хороший хинкал. Сегодня я побрил младшего сына.
– Да будет доволен им всевышний, – сказал Сурхай.
– Пойдемте же, пойдемте все, – приглашал Шамиль.
– Скоро и другие подойдут. Курбан прислал большого барана.
Глава 40
Аркадий становился другим человеком. Он и сам уже не узнавал себя в горской одежде и с новыми манерами, усвоенными от туземцев.
Поначалу, когда им заинтересовался полковник Попов, который вытащил его из гауптвахты, затем помог поправить затруднительное финансовое положение и даже причислил к своему полку, все складывалось как нельзя лучше. Затем, когда Попова сменил жандармский ротмистр, заведовавший лазутчиками, Аркадий решил, что так он сможет приблизиться к исполнению свой заветной цели. А когда ему дали понять, что крепко на него надеются, и предложили роль шута при канатоходце, Аркадию стало казаться, что он сделался важной фигурой, от которой теперь зависела судьба Кавказа.
Но чтобы идти к горцам, ему самому нужно было стать горцем. Хотя бы отчасти. Аркадий отрешился от общества, облачился в шутовской наряд и учился ассистировать бесстрашному канатоходцу. Пока тот выделывал свои головокружительные трюки, Аркадий нелепо пародировал его номера на земле, дразнил публику и собирал деньги. В остальное время Аркадий слонялся по базарам и караван-сараям, учился есть хинкал и говорить на местных языках. Последнее было труднее всего, но Аркадий старался и немало в этом преуспел. По крайней мере, его уже принимали за казака, имевшего близких кунаков среди горцев.
Но чем больше Аркадий проникался местным духом, тем труднее ему было ответить на вопрос, зачем и куда он идет. Горцы жили своей жизнью и ни про какого Аркадия Синицына и его ветреную невесту ведать не ведали. Однако Аркадий успел понять, что настоящие горцы держат данное слово так же, как настоящие дворяне. И теперь от него ждали исполнения его страшного обещания. Аркадий понимал некоторую нелепость своего намерения, но от данного слова отказаться не мог, даже если бы для этого надо было умереть.
Он бы с удовольствием застрелил на дуэли надменного Граббе. Или жандарма, который обучал его шпионским уловкам. Аркадий помнил эту самодовольную физиономию, в которую превратилось участливое лицо благородного человека, каким оно было, пока жандарм убеждал Аркадия возложить на себя великую миссию избавления Кавказа от тирана, а тем более – его личного врага. Но более всего Аркадия пугало, что откажись он от своего намерения, и станет известно, что он не сдержал слово, сгоряча данное им Попову при посвящении в лазутчики.
Изредка Аркадий навещал Лизу. Ей показалось, что он очень переменился после маскарада. Будто надел на себя какую-то загадочную маску и позабыл ее снять.
Аркадий жил в доме одного из штабных чиновников, обедал с офицерами, и у него появились деньги. Он даже вернул Лизе долг, сказав, что ему прислал батюшка. Но Лиза чувствовала, что это не так. В другой раз Аркадий сообщил, что приписан к полку вольноопределяющимся и ему выдали крупную сумму в счет будущего жалования.
Но, даже поступив в полк, Аркадий отчего-то не расставался со своим горским костюмом. Он даже обрил голову, как это делали горцы, и стал почти от них неотличим. Местные жители, не знавшие Аркадия близко, обращались к нему со своим обычным «Салам алейкум» или «Хошкельды», и он отвечал им так, как было принято у горцев.
А однажды Лиза увидела его на базаре. Аркадий яростно торговался с горцем за барана, толкуя с ним по-аварски. Аварец принимал его за казака и прощал ошибки. Но затем Лиза увидела и нечто вовсе странное. Купленного барана Аркадий отвел на другой конец обширного Шуринского базара и принялся продавать, подражая манерам горца, у которого он этого барана купил.
Лиза решила, что Аркадий получил роль в любительском гарнизонном театре, который часто давал спектакли и недурно представлял местные нравы в пьесах своих же самодеятельных авторов. Но когда Лиза дала ему понять, что не отказалась бы посетить новый спектакль, Аркадий сделался задумчив. А после сказал, что актеры здесь плохо играют.
Был еще один случай, очень напугавший Лизу. Когда в Шуру приехал канатоходец и устроил на площади свое представление, Лиза и жена маркитанта отправились на него посмотреть. Пока артист с легкостью выделывал головокружительные трюки, внизу его передразнивал ряженый, облаченный в вывернутую наизнанку шубу и в косматом колпаке с дырками для глаз. Публика аплодировала необыкновенным номерам, ряженый потешал собравшихся, а заодно собирал деньги. И вдруг Лиза услышала, как кто-то назвал ее имя. Ей показалось, что это голос Аркадия. Но когда она обернулась, позади нее скакало ряженое чудище, размахивая корявым посохом и страшно хохоча.
Футляр со своими знаменитыми дуэльными пистолетами Аркадий хранил у Лизы, пообещав забрать их, когда настанет время.
Приходя в себя после липких речей жандарма, после вздорных «глазомерных съемок» и «картографических опытов» поручика Милютина, после шутовских кривляний на базаре, Аркадий брал в руки книжку Марлинского. Только ему, опальному декабристу, популярному литератору, Аркадий верил, как, впрочем, и вся просвещенная публика, которая не могла уразуметь из газет, что творится на Кавказе.
Аркадию предстояло идти к аварцам, каковым был и сам Шамиль. А у Марлинского было ясно написано: «Аварцы – народ свободный. Они не знают и не терпят над собой никакой власти. Каждый аварец называет себя узденем, и если имеет есыря (пленного), то считает себя важным барином. Бедны, следственно, и храбры до чрезвычайности; меткие стрелки из винтовок – славно действуют пешком; верхом отправляются только в набеги, и то весьма немногие… Верность аварского слова в горах обратилась в пословицу. Дома тихи, гостеприимны, радушны, не прячут ни жен, ни дочерей – за гостя готовы умереть и мстить до конца поколений. Месть для них – святыня; разбой – слава. Впрочем, нередко принуждены бывают к тому необходимостью… Аварцы – самое воинственное племя, сердечники Кавказа».
Но делать было нечего. Надо было идти. И не в героическом виде вершителя судеб мира, а в образе жалкого шута, служившего на подхвате у канатного плясуна. И только дуэльные пистолеты, которые он забрал у Лизы, сохраняли его связь с прежним миром и с главной целью его путешествия.
Глава 41
Следующие представления канатоходцы давали в крепости Внезапной, у аула Эндирей. Гарнизон, маявшийся от зимней скуки, веселился от всей души. На натянутом между казармами канате акробат исполнял удивительные номера. Нанятые им полковые оркестранты играли нехитрую музыку, а особенно опасные трюки сопровождали барабанной дробью.
– Ловок, шельма! – удивлялись солдаты.
– Видал, каким чертом ходит!
– Тот еще абрек!
Акробат скользил по канату, стоя в тазу.
– Дьявол! – шептали солдаты.
– Расшибется!
– Гляди-ка, цел!
Ряженый забавно копировал на земле то, что происходило в воздухе, вызывая у зрителей взрывы хохота. Одни в шутку тыкали его штыками, другие целились из пистолетов, а шут в ответ бросался с посохом на зрителей и требовал денег.
– Браво! – кричали канатоходцу офицеры.
– Еще что-нибудь! На бис!
Вдохновленный акробат бросил свой шест ряженому и принялся танцевать на канате лезгинку.
– Ну, орел! – аплодировали офицеры.
– Тот еще разбойник!
Из окна полкового штаба за артистами наблюдал Пулло. Рядом стоял Жахпар-ага.
– Который? – спросил Пулло.
– Вон тот, внизу, – указал Жахпар-ага на ряженого.
– Славный маскарад, – одобрил Пулло.
– Так точно, господин полковник. На шайтана похож.
– Этим везде дорога, – кивал Пулло.
– Значит, говорите, через Буртунай пойдут?
– Так точно, господин полковник, – подтвердил Жахпар-ага.
– Слышал, есть и там дорога, – сказал Пулло.
– Оттуда нас Шамиль не ждет.
– Конечно, – кивал Жахпар-ага.
– Там горы высокие.
– И не через такие ходили, – улыбался Пулло.
– Только бы разведать хорошенько.
– Разведают, – обещал Жахпар-ага.
– Нам ведь не налегке идти придется, а с пушками.
– Узнать бы дорогу, а ее и исправить можно, – убеждал Жахпар-ага.
– Но ведь Буртунай, я слышал, с Шамилем заодно, – сомневался Пулло.
– Наши пушки увидят – быстро поумнеют, – заверил Жахпар-ага.
– Сами они против Шамиля ничего не могут, вот и покоряются. А если хорошую армию послать…
– Как закончат, пусть ко мне явятся, – перебил его Пулло.
– Вернее, пусть господин Синицын, сам.
– Слушаюсь, господин полковник, – козырнул Жахпар-ага и вышел.
Представление продолжалось. Канатоходцу подали на штыке флягу с водой. Он отпил, перевел дух, а затем завязал себе глаза и под тревожный барабанный бой двинулся по канату. Наступила тишина. Канатоходец сначала двигался осторожно, затем пошел быстрее, а последний кусок каната пробежал, будто по ровной дороге. Публика восторженно кричала и аплодировала. А в шута полетели серебряные и медные монеты.
Пулло пригласил Синицына на обед.
Когда шут снял свой уродливый колпак и скинул вывернутый наизнанку полушубок, Пулло несколько опешил. Он ожидал увидеть кого угодно, но только не вылитого горца. Перед ним предстал бритый малый с усами и бородкой.
– Вы господин Синицын? – не поверил Пулло.
– Именно так, господин полковник, – ответил горец на чистом русском языке.
– Он, – подтвердил Жахпар-ага.
– Прошу к столу, – пригласил Пулло, а затем обернулся к капитану.
– И вы пожалуйте. Чем Бог послал.
– Давно не ел приличного супа, – потер руки Синицын.
– Мне эти хинкалы, да с сушеным мясом ихним…
– Кушайте, прошу вас, – приглашал Пулло, наливая Синицыну водки.
– И беленькой примите. Небось, в горах не угостят, а, капитан?
– Нет, – покачал головой Жахпар-ага.
– У нас это нельзя. Грех, харам.
Синицын опрокинул рюмку, закусил и принялся за суп.
– Так вы, выходит, горцем заделались? – спросил Пулло.
– По всей форме?
– Кем же мне еще? – пожал плечами Синицын.
– А молиться тоже умете?
– Умею, – кивнул Синицын, не отрываясь от супа.
– Только после водки нельзя.
– Так-так, – соображал Пулло.
– И все их поклоны знаете?
– Знает, – подтвердил Жахпар-ага.
– А как начет этого… – любопытствовал Пулло.
– Ну, вы понимаете.
– Не совсем, господин полковник, – поднял голову Синицын.
– Ну, в смысле обрезания.
– Обрезания? – переспросил Синицын.
– Ну да. Вас же любой мусульманин разоблачит, если что.
– Вот вы о чем… – догадался Синицын.
– Но ведь так бы я чистым мусульманином стал. А для меня это невозможно.
– Почему? – угрюмо спросил Жахпар-ага.
– Я вот мусульманин и не жалею.
– Если бы я собирался в Мекку, в паломничество, тогда другое дело, – рассуждал Синицын.
– А так…
– А так вы далеко не уйдете, – заявил Пулло.
– Помяните мое слово, любезный. Обличат в два счета – и секир-башка как лазутчику.
– Но… Но… – Синицын растерянно оглядывался на Жахпар-агу.
– Кто же станет ему штаны спускать? – возразил капитан.
– У нас это нельзя. А кто посмеет – тому самому секир-башка сделают.
– А то вы мюридов не знаете, – сказал Пулло.
– Если почуют неладное – все вызнают.
– Как же мне быть? – растерялся Синицын.
– Уж если входить в роль, так до конца! – посоветовал Пулло.
– Вы полагаете, господин полковник, это обязательно?
– Сами рассудите, – развел руками Пулло.
– Что вам дороже: кусочек плоти или сама жизнь?
– Жизнь, – согласился Синицын.
– Я даже не в том смысле, а в смысле успеха предприятия.
– Значит, решено? – обрадовался Пулло, а затем спросил у капитана: – Есть тут эскулапы?
– В Эндирее найдем, – заверил Жахпар-ага.
– Сколько будет стоит? – поинтересовался Пулло.
– Такое дело бесплатно сделают! – пообещал Жахпар-ага.
– У них праздник будет, если русский суннат сделает.
– Однако же, – колебался Синицын.
– Нет, господа, я не согласен. Каждый должен жить по своей вере.
– Это же только для вида, – настаивал Пулло.
– Выходит – кощунство? Я так не могу, извините.
– Значит, вы – сумасшедший, – заключил Пулло.
– Как вы смеете?! – вскочил Синицын.
– Я не позволю.
– Успокойтесь, сударь, – жестко сказал Пулло.
– Поймите, что вы подвергаете опасности не только себя, но и все дело.
– Сумасшедший – это хорошо, – сказал вдруг Жахпар-ага.
– Как то есть? – недоумевал Синицын.
– Ты же и так дурнем под канатом прыгаешь, им и оставайся.
– Оно и верно, – поддержал капитана Пулло.
– И в мечеть ходить не придется, и распознать вас не смогут.
– У нас сумасшедших пальцем не тронут, – убеждал Жахпар-ага.
– Харам.
– Именно, – согласился Пулло.
– А иначе – пропадете, и никакой маскарад вам не поможет.
– Тебе это будет нетрудно, – убеждал Жахпар-ага.
– Вы даже сможете открыто рассказывать, что хотите вызвать Шамиля на дуэль, – добавил Пулло.
– А вы откуда знаете? – погрустнел Синицын.
– Слышал, – ответил Пулло, покручивая ус.
– Значит, я – действительно умалишенный? – спросил Синицын и засмеялся странным смехом.
– Для пользы дела, – успокаивал его Пулло, подливая еще водки.
– В рассуждении конспирации.
Синицын вылил рюмку себе на голову и дико захохотал.
– Может, желаете чаю? – жестко осадил его Пулло и протянул салфетку Синицын перестал хохотать, вытер салфеткой лицо и спокойно ответил: – Желаю.
Глава 42
Наутро, навьючив на лошадей свой нехитрый скарб, канатоходец Айдемир и его помощник Аркадий двинулись в путь. Жахпар-ага с парой нукеров проводили их до подъема в горы.
– Идите туда, – показал Жахпар-ага нагайкой в сторону невысокого хребта.
– Сначала будет аул Инчха, потом – Хубар, а оттуда до Буртуная недалеко. Люди покажут.
– Инчха? – припомнил Айдемир.
– Когда-то я был там с отцом, да смилостивится над ним всевышний.
Впереди лежали лесистые, укрытые снегом горы.
Лазутчики медленно поднимались по извилистой дороге. Вокруг была сверкающая на солнце белая пустота. Только следы зверей паутиной покрывали снежную гладь между буковыми и дубовыми рощами. Но кое-где уже проглядывали проталины. Наступала весна, и солнце понемногу набирало силу.
Кони часто сбивались с дороги и останавливались. Понукаемые седоками, они опускали головы, будто принюхиваясь, а затем снова двигались вперед. К полудню путникам повстречалась арба, на которой горец вез на базар в Эндирее сыр и сушеную курагу. Поздоровавшись и переговорив с горцем, Айдемир двинулся по колее, оставленной арбой.
С трудом поднявшись на первый перевал, они увидели в сумерках огни небольших аулов. Подтаявшая колея вела к тому, что виднелся слева. Это и был аул Инчха. Спускаться оказалось труднее, чем подниматься. Совершенно выбившись из сил, они добрались до аула только к ночи.
У въезда в аул их окликнули. Затем появилось несколько человек в бурках и с ружьями наготове. Аркадий похолодел, решив, что их окружили свирепые мюриды и что миссия его закончится, так и не начавшись. Но больше всего он опасался, что мюриды найдут припрятанный среди реквизита футляр с дуэльными пистолетами. У него было оправдание на этот счет, и они даже репетировали номер в духе Тиля Уленшпигеля, когда Айдемир сбивал с головы Аркадия яблоко. Но теперь все было иначе, и мюриды в ночи сильно отличались от солдат во Внезапной, которые только и ждали, чтобы их кто-нибудь поводил за нос.
Айдемир объяснил, что они странствующие канатоходцы, и назвал имя человека, у которого он когда-то останавливался с отцом, тоже канатоходцем.
– А, Нур-Магомед? – закивал один из горцев, опуская винтовку.
– Живой еще. Пойдемте.
Эти люди оказались вовсе не мюридами, а просто жителями аула, несшими по очереди караул. Гостей по обычаю должны были проводить к их кунаку. По пути горцы уговаривали не покидать их аул, не дав представления, до которых все горцы большие охотники.
Нур-Магомед оказался еще бодрым стариком. Он отлично помнил и Айдемира, и его отца – своего кунака. Он с радостью пригласил их в свою саклю. Оружие полагалось оставлять у входа, и это очень беспокоило Аркадия. Хотя сам он был безоружен, но надеялся на кинжал Айдемира. Однако опасения оказались напрасными. Кровля кунака берегла гостей лучше всякого оружия.
Нур-Магомед угостил их хинкалом с сушеным мясом. Проголодавшийся Аркадий ел хинкал и обгрызал кости с таким аппетитом, будто ничего вкуснее никогда не пробовал.
– Я слышал, с твоим отцом случилось несчастье? – спросил старик.
– Стар уже был, а не хотел канат оставлять, – рассказывал Айдемир.
– Услышал, что один пехлеван прошел по канату между двумя минаретами, и решил пройти над пропастью, где Хунзахский водопад.
– И что же случилось? – сочувственно спрашивал старик.
– Он почти прошел, – говорил Айдемир, горестно опустив голову.
– А под тем местом, где он укрепил канат, оказалось орлиное гнездо. И орлица начала быть его крыльями.
– Вах, – хлопнул себя по коленям старик.
– Отец и не удержался.
– Смелый был человек, – вздохнул старик.
– Видно, так предопределил ему Аллах. А ты свое дело не бросаешь, значит?
– Как бросишь, когда оно меня кормит, – ответил Айдемир.
– А это кто, брат твой? – кивнул старик на Аркадия.
– Помощник, – объяснил Айдемир.
– У него голова плохо работает, зато шут хороший получился.
– Пакир, – сказал старик, что означало «несчастный».
– Теперь и такого не найдешь, люди в горы ходить боятся.
– Да, неспокойно теперь, – согласился старик.
– А у нас будешь по веревке ходить?
– Если джамаат разрешит.
– Почему же не разрешит? Люди до сих пор помнят, как вы с отцом их развлекали.
– А Шамиль разрешает? – спросил Айдемир, незаметно подмигивая аксакалу.
Услышав про Шамиля, Аркадий напряг слух, замерев с обглоданным ребром в зубах.
– Шамиль нам не хозяин, – ответил старик.
– Мы сами по себе. А если бы и спросили – разве Шамиль смелых людей не любит? Еще как любит! Вы к нему идите – он вас с радостью примет.
– Думаешь, примет? – сомневался Айдемир.
– Он всех принимает, кто с добром приходит, – сказал аксакал.
Канат натянули на площади между домами. Позвали музыкантов с зурной и барабаном. Те умело взялись за дело, и выступление канатоходца с его уморительным помощником превратилось в настоящий праздник, особенно для детей, которые никогда еще не видывали подобных чудес.
Аульчанам так понравились канатоходцы, что они не хотели их отпускать. А когда, наконец, согласились, то снабдили их съестными припасами и дали проводника до следующего аула.
Молодой горец повел их по крутой дороге, поднимавшейся к лесистому плато. Аркадию дорога показалась ужасной, но проводник клялся, что дорога очень хороша, просто ее не видно под снегом.
– Летом две арбы туда-сюда ходят, – говорил проводник.
– И то я вас по короткой дороге веду, а рядом дорога еще лучше.
Вскоре показался Хубар, и оттуда уже спешили всадники, которые давно заметили путников. Проводник растолковал хубарцам, какая им выпала удача, и те с гиканьем помчались обратно.
Когда канатоходцы прибыли в Хубар, их встречали всем аулом. Народ толпами стекался к годекану – главному общественному месту аула, а дети торопились занять крыши соседних домов.
Начались приветствия и знакомства. Айдемир отвел в сторону старшину аула и стал с ним о чем-то говорить, показывая на Аркадия. В таких случаях Аркадию полагалась радостно улыбаться и кланяться на манер юродивого. И он прилежно исполнил свою роль.
Пока натягивали канат, Аркадий оглядывал окрестности. Вид отсюда открывался далеко во все стороны. Впереди покрытое лесами плато пересекалось множеством глубоких оврагов, которые, как потом выяснилось, им еще предстояло пересечь. Во всяком случае возложенное на Аркадия обозрение местности и собрание сведений о дагестанских обществах он мог производить беспрепятственно.
Представление началось. Нашлись и музыканты, умевшие подчеркнуть особенно опасные трюки. Люди смотрели на канатоходца с замиранием сердца и радовались каждый раз, когда он оставался цел.
Аркадий тоже отменно вошел в роль.
А в перерывах между своими дурачествами даже успевал внимательно разглядеть горцев сквозь дыры в своем колпаке. Эти добродушные люди совсем не были похожи на свирепых мюридов, какими их представлял Аркадию полковник Попов. Мужчины искренне восхищались трюками бесстрашного Айдемира, а женщины и дети потешались над выходками шута. Простые люди бесхитростно наслаждались веселым зрелищем, и никто не спешил разоблачать Аркадия и делать ему «секир-башка».
Но вдруг Аркадий заметил, что стоявшая в стороне молодежь весьма недружелюбно на него поглядывает. Они о чем-то спорили, и было заметно, что Аркадий вызывал у них большое подозрение. Но Аркадий знал, что, пока канатоходцы находились под покровительством старшины аула, им ничего не угрожало. Тем не менее бдительные молодые хубарцы предпринимали попытки выяснить, такой ли этот шут слабоумный, за какого себя выдает. Как бы откликаясь на проделки ряженого, одни грозили ему кинжалами, другие – пистолетами, а третьи неожиданно кричали ему по-русски:
– Пошел к черту!
– Зачем обманываешь?
– Деньги хочешь?
– Я тебя знаю, солдат!
– Шамиль голову отрубит!
Но все было тщетно. Аркадий сохранял совершенное равнодушие и безмятежную веселость, хотя понимал, что жизнь его висела на волоске.
К вечеру зарезали барана и на славу угостили новых кунаков. Как обычно, пирушка сопровождалась разговорами и обменом новостями. А когда речь зашла о Шамиле, хубарцы гордо заявили, что давно выгнали всех мюридов, а имама с его шариатом и знать не желают.
– И правильно, – заявил Айдемир, косясь на Аркадия.
– От него одни беспокойства.
Хубарцы дали им сразу двух провожатых и просили приезжать еще.
Миновав Теренгульское ущелье, путники приближались к аулу Буртунай. Но тут дорогу им преградило несколько негодующих горцев, в которых Аркадий сразу узнал тех, кто косо поглядывал на него в Хубаре.
– Чего вам? – спросил провожатый.
– Эти люди не те, за кого себя выдают, – заявил предводитель сомневающихся.
– Они не канатоходцы? – удивился провожатый.
– Тогда попробуй пройтись по канату, как они.
– Этот, который строит из себя сумасшедшего, – указал на Аркадия предводитель.
– Он хочет нас обмануть, он прикидывается.
Аркадий понял, что дело принимает дурной оборот, но продолжал изображать юродивого и безмятежно улыбался.
– Ты, похоже, тоже сошел с ума, если оскорбляешь гостей нашего аула, – заявил проводник.
– Аул остался позади, – ответили ему.
– Прочь с дороги! – крикнул провожатый, трогая своего коня.
– Мы хотим поговорить с этим человеком, – настаивал предводитель.
– Говорите со мной, – сказал Айдемир, кладя руку на кинжал.
– Это мой человек, и я за него отвечу.
– Постыдитесь, – увещевал парней провожатый.
– Он же больной.
– А если это шпион? – вопрошал предводитель.
– Вынюхает тут все, а после солдат приведет.
– Мы видели, как он все кругом разглядывал, – добавил другой хубарец.
– Вы меня знаете? – спросил провожатый, едва сдерживая гнев.
– Знаем, Хайбула, как не знать, – ответил предводитель.
– Тогда вы должны знать, что я не позволю оскорблять своих кунаков.
– Мы его не пропустим, – стояли на своем молодые хубарцы.
– Отдайте нам его!
– Мы отведем его к Шамилю как лазутчика.
– Попробуйте, возьмите! – вспылил Хайбула, выхватывая кинжал.
Второй провожатый вынул саблю, и они двинулись на своих обидчиков. Но их опередил Айдемир, тоже обнаживший кинжал.
– Мы гостей не предаем, – пытались оттеснить его провожатые.
– А я не хочу, чтобы в ауле, который так хорошо нас принял, началась кровная месть, – упрямился Айдемир.
В этой напряженной суете про Аркадия все позабыли. А он блаженно щурился на солнце, будто ничего особенного кругом не происходило. Со стороны он и вправду казался умалишенным, хотя на самом деле Аркадий уже беззвучно молился, прощаясь с жизнью.
Но тут прозвучали выстрелы. Горцы завертелись на лошадях, не понимая, кто стрелял. А затем увидели всадников, двигавшихся к ним со стороны Буртуная.
Хубарцы убрали оружие, не желая выглядеть плохо перед соседями. Айдемир тоже вложил кинжал в ножны, наблюдая за приближавшимися всадниками.
– Салам алейкум! – крикнул буртунаец, подъехавший первым.
– Ва алейкум салам, – ответили хубарцы.
– Не к нам ли собрались?
– Гостей провожаем, – сказал Хайбула.
– К вам едут.
– Гости – подарок Аллаха, – кивал буртунаец, а затем крикнул своим.
– Это хубарцы! Спорили, оказывается, кому гостей провожать!
Остальные буртунайцы остановились невдалеке и посмеивались.
– Гостеприимный народ, – говорили они.
– Знаем мы их!
– Но раз вы уже здесь, то передаем гостей вам, – сказал Хайбула.
– Такие ловкие пехлеваны, каких я в жизни не видел!
– Пехлеваны?! – возрадовался буртунаец, протягивая гостям руку.
– Люблю пехлеванов!
Айдемир пожал протянутую руку, а Аркадий все еще будто отсутствовал.
– Что с ним? – спросил буртунаец Айдемира.
Айдемир покрутил рукой у виска, давая понять, что его помощник не совсем в своем уме, и сказал:
– Напарник мой, со смеху умрете.
Тем временем молодые хубарцы подъехали к стоявшим поодаль буртунайцам и стали жарко им что-то объяснять, кивая на канатоходцев. Аркадий видел это краем глаза и уже готов был к самому худшему. Жаль только было, что он так усердно затвердил в памяти дорогу, которая теперь вот так бессмысленно оборвется, а подвиг его окажется напрасным.
Выслушав встревоженных парней, один из буртунайцев подъехал к гостям, внимательно оглядел канатоходца и его спутника, а затем откинул башлык и улыбнулся:
– Добро пожаловать в Буртунай!
Это был Юнус, ближайший помощник Шамиля.
Простившись с хубарцами, буртунайцы двинулись к аулу, сопровождая своих гостей.
Буртунай оказался большим аулом, и гостей здесь принимали особенно тепло.
Представления давались несколько дней. Юнус опекал гостей, как своих лучших кунаков, и охотно рассказывал им все, что делалось вокруг Буртуная. Особенно он любил поговорить о Шамиле. Эти сведения Аркадий впитывал, как губка. Он не все понимал, но главное улавливал.
– Были и у нас его мюриды, – сообщал Юнус.
– Только давно к Шамилю убежали.
– А далеко до Ахульго? – любопытствовал Айдемир.
– Совсем близко, – уверял Юнус.
– Через горы только перейти.
– А дороги туда есть?
– Как же без дорог? – удивлялся Юнус.
– Очень хорошие дороги, особенно летом.
– А людей у Шамиля много? – спрашивал Айдемир.
– А тебе зачем? – деланно настораживался Юнус.
– Для пехлеванов чем больше людей, тем лучше, – объяснял Айдемир.
– А… – кивал Юнус.
– Тоже верно… Да откуда у него люди? Заперся, говорят, в Ахульго и от своих же отбивается, которые его выгнать хотят.
– Значит, не стоит туда идти? – разочарованно спрашивал Айдемир.
– Почему? – удивлялся Юнус.
– Там и других аулов много. Аргвани, например, большой аул, богатый. Неделю будете деньги собирать.
– Проводите?
– Еще как проводим, – обещал Юнус.
– В Аргвани тоже пехлеванов любят.
Наутро они покинули гостеприимный Буртунай и двинулись дальше. Теперь им предстояло преодолеть высокий хребет Салатау.
Аркадий растерянно смотрел на покрытые снегом громады, и ему не верилось, что через них можно перебраться. Ему казалось, что это по силам только орлам, которые безмятежно парили в солнечной синеве.
– Вон там, – показывал Юнус на самую высокую вершину хребта, – хорошая дорога идет, а за перевалом и Аргвани, и Ахульго.
– Где же эта дорога? – не понимал Айдемир, тревожно оглядываясь на Аркадия.
– Отсюда ее что-то не видно, – соглашался Юнус.
– Я и не знал, что столько снега насыпало. Но ничего, я послал людей, чтобы посмотрели, можно ли пройти.
И они продолжали двигаться вперед, пока не встретили возвращавшихся посланцев Юнуса.
– Плохие новости, – сообщили они.
– Обвалы. Четырех мюридов снегом засыпало.
– Мюридов? – переспросил Айдемир.
– Лазутчики, наверное, – сказал Юнус.
– А может, абреки, которые проезжих грабят.
– Значит, там не пройти?
– Если очень надо, то можно и рискнуть, – предложил Юнус.
– А ты с нами пойдешь? – спросил Айдемир.
– Я же не пехлеван, – усмехнулся Юнус.
– Это вам ничего не страшно. А я по земле хожу.
– Что же нам делать? – сомневался Айдемир, оглядываясь на Аркадия
– Если на тот свет не торопитесь, можете у нас пожить, пока снег растает, – предложил Юнус.
Аркадий щурился на солнце и безмятежно улыбался. Но про себя решил, что путь к Шамилю уже известен, а замерзнуть на перевале было бы просто глупо. Да и штурмовать Ахульго в одиночку он уже передумал.
Вечером, уже в Буртунае, Айдемир с Аркадием уединились в кунацкой, где при свете масляной лампы решали, как быть дальше. Немного поспорив, они сошлись на том, что не стоит дальше искушать судьбу, которая и без того была к ним чересчур благосклонна.
Утром, позавтракав лепешками с кислым молоком, они двинулись в обратный путь, уже не давая представлений. Хотя у них и были проводники, Аркадий убеждался, что верно запомнил дорогу. Теперь они могли бы вернуться и без провожатых, если бы не опасности, всегда подстерегавшие путников на беспокойном Кавказе.
К изумлению начальства, лазутчики явились в Темир-Хан-Шуру целыми и невредимыми. Траскин отказывался верить, что они побывали в недрах дагестанских гор, пока Синицын не представил подробнейшее описание пути к ставке Шамиля.
Милютин признал отчет весьма убедительным и поспешил известить об этом Граббе. Он писал своему начальнику, что хотя обозрение и не увенчалось полным успехом, однако вряд ли кто-нибудь сумел бы сделать больше при таком невыгодном расположении умов в Дагестане.
Граббе отозвался из Ставрополя благодарственным письмом, исполненным ликования, и предписал Траскину достойно наградить лазутчиков за геройское усердие. Однако шпионский гонорар давно уже был поделен и истрачен. Траскин косился на Попова, будто это он вывел Синицына из опасных пределов. И Попову ничего не оставалось, как упечь Синицына в полковой госпиталь и приставить к нему психиатра, хотя Аркадий уверял, что в лечении не нуждается.
Но доктор имел на сей счет и тайный приказ Траскина, и собственное мнение.
Диагноз, который он поставил Синицы-ну, гласил: «Mania grandiosa» – «Мания величия». Да и как еще можно было определить пациента, который утверждал, что ходил в горы, чтобы вызвать на дуэль самого Шамиля.
Глава 43
Военный министр граф Чернышев знал, что говорил, когда советовал Граббе просить всего и побольше. Деньги в государстве были.
Перестав воевать в Европе, император Николай I решил поправить дела внутри страны. Граф Канкрин, заведовавший Финансовым управлением, убедил его отменить государственную винную монополию и положиться на откупщиков. Те принялись подкупать нужных чиновников, но и казна в накладе не осталась. В нее потекли прибыли. В стране начали строиться железные дороги и порты, а следом росла торговля. К тому же Николай рискнул лично начать очередную финансовую реформу, чтобы заменить ассигнации, курс которых был неустойчив, кредитными билетами, обеспеченными драгоценными металлами. И Чернышев был уверен, что увлеченный реформами император не пожалеет денег, чтобы закончить, наконец, столь долгую и обременительную «малую» войну на Кавказе. Тем более что платить за все можно было терявшими ценность ассигнациями.
Когда Чернышев познакомился с планом Граббе, он ему понравился. Особенно тем, что он блистал пышным красноречием, вроде «Разбив наголову неприятеля, занять его неприступную твердыню», но не содержал точных цифр и дат. Предполагалось, что они определятся по ходу дела. Зато Граббе обещал ясные и весьма заманчивые результаты: во-первых, прочное утверждение владычества в Чечне и Дагестане, а во-вторых, скорое уничтожение партии Шамиля. Чернышев только добавил несколько важных деталей, снабдил план одобрительным отзывом и вместе с паническими письмами ханов повез его во дворец на высочайшее усмотрение.
Подавая папку императору, Чернышев сказал:
– План превосходный, ваше величество.
– Если бы все превосходные планы приносили такие же плоды… – усомнился Николай, пробегая глазами бумаги.
Не дочитав, он отдал папку флигель-адъютанту Адлербергу и спросил Чернышева:
– Вы полагаете, граф, это будет окончательный удар?
– С Божьей помощью, – ответил Чернышев.
– И при благоволении вашего императорского величества.
– А что Шамиль? Все так же упорствует?
– Генерал Граббе изъясняет, что Шамиль заперся в своем логове, в Ахульго, – отвечал Чернышев.
– Но как только он будет разбит и повержен, то и край весь не замедлит покориться.
– Помнится, Головин утверждал, что край и без того покорен, – произнес Николай.
– И дело лишь в упрямстве Шамиля.
– Отчасти он был прав, – сказал Чернышев.
– Однако неприязненные действия дагестанских обществ обнаружили, что покорность их была только мнимою. Они становились покорными только под угрозою наших штыков и отбрасывали всякую мысль о покорности, едва наши войска от них уходили. К тому же находится все больше таких, которые после ошибки Фезе считают себя равными с нами, мечтают о независимости, а о повиновении и не помышляют. Другие соглашаются быть только в союзе с нами, а не в повиновении и при удобном случае изменяют. А сверх того, есть общества, которые никогда не были даже мирными. Шамиль же расхрабрился и уверяет всех, что больших сил против них не может быть употреблено, а с теми, которые есть, они не только могут бороться, но мечтают даже не менее, как свергнуть наше владычество.
Николай пытался скрыть удивление и осмысливал услышанное. Он и не подозревал, что дела в Дагестане так плохи. Но пока спросил о другом.
– Головин также усматривал главную опасность на Черном море, от черкесов и турок, – продолжал Николай.
– Настроили мы крепостей, а толку?
– Крепости весьма пригождаются, – говорил Чернышев.
– Но тем временем главные возмутители усилились в Дагестане. Вот и ханы жалуются: властвуем-де, но не правим. Как я уже имел честь докладывать вашему величеству, Головин теперь и сам считает усмирение Дагестана делом первостепенным, для которого употребить должно все способы, ибо такое состояние Дагестана, где война становится всенародною, далее не может быть терпимо без очевидного вреда для нашего могущества.
– Это верно, граф, – согласился Николай.
– Но я не совсем уразумел из записки генерала Граббе, как именно он намерен осуществить сей грандиозный план?
Чернышев ждал этого вопроса, и у него готов был ответ:
– Произвести одновременный поход против всех горских народов, завладеть всеми важнейшими пунктами и, таким образом лишив горцев средств к пропитанию, заставить покориться. При таком повсеместном натиске Шамиль вынужден будет оставаться дома для собственной своей защиты, а потому окружить и разбить его не составит труда.
– Но хватит ли у нас средств? – вопрошал император.
– Смею полагать, ваше величество, что умиротворение Кавказа оправдает любые расходы, – заверил Чернышев.
– К тому же опыт показывает, что успех можно ожидать не от раздробленного действия малыми частями, передвигаемыми по первым слухам, часто преувеличенным, о сборищах горцев, но от совокупного действия значительной массы войск, по изготовлению всех нужных средств. В военном деле можно иногда допустить временные неудобства и даже некоторую потерю, чтобы тем сильнее и вернее поразить неприятеля в свое время.
Николай задумался. Он знал, что какие бы деньги ни отпустила казна, положительный результат операции не мог быть предопределен. Тем более что половину непременно разворуют. Он был на Кавказе и видел, как там делаются дела. Опасался Николай и того, что непомерные расходы могут подорвать успешность его финансовых начинаний. Но затягивание войны пугало его еще больше.
– Полагаю, вы знаете, что делаете, – заключил император, в упор посмотрев на Чернышева.
– А за средствами дело не станет.
После аудиенции удовлетворенный Чернышев поспешил к себе в министерство. В тот же день были составлены отношения военного министра генерала от кавалерии Чернышева командиру Отдельного Кавказского корпуса генерал-лейтенанту Головину и командующему войсками Кавказской линии и в Черномории генерал-лейтенанту Граббе. В них сообщалось, что план действий на Кавказе в 1839 году удостоился высочайшего утверждения государя императора.
Не желая без особой надобности подогревать соперничество в начальствующих на Кавказе лицах, Чернышев передал высочайшее благоволение на исполнение плана через Головина. Однако командира Отдельного Кавказского корпуса такой оборот дела не обрадовал. Формальности были соблюдены, но козырные карты были теперь у Граббе.
В посланной отдельно записке Чернышев извещал Граббе, что письмо генерала было выслушано его величеством с особенным удовольствием и что государь император изволит ожидать дальнейших успехов под его благоразумным предводительством.
Глава 44
Ставрополь утопал в весенней слякоти. Солнце уже пригревало, и на деревьях начали распускаться почки. По улицам ездили казаки, обдавая грязью редких прохожих и распугивая гусей, которые важно разгуливали со своими выводками.
Губернский город все еще являл собой захолустье, хотя кругом стучали топоры и возводились новые здания. Пока же единственным украшением города была небольшая церковь с хорошими певчими. Но ванн с минеральными водами или грязями, к которым привык Граббе, и даже приличной бани в городе не было.
Будни командующего войсками на Кавказской линии и в Черномории понемногу вошли в размеренный ритм. В штабе дел было немного, больше – пустых хлопот и незначительной переписки. Суетились только дежурные офицеры, интенданты, вагенмейстеры и прочие штабные чины, да и то больше для виду. На самом же деле все замерло в ожидании большой военной кампании.
Зато в доме у Граббе было шумно. Дети росли, и проказы их порой выводили генерала из себя. К тому же вокруг носилась дворня, а возвращенный на службу старый денщик Иван изводил генерала своими заботами.
Семейство Граббе жило в казенном доме, где до них помещался покойный генерал Вельяминов. По вечерам, уложив детей, Граббе с супругой садились пить чай. В эти спокойные вечера они подолгу разговаривали, будто восполняя долгие месяцы разлуки. В последние дни Граббе все больше говорил о своем великолепном плане, утверждения которого ждал со дня на день.
– И чего Шамиль бунтует? – удивлялась Екатерина Евстафьевна.
– Смирился бы с неизбежностью да вкушал себе от императорских щедрот.
– Глядишь, и генералом бы сделали, – соглашался Граббе.
– Да разве можно абрека – генералом? – возражала Екатерина Евстафьевна.
– У нас все можно, Катенька, – уверял Граббе.
– Я вот к государственным преступникам причислен был, и то в генералы вышел.
– То – ты, Павел Христофорович, из благородного семейства и орденов вон сколько заслужил, – не соглашалась Екатерина Евстафьевна.
– А Шамиль-то – кто?
– Простой горец.
– Из черни, выходит? И чтобы из грязи – в князи?
– Князей-то он разогнал, – сообщил Граббе.
– А те дворяне, что убежать не успели, у Шамиля теперь наравне с простыми людьми.
– Да как же это можно? – всплеснула руками Екатерина Евстафьевна.
– А очень просто, – пожал плечами Граббе.
– Сами себе хлеб добывают. А Шамилю титулы не надобны, ему свободу подавай!
– Так он вроде революционера? – испугалась Екатерина Евстафьевна.
– Можно и так рассудить, – ответил Граббе.
– Только у революционеров хоть идеалы какие-то, а у горцев что? Одна дикая вольность на уме. И чтобы все были равны. Слыханное ли дело?
– А Лиза-то как там? – вспомнила Екатерина Евстафьевна.
– Письма пишет – сплошные слезы и отчаяние. Жаль мне ее.
– Жаль… – поморщился Граббе.
– Но в горы-то зачем соваться? Как будто без нее муж эполеты не получит.
– Помог бы ты ей, – попросила Екатерина Евстафьевна.
– Лизе уже лет сколько, а деток нет. Тяжело это.
– Помог бы! – негодовал Граббе.
– Она же в горы просится, в Хунзах, через немирные аулы. А если украдут? Или, того хуже, убьют глупую?
– Ты уж проследи, Павел Христофорович. Дай женщине сердце успокоить. А то она уже сама не своя.
– Лучше бы сюда приехала, пусть себе у нас живет.
– Теперь уже без Михаила не вернется, – вздохнула Екатерина Евстафьевна.
– Я ее знаю.
– Женщинам на войне не место, – сказал Граббе.
– А у горцев жены, они что, тоже дерутся?
– Одного поля ягодки, – кивнул Граббе.
– Навроде амазонок?
– Не совсем, – объяснял Граббе.
– У горцев свои законы. Но за своих и дети с кинжалами бросаются.
– Господи, помилуй! – перекрестилась Екатерина Евстафьевна.
– Да уж, – кивнул Граббе.
– Не приведи господь.
– А нельзя ли этих горцев, Шамиля этого в покое оставить? – простодушно спросила Екатерина Евстафьевна.
– Что ты такое говоришь? – опешил Граббе.
– Так ведь получается, что мы в чужой монастырь со своим уставом?
– Вздор! – прервал жену Граббе.
– Ты, душа моя, ничего не смыслишь в политике.
– Каюсь, не смыслю, – грустно улыбнулась Екатерина Евстафьевна.
– Куда мне? Мое дело – детей рожать да растить их, а после на войны провожать, политикам на растерзанье.
– Не твоего ума дело, – сердился Граббе.
– Батюшка мой говорил, что войну и дурак затеять может, а политики на то и надобны, чтобы в мире жить.
– Уймись, Катенька, – зашипел на жену Граббе.
– Еще услышит кто-нибудь. Доказывай потом, что это бабья глупость, а не крамола.
– Ты ведь не молод уже, – роняла слезы Екатерина Евстафьевна.
– И мои годочки летят. А дети наши? Почитай, отца родного не видят…
– Потерпи, душа моя. Скоро уже с Шамилем покончу, – обещал Граббе, положив руку на плечо супруги.
– Мне сам государь повелел горцев усмирить. А что велено, то свято.
Было далеко за полночь, когда у дома Граббе остановилась запыленная пролетка фельдъегеря. Караульный вызвал денщика, и Иван, чертыхаясь, пошел будить барина. Впрочем, Граббе даже был благодарен денщику, что тот вырвал его из тягостных ночных видений. Генералу опять снилась чудовищная гора, которая на этот раз тянула к нему свои огромные каменные лапы.
Получив пакет, Граббе сел к столу и велел денщику принести свечи. То, что содержалось в пакете, заставило Граббе забыть тягостный сон. Это было высочайшее благоволение на исполнение дерзкого замысла Граббе.
– Что, Павел Христофорович? – спросила встревоженная супруга, входя в кабинет.
– Все! – потряс бумагами возбужденный Граббе.
– Государь нашел мой план блестящим!
– Помогай тебе Бог! – крестилась Екатерина Евстафьевна.
– Он благословил мой проект! – ликовал Граббе.
– Государь император избрал орудием возмездия генерала Павла Граббе, а не какого-то там Головина!
– А Головин как же? – не понимала Екатерина Евстафьевна.
– Ему тоже найдется занятие, – говорил Граббе, снова перечитывая письма.
– Будет прикрывать меня с юга.
Граббе лихорадочно метался по кабинету, снова и снова заглядывал в письма, затем бросился к столу и схватил перо, собираясь что-то писать.
– Поздно уже, – напомнила супруга.
– Самое время, душа моя! – отвечал Граббе.
– Ты не представляешь, сколько теперь нужно отдать распоряжений.
– Не лучше ли с утра, на свежую голову? – убеждала Екатерина Евстафьевна.
– А разве еще не утро?
Граббе посмотрел в окно, но увидел только звезды в черном небе и горящую смоляную бочку, освещавшую улицу.
– Ночью лучше думается, – объявил Граббе.
– Пойди поспи, Катенька.
– Так и не будешь ложиться? – беспокоилась супруга.
– Под лежачий камень, как говорится… – Граббе не закончил пословицу. Вместо этого он взял перо и написал, повторяя вслух: – Ганнибал у ворот!
– Который Ганнибал? – не поняла супруга.
– Ты это про генерал-аншефа? Который при Петре состоял? Который Пушкину прадедом приходился?
– Я про другого, – терпеливо объяснял Граббе, выпроваживая супругу.
– Который через Альпы перешел и Рим сокрушал.
– Ах, вот что, – сказала Екатерина Евстафьевна.
– А все же лучше бы тебе выспаться перед Римом-то.
Закрыв, наконец, за супругой дверь, Граббе велел подать чаю и принялся снова перечитывать письма, находя в них все больше комплиментов своему полководческому гению.
Наступал его звездный час. Граббе почти осязал, как история открывала перед ним свои заветные двери. В этих мечтаниях Граббе пребывал до рассвета. И только перед пробитием утренней зори задремал на походной солдатской койке. Он держал ее на виду, дабы все знали, что он и в этом следует примеру государя императора.
Дремал Граббе с раскрытой книгой в руках. Это был Тит Ливий, повествовавший о полководце Ганнибале.
«Он одинаково терпеливо переносил жару и холод, – писал Ливий.
– Меру еды и питья он определял природной потребностью, а не удовольствием; выбирал время для бодрствования и сна, не отличая дня от ночи; многие часто видели, как он, завернувшись в военный плащ, спал на земле среди воинов, стоявших на постах и в караулах. Он далеко опережал всадников и пехотинцев, первым вступал в бой, последним покидал сражение…».
Ганнибал был тайным кумиром Граббе. Карфагенец не сумел покорить Рим, но покорил сердце еще юного Павла. Говоря о величайших полководцах, Ганнибал называл себя третьим, после Македонского и Пирра. Граббе следовал своему идеалу и тоже считал себя третьим, после Кутузова и Ермолова. Но, как и Ганнибал, веривший, что станет первым, если победит Рим, Граббе мечтал вознестись, сокрушив Шамиля.
Глава 45
Утром в Ставрополь прибыли Траскин и Милютин. Милютин отправился в штаб, а Траскин – домой к Граббе. Генерал не выспался, но ритуал семейного завтрака нарушать не стал. Все семейство располагалось за большим столом и после короткой молитвы собиралось уже приняться за еду, когда доложили, что прибыл Траскин.
Услышав это имя, Екатерина Евстафьевна умоляюще посмотрела на мужа, давая понять, что не желает видеть эту одиозную личность. Но Граббе только пожал плечами и велел пригласить начальника штаба.
К удивлению хозяйки дома, Траскин оказался весьма любезным и внимательным господином. Он даже привез детям подарки. Мальчикам – серебряные кинжальчики, а девочкам – изящные кавказские украшения. Не забыл он и о Екатерине Евстафьевне, одарив ее красивой персидской шалью. Госпожа Граббе находилась в некотором замешательстве. Она начинала сомневаться, тот ли это Траскин, про которого ходили ужасные сплетни, и уже склонялась к тому, что сплетни не всегда верны, а Траскин, может быть, вовсе и не виноват, а сделался жертвой дворцовых интриг. Ведь и о ее муже, Павле Христофоровиче, чего только ни говорили и как только ни клеветали на благородного человека.
Приглашенный к столу, Траскин быстро перекусил, а затем принялся осыпать комплиментами Екатерину Евстафьевну, изумляться красотой ее девочек и отменным воспитанием мальчиков. Но дети, пораженные размерами этого удивительного человека, даже забыли поблагодарить его за подарки, пока мать не сделала им замечания.
Граббе начал понимать, откуда такая любезность. Похоже было, что Траскин уже знал о высочайшем одобрении плана Граббе, в котором Траскину предстояло сыграть важную роль. Так оно и оказалось. Даже самые чрезмерные запросы, введенные Граббе в свою докладную записку, были удовлетворены. Еще не начавшаяся экспедиция сулила Траскину и его покровителю Чернышеву умопомрачительные барыши. Было от чего сделаться любезным и щедрым. Однако начальник штаба уже не собирался ограничиваться прежними запросами, наготове у него были новые требования, без удовлетворения коих, как он уверял, экспедиция грозила провалиться. И Граббе ничего не оставалось, как опять согласиться с Траскиным.
После завтрака они поехали в штаб, едва уместившись в экипаже Граббе.
После отдачи обычных распоряжений Граббе велел Васильчикову вызвать Милютина, чтобы взглянуть на карту будущего театра военных действий.
– Вот она, ваше превосходительство, – говорил Милютин, раскладывая на столе карту.
– Лазутчик описал все в подробностях, – заверял Траскин.
Граббе разглядывал карту, на которой было изображено несколько рек, хребтов и обозначены горские общества, через которые предстояло двигаться отряду. Здесь же были отмечены крепости и поселения. Но явным было и то, что карте не хватало точности.
– Вот, изволите видеть, владения шамхала Тарковского, – показывал Милютин.
– А это что? – вглядывался Граббе.
– Крепость Внезапная?
– Точно так, ваше превосходительство, – продолжал показывать Милютин.
– Вот крепость, а вон там, за рекой, Эндирей.
– Выходит, крепость стоит на землях Салатавии? – входил в общую картину Граббе.
– Да, ваше превосходительство. Общество это граничит вот здесь, на западе, с ауховцами и ичкерийцами, а на юге, по горному хребту, с обществом Гумбетовским.
– Это где и есть Ахульго?
– Не совсем так, ваше превосходительство. В Гумбетовском обществе сильные аулы Аргвани и Чирката, через кои и лежит путь на Ахульго. Туда наш лазутчик проникнуть не сумел по причине снежных обвалов и непроходимости дорог.
– А может, по трусости? – нахмурился Граббе.
– Дороги уже открываются, – заверил Милютин и продолжал: – Но, судя по расспросам, эта самая Чирката, бывшая до недавнего времени ставкой Шамиля, находится у реки Андийское Койсу. А сразу за рекой начинается общество Койсубулинское. Гимры, родина Шамиля и его главного предшественника, имама Кази-муллы, гнездо главных бунтарей, тоже среди койсубулинцев.
– Вы мне про Ахульго расскажите, – торопил поручика Граббе.
– Говорят, неподалеку от Чиркаты, – показал Милютин.
– Говорят… – повторил Граббе, вперившись глазами в отметку на карте.
– Говорят, в Москве кур доят… А верст сколько?
– По словесным показаниям… Близко, ваше превосходительство. Когда там был Фезе, то они с Ахульго наблюдали Чиркату невооруженным глазом.
– Луну мы тоже наблюдаем невооруженным глазом, – возразил Граббе.
– По вашим картам воевать нельзяс, милейший.
– Да, но теперь хотя бы известно направление…
– У Попова карта и то была лучше, – сердился Граббе.
– Хотя вы и признали ее никуда не годной.
– Та карта после похода была сделана, – оправдывался Милютин.
– И шли они, ваше превосходительство, совсем с другой стороны. А тут – лазутчик, и горцы кругом.
– Terra incognita, а не карта! – заключил Граббе.
– Одни белые пятна! Зря только деньги заплатили.
– Почему же – зря? – вступил в спор Траскин.
– Он много важных сведений принес. И если бы не снега на перевалах…
– Так где же эти ваши перевалы? – разводил руками Граббе.
– Покажите.
– Предполагается, что здесь, – показывал на карте Милютин.
– А там – сразу Аргвани.
– Предполагается… – нервничал Граббе.
– Я на Балканах воевал, господа, и знаю, что гора – горе, хребет – хребту и перевал – перевалу рознь! И большая рознь! А зачастую и смертельная рознь! А на карте что? Там кругом горы, а на карте ни одной толком не видно.
– Мы еще над картой потрудимся, – пообещал Милютин и добавил: – А к горам я приглядывался. Получается, если их разровнять, Дагестан в размерах едва ли не утроится.
– А может, и того больше выйдет, – согласился Траскин.
– Экспедиция – не арифметика, это дело серьезное, – гневно обернулся к Траскину Граббе.
– И вы, господин полковник, лучше других должны понимать, что каждый день пути требует немалого провианта и прочих издержек.
– Совершенно справедливо, – кивал растерянный Траскин.
– А если мы вместо того, чтобы нежданным натиском опрокинуть противника, будем к нему дороги мостить, то до следующей зимы не управимся.
– Разбегутся эти смутьяны, как только мы явимся во всей силе, – пообещал Траскин.
– А не будет дорог – сами же и сделают, лишь бы их пощадили.
– Или вот Аргвани, – обернулся Граббе к Милютину.
– Вы говорите, сильный аул. А насколько сильный? Насколько большой? Деревянный или каменный? И сколько прикажете наставить на него пушек, если не покорится?
– Чем больше, тем лучше, – посоветовал Траскин.
Милютин с Васильчиковым переглянулись, сдерживая улыбки и согласно полагая, что если бы самого Траскина было поменьше, то хуже бы от этого не стало.
– Это, милостивый государь, я и сам знаю, – ответил полковнику Граббе.
– Однако пушки через горы тащить придется! А сколько подвод понадобится? Сколько лошадей? А заряды? А прислуга? Я уже не говорю про дороги.
– Дороги удобные, – уверял Милютин.
– Лазутчик сообщил, что за этим дело не станет. Вот только снег сойдет.
– Дороги тоже бывают разные, – продолжал Граббе.
– Прямых-то нет, они здесь по горам вьются. А если вытянуть их в линию?
– Немалые концы получатся, – призадумался Траскин.
– Сдается мне, что, кроме снега, ваш лазутчик мало что и увидел, – морщился Граббе.
– Это у нас язык до Киева доведет, а горцы не очень-то и разговорчивы.
– Смею доложить, ваше превосходительство, что лазутчик успел увидеть главное, – сказал Милютин.
– Что жес? – с сомнением спросил Граббе.
– Какие общества сами выгнали мюридов и будут нам рады, а из каких Шамиль еще черпает силы.
– Этих придавить, – вставил Траскин.
– Тогда и Шамилю конец!
– Благодарю за совет, – ответил Граббе.
– Только я это давно уже предполагал, потому и послал туда лазутчиков.
– Затем сложил на груди руки и объявил: – С дорогами или без оных, но никто меня не остановит!
– Если понадобится, ваше превосходительство, горы сроем! – пообещал Траскин.
– За дело, господа!
Штаб ожил, как медведь после зимней спячки. Все вокруг пришло в движенье, заскрипели перья, засуетились адъютанты, забегали вестовые и ординарцы. Во все концы полетели конные нарочные из казаков и милиционеров с экстренными «летучками», как называли пакеты с сургучными печатями, к которым прилеплялись гусиные перья с пухом, напоминавшие крылья.
Приказы и распоряжения, которые безостановочно сыпались из штаба, обязывали командиров полков, линейных батальонов и крепостных гарнизонов готовить свои войска экспедиции с тем, чтобы они могли собраться в предназначенных им пунктах к первому мая. Местом сбора главных сил была назначена крепость Внезапная.
Граббе не забывал уведомить, что государь император соизволил отдать в его распоряжение все военные средства не только Кавказской линии, но и Северного Дагестана, который был временно подчинен Граббе во всем, что касалось военных действий. Войсками в Северном Дагестане командовал генерал-майор Пантелеев, который теперь тоже сделался подчиненным Граббе.
Тем временем Траскин приводил в надлежащий боевой вид провиантское комиссионерство, снабжавшее войска продовольственными и другими припасами, медицинских чиновников, от которых зависело устройство госпитальной части, и Георгиевский арсенал, поставлявший вооружение. Сверх того, он утвердил список подрядчиков и откупщиков, доставлявших войскам прочие необходимые товары.
Головин чувствовал себя обойденным и пытался сохранить хотя бы видимость верховенства на Кавказе. На требования Граббе прислать с юга несколько дополнительных батальонов он отвечал отказом, полагая, что это повредит общему балансу сил. Но Граббе требовал не только войска. Ему нужно было все, чем располагал Головин, и даже сверх того.
«Средства, которые вы изволите запрашивать, – писал Головин, – не только выходят из пределов умеренности, но и превышают всякую меру основательности в соображениях».
В ответ Граббе слал язвительные письма, давая понять, что Головин не вполне осознает реальное положение дел и идет наперекор воле императора:
«Представляя все сие на благорассмотрение Вашего превосходительства, честь имею присовокупить, что относительно военных действий со стороны Линии я остаюсь при том мнении, которое я имел счастье изложить в докладной записке, поданной государю императору и одобренной Его императорским величеством. Главным условием успеха экспедиции считаю я доверие главного начальства к начальнику отряда, коему вверено исполнение предназначенных целей, а потому, если Вы не одобрите вполне всех моих мыслей и не разрешите мне действовать сообразно с обстоятельствами, то я имею честь покорнейше просить почтить меня подробным и положительным предписанием, которое могло бы служить мне полным руководством для будущих действий, возлагая на меня ответственность только за точное и усердное исполнение предписания».
В другом рапорте Граббе добавлял:
«…Изменение же моих распоряжений при столь кратковременном сроке, кроме значительных издержек для казны, может иметь следствием то, что должно будет отложить начало военных действий за незаготовлением к назначенному времени всех потребных запасов».
Пораженный столь откровенной наглостью своего хоть и формально, но все же подчиненного, Головин счел за лучшее «умыть руки». Он скрепя сердце предоставил Граббе все нужные ему военные средства Кавказского Корпуса и разрешил действовать по его собственному усмотрению.
Головин утешал себя мыслью, что ответственность за эту авантюру падет на того же Граббе. Но утешение это было слабое. Головин понимал, что в случае неудачи Граббе свалит всю вину на корпусное начальство, которое не могло удовлетворить всех его претензий, даже если бы и хотело.
В Шуре «летучка» от Граббе произвела большое волнение. Попов спешил проинспектировать свои войска. Офицеры обрели надежду на скорый поход и занялись приготовлениями. Дамы стали более ласковыми и покладистыми в преддверии долгого расставания с мужьями и поклонниками.
Маркитанты бросились пополнять запасы. А Лиза, встревоженная надвигающимися событиями, уговаривала Аванеса взять ее с собой. Тот крестился, махал руками и отказывался, но Лиза изо всех сил старалась сломить его упрямство.
В мечетях тоже стало больше народу. Люди, которых кормила война, собирались после молитвы своими корпорациями и обсуждали последние новости. Аробщики, торговцы, вольнонаемные – предстоящий поход интересовал всех. Молился в мечети и Жахпар-ага. А когда уходил, щедро одарил нищего, стоявшего с глиняной чашкой в руках. Серебряный рубль звякнул о дно, нищий поклонился капитану и произнес благодарственную молитву. Затем достал из чашки, где до этого была одна медь, сверкающий рубль, спрятал его подальше и куда-то заторопился.
Ханы и шамхал тоже получили приказы от Граббе. Им предписывалось готовить свои милиции, а также тысячи лошадей, волов и подвод для перевозки тяжестей. Все это надлежало собрать ко времени появления подножного корма и ожидать особых распоряжений.
Горская знать, у которой были свои счеты с Шамилем, решила на этот раз не торговаться. Она была уверена, что получит свое сполна, когда разделается с имамом и его мюридами. Одно только возвращение под свою власть аулов, вышедших из их подчинения и принявших сторону Шамиля, уже было бы весомой наградой. Посовещавшись, владетели условились, что выставят больше трех тысяч одной только горской милиции, которая стоила куда больше, чем такое же число любых войск Граббе.
Увлеченный приготовлениями и сопутствовавшими им изощренными интригами, Граббе являлся домой поздно, но и здесь не находил покоя.
Предстоящая экспедиция лишила его семейного счастья. Чтобы отвлечься, он приказывал никого не принимать и перечитывал Тита Ливия. Но Ганнибал звал его не откладывать подвиги в долгий ящик, и Граббе снова брался за распоряжения, чтобы ничего не упустить и все предусмотреть.
Встревоженная Екатерина Евстафьевна, уложив детей, приходила в кабинет мужа.
– Значит, опять война? – спрашивала она всем своим скорбным видом.
– Удар милосердия! – успокаивал ее Граббе.
– Впрочем, я надеюсь обойтись и без него.
– Договориться с Шамилем? – с надеждой спрашивала Екатерина Евстафьевна.
– Полагаю, мои трехгранные доказательства и чугунные аргументы убедят этих заносчивых горцев, что всякое сопротивление бессмысленно.
– А если они предпочтут свободу? – спрашивала Екатерина Евстафьевна.
– Тогда пусть пеняют на себя, – грозил Граббе.
– Я сам – жертва мечтаний о какой-то там свободе. А теперь знаю, что свободу надо уничтожать, выжигать каленым железом, чтобы соблазна не было.
– А поговаривают, что даже солдатики наши к Шамилю бегут, – сказала Екатерина Евстафьевна.
– О том и речь! – воскликнул Граббе.
– Горцы – что, пусть бы тешились своей вольностью. Но зараза эта… Она уже и к нашим пристала. Она Россию способна погубить. Рано нам о свободе мечтать, Катенька, не по карману она нашему мужику.
– Выходит, война, – тяжело вздохнула Екатерина Евстафьевна.
Глава 46
Резиденция Шамиля на Ахульго теперь больше напоминала штаб. На столе была разложена карта, вокруг которой собрались Шамиль, его помощники и несколько наибов.
Карта была простая, куда проще, чем у Граббе, но горцы знали свою землю не понаслышке, и им была понятна каждая линия, обозначавшая реку или дорогу, и каждый кружок, обозначавший аул. А горы и перевалы они представляли себе лучше, чем их мог бы изобразить самый мастеровитый топограф.
– Значит, они пойдут от Эндирея? – размышлял Шамиль, показывая путь сложенной плетью.
– Их шпион шел оттуда, – подтвердил Юнус.
– Он прикидывался сумасшедшим, подручным пехлевана.
– А на самом деле? – спросил Сурхай.
– А сам все оглядывал и ко всему прислушивался.
– Он ничего не заподозрил? – спросил Ахбердилав, разглядывая карту.
– Мы постарались его убедить, что дорога будет легкой и быстрой, – ответил Юнус.
– Тогда я ударю с тыла, – пообещал Ташав-хаджи.
– Если они соберут большой отряд, у тебя не хватит сил, – сомневался Сурхай.
– Хватит, – убеждал Ташав.
– Я не дам им покоя ни днем, ни ночью.
– Если понадобится, мы пошлем тебе в помощь пару сотен мюридов, – пообещал Шамиль.
– А пока я построю хорошее укрепление, – сказал Ташав, показывая на карте свою будущую ставку, – и буду действовать оттуда.
– Место надежное? – спросил Шамиль.
– В глухом лесу, – кивнул Ташав.
– Лучше не придумаешь.
– А если они пойдут с двух сторон? – спросил Али-бек Хунзахский.
– Я уверен, что они постараются нас окружить.
– Думаю, главный удар будет отсюда, – Шамиль снова показал на Эндирей.
– Сведения точные? – спросил Ташав.
– Пока трудно сказать с уверенностью, но, судя по воззваниям, которыми генерал пытается запугать горцев… – Шамиль обернулся к секретарю.
– Прочти-ка, Амирхан, что он там пишет?
Амирхан достал воззвание Граббе и пробежал его глазами.
– Пишет, что не пощадит никого и ничего, если аулы поднимут на него оружие.
– Выходит, он собирается идти через немирные аулы? – догадался Юнус.
– «…Даю вам выбор: или покорность без условий, или вечное разорение, – прочитал Амирхан.
– Войска под моим начальством горят нетерпением наказать бунтарей за неблагоразумие. Я иду вперед – берегитесь! Генерал-лейтенант Граббе».
– Пусть сам побережется, – сказал Ташав.
– Я схвачу его за хвост и не пущу на Ахульго.
– Не надо забывать, что в Хунзахе и Цатанихе тоже стоят их войска, – сказал Шамиль.
– А ханы мечтают вернуть то, что мы у них отобрали.
Послышался стук в дверь. Юнус открыл ее и пропустил в резиденцию Султанбека.
– Из Шуры принесли деньги, – сказал Султанбек.
– Деньги? – обрадовался Амирхан, доставая с полки книгу в которую записывал доходы казны.
Султанбек положил на стол серебряный рубль.
– Так мало? – не верил глазам Амир-хан.
– Из Шуры?
– Это больше, чем деньги, – сказал Шамиль, разглядев монету и передав ее Юнусу.
Юнус постучал ее ребром о стол и осторожно раскрыл монету. Рубль распался на две части, и внутри его обнаружилась небольшая записка.
Шамиль молча прочел записку и передал ее Юнусу.
– Теперь мы знаем точно, – сообщил Шамиль своим сподвижникам.
– Главные силы пойдут из крепости, от Эндирея.
– Когда? – спросил Ташав.
– У нас меньше месяца, – сказал Шамиль.
– Еще наш человек сообщает, что туда двигаются большие обозы. Везут оружие и продовольствие.
– Откуда? – спросил Ахбердилав.
– Нельзя ли на них напасть?
– Пока из порта, где Тарки. Кораблями из Астрахани привозят, – сказал Шамиль.
– Туда нам не проникнуть. А потом повезут из других крепостей.
– По крайней мере, теперь все ясно, – сказал Ташав, а затем предложил: – Может, нападем на Внезапную?
– Было бы неплохо, – согласился Ахбердилав.
– Мы можем пойти на эту крепость, но можем оттуда не вернуться, – сказал Шамиль.
– Сейчас нужно думать о том, как сохранить то, что у нас есть.
– Что ты предлагаешь, имам? – спросил Али-бек.
– Надо превратить их дорогу в пустыню, откуда бы они ни пошли.
– В пустыню? – переспросил Ахбердилав.
– Будем портить дороги, разрушать подъемы и спуски, заваливать ущелья, жечь мосты.
– Шамиль водил рукояткой плети вокруг Ахульго.
– А когда они потеряют силы, борясь с горами – нашими каменными мюридами и лучшими союзниками, – ударим по Граббе со всех сторон.
– А люди? – спросил Али-бек.
– Нельзя же оставлять их на пути генерала.
– Конечно, нельзя, – согласился Шамиль.
– Жителей приграничных аулов мы переселим в горы, а сами аулы, в которых можно обороняться, превратим в крепости.
– Ясно, имам, – кивнул Ахбердилав.
– Ты отправляйся в Аргвани, – сказал ему Шамиль.
– Дальше их пускать нельзя.
– Лучше бы их остановить у Буртуная, – сказал Ташав.
– Буртунай будет первым рубежом, – согласился Шамиль.
– Его надо укрепить немедленно.
Затем было решено, кто и в каком направлении будет действовать, сколько ему понадобится сил и где их взять. Было определено направление и для самого Шамиля, который не собирался отсиживаться в Ахульго.
Пока наибы обсуждали, как они будут помогать друг другу, имам велел Амир-хану писать письмо. Подумав немного, он начал диктовать:
– Во имя Аллаха, милостивого, милосердного. От имама Шамиля его благородному брату Ага-беку Рутульскому – мир тебе и милость всевышнего Аллаха! А затем…
Когда Шамиль и его сподвижники вышли из резиденции, над Ахульго разносился призыв муэдзина к полуденной молитве.
Юнус выпустил голубя с письмом для Ага-бека. Все проводили глазами птицу, для которой не существовало ни границ, ни трудных дорог, а была лишь прозрачная, пронизанная солнечными лучами свобода. Затем они отправились в мечеть, причем впереди Шамиля шел Султанбек с обнаженной шашкой, а позади него – Юнус. Следом двигались остальные, и чем ближе они подходили к мечети, тем многолюднее становилась эта процессия.
А наутро жены и дети провожали воинов в поход. Они долго смотрели вслед удаляющимся всадникам, пока те не исчезали за горами или не сливались с дорогами, по которым они уходили. Дети спрашивали, когда вернутся их отцы и братья, но матери не знали, что им ответить, и только молились о ниспослании мюридам побед и благополучном возвращении.
Шамиль двинулся в аулы, находившиеся в опасной близости от Шуры с ее большими войсками. Он убеждал людей оставить дома и уйти в горы, говорил, что смирение их не спасет. Но не все готовы были покинуть насиженные места. Большинство, свыкшись со своим неясным положением, сохраняло показной нейтралитет, хотя и помогало тайно мюридам.
Один из аулов отказался принимать Шамиля, не желая больше подвергаться опасности. Тогда Шамиль, в залог их неучастия в войне на стороне противника, взял от аула аманатов и отправил их на Ахульго.
Когда Шамиль занял родной аул Гимры, об этом быстро стало известно в Шуре, которая была недалеко. К Гимрам двинулась горская милиция, а следом и генерал-майор Пантелеев с батальоном пехоты и двумя горными орудиями. Не желая подвергать аул новому разорению, Шамиль оставил Гимры, пополнив свой отряд земляками-новобранцами.
Убедившись, что Шамиль удалился, Пантелеев вернулся в Шуру и сообщил Граббе о разгроме шамилевских скопищ и освобождении Гимров от мюридов.
Придерживаясь той же тактики, еще несколько отрядов во главе с Сурхаем, Али-беком и другими наибами курсировали в приграничных районах. Неожиданно появляясь в разных местах, они отвлекали силы Граббе, вступали в стычки с ханской милицией и не давали войскам противника окончательно сосредоточиться.
Множество горцев откликались на воззвания Шамиля, которые он разослал по Дагестану. Его мюриды появлялись в самых отдаленных аулах, призывая людей подняться на борьбу и отстоять свою независимость. Они обращались к людям на площадях и в мечетях:
Рабы Аллаха, люди Аллаха! Помогите нам ради Бога, Помогите себе ради Бога, Обнажите меч, народы, Поспешите на помощь, братья! Попрощайтесь с детьми и женами, Попрощайтесь со сном и покоем! Мы зовем вас именем Бога! Ради нашей свободной отчизны!
«Слышим, слышим! – отзывались со всех сторон горцы.
– Не для того мы переломили ханскую плеть, чтобы лежать под царским сапогом!».
Множество аулов обезлюдело. Люди уходили, разрушая за собой дороги и мосты. Когда царские войска, брошенные на отражение неприятеля, добирались до места, то зачастую находили лишь пустые дома, если не пепелища. Им оставалось лишь брать заложников в подвластных ханам аулах, чтобы удержать хотя бы их от открытого перехода на сторону Шамиля. Но даже это не всегда помогало. Аулы жертвовали своими людьми и уходили к имаму. А заложники в лучшем случае отправлялись в Сибирь или насильно отдавались в солдаты.
Тем временем Ташав укреплялся в лесах Чечни, Ага-бек готовил новое восстание в верховьях Самура, а Ахбердилав разрушал дороги и мосты и готовил к сражениям аулы, стоявшие на выгодных позициях между Внезапной и Ахульго.
Шамиль был готов к войне, но желал мира. Он послал Граббе несколько писем, призывая его вспомнить о мирном договоре. Но письма эти остались без ответа. Тогда Шамиль направил к Граббе посредника – Джамала Чиркеевского в надежде предотвратить напрасное кровопролитие и начать новые переговоры. Но, то ли переводчик генерала Биякай, недруг Джамала, плохо знал свое дело, то ли Граббе отказывался понимать, когда Джамал говорил простые слова о мире по-русски, результат был тот же.
Граббе требовал от Шамиля невозможного. «Явиться с повинной», «сложить оружие» и прочие унизительные пункты больше походили на ультиматум, чем на условия мирного договора.
Шамиль не оставлял попыток уладить дело миром. Но все было тщетно. Граббе явился воевать и жаждал громких побед, а мирные переговоры он считал уделом слабых неудачников, вроде Фезе.
Убедившись, что битва неизбежна, Шамиль отправил Сурхая с двумя сотнями мюридов на помощь Ташаву, который к тому времени успел построить укрепление в урочище Ахмет-тала на реке Аксай, откуда делал вылазки на Сунженскую линию и нападал на обозы, двигавшиеся во Внезапную.
Глава 47
Один за другими из Темир-Хан-Шуры уходили батальоны Апшеронского полка. Следом потянулась артиллерия. По нескольку пар лошадей и быков тащили по раскисшим от весеннего тепла дорогам тяжелые орудия и зарядные ящики с ядрами и гранатами.
Офицеры были в приподнятом настроении, предвкушая горячие дела, в которых надеялись отличиться. Солдаты пели песни и веселились, как будто шли на ярмарку, а не на войну.
Лиза металась по Шуре, уговаривала знакомых офицеров взять ее с собой, рыдала в штабе, что хочет увидеть своего мужа, пока его не убили, но ее никто не слушал. Только солдаты отпускали в адрес несчастной женщины двусмысленные шутки, приглашая отправиться с ними в роли походной полковой дамы.
У Лизы не было ни сил, ни желания отвечать на нахальные предложения. Она была в отчаянии. Ей казалось, что Шура вот-вот опустеет и она останется здесь одна, всеми забытая и никому не нужная. Чтобы не отчаяться вовсе, она заходила к знакомым дамам. Они тоже были печальны, но могли утешаться хотя бы своими детьми. Но о детях никто не говорил, никто не говорил о любви, о счастье. Дамы были заняты всевозможными предположениями о предстоящем походе.
Скоро Лиза перестала навещать и офицерских жен. Она вдруг заметила, что семейные дамы стали ее опасаться. Слишком сильно было неутоленное чувство, слишком явна была зависть, с которой Лиза смотрела на их деток. И женщины боялись, что она может сглазить их деток.
Усталая и грустная, Лиза возвращалась в дом маркитанта Аванеса, который был ее последней надеждой.
Но Аванесу было теперь не до нее. Протежируемый командиром Апшеронского полка Поповым, он проворачивал одну выгодную сделку за другой. Аванес уже сбыл все залежалые товары, продал залежавшуюся говядину и порченую солонину, отсыревшие спички и подгнившую махорку. Сверх того, Аванес добился разрешения отпускать офицерам по специальным казначейским книжечкам товаров не на десять рублей в месяц, как обычно, а вдвое больше. Это было большой удачей. Аванес знал, что поиздержавшиеся офицеры предпочтут получить у Аванеса десять рублей наличными, на игру в карты и кутежи, а взамен впишут в книжечку, что товаров получено сполна. Знало это и начальство, но закрывало глаза за процент от сделки.
День и ночь к дому Аванеса подъезжали торговцы и посредники. Когда отсутствовал хозяин, делами занималась его жена Каринэ.
– Аванес, салам алейкум! – кричал торговец со своей арбы.
– Мыло привез!
– Здравствуй, Ахмед, – откликалась маркитантка.
– Вези в лавку!
– Свечи куда? – спрашивал казак со своей кибитки.
– Во двор грузи! – отвечала Каринэ.
– Только мало что-то.
– Куда же больше-то? – удивлялся казак.
– Всегда столько брали.
– Поход долгий будет! – объясняла маркитантка.
– Тут на убитых не хватит, не то чтобы в палатках светить. Привези еще, Петя!
– Привезу! – обещал казак.
– Быстро надо! Опоздаешь – не возьмем.
– Шампанское – первый сорт! – сообщал следующий.
– Сами делаем!
– Давай, – отвечала Каринэ.
– А ром?
– Будет!
– Больше вези! В походе ром ведрами употребляют!
Следом подъезжали другие:
– Кишмиш берешь?
– Принимай сало!
– Такой табак, что и господа не откажутся!
– Нитки-иголки!
– Конфеты для господ офицеров!
– Кремни бери!
– Колбасу привез!
– Рахатлукум свежий! Из Турции! И халва есть!
– Дай попробую.
Маркитантка с видом дегустатора попробовала сладости, сбила цену, а потом велела отвезти товар в лавку.
Большинство отдавало товары в долг, давно зная Аванеса. Остальным маркитантка сообщала:
– Поздно приехал. Кончились деньги. Потом приходи, когда Аванес из похода вернется.
Торговцы хотели бы ответить: «А если не вернется, что с тебя, глупой бабы, взять?». Но Аванес был столь известным маркитантом, что опасения увидеть его убитым шальной пулей в походе отступали перед опасениями потерять богатого заказчика.
Наконец, Лизе удалось изловить Аванеса, явившегося за полночь и в сильном подпитии после заключения очередной сделки.
– Когда едем? – решительно спросила его Лиза.
– Куда? – не понимал Аванес, утопая в купленном по случаю большом кресле.
– В горы, – напомнила Лиза.
– Меня там муж ждет.
– Скоро, – клевал носом Аванес.
– Когда же настанет это твое «скоро»? – негодовала Лиза.
– И так все ушли.
– Не все, – сообщил маркитант, зевая.
– Те во Внезапную ушли, там Аванес не нужен. В крепостях товару цены нет. А которые …
– Ну же, – торопила его Лиза.
– Которые остались, они прямо в горы пойдут.
– Когда? – допытывалась Лиза.
– Скоро, – пробормотал Аванес и захрапел.
– Не спи, Аванес! – теребила его Лиза.
– Они пойдут, и Аванес пойдет, – говорил маркитант сквозь дрему.
– Тогда на рубль – три давай…
– Заснул, дьявол, – сердилась Лиза.
Вернулась Каринэ, гремя ключами от складов и амбаров. Завидев мужа, она бросилась к нему:
– Аванес, дорогой! Властелин моего сердца! – причитала жена, поднимая мужа и ведя его в спальню.
– Совсем устал. Одни отдыхают, а он трудится, как ишак.
Уложив мужа, она вернулась к Лизе.
– Аванес сказал, что скоро поедем, верно? – с улыбкой спросила ее Лиза.
– Если сказал, значит, верно, – заверила Каринэ.
– Он зря ездить не любит. Он любит, когда настоящие дела делаются.
– То есть когда уже совершенно – война? – предположила Лиза.
– Когда смерть рядом ходит, людям ничего не жалко, – объясняла Каринэ.
– Душа попросит – последнее пропьют. А в мирное время такой торговли не бывает.
– А вдруг, не приведи господь, убьют? – осторожно спросила Лиза.
– Вай, убьют! – заголосила Каринэ.
– Вай, убьют!
– Так не ходили бы, где опасно, – успокаивала ее Лиза.
– А ты же сама пойти хочешь, – ответила Каринэ, утирая слезы.
– Я… Я ради мужа своего, – сказала Лиза.
– А он ради своей жены, – сказала Каринэ.
– И ради детей старается.
– У вас хоть дети, а у меня никого, – еле слышно сказала Лиза.
– Что, матушка? – не расслышала Каринэ.
– Ничего, – ответила Лиза, едва сдерживая слезы.
Еще несколько дней повторялась та же история, пока Лиза окончательно не потеряла терпение. Она собралась уже решительно объясниться с маркитантом, когда вдруг получила странную записку от Аркадия. Записка была всего из нескольких слов. Аркадий умолял Лизу навестить его в госпитале.
– Он ранен! – воскликнула Лиза, порываясь тут же бежать в полковой госпиталь.
Но тут она вспомнила, что видела Аркадия не так давно, когда он вернулся из какого-то загадочного путешествия. Лиза встретила Аркадия в офицерском собрании, где он играл в карты. Он был вполне здоров и даже при деньгах. Разве что еще больше напустил на себя таинственности. Вечером он явился к ней в дом, снова оставил у нее свои дуэльные пистолеты, а на вопрос, пригодились ли они ему в путешествии, загадочно ответил:
– Еще пригодятся, и очень скоро.
И вдруг – госпиталь?
Глава 48
Лиза собрала корзинку гостинцев и пошла навестить больного. Но к Аркадию ее не пустил часовой, требуя какого-то особого разрешения.
Лиза отправилась в штаб, надеясь получить разрешение от полковника Попова. Но его адъютант сказал, что полковой командир никого не принимает, а ей велел передать, что дамам здесь находиться не положено.
Знакомый Лизы, командир 3-го батальона Апшеронского полка майор Тарасевич шепнул ей, что полковник попросту пьян. И пьет уже который день, потому как не желает идти ни в какие походы, а мечтает выйти в отставку. Кто может разрешить посещение больного, не знал и сам майор. Когда же Лиза произнесла фамилию Аркадия, майор сделал круглые глаза и стал ее отговаривать от свидания.
– В чем дело, сударь? – еще более встревожилась Лиза.
– А вы не знаете?
– Да нет же. Мсье Синицын – мой старый знакомый, только и всего.
– Говорят, он того… – сказал майор, покрутив пальцем у виска.
– Вы имеете в виду… – боялась догадаться Лиза.
– Именно это, сударыня, – вздохнул майор, изображая сожаление.
– Не могу поверить, – покачала головой Лиза.
– Еще недавно он был совершенно здоров.
– Мы тоже так полагали, сударыня.
– Да ведь он в поход какой-то ходил, – говорила Лиза.
– И таким героем вернулся.
– Видно, в походе и помешался, – пожал плечами майор.
– Прошел слух, что ему была обещана большая награда. Синицын о награде помалкивал, но в карты играл. Рублей четыреста спустил. Ему в долг верили. А как начали о походе поговаривать, так о долге и вспомнили. Мало ли что в экспедиции случиться может. Тогда Аркадий и явился прямо к Попову. Стал награду свою требовать.
– А Попов что же?
– Он его и наградил, – усмехнулся майор.
– Отдыхом в госпитале с часовыми.
Совершенно растерянная, Лиза бродила по крепости, надеясь повстречать еще кого-нибудь, кто смог бы ей помочь и объяснить, что происходит. Но большинство офицеров ушли со своими батальонами, а оставшиеся деятельно готовились к экспедиции, запасаясь личным провиантом, ромом и теплыми, подбитыми сукном, палатками. Было столько суеты, будто выступать следовало с минуты на минуту. А глядя на эти воодушевленные лица, сияющие радостью глаза молодых офицеров, могло показаться, что они уже в походе.
Спокойны были только старые солдаты, закаленные в Кавказской войне. Они грелись на солнышке, покуривали трубки и посмеивались над пустыми хлопотами их благородий. Солдаты, не раз бывавшие в жарких боях, знали, что на деле все будет по-другому. Что пойдут они не на пикник, а к горцам. И что там понадобятся сила, отвага и толковая распорядительность. Ром и закуски быстро кончатся, а питаться придется не столько тем, что запасут провиантские чиновники, сколько тем, что удастся добыть в немирных аулах. Но в одном солдаты офицеров одобряли. По укоренившемуся в войсках горскому обычаю, офицеры надевали в бой лучшее платье и брали самое дорогое оружие.
Аркадий пребывал в госпитале уже вторую неделю. Его содержали в небольшой палате вместе с двумя настоящими умалишенными.
Один был бывший полковой казначей, проигравший офицерскую кассу и чуть не пустивший себе пулю в лоб. Теперь он целыми днями приставал к Аркадию, желая отыграться и ставя на кон свою жизнь.
Другой, из разжалованных офицеров, повредился в уме после кровавого дела. Тогда оказалось, что в небольшом ауле, который они штурмовали после бомбардировки из тяжелых орудий, содержались их же пленные, охраняемые казаками-перебежчиками. Но этот ужасный случай начисто стерся из его памяти, зато он представлял себя заговорщиком и убеждал остальных идти на Сенатскую площадь свергать самодержавие в лице полковника Попова и гарнизонного доктора.
Оба эти субъекта считали себя жертвами произвола, также как и сам Синицын. Временами, когда наступало просветление, они открывали Аркадию творящиеся кругом безобразия. Его они считали истинно помешанным, а потому не опасались никаких последствий. Сборище умалишенных, таким образом, обладало большим преимуществом – здесь можно было говорить то, за что нормальные люди могли сильно пострадать.
Казначей во всех подробностях расписывал, какими ловкими способами крадутся в войсках деньги. Причем воры у него были плохие и хорошие. Плохими были те командиры, которые крали безрассудно, спуская казенные деньги в карты и на кутежи. И у которых потом солдаты ходили как нищие, в дырявых сапогах и гнилом обмундировании, а чтобы прокормиться, обирали на дорогах купцов и грабили мирные аулы. Хорошими он считал тех командиров, которые умудрялись приобрести капитал умеючи. Особенно он уважал тех, кто обеспечивал свою старость, не забывая о солдатах, которые были сыты и одеты и души не чаяли в своих отцах-командирах. Да и кто бы мог кинуть камень в служаку, половину жизни тянувшему армейскую лямку и имевшему большую семью, которую невозможно было содержать на будущую пенсию?
О том, что творили первые начальники, державшие в руках главные деньги, даже этот умалишенный предпочитал не распространяться. Но о солдатах, тоже наловчившихся извлекать из войны выгоду, рассказывал много.
Доходило до того, что солдаты сговаривались с горцами и устраивали тайные артели на паях. Солдаты убегали в походах, жили на хуторах в свое удовольствие, а когда их выкупали или выменивали на соль, прибыль делилась пополам. Если начальство не желало их вызволять, предпочитая просто внести в список «убылых», то солдаты возвращались сами, будто бы сбежав из горского плена. А положенная за «геройство» награда опять же делилась между сообщниками. Но случалось и так, что «пленные» передумывали возвращаться, предпочитая стать вольными горцами. И таких становилось все больше. О них без особой нужды не сообщалось, а полагающееся им довольствие годами присваивалось.
Наслушавшись подобных историй, Аркадий решил, что и впрямь сойдет с ума, если в них поверит. Все это никак не укладывалось в его представления о войне, почерпнутые из Марлинского. К тому же главная цель Аркадия, которая привела его на Кавказ, могла потерять свой смысл и значение, если бы все измерялось деньгами. Ведь и невеста, которая предпочла ему ветерана-полковника, могла соблазниться не только его кавалерийскими усами, но и капиталом, который он, как говорили, успел нажить, командуя полком. Аркадий берег свой дуэльный замысел, как кровник-абрек лелеет мечту о мести. Но это становилось все труднее.
– Во что изволите играть? – настойчиво предлагал бывший казначей.
– Штос? Вист? Ставлю на кон всего себя! Ломбер? Рокамболь? А ла муш? Неужели моя жизнь ничего не стоит?
– Главное – избрать предводителя, – убеждал разжалованный заговорщик.
– Долой самодержавие! Попова надо повесить! Доктора – на гильотину, подлеца!
Нелегко было сохранить здравомыслие в этом опасном обществе. Чтобы уберечь себя, Аркадий научился пропускать речи своих новых товарищей мимо ушей. Он часами смотрел в зарешеченное окошко, из которого была видна его прежняя жизнь, и размышлял о странных превратностях судьбы.
Поначалу это помогало Аркадию отвлечься от своих несчастных товарищей, но когда он увидел, как уходят на большое дело батальоны, как даже полковой священник двинулся за войсками со своим походным аналоем, Аркадием овладело лихорадочное беспокойство. Выходило, что он, вызнавший с риском для жизни неведомую доселе дорогу к Ахульго, никому теперь не нужен. Про него попросту забыли.
Однажды он увидел и Лизу, выходившую из штаба. Он стал кричать, звать ее, но она его не услышала, погруженная в свои печальные мысли. И тогда он упросил часового передать ей записку.
Разрешение навестить Аркадия Лиза все же получила. Ей помогла жена смотрителя госпиталя, с которой Лиза познакомилась еще на Водах.
Лиза еще недавно думала, что Аркадий стал важной птицей, и никак не ожидала увидеть его в госпитале, в отделении для умалишенных. Когда Аркадия привели в комнатку, где его ждала Лиза, она была поражена переменой, произошедшей с этим молодым человеком. Аркадий стал как будто намного старше, был подавлен и резок и объяснял все случившееся интригами Попова.
Но его манера говорить, горячность, пылкость чувств остались прежними. Только Лиза уже смотрела на них иначе. Если прежде она относила эти черты характера Аркадия к его молодости, то теперь ей начало казаться, что в них проявлялась его душевная болезнь.
Аркадий вдруг замолчал, будто решаясь на что-то, а затем припал к ее рукам и стал умолять Лизу вызволить его из этого постыдного заточения.
– Но что же я могу для вас сделать? – не понимала Лиза.
– Вы все можете, – горячо убеждал ее Аркадий.
– Я, право, не знаю… – растерянно говорила Лиза.
– А я знаю, что вас не пускают к мужу, – сказал Аркадий.
– Вызволите меня отсюда, и я готов сопровождать вас куда прикажете.
– Да, но как же вы – и к горцам?
– Я уже был там, – сказал Аркадий.
– Я дороги знаю.
– Разве это не опасно – самим, в горы?
– Горцы считают меня за своего, – заверил Аркадий.
– Что вы такое говорите, сударь?!
– Подозреваю, что Попов потому и упрятал меня сюда, что боится, как бы я не оказался шамилевским лазутчиком.
– Лазутчиком? – не понимала Лиза.
– Но ведь вы хотели его на дуэль вызвать.
– И вызову, – обещал Аркадий.
– Но сначала вызову Попова.
– Господь с вами, Аркадий, – всплеснула руками Лиза.
– Спасите меня, – попросил Аркадий упавшим голосом.
– Здесь я сойду с ума.
– Я попробую.
– Обещайте мне!
– Обещаю.
Лиза покинула госпиталь в совершенном смятении. Ей хотелось верить Аркадию, верить в то, что он в здравом уме, что он способен отвезти ее к мужу. Но обстоятельства свидетельствовали об обратном. Лиза колебалась. У нее кружилась голова. Она прислонилась к дереву, чтобы не лишиться чувств от нахлынувшего волнения.
А мимо с бодрыми песнями двигалась конноартиллерийская рота.
Глава 49
Стефан Развадовский тоже выступил в поход со своим сводным оркестром. Был у него и хор с солистами. Певцов называли песельниками, и без них не обходился ни один значительный марш.
Музыка и песни действительно помогали, подбадривая солдат и веселя начальство. Среди музыкантов находились мастера на все руки, а среди певцов вдруг являлись такие голосистые, что из-за них спорили командиры. Ко всему прочему солдаты сочиняли песни или переделывали на свой лад уже известные.
Музыкантов любили, их последними бросали в бой, первыми кормили, отпускали двойные винные порции. Этого не полагалось, но считалось, что инструменты нуждаются в протирке спиртом.
С тех пор, как Стефану удалось заслужить одобрение Граббе, оркестр был на особом счету. Когда генерал составлял свой отряд для похода на Ахульго, он первым делом вспомнил про музыканта-поляка и его лихой оркестр.
Стефан любил музыку и отдавался ей всей душой, тем более что она освобождала его от ненавистных ему воинских обязанностей. Войну он ненавидел всей душой, потому что она убивала слушателей. Война убивала и саму музыку, ограничивая ее своими грубыми потребностями. Резкие однообразные звуки военных горнов были ей милей богатых возможностей трубы.
Порой он представлял себя Орфеем, чудесная лира которого усмиряла бури,
двигала горы и даже усыпила страшного дракона, который охранял золотое руно. Музыка спасла и самого Орфея, когда он спустился в ад за своей возлюбленной Эвридикой. Стефан мечтал вернуться домой, чтобы покорить своим искусством весь мир. Но пока вынужден был обслуживать войну.
Для того Стефан и взялся создавать оркестр, чтобы не разлучаться с настоящей музыкой. И теперь он мог гордиться, что даже в походе у него был приличный состав: всевозможные барабаны и бубны, кларнеты и свирели, альты и скрипки и даже погремушки с цимбалами. Всем этим он мог управлять на ходу, не слезая с лошади. А порой музыкантами не нужно было и дирижировать, они знали свое дело, знали, чего и когда требует солдатская душа. Они ведь и сами были солдатами, разве что ружья их, пока они играли, несли их товарищи.
В начале похода песни были веселые, бодрящие.
Песельники запевали:
Солдатушки, бравы ребятушки, Где же ваши деды? Наши деды – славные победы, Вот где наши деды!
Остальные подхватывали:
Наши деды – славные победы, Вот где наши деды!
Песельники снова голосили, а остальные подхватывали:
Солдатушки, бравы ребятушки, Где же ваши жены? Наши жены – ружья заряжены, Вот где наши жены!
Солдатушки, бравы ребятушки, Где же ваши детки? Наши детки – пули наши метки, Вот где наши детки!
Солдатушки, бравы ребятушки, Где же ваши сестры?
Наши сестры – штыки, сабли остры, Вот где наши сестры!..
Вечерами на привалах Стефан доставал и свою трубу, чтобы исполнить какое-нибудь соло из модной оперы или польскую мелодию для своих земляков, которых в отряде было немало.
Задумавшись, Стефан отстал от строя. Его вернули к действительности щелчки бича. Это мальчишка, сидя на зарядном ящике, подгонял две пары волов, тянувших за собой телегу с тяжелым орудием.
– Ну, черти! – кричал Ефимка.
– Шевелитесь, не баре!
– А ты зачем тут? – спросил его удивленный Стефан.
– При роте состою, господин унтер-офицер! – ответил Ефимка.
– Наш паренек, – подтвердил фельдфебель Михей.
– И глаз у него острый.
– Он что же, и воевать будет? – недоумевал Стефан.
– Так точно! – откликнулся Ефимка, награждая быков очередным ударом.
– На учениях так пушку навел, что мое почтение! – хвалил Ефимку Михей.
– Справный хлопец.
Стефан слышал про этого мальчишку, которого барин собирался обменять на собаку, но никак не предполагал, что этот Ефимка будет участвовать в походах.
– Значит, на войну? – спросил Стефан мальчишку.
– А то! – гордо откликнулся Ефимка.
– Ты уж поосторожнее будь, – советовал Стефан.
– Вот и я ему толкую, – поддержал унтера пушкарь.
– Видал я здешних ловкачей. За любым кустом, за камешком всяким схоронятся. Моргнуть не успеешь, как накинутся, скрутят да уведут, а то и вовсе зарежут. А бросимся искать – нету, как сквозь землю провалятся. Кавказ, братец, тут держи ухо востро!
– Главное, под пули не лезь, – советовал Стефан.
– Оно самое, – кивал пушкарь.
– Эдак нельзя, надобно быть порассудительней.
– Как же можно, чтобы пулям кланяться? – смеялся Ефимка.
– Когда самого Шмеля идем брать!
– Шамиля то есть? – поправил Стефан.
– Его, разбойника.
– И не боишься?
– А чего мне бояться? – важно ответил мальчишка.
– У нас, вона, пушки-подружки, а у них что? Ружья одни.
– Куда им против нас! – добавил Михей и побежал вперед поворачивать волов, норовивших сойти с дороги, чтобы пощипать первой травки.
– Зачем же ты хочешь воевать? – спросил Стефан мальчишку.
– Кинжал добыть! – ответил Ефимка.
– Мне без кинжала никак нельзя.
– А на что тебе кинжал?
– Как на что? – удивился Ефимка.
– Известное дело, надо! Тут вся пацанва с кинжалами, а у меня токмо банник, – и Ефимка ткнул ногой привязанный сбоку пушечный шомпол.
– А скажика, братец, разве это Шамиль хотел тебя на собаку выменять? – спросил Стефан.
– Не-а, – замотал головой Ефимка.
– Барин наш, лиходей.
– Так тебе надо бы его из пушки поучить, а не Шамиля.
– Да разве можно? – не понимал Ефимка.
– Ведь то – барин! Он полицию кликнет. А после шкуру спустит.
– А Шамиля, выходит, можно? – допытывался Стефан.
– Но то она и война, – кивал Ефимка.
– На войне все можно.
– А после войны что делать станешь? Опять к барину?
– Не-а, – принялся рассуждать Ефимка, снова пуская в ход свой бич.
– Тута останусь. Солдаты завсегда нужны. Солдатом быть лучше, чем на барщине спину гнуть.
– Лучше, говоришь? – хмурился Стефан, не ожидавший от ребенка таких слов.
– И весело, и завсегда поживиться можно, – объяснял Ефимка.
– Вона, фейерверкер наш, аж двадцать целковых в деревню отослал. Постреляет, пограбит, продаст, загуляет, а ежели что останется – матушке на пропитание. Душа – человек!
– Значит, не пропадешь, – укоризненно покачал головой Стефан.
– Есть, у кого поучиться.
Он в сердцах стегнул нагайкой лошадь и марш-маршем поскакал нагонять свой оркестр.
Глава 50
Военная кампания 1839 года должна была охватить весь Кавказ. На правом фланге несколько самостоятельно действовал Раевский, занятый десантами к непокорным черкесам и возведением новых береговых укреплений. Главные же события начинались на левом фланге. Против Шамиля был назначен отряд Граббе, который получил название Чеченского и собирался из частей разных полков. Головин возглавил Дагестанский отряд, меньшей по численности, которому предназначено было действовать в Южном Дагестане, окончательно покорить верхние Самурские общества и построить укрепление у селения Ахты.
Войска Чеченского отряда стягивались к Внезапной.
Первыми стали лагерем у крепости четыре батальона Куринского пехотного полка под командованием полковника Пулло. На самом деле это был почти весь полк, кроме небольшого резервного батальона, оставленного на Сунженской линии. Куринцы были опытными солдатами, которые уже ходили на Ахульго с Фезе.
Затем прибыли не менее закаленные в битвах с горцами батальоны Апшеронского полка. После них начали подходить конные и пешие сотни казаков Горского, Моздокского, Гребенского и Кизлярского линейных полков со своими орудиями. Сюда же устремились кавалькады горской милиции. Из Тифлиса была прислана Головиным саперная рота. Из Владикавказского округа двигался батальон Кабардинского егерского полка, сопровождая затребованный оттуда же инженерный инструмент на тридцати арбах.
Грузинский линейный батальон спешил из Дербента.
Артиллерия располагалась отдельно и тоже состояла из батарей разных полков. В артиллерийский парк беспрерывно подвозились снаряды, которых было велено заготовить по три комплекта. С большим запасом заготавливались и ружейные патроны, которых уже было больше полутора миллионов.
К концу апреля у Внезапной стояло шесть батальонов. Вместе с казаками, милицией, конвойной командой, нестроевыми и мастеровыми инвалидных рот набралось около восьми тысяч человек. Это была внушительная сила, которой в горах еще не видели.
Еще три батальона и сотни горской милиции ждали своего часа в Темир-Хан-Шуре. Батальон занимал и укрепление Зирани, на дороге из Шуры в Хунзах. В самом Хунзахе были наготове около тысячи человек конной и пешей ханской милиции.
Военный лагерь Чеченского отряда раскинулся на правом берегу реки Акташ. Это был белый палаточный город, со своими улицами и кварталами, площадями и церковью. И город этот разрастался, вбирая в себя все новые войска и бесконечные обозы.
Чтобы не терять время и поддерживать в войсках надлежащий дух, Граббе устраивал учения и сам же их инспектировал. Командующий входил в самые мелкие детали, строго спрашивал за все, что было не по форме – строевой ли шаг, обмундирование ли, и даже за численный некомплект батальонов, которые некем было пополнить. Больше других ему нравились части, прибывшие на пополнение. У необстрелянных новичков все было в надлежащем порядке, не то, что у бывалых кавказцев, которые давно усвоили кавказские привычки и некоторое презрение к требованиям устава.
Когда главные силы были в сборе, Граббе учинил торжественный смотр.
«Смирнаа-а!» – эхом пронеслось над рядами, и трубачи во главе со Стефаном заиграли генерал-марш.
Граббе, при всех своих орденах и в белых перчатках, на вороном коне начал объезжать войска, стоявшие поротно в батальонных колоннах. Впереди Граббе ехали четыре есаула из линейных казаков, а позади командующего – свита, состоявшая из полковых командиров, старших офицеров и адъютанта. Замыкал свиту конвой из тридцати конных казаков и десятка милиционеров.
Приняв рапорты и поздравив войска с предстоящим походом, Граббе произнес давно заготовленную речь:
«Войска главного отряда!
Высокая цель и великая милость государя нашего императора Николая I сделали меня вашим начальником!
Полагаю для себя особой честью стать в ряды ваши, в ряды кавказских героев, прославивших силу нашего оружия.
Я бился с врагами отечества в Европе, а теперь пойду с вами на полудиких обитателей здешних гор и лесов. Но служба государева везде равна, и враги его должны повсюду быть повержены вами, храбрые воины!
Вам знакомы уже, ребята, труды и неприятель, на которого я поведу вас. Одна сила оружия укротит или истребит этих нарушителей спокойствия как в горах и лесах, так и в самых границах наших. Пойдем, отыщем их в их убежищах, которые они почитают неприступными. Откуда человек выходит – туда достигнет наш штык.
Много есть между ними таких, которые желают наконец покоя, под защитою нашего оружия. Отличим их от непокорных там, где они явятся. Женщинам же и детям, ребята, непременно и везде – пощада! Не будьте страшны для безоружных.
Приступим же к нашему делу с надеждою на Бога и государя. Дружным натиском и верным штыком выбьем мы неприятеля из-за скал и завалов. Бросится ли он на вас, примите его бесстрашно, и он обратится назад. Так с Божией помощью проложим мы дорогу для себя и для славы нашей в потомках.
Твердо полагаюсь на вас, господа начальники всех чинов, в строгом наблюдении за исполнением смысла сего приказа.
Вы поведете умно и неустрашимо солдат, уже известных своею храбростью!»
Войска ответили оглушительным «Ура!».
Затем начался молебен. Священник обошел ряды со святою водой и пением «Спаси господи, люди Твоя и благослови достояние Твое». Солдаты, обнажив головы, усердно крестились и повторяли молитвы.
В завершение смотра войска прошли под торжественную музыку церемониальным маршем. И хотя Граббе не всем остался доволен, но воодушевление войск так его растрогало, что генерал смахнул перчаткой слезу.
Граббе осознал себя повелителем всей этой грозной массы, и ему не терпелось пустить ее в ход. Оставалось лишь сформировать походный штаб отряда. Это было важнейшим делом, особенно потому, что по окончании похода первыми получали награды именно штабные, порой за чужие подвиги, а тем, кто действительно воевал, могло ничего и не достаться. Граббе велел делать назначения, не взирая на звания, и первым зачислил в свой штаб Милютина.
Но начальником штаба снова оказался Траскин, который и принялся назначать остальных штабных чиновников, начиная с дежурного штаб-офицера, которым сделал своего приятеля по кутежам. Штаб-офицер, в свою очередь, назначал адъютантов, те – писарей, ординарцев, вестовых, денщиков и прочих нужных в штабе людей, которые, про преимуществу, оказывались старыми знакомыми адъютантов.
Граббе торопился двинуться в поход, но Траскин отговаривался тем, что не все еще заготовлено и не все транспорты прибыли. Еще больше не хватало Траскину лошади для себя самого. Ему приводили одну сильнее другой, но никак не могли выбрать подходящую. Лошадей приводили с конного базара в Эндирее. И каждый хозяин нахваливал свою, рассчитывая выгодно ее продать.
– Всем хороша, ваше высокоблагородие!
Траскин недоверчиво косился на скотину и спрашивал:
– Чем же она хороша?
– Сильна, как буйвол, ваше высокоблагородие.
– А меня выдержит? – сомневался Траскин.
– Бог даст, выдержит, ваше высокоблагородие, – обещал продавец.
– А как резва!
– Пошел прочь, дурак! – сердился Траскин.
Однако не пешком же ему было отправляться в горы? Это было бы еще невозможнее, чем найти подходящую лошадь. И Траскин взбирался на лошадей со ступенек штаба в специально для него сделанное седло, но редкая лошадь могла потом идти, не говоря уже о том, чтобы скакать.
Однажды ему привели верблюда. Хозяин убеждал, что лучше этой неприхотливой и выносливой скотины Траскину не сыскать:
– Носит, как пять лошадей, а в корме и питье до невероятности воздержан!
Продавец брался выучить Траскина ездить на верблюде, а верблюда – слушаться такого большого начальника. Несмотря на всю нелепость этого предложения, вызывавшего у остальных лишь улыбки, Траскин чуть было не согласился. Для опыта он велел проехать на верблюде своему адъютанту. Но тот не совладал с животным и свалился через несколько же шагов. Если бы такое случилось с Траскиным, он вряд ли бы когда-нибудь вообще поднялся. Верблюду дали отставку.
Экипажи для горных дорог тоже не годились, как не помещался Траскин и в обычной походной палатке.
Люди, служившие на Кавказе, как правило, становились сухими и поджарыми. Природа накладывала на них свое лекало, не терпевшее лишнего. Траскина это не коснулось. Напротив, он еще более раздобрел на казенных деликатесах. Он увеличивался в объеме так быстро, что портные не успевали шить новые мундиры, и Траскин частенько удивлял всех ватой и нитками, торчавшими из треснувших швов.
Граббе начал подумывать, не отставить ли Траскина от похода. Этот нахальный выскочка и без того обременял его своей бесцеремонностью, а в горах был бы только лишней обузой. Но еще больше Граббе хотелось заставить изнеженного Траскина, этого паркетного шаркуна, понюхать настоящего пороху, а не канцелярского, в бумажных сметах, который не горел и не чадил, а только набивал его карманы. Однако сам Траскин и не думал отказываться от похода. Он горел желанием добраться до Ахульго. И не столько затем, чтобы сразиться с Шамилем, сколько потому, что был уверен: там его будет ждать, по меньшей мере, золотой Георгий на шею, если не генеральский чин.
Мучения Траскина разрешил Милютин. Он добыл для него большую калмыцкую кибитку, которая после обустройства удовлетворила потребности Траскина. Сшили ему и особую палатку, которую везли на двух повозках.
В ожидании приказа к выступлению батальоны принялись за свои обычные дела: чистили оружие, приводили в порядок амуницию, пели, соревновались, кто кого перепляшет, и задирали солдат из других частей, которых они не любили пуще горцев. Это повелось издавна. Прежние походы оставили за собой длинный шлейф взаимных обид, когда одни части обходили наградами, а другие превозносили не за дела, а за приближенность командиров к высшему начальству.
Офицеры встречали старых знакомых, приглашали друг друга в гости и проводили ночи за воспоминаниями и предположениями о ждущих их испытаниях. А когда бывали приглашены на обед к командующему отрядом, то застолье продолжалось затем в палатках с приглашением лучших музыкантов Развадовского.
Казаки показывали свою удаль, на всем скаку поднимая с земли целковые и рубя тыквы, которые бросали им навстречу.
В целом же все было спокойно, все будто набиралось сил перед трудной работой. Но спокойствие это было лишь пеленой, покрывавшей дела совсем другого свойства.
Вдруг выяснилось, что по ночам бесследно пропадают солдаты. Разъяренный Граббе приказал усилить караулы, выставить новые секреты и двойные цепи вокруг лагеря, но солдаты продолжали исчезать. Начальство старалось скрывать эти неприятные факты, но все догадывались, что солдаты бегут к горцам. То ли воевать не хотели, то ли бежали от муштры и рукоприкладства их благородий.
Но пропадали не только солдаты, из ночного уводили лошадей. Конокрады делали это так ловко, что изловить никого не удавалось, а лошадей с каждым днем становилось все меньше. Начали подозревать, что лошадей попросту продают горцам, сваливая все на неизвестных похитителей. Но за руку никого не схватили, а под розгами никто не признавался. Зато известно было, что на базаре в соседнем Эндирее, или Андрей-ауле, как называли его солдаты, процветает торговля казенным порохом и свинцом. Пойманных сурово карали, проводя сквозь строй со шпицрутенами. Но торговля продолжалась, а наказанные при первой же возможности бежали к горцам.
Граббе чувствовал, что пора идти в поход, потому что при таком положении дел Траскин никогда не напасется всего и вдоволь.
– Больше ждать невозможно! – решительно объявил Граббе.
– Но еще не в должном количестве… – начал было Траскин.
– Обойдемся! – прервал его Граббе.
– Еще не все части…
– Оставим в резерве! – ответил Граббе.
– Или вы намерены дожидаться, пока Шамиль так усилится, что явится к нам собственной персоной?
– Однако, ваше превосходительство… – слабо сопротивлялся Траскин.
– Солдаты уже капусту на грядках сажают! – гневался Граббе.
– Скоро и вовсе забудут, зачем пришли!
Но Траскин затягивал выступление как мог, потому что сам, тайно и по-крупному, торговал отрядным имуществом, и ему жаль было сворачивать доходное предприятие, которое можно было списывать на неразумных солдат. К тому же пропитание войска требовало немалых денег и приносило неплохие комиссионные.
Однако вылазки на Эндиреевский базар все же были строго запрещены после произошедшего там вопиющего случая. Солдаты из новичков были посланы ротным купить вина. Явившись в знакомую лавку, они потребовали, как обычно, бурдюк чихиря, но получили неожиданный отказ. Торговец заявил, что вино кончилось. Тогда солдаты пошли в другую лавку, но и там ничего не нашли.
Местный народ посмеивался и одобрял торговца, припоминая все, что учиняли здесь перебравшие вина солдаты – от плясок вприсядку до того, как недвусмысленно косились они на местных женщин.
В третьей лавке солдатам объявили, что вина больше не будет, потому что вино – грех, и Ташав-хаджи запретил не только пить его, но даже продавать.
Возмущенные солдаты переворошили лавку и нашли большой бурдюк с вином.
– Нету, говоришь? – торжествовали солдаты.
– А деньги? – опомнился торговец.
– Какие деньги, если вина нету?!
– Платите! – требовал торговец.
– С хаджи своего получишь! – смеялись солдаты.
Солдаты собирались уже уходить, когда хозяин вина схватился за свой товар. Солдаты тянули бурдюк к себе, но хозяин не сдавался, пока бурдюк не лопнул и вино не вылилось на землю.
Одна сторона лишилась вина, другая – дохода, и обе, едва опомнившись, кинулись в драку. Когда на шум начали сбегаться местные, заступаясь за торговцев, солдаты дали знать своим. Новичков сбежалась целая рота, и они начали брать верх. Но тут на помощь другой стороне пришли оказавшиеся на базаре солдаты Апшеронского и Куринского полков.
– Как так? – не понимали теснимые новички.
– Своих бьете?
– Это вы-то свои? – смеялись бывалые кавказцы, колотя новичков.
– Не пришей кобыле хвост! А вот горцы нам точно – свои! Да они нам что братья! Уж двадцать лет с ними воюем!
Медлить далее Граббе не желал. Он уже подписал приказ о выступлении, когда начали происходить вещи еще более тревожные, чем драка на Эндиреевском базаре.
Конные милиционеры шамхала Тарковского, высланные в разведку для обозрения местности, по которой предстояло идти отряду, в лагерь не вернулись. Их прождали до ночи, когда приковылял раненный милиционер, сообщивший, что их подстерегли мюриды Ташава-хаджи. Остальные были в стычке убиты, а его, раненного, отпустили.
В ту же ночь лагерь был обстрелян из винтовок и фальконета – небольшой переносной пушки. Несколько солдат получили ранения, а в лагере начался пожар, который едва удалось потушить. Ответный огонь наделал много шума, но не принес никаких результатов, потому что велся в суматохе и наугад.
На рассвете для поиска нападавших был выслан смешанный эскадрон из горской милиции и казаков. Не найдя никого поблизости, эскадрон двинулся к казачьему кордону, стоявшему неподалеку от крепости. Кордон они нашли опустошенным, со следами недавней схватки. Тогда эскадрон ринулся к речке Ямансу, на которой стоял второй кордон, но и там их встретила та же печальная картина. Эскадрон поскакал вдоль речи, пока на другой стороне не показался такой же смешанный отряд, но уже из мюридов и беглых казаков. Противник обстрелял эскадрон, не давая ему перейти реку, а затем наградил его самыми обидными выражениями и не спеша скрылся.
Глава 51
Разъяренный Граббе метался по штабу и грозил покарать злодеев. Он ждал только лазутчиков, чтобы определить направление удара возмездия. Однако вместо лазутчиков прибыл мешок с их головами. Снятые головы молчали, но Граббе и без того понимал, что это наиб Шамиля Ташав-хаджи посмел встать у него на пути.
Диверсии наиба становились все более дерзкими и частыми. Разрозненные сведения, получаемые с большим трудом, рисовали неожиданную картину. Ташав имел сильный отряд из чеченцев и дагестанцев, присоединил к нему беглых солдат и казаков и мог ударить в любом месте и в любое время. Кругом действовали его разведчики, а агитаторы убеждали принять сторону Ташава даже мирные аулы. К тому же ходили слухи, что Ташав успел построить два укрепления, куда стекались ополченцы из окрестностей. Выходило, что Ташав значительно усилился и держит под наблюдением все дороги.
Граббе собрал главных командиров на экстренное совещание, чтобы решить, как быть дальше.
– Этот дикарь вообразил, что может нам помешать! – гневался Граббе.
– Ташав ударит нам в тыл, – предупреждал Пулло, отлично знавший обычаи горной войны.
– Вы полагаете, полковник, он посмеет нас тревожить? – усомнился Граббе.
– Разве уже не тревожит, ваше превосходительство? – ответил Пулло.
Полковник Лабинцев, командовавший батальонами Кабардинского полка, высказал свое мнение:
– Стоит ли, ваше превосходительство, придавать этому столько значения? Притом в теплое время, как показывает опыт, выгоднее действовать в Дагестане, в голых горах. А в лесах чеченских – зимой. Разобьем Шамиля, а затем можно и на Ташава обратиться.
– Тащить на хвосте такую свору было бы обременительно, – заявил Траскин.
– И хвост откусят, и за остальное примутся, – заверил Пулло.
Граббе навис над картой, поразмышлял над обозначениями рек и дорог, которых с прошлого раза стало заметно больше, и объявил:
– Разогнать негодяев! – Он ткнул в карту и продолжал: – Кто хочет войны, тот ее получит!
– Сперва разобьем Ташава? – уточнил Траскин.
– В порошок сотру! – пообещал Граббе.
– И оттуда же – на Шамиля!
– Ташав где-то здесь, – показывал на карте Пулло.
– По правую от нас сторону, вдоль главного направления, две реки, Ямансу и Аксай. Туда идет хорошая дорога вдоль наших кордонов. Затем свернем налево, а там, по речным долинам, аулы. Ташав, я слышал, построил одно укрепление у аула Мескеты, а другое, главное, много ниже, у Саясана.
– Это какой же крюк, ваше превосходительство! – покачал головой Лабинцев.
– Верст тридцать-сорок, если по хорошей дороге, – предположил Пулло.
– Но можно пройти и короче.
– Короче? – обрадовался Граббе.
– Непременно должна быть другая дорога, – оживился Лабинцев.
– Скорее, тропинка, напрямик, через лес, – показывал Пулло.
– Есть у меня один старый лазутчик. Обещает провести за пятьдесят рублей.
– Дайте ему сто, чтобы не обманул, – велел Граббе.
– Большим отрядом через дебри и леса? – сомневался Лабинцев.
– Да еще обоз, хоть и небольшой…
– А что – леса? – обернулся на полковника Граббе.
– Местность здешняя, лесистая и гористая, предоставляет противнику все средства к упорной обороне, – пояснил Лабинцев.
– В Европе тоже лесов хватает и гор немало, а мы шли и до Парижа дошли, – отмахнулся Граббе.
– Волков бояться – в лес не ходить, – поддержал генерала Пулло.
– Этот Ташав давно мою кровь пьет. Пора бы и проучить разбойника.
– Там разве что летучий отряд пройдет, – сказал Лабинцев.
– Надо бы разделиться, отвлечь противника, а тем временем…
– Решено! – положил руку на карту Граббе.
– Господин Лабинцев с двумя батальонами Кабардинского полка, сотней линейных казаков, при двух горных орудиях ринется напрямик, а мы зайдем с тылу, по главной дороге. Выступаем завтра же!
– Всем отрядом? – уточнил Траскин.
– Пойдем налегке, – пояснил Граббе.
– Провианта возьмем на неделю.
– И то, полагаю, с запасом будет, – сказал Пулло.
– А тяжести, артиллерийский парк, табун – все это я оставляю в крепости под прикрытием роты Апшеронского батальона и Кумыкской милиции. И вы, милостивый государь, – Граббе обернулся к Траскину, – Можете остаться с ними. Если понадобитесь, мы за вами пришлем. После же разгрома бунтовщиков, а на это, полагаю, много времени не понадобится, отряд продолжит движение на Ахульго, к главной нашей цели, а резерв придет к нему на соединение.
– В каком месте? – заглянул в карту Траскин.
– Дело покажет, – ответил Граббе.
– Вы получите своевременные распоряжения.
Офицеры уже собирались разойтись, когда Граббе осенило:
– Погодите, господа командиры! – Граббе понизил голос, давая понять, что сообщает нечто особенное важное.
– Горцы тревожили нас ночью. Так отчего бы у них и не поучиться?
Офицеры недоуменно переглядывались.
– Полагаю, лучше выступить не на рассвете, как у вас тут заведено, а затемно, – объявил Граббе.
– Ночью? – удивился Пулло, оглядываясь на других командиров.
– Внезапность – половина дела! – сказал Граббе, доставая часы.
– Приказываю теперь же, тайно, изготовиться к походу. Полковник Лабинцев со своим отрядом отправляется так быстро, как только сможет.
– Будет исполнено! – козырнул Лабинцев и заторопился исполнять приказание.
– Остальные – извольте в полночь, без шума сняться с позиции, – велел Граббе.
– За сим, господа, мое почтение.
Командиры отправились к своим частям. Остались только адъютант Васильчиков и член штаба отряда Милютин.
– Так-то, – сказал им Граббе.
– Учитесь. По-старинке еще сто лет воевать будем, а надобно менять и тактику, и стратегию.
– Совершенно справедливо, – заметил Милютин.
– Каков противник, такова и тактика! – догадался Васильчиков.
– Далеко пойдете, милостивые государи, – похвалил Граббе.
– И все же попрошу вас убедиться, что все делается, как приказано.
– Не извольте беспокоиться, – заверил Милютин.
Граббе кивнул, а затем обратился к Васильчикову:
– Велите седлать моего коня.
– Какого прикажете, ваше превосходительство? – уточнял Васильчиков.
– Того, что поспокойнее, гнедого.
Васильчиков козырнул генералу и вышел. Заметив, что Милютин остался, Граббе недоуменно вскинул брови.
– Осмелюсь просить, ваше превосходительство, – несмело сказал Милютин.
– Говорите.
– Прошу назначить меня в отряд полковника Лабинцева, – выпалил Милютин.
– Не терпится в дело? – усмехнулся Граббе.
– Понимаю, понимаю. Это даже похвально, милостивый государь. Однако… Все же вы – офицер Генерального штаба, у вас другое предназначение.
– Мое предназначение – служить верой и правдой! – ответил Милютин.
– Вам бы следовало больше по теоретической части, – сомневался Граббе.
– Навоюетесь еще.
– Без практики и теория хромает, ваше превосходительство, – уговаривал генерала Милютин.
– Ну что ж, – сказал Граббе.
– Если вам так угодно.
– Премного благодарен, ваше превосходительство! – обрадовался Милютин.
– Я не подведу, обещаю.
– Ну, с Богом, – благословил поручика Граббе.
– Рад стараться! – козырнул Милютин и поспешил к своему новому командиру.
Генерал Граббе был доволен произведенным эффектом. Из своего прошлого опыта он не вынес ничего полезного для горной войны, нарушавшей все европейские правила. Зато по старой выучке тайного агента он хорошо знал цену тайным предприятиям, способным если не уничтожить противника, то хотя бы удивить его, застать врасплох, озадачить. Когда можно было употребить подобные способы, они всегда давали некоторое преимущество.
Граббе отужинал, а затем подписал приказ о назначении полковника Пулло начальником отрядного штаба. Покончив с этим, Граббе принялся сочинять воззвание, которое надлежало разослать по окрестным ичкерийским селам. В результате получилось грозное письмо, которое, как наделся Граббе, отобьет желание помогать Ташаву у кого угодно.
«Государь Император Всероссийский вверил мне управление всеми горскими племенами, обитающими между кордонною линией и Кавказским хребтом, – объявлял Граббе.
– И поручил мне употребить все способы, дабы сии народы жили в мире и спокойствии, исполняли Высочайшую волю, которая клонится к счастью и благоденствию всех. Между тем я узнал, что недостойный и низкий мюрид Шамиль, старый товарищ Кази-муллы, которого русские войска разбили под Гимрами, имеет среди ичкерийцев много друзей. Негодный Андреевский мулла, изменник Ташав-хаджи, обманывает вас, старается возмутить против русского правительства, успел набрать между вами партии, которые не хотят повиноваться Российскому государю и вместе с Шамилем убеждают всех жителей принять его шариат. Поэтому я прибыл сам в Чечню с отрядом для того, чтобы восстановить здесь спокойствие и законный порядок, уничтожить козни Ташава-хаджи, истребить до основания непокорные аулы и оказать милость и покровительство мирным жителям».
Глава 52
Через два часа из лагеря почти бесшумно вышел отряд Лабинцева и вскоре исчез в кромешной тьме. Майская ночь располагала к скрытным действиям, за низкими облаками не было видно ни луны, ни звезд. Только белевшая впереди папаха проводника и условные сигналы, напоминавшие тявканье лисицы, указывала отряду путь.
В полночь не забили барабаны и горны не запели «В поход!». Палаточный лагерь будто сам собой растворился в ночи, пронизанной звоном цикад.
В дело против горцев стремились все, но не всем повезло. Уходившие в ночь лишь жалели, что приказано было молчать, и они не смели подтрунивать над оставшимися в резерве. Батальон за батальоном, войска уходили в опасную темноту. Оставшиеся сочли за лучшее перебраться в крепость.
Ефимка, которого опять не взяли в дело, плакал от досады. А музыканты Развадовского, разучившие специально для похода новые песни, с недоумением взирали на отряд, который уходил на важное дело, не нуждаясь в их сопровождении. На этот раз батальонам хватало своих горнистов, да и те были под ружьем.
Летучий отряд полковника Лабинцева двигался без остановок, несмотря на почти непроходимый лес. Проводник вовремя предупреждал, когда на пути были реки или неподалеку располагался аул. Тогда отряд замедлял ход, чтобы миновать преграду без шума, или обходил аул стороной, чтобы чужих не учуяли собаки.
То, что отряд не подвергался обстрелам или не попадал в засады, убедило Лабинцева, что проводник знал свое дело. Полковник торопил свой отряд, надеясь к рассвету выйти к урочищу Ахмат-тала, где, как уверял проводник, находилось укрепление Ташава-хаджи.
Лесную тропу отряд прошел без выстрела, никто ему не препятствовал. Только ветви держидерева, усеянные когтистыми шипами, яростно хватали пришельцев за руки, цеплялись за одежду, срывали фуражки и раздирали в кровь крупы лошадей. Но ничего не могло остановить Лабинцева, почуявшего удачу.
Они не прошли еще и половины пути, а Милютин уже чувствовал себя опытным воином. Эту ночную вылазку он воспринимал и как экзамен, и как повод для развития военной науки. Он наблюдал за действиями Лабинцева и повторял за старыми солдатами их приемы. По уставу егерям полагалось носить за спиной ранцы, но солдаты предпочитали им походные холщевые мешки. Егерям полагались короткие палаши, а тут у всех почти были кинжалы. Милютин старался все примечать и всему находить разумные объяснения. Не мог он понять только одного: тьма – хоть глаз выколи, а отряд двигался довольно быстро, будто у всех, кроме Милютина, были кошачьи глаза, видевшие и в темноте. Ни одного вскрика, ни слова брани не услышал Милютин в этом тяжелом пути через густой лес, который и днем-то был весьма труден для движения. Но вскоре и сам он стал различать дорогу, валуны, опасности, научился их бесшумно обходить и не отставать от бывалых солдат. В Милютине будто просыпались дремавшие доселе силы, его переполняло неизвестное раньше ощущение родства с дикой природой, с живущими в этих чащобах зверями и птицами. А все внешнее, светско-притворное и до нелепости ненужное для настоящей боевой жизни сходило с него, как шелуха, как клочья старой волчьей шерсти, сдираемые цепкими колючками держидерева. Из этой непроглядной темноты на Милютина смотрела другая, неизведанная жизнь со своей правдой и своими законами. И была эта жизнь волнующе притягательна и свежа.
Едва занялся рассвет, а отряд Лабинцева уже стоял в лесу поблизости от своей цели. Коней оставили за версту, чтобы их ржание не выдало отряд.
Полковник Лабинцев был известен твердостью характера и хладнокровием, которое скрывалось под внешней мягкостью и склонностью не сразу принимать решения. Зато, если цель была точно указана, он не останавливался ни перед чем. Его Кабардинский полк чаще других оказывался в арьергарде, потому что отступать в горах труднее и опаснее, чем наступать. Но на этот раз полковник решил показать, на что он способен, находясь в авангарде.
Лабинцев презирал академические правила ведения войны, не признавал колонной тактики и предпочитал свою, основой которой были перенятые у горцев рассыпной строй и стремительные набеги. Кавказ диктовал свои правила, и тот, кто хотел здесь выжить, должен был им следовать.
Полковник дал отряду отдых перед штурмом. Тем временем его разведчики осматривали местность. Лабинцев и сам подобрался к опушке, чтобы получше разглядеть укрепление.
– Ахмат-тала, – указал проводник, а затем добавил: – Мюриды.
Укрепление оказалось небольшим и стояло на холме между лесистыми оврагами. Оно было квадратным и защищалось двойными бревенчатыми стенами, как артиллерийский редут. Из-за стен выглядывала такая же бревенчатая башня. Еще одна башня, поменьше, защищала вход в укрепление. Лес вокруг был вырублен на ружейный выстрел. Из этого-то леса, по-видимому, и было построено укрепление.
Все было тихо. И, если бы не двухконечное знамя, водруженное над главной башней, могло показаться, что в укреплении никого нет. Лабинцев показал на знамя проводнику и тихо спросил:
– Его значок?
– Ташав, – подтвердил проводник.
Главный отряд под предводительством Граббе двигался по дороге, огибавшей открытые долины рек Ярыксу, Ямансу и Аксай с севера, вдоль подошв Ауховских гор. Генерал торопил войска, которые и без того шли довольно быстро. Они двигались бы еще скорее, если бы не огромные деревья, которыми кто-то преграждал дорогу.
Граббе рассылал вестовых и штабных адъютантов, требуя, чтобы войска шли правильным строем, но из этого ничего не выходило. В темноте одни батальоны напирали на другие, казаки носились вообще без всякого порядка, а артиллерийский обоз то сбивался в кучу, когда ломалось колесо у повозки, то растягивался, занимая всю дорогу и мешая остальным. О скрытном движении уже никто не помышлял. Отряд давно был замечен, а истошно лаявшие собаки сопровождали его уже несколько часов.
Генерал был рассержен. И не столько из-за препятствий, сколько из-за того, что Ташав вынудил его уклониться от главного направления, от главной цели, ради которой Граббе прибыл на Кавказ. Он мнил себя кавказским Ганнибалом, но то, чем он теперь занимался, казалось ему досадным недоразумением, ничтожным делом, которое не сулило ему ни славы, ни наград. Но все же это было первым его делом, которое надлежало исполнить внушительно и с блеском, так, чтобы оно не утонуло среди будущих его подвигов.
– Однако Ермолов стяжал славу, не отказываясь и от таких походов, – утешал себя Граббе, но и тут его посещали сомнения: – Какая слава? Слава его осталась в Европе да при Бородино. А тут этот кумир прапорщиков так увяз, что проморгал персов, которые чуть не взяли Тифлис. Да еще с декабристами миндальничал.
Как бы то ни было, а обезопасить себя с тыла было крайне необходимо. И Граббе прикидывал в уме, как впечатляюще он опишет сей кинжальный карающий удар по злоумышленнику Ташаву в реляции Чернышеву.
Иногда колонну обстреливали из темноты, и тогда войска отвечали тысячекратными ответными залпами, включая артиллерию.
– Кто? Где? – мчался выяснять адъютант Граббе Васильчиков.
Но все были заняты стрельбой, причем делали это весело, с прибаутками, будто получая от пальбы удовольствие. Наконец, Васильчиков нашел старого солдата, который преспокойно курил трубку, устроившись на старом, поросшем мхом пне.
– Что тут у вас? – кричал ему взволнованный Васильчиков.
– Стреляют, ваше благородие, – отвечал солдат, нехотя поднимаясь со своего пня.
– Сам вижу! – кричал Васильчиков, беспрестанно оглядываясь в ожидании, что вот-вот из чащи нахлынут горцы.
– Так где они? В кого стреляют?
– В небо, – отвечал бывалый солдат.
– А ежели и был какой абрек, так его давно след простыл.
Васильчиков сообразил, что это не битва, а пустая потеха, и помчался докладывать генералу.
– Отставить! – приказывал Граббе, который и сам уже понял бесполезность этой шумной трескотни.
Но пальба разгоралась еще сильней, пока Васильчиков не находил командиров, чтобы передать им приказ генерала.
– Не стрелять! – неслось по рядам.
– Беречь заряды!
Стрельба постепенно стихала, но через версту-другую картина повторялась. Стычки с невидимым противником не наносили отряду особого вреда, была лишь убита артиллерийская лошадь, но перепалки ощутимо задерживали движение.
Устав бороться с этим хаосом, Граббе приказал сделать привал у ближайшего аула. Это был Старый Аксай на одноименной реке, вдоль которой, свернув налево, отряду предстояло двигаться дальше.
Аул не подавал признаков жизни, то ли еще не проснувшись, то ли затаившись перед неожиданно явившейся перед ним грозной силой. Граббе не сомневался, что препятствия, чинившиеся отряду в пути, были делом рук аксаевцев. Но нападать на аул у генерала не было ни времени, ни желания. Ему нужен был Ташав-хаджи, один из главных сподвижников Шамиля. Граббе ограничился лишь выставлением охранных цепей, окружив ими лагерь в два ряда.
Пока денщик накрывал походный стол, Граббе послал Васильчикова с приказанием не разбивать палатки и не ставить повозки в вагенбург – в виде временного укрепления. И чтобы господа командиры привели свои войска в надлежащий строгий порядок. После короткого отдыха, напоив лошадей и подкрепившись, предстояло идти дальше, на соединение с летучим отрядом Лабинцева.
Васильчиков помчался исполнять приказание. За эту ночь он почувствовал себя важным человеком. Он был как бы приводным ремнем между генералом и его войском, и от усердия Васильчикова, от точности, с какой он передавал распоряжения главного командира, зависело теперь очень многое. Но за этот небольшой переход Васильчиков смертельно устал. Его изнеженность и европейские привычки плохо сочетались с ночными маршами по ужасным дорогам. Тифлис, который Васильчиков так опрометчиво покинул, казался ему теперь Парижем по сравнению с тем, что его окружало здесь. Однако адъютант старался не подавать вида, он желал делом доказать, что Граббе не зря обратил на него внимание и что бывалые командиры напрасно посмеиваются над его рвением, потому что он, князь Васильчиков, – не какой-нибудь «фазан», мечтающий урвать награду и бежать с Кавказа при первой возможности.
Все эти мысли роились в голове молодого офицера, тесня одна другую, как батальоны на марше. А порой ему хотелось совершить какой-нибудь подвиг. Или хотя бы сообщить всем, что он придумал, как надо воевать с горцами и как взять самого Шамиля, а не то что Ташава.
– Я знаю! – убеждал Васильчиков себя, потому что остальные еще не принимали его всерьез.
– Я докажу! Я читал у Марлинского!..
Глава 53
Уже забрезжил рассвет, когда отряд Граббе снялся с места и форсированным маршем двинулся по лесистой долине реки Аксай в направление аула Мескеты, где предполагалось расположение укрепления Ташава-хаджи.
Васильчиков нетерпеливо выезжал вперед с казачьей разведкой и поднимался на возвышенности, чтобы обозреть местность по ходу движения отряда. Картины природы его восхищали, а движущийся среди этой девственной роскоши неуклюжий отряд приводил в умиление. Васильчикова не останавливала опасность быть подстреленным, но кружившие над отрядом стервятники, будто чуявшие скорую поживу, навевали тревожные предчувствия.
Граббе смотрел на все это иначе, более рационально: деревья – на дрова и постройки укреплений, ветки – на туры и фашины, трава – на корм лошадям. А стервятники – что ж, они тоже необходимы, война без жертв – не война.
Солнце понемногу вступало в свои права, утро становился светлее, и теперь Лабинцев разглядел вокруг крепости завалы. Деревья, огромные пни и камни громоздились на всех подступах, образуя несколько рядов обороны. Но ни это беспокоило Лабинцева, а то, какое безмятежное спокойствие царило в укреплении. Ни караульных, ни часовых, ни других мюридов не было видно. Только сиротливо торчало из амбразуры главной башни дуло медного фальконета. Эта небольшая пушка смотрела в сторону дороги, которая подходила к укреплению с обратной стороны от того места, где притаился Лабинцев. Было похоже, что возможное нападение предполагалось лишь оттуда, а из непроходимого леса опасности никто не ждал.
– Куда дорога? – спросил Лабинцев.
– Аксай-река, – ответил проводник, показывая рукой.
– Близко.
– А Мескеты? Где сам аул? – продолжал рекогносцировку Лабинцев.
– Тоже там, – шепнул проводник.
– От Мескеты хорошая дорога есть.
– До Внезапной? – уточнил Лабинцев, хотя и сам уже догадался, что это та самая дорога, по которой должен явиться главный отряд Граббе.
– Да, – кивнул проводник.
Лабинцев заключил, что это не главная ставка Ташава, а нечто вроде форта, заставы, где мюриды укрывались после своих вылазок на Линию. Но при необходимости здесь мог быть и сборный пункт, к которому собирались ополченцы. В любом случае оставлять его в тылу было небезопасно.
Лабинцев велел осторожно подкатить горные орудия и зарядить их картечью. Егерям было приказано приготовиться к атаке, а спешившихся казаков Лабинцев послал обойти укрепление, чтобы атаковать его с нескольких сторон.
Когда все были на местах, Лабинцев вынул шашку и скомандовал:
– Пли!
Ташав-хаджи и бывшие с ним горцы заканчивали предрассветную молитву, когда, разорвав тишину, грянули пушечные выстрелы.
Деревянная крепость содрогнулась, сквозь потолок посыпалась пыль. Однако бревенчатые стены были достаточно прочны и остались целы.
Нападения не ждали, а потому на молитве были все, включая караульных. Наиб только свел брови, но молитву не прервал, полагаясь на волю всевышнего. И только закончив положенный ритуал, Ташав поднялся и сказал мюридам:
– Они пришли сюда. Встретим же их, как надо!
Крепость ожила. Гарнизон занимал оборонительные позиции. Тем временем пушки сделали еще один залп. На этот раз стреляли зажигательными гранатами.
– За мной! – гаркнул Лабинцев, первым бросаясь на штурм.
Отряд со штыками наперевес двинулся на укрепление. В дыму и грохоте солдаты преодолевали завалы и уже лезли на стены укрепления, когда затрещали ответные выстрелы. Горцы отбивались, опрокидывая первые ряды егерей.
Укрепление защищало около сорока человек. Эта была часть отряда Ташава-хаджи, которая устраивала диверсии на дорогах и беспокоила лагерь под Внезапной. Против отряда Граббе их было слишком мало, но численный перевес противника горцев только вдохновлял – тем вернее летели их пули. К тому же мюриды никогда не покидали своих позиций, не получив приказания от наиба.
Изобретатель Магомед, не сумевший сделать пушку сам, но обещавший Шамилю где-нибудь ее добыть, состоял при трофейном фальконете. Сообразив, откуда атакуют, он оттащил лафет с пушкой от одной амбразуры и подкатил его к противоположной. Пушка выстрелила, вырвав из рядов нападающих несколько человек, но волны штурмующих продолжали накатываться одна за другой.
В нескольких местах деревянные постройки охватило пламя, загорелась и малая башня. Лабинцев ожидал, что теперь горцы сдадутся, но вместо этого они сваливали на егерей горящие бревна. Тогда по знаку Лабинцева горнист подал сигнал казакам, и те бросились на укрепление с тыла.
Фальконет сделал еще один выстрел, и в ответ раздался новый залп пушек, которые уже стояли на поляне и били прямой наводкой.
Егеря перелезали через стены. Штыки сошлись с саблями. Вокруг крепости и внутри ее падали убитые. Раненые, которые еще могли двигаться, заряжали ружья для своих товарищей.
– Стреляй же, Магомед! – кричал Ташав пушкарю.
– Нечем! – горестно отвечал Магомед.
– Ядра кончились!
– Тогда брось им ее на голову!
– Бросить пушку? – Магомед не верил своим ушам.
– Тебе твоя голова дороже или чужая? – кричали мюриды, отбиваясь от наседавших егерей.
Новый залп орудий пронзил укрепление огненным смерчем. Все заволокло черным дымом. Воспользовавшись моментом, Магомед подкатил пушку к амбразуре, выходившей на горящие стены, с трудом снял пушку с лафета и выбросил ее наружу.
Когда дым немного рассеялся, солдаты увидели горца, который волок на веревке что-то тяжелое в сторону леса. Егерь бросился его догонять, но, не добежав несколько шагов, упал, сраженный пулей, посланной из укрепления. Через мгновенье Магомед скрылся в лесу, таща за собой тяжелый фальконет.
Часть укрепления вместе с малой башней пылала, превращаясь в огромный костер. В горячке боя Милютин пробирался к главной башне. Он мечтал захватить знамя, полагая, что это и есть главная доблесть в схватке с противником. Он ворвался в башню и лихорадочно оглядывался, не находя лестницы. Поручик не сразу понял, что лестницей служило толстое бревно с вырубленными в нем ступеньками, которое стояло в углу и наискось упиралось в крышу.
Милютин, падая и вновь влезая по столбу, добрался до крыши и высунулся из амбразуры, надеясь дотянуться до знамени. Но Ташав, руководивший обороной в паузах между рукопашными схватками, его заметил. Ружья, лежавшие вокруг, были разряжены. Тогда Ташав выхватил свой пистолет, который доставал только в крайних случаях, и выстрелил. Пуля попала Милютину в правое плечо. Сначала он почувствовал только сильный толчок, потом увидел, как мундир заливает кровь, и только затем его пронзила невыносимая боль. Милютин осел и потерял сознание.
Казаки почти выбили ворота, когда из близлежащего аула Мескеты к осажденным подоспела подмога. Казаки бросили укрепление и двинулись навстречу ополченцам. Встреченные большой силой, горцы засели в лесу и завязали с казаками перестрелку. Отвлекая противника, они хотел помочь уйти осажденным, потому что защищать охваченное пламенем укрепление уже не имело смысла. Воспользовавшись ситуацией, несколько защитников укрепления перебирались через стены и бросились в лес.
Тем временем горцы все прибывали, окружая теперь уже отряд Лабинцева. Они занимали завалы, укрывались за деревьями и вели частый ружейный огонь. Пушки били по ним картечью, но она только рубила ветки, не причиняя горцам особого вреда. Временами они сами, воодушевляясь пением молитв, выскакивали из леса и бросались на солдат врукопашную.
Отряд Граббе прошел мимо двух аулов, располагавшихся на противоположной стороне реки, затем миновал еще один и приближался к Мескеты. Вскоре генерал явственно услышал грохот пушек, а затем увидел поднимавшиеся над лесом, слева от аула, клубы черного дыма.
– Молодцом, Лабинцев! – торжествовал Граббе.
– Сумел-таки! – удовлетворенно кивал Пулло.
Прискакал взволнованный Васильчиков с важной новостью.
– Лазутчики доносят, что укрепление обложено и горит, – доложил адъютант.
– Это не новость, – ответил Граббе.
– Скажите лучше, взято или нет?
– Вот-вот возьмут, – сообщил Васильчиков.
«Вот-вот» Васильчикова Граббе не понравилось. Генерал считал, что на войне этого быть не должно. Тем более в такой непривычной обстановке, где все могло измениться каждую минуту.
– Кавалерия, рысью, марш! – приказал генерал.
И казаки во главе с Пулло очертя голову бросились вперед. За ними загромыхала конная артиллерия. Следом Граббе послал пехоту, велев ей бежать, пока не доберется до места. Солдаты свалили свои мешки у обоза и побежали налегке. И тем, и другим Граббе приказал не останавливаться ни перед чем для довершения дела, столь успешно начатого полковником Лабинцевым. А затем и сам, окруженный свитой штабных и конвоем, поскакал к урочищу.
Большая часть укрепления пылала, а вокруг продолжалась жаркая перестрелка. Окружившие Ташава силы Лабинцева сами оказались окруженными.
Но тут в спину ополченцам ударили силы главного отряда Граббе. Все смешалось. Стрельба, крики и стоны заполнили все вокруг. Теснимые превосходящими силами, ополченцы начали отступать в лес.
В охваченном пламенем и дымом укреплении мюриды все еще сопротивлялись, заняв позиции за уцелевшими стенами. Вдруг со страшным скрежетом рухнула малая башня, рассыпав вокруг обуглившиеся, чадящие обломки.
– Надо уходить! – кричал Ташав.
– Не то сгорим заживо!
Пока одни мюриды продолжали отстреливаться, другие бросились выводить из дымящейся уже конюшни испуганно ржавших коней.
– Мы еще встретимся с ними, – пообещал Ташав, вскакивая на коня.
– Тогда пушки им не помогут.
Когда сами собой стали рушиться обгоревшие стены, солдаты отступили от укрепления, ожидая развязки. Но из окутанного дымом пролома вдруг начали вылетать всадники, прокладывая себе путь шашками. Опомнившись, войска открыли по ним огонь. Под одним всадником разорвало ядром лошадь, и он был заколот штыками. Другого, пронзенного пулей, лошадь потащила за собой. Остальные исчезли в лесу. За Ташавом-хаджи бросили погоню, но она была встречена дружными залпами из-за лесных завалов.
Перестрелка постепенно стихла. Выставив заградительные цепи, отряд стягивался к укреплению. Пока одни разрушали догоравшие стены, другие искали убитых и раненых.
Когда к месту подоспел Граббе, он увидел Милютина, которого солдаты несли на ружьях, как на носилках, постелив найденную в укреплении бурку.
– Постойте! – велел Граббе, сходя с коня.
Солдаты остановились. Граббе печально оглядел залитого кровью поручика и произнес:
– Дмитрий Алексеевич…
– Ваше превосходительство, – прошептал Милютин, открывая глаза и порываясь встать.
– Жив! – обрадовался Васильчиков.
– И слава Богу, – перевел дух Граббе, удерживая Милютина на носилках.
– Как же вас угораздило, голубчик?
– Сам не знаю, – с трудом улыбался Милютин.
– В плечо ранен, – сказал санитар.
– Навылет.
– С башни сняли, ваше превосходительство – сообщил солдат.
– На самый верх залез. Видать, хотел значок снять.
Граббе поднял глаза на уцелевшую башню и увидел над ней знамя.
– Сорвать, – велел он Васильчикову.
– Будет исполнено! – козырнул адъютант и скрылся в дыму.
– Немедленно в лазарет, – велел Граббе солдатам.
– И смотрите у меня, чтобы был как новый!
– Срастется! – пообещал санитар, уходя вслед за носилками и подкладывая под мундир Милютина корпию.
Проводив глазами поручика, Граббе принялся оглядывать взятое укрепление, вернее, то, что от него осталось. Он хотел войти, но, увидев бритую окровавленную голову горца, лежавшего у башни, остановился.
Из рухнувших ворот появился черный от дыма Пулло с шашкой в руке.
– Осмелюсь доложить, ваше превосходительство… – устало начал Пулло.
– Браво, полковник, – прервал его Граббе и пожал Пулло руку.
– Отменное вышло дело, – согласился полковник.
– Жаль только, Ташав ушел.
– Как ушел? – изумился Граббе.
– Бог его знает, – в сердцах рубанул шашкой воздух Пулло.
– Прорвался, дьявол.
– Дас, – мрачно заключил Граббе.
– Ура! – кричал Васильчиков, размахивая снятым с башни знаменем наиба.
– Наша взяла!
Но, увидев мрачных командиров, сразу сник и опустил знамя.
– За такую победу царь не похвалит, – предрек Граббе.
– Достанем еще, – пообещал Пулло, вкладывая шашку в ножны.
– Он, полагаю, в Саясан ушел, в ставку свою, – предположил появившийся Лабинцев.
– Значит, и нам туда же. Дороги известны? – спросил Граббе.
– Найдем, – кивнул Лабинцев.
– Они теперь через Балансу пошли, мы там рядом проходили ночью.
– Главное – не дать ему опомниться, – сказал Граббе.
– А непокорные деревни, которые ему содействуют, надобно примерно наказать.
– Как насчет убитых прикажете, ваше превосходительство? – спросил Пулло, умывая лицо из походной фляжки.
Граббе оглянулся. Убитых относили на край поляны, где стояли санитарные телеги с ранеными.
– Много? – спросил Граббе.
– Не считали еще, но есть.
– Отправить назад, – велел Граббе.
– Но ведь война, ваше превосходительство, – сказал Лабинцев.
– Обычно мы хороним убитых на месте, а сверху – костер.
– Как – костер? – не понял Граббе.
– Чтобы не нашли, – пожал плечами Пулло.
– А если отправлять, то к обозу еще и конвой надобен. Отсюда, может, и доедут, а после – как?
Убитых и раненых решено было отправить под охраной во Внезапную. Доктор настаивал, что Милютину тоже надо в лазарет, в покой, так как пулей была повреждена кость, но поручик отказывался покинуть отряд.
После окончательного разрушения укрепления отряду был дан отдых.
Вскоре явились старейшины от местных аулов, прося выдать тела убитых.
– А ведь я предупреждал вас, – гневался Граббе.
– Не вняли! Вот и навлекли беду.
Старики молчали, угрюмо поглядывая на сожженное укрепление.
– Надеюсь, хоть теперь образумитесь! – сказал Граббе.
– Иначе ваши аулы ждет та же участь!
Тела были выданы в обмен на обещание не содействовать Ташаву-хаджи и не принимать у себя мюридов Шамиля.
Егеря, рыскавшие в лесу в поисках оставшихся мюридов, никого не нашли, зато притащили убитого шальной пулей оленя. Тушу тут же разделали и развели костер, навалив на него ветви ненавистного держидерева. Нажарив сочных, душистых шашлыков, офицеры устроили пир в честь взятия укрепления. Остальное отдали солдатам, а сверх того им была выдана двойная винная порция.
На следующее утро, когда санитарный обоз изготовился к отбытию, Граббе снова посоветовал Милютину отправиться во Внезапную, в лазарет, не подвергая свое здоровье излишнему риску.
– Позвольте остаться, ваше превосходительство, – настаивал Милютин.
– Одумайтесь, поручик, – ответил Граббе.
– На ваш век походов хватит.
– Я отлично себя чувствую! – уверял Милютин и через силу шевелил пальцами висевшей на перевязи руки.
Однако Граббе беспокоило то, что дальнейший путь был куда более опасен и отправлять транспорты во Внезапную было бы уже невозможно.
– Значит, вы уверяете, что идете на поправку? – спросил Граббе.
– Так точно, ваше превосходительство!
В доказательство своего выздоровления Милютин представил Граббе карту дела при урочище Ахмат-тала с указанием позиций противников, завалов, хода боевых действий и укрепления Ташава-хаджи, каким оно было до взятия. Причем укрепление было изображено и отдельно с показом профиля сооружения.
– Когда же вы это успели? – удивился Граббе, разглядывая подробнейшую карт у.
– Не спалось, ваше превосходительство.
Это был ценный документ, который мог очень пригодиться Граббе при составлении рапорта начальству. Да и сами рапорты с помощью Милютина выходили отменные, не говоря уже о записях в журнале военных действий отряда, ведение которого входило в обязанности Милютина как офицера Генерального штаба.
– Ну что ж, – как бы нехотя согласился Граббе.
– Только обещайте, что не будете понапрасну лезть в пекло.
– Слово офицера, – засиял Милютин.
– И запомните, – наставлял Граббе.
– Излишняя храбрость бывает губительна, если не сопряжена с благоразумием.
– Запомню, ваше превосходительство, – пообещал Милютин.
Написание рапорта на этот раз было поручено Васильчикову, которому помогал советами Милютин. Они устроились в генеральской палатке и приводили в надлежащий вид то, что диктовал Граббе:
– В сем деле с нашей стороны ранены гвардейского Генерального штаба поручик Милютин, Кабардинского полка штабс-капитан Генуш и нижних чинов двадцать два. Контужены: Навагинского полка подполковник Быков и Кабардинского полка подпоручик Китаев и нижних чинов семь. Убито: рядовых четыре и унтер-офицер один, ранено и убито четыре лошади. Потери неприятеля по собранным сведениям весьма значительны, в наших руках остались шесть тел, исколотых штыками, и двое пленных. Сверх того отняты: лафет из-под фальконета (самое орудие горцы успели увезти), оружие и одежда Ташава-хаджи и многих абреков, знамя, подаренное Кази-муллою, при котором собирались всегда мюриды, и некоторое количество продовольственных запасов.
Граббе не хотел открывать Васильчикову тонкости составления подобных рапортов, в которых преуменьшение потерь и приукрашивание побед считалось чуть ли не обязательным делом. А потому генерал заранее изменил реальные потери и обстоятельства, которые были представлены Пулло и Лабинцевым. Двенадцать убитых и тридцать пять раненых – это показалось Граббе досадным недоразумением, учитывая не слишком впечатляющий результат. Тем более что бой у Мескеты никак нельзя было раздуть до масштабов Ватерлоо. Это Граббе решил оставить для более подходящего случая.
Обоз ушел по тому же пути, по которому пришел отряд Граббе. А войска двинулись через лес к аулу Балансу, мимо которого прошел летучий отряд Лабинцева. Аул стоял недалеко от реки Ямансу, вдоль которой предполагалось пойти на север, к верховьям реки, а оттуда свернуть к Саясану, где, по имевшимся сведениям, и находилась главная ставка Ташава-хаджи.
Глава 54
Ахульго теперь считалось официальной столицей Имамата, и сюда отовсюду шли люди. Одни, откликнувшись на призыв Шамиля, сами покидали родные аулы, создавая пустыни на пути надвигавшихся войск. Другие оставляли насиженные места после боев с неприятелем. А колеблющихся мюриды выселяли силой. Аулы пустели, разрушались, горели, и люди превращались в беженцев. Многие уходили выше в горы, к своим родственникам и кунакам. А те, кого нигде не ждали, приходили к имаму.
Шамиль не успевал принять одних, как являлись другие старшины джамаатов. Шамиль старался их обнадежить и отдавал необходимые распоряжения секретарю Амирхану. Повеления Шамиля, касалось ли оно еды или другой помощи, тут же исполнялись мюридами, о чем Амирхан делал запись в специальной книге.
Люди нуждались в помощи. Они поднимались на Новое Ахульго, располагались на Старом или разбивали шатры в садах Ашильты в ожидании решения своей участи. Приходили целыми аулами. Ахульго превращалось в огромный лагерь. Дни уже были теплые, но ночью люди мерзли, и их нельзя было долго оставлять без крыши над головой. Кого-то, особенно детей, удавалось разместить в ахульгинских жилищах, в мечети или в уцелевших домах Ашильты. Но места для всех уже не хватало, а поток переселенцев-мухаджиров не иссякал. Тогда Шамиль призвал своих наибов и велел им устроить мухаджиров в своих обществах.
Когда Шамиль вышел из резиденции проводить очередного старейшину, хлопотавшего о своем джамаате, то увидел своего старого друга, которого давно ждал. Это был наиб Андалальского общества Омар-хаджи Согратлинский. Он был немного нескладен телом, но в глазах Шамиля был красивее многих, потому что был известен большой ученостью и бесстрашием истинного воина. Если ему что-то поручалось, он думал не о том, сумеет ли это исполнить, а о том только, как сделать больше, чем от него ждал Шамиль.
Согратль, откуда прибыл Омар-хаджи, был знаменитым аулом ученых и храбрецов, зодчих и умелых торговцев. Согратлинцы с самого начала поддерживали имамов, твердо держались шариата и были надежным бастионом на границе Имамата с Кази-Кумухским ханством. Многие приходили в Согратль, чтобы учиться у знаменитого алима Абдурахмана-хаджи Согратлинского.
После обычных приветствий Омар-хаджи сказал:
– Прости, что не явился сразу, как только получил твое повеление, имам.
– Значит, на это были серьезные причины, – ответил Шамиль.
– Обустраивали беженцев, которые пришли от тебя, – объяснял Омар-хаджи.
– Люди приходят и из других мест, у многих есть кунаки в наших селах.
– Такие времена, – сказал Шамиль.
– Люди оставляют свои аулы не от хорошей жизни. Потерпите.
– Принять гостей – дело богоугодное, – улыбнулся Омар-хаджи.
– Что мы имеем, то будут иметь и они.
– Пойдем в дом, – сказал Шамиль.
– Тебе нужно отдохнуть и поесть.
– Спасибо, имам, – вежливо отказывался наиб.
– Очень хочется посмотреть, что сотворил здесь Сурхай, да будет доволен им Аллах.
Омар-хаджи восхищенно оглядывал Ахульго, а затем спросил, указывая на Щулатлул-гох:
– Это и есть Сурхаева башня?
– Она самая, – кивнул Шамиль.
– Машаалла! – восторгался Омар-хаджи.
– Да тут целая крепость!
– И под землей тоже, – добавил Шамиль.
– Пойдем, прошу тебя. А посмотреть, что тут и как, ты еще успеешь.
Они спустились в подземное жилище Шамиля и расположились в кунацкой. Наиб не переставал удивляться и шутил:
– Некоторые наибы живут лучше имама.
– Сказать по сердцу, я тебе завидую, – согласился Шамиль.
– Но не потому, что ты живешь в красивом доме, а я в подземной келье. А потому, что Согратль наполнен благодатью, исходившей от великого шейха и исходящей от больших ученых, живущих там и ныне. А я здесь лишен такого счастья.
Шамилю хотелось поговорить с Омар-хаджи еще о многом, но он вспомнил, что перед ним не только его наиб и известный алим, но и гость, проделавший немалый путь.
– Есть кто-нибудь в этом доме? – позвал Шамиль.
Дверь приоткрылась, и в кунацкую заглянула Джавгарат со спящим ребенком на руках.
– С благополучным приездом, – поздоровалась она с наибом, опустив глаза.
– Моего брата нужно хорошенько накормить, – сказал Шамиль.
– И побыстрее!
Но Джавгарат осталась стоять на месте. Только испуганно посмотрела на Шамиля и снова опустила глаза.
– Что с тобой? – не понял Шамиль.
– Ты слышала, что я сказал?
– Да, – кивнула Джавгарат.
– Чего же ты стоишь?
– У нас ничего нет, – смущенно произнесла Джавгарат, краснея от стыда перед гостем.
– Как это? – растерянно спросил Шамиль.
– Ты в своем уме?
– На Ахульго пришло столько людей, – объясняла Джавгарат.
– А дети их были голодны. Мы все отнесли им, даже последний мешок муки отправили в пекарню.
– И правильно сделали, – вступился за Джавгарат Омар-хаджи.
– Верно, имам?
– Да, но… – огорченно покачал головой Шамиль.
– Я послала брата в Чиркату, чтобы привез чего-нибудь, – ответила Джавгарат.
– Он скоро вернется.
– Ты разве не знаешь согратлинцев? – улыбнулся Омар-хаджи, вставая.
– Да у меня с собой столько припасов, что на всех хватит.
– Погоди, Омар-хаджи, – пытался удержать его Шамиль.
– Что-нибудь и у нас найдется.
– Лучше попробуйте нашей еды! – сказал Омар-хаджи, выходя из кунацкой.
Шамиль с укоризной взглянул на жену.
– Все так сделали, – сказала Джавгарат и ушла, опустив голову.
Шамиль опять вспомнил Согратль, с которым у него было связано много хорошего в жизни. Там свои последние годы прожил и шейх Магомед Ярагский, обновитель веры и духовный вождь горцев. Когда Ярагский завершил свой земной путь, для Шамиля будто померк свет. Будто затворилась пещера, когда он осознал, что уже не увидит своего учителя, не получит от него письма и ему не у кого будет искать ответа на неразрешимые для него вопросы.
После похорон шейха опечаленный Шамиль предался уединению. Он исступленно молился и просил всевышнего о милости к душе Магомеда Ярагского, который говорил, что ислам означает открыть свое сердце Богу и не причинять зла ближнему. И теперь каждое упоминание о Согратле вызывало в душе Шамиля особенно сильные чувства.
Два года назад, когда Фезе обложил Шамиля в Телетле, шейх прислал имаму письмо. Он делал это всякий раз, когда не мог явиться сам, чтобы поддержать Шамиля и его воинов. Ярагский будто читал мысли имама, и письма его приходили, когда Шамиль особенно нуждался в помощи, но ему не у кого было спросить совета.
Это письмо Шамиль часто перечитывал, и каждый раз ему казалось, что Магомед Ярагский незримо присутствует где-то рядом. Шейх писал ему, что трудности лишь укрепляют веру и что Шамиль должен полагаться на великую силу – Золотую цепь шейхов, восходящую к самому пророку. «Всегда держи с нами связь, – наставлял шейх.
– И ты победишь».
Письмо шейха также предопределяло, что имамство Шамиля и его жизнь не окончатся ни в Телетле, ни на Ахульго, сколько бы сил ни было у его врагов. Сражение при Телетле обернулось отступлением Фезе и подписанием мира с Российским государством. Мира, который нарушил Граббе. Но Шамиль чувствовал, что и Граббе не добьется того, за чем явился.
Перечитывая драгоценные строки, Шамиль старался заново постичь каждое слово наставника, потому что лучше других знал, что это не просто слова. Каждое из них могло быть ступенькой, по которой посвященный восходил к истинам, не доступным для понимания простыми людьми. Это был язык избранных, где даже пустоты между словами могли означать больше, чем целые книги, сочиняемые невеждами. Немощный телом, шейх был могуч духом и умел наделять имамов особой силой.
– Всегда держи с нами связь, – повторял Шамиль и размышлял: – Я ведь так и делаю, стараюсь делать. А «с нами» означало, что святой шейх призывал на помощь своих великих предшественников, что он предвидел свое расставание с этой жизнью и сообщал о том, что ему известен его приемник – новое звено Золотой цепи.
Шамиль знал только одного человека, который был способен продолжить дело Ярагского. И это вскоре подтвердилось: следующим звеном Золотой цепи, шейхом Накшибандийского тариката стал потомок рода пророка Джамалуддин Казикумухский, которому Ярагский передал руководство орденом.
Джамалуддин был одним из учителей Шамиля, в честь которого он назвал своего старшего сына. Имам, как и многие другие, верил, что в Джамалуддине отразилась благодать пророка, наделившая шейха необычайной духовной силой.
Когда Омар-хаджи вернулся с головкой сыра, обернутого душистой травой, кувшином меда и большим круглым хлебом, Шамиль этого даже не заметил. Он был поглощен письмом и своими размышлениями.
Омар-хаджи осторожно положил гостинцы на стол и вышел.
Шамиль мог бы еще часами наслаждаться благодатными строками шейха, но его ждали люди. Он спрятал письмо и только теперь увидел, что на столе ждет еда. Но Омара-хаджи не было.
Шамиль убрал письмо и вышел на Ахульго. Здесь он увидел, что Омар-хаджи беседует с белобородыми старцами. Когда к ним подошел Шамиль, сопровождаемый Юнусом и Султанбеком, старики уважительно поздоровались, а Омар-хаджи сказал:
– Думаю, их людей мы тоже примем в Согратле, а остальных разместим в соседних селах.
– Там вам будет хорошо, – заверил Шамиль.
– Дай Аллах здоровья имаму и его наибам, – согласно закивали старики.
– Наши дети тоже в мюридах.
– Скажите своим людям, чтобы собирались, – сказал Омар-хаджи и пошел за Шамилем, который хотел узнать, как идут дела у других наибов.
– Брат мой Омар-хаджи, – сказал вдруг Шамиль.
– Я прошу тебя остаться здесь, со мной.
– Не проси имам, приказывай, – ответил наиб.
– Хочу поручить тебе начальство над Старым Ахульго.
– Думаешь, справлюсь?
– Ты и не с такими делами справлялся, – положил руку ему на плечо Шамиль.
– Если дело дойдет до битвы, никто лучше тебя не сможет защищать эту половину нашей крепости. А Сурхай поможет тебе сделать все, что нужно для обороны.
– Мы сделаем Старое Ахульго неприступным, – пообещал Омар-хаджи, пожимая Шамилю руку.
– А я пока отправлю людей и пойду проведаю Старое Ахульго.
Когда Шамиль появлялся в расположении той или иной общины, люди поднимались, приветствуя своего имама. Но на лицах было больше тревоги, чем радости. Ничуть не смущаясь, горцы подходили к имаму, чтобы пожать ему руку и расспросить о житье-бытье, так, будто ничего больше их не интересовало. И только старейшины спрашивали о главном – о войне, о том, чем они могут помочь имаму, а уже затем – куда девать их семьи, оставшиеся без крова.
Наибы Сурхай, Али-бек и Галбац-Дибир Каратинский уже заметили имама и спешили ему навстречу.
– Вы не останетесь без нашей помощи, как мы не остались без вашей, – говорил имам людям.
– О вас позаботятся эти наибы. Они лучше меня знают, как вас устроить.
И Шамиль пошел дальше, оставив наибам разбирать нужды переселенцев.
Глава 55
На Ахульго играли дети. Мальчишки соревновались в прыжках с места. Чтобы прыгнуть подальше, они брали в руки булыжники, от которых отталкивались в воздухе во время прыжка. Каждый старался превзойти другого. И не только из духа соперничества, но и потому, что невдалеке сидели на пригорке девочки, которым тоже было интересно, кто победит. И мальчишки старались изо всех сил, особенно надеясь, что их заметит синеглазая красавица Муслимат, дочь наиба Сурхая.
Среди соревновавшихся были и дети Шамиля. Мальчишки были так увлечены, что не замечали стайку ребят, которые стояли поодаль. На лицах новичков было написано сильное желание поучаствовать в состязании, но их что-то удерживало.
– Джамалуддин! – окликнул Шамиль.
– Что, отец? – подбежал к нему сын.
– Почему эти ребята не играют с вами?
– Не знаю, – пожал плечами Джамалуддин.
– Может, потому, что они рабы?
– Рабы? – не поверил Шамиль.
– Так говорят, – кивнул сын.
Шамиль положил руку на плечо сына и сжал ее так, что на лице Джамалуддина появилась гримаса боли.
– Запомни, сын мой, – тихо сказал Шамиль.
– Среди нас не может быть рабов.
– Сам посмотри, – сказал Джамалуддин.
– У них даже кинжалов нет.
Шамиль вгляделся в ребятишек и убедился, что в этом сын прав. У них не было кинжалов, а многие были и босыми. Шамиль направился к ребятам, но те испуганно от него шарахнулись.
– Подойдите! – велел имам.
Ребята переглянулись, а затем несмело приблизились.
– Салам алейкум, – сказал им Шамиль, протягивая руку.
– Ва алейкум салам, – отвечали ребятишки, но руки не пожали, а только кланялись, прижав руку к груди.
– Значит, вы мусульмане? – спросил Шамиль.
– Да, алхамдулилля, – как принято, отвечали они.
– И вы – рабы? – едва сдерживал гнев Шамиль.
– Да, – отвечали ребята.
– Как и наши отцы.
– И матери.
– Или вы не рабы, или вы не мусульмане, – сказал Шамиль.
– Как это? – не понимали ребята.
– Где ваши родители? – спросил Шамиль.
– Там, – показывали ребята.
– В нашем ауле много рабов.
– Всегда так было.
– Пойдемте со мной, – велел Шамиль и, взяв двоих мальчишек за руки, пошел туда, где расположились жители их аула.
Подойдя и сдержанно поздоровавшись, Шамиль громко спросил:
– Есть ли среди вас рабы?
– Есть, как не быть, – отвечали горцы.
– Не бросать же их на погибель.
– Все-таки они тоже люди.
– Пусть выйдут вперед, – велел Шамиль.
Из толпы выступило несколько человек разного возраста, плохо одетые и без кинжалов на поясе. Следом несмело вышли их женщины. И самый старший из них сказал, поклонившись:
– Да возвеличит тебя Аллах, великий имам.
– Поднимись, – приказал Шамиль.
Но тот будто не слышал. Тогда по знаку Шамиля Юнус с Султанбеком схватили его и выпрямили так, что у него в спине что-то хрустнуло.
– Ты можешь кланяться только Аллаху, – сказал Шамиль.
– Разве не ты теперь наш хозяин? – ответил тот, кто признавал себя рабом.
– Я – имам, – ответил Шамиль.
– А хозяев у тебя нет.
Удивленные люди переглядывались, не понимая, что происходит.
– Зачем вы здесь? – обратился Шамиль ко всем, кто его слышал.
– Разве не затем, чтобы бороться за свободу?
– Да, – отвечали горцы.
– Как же вы можете бороться за свободу, имея рабов?
– Так им даже лучше, – сказал старшина аула.
– Раб – и есть раб. Они же только работают, а мы еще и воюем!
– Назовите их свободными, пожмите им руку, как братьям по вере, дайте им оружие, и тогда посмотрим, будут ли они бороться за свободу, – ответил Шамиль.
– Ну, раз ты так хочешь… – неуверенно произнес старшина.
– Я хочу только того, что велит нам всевышний, – ответил Шамиль.
– Разве пророк, да благословит его Аллах и приветствует, не освободил своего чернокожего раба Билала, когда тот пропел призыв на молитву?
– Освободил, – согласился старшина.
– Но этого, – показал он на своего раба, – я купил на базаре за хорошие деньги.
– И я купил! – послышалось из толпы.
– А мой сам пошел в рабы, потому что его семья не могла расплатиться с долгами!
– А если их отпустить, кто вернет нам деньги?
– Всевышний Аллах! – ответил Шамиль.
– Освободившим из рабства мусульманина он вернет столько, сколько не принесут вам тысячи невольников!
Толпа недовольно гудела, люди спорили, но согласия не выходило.
– Эй, мусульмане! – призывал Шамиль.
– Позаботьтесь лучше о своей душе, чем о греховном имуществе. Имея рабов, вы сами становитесь рабами! А молитвы рабов, как сказал наш шейх, не будут услышаны!
Невольники слушали Шамиля, раскрыв рты.
– Лицемерие – страшный грех, – горячо убеждал Шамиль.
– Нельзя быть равными в мечети, а за ее дверями менять свою веру на невольников!
Невольники не могли поверить, что могут стать свободными людьми, а некоторые из них будто и сами этого не хотели, потому что привыкли быть рабами, рабство въелось в них, как проказа, а свобода их пугала.
– Кто мусульманин, тот должен быть свободным человеком, – напоминал Шамиль заблудшим заветы шейха.
– А между мусульманами должно быть равенство.
Вокруг собиралось все больше людей. И даже наибы были удивлены словами Шамиля, потому что у некоторых из них тоже были свои рабы.
– Мусульманин рожден быть свободным, он не должен кого-либо покорять и кому-либо покоряться. Угнетенные должны освободиться, а свободные – отвести от себя рабство! – горячо продолжал Шамиль.
– Для того мы и обнажили наши кинжалы!
– Хорошо, – говорили люди.
– Мы отпустим своих ради Аллаха. Но что делать с русскими?
– С русскими?
– С пленными, которых мы захватили.
– Их тоже отпустить?
– Они же не мусульмане.
– Пусть станут свободными, если примут нашу веру, – объявил Шамиль.
– Или останутся пленными, но не рабами.
– Царь прислал их, чтобы покорить нас, – не соглашались горцы.
– Чтобы нас самих сделать рабами!
– Верно, – ответил Шамиль.
– Их прислал царь. Значит, они пришли сюда не по своей воле,
– Если отпустить, они к своим убегут.
– Пусть бегут, – сказал Шамиль, – и расскажут там, что здесь, в горах, мы боремся за свободу для всех.
– И что тогда будет? – не понимали горцы.
– Один уйдет от нас – десять придут к нам. Или вы думаете, русским приятно быть рабами у своих помещиков? Или чернью у своих генералов? Разве вы не слышали, что многие и так уже переходят на нашу сторону?
– Слышали, – отвечали горцы.
– Только переходят тоже разные.
– Всякие есть.
– Одни свободы хотят, а другие от тюрьмы прячутся. Абреки.
– Много у вас таких? – спросил Шамиль.
– У нас нет, у других есть, – говорили люди.
– Каждый сам ответит за свои грехи, – ответил Шамиль.
– А вы не берите на себя то, что противно нашей вере. Кто хочет быть свободным и готов воевать за свое достоинство, пусть живет среди нас как равный. И когда к нам приходит иудей или христианин, то он должен быть так же свободен, как и мы. Потому что все мы – люди Книги. А в священном Коране сказано: «Их Бог и наш Бог – един».
Шамиль понимал, что одними увещеваниями такие трудные вопросы не решить. Над всем этим нужно было хорошенько подумать, собрав совет почитаемых ученых. Большинство горцев никогда не знало рабства, и спины их гнулись только в мечети или в поле за плугом. Но теперь многое менялось, в Имамат вливались разные люди, разные народы, у которых были свои обычаи, свои представления о свободе и рабстве. А тут еще пленные, перебежчики, бывшие ханские вассалы и даже рабы-добровольцы. Еще недавно на рынке в Эндирее процветала работорговля, пока ее не запретил Ермолов. И поговаривали даже, что в Черкесии продают девушек в турецкие гаремы. Но главное Шамилю было ясно – рабство следовало безжалостно искоренять. Нельзя было терпеть в доме заразную болезнь и не заразиться самому. А человек, кем бы он ни был, не мог называться человеком, если терпел рабское ярмо.
Шамиль смотрел на бывших невольников, которые, казалось, выпрямились и стали больше похожи на людей. Но страх перед будущим все еще таился в их удивленных глазах. Имам поблагодарил их бывших хозяев за богоугодное дело, затем пожал каждому из освобожденных руку и сказал, показывая на своих помощников:
– Юнус выдаст вам оружие.
Султанбек научит вас драться. Но сначала вы обойдете всех, кто сюда пришел, и приведете остальных рабов… – Шамиль понял, что сказал не то, что хотел, а затем добавил: – Приведете бывших рабов, а теперь – свободных граждан Имамата.
– А если они не захотят? – спросил старший из освобожденных рабов.
– Хозяева или невольники?
– Рабы.
– Человек, отказывающийся стать свободным, виноват больше, чем его хозяин, – заключил Шамиль.
– Такого следует наказать, как изменника, или прогнать от нас, как собаку.
– Значит, можно его убить? – будто обрадовался бывший невольник.
– Это решит кади, – ответил Шамиль.
– Для того и существуют суд и шариат.
– Когда я был рабом у хана, тот убивал кого хотел и как хотел.
– Придет время, мы спросим за это и с хана, – сказал Шамиль.
Бывшие невольники, крича от радости, побежали искать своих бывших собратьев по несчастью.
– Скажи, имам, – спросила женщина, показывая на ребятишек.
– А что будет с нашими детьми?
– Они свободны, – улыбнулся Шамиль и посмотрел в глаза мальчишкам.
– Вы кто?
– Мы – свободные люди, – улыбались ребята.
– Уздени!
– А когда вырастем, будем твоими мюридами!
– Вот теперь вы отвечаете, как настоящие мужчины.
– Шамиль потрепал ребят по головам и отправил к друзьям.
– Бегите, играйте с остальными. А если победите – тоже получите кинжалы.
– Мы победим! – пообещали ребята и помчались к своим сверстникам.
Тем временем наибы горячо обсуждали начавшуюся реформу и собирались было изложить свое мнение Шамилю. Но тут появился Магомед, который вел за узду коня, нагруженного чем-то тяжелым. Поравнявшись с Шамилем, он ослабил веревку, и на землю свалился мешок, из которого, разорвав мешковину,
высунулось дуло фальконета.
– Получай, имам! – гордо выкрикнул Магомед, стягивая с фальконета мешок.
Наибы обступили пушку, разглядывая ее со всех сторон.
– Медная, – сообщил Юнус, поковыряв пушку кинжалом.
– Добыл все-таки, – удивлялся Али-бек.
– Если я что сказал – значит, сделаю, – польщено ответил Магомед.
– Ее надо установить на моей башне, – предложил Сурхай.
– Рано, – сказал Магомед.
– Сначала нужно подставку сделать, а то назад отлетит и башню твою поломает.
– Не поломает, – возмутился Сурхай.
– У меня башня крепкая.
– А подставку эту сможешь сделать? – поинтересовался Галбац-Дибир, с завистью глядя на орудие.
– Я все могу, – гордо сообщил Магомед.
– Если мне не будут мешать, я еще такую же пушку сделаю. И нечего лезть со своими башнями, это же образец! Из него целая артиллерия получится.
– А лошадь где взял? – спросил Галбац, подняв копыто лошади.
– Не наша лошадь. И подковы не наши.
– У казака одного одолжил, – сообщил Магомед.
– Не на себе же такую тяжесть тащить.
– Значит, пушка исправна? – спросил Сурхай.
– И стреляет?
– Еще как! – улыбался Магомед.
– Я сам из нее столько человек уложил!
– И где же ты из нее стрелял? – спросил Шамиль, охваченный недобрыми предчувствиями.
– Как где? У Ташава-хаджи. Ему она теперь не нужна.
– Почему? – спросил Шамиль.
– Ядер у него нет, – ответил Магомед.
– А я достану или сам сделаю. А потом, на него же этот генерал напал, Граббе который.
– Граббе? – изумился Сурхай.
– Не может быть.
– Как не может, когда целая армия пришла! – рассказывал Магомед.
– Что же ты сразу не сказал? – укорял его Али-бек.
– А разве я не сказал? – удивился Магомед.
– Забыл, наверное. Так хотел имама пушкой порадовать… Я теперь точно знаю, сколько пороху надо!
– Рассказывай же, – встряхнул Магомеда за плечи имам.
– Что там случилось?
– Мы генералу покоя не давали, а потом думали сзади напасть, если сюда пойдет, – начал Магомед, насладившись произведенным пушкой впечатлением.
– Под Мескеты Ташав крепость деревянную сделал. И вдруг этот Граббе на нас напал. Ночью, с двух сторон напал.
– И что было дальше? – торопил Шамиль.
– Дрались. А потом крепость сгорела, и Ташав ушел в Саясан.
– А генерал пошел за ним?
– Наверно, – ответил Магомед.
– В Саясане тоже хорошая крепость есть.
Шамиль встревоженно оглянулся на своих наибов, но особенно пристально посмотрел на Сурхая и Али-бека, которых посылал раньше на помощь Ташаву-хаджи.
– Мы хотели остаться, – оправдывался Сурхай.
– Хотели напасть на лагерь Граббе, но Ташав сам нас отпустил.
– Сказал, что войск слишком много и из этого ничего не выйдет, – поддержал Али-бек.
– Сказал, что здесь мы будем нужнее. А потом еще шамхальская милиция к генералу явилась.
– Никто не думал, что Граббе сам нападет на Ташава, – добавил Сурхай.
– Хитрый оказался, шайтан.
Шамиль знал, что на самом деле все так и было и что Сурхай с Али-беком, вернувшись, немало сделали для подготовки к визиту Граббе на Ахульго. Но оставлять Ташава-хаджи один на один с большой силой было нельзя. На этот раз на помощь ему решено было послать наиба Галбац-Дибира Каратинского, который был кадием в Анди, неподалеку от тех мест, где бесчинствовал Граббе.
– Мухаджиров заберет мой помощник, он о них позаботится, – сказал Галбац, вскакивая на коня.
– А я со своими мюридами поспешу в Саясан. Ополчение уже предупреждено и ждет моего сигнала.
– Да поможет тебе Аллах, – сказал ему на прощанье Шамиль.
– Аллах велик! – откликнулся Галбац, пришпоривая коня.
– Мы тоже пойдем, – сказал Сурхай, чувствуя и свою вину за случившееся.
– Будет хорошо, если хотя бы Галбац успеет, – сказал Шамиль.
– А вы позаботьтесь о том, чтобы достойно встретить генерала. И чем дальше от Ахульго, тем лучше. Теперь этот Граббе на нас пойдет.
– Да, имам, – кивнул Сурхай.
– У нас не хватает людей, чтобы разрушать дороги, – сказал Али-бек.
– Разреши взять этих бывших рабов.
– Хорошо, – согласился Шамиль.
– Они всю жизнь работали на своих хозяев, пусть теперь потрудятся для себя. Пусть узнают, что мало получить свободу, ее еще нужно защищать.
Глава 56
Казалось бы, поспешно отступавший Ташав тем не менее успел оставить после себя множество завалов. Срубленные столетние деревья лежали поперек узкой лесной дороги, заставляя Граббе делать частые остановки. Саперы трудились, не покладая рук, пока цепи стрелков охраняли их со всех сторон. Убрать огромные стволы редко где было возможно, и их приходилось рубить или распиливать.
Стук топоров и визг пил разносились по всему лесу, и над ним, в почти не видимом из-за густых крон небе, носились перепуганные, галдящие птицы.
Граббе был вне себя, но ничего не мог поделать с этими дебрями, будто целиком превратившимися в гигантское держидерево. Не менее того его раздражала привычка кавказских войск отвечать тысячами и даже десятками тысяч выстрелов на каждый выстрел из леса и даже на подозрительный шорох. Со стороны могло показаться, что идет серьезный бой, а на деле выходило, что деревья потеряли лишь несколько веток, зато были нашпигованы свинцом, который достанется потом противнику, если он даст себе труд его выковырять.
– Варвары! – негодовал Граббе.
– Что одни, что другие. Шагу в войсках нет, порядка никакого, дай им только пострелять!
Наконец, после тяжких трудов отряд вышел к Балансу и расположился лагерем на отдых. Аул был известен тем, что здесь собирались партии горцев перед нападениями на Линию. К Балансу были посланы казаки Лабинцева и батальон под командой Пулло, которые после артиллерийского обстрела бросились на аул с двух сторон. Однако атака оказалась напрасной. Балансу было покинуто жителями, которые ушли и даже унесли свое имущество. Только несколько куриц носились между домами, шарахаясь от огня, которому было предано пустое село.
Посовещавшись с командирами, Граббе после короткого отдыха двинул войска вверх по течению реки. За отсутствием нормальной дороги главная колонна с артиллерией и обозами шла прямо по мелководному извилистому руслу Ямансу, часто переходя с одного берега на другой. Прикрывая главную колонну, с обеих сторон по берегу двигались казачьи сотни и по два батальона с горными орудиями. Но и здесь приходилось часто останавливаться, потому что то тут, то там появлялись разъезды мюридов, обстреливая колонну из ружей и сразу же скрываясь.
Милютин ехал полулежа в телеге, среди тюков с офицерским имуществом. Рядом, верхом, двигался Васильчиков.
– Как твоя рана? – спрашивал он приятеля.
– Болит?
– Я и забыл про нее, – храбрился Милютин, хотя телега прыгала так, что рана болела сильнее, чем когда была только получена.
– Зря ты не вернулся в крепость, – сказал Васильчиков.
– А ты бы вернулся?
– Нет! – воскликнул Васильчиков.
– Ни за что!
Но на самом деле это ненужное геройство Милютина весьма раздражало Васильчикова. Ему порядком надоела эта беспокойная езда по лесам и оврагам, это холодящее, мучительное ожидание горской пули из-за каждого дерева, куста или камня. Он даже завидовал легкой ране Милютина. Будь такая у Васильчикова, он бы давно отправился назад, а там – сначала на Воды, а потом, дождавшись награды, и вовсе домой в ореоле кавказского героя. Он представлял себе войну с горцами вовсе не такой. Ему чудились великие подвиги, благородные разбойники и пьянящей красоты черкешенки. А тяжкие переходы, убитые и раненые и эти горящие аулы, давно оставленные жителями, превращали адъютантскую службу в какую-то отвратительную каторгу. Чтобы отвлечься от мрачных размышлений, он принялся изучать знамя Ташава, снятое с башни в укреплении и лежавшее теперь в той же телеге, в которой везли Милютина.
Значок наиба представлялся ему весьма важным трофеем. Это было знамя из простой ткани о двух концах, часть которого была выкрашена в красный, а другая – в зеленый цвет. Полотнище было прикреплено в четырех местах к древку, конец которого венчало металлическое навершие с двумя загнутыми зубцами и одним длинным между ними. Васильчиков сравнивал это знамя со знаменами, развевавшимися над колонной Граббе. Полковые знамена были квадратными, с зеленым крестом с расходящимися концами на белом фоне. В центре креста был светлый круг, на котором был изображен двуглавый орел с державой и скипетром, а на груди орла красовался герб с Георгием-Победоносцем, поражающим змия. Под полотнищами красовались на древках золоченые скобы с вензелями государя-основателя полка и другими значимыми надписями. Свои знамена были и у каждого батальона. По богатству полковые или батальонные знамена не шли ни в какое сравнение с знаменем Ташава. Но Васильчиков чувствовал, что это простое знамя горцев, борющихся за свою свободу, заключало в себе нечто большее, чем символ воинского подразделения. Ему хотелось взять его в руки и почувствовать себя мюридом, но Васильчиков опасался, что это примут за хвастовство, потому что если кто и имел настоящее право на этот трофей, так это Милютин.
Но Милютин не замечал душевных терзаний приятеля. Он был погружен в теорию военного дела. То, что он успел увидеть на Кавказе, мало походило на то, что содержалось в пособиях, по которым их учили в Академии. Милютин решил, если останется жив, написать нечто новое и более применимое к делу. Он и название уже придумал: «Наставление к занятию, обороне и атаке лесов, деревень, оврагов и других местных предметов». И первое, что приходило на ум Милютину, выглядело так: «Атака открытою силой лесов, деревень и оврагов, сильно занятых неприятелем, предпринимается только в случае необходимости, когда нельзя посредством обхода заставить противника очистить их без сопротивления».
Пройдя около семи верст, отряд Граббе вышел к аулу Рогун-Кажа, который располагался примерно на середине пути между Балансу и Саясаном. Рогун-Кажа встретил генерала пустыми саклями. Отряд расположился биваком среди засеянных полей, и множество солдат бродили по аулу в поисках трофеев или скота.
Граббе собрал командиров в своей палатке, чтобы решить, как быть дальше. По объяснениям проводника, к Саясану вела хорошая дорога. Но она опять шла через густой лес, которым был покрыт весь хребет между долинами Ямансу и Аксая. В таких условиях Граббе терялся и не знал, что приказывать. Впрочем, бывалые солдаты и их командиры не нуждались в особых приказаниях. Они знали, что делать, когда противник мог появиться когда угодно и отовсюду. Тактика была проста: держаться вместе и поскорее выходить из леса. Взвешивая все pro I contra, Граббе размышлял, не остаться ли ему в лагере, подальше от шальных пуль, а на Ташава наслать летучий отряд под началом Лабинцева, у которого подобные набеги выходили отменно.
– Предполагаю, господа, что жители, бежавшие из деревень, примкнули к бунтовщику Ташаву, – начал Граббе.
– Именно так, – согласился Лабинцев.
– Да к тому же рассеялись по лесам, чтобы препятствовать ходу отряда.
– Опыт показывает, – продолжал Граббе, – что движение через леса с обозами крайне невыгодно.
– Это лишь начало, – предрекал Пулло.
– Теперь они оправились от неожиданности и примут свои меры.
– Какие же? – спросил Граббе, хотя и без того отлично понимал, о чем идет речь.
– Все те же, – ответил Пулло, – только многократно увеличенные: засады да завалы.
– Выходит, надобно двинуться стремительно и налегке, – сказал Лабинцев.
– А обоз оставить здесь.
– Я тоже полагаю, что в лесу надо не только защищаться, а и нападать, – сказал Граббе.
– И чтобы ничего не отягощало движения.
– Горская тактика, – делился опытом Пулло, – набег и быстрый отход.
– Решено. Для атаки аула назначаю два батальона Кабардинского полка, – приказал Граббе, обращаясь к Лабинцеву.
– Будет исполнено, ваше превосходительство, – кивнул Лабинцев.
– А также две роты Куринского полка, – продолжал Граббе, обращаясь уже к Пулло.
– Две роты, – повторил Пулло.
– А как прикажете насчет орудий?
– Двух будет достаточно и для отряда не слишком обременительно, – заключил Граббе.
– Насчет остального распорядитесь сами. Помните только, что здесь, где каждый куст таит смертельную опасность, успех дела зависит от быстроты, решимости и вашей распорядительности.
Отряд, назначенный для набега на Саясан, снялся с места на рассвете. Преодолев лесистую возвышенность без выстрела, Лабинцев надеялся, что дойдет до места так же легко, как в прошлый раз. Уже виден был и сам аул, стоявший над рекой. А немного южнее, на мысу между двумя балками, возвышалось главное укрепление Ташава-хаджи. Как и первое, оно было построено из дерева, но превышало его размерами. По углам толстой бревенчатой ограды были устроены башни с бойницами, а главная башня в несколько ярусов стояла внутри укрепления. Все подступы к укреплению были в несколько рядов защищены рвами, завалами и засеками – заграждениями из деревьев, лежавших кронами вперед. Единственная тропа к укреплению шла через аул и тоже была перекопана и завалена.
На спуске к аулу отряд был встречен сильным ружейным огнем. Но сам аул горцы не защищали, засев в укреплении и на высотах позади него.
Не обращая внимания на пальбу, Лабинцев приказал:
– Скорым шагом, в атаку, марш!
Добравшись до балки перед аулом, отряд вынужден был остановиться, потому что огонь усиливался, и уже были убитые и раненые.
Лабинцев пустил в ход артиллерию, роты куринцев послал в обход, а сам с батальонами Кабардинского полка двинулся напролом, через аул.
Штурмуя завалы и преодолевая ожесточенное сопротивление, Лабинцев приближался к укреплению.
Васильчиков, посланный Граббе с отрядом, держался поблизости от Лабинцева. Ему велено было стать глазами и ушами генерала, чтобы в точности доложить о ходе дела, а Милютин просил его обратить особое внимание на то, как дерутся горцы и какие приемы они применяют. Васильчиков старался исполнять возложенные на него поручения, но Лабинцев, усердно работавший шашкой, обозвал его «белоручкой», и князю пришлось оставить свои наблюдения перед необходимостью боя. Однако попасть в самые жаркие схватки Васильчиков так и не успел, хотя и стремился, втайне надеясь отделаться легкой раной. Зато яркие картины боя навсегда запечатлелись в его памяти.
Вот, казалось бы, горцы повержены и отступают, но вдруг откуда ни возьмись выскакивает новая ватага и с криками «Алла!» бросается прямо на штыки. Или вроде бы смолкла стрельба, патроны у горцев кончились, и их можно брать голыми руками, а они вдруг бросаются на егерей, отнимают у них ружья и бьются их же штыками.
Еще одна партия горцев неожиданно выскочила из лесу и ринулась на артиллерийскую батарею. Они были уже в нескольких шагах от пушек, когда их сразил залп картечью.
Но одна сцена особенно поразила не только Васильчикова, но и всех остальных, участвовавших в ней или видевших ее. Несколько окруженных у завала горцев, сделав последние выстрелы, вдруг вышли навстречу егерям. Привязавшись друг к другу ремнями, решив скорее вместе умереть, чем сдаться, они надвинули на глаза папахи и с пением «Ла илагьа илла ллагь!» ринулись в свой последний бой.
Васильчиков остолбенел от изумления посреди звона, искр, криков, стонов и выстрелов. А когда все кончилось и он пришел в себя после кровавого финала, то не мог поверить, что сам остался цел и невредим и что следы крови на его одежде – не знаки его ранений, а ужасные отметины войны. А вокруг лежали десятки убитых, стонали раненые, бились в предсмертных судорогах лошади.
В конце концов это укрепление Ташава-хаджи постигла участь прежнего. Горящие строения были горцами оставлены, а затем разрушены Лабинцевым. Аул Саясан тоже был предан огню.
Однако на этом сопротивление не прекратилось. Вокруг продолжалась перестрелка. А когда на помощь Ташаву подоспел Галбац с мюридами и ополченцами, горцы начали теснить Лабинцева. Подоспей Галбац раньше, дело могло сложиться совсем иначе, но и теперь, считали наибы, не все еще было потеряно.
– Надо придавить его в лесу, – сказал Галбац.
– Я пошлю людей.
– Пусть лучше обойдут их лагерь, – ответил Ташав.
– А в лесу мы и сами справимся.
– Вам и без того досталось, – отговаривал Али-бек.
– Было бы хуже, если бы Граббе сразу пошел на Ахульго, – отвечал Ташав.
– А теперь мы заставим его вернуться.
Наибы решили не давать Граббе покоя и нападать на его войска везде, где была возможность.
Перестрелка становилась все жарче. Почувствовав, что горцы значительно усилились, Лабинцев приказал отступать.
«Назад! Назад!» – запели горны, и войска начали отходить. Но горцы теперь бросались и на авангард, и на арьергард, не давая Лабинцеву собрать отряд в единую колонну.
Граббе нервничал, ожидая развязки. Он слышал отдаленную пальбу, эхом докатывались до лагеря орудийные залпы, а затем в небо стал подниматься густой столб дыма.
– Дело сделано! – потирал руки Граббе.
Он призвал Милютина и, убедившись, что он может писать, принялся диктовать записи в журнал военный действий:
«Желая воспользоваться расстройством партии Ташава-хаджи, чтобы нанести ему решительный удар, я намерен сего же числа в пять часов пополудни, двинуться в самый центр земли ичкерийцев, к главному их аулу Беной, наиболее содействовавшему замыслам Ташава-хаджи, и наказать как это селение, так и все прочие непокорные деревни, лежащие на этом пути».
В генеральскую палатку вошел взволнованный Пулло:
– Позвольте доложить, ваше превосходительство… – начал полковник, отдавая честь.
– Что? – оторвался от приятного занятия Граббе.
– Взяли мятежника?
– Перестрелка усиливается.
– С чего бы это? – удивился Граббе.
– По полученным сведениям, Шамиль прислал подкрепление.
– Подкрепление? – не поверил Граббе.
– Разве Ташав не разбит?
– Вестовые сообщают, что укрепление взято, – докладывал Пулло.
– Но отряд спешно возвращается под сильным огнем неприятеля.
– Чего же вы тогда стоите? – рассердился Граббе.
– Немедля выступайте навстречу!
– Слушаюсь, – козырнул Пулло и поспешил выполнять приказ.
«В поход!» – запел горн, и остававшиеся в лагере войска начали быстро строиться. Граббе вышел отдать последние распоряжения. Но выступать войскам не пришлось. Через несколько минут из леса появился сильно потрепанный отряд Лабинцева, преследуемый отрядами горцев. Пропустив своих, батальоны заняли позицию и открыли сильный огонь по показавшимся из лесу мюридам.
– Ну как? – спрашивал Граббе, обнимая вернувшегося невредимым Лабинцева.
– Все бы хорошо, ваше превосходительство… – отвечал полковник, жадно отпивая из фляги воды.
– Так что? – допытывался Пулло.
– Славное было дело, – говорил Лабинцев, переводя дух.
– Наша взяла. Уже собирались возвращаться, а тут мюриды от Шамиля явились.
Граббе слушал полковника и все больше досадовал, что дело оборачивается не так, как он предполагал.
«Надо было идти самому, всем отрядом, – думал Граббе, слушая сбивчивый рассказ полковника.
– Этим бы только шашкой махать, а настоящая стратегия им не по зубам».
Выдержав тягостную паузу, Граббе спросил:
– Выходит, надо возвращаться?
– Положение вынуждает, ваше превосходительство, – кивнул Пулло.
– А с Ташавом мы покончили, можете не сомневаться.
– Что же нам тогда мешает двинуться дальше? – вопрошал Граббе.
– Леса, – объяснял Лабинцев.
– Там каждый босяк может роте препятствовать, и притом безнаказанно. Да вы ведь, ваше превосходительство, и сами видели.
– Ни за что людей потеряем, – согласился Лабинцев.
– Лучше бы – назад, – убеждал Пулло.
– А уже из Внезапной, укомплектовав батальоны, в Дагестан, на Шамиля.
Это нарушало планы Граббе, который спешил померяться силами с Шамилем, а теперь не был уверен, что одолел его наиба. Однако делать было нечего, движение вперед грозило катастрофой, когда о Шамиле пришлось бы и вовсе забыть.
Тем временем Васильчиков, возбужденно размахивая руками, описывал невероятные боевые сцены Милютину.
– Поверь мне, шли, как заколдованные! Связались ремнями, как судьбой, и пели! От них пули отскакивали, пока пушку не навели!
Он уже сам не знал, что было правдой, а что вымыслом, и продолжал рассказывать фантастические вещи:
– А потом сам Ташав, будто на крыльях вознесся, укрепление ведь горело уже… И на меня, с кинжалом!..
– А ты? – жадно спрашивал Милютин.
– А я в него из пистолета!
– Убил?
– Не знаю, – ворошил свои волосы Васильчиков.
– Или не взлетал он… Я будто сознания лишился, когда все это увидел. Думал, что сам уже убит и мне все это с того света видится.
Милютин все еще слушал Васильчикова, который никак не мог успокоиться, когда в палатку вернулся Граббе.
– Поручик! – гневным голосом прервал беседу приятелей генерал.
– Слушаю, ваше превосходительство, – вскочил Милютин.
– О предполагаемом движении на Беной из журнала вычеркните, – велел Граббе.
– Это потом как-нибудь.
– Будет исполнено! – ответил Милютин, беря в руку перо.
– На что прикажете заменить?
– Да хотя бы вот на что… – Граббе на мгновение задумался, а затем стал диктовать.
– Война – это искусство маневра. Противник поджидает нас в своих дремучих лесах, но мы обманем его расчеты и вернемся на время в крепость Внезапную.
Глава 57
Следуя своей тактике, Граббе приказал усилить заградительную цепь и сделать вид, что войска располагаются на ночлег. А когда наступила глубокая ночь, велел сняться с места с соблюдением совершенной тишины и быстро двигаться обратно.
Граббе казалось, что маневр был произведен успешно, но не успел отряд пройти и версту, как попал под перекрестный огонь. В суматохе отряд отступил к аулу Рогун-Кажа, где оставался до рассвета, отстреливаясь от невидимого противника. Наутро, собрав раненых и похоронив убитых, среди которых оказался и проводник отряда, Граббе приказал выступать на Балансу. Но прежде, в отместку за свои неудачи, велел сжечь аул, а заодно и соседний – Бильты.
Ташав и Галбац сделались теперь хозяевами положения. Один преследовал отступающего противника по левой стороне реки Ямансу, а другой – по правой.
Граббе отступал в том же порядке, как и пришел: главная колонна шла по руслу реки, а по бокам ее защищали две колонны. Но отряд непрерывно обстреливался. Лабинцев и Пулло носились с кавалерией, отгоняя наседавших горцев, и несли потери.
Граббе все более свирепел, и сжигал пустые ичкерийские и ауховские аулы, мимо которых проходил. А Милютин делал значимые для военной теории выводы:
«Отступление есть всегда самое трудное и опасное действие в виду неприятеля, но в особенности в войне Кавказской. Даже после удачного нападения обратное следование через ущелья и леса не обходится никогда без кровопролития. Густые леса Чечни доставляют горцам такое выгодное прикрытие, что они безнаказанно, почти невидимые, окружают колонну, растянутую по узкой дороге. Напирая дерзко на арьергард, они в то же время стараются с флангов прорвать боковые цепи, чтобы врезаться в самую средину колонны, состоящую из обоза и артиллерии».
Выводы Милютина были отражением действительности. Жаркие перестрелки разгорались одна за другой, затем следовали дерзкие нападения горцев на колонны. И наскоки эти уже не могли предотвратить даже пушки со своей смертоносной картечью. Отряд вынужден был часто останавливаться, и тогда нападения на него еще более усиливались. Потери росли, а горцев становилось все больше, потому что к ним примыкали местные жители, жаждущие отомстить за разоренные аулы.
Граббе носился вперед и назад, но скоро бросил это опасное занятие, а Васильчикову начало казаться, что во всем отряде по-настоящему охраняют лишь самого генерала. И только бывалые солдаты хладнокровно отбивали атаки горцев и сами бросались на них в штыки. А если и гибли, то молча, с особым достоинством, как принято было на Кавказе.
Когда отряд миновал Балансу, горцы сделали еще один дружный натиск, вынудив отряд расстрелять в лесу почти все остававшиеся у него патроны. И только перейдя на другой берег, в сторону Внезапной, и добравшись до аула Ярыксу-Аух, отряд избавился от преследователей, как медведь от осиного роя, и расположился на ночлег.
Отступление обошлось отряду в восемь убитых и шестьдесят два раненых, среди которых было и пять офицеров. Жаль было и надежного проводника, которого некем было заменить. Потери горцев были неизвестны, но Граббе решил все же записать в их число несколько сотен. Кроме того, у Граббе было шестеро пленных, которые оказались мирными до того ауховцами.
– Прогнать сквозь строй, – велел Граббе.
– Для примера остальным разбойникам.
Передав все поручения Граббе, Васильчиков шел через лагерь. Вокруг стояли палатки и горели костры. Свободные от нарядов солдаты курили свои трубки в ожидании ужина, который обещал быть сытным. Опытные служивые позаботились о трофеях, и в их котлы угодили несколько баранов, найденных у одного из опустевших сел.
Проходя мимо штабной палатки, Васильчиков увидел Милютина. Поручик что-то писал в свете наколотой на солдатский штык свечи.
– Домой пишешь? – спросил Васильчиков, располагаясь рядом.
– Что? – нехотя оторвался от своих записей Милютин.
– Я тоже все собираюсь написать батюшке, да никак не соберусь.
– И мне надо бы, – кивнул Милютин.
– А я насчет похода записываю, чтобы не забыть.
– Важное дело, – согласился Васильчиков.
– Публиковать станешь?
– Рано, – ответил Милютин, откладывая тетрадку.
– С первого разу все не постигнешь.
– А чего тут мудреного? – удивился Васильчиков.
– Война и есть война.
– Да нет, брат, – ответил Милютин.
– Тут война другая. Под академический аршин не подходит.
– Какая – другая? – не понимал Васильчиков.
– Этого я еще выразить не могу, – объяснял Милютин.
– Но то, что Кавказская война – школа великая, это мне ясно.
– Кому – школа, а кому – каторга, – сказал Васильчиков.
– Да сам разве не видишь, как здорово? – недоумевал Милютин.
– Где еще так быстро военному ремеслу выучишься? Где столько новых приемов увидишь? А управление войсками? Это тебе не в поле воевать, тут головой работать надо. У нас ведь тактику и стратегию большей частью по Наполеоновским войнам преподают. А на Кавказе дерзость – главное оружие. Быстрота, ловкость, хитрость! Не узнавши характера противника, мало чего добьешься. А вахлаком будешь – слопают, как волки теленка.
Но Васильчикова все это не увлекало. Он уже чувствовал себя героем и мечтал скорее вернуться в свет, в Петербург. Но говорить об этом прямо не смел. Вместо этого он решил высказать свое мнение насчет экспедиции:
– Тут, конечно, все получает особенный смысл. К примеру, поход наш. Станешь кому рассказывать в Петербурге, так и не поймут, зачем ходили. Ну, скажут, взяли какие-то избы в дебрях, пожгли села, людей зазря погубили. А здесь все иначе видится. Чтобы удержать дикарей в покорности, приходится являться к ним в дом для упреждения, для устрашения разбойников.
– Жаль только, их и этим не проймешь, – сказал Милютин.
– Тут политические меры нужны.
– Не нашего ума дело, – вздохнул Васильчиков.
– А только я бы на твоем месте… В смысле ранения… Тут же бы и уехал.
– Этого-то я и боюсь, – сказал Милютин, доставая из своего походного тюка фляжку.
– Я в большой поход хочу. На Шамиля! Вот где будет настоящая школа!
– С меня бы и этой хватило, – признался Васильчиков
Милютин открыл фляжку и предложил:
– Ром отменный, не желаешь ли стаканчик?
– Благодарю, – протестующе взмахнул рукой Васильчиков.
– У меня еще дел много.
– Какие дела на ночь глядя? – усмехнулся Милютин.
– Зорю когда уже пробили.
– Ты разве ничего не знаешь? – спросил Васильчиков.
– О чем это ты? – насторожился Милютин, убирая ром.
– Ты слышал, что будет экзекуция?
– Экзекуция? – переспросил Милютин.
– Пленных сечь будут.
– Пленных? – не поверил Милютин.
– Сквозь строй проведут, по двести ударов, – сообщил Васильчиков.
– Этого не может быть, – заявил Милютин.
– Павел Христофорович распорядился, – утверждал Васильчиков.
– Вот я и спрашиваю, можно ли сечь пленных? Французов разве секли?
– По существующему порядку, в армии шпицрутенами принято наказывать за нерадивость, за кражи, побеги, за дурную службу или пьянство. А что касаемо гражданских, то… – Милютин задумался.
– Ну, во всяком случае они должны быть подданными.
– Так горцы, выходит, подданные наши?
– Это как посмотреть.
– А все же, поручик? Если подданные – отчего тогда рекрутов не дают? – любопытствовал Васильчиков.
– Отчего оброка не платят? Мало того, еще и с нами воюют!
– Да, брат, – ворошил волосы Милютин.
– Тут что-то не сходится.
– Если пленные, то, выходит, противник? – продолжал Васильчиков.
– А если просто бунтари…
– Тогда, получается, государственные преступники, – сделал вывод Милютин.
– Таких и под шпицрутены можно.
– Но в бумагах-то они пишутся как пленные! – спорил Васильчиков.
– Пойди теперь разберись.
– То-то и оно, – растерянно произнес Милютин.
– Я ведь потому и говорю, что на Кавказе все по-другому.
– Думаешь, и впрямь будут сечь?
– Его превосходительству, конечно, виднее, – ответил Милютин.
– Но, думается мне, погорячился Павел Христофорович. Остынет и забудет.
– А не забудет, так вот тебе и новый опыт, – сказал Васильчиков.
– Ну, не буду мешать, военная наука мне не простит.
Васильчиков вышел из палатки, оставив озадаченного Милютина, который вопросительно водил в воздухе пером, будто пытаясь материализовать из него ответы на трудные вопросы.
Ночь была свежа и светла.
Васильчиков запрокинул голову, вдыхая терпкие ароматы трав и любуясь крупными звездами, усеявшими огромное небо. И чем больше он вглядывался в эти яркие глаза вечности, тем дальше становилась от него война, которой, казалось бы, не должно быть места под этим чудесным поэтическим небосклоном.
– Как это хорошо, когда не стреляют, – мечтательно произнес Васильчиков.
– Не нужно бояться, не нужно прятаться, не нужно никого убивать…
Он наслаждался пленительным ночным видением, вдыхал бодрящий воздух и вспоминал свое детство в родовом поместье. Красивый уютный дом, лес, полный живности и ягод, поля с колосящейся пшеницей… И сверчка, который звонко стрекотал под окном и которого он ни разу не смог поймать. Вот и теперь – та же знакомая ночная песня. Где-то рядом снова пел свою песню невидимый сверчок. Васильчиков замер, боясь спугнуть это сладкое очарование, навевавшее ему счастливые картины детства. Корнет готов был слушать свое детство всю ночь, но сверчок вдруг смолк. Его песню прервал грохот барабанов.
Васильчиков огляделся и увидел, что в конце лагеря, у больших костров, что-то происходит. Он не сразу сообразил, что это и есть экзекуция, а когда понял, то не мог себя заставить пойти туда. Он надеялся, что все быстро закончится, но барабаны продолжали бить, а солдаты, один за другим, взмахивали шпицрутенами. Прутья для них должны были быть длинными, гибкими и вымоченными в соленой воде. Но подходящих поблизости не было, как не было и достаточно соли, а потому шпицрутены нарезали из колючих веток держидерева.
Когда Васильчиков все же заставил себя подойти к месту экзекуции, она была в самом разгаре. Двое уже проведенных сквозь строй с искромсанными спинами сидели, стиснув зубы и не глядя друг на друга, у края реки. Розги теперь свистели над третьим.
Граббе ехал верхом вдоль рядов, наблюдая, как происходит наказание. Он был мрачен и очень недоволен. Наказуемые демонстративно не просили пощады. Солдаты били не в полную силу, только чтобы самим не попасть в наказуемые за нерадивость. А ведь Граббе велел поставить в экзекуторы самых неблагонадежных, среди которых было немало тех, кто вышел за командирами на Сенатскую площадь, немало было и поляков, сосланных на Кавказ за участие в Польском восстании. Были и разжалованные офицеры, и осужденные штатские. Всем им экзекуция тоже должна была стать поучением. Но даже офицеры, и те отводили глаза, будто их что-то смущало в этой обычной для армии процедуре. Те же, кто в экзекуции не участвовал, занимались своими делами или спали. Многие из них тоже были биты, и вспоминать наказание никому не хотелось.
Рядом с первыми двумя повалился на землю третий пленный. Настала очередь четвертого. Им оказался совсем еще мальчишка, который ожесточенно сверкал глазами, готовясь выдержать тяжелое наказание.
– Ваше превосходительство! – не выдержал Милютин, который тоже был на экзекуции.
– Говорите, – оглянулся на него сердитый Граббе.
– Осмелюсь доложить, – взволнованно сказал Милютин.
– В прокламации, которую ваше превосходительство изволили адресовать горцам, обещана была пощада женщинам и детям…
– Вздор! – выкрикнул Граббе – Этот разбойник вовсе не дитя!
Поняв, что речь идет о нем, мальчишка обернулся, с ненавистью глядя на Граббе.
– Пусть у него еще нет усов, – продолжал Граббе.
– Но стреляет он не хуже взрослого!
Среди офицеров прокатилась волна негромкого ропота, который Граббе расценил как несогласие и даже как неповиновение старшему начальству.
– Позвольте, ваше превосходительство, – вступил в разговор Пулло.
– По правде сказать, никто не видел, как он стрелял… И ружья при нем не нашли… Его сообщники примерно наказаны. Да и войска устали.
Все выжидающе смотрели на генерала, и Граббе чувствовал, что продолжение этого действа угрожает повредить его репутации великого полководца, которую он намерен был обрести в походе на Шамиля.
– Дикари! – проворчал Граббе, а затем велел распорядителю экзекуции: – Будет с них. Гоните прочь негодяев!
Когда пленных развязали и отпустили, они бросились к своим товарищам, успевшим подвергнуться наказанию. Подхватив их на плечи, горцы быстро двинулись к аулу и скоро пропали в ночи, только еще долго доносилась их гневная гортанная речь.
– Разойдись! – приказал распорядитель экзекуции.
Строй распался и зашумел. Солдаты расходились, обсуждая экзекуцию и милосердие генерала. Граббе развернул коня и не спеша двинулся к своей палатке. Там он спешился, и денщик накинул на него бурку.
– Холодновато, барин, – заботливо говорил Иван.
– Вам бы теперь чайку.
– Нет, – резко ответил Граббе.
Он бросил бурку на свою походную железную кровать и прилег отдохнуть. Пока денщик стаскивал с него сапоги, Граббе пытался вспомнить деяния Ганнибала, не было ли у него чего-то похожего, что можно было сравнить с этой экспедицией и с этим наказанием пленных. Но на ум ничего не приходило, а перед глазами стояло лицо мальчишки с горящими ненавистью глазами. Тем не менее глаза эти были ему знакомы – такие же были у его старшего сына Николая.
«Как они там? – думал Граббе.
– Что поделывают? Скучают ли по мне?»
С детьми Граббе старался быть строг, но под этой строгостью скрывались нежная отеческая любовь и беспокойство о будущем его наследников. Где они вырастут? Неужели на Кавказе? Что тут хорошего? Ни общества приличного, ни достойного образования. Одна дикость, что в природе, что в туземцах, что в армии. Кем станут его сыновья? Этого и вовсе не мог никто знать, но Граббе прочил им карьеру военную, чтобы образовалась славная династия.
Так он и заснул, мечтая о грядущем величии своего древнего финляндского рода, в котором вершиной будет он, Павел Граббе, а о его отце, всего лишь титулярном советнике, не оставившем детям ничего, кроме примера редкого бескорыстия, и о матушке, впавшей к концу жизни в ипохондрию, станут говорить с уважением.
Но приснилось ему совсем другое. Он увидел силуэт горы, вырисовывавшийся на багровом закатном небе. И гора то ли смеялась, то ли стонала, сотрясая все вокруг. А под ногами Граббе раскалывалась земля, и он с ужасом ждал, что она его вот-вот поглотит.
Когда Милютин с Васильчиковым вернулись в штабную палатку, где-то поблизости снова звонко стрекотал сверчок. Милютин, уже не спрашивая приятеля, разлил по кружкам ром. Они выпили и вместо закуски жевали изюм, думая каждый о своем.
– Не знаю, как насчет горцев, – прервал гнетущую паузу Милютин, – подданные они государю императору или нет, но мыто, брат, кто? Воины или палачи?
– Воины, – неуверенно сказал Васильчиков, на которого экзекуция произвела не менее удручающее впечатление, чем на его приятеля.
– Благородные люди не должны делать столь ужасные вещи, – качал головой Милютин.
– Война, – вздохнул Васильчиков.
– Она любого в грязи вываляет. Другой и виду не покажет, а кошки на сердце скребут и скребут.
– Это ты прав, – сказал Милютин, снова разливая ром.
– И вот ведь вопрос…
– Какой? – спросил Васильчиков, глядя на приятеля затуманенными глазами.
– Я скажу. Я читал…
– Есть ли на свете преступление, да хотя бы грех смертный, который нельзя оправдать высокими идеалами?
– Есть, – кивнул захмелевший Васильчиков.
– Какие же, к примеру? – уткнулся в плечо Васильчикова Милютин.
Васильчиков подумал немного и махнул рукой:
– Черт его знает. Ты лучше рому еще…
Расплескивая, Милютин вылил в кружки то, что осталось. Они чокнулись.
– За… За… – подыскивал достойный повод Васильчиков.
– Будь здоров, – сказал Милютин.
– А главное – жив!
Они выпили и уже не говорили ни слова, стараясь не смотреть друг на друга. А сверчок все пел свою песнь любви, зная, что на нее обязательно кто-то откликнется.
На следующий день отряд одной общей колонной двинулся к Внезапной.
Глава 58
Траскин сидел в крепости, командуя отсюда тучей казначеев, интендантов, квартирмейстеров и фуражиров. Всех их он считал прохвостами, пекущимися только о своей выгоде. Но пока они не забывали делиться барышами с начальством, на их проделки смотрели сквозь пальцы. Тех же, кто старался честно исполнять свой долг, Траскин ставил в пример другим, но не жаловал своей благосклонностью. А последнее значило многое, потому что Траскин любого мог навсегда отправить в запасные войска на четверть жалования.
Провиант по-прежнему списывался якобы за негодностью к употреблению и спускался на базарах. Но появились и нововведения. Имущество и продовольствие начало пропадать целыми обозами. По крайней мере, так писалось на бумагах. На самом же деле кто-то давал знать неизвестным разбойникам, где и что нужно захватить. Обычно это была пара телег со старыми клячами и негодным товаром вроде муки с червями. Зато в рапортах клячи превращались в табуны удалых коней, а негодный товар – в сокровища Аладдина.
Торговая лихорадка охватила весь гарнизон крепости. Даже юный пушкарь Ефимка умудрился обменять несколько ядер на кинжал и теперь важно расхаживал по артиллерийскому парку в полном боевом снаряжении. Он ничуть не стеснялся своей сделки, другие проворачивали дела и почище. К тому же ядра были небольшие, от фальконета, которые давно лежали на складе без дела, потому что устаревшими маломощными орудиями никто уже не пользовался. Зато Магомед, пушкарь Шамиля, выменявший ядра на старый кинжал, радовался так, будто за бесценок приобрел целый арсенал.
В промежутках между виртуозными финансовыми операциями начальник штаба муштровал сводный оркестр. Впрочем, учения эти ограничивались концертами, на которых подопечные Стефана Развадовского исполняли популярные романсы, пока Траскин и его приближенные пировали за обильными столами.
Полонез, который трогательно исполнял на трубе Развадовский, Траскину нравился особенно. Он напоминал ему очаровательную польскую княжну, в которую он был когда-то влюблен.
Порядочно набравшись, начальство принималось на спор палить из пистолетов по мишеням, что тоже записывалось в разряд учений. Кутежи завершались игрой в карты с неслыханными ставками, и горе было тому, кто дерзал обыграть злопамятного Траскина.
Беспокоило Траскина только то, что придется выступать в поход. Но пока приказа не было, и Траскин молил Бога, чтобы Граббе подольше гонялся за Ташавом, а на Шамиля и вовсе не ходил. Можно ведь было и миром дело решить, переговорами. Пусть бы это было долго, пусть бы полки гуляли по горам, устрашая аулы, но чтобы не затевалось больших походов, в которых пришлось бы участвовать и Траскину. Ему этого уже не хотелось, тем более комплекция полковника к этому отнюдь не располагала. Теперь он мог выслужить генеральский чин, и не рискуя жизнью, а лишь пожертвовав малой частью нажитого на Кавказе капитала. Но что бы сказал Чернышев, если бы Траскин увильнул от главного похода, ради которого он был сюда послан?
Граббе вернулся неожиданно.
Траскин спешил поздравить его с победой над возмутителями, но генерал не был похож на триумфатора. Граббе не давала покоя мысль о том, что совершить этот рейд на Ташава вынудил его Шамиль и что результаты похода не принесут большой пользы. Ведь два года назад в этих местах побывал и Фезе, который рапортовал о приведении населения в вечную покорность и даже построил несколько укреплений, не говоря уже о сожженных аулах. Но от побед Фезе не осталось и следа. Все исчезло, как зарастает в лесу тропа, которой редко пользуются. Однако в письме военному министру Чернышеву Граббе этого не писал. Тут требовались другие слова и другие мысли. И за ними дело не стало:
«Ваше сиятельство, граф Александр Иванович!
Мая 15-го возвратился я с отрядом из экспедиции в Ичкерийскую землю против Ташава-хаджи. Троекратное поражение его скопищ и взятие штурмом двух укрепленных его притонов, почитавшихся недоступными, рассеяли ужас в крае. Главные его сообщники пали или ранены; он сам был близок к плену. Взволнованные мирные аулы, совершенно готовые уже пристать к нему, успокоились. Множество аулов, доселе непокорных, к которым послано воззвание, изъявили желание покориться. Другие же, видя судьбу, постигшую соседей на пути нашего отряда, явно отложились от партии возмутителя. С истреблением ближайших к плоскости ичкерийских селений, служивших пристанищем и сборным пунктом скопищам горцев, покорные нам племена и самая Линия предохранены от набегов. Это дает возможность моему отряду исполнить предположенное наступательное движение в Северный Дагестан, не опасаясь уже за свой тыл».
К письму Граббе присовокупил карты, снятые Милютиным в Ахмат-тала и Саясане.
На следующий же день Граббе собрал свой штаб и объявил, что в ближайшие дни намерен выступить на Ахульго. И потребовал к себе проводника, которому было немало заплачено за голову Шамиля.
Траскин испугался, что все выйдет наружу. Он-то надеялся, что про Аркадия давно забыли, тем более что и деньги были отпущены и поделены. Но Граббе был настроен решительно.
– Так где сей герой? – гневно вопрошал генерал.
– Изволите ли видеть, ваше превосходительство, – начал Траскин.
– Лазутчик претерпел столь ужасные мучения, что несколько повредился в уме.
– Но деньги взять, я полагаю, у канальи ума хватило? – с подозрением в голосе полюбопытствовал Граббе.
– Авансом, – кивнул Траскин.
– Мы так на него надеялись…
– Я этого так не оставлю! – пригрозил Граббе.
– А где тот, что с ним ходил, канатный плясун?
– Отыщем, – пообещал Траскин.
– Непременно отыщем, ваше превосходительство.
– Подать обоих сюда! – велел Граббе.
– Не то, господин полковник, сами поведете войска на Ахульго!
Траскин понял, что недооценил генерала. Этот спуску не даст, особенно если дело шло о его карьере. А карьера его покоилась на весьма шатком основании – уничтожит он Шамиля или нет. И тут все средства были хороши.
Глава 59
На Ахульго пекли хлеб. Здесь, как и в каждом ауле, была устроена большая общая пекарня – кор. Женщины являлись сюда в лучших нарядах, как на праздник, и каждая приносила не только свое тесто, но и новости. Это был их выход в свет. Они сидели на подушках вдоль стены, ожидая своей очереди, но, и получив готовый хлеб, не спешили расходиться. Некоторые приносили с собой веретена, пряли шерсть, сучили нити и вязали, ведя бесконечные беседы. Им было любопытно увидеть новеньких, прибывших сюда издалека. Обычно женщины редко покидали свои аулы, разве что отправлялись в соседние на свадьбы или похороны к родственникам. А на Ахульго собрались женщины даже из таких аулов, о существовании которых другие и не подозревали. И каждая горянка была одета по-особому, как одевались в их местах. От множества необычных нарядов и украшений даже подземная пекарня стала похожей на дворец, в котором принимают титулованных особ. Тут было на что посмотреть. Даже привычное чохто, которым женщины укрывали волосы, у всех были разные, не говоря уже о платках и платьях. У женщин из состоятельных семей, у жен или дочерей наибов украшений было больше, и были они дороже, но порой самое простое украшение, изготовленное хорошим мастером с тонким вкусом, победно соперничало с настоящими драгоценностями. Особенно если обладательница его отличалась молодостью и красотой.
Но даже волнующее женские сердца разнообразие нарядов не способно было надолго отвлечь горянок от тревожных мыслей. Их мужья, сыновья и братья собирались в далекий и опасный путь. И хлеба нужно было много.
Этим женским собранием заведовала пожилая тетя Шамиля Меседу. Она же орудовала и у печи, отправляя в ее раскаленное чрево раскатанное тесто на длинной деревянной лопатке. Ею же Меседу вынимала готовый хлеб и каждый раз удивленно его разглядывала, потому что тесто у горянок тоже было разное. У одних – обыкновенное пресное, у других – с травами, у третьих – свернутое особым образом, у четверых – слоеное…
Рядом, в особом отделении, обжаривали зерна овса. Перед тем его хорошенько сушили, а после обжарки мололи, чтобы получить толокно. Это было главной походной пищей, потому что толокно не нужно было еще как-то готовить, достаточно было набрать горсть, добавить немного воды и размять. Примерно так же готовили и тех – из зерен пшеницы, проса и ячменя.
– Чтоб они пропали со своим генералом! – восклицала жена наиба Сурхая.
– И чего им дома не сидится?
– И пропадут! – предрекала жена Али-бека.
– Их, говорят, Ташав так разделал, что сами в крепость убежали.
– Они сюда не дойдут, – уверяла беженка из дальнего села.
– У нас такие дороги – даже горные козлы падают и разбиваются.
– Мы пока ехали, чуть сами в пропасть не сорвались, – добавляли другие.
– А у нас скати камень – и нет дороги.
– Куда им через наши горы!
– Пусть только сунутся, – грозила лопаткой Меседу.
– Мы им покажем!
– Говорят, Шамиль сам пойдет им навстречу, – сообщила жена Сурхая, прижимая к себе свою красавицу-дочку.
Все посмотрели на жену Шамиля Патимат, но та лишь молча пожала плечами.
– Придержите языки, сестры! – предупредила Меседу.
– Я тоже слышала, – добавляла еще одна горянка.
– Туда большое войско собирается.
– Кому говорят! – сердилась Меседу.
– Не болтайте лишнего!
– Мы же не врагам рассказываем, – отвечали горянки.
– Тут все как сестры.
– Все равно не надо, – наставляла Меседу.
– Знаю я вас. Никто ничего не говорит, а потом всем все известно.
– А мой муж спит и видит, как отправится на битву, – вздыхала Парихан, жена Хабиба, мечтавшего стать мюридом. Она была беременна и пришла сюда не столько из необходимости, сколько из желания побыть с другими женщинами.
– Пока не родишь, не видать ему войны, – заверила Меседу, знавшая шамилевские порядки.
– Так ему не терпится, что спрашивал меня, нельзя ли родить поскорее, – смущенно сказала Парихан. Женщины прыснули со смеху.
– А это страшно? – робко спросила Парихан.
– Воевать? – удивилась Патимат.
– Все воюют.
– Нет, рожать, – объяснила Парихан то, что имела в виду.
– Не страшнее, чем замуж выходить, – смеялись женщины.
– Главное – повернуться в нужную сторону, чтобы ребенок счастливый был.
– Как это? – недоумевала Парихан.
– А ты у нее спроси, – показывали женщины на жену Сурхая.
– Вон у нее какая дочка красавица.
– Не слушай их, – успокаивала испуганную Парихан жена наиба.
– Как Аллах даст, так и будет.
– Чего дрожишь, глупая? – улыбалась Патимат.
– Можно подумать, ты – первая. И мы рожали, и нас кто-то родил. Пусть у тебя будет много детей на радость мужу.
– Дети – это наше счастье, – кивала Меседу.
– А проклятая война – наша беда, чтоб ей подавиться своими пушками, – сказала Патимат, которой тоже предстояло родить через несколько месяцев.
Пока женщины делились своими радостями и печалями, в пекарню заглядывали дети. И каждый говорил матери одно и то же:
– Папа зовет.
Женщины сразу грустнели, потому что понимали, что их зовут, чтобы попрощаться. Забрав свои хлеба, они уходили, провожаемые сочувственными взглядами.
– Да сохранит ее мужа Аллах, – говорили остальные.
– Да вернется он живым и здоровым.
Меседу, тем не менее, сохраняла бодрость духа и не давала остальным унывать.
– Ну, давай свое тесто, сестренка! – говорила она очередной женщине, подбрасывая в печь дрова.
– Видите это пламя? Вот такой же ад найдут здесь те, кто посмеет на нас напасть. Надо будет, и сами кинжалы возьмем! Видали мы тут генералов, только где они и где – мы?
В пекарню заглянул Джамалуддин, старший сын Шамиля.
– Папа зовет! – сказал он, отыскав глазами мать. А затем, встретившись взглядом с синеглазой Муслимат – дочерью Сурхая, застыл от радостного изумления. Девочка смутилась и уткнулась головкой в материнское плечо.
– Пошли, пошли, – тянула сына за руку Патимат.
– Мал еще на девушек заглядываться.
Остальные проводили Патимат тяжелыми вздохами. А что касалось Муслимат, то они не были согласны с женой Шамиля и совсем не осуждали Джамалуддина. Каждая ставила себя на место юной красавицы, вспоминала себя в ее возрасте и знала, что внимание Джамалуддина ей далеко не безразлично.
Провожать Шамиля высыпало все население Ахульго. Здесь было множество новых людей, которые никогда прежде не видели этого захватывающего зрелища – выезда имама со своей гвардией.
Его сопровождали постоянные спутники – Юнус и Султанбек, одетые едва ли не лучше самого имама. Юнус высоко держал знамя и пел молитвы, которые подхватывали две сотни отборных мюридов – муртазеков.
Шамиль, как всегда, был сосредоточен. Но краем глаза он видел своих сыновей, которые несколько раз забегали вперед, чтобы еще раз посмотреть на своего знаменитого отца, пока не убедились, что он их заметил. Шамиль слегка улыбнулся им и легким кивком дал понять, что видит их и любит.
Неожиданно дорогу Шамилю преградили аксакалы.
– Возьми и нас, имам! – попросили они.
– Не сидится нам дома!
– Мы еще кое-что можем!
– Я знаю, – ответил Шамиль.
– Но разве недостаточно, что воюют ваши сыновья?
– Может, у них больше силы, но у нас больше умения!
– Я думаю, вы научили их всему, что нужно, – улыбнулся Шамиль.
– Мы хотим воевать, Шамиль! – настаивали старики.
– Дряхлеем тут без настоящего дела.
– Дай нам освежить года!
– Да будет доволен вами всевышний, как доволен вами я, почтенные, – сказал Шамиль.
– Вы и так много делаете. А я меньше всего хочу, чтобы вам пришлось обнажить оружие.
– Тогда возьми хоть меня! – вышел вперед слепой певец.
– Если придется трудно, я расскажу нашим воинам о славных предках!
– Спасибо тебе, отец, – сказал Шамиль.
– Спасибо всем, но не заставляйте меня вам отказывать. Согласитесь, что тут тоже нужны мужественные люди. Я оставляю на вас Ахульго и всех его обитателей. Разве это не важное дело – защищать столицу Имамата, когда враг может появиться откуда угодно?
– Как придет, так и уйдет! – зашумели старики.
– Ты хоть главного над нами назначь, старшину!
– Пусть им будет Курбан! – объявил Шамиль, показывая на старого чабана.
– Чабан? – удивились старики.
– Мы ему что, бараны?
– Не хотите Курбана – выберите другого сами, – посоветовал Шамиль.
– Но Курбану уже приходилось защищать Ахульго.
– Ладно, – согласились старики.
– Пусть будет по-твоему.
– Пусть Курбан командует.
– Имам сказал, значит, так и надо.
– Счастливого пути, Шамиль!
И старики расступились, пропуская отряд имама.
Женщины посылали имаму добрые пожелания и молили всевышнего о даровании воинам победы, дети рвались из материнскими рук, желая присоединиться к кавалькаде известных джигитов. Девушки пересказывали новые легенды, которыми имя Шамиля обрастало день ото дня. Порой это были почти волшебные деяния, которые молва приписывала имаму горцев, и многое в них было преувеличено. Но такова была участь вождя, любимого народом. Лишись он этой любви, его неудачам молва тоже бы приписала чудовищные размеры.
Шамиль понимал, что его деяния каждый мог расценивать по-своему. И не всех они могли устроить. Легче было бы снять с себя имамское звание, чем сделать так, чтобы все были довольны. Но, принимая даже самые трудные решения, Шамиль руководствовался главными ценностями горцев – верой и свободой. Теперь же было вовсе не до сомнений. Над независимостью горцев сгущались грозовые тучи. И, чтобы спасти горы от покорения, требовалось напряжение всех сил, на которое были способны горцы. В душе Шамиль не сомневался, что горы никому и никогда не покорятся, но сейчас нужно было решать насущные военные задачи.
Донесения верных людей подтверждали его предположения, а сверх того приводились точные цифры. Из Внезапной, с севера, скоро должен был выступить главный отряд Граббе в восемь тысяч человек с пушками и милицией. Другая часть отряда, около шести тысяч солдат, тоже с пушками и милицией, ждала приказа, чтобы выступить из Темир-Хан-Шуры, с востока. Еще один отряд под предводительством Головина мог двинуться с юга, если его не задержит Ага-бек. И в самих горах, в Хунзахе, ждал в крепости гарнизон, который с конницей Хаджи-Мурада представлял немалую силу.
Но прежде всего нужно было остановить Граббе с его огромным отрядом, а еще лучше – разгромить. Все возможные меры были приняты. Граббе ожидало несколько линий обороны. Главные аулы на его пути были основательно укреплены, другие – оставлены, дороги были разрушены, а горные хребты и перевалы занимали наибы со своими мюридами и ополчением. Всего в распоряжении Шамиля было около пяти тысяч воинов.
На стороне противника были многократный перевес и сильная артиллерия. Но Шамиль верил в своих людей. Его наибы и мюриды давно уже были не просто воинами. Когда дело того требовало, они сами перевоплощались в Шамиля и умели воспламенять сердца людей, поднимая их на борьбу. Преданные имаму до самозабвения, отважные до безрассудства, ученые и отлично вооруженные, они приводили в движение целые общества, служа им примером и руководством к действию. Их слово было словом Шамиля, их дело было общим делом. Это они согнули в бараний рог горских аристократов, противившихся народной воле, они выпрямили спины рабов, они первыми шли на штыки и не оставляли поле боя без приказа. И еще Шамиль надеялся на свои горы. Один только вид этих высоких хребтов и бесчисленных мрачных ущелий способен был зародить трепет в тех, кто попадал сюда впервые. Этот каменный хаос, казалось, самой природой был создан для упорной обороны.
Глядя на крутизну скал, поднимающихся к небу и исчезающих в облаках, впервые попавшему в эти горы трудно было даже помыслить о том, что эти преграды можно преодолеть. А увидев гнездящийся над пропастью аул, можно было легко поверить, что там живут не люди, а могущественные горные духи.
Но люди ко всему привыкали, а штык везде находил себе дорогу, если не натыкался на кинжал. И теперь должно было решиться, кто кого одолеет.
Отряд Шамиля скрылся за горой. Люди начали расходиться, тревожно обсуждая происходящее. А старики, польщенные вниманием Шамиля, принялись рассказывать друг другу о своих былых подвигах, набегах и стычках с неприятелем. Им было что рассказать, и каждый старался удивить других.
Когда Курбан вернулся домой, он застал невестку в слезах.
– Где Хабиб? – спросил Курбан, почувствовав неладное.
Парихан показала глазами на свою комнату. Курбан откинул занавеску, служившую дверью, и увидел сына, который лежал ничком, в отчаянии сжимая кулаки.
– Хабиб, – позвал его отец.
Тот вскочил и негодующе воскликнул:
– Зачем ты спрятал мое оружие?
– Ты бы ушел, – ответил отец.
– Я не трус, чтобы отсиживаться дома, когда мои друзья ушли воевать, – сказал Хабиб.
– Все равно уйду!
– Придет и твое время, – тяжело произнес Курбан.
– А пока ты отправишься на хутор.
– На хутор?! – не верил сын.
– Люди пригнали много скота из брошенных аулов, – объяснял Курбан.
– А здесь вокруг уже не хватает травы. Мне трудно справиться с таким стадом. А нам оно очень понадобиться, потому что война будет долгой.
– Я не пойду, – глухо ответил Хабиб.
– Пойдешь, – настаивал Курбан.
– Больше некому. И возьмешь с собой Парихан. Ты мой единственный сын, и я не хочу, чтобы наш род прервался. А когда она родит, подумаем, что делать дальше.
– Я хочу драться, – стоял на своем Хабиб.
– Послушай отца, – просил Курбан, – и ты спасешь много жизней. Это не менее важно, чем рубить саблей. Шамиль скажет тебе спасибо, вот увидишь.
– Лучше бы ты меня отпустил с мюридами, – удрученно произнес Хабиб.
– А ты и есть мюрид, – похлопал его по плечу Курбан.
– Ты будешь служить народу, который нуждается не только в защите, но и в пище.
Курбан вышел и скоро вернулся с кинжалом и саблей. Сначала он отдал сыну кинжал, а саблю вручил ему свою, знаменитую, с двумя клинками.
– Зулькарнай, – сказал Курбан, вешая саблю сына на место бывшей своей.
– Знаю, ты не опозоришь родовое оружие.
Эта сабля была мечтой Хабиба. Он благодарно улыбнулся и сказал:
– Я сделаю, как ты сказал, отец.
Наутро они с женой собрали свой скудный скарб, водрузили его на коня и спустились с Ахульго. Там Хабиб собрал овец в одну отару и перегнал через легкий мост из нескольких бревен, устроенный неподалеку от Ахульго. Потом перевел через него жену и коня, и они начали подниматься в горы, направляясь на летний кутан.
Глава 60
В Темир-Хан-Шуре ждали приказа к выступлению. Но получали только неутешительные сведения о том, как Граббе преследовал Ташава, а потом сам уносил от него ноги. Части, расположенные в Шуре, находились теперь под общим началом генерал-майора Ильи Пантелеева. Он уже совершил несколько рейдов к непокорным горцам, отбил занятые мюридами Гимры и Ирганай поблизости от шамхальских владений и вернулся обратно. Он старался далеко не забираться, экономя силы для решительных операций. Известия о приключениях Граббе он воспринимал с нескрываемым раздражением. Он вообще отказывался понимать, почему Граббе вдруг оказался его начальником. У Пантелеева самого было немало заслуг. Происходивший из обер-офицерских детей, Илья Андреевич начал службу подпоручиком Питерского ополчения во время Наполеоновского нашествия и прошел путь до генерал-майора, побывав на многих войнах и командуя разными полками. Он имел немало орденов и несколько высочайших благоволений за примерную службу. А год назад был возведен в генералы, назначен командиром 1-й бригады 19-й пехотной дивизии, а затем и командующим войсками в Северном Дагестане. Пантелеев был военным до мозга костей, у которого, кроме жалования, было всего пять душ крестьян в Лифляндской губернии, да и те были из приданого жены.
Пантелеев считал Граббе выскочкой и фанфароном, не понимающим, что такое Кавказ. А среди близких друзей не забывал с сарказмом упомянуть о его несостоявшейся дуэли с бароном Анрепом. Теперь он мог добавить к этому, что дуэль, возможно, и состоится, потому что тот самый Анреп, как он слышал, получил назначение на Кавказ, на Черноморье, под начало к Раевскому.
Лиза пребывала в неустанных поисках возможности отправиться к мужу в Хунзах. Она просила аудиенции у Пантелеева, но принять ее генерал поручил Попову, который и без того знал, чего добивается эта взбалмошная особа.
Убедившись, что так ей к мужу не попасть, Лиза решилась на крайнее средство. Она задумала любым способом вызволить из лазарета Аркадия, который клялся, что сопроводит ее куда угодно, лишь бы его избавили от общества психиатра и его пациентов. Лиза употребила все свои знакомства среди офицерских семейств, писала фрейлине в Петербург, подкупала часовых, но все было напрасно.
Тем временем в лавках Аванеса росли запасы маркитантских товаров, и Лиза уже начала разбираться, что чего стоит, какой товар ходовой, а который не очень. Иногда, когда жена маркитанта Каринэ была занята детьми, Лиза сама принимала товар и распределяла его по своим местам.
Аванес был доволен свой постоялицей и втайне вздыхал, что он не мусульманин, которым разрешено иметь несколько жен, и что Лиза – замужем, хотя замужество ее было столь необыкновенно, что она не видела мужа с тех пор, как с ним обвенчалась. Но больше всего удивляла Аванеса ее преданность Михаилу. Между делом Аванес и сам пробовал узнать, нельзя ли как-нибудь извлечь Аркадия из сомнительного заведения, при этом ничуть не сомневаясь, что он находится там заслуженно. Однажды вечером он сказал отчаявшейся Лизе:
Глава 61
Как ни спешил Граббе выступить, а на приготовление к новому походу ушла целая неделя.
Офицеры укладывали свои вещи в дорожные вьюки и писали письма родным. А вечерами пили вино и играли в карты. Перед походом было не грех и проиграться, ведь могло случиться, что отдавать долг было бы уже некому.
Солдаты зашивали ободранную одежду, чинили сапоги, чистили оружие и запасались патронами. А на базаре Эндирея спускали почти задаром трофейное добро и оружие.
На этот раз Граббе решил не полагаться на Траскина и самолично инспектировал отряд, проверяя, все ли припасы в достатке, особенно по части пуль и снарядов. Не все было так, как полагалось, но Граббе решил не вдаваться в мелочи перед большим делом. Важнее было определиться с прибывшим в его распоряжение генерал-майором Аполлоном Галафеевым, командующим 20-й пехотной дивизией. Генерал он был опытный, а послужной список его напоминал военную биографию самого Граббе. Он успел и в Отечественной войне отличиться, и в заграничные походы сходить, и в Турции повоевать, и в Польше бунтарей усмирял. На Кавказе – всего год, зато лет десять до того командовал егерским полком. Граббе решил определить Галафеева по прямому назначению и отдал в его распоряжение всю пехоту отряда. Даже наружность Галафеева олицетворяла собой пехотного командира: он был коренаст и приземист, с небольшими усиками и огромной челюстью и больше любил сидеть на турецком барабане, чем на лошади.
Когда было объявлено о скором выступлении, в крепости и отрядном лагере началась суматоха. Полковые адъютанты усердно звенели шпорами, исполняя приказы. Вестовые скакали во все гарнизоны, разнося «летучки» и секретные предписания. Шамхальская и Мехтулинская милиции пополнялись беками и старшинами, почуявшими, что поход предстоит решительный, а может быть, и окончательный.
Эта мысль будоражила всех, потому что сам Граббе торжественно сообщил на последнем перед выходом смотре:
– Это будет не обычная экспедиция, господа офицеры. Это будет удар милосердия! Пусть единожды прольется малая кровь, дабы не текла веками большая.
Рана Милютина еще не зажила, но он снова рвался в бой. Начальник отрядного штаба Пулло велел ему составить надежную карту, и Милютин не жалел сил, чтобы исполнить приказание.
По сведениям лазутчиков выходило, что до Ахульго около восьмидесяти верст, но в точности никто не знал. Лазутчики путались в показаниях и противоречили друг другу. Даже названия гор и перевалов у них не сходились. Аулы то оказывались перед каким-то глубоким оврагом, то позади него. А то вдруг овраг обращался в пропасть, а вместо холма образовывался непреодолимый перевал. У Милютина голова шла кругом. Затем он начал подозревать, что лазутчики намеренно вводят его в заблуждение. Милютин рвал карты и начинал составлять новые. А затем оказывалось, что некоторые лазутчики говорят одно и то же, только видели они эти перевалы с разных сторон, а о картографии не имеют ни малейшего представления. При этом каждый старался преувеличить свои заслуги в полной уверенности, что добьется желаемого, если назовет хутор аулом, а козью тропу – аробной дорогой. Не сходясь в показаниях, лазутчики начинали между собой спорить, и дело могло кончиться кинжалами, если бы Милютин не успевал вмешаться.
Толку от таких сведений было мало. Ясно было одно: отряду предстояло двигаться на юг, преодолевать горы и перевалы, ущелья и реки. И все это в Салатавии и Гумбете – обществах немирных, преданных Шамилю, где еще не ступала нога солдата, где аулы были из камня, и каждый мог оказаться крепостью.
Оставалась еще надежда на господина Синицына, которому Милютин сам давал уроки по глазомерной съемке местности. Докладывая о нем Пулло, Милютин не забыл упомянуть, как этот субъект вызывающе вел себя на маскараде и дерзил высшему начальству. А кроме того, был известен своей идеей fixe насчет вызова на дуэль Шамиля. И что Синицын на самом деле повредился в рассудке после того, как попробовал проникнуть в обитель Шамиля под видом умалишенного, где лазутчика чуть не зарезали раскусившие его притворство мюриды.
Однако Пулло слышал, что душевнобольные люди порой являют чудеса, особенно по части воспоминаний и живости красок при описании когда-то ими увиденного. А потому велел доставить Синицына к нему, чтобы самому его допросить.
Когда Аркадия привезли во Внезапную, Пулло показалось, что этот господин скорее чем-то опечален, чем похож на душевнобольного. Впрочем, и здоровый человек выглядел бы не лучше, окажись он на месте Синицына. Но Пулло знал, что иногда даже очень больные люди считают себя вполне здоровыми, а потому решил побеседовать с бывшим лазутчиком как с обычным человеком.
– Наконец-то, милостивый государь! – бросился он к Аркадию.
– Не имею чести вас знать, – холодно ответил Синицын.
– А я о вас много наслышан, – развел руками Пулло.
– А кроме того, мы виделись с вами на маскараде в Шуре.
– В самом деле? – вгляделся в полковника Синицын.
– Я вас очень запомнил, – убеждал Пулло, хотя ни в каком маскараде не участвовал.
– Нас тогда не представили, но, уверяю вас, вы произвели на общество большое впечатление.
– Не имел такого намерения, – уже мягче ответил Синицын, польщенный словами Пулло.
– Об вас только и говорили! – продолжал льстить Пулло.
– И о вашем подвиге все наслышаны.
– Что вы имеете в виду, сударь? – насторожился Синицын.
– Будто не знаете, – улыбнулся Пулло.
– До вас-то никто не решился проникнуть так далеко к противнику.
– А, это… – махнул рукой Синицын.
– Если бы до Шамиля добрался, было бы о чем говорить.
– Как раз об этом я и хочу с вами потолковать, – объяснил Пулло.
– Не стоит, – покачал головой Синицын.
– Отчего же?
– Оттого, сударь, что в прошлый раз это кончилось ужасно.
– Синицын набрался духу и нервно выпалил.
– Вот вы говорите, что это подвиг, а они… Эти жандармы!.. Душители свободы!.. Они меня к умалишенным упрятали!
– Но вы же умный человек, – успокаивал его Пулло.
– Разве не понимаете, что это было сделано в интересах дела? И ради вашей же пользы.
– Моей пользы? – негодовал Синицын.
– Вы думаете, я и в правду сумасшедший?
– Вовсе нет, сударь, – уверял Пулло.
– Просто начальство так вами дорожило, что пыталось спасти.
– Спасти? – не понимал Синицын.
– От кого?
– Так ведь вас, открою вам тайну, абреки собирались выкрасть.
– Как – абреки? – Аркадий был потрясен.
– Зачем?
– Убить хотели, – сообщил Пулло.
– Когда узнали, что вы их оставили с носом, то поклялись, что отрежут вам голову.
– И Пулло принялся выдумывать дальше.
– По Шуре ночами рыскали, искали вас, драгоценнейший. Знали, что ваши сведения для них – погибель.
– Ах вот оно что!..
– задумался Синицын.
– Так что не извольте держать на нас зла, – дружески похлопал его по плечу Пулло.
– А сведения ваши нам теперь очень пригодятся.
– В поход собрались? – догадался Синицын.
– На Шамиля, – кивнул Пулло.
– Вы ведь дороги знаете?
– Отлично знаю, – с готовностью подтвердил Синицын.
Пулло раскинул перед ним карту.
– Ну вот хотя бы от крепости, – показывал карандашом полковник.
– Вы ведь отсюда шли?
– Точно так, – кивнул Синицын, всматриваясь в карту.
– Значит, по этой дороге? – показывал Пулло.
– Сначала по ней, а после – через лес, напрямую, к аулу этому, как его, Инчха!
– Так-так, – чертил Пулло.
– А что бы означало сие название?
– Не могу знать, – по-военному отвечал Синицын.
– Но по-аварски инч – вроде как птица.
– Впрочем, это неважно, – делал пометки Пулло.
– Значит, сколько туда верст будет?
– Точно не припомню, – задумался Аркадий.
– Полагаю, что-то около двенадцати, если напрямую.
– А далее? – любопытствовал Пулло.
– Далее – Хубар, там у меня кунаки, – сообщил Синицын.
– Кунаки? – удивился Пулло.
– Это хорошо, очень хорошо. Ну а до кунаков сколько верст?
– Что-то вроде пяти, – припоминал Аркадий.
– И все в гору. Он на высоте такой расположен, аул этот.
– Великолепно! – вписывал что-то в карты Пулло.
– А далее, значит, тот самый Буртунай?
– Нет, – сказал Аркадий.
– Там далее овраг, вернее – пропасть, будто земля разверзлась.
– Пропасть… – писал Пулло.
– А затем, если даст Бог из пропасти выбраться, и Буртунай неподалеку, – показал Аркадий место на карте, где по его мнению должен располагаться Буртунай.
– Верст пятнадцать от Хубара будет. А потом уже и главный перевал, за которым Шамиль обитает.
– А в Буртунае у вас тоже кунаки? – спросил Пулло.
– Там – самые надежные, – уверял Аркадий.
– С дворянским, доложу я вам, обхождением. Помню, главного звали… Юнусом! Он-то меня и спас!
– Да вас за такие сведения к ордену следовало бы представить, – хвалил Пулло.
– Думаете, это возможно? – обрадовался Аркадий.
– Кому же давать, как не вам? – заверил Пулло.
– Если не Святой Анны, то уж Владимира непременно.
– Батюшка мой был бы очень рад, – улыбался Аркадий.
– А так как вы имеете честь быть приписанным к полку, то, глядишь, и Георгия не пожалеют, – сулил Пулло.
– Но это, конечно, при положительных результатах экспедиции.
– Я все там знаю! – горячо убеждал Аркадий, уже видевший себя офицером с Георгием на груди.
– Вот и чудесно, – кивал Пулло.
– А теперь расскажите мне про дороги.
– Дороги как дороги, – сказал Аркадий.
– Артиллерия пройдет? – точил карандаш Пулло.
– Обозы, транспорты?
– Наверное, – неуверенно сказал Аркадий.
– Поточнее бы, господин Синицын, – настаивал Пулло.
– Мы ведь не на пикник собираемся.
– Там говорили, что даже через перевал на арбах ездят, как по шоссе.
– А вы сами эти дороги, глазомерно, видели?
– По которым ходил, те видел, а остальные… Мне их Юнус, кунак мой, показывал. Только ведь снег лежал, разве разглядишь?
– Ну что ж, – заключил Пулло, стараясь скрыть разочарование.
– На месте и покажете.
– Я все запомнил, – уверял Синицын.
– Вы только в поход меня возьмите, а там кунаки подскажут.
– Непременно, – обещал Пулло, выпроваживая Синицына.
– А теперь, простите великодушно, служба-с.
Пулло тут же вызвал Милютина, и они снова обратились к карте, сопоставляя показания Синицына со сведениями от других лазутчиков.
– Он, конечно, не в себе, но совсем в другом смысле, – сказал Пулло.
– Маршрут описал весьма картинно.
– Кое-что сходится, – соглашался Милютин.
– По крайней мере путь до первых аулов ясен.
– А там видно будет, – заключил Пулло.
Ночью Лизу разбудил грохот. Она бросилась к окну и увидела, что мимо их дома двигаются войска. Артиллерийские повозки гремели колесами, кони стучали подковами, а пехота шла гурьбой. Офицеры и ординарцы перекрикивались, сбивая батальоны в правильный строй, но по узости шуринских улиц сделать это было затруднительно.
– Уходят?! – всполошилась Лиза и побежала будить семейство маркитантов.
– Кто? Зачем? – сонно откликалась из спальни Каринэ.
– Да проснитесь же вы! – кричала Лиза.
– Войска уходят!
– Без меня не уйдут, – сказал Аванес.
Но все же встал и, подавляя зевоту, подошел к окну. Войска и в самом деле уходили.
– Вай! – заорал Аванес, набрасывая халат.
– Почему уходят? А мой товар?!
Он выскочил из дому и бросился наперерез солдатам.
– Стойте! – кричал он, раскинув руки.
– С дороги! – оттеснил его лошадью прапорщик.
– Какая война без Аванеса? – горестно причитал маркитант.
– Меня возьмите!
Наконец, он заметил Попова, который считался его покровителем.
– Господин полковник! – бросился к нему маркитант.
– А я как же?
– Что же ты спишь, любезный? – удивился Попов.
– Обещали предупредить, господин полковник! – напомнил Аванес.
– Срочный приказ, – объяснил Попов.
– Сам видишь, ночью выступаем. До тебя ли было, когда экстренная надобность.
– Подождите меня, я быстро! – обещал Аванес.
– Рад бы, любезный, да не могу, – ответил Попов, трогая лошадь.
– А ты не сокрушайся. Через день-другой сам Пантелеев с третьим батальоном двинется. Не проморгай только!
– Сударь! – окликнула Попова Лиза, успевшая уже одеться и державшая в руках саквояж, который давно был у нее наготове.
– Возьмите меня, прошу вас!
– Я уже имел честь сообщить вам, что война – не место для дам, – нахмурился Попов.
– Тем более, для княгинь. Прощайте, сударыня!
И Попов поскакал вперед, покрикивая на солдат.
– Поживей, поживей, ребята! Держи строй, не то плетью выровняю! Шевелись!
Войска уходили. Лиза рыдала от отчаяния. А Аванес озадаченно чесал в затылке, проклиная полкового интенданта, с которым вчера выпил лишнего.
Глава 62
Граббе с войсками главного отряда выступил из Внезапной утром 21 мая. Население, которое стекалось на местный базар, спешно убирало с дороги свои арбы, груженные плетенными корзинами с ранней майской черешней. Одни провожали войска с сожалением, потому что лишались стольких покупателей. Другие смотрели с затаенной тревогой. Они думали теперь не о шумном базаре, а о свои аулах, с которыми могло случиться что угодно. Но даже если уцелеют аулы и жителям не придется снова бежать, бросая нажитое, то непременно будут взяты в аулах заложники-аманаты. Если не солдатами, в залог замирения аула, так мюридами, чтобы аул не смел помогать противнику. Война всем надоела, люди мечтали спокойно трудиться на полях и в садах. Они знали, что и солдаты хотели мира, чтобы вернуться в свои деревни, к своим семьям. Но их никто не спрашивал, им только приказывали.
– Куда идем, братцы? – спрашивали солдаты друг друга.
– Про то барабанщики знают, – отвечал ротный.
– Шагай себе, не зевай.
В авангарде колонны ехал Стефан Развадовский, а сразу за ним маршировал оркестр. Пока гремели только турецкие барабаны, грозно возвещая о движении войск. Часть оркестра Траскин забрал с собой, чтобы не скучать по дороге.
На сердце у Стефана было тяжело. Он оглядывался на своих ребят и видел по глазам, как жаль им расставаться с веселой жизнью в крепости. Стефан понимал, что не все из них вернутся обратно, и это было вдвойне печальней, потому что многие из них обладали настоящими талантами, которым место было на хорошей сцене, а не на войне. Но понемногу мощное движение отряда и боевой дух солдат наполнили Стефана своей особой энергией. Он ощутил себя полководцем, ведущим в бой армию, и подал знак песельникам.
– Запевай!
Барабаны смолкли, вступили другие инструменты, и песельники затянули:
Полетел орёл двуглавый К непокорным племенам, И покрылся новой славой Он на страх своим врагам…
Пешие батальоны, конные казаки, туземная милиция, саперы – все двигались походным порядком. Солдаты шли налегке, имея только оружие, скатанные шинели через плечо и по манерке – походной фляжке с водой.
Остальное было оставлено в обозе, который вместе с артиллерией ушел еще накануне ночью. Граббе выслал их в другую сторону, на восток. Так он надеялся запутать шамилевских лазутчиков, которые могли подумать, что отряд выходит на учения, налегке, а все тяжести отправлены на приморскую равнину, в Чир-Юрт. На самом же деле обоз и артиллерия были пущены обходным путем, чтобы не двигаться через лес, где их могли ждать серьезные трудности, если не опасность быть отбитыми. Пройдя по хорошей и безопасной дороге до Бавтугая, эта колонна должна была свернуть на юг, пройти вдоль реки Сулак до Миатли, а затем опять свернуть на запад, чтобы соединиться с главным отрядом неподалеку от Хубара. Колонной командовал Траскин, который старался как можно дальше оттянуть момент, когда его изнеженным бокам придется познакомиться с настоящими горными дорогами.
Пока была возможность, Граббе ехал в коляске, закрывшись ее раскладным верхом от припекавшего все сильнее солнца. Командующего сопровождала большая свита из адъютантов, прочих штабных и местной знати.
Милютин с Васильчиковым ехали поблизости, жадно разглядывая окрестные сады. Иногда им удавалось дотянуться шашкой до ветки черешни, и они лакомились сочными ягодами, радуясь, как в детстве, когда обдирали с друзьями крыжовник в чужом саду. Но открытая местность скоро кончилась, и отряд втягивался по узкой дороге в густой лес.
Песни смолкли. В авангард вышли части прикрытия. Вокруг всего отряда двигались цепи стрелков.
Дубы и буки заслоняли кронами небо. В лесу было прохладно, но тревожно. Те, кто ходил на Ташава, особенно остро чувствовали таящуюся в зарослях опасность. Их настороженность передавалась остальным. Отряд шел молча, будто это могло сделать большое войско невидимым. Казалось, что из-за толстых деревьев за ними кто-то следит, выжидая удобной минуты, чтобы напасть, или что кто-то уже взял цель на мушку и не спускает курок лишь потому, что хочет послать пулю наверняка. Напряжение было так велико, что никто бы не удивился, появись из-за деревьев Ташав со своими мюридами. Напротив, люди будто сами этого хотели, чтобы наконец разрядить ружья, сжимаемые вспотевшими ладонями, и сбросить с себя гнетущее бремя беспокойного ожидания.
Вот что-то метнулось в зарослях, затрещали сухие сучья, и… загремела пальба. Тысячи пуль косили ветки, впивались в стволы и дырявили листву. Когда все успокоилось, разведка бросилась искать засаду.
Отряд остановился, ощетинившись винтовками и выжидая результатов поисков. Двое егерей нашли следы крови и пошли по ним, безрассудно рискуя головой. Неподалеку, в заваленной гнилыми желудями ложбине, они увидели раненую кабаниху, которая уходила, волоча перебитую ногу, окруженная выводком полосатых поросят. Егеря бросились следом, стреляя, чтобы добить зверя. Кабаниха пыталась отбиваться, бросалась на солдат, и щетина на ее спине топорщилась боевым гребнем.
Солдаты долго не возвращались, и тогда за ними был послан взвод. Егерей нашли убитыми. Ни ружей, ни кинжалов, ни шинелей или манерок при них не оказалось. Только лежала рядом истекающая кровью кабаниха, которую торопливо сосали поросята.
Четверо солдат понесли погибших назад. Остальные переловили поросят, зарезали и разделали кабаниху, и все унесли с собой. Отряду было объявлено, что солдат задрали кабаны, трофеи отправили поварам, и войско двинулось дальше, приняв возможные меры предосторожности.
Колонна Траскина из артиллерии и обоза ползла гигантским удавом, растянувшись на несколько верст. Когда голова этого чудовища выползала из очередного аула, хвост еще только в него втягивался.
Было жарко и пыльно, и это бесило Траскина, ехавшего в середине колонны в своей удобной кибитке. Пыль проникала даже в бисквиты, которые беспрестанно жевал Траскин. Он не имел ни малейшего желания воевать, нервничал от одной мысли о том, что самое трудное еще впереди, и еда его немного успокаивала.
Колонна теперь двигались вдоль реки, но никакой свежести от нее не доносилось. Напротив, столбы пыли, поднимаемые тяжелыми телегами и арбами, казалось, вот-вот поглотят и саму реку.
Среди прочих, прыгая на ухабах, двигалась артиллерийская повозка, которой управлял Ефимка. Он был горд, что, наконец вышел в настоящий поход. Волы к нему давно привыкли и вели себя послушно, так что ему не приходилось слишком часто пускать в ход длинный кнут. Завидев очередной аул, Ефимка изводил всех вопросами, его ли они теперь будут бомбить и здесь ли живет Шамиль?
Как и прежде, Ефимка сидел на зарядном ящике, с которого ему было все видно. Ему немного мешал большой кинжал, висевший на поясе, но Ефимку это не смущало. Напротив, завидев мальчишек, таращившихся на пришельцев с крыш и деревьев, он вынимал кинжал и играл клинком, посылая в сверстников солнечных зайчиков. Мальчишки в ответ грозили ему кулаками, а Ефимка показывал им на свою грозную пушку. Но на привалах Ефимка быстро находил с ребятами общий язык. Расписав страшную силу ядер, гранат и картечи, он вступал с потрясенными мальчишками в торг. За металлическую пуговицу они приносили ему молока, хлеба и даже сладкий тутовник, который таял во рту, но руки от него становились ярко красными.
Траскин вспомнил про песельников, которых специально взял с собой, и велел им петь.
Солдаты привычно затянули:
Пыль клубится по дороге Тонкой длинной полосой. Из Червлённой по тревоге Скачет полк наш Гребенской.
Заслышав песню, Ефимка привстал на козлах, радостно улыбаясь и помахивая кнутом. Песельники оказались недалеко, впереди полковничьей кибитки.
Скачет, мчится, точно буря, К Гудермесу подскакал, Где Кази-мулла с ордою В десять тысяч его ждал.
Траскин вслушался в песню, и она ему не понравилась.
– Молчать, болваны! – закричал он, высунувшись из кибитки.
Но песельники продолжали:
Орда дрогнула, бежала, Мы помчалися за ней, Но ждала нас там засада Из отважных всех людей…
Взбешенный Траскин запустил в солиста недоеденным бисквитом.
– Отставить! – кричал Траскин.
– Что за песни дурацкие?
Солдат смахнул крошки и сказал товарищу:
– Вишь, какую харю отъел.
– Кому война, а кому – мать родная, – ответил другой солдат.
– Эх, барин, попадись ты мне в бою, – посулил первый солдат.
– Уж я на тебя пули не пожалею…
– Не молчать! – гневался Траскин.
– Пойте, сукины дети! Только другое что-нибудь, веселое!
– Чего прикажете, ваше превосходительство? – спросил тот, который был готов пристрелить Траскина.
Траскин растерялся, не зная, что велеть. Но тут ему на помощь пришел Ефимка, затянув переделанный на артиллерийский лад куплет из полюбившейся ему песни:
Солдатушки, бравы ребятушки, Где же ваши жены? Наши жены – пушки заряжены, Вот где наши жены!
– Орел! – похвалил Траскин и бросил Ефимке завернутый в салфетку бисквит.
Следом за Ефимкой подхватили песню и остальные:
– Солдатушки, бравы ребятушки…
Ефимка осторожно развернул салфетку, будто в ней была граната, ощутил дурманящий аромат и с большим трудом заставил себя откусить краешек барского кушанья.
– Смотри, не подавись! – кричали ему солдаты.
Но Ефимка был на вершине блаженства. Не посмев разом съесть драгоценное яство, он завернул остатки в салфетку и спрятал за пазуху.
Глава 63
Миновав лес, отряд Граббе вышел к горе Буюн-Баш, служившей границей, за которой начиналась Салатавия. Дежуривший на ней дозор горцев ждал до последнего и скрылся только тогда, когда по нему начали стрелять.
Перевалив через невысокий хребет, с которого открывалась грандиозная панорама гор и долин Салатавии, отряд снова двинулся через лес и прошел его без единого выстрела. Затем спустился к речке и стал лагерем в виду аулов Инчха и Гостала.
Аулы были покинуты жителями, и Граббе не стал их разорять. Горцы не показывали враждебных намерений, а отряду нужно было собраться с силами перед трудными переходами. Но солдаты горели желанием порыскать в брошенном ауле, и туда было отправлена рота егерей под предлогом заготовки дров. Кроме дров, егеря ничего не нашли и вернулись недовольные. Зато скоро лагерь осветился пламенем костров.
Разбив палатки и составив ружья в пирамиды, солдаты принялись готовить ужин. Не успели закипеть котлы на кострах, как со стороны Инчха появилась колонна с артиллерией и обозом.
Траскин, хотя и ехал в приспособленной для него калмыцкой кибитке, едва стоял на ногах, докладывая Граббе о благополучном прибытии.
Несколько десятков повозок поставили в каре, соорудив таким образом вагенбург, в центре которого разместились палатки штаба и самого Граббе.
Милютин отыскал Аркадия, за которым присматривал жандарм, и принялся уточнять дальнейший маршрут. Небольшие поправки Милютин успел внести, еще когда они переваливали через хребет. И тогда Милютин убедился, что показания Аркадия вполне соответствуют действительности.
Лучшие куски добытой при переходе через лес кабанихи жарили на вертелах для офицеров, а поросята предназначались главному начальству. Милиционеры развели свои костры, чтобы зажарить баранов. Но сначала они долго выбирали место, чтобы даже запах от костров, на которых жарили свинину, уносило в другую сторону.
Траскин только посмеивался, наблюдая за мучениями ханских людей.
– Отчего вы не едите свинину? – недоумевал Траскин.
– Грязное животное, – морщились беки.
– Харам!
– Разве ж в лесу грязно? – спрашивал Траскин.
– Они, я слышал, желудями питаются.
– Они все жрут, – объясняли беки.
– Даже своих детей! – Не слыхал такого, – покачал головой Траскин.
– И запах как от шайтана, – настаивали беки.
– Не то что есть, на них смотреть противно!
– Предрассудки, – отмахнулся Траскин.
– За ужином разберемся, что лучше.
Стол был накрыт в теплой палатке Траскина, но беки на ужин не явились. Только прислали ягненка, запеченного с душистыми травами.
Траскин съел поросенка, закусил куском ягнятины и удовлетворенно заключил:
– Все полезно, что в рот влезло. Граббе ограничился ножкой ягненка, Галафеев нахваливал оба блюда. Прочие штабные офицеры молча ели то, что оставалось, запивая отменным кизлярским вином, которого у Траскина было припасено вдоволь.
Насытившись, Траскин принялся раскуривать сигару, приглашая остальных последовать его примеру. Но Граббе отказался. В сопровождении своего адъютанта Васильчикова он пошел прогуляться вдоль речки, которая нежно журчала в темноте. Граббе готов был выступить дальше хотя бы и ночью, если бы успели подойти Апшеронские батальоны из Темир-Хан-Шуры, которые следовали через Миатлинскую переправу. Однако ни батальонов, ни сведений об их движении пока не было. Уже сыграли зорю, и лагерь понемногу погружался в сон.
Но Граббе не спалось. Он прочел молитву, какую обычно читал перед сном, но на этот раз молитва его только взбодрила. Граббе вдруг подумал, что его лютеранская вера имеет нечто общее с мусульманством. Он не мог сказать точно, что именно, но чувствовал в горцах родственную душу. Мартин Лютер ведь тоже отказался признавать посредников между человеком и Богом, потому и отвергал папские индульгенции на отпущение грехов. Как и Шамиль, Лютер сначала проповедовал абсолютную свободу. Правда, потом он зачем-то пошел на попятную, объявив, что крепостное состояние этой свободе не мешает. И все же дух непокорности витал не только на Кавказе. Возможно, это упрямство лютеранина и мешало Граббе делать карьеру, иначе с чего бы он наговорил колкостей Чернышеву, когда тот допрашивал его по делу декабристов?
Граббе признавался себе, что Мартин Лютер не пошел бы воевать с Шамилем. Ведь в сущности Шамиль хотел немногого – чтобы у его народа не отнимали свободы, которая приросла к горцам, как кожа, и дали им жить по законам своей веры. Только вот ханы… Впрочем, Граббе был уверен, что напрасно император полагался на этих прохвостов. От них было больше беспокойства, чем от мюридов. Подвернется случай – продадут, не моргнув глазом. А Шамиль, надо признать, слово держал и договоры не нарушал. Только что могло сделать его слово против меняющихся интересов кавказского начальства? Эти вольные горцы, не признающие никакой чужой власти, были слишком опасным примером для подданных его величества. И Граббе полагал, что его миссия состоит в том, чтобы привести все в единообразие. Он покажет всяким там Головиным, Фезе и Анрепам, как следует наводить порядок, и никакие горы, никакие пропасти его не остановят. Впрочем, интересы империи мало заботили генерала, но так уж сложилось, что они совпадали с интересами самого Граббе, для которого победа над Шамилем означала бы победу над личными врагами, стремительное возвышение по службе и блистательную будущность его семейства.
Происшествие в лесу Граббе отнес к недоразумениям, к хищничеству абреков. А относительно спокойное вступление его отряда в Салатавию приписывал впечатлению, произведенному им на Ташава. Ему хотелось верить, что Ташав уже сообщил Шамилю о силах Граббе, что имам устрашился и сочтет за лучшее сдаться.
Глава 64
Шамиль спешил навстречу Граббе. В Чиркате его уже ждали каратинские ополченцы и подразделения регулярной кавалерии, присланные из соседних наибств. Часть войск Шамиль отправил на Ахульго, часть оставил в Чиркате, а с остальными двинулся дальше.
Имаму и его спутникам предстояло перейти через высокий хребет Салатау, на одном из отрогов которого располагался аул Аргвани. Этот большой, считавшийся непреступным аул был избран Шамилем надежной преградой на пути к Ахульго с юга, если бы Граббе каким-то чудом удалось перевалить через хребет. Но прежняя дорога к Аргвани была добросовестно разрушена по приказу самого Шамиля, и ему пришлось двигаться по тайным тропам, петлявшим вдоль извилистого русла реки Гадаритляр, притока Андийского Койсу. Истоки ее находились неподалеку от Аргвани, затем река протекала у аула Гадари, по которому и была названа, и спускалась к Чиркате. Но ущелья, по которым стремительно неслась река, были труднопроходимы для большого отряда. Порой тропа вовсе исчезала или тянулась над пропастью так зыбко, так близко от скал, что пройти по ней было нелегко даже видавшим виды горцам. Всадникам приходилось спешиваться, но, несмотря на предосторожности, несколько лошадей сорвались вниз, и спасти их не удалось. Несчастные лошади иногда останавливались, не желая идти вперед, будто чувствуя, что им не на что будет опереться. Но, понукаемые хозяевами, все же шли, вернее, прыгали, цепляясь за почти невидимые выступы, превращаясь то в горных туров, то в барсов. На такое были способны только местные кони, которые с виду были неказистые, зато жилистые и выносливые.
Каждый раз, миновав особенно опасные места, люди оборачивались, не веря, что им удалось их пройти. Шамиль видел, как трудно его людям, но когда он думал о том, каково будет Граббе с его обозами и пушками, то невольно улыбался.
Горы всегда были союзниками горцев. И Шамиль предполагал, что война с горами обойдется Граббе дорого. На хребет Салатау трудно было подняться, но еще труднее было с него спуститься. Да и мюриды Шамиля не собирались безучастно наблюдать за альпийскими подвигами противника.
Когда отряд вышел к Аргвани, люди падали от усталости, а ноги у коней были сбиты до крови.
– Передохнем, – сказал Шамиль.
Султанбек передал приказ остальным. Юнус выставил на ближайшем холме имамское знамя. Вокруг расположился лагерь. Коней распрягли, напоили и пустили пастись.
Аргвани сидел на скате горы каменной папахой, грозно поглядывая вокруг через многочисленные бойницы. Окруженный обрывистыми ущельями, он возвышался над рекой неприступной твердыней. Несколько сотен домов, каждый из которых сам по себе был крепостью, были окружены грядой высоких завалов.
– Мне поехать в аул? – спросил Юнус.
– Там должен быть Ахбердилав.
– Не спеши, – ответил Шамиль.
– Он сам к нам едет.
Их давно заметили, и со стороны аула спешило несколько всадников. Шамиль издали узнал знамя своего наиба, а затем разглядел и его самого.
– Салам алейкум, имам! – еще издали кричал Ахбердилав.
– Ва алейкум салам, братья, – ответил Шамиль, пожимая руку сподвижнику.
– Говорят, вы пришли по реке? – удивлялся Ахбердилав, бросая уздечку своему мюриду.
– Я посылал проверить там дорогу, и мне сказали, что если она и есть, то идет по воздуху.
– Мне тоже теперь так кажется, – улыбнулся Шамиль.
– Но что было делать, когда вы уничтожили прежние дороги так, будто их никогда и не было.
– Это не я, – замотал головой Ахбердилав.
– Это Сурхай.
– Тогда все понятно, – кивнул Шамиль.
– Он из тех, кто перейдет мост и унесет его с собой.
– А если надо – новый построит, – согласился Ахбердилав.
– Он здесь? – спросил Шамиль.
– В Буртунае. Там, оказывается, тоже дороги есть.
– Были, – поправил Юнус.
– Сурхай свое дело знает.
– Еще как! – согласился Ахбердилав.
– А эти люди, которых он привел со своим отрядом? Винтовку в руках держать не умеют, зато киркой работают за десятерых!
– Ополченцы? – спросил Шамиль.
– Рабы, – сказал Ахбердилав, но тут же поправился.
– Бывшие.
– Забудь это слово, – сказал Шамиль.
– По своей воле люди рабами не бывают.
– Видно, раньше им приходилось работать, как ишакам, – не мог остановиться Ахбердилав.
– Видели бы вы, что они вытворяли. Вырвут из скалы камень и швыряют его вниз так, будто на голову своим бывшим владельцам.
– Они ушли с Сурхаем? – спросил Шамиль.
– Еле уговорил его оставить человек десять, – сказал Ахбердилав.
– Аргвани – и так крепость, я столько тут сделал, а они еще укрепляют.
– А жители аула? – спросил Шамиль.
– Ушли?
– Кто-то ушел, кто-то остался, – рассказывал Ахбердилав.
– Мужчины почти все остались. Кому хочется оставлять родное гнездо.
– Здесь нужны хорошие воины, – сказал Шамиль.
– Стариков, детей и больных я отправил вместе с женщинами, – сказал Ахбердилав.
– А остальные… Я не позавидую тем, кто встретится с ними в бою. Аргвани даже Хромой Тимур со своей ордой целую неделю не мог его взять. А тогда аул был намного меньше.
– И у Тимура не было пушек, – напомнил Шамиль.
– Как они дотащат сюда пушки? – сомневался Ахбердилав.
– Да они и сами сюда вряд ли дойдут.
– Для них же было бы лучше оставаться в своих домах, – сказал Шамиль, – и не трогать чужие.
– Поедем в аул, – предложил Ахбердилав.
– Там для всех места хватит.
– Я оставлю у тебя часть своих людей, – сказал Шамиль.
– А с остальными пойду в Буртунай.
– Понятно, – сказал Ахбердилав.
– Я слышал, что этот Граббе все же выступил против нас.
– Наверное, наши горы облиты золотом, что царь не жалеет ни денег, ни людей, чтобы захватить их, – покачал головой Шамиль.
– Жаль, горцы этого не знают, – горько улыбнулся Ахбердилав.
– Они даже не знают, смогут ли прокормить свои семьи до нового урожая.
К вечеру отряд Шамиля вошел в Аргвани.
В ауле продолжались работы. Люди разбирали старые дома и перегораживали завалами узкие улочки. Но этим дело не ограничивалось. Из одного дома в другой пробивались скрытые ходы, а в тайниках пряталось готовое к бою оружие.
Ахбердилав придумал и кое-что новое. Из-под некоторых крыш были вынуты опорные столбы и по нескольку потолочных балок. С виду это были обычные плоские крыши, служившие террасой следующему дому, но готовы были обрушиться, как только на них кто-нибудь ступит. На крутых улочках завалы были устроены так, чтобы обрушиться и покатиться вниз, если из под-них выдернуть опору – короткое бревно, к которому была привязана скрытая между камнями веревка.
На площади перед мечетью ходили по кругу волы, вращая большие жернова, в которых перемалывалось то, что нужно для пороха. Рядом точили сабли и кинжалы, а в кузне отливали пули, пуская в дело и свинец, и медь.
Прибывших с Шамилем мюридов и ополченцев тепло встретили, разобрали по домам и накормили. Сам Шамиль ночевал у наиба Абакара Аргванинского, кадия аула, предоставившего в распоряжение имама свой большой дом. Это был человек, беззаветно преданный шариату, свидетель принесения присяги всем трем имамам.
После вечерней молитвы, на которую собралось так много людей, что не всем в мечети хватило места, Шамиль обратился к людям:
– Братья! Аллах послал нам новое испытание, и мы примем его, как подобает настоящим мужчинам. Аргвани давно прославился своей стойкостью, и не мне учить вас, как нужно защищать родную землю. Скажу вам только одно: любите свободу, как мать родную, и жизнь ваша будет вечно прекрасной. Пусть золото и богатство вас не манят. Боритесь за свободу, защищайте ее. Без нее для нас, бедных горцев, нет жизни.
На рассвете заметно уменьшившийся отряд Шамиля выступил дальше. Проводники вели его к вершинам хребта по только им известной дороге. Это была даже не дорога, а каменистая тропа, и показывалась она лишь тогда, когда проводники убирали камень или отодвигали валун. Разглядеть дорогу впереди было невозможно, а позади отряда она снова исчезала стараниями тех же проводников. Иногда тропа вовсе обрывалась, и в таких местах приходилось пробираться по вбитым в скалу бревнам.
Через час пути Аргвани все еще был поблизости, но теперь, сверху, он был виден, как на ладони. Шамиль разглядывал подступы к Аргвани, прикидывая, где бы его еще стоило укрепить. И у него сжалось сердце, когда он представил себе, во что превратится этот древний красивый аул с его цветущими садами и зеленеющими террасными полями, если Граббе удастся его захватить.
Когда они добрались до перевала, на вершинах Салатау еще лежал снег.
Здесь Шамиля встретил Муртазали Оротинский, который занимал перевал с сотней регулярной пехоты и салатавскими ополченцами. По сведениям, имевшимся у Муртазали, Граббе уже стоял недалеко от Теренгульского ущелья, и к нему двигалось еще два батальона из Шуры.
Шамиль поспешил к Буртунаю, который был занят пехотой под командой Сурхая, а на подступах к аулу стояла кавалерия Али-бека. Дорог не оказалось и на другой стороне хребта, чувствовалось, что Сурхай и здесь приложил свои старания. Но проводники, посланные Муртазали, помогли отряду Шамиля спуститься по отлогому склону хребта. Это оказалось не легче, чем подниматься на него. Кони скользили по мелким камешкам, приседали на задние ноги, грозили подмять под себя седоков, и людям приходилось спешиваться. Но все же Шамиль успел к Буртунаю раньше, чем два батальона апшеронцев пришли в расположение отряда Граббе.
Глава 65
Буртунай, большой и хорошо обустроенный аул, стоял неподалеку от ущелья Теренгул. Издали ущелье напоминало гигантскую трещину с изодранными краями. Будто земля здесь разверзлась от вековой засухи, а дождавшись дождей, приняла в свое лоно искристую быструю реку. Спиной аул опирался о подножье хребта, а с остальных сторон был огражден глубокими оврагами. Такое расположение делало честь основателям аула и наделяло Буртунай ореолом неприступности. Привыкшие чувствовать себя в безопасности, жители Буртуная и на этот раз решили не покидать свой аул, лишь немного укрепив его с помощью Сурхая и его мюридов.
Увидев, что к аулу приближается имам со своим отрядом, буртунайцы высыпали его встречать. Они ликовали, уверенные в том, что теперь уже никакие генералы не посмеют приблизиться к их жилищам. Люди тянулись к Шамилю, чтобы пожать ему руку. Женщины показывали имама своим детям. А ополченцы выстроились вдоль улиц живым коридором.
– Удивительный народ эти буртунайцы, – говорил Сурхай, ехавший рядом с имамом.
– Я говорю, чтобы уходили, а они не уходят.
– Им лучше уйти, – сказал Шамиль.
– Их соседи давно это сделали.
– Не могу же я их выгнать, – говорил Сурхай.
– Такие гостеприимные люди. Я тут как дома. И остальные воины тоже.
Шамиль не переставал пожимать руки аульчанам, но успевал замечать и их военные приготовления. Те же завалы на главных улицах, как издавна заведено в горах, те же горы камней на крышах, те же бойницы, из которых загодя торчали дула ружей.
Все было сделано хорошо. Плохо было, что в ауле оставалось много женщин и детей, как будто здесь ждали не сильного неприятеля, а старых друзей.
На годекане Шамиля обступили старики.
Спешившись и почтительно поздоровавшись с аксакалами, Шамиль спросил:
– Что слышно нового, уважаемые?
– Ничего особенного, имам, – отвечали старики.
– Тебя вот ждали.
– Хотели посмотреть на своего имама.
– Ты, видно, сильный человек, если у тебя такие наибы, как Сурхай.
– Сурхай – джигит!
– Только боится немного.
– Чего же он боится? – спросил Шамиль, оглядываясь на своего наиба.
– За нас боится.
– Уходите, говорит.
– Это не я сказал, – в который уже раз объяснял Сурхай.
– Это имам приказал!
– А куда мы уйдем?
– Когда дома наши пойдут, тогда и мы за ними.
– Буртунай – не тот аул, который можно напугать.
– А кому не нравится, пусть сами уходят
– Буртунайцы, – сказал Шамиль.
– Поднимаясь на этот годекан, я любовался вашим аулом. Жаль будет, если он превратится в руины.
– Никто и пальцем не посмеет нас тронуть! – зашумели старики.
– Палец отрежем и голову отрубим!
– Это наша земля, и мы никому ее не отдадим!
– Мы на них не нападали, пусть и нас не трогают, не то пожалеют, что связались с буртунайцами!
– Вы знаете, что сюда идет целая армия? – спросил Шамиль.
– С пушками, – добавил Сурхай.
– Слышали, – отвечали старики.
– Как придет, так и уйдет.
– Если от нее что-то останется.
– Подумайте, пока есть время, – сказал Шамиль.
– Но его осталось немного.
– Пойдем, – сказал имаму Сурхай.
– Тебя ждет один человек.
Когда они остановились у дома в верхней части аула, навстречу им вышли Джамал Чиркеевский и хозяин дома, старый кунак Джамала.
Поприветствовав имама и его помощников, хозяин пригласил их в кунацкую, где уже был накрыт стол. Хозяин был человек умный и оставил гостей одних, найдя благовидный предлог:
– Посмотрю, чтобы ваших коней хорошенько накормили.
Когда вслед за хозяином вышли и Султанбек с Юнусом, Джамал сказал Шамилю:
– Я был в Шуре, у меня ведь там сын служит под начальством Жахпар-аги.
Услышав имя своего разведчика, Шамиль переглянулся с Сурхаем, но ничего не сказал.
– Жахпар-ага просил передать тебе привет и вот это.
Джамал достал из потайного кармана серебряную монету, из которой Сурхай по знаку Шамиля извлек записку.
– Девять батальонов, четыре сотни казаков конных и столько же пеших, рота саперов, семнадцать пушек, милиция, обоз… – прочел Шамиль, а затем спросил Джамала: – Ты знаешь, как устроена их армия, сколько это будет всего?
– Девять батальонов… – прикидывал Джамал.
– Сейчас подсчитаю. Когда полк – я и так знаю, а у Граббе же отряд, оттуда-отсюда собрал, какие получше… Так… Батальон – это четыре роты, а рота – четыре взвода… А каждый взвод – тридцать пять – сорок солдат с одним офицером, и один ротный офицер на всех…
– Девять батальонов – это почти пять с половиной тысяч штыков! – успел посчитать Сурхай.
– Верно, – согласился Джамал.
– Еще казаки – восемь сотен… А еще штаб, адъютанты и всякие другие помощники… Артиллерия, семнадцать расчетов…
– Милицию не забудь, – напомнил Сурхай.
– Эти самые опасные.
– Тысячи три наберется, – прикидывал Джамал.
– Ай, гяуры, – злился Сурхай.
– Против своих воюют!
– Получается, тысяч десять и офицеров больше двухсот, – подвел итог Джамал и сам удивился: – Десять тысяч?
– Мне сообщили, что из Тифлиса могут еще прислать войска, – добавил Шамиль.
– Сильно ты генералов разозлил, – сказал Джамал.
– Это они меня разозлили, – ответил Шамиль.
– Сколько раз я предлагал мир? Не хотят – пусть воюют. У нас тоже людей немало.
– Нам бы еще пушки, как у них, – вздыхал Сурхай.
– Главное, у них есть порядок, – сказал Шамиль.
– А у нас каждый хочет воевать сам по себе. Зачем буртунайцы не уходят? Все остальные из этих мест ушли. Может, генерал и подожжет их аулы, зато не будет обстреливать из пушек. И еды не найдет. А со своими обозами они еле двигаются.
– Буртунай – сильный аул, – сказал Джамал.
– И наш Чиркей тоже. Эти батальоны, которые пришли из Шуры, сначала хотели через Чиркей пройти, чтобы сократить путь, но мы их не пустили.
– Это вы хорошо сделали, – сказал Шамиль.
– А с буртунайцами мы договорились… – Джамал открыл дверь и позвал кунака: – Эй, Нажмуддин! Ты совсем забыл про своих гостей!
– Извините, уважаемые, – вошел в кунацкую хозяин.
– В ауле столько дел…
– Скажи имаму, о чем мы договорились, – попросил Джамал.
– Договорились вместе напасть на генерала, когда он пройдет мимо нашего аула, – сказал Нажмуддин.
– Наши люди и сейчас готовы атаковать, только Сурхай не пускает.
– Потому что тогда генерал нападет на Буртунай! – сказал Сурхай.
– А Теренгул? – не соглашался Нажмуддин.
– Думаешь, это ущелье можно перейти? Пока никому не удавалось! Так что к нам генерал не сунется.
– Братья, – сказал Шамиль.
– Поодиночке мы их не одолеем. Это сильное войско, которое нужно растянуть и не давать ему ни минуты покоя, а в сражения вступать только в хорошо укрепленных аулах.
– Мы и собирались так сделать, – объяснял Нажмуддин.
– Буртунай тоже хорошо укреплен.
– Я вижу, что здесь живут храбрые люди, – сказал Шамиль.
– Но всякому делу есть свое время и свое место.
– Наши люди горят желанием сразиться с пришельцами, – убеждал Нажмуддин.
– И Чиркей ждет только сигнала, – добавил Джамал.
– У нас не так много сил, чтобы кидаться на их пушки, – объяснял Шамиль.
– Пусть Граббе сначала повоюет с горами. Его нужно затащить повыше, измотать и отрезать дорогу назад, чтобы он не мог получать помощь, когда пожелает. Воинов Сурхая хватит, чтобы не давать Граббе спокойной жизни. А по-настоящему мы встретим его у Аргвани.
Кто может драться, пусть идет с нами, а остальным лучше покинуть аул, если вы хотите его спасти. Это вам наш приказ от всего сердца, а от вас нужны послушание и повиновение.
– Хорошо, имам, – развел руками Нажмуддин.
– Я поговорю с людьми.
Разведчики доносили обо всех передвижениях противника, об огромном обозе, подошедшем накануне, об отступниках – милиционерах, которых на этот раз было неожиданно много. Затем стало известно, что батальоны из Шуры уже подходят к Инчха.
– Юнус, ты не забыл клетку с голубями Ага-бека? – спросил Шамиль своего помощника.
– Они здесь, – ответил Юнус.
– Принести?
– Приготовь того, сизого, он летает быстрее других.
Этот голубь вернулся несколько дней назад. Ага-бек сообщал, что готов двинуться со своими силами к Шамилю или поднять большое восстание, чтобы Головин не смог послать Граббе серьезную помощь.
Юнус поскакал к вьючным лошадям и достал из клетки красивого сизого голубя. Когда Юнус вернулся, Шамиль вкладывал в сердцевину сухого стебля свернутое письмо.
Юнус привязал стебелек к лапке голубя и подбросил его в небо. Голубь взлетел, радуясь свободе, сделал несколько кувырков, будто пробуя силу крыльев, и исчез в прозрачном небе. Проводив взглядом птицу, Шамиль спросил Сурхая:
– Граббе прошел мимо Гуни. В ауле кто-то остался?
– Нет, – ответил Сурхай.
– И там уже побывали солдаты.
– Аул цел?
– Пока да, – кивнул Сурхай.
– Только разобрали несколько навесов на костры.
– Отправь туда три конные сотни, – велел Шамиль.
– Мало ли что может случиться.
– Хорошо, имам.
– Если буртунайские женщины и дети до утра не уйдут, нам тоже придется остаться, – сказал Шамиль.
Глава 66
Вместе с апшеронцами из Шуры прибыл топограф 2-го класса Алексеев. Он был прислан из Тифлиса, из топографического депо при штабе Кавказского корпуса. Милютин ему очень обрадовался, потому что топография была не только наукой, которую Милютин знал, но и искусством, которым владел Алексеев. По сравнению с настоящими картами, те, что делал Милютин, были скорее непритязательными планами, годными лишь для пояснения подробного рапорта. Алексеев же был мастер своего дела, получивший отличную школу у знаменитого топографа барона Ховена.
Когда Алексеев явился представиться Граббе, тот сказал:
– Очень кстати. Я возлагаю на вас большие надежды.
– Рад стараться, ваше превосходительство, – ответил Алексеев.
Убедившись, что топограф больше не имеет что сообщить, Граббе сам спросил его о том, что его весьма интересовало:
– А что корпусной командир?
– Его превосходительство в полном здравии, – сказал Алексеев.
– А насчет войск? – поинтересовался Граббе.
– Мы ожидаем от Головина дополнительных батальонов.
– Не могу знать, – ответил Алексеев.
– Насколько мне известно, в Южном Дагестане снова неспокойно, и их превосходительство готовились выступить туда со своим отрядом.
– Всем отрядом? – удивился Граббе.
– Разве там есть с кем воевать?
– Не могу знать, ваше превосходительство, – ответил Алексеев.
– Но были затребованы все карты, снятые нами в тех местах.
– Так-с, – помрачнел Граббе, подозревая, что Головин преувеличивает опасность, чтобы не давать ему новых войск.
– А что слышно в штабе?
– Составляли списки вольноопределяющихся, желающих идти в поход.
– Это Ага-бек там народ подбивает? – уточнял Граббе.
– Так точно, ваше превосходительство, – кивнул Алексеев.
– И даже аулы, которые генерал Фезе пощадил в прошлом году…
– Вернее, не сумел покарать, – вставил с усмешкой Граббе.
– …чьи стада избегли конфискации, – продолжал Алексеев, – даже они восстали, подстрекаемые этим разбойником.
– И много ли бунтарей?
– Сие неизвестно, ваше превосходительство, – ответил Алексеев.
– Только в туземцах утвердилось мнение, что господин корпусной командир Головин не осмелится их наказывать.
– Подождем – увидим, – сказал Граббе. Затем покровительственно похлопал Алексеева по плечу и закончил аудиенцию: – Ступайте, у вас много работы.
Немного передохнув с дороги, Алексеев переоделся горцем и поднялся на ближайшую высоту. Устроившись между камней, почти слившись с ними, он занялся глазомерной съемкой, чтобы затем вычертить горы и всю местность по новомодной системе.
Но пейзаж, который открылся топографу, так поразил его своей красотой, что он на время позабыл о своих обязанностях. Грандиозная панорама играла немыслимыми красками, долины, поросшие лесом, вдруг превращались в цветущие ковры предгорий. Из-за ближайшей, почти коричневой горной гряды вставала другая, в желто-зеленых оттенках. За ней поднимался голубой, с проседью на вершине хребет. А там, дальше, упирались в небо почти сливавшиеся с ним скалы. Над всем этим великолепием летели разноцветные пушистые облака, до которых, казалось, можно было дотянуться рукой. И стоило одному лишь облаку закрыть собою солнце, как по горам пробегали тени, и картина менялась до неузнаваемости, краски обретали другие оттенки, а горы как будто оживали: одни приближались, а другие отступали.
Лагерь, раскинувшийся на краю леса, у речки, представлялся отсюда милой пасторальной картинкой. Белые палатки, шатры, повозки, костры, вокруг которых сидели солдаты в белых фуражках, беседующие офицеры, стоящие в ряд пушки, кони, освобожденные от седел и вьюков, которые паслись на изумрудной траве, – все это казалось игрушечным. Даже стоявшие неподалеку аулы напоминали Алексееву театральные декорации, сооруженные для представления в духе античной драмы.
Но очарование топографа Алексеева длилось недолго. Служба оставалась службой, и он сноровисто принялся за дело. У него было не только умение, но и опыт. Он мог угадать тропинку даже там, где ее не было видно, приток реки – по тому, как пенится русло, обрыв – по виду каменного края, родник – по растительности вокруг, а по характеру рельефа – возможный путь, недоступной с виду. Постепенно он начал различать и дальние аулы, которые были почти не отличимы от горных уступов, за которые они цеплялись.
Тишину, царившую вокруг, нарушили сигналы военных горнов. Топограф с неохотой оторвался от работы и увидел, что лагерь пришел в движение. Палатки опадали и скатывались в тюки, которые тут же грузили на лошадей. Войска строились в колонну, вперед выдвигалась линия оцепления, и скакали казачьи дозоры. Не прошло и получаса, как войско двинулось дальше, на юг. Следом потянулся обоз, а затем и артиллерия. Замыкали колонну части Кабардинского полка. Войско медленно поднималось на новые высоты, один из уступов которых занимал небольшой аул. А дальше одна за другой каменные гряды поднимались к самому хребту Салатау.
Алексеев с сожалением сложил свои инструменты, свернул еще незаконченную карту и поспешил следом за колонной. Но она была так длинна, что он легко нагнал хвост колонны, когда авангард ее уже огибал аул.
– Хубар! – объявил Аркадий, когда Милютин спросил его, не знает ли он названия аула.
– У меня там кунаки.
– Хороши кунаки, – сказал Милютин.
– Что вы имеете в виду? – не понял Аркадий.
– А то, милостивый государь, что плохо они вас встречают.
– Меня они встречали весьма любезно, – не соглашался Аркадий.
– Правда, я тогда был без воинского эскорта.
– Шутить изволите? – поморщился Милютин.
– Отчего же, господин поручик? Принимали, как настоящего кунака. Это у них свято, – объяснял Аркадий.
– Назваться кунаком – что клятву дать, он жизнь положит, а кунака не выдаст. Меня ведь тогда абреки подстерегли, а хубарец не выдал, хотя головой рисковал.
– Кунаки! – кивал Милютин.
– А разведка донесла, что аул пуст. Видно, всем скопом в абреки и подались.
– Позвольте, господин поручик, я сам туда наведаюсь.
– В аул?
– Может, найду кого.
– Напрасная затея. Без вас все обыскали.
Граббе миновал аул и поднялся с отрядом на поросшие лесом Хубарские высоты. Отсюда открывался обширный вид на Салатавию. Но уже вечерело, и рекогносцировку местности решено было оставить до следующего утра.
Не успели войска расположиться на ночлег, как в темноте затрещали выстрелы. В ответ началась обычная в таких случаях беспорядочная пальба.
Воспитанник пушкарей Ефимка выскочил из телеги с кинжалом в руках, полный желания броситься в драку с мюридами. Но видавший виды фельдфебель наградил его крепкой затрещиной и вернул на место.
– Нос не дорос, – ворчал Михей.
– Час побережешься – век проживешь.
Из секретов сообщали, что стреляли с разных сторон, но стрелявших было немного. Офицеры рвали горло, требуя прекратить стрельбу и опасаясь, как бы солдаты не попали в своих. Затем оказалось, что под шум пальбы кто-то пытался увести артиллерийских коней. Поиски ничего не дали, нападавшие как сквозь землю провалились.
Граббе распекал охранение отряда за дурную службу. Взбешенный Траскин, который уже несколько ночей не мог выспаться, требовал покарать злодеев. А бывалые офицеры только усмехались в усы, приговаривая:
– Это еще цветочки, господа.
На рассвете отряд Граббе передислоцировался еще дальше и расположился у аула Гертма, на правой стороне Теренгульского ущелья. Поднимавшийся из ущелья туман не позволял разглядеть его в достаточной для рекогносцировки степени, однако Алексеев со своими инструментами уже занял удобную позицию и загодя набрасывал общие очертания Теренгула.
Глава 67
Граббе с Галафеевым и Траскиным еще завтракали, когда Васильчиков сообщил, что в лагерь прибыл старшина Чиркея Джамал.
– Пусть обождет, – велел Граббе, спеша закончить трапезу.
Когда Попов привел Джамала в палатку командующего, там был и Биякай, чиркеевец, служивший при штабе отряда переводчиком.
– Салам алейкум, – поздоровался Джамал с Граббе.
– С чем пожаловал? – спросил Граббе.
– Разговор есть, господин генерал, – сообщил Джамал.
– Выкладывай, да поживее, – велел Галафеев.
Джамал медлил, недобро поглядывая на Биякая.
– Это всем знать не положено.
– Толмач у меня на службе, – сказал Граббе.
– Так что за разговор?
Но тут не выдержал Биякай:
– Это он, ваше превосходительство!
– Что – он? – недовольно оглянулся на переводчика Граббе.
– Это он сказал чиркеевцам не пропускать ваши батальоны из Шуры! – показывал на Джамала Биякай.
– Что говорит этот человек? – удивился Джамал.
– Разве мы не договаривались с шуринским начальником, что мы – мирные, а вы не входите в аул?
– Было дело, – согласился Попов.
– Только вы мирные, пока Шамиль разрешает.
– У нас и своя голова есть, – сказал Джамал.
– А Шамиль с вами воевать не хочет.
– Может, он надумал покориться? – спросил Траскин.
– Образумился, наконец?
– От него человек приходил, – ответил Джамал.
– Приходил? – переспросил Граббе.
– Так Шамиль разве не здесь?
– Откуда, – покачал головой Джамал.
– Он далеко.
– Здесь он, – снова влез в разговор Биякай, желая выслужиться.
– В Буртунае засел!
– В Буртунае мирные люди, – терпеливо говорил Джамал.
– Они верят, что вы держитесь данного слова, и даже не помышляют выселяться.
– А что тогда там Сурхай, наиб его, делает? – не унимался Биякай.
– Наверное, в гости приезжал, – ответил Джамал.
– Я его не видел.
– Где же тогда сам Шамиль? – спросил Галафеев.
– Человек сказал, имам в Чиркате.
– Это для вас он имам, а для меня – бунтарь, – сердился Граббе.
– Так чего ему надобно?
– Хочет мир заключить.
– Мир? – удивился Граббе.
– Он на вас не нападает, и вы его не трогайте, – объяснял Джамал.
– Не нападает, говоришь? А кто у ханов деревни отнимает? Да и здесь по ночам шалит?
– Если бы ханским людям хорошо у них жилось, они бы к Шамилю не перешли, – объяснял Джамал.
– А по ночам всегда стреляют, когда война.
– А вот я отучу вас начальству дерзить, – пригрозил Граббе.
– Миндальничать с вами я больше не намерен!
– Салатавия – общество вольное, – возразил Джамал.
– Дружба – так дружба, война – так война. Но лучше, когда мир.
– Капитуляция без всяких условий! – объявил Граббе.
– И выход Шамиля с повинной!
– Такие слова горцы не понимают, – развел руками Джамал.
– А не понимают, так объясним, – пригрозил Граббе.
– Ваши горы мне не нужны, мне нужна покорность. И не о чем больше толковать. А насчет вашего Чиркея разговор будет особый!
Джамал ничего на это не ответил. Только обжег полным ненависти взглядом Биякая и вышел из палатки.
Топограф Алексеев ждал, когда пейзаж прояснится, чтобы продолжить работу. И вдруг увидел, как почти не видимые в тумане, несколько конных горцев подобрались к табуну, пасшемуся неподалеку от отряда, сняли охрану и погнали лошадей прочь.
Завороженный призрачным зрелищем, Алексеев не сразу вспомнил, что при нем был пистолет, которым можно было подать тревожный сигнал. Но ржание коней и суматоха в охранных цепях и без того уже вызвали в лагере тревогу. Похитителей заметили. В погоню бросилась горская милиция, а следом и казачий эскадрон.
Солнце поднималось все выше, туман, взбухая, как на дрожжах, начал отрываться от земли, превращаясь в облака. И в разрывах то ли тумана, то ли облаков Алексеев наблюдал обрывки завязавшегося дела.
Несмотря на погоню, горцы продолжали гнать табун к ущелью. Недалеко от обрыва они осадили своих коней и начали отстреливаться, а табун, влекомый инерцией, несся вперед. Первые лошади уже исчезли в скрытой туманом бездне, но остальные, почуяв опасность, круто свернули и, толкая друг друга, поскакали вдоль края ущелья.
Перестрелка продолжалась. Увлеченные погоней, казаки не заметили, как со стороны небольшого аула Гуни, оставшегося справа по ходу отряда Граббе и считавшегося оставленным жителями, появилось несколько сотен джигитов. С гиканьем и стрельбой они помчались на выручку своим товарищам.
Туман все выползал из ущелья, то открывая сцены боя, то скрывая их от глаз топографа. Но частые выстрелы и отблески клинков свидетельствовали, что схватка разгорелась нешуточная. Наконец, милиция и казаки повернули назад и поскакали к лагерю. Горцы решили их преследовать, но на подступах к лагерю были встречены картечным огнем легких казачьих орудий. Дым выстрелов смешался с туманом, огонь окропил землю кровью. Горцы повернули назад, увозя своих убитых и раненых.
Следом двинулась почти вся кавалерия Граббе. Но настичь горцев не успели. Они скрылись в овраге, а затем оттуда началась частая ружейная пальба.
Туманный занавес окончательно поднялся в небо, и глазам топографа предстала неожиданная картина. За ущельем, на подступах к Буртунаю, стояли отряды пеших и конных горцев со своими значками, и еще множество людей занимало крутые края Теренгула.
Картина была сколь живописная, столь и ясная в военном отношении. И топограф Алексеев тотчас принялся за работу.
Граббе удивленно оглядывал расположение горцев.
– Сколько их там? – спросил он свою свиту.
– Около тысячи, ваше превосходительство, – сказал Попов.
– Похоже, что больше, – добавил Галафеев.
– Почти две, – прикидывал Лабинцев.
– Считая тех, что засели на краю обрыва.
– Выгодная позиция, – определил Пулло.
– Нужно признать, Шамиль свое дело знает, – сказал Граббе.
– Двинься мы вперед, к перевалу, он ударит нам в тыл.
– Непременно, – согласился Галафеев.
Граббе чувствовал, что Шамиль где-то здесь. Уж очень вызывающе вели себя горцы, всем своим видом давая понять, что ничуть не боятся Граббе с его колоннами. Эта была первая встреча с неприятелем в Дагестане, и Граббе понимал, что от нее многое зависит. Плохо, когда противник тебя не страшится, это делает его сильней. А еще хуже оставлять его безнаказанным, это могло поколебать дух собственного воинства. Во всяком случае, Граббе не желал выглядеть нерешительным в глазах открыто вышедшего ему навстречу Шамиля. И более того, втайне он надеялся каким-нибудь нечаянным образом захватить имама, до которого отсюда было рукой подать.
– Что бы сделал на моем месте Ганнибал? Двинулся бы напролом, чего бы это ни стоило, – размышлял Граббе, приписывая великому полководцу свои привычки.
Граббе взял подзорную трубу и навел ее на противника.
– Какое у Шамиля знамя? – спросил командующий, не отрываясь от трубы.
– Светлое, насколько мне известно, – доложил Милютин.
– Почти белое.
Граббе разглядывал горцев и натыкался то на одно знамя, то на другое, то на третье, и все они были в тумане такими, как говорил Милютин.
– Много же у них Шамилей! – в сердцах воскликнул Граббе, складывая свою трубу.
– Прикажете атаковать? – спросил Галафеев.
– Немедленно! – велел Граббе.
– Сперва артиллерия, затем пехота, следом кавалерия. А милицию пошлите в обход ущелья.
Зазвучали сигнальный горны, стараясь перепеть друг друга, и каждая рота, каждый батальон спешили исполнить свой маневр. Пока пехота занимала позиции у края ущелья, туда же двинулась и артиллерия. Кто успел найти своих лошадей – вез пушки почти галопом. Кто не нашел – волок орудие вручную, на лямках, накинув петли на плечи, а другим концом зацепив за лафет, для чего к веревкам были привязаны железные крюки.
Ефимка рвался в бой, как на ярмарку за пряником. Он забегал вперед лошадей, тащивших единороги и зарядные ящики, понукал их идти быстрее и даже успевал убирать камни из-под колес пушечных повозок.
Добравшись до обрыва, развернув пушки и образовав несколько батарей, артиллерийские расчеты принялись за привычное дело. У каждого были свои обязанности, и все делалось быстро. В ствол совали картуз – пороховой заряд, завернутый в ткань или картонный цилиндр, досылали его до нужного места прибойником, потом тем же прибойником забивали пеньковый пыж, потом ядро или гранату, второй пыж, через запальное отверстие протыкали протравником картуз, вставляли туда трубочку с легковоспламеняющимся порохом, прицеливались, подносили пальник – факел, на конце которого горел в зажиме фитиль… И орудие с ужасным грохотом и багровым пламенем извергало из себя снаряд. От выстрела закладывало уши, под ногами содрогалась земля, батарея окутывалась едким чадом. Но кто-то из прислуги уже работал банником, вычищая из ствола пороховой нагар и остатки картуза.
Ефимке доверялось выдувать остатки пороха из узкого запального канала, подавать пыжи и смазывать деревянные оси лафетов маслом, чтобы не ломались. А в перерывах, когда орудия раскалялись, Ефимка охлаждал их смоченным в воде банником. Пар, который при этом вырывался из дула, он считал своими выстрелами. Ефимка был всего лишь подручным, но если бы кого-то ранило или убило, вполне мог бы заменить любой номер в своем расчете.
– Ишь, как орудует! – подбадривали его артиллеристы.
– Справный канонир вырастет!
– Держись тогда, Шамилька!
Несколько батарейных залпов вынудили горцев отойти от своего края ущелья. Передовой отряд Граббе готов был спуститься в ущелье, но приказано было ждать проводника.
Наконец привели Аркадия.
– Ну, – сказал ему Пулло.
– Веди!
– Куда? – не понимал Аркадий.
– У тебя же кунаки в Буртунае, вот к ним и веди.
– Извольте мне не тыкать, – оскорбился Аркадия.
– Молчать! – заревел Пулло.
– Дорогу показывай!
Аркадий заглянул за край обрыва. Он ничего не узнавал. Тогда была зима, и ему казалось, что тут всего одна дорога, а теперь перед ним был крутой спуск, сплошь поросший лесом, и никаких дорог видно не было.
– Вперед! – подтолкнул его Пулло.
Аркадий начал спускаться наугад, но не удержался и покатился вниз. Когда он оказался на дне ущелья, над ним сверкнул кинжал. Аркадий закрыл глаза, прощаясь с жизнью, но вместе удара кинжала вдруг услышал:
– Салам алейкум!
Это был Айдемир.
– Ва алейкум салам, – ответил удивленный Аркадий.
– Ты?!
– Благодари Аллаха, что это я, – сказал Айдемир, оттаскивая покрытого ссадинами друга в безопасное место.
– Полежи тут пока.
– Я лучше с тобой, – сказал Аркадий, которому уже не хотелось возвращаться.
– Нельзя, – сказал Айдемир и подал кому-то условный сигнал свистом.
Из-за деревьев появилось несколько мюридов с ружьями.
– Идут, – сказал один из них, прицеливаясь куда-то вверх.
По крутым склонам, проламываясь сквозь заросли, спускались егеря. В ущелье завязалась жаркая перестрелка. Но Пулло было уже не остановить. Следом в ущелье ринулись колонны Галафеева и Лабинцева. Прокладывая себе дорогу штыками, войска переходили реку и взбирались на противоположный склон. Горцы отходили, скрываясь в оврагах, и снова нападали, но остановить лавину солдат не могли.
Увидев, что авангард уже поднимается на другой край ущелья и даже втаскивает на него пушки, Граббе, окруженный конвоем казаков, тоже решился перейти ущелье во главе трех батальонов.
Шамиль не считал позиции при Буртунае достаточно выгодными для серьезного сражения с противником, во много раз превосходившим его силами. Часть буртунайцев ушла, но большинство, несмотря на убеждения имама, не захотело покидать аул, и Шамиль был вынужден остаться с ними. А теперь, когда намерения Граббе стали ясны, нужно было выстоять, чтобы и остальные буртунайские семьи успели покинуть аул.
– Уходите! – кричал Сурхай, носившийся по улочкам аула.
– Не то и сами погибните, и аул не спасете!
Все пришло в движение только тогда, когда до аула долетели первые ядра и загорелись первые сакли. Вещи были давно собраны, и теперь их спешно грузили на арбы, ослов и лошадей. В ауле не было человека, который бы помнил, чтобы буртунайцам приходилось вот так покидать свой аул. Они не могли поверить, что это происходит, но все видели, как на аул падают снаряды и что к нему приближаются войска, едва сдерживаемые отрядами Сурхая и самими буртунайцами.
Сурхай дважды опрокидывал авангард Граббе, давая жителям аула возможность спастись. Ополченцы, направляемые Шамилем, нападали то слева, то справа, то выскакивали из оврагов ущелья, внося сумятицу в ряды атакующих.
Когда Шамилю сообщили, что милиция обошла Теренгул сверху и вот-вот нападет на уходящих из аула людей, он послал навстречу милиции кавалерию Али-бека, а затем двинулся и сам с сотней своих гвардейцев. Мюриды набросились на своих земляков орлиной стаей. Но и милиционеры были не робкого десятка, и их было больше.
Рубились отчаянно, и никто не хотел уступать. Султанбек, прикрывая Шамиля, который бился наравне с другими, отводил один удар за другим, валил с коней всадников, а когда его конь сам упал с простреленной головой, вскочил на другого коня позади милиционера, свернул ему шею и вновь вклинился в гущу схватки.
Так бы они и бились, если бы не люди из ближних сел. Они укрывались на хуторах, но, услышав шум битвы, явились на помощь соседям. Завидев толпу пеших и конных горцев, спешивших на выручку, милиционеры отступили.
Когда Граббе выбрался на другой берег, ему сообщили, что скоро подойдет еще одна колонна из Шуры – 3-й батальон Апшеронского полка, орудия и припасы. В ожидании подкрепления Граббе приказал войскам прекратить штурм Буртуная, предоставив его на время в распоряжение артиллерии. Генерал еще надеялся на капитуляцию противника, чтобы предъявить свой ультиматум.
Час проходил за часом, Буртунай превращался в развалины, но о пощаде никто не просил. Зато небо вдруг нахмурилось, и полил сильный дождь. Ливень обернулся шумными потоками, которые несли с гор на войска камни, грязь и обломки домов. Солдаты недовольно роптали, пряча свои трубки-носогрейки, и не столько опасаясь промокнуть сами, сколько беспокоясь о том, чтобы не промокла махорка в заплечных мешках.
Артиллерийский обстрел прекратился, потому что в ненастье нужно было действовать другими приемами. Но впопыхах канониры не взяли с собой всего, что полагалось, а главное – палительные свечи, которые не боялись дождя и использовались вместо фитилей.
Воспользовавшись заминкой, батальоны, не дожидаясь приказа, ринулись к аулу. Граббе видел, что их уже не остановить, и велел командирам вести войска на штурм. Ему и самому не хотелось проводить ночь под проливным дождем. Когда батальоны ворвались в Буртунай, он оказался пуст.
Граббе расположился в уцелевшей и очень уютной сакле на краю аула. От Попова, оставленного с двумя батальонами охранять лагерь, явился насквозь промокший вестовой с донесением, в котором полковник сообщал о прибытии в Гертму 3-го Апшеронского батальона под командой генерал-майора Пантелеева, и испрашивал дальнейших распоряжений командующего.
Распоряжения Граббе отложил до утра. Согревшись вместе с Милютиным и Васильчиковым чаем с ромом, Граббе велел сделать запись в журнал. Раздосадованный тем, что не удалось взять Шамиля, генерал не стал особенно изощряться в преувеличении своих подвигов и лишь слегка их приукрасил, почти по долгу службы:
– Горцы бежали так поспешно, – диктовал он, – что не было возможности их настигнуть. Потеря наша в этом деле была незначительна: всего сорок три человека, в том числе только четверо убитых. Если успех обошелся так дешево, то это должно исключительно приписать смелости и решительности, с которыми произведена была атака сильной неприятельской позиции. Горцы, напротив того, должны были сильно потерпеть от огня нашей артиллерии.
Затем Граббе велел собрать сведения об отличившихся, чтобы представить их к наградам. Отпустив помощников, он устало растянулся на застланной буркой тахте и уставился в потолок. Он смотрел на непонятные надписи на потолочных балках, затейливые узоры на деревянном столбе, который стоял посреди комнаты и поддерживал потолок, как лепные Атланты поддерживали балкон в его доме в Ставрополе, а перед глазами всплывали картины штурма. И Граббе не мог с уверенностью сказать себе, было ли взятие Буртуная победой.
– Откушайте, барин, – предстал перед Граббе верный денщик Иван с подносом, накрытым салфеткой.
– Оставь, – велел Граббе, даже не посмотрев в его сторону.
– Остынет, Павел Христофорович, – уговаривал денщик.
– Почитай, час на ихней печи готовил. И как они их, черти, разжигают, ума не приложу. Да и дрова сырые…
– Потом! – оборвал его Граббе
– Воля ваша, – поклонился Иван.
Положив поднос на низкий столик, денщик достал из кармана новую свечу, поставил ее вместо догоравшего огрызка и ушел.
Граббе лежал, мысленно повторяя слова, которые собирался записать в своем личном дневнике:
«Аул Буртунай, прекрасно обустроенный, большой, как городок, предан солдату и огню. Я ночевал в каменной сакле. Проливной дождь».
О топографе Алексееве все позабыли, но он трудился не покладая рук, и в результате Граббе получил роскошную карту, не только замечательную в военном отношении, но и достойную того, чтобы ее одели в раму и повесили на стену, как произведение живописца. Но теперь она уже была не нужна, и Граббе решил присовокупить ее к победной реляции.
Глава 68
Убедившись, что жители Буртуная удалились на безопасное расстояние, Шамиль повернул свои отряды к хребту Салатау. Аргвани был расположен на другом, южном, склоне хребта, и добраться до него можно было двумя путями. Один вел через высокий перевал Кырк, подъем к которому был открыт, но долог и труден. Другой, тайный, шел через более низкий перевал Мичикал и был короче, но проходил по опасным тропам над пропастью. Шамиль выбрал последний, он спешил, чтобы лучше подготовиться к встрече с Граббе у Аргвани.
В числе раненых под Буртунаем оказался и Сурхай. Пуля пробила папаху и задела голову. Его сочли убитым, но когда Султанбек взвалил его на плечи и принес в Буртунай, местный лекарь обнаружил, что Сурхай еще вполне жив и что полученная им контузия куда опаснее самой раны. Сурхая положили на повозку вместе с остальными ранеными и отправили в аул Алмак, которого военные действия еще не коснулись. Оттуда его должны были переправить в Анди. С раненым наибом отправились два его мюрида, которые вели в поводу коня Сурхая. Но Шамиль не успел далеко уйти, как Сурхай нагнал его с таким видом, будто просто проспал время выступления.
– Имам! – кричал Сурхай, пришпоривая своего коня там, где и пешие ходили с осторожностью.
– Сурхай! – обрадовался Шамиль.
– Что-то быстро ты выздоровел.
– Слегка только задело, – бодрился Сурхай.
– По дороге заживет.
– Дай Аллах, – сказал Шамиль.
– Что бы я без тебя делал?
Шамиль оглянулся на мюридов, сопровождавших Сурхая, и те отвели глаза. Они знали, каких усилий стоило Сурхаю преодолеть этот небольшой путь. Но, придя в себя после контузии, он первым делом потребовал своего коня и свое знамя. Конь был, но знамя осталось у его помощника, командовавшего теперь воинами Сурхая. «Наиб без знамени – не наиб», – объявил тогда Сурхай и велел двигаться за Шамилем. Свое ранение он считал всего лишь досадной случайностью.
Шамиль видел, что Сурхай бледен и храбрится из последних сил. И, как только они достигли пологого места, велел сделать привал.
– Надо дать людям отдохнуть, – сказал Шамиль, – и напоить коней.
Воины спешились и расседлали коней, которым тоже был нужен отдых. Затем разожгли костры, чтобы приготовить еду. Люди не ели уже второй день, перебиваясь комками толокна, да и раненых, которых в отряде было немало, пора было как следует накормить.
Запасливый Юнус достал из вьюков сыр, муку и сушеное мясо. Пока варилась солонина, Султанбек приготовил тесто, нарезал его на куски и бросил в котел, чтобы получился хинкал.
Шамиль прилег у костра, размышляя над тем, что произошло. Тактика Граббе теперь была ему понятна, тот бросался на все, что ему не нравилось или казалось подозрительным. Генерал был так уверен в своих силах, что сметал все, что оказывалось на его пути. Фланговые атаки горцев могли его задержать, но не могли остановить. Однако, метаясь в разные стороны, Граббе терял время и нес потери. Драться с ним в отрытую было бессмысленно. Замысел Шамиля, заключавшийся в том, чтобы направлять отряд Граббе по самым трудным дорогам, беспрерывно тревожить набегами, а затем встречать на хорошо укрепленных позициях, себя оправдывал. Уходя из Буртуная, Шамиль оставил неподалеку Али-бека. Наиб и его мюриды должен были сбить Граббе с толку. Им отводилась роль хвоста отрядов Шамиля, якобы спешно отступающих по крутому подъему к высокому перевалу через хребет Салатау.
Перекусив и немного передохнув, горцы уже готовы были двинуться дальше, но оказалось, что Сурхай уснул, утомленный раной и трудным переходом.
– Не будите, – велел Шамиль, хотя и понимал, что им следует торопиться.
Шамиль чувствовал, что Граббе не станет долго отдыхать, а ринется в погоню, как гончая, почуявшая добычу.
Люди ждали, не желая беспокоить Сурхая. Но вдруг, будто понимая, что происходит, конь Сурхая подошел к хозяину, опустил к нему голову и негромко заржал.
– Едем, едем – отозвался Сурхай, приподнимаясь на бурке.
– Как ты себя чувствуешь? – спросил Шамиль.
– А что случилось? – искренне удивился Сурхай, будто забыв про свою рану.
– Почему мы здесь? Нам давно пора быть в Аргвани!
Шамиль только покачал головой и велел отряду трогаться дальше.
Едва они выбрались из ущелья и начали подниматься к перевалу, их глазам предстала печальная картина. Сотни семейств тянулись в гору, унося своих детей и пожитки. Здесь были беженцы из Буртуная, Гертмы, Гуни и других сел, оказавшихся на пути Граббе.
Усталые волы тащили тяжелые арбы, на которых сидели женщины с грудными младенцами и старухи, вцепившиеся в узлы со своим скарбом. Тут же лежали больные и раненые. Большинство женщин шло пешком, держа за руки детей постарше. Некоторые несли привязанные к спине колыбели с младенцами. Мальчишки гнали овец и коров, которых удалось увести из оставленных сел.
Рев скота, скрежет колес и детский плач сливались в невыносимый гул. Но мужчины старались его не замечать. Им нужно было расчищать дорогу и подталкивать арбы, с которыми не справлялись волы. Кроме того, приходилось держать оцепление, чтобы не наткнуться на неприятеля.
– Будь проклята эта война! – причитали женщины.
– Чтоб у этого генерала усы повылазили!
– Чтоб руки у него отсохли!
– Да съест ржавчина его оружие!
– Да сгорит дом его отца!
Со всех сторон подходили группы ополченцев, горящих желанием сразиться с Граббе хотя бы у Аргвани. И все вместе это напоминало бурную реку, текущую вспять.
Когда Шамиль со своими воинами догнал беженцев, люди остановились, глядя на своего имама. Затем его окружили мужчины, призывая занять оборону на перевале, а ополченцы, еще не вступавшие в битву, жаждали немедленно броситься на неприятеля.
– Нельзя пускать их за перевал! – кричали горцы.
– Пойдем и отобьем наши аулы!
– Мы их не боимся!
– Лучше погибнуть, чем так бежать!
– С каких это пор, Шамиль, твои мюриды, твои львы, стали трусами?
– Их-то дома, наверное, целы?
– Надо драться, имам!
Шамиль понимал, что каждый был по-своему прав, но была и одна, общая беда, которую невозможно было отвести поодиночке.
– Послушайте, люди! – поднял руку Шамиль.
Толпа смолкла, и даже женщины прикрывали рты плачущим детям, чтобы услышать слова Шамиля.
– Если вы признаете меня своим имамом, то должны верить мне, – громко сказал Шамиль.
– Среди моих воинов нет ни одного, чья семья пострадала бы меньше ваших. И они пришли к вам на помощь, когда вы их призвали. Не я начал эту войну, но я много раз пытался ее закончить. Генерал хочет решить дело силой, но нет на свете силы, которая может покорить свободных людей.
– Правильно! – потряс посохом старик.
– А дома мы построим новые, когда победим этого проклятого генерала!
– Как же мы его победим, если он такой сильный? – усомнился другой старик.
– На силу нужна сила.
– А голова у тебя зачем? – спорил первый.
– Ты сильнее или твой бык?
– Причем тут бык? Я про генерала говорю.
– У них генерал, а у нас – имам! Кто лучше?
– Имам, конечно, – соглашался другой.
– Вот и делай, что имам говорит.
– Имаму тоже не мешает послушать аксакалов, – произнес Шамиль.
– Скажите, уважаемые, чтобы вы сделали на моем месте?
– Я? – почесал бороду сомневавшийся.
– Конечно, если подумать…
– А что тут думать? – горячился его земляк.
– Если враг силен, его нужно перехитрить.
В спор вступали все новые участники, дело обсуждалось со всех сторон, одни интересы сталкивались с другими, но в конце концов старики решили, что нет другого выхода, как заманить противника повыше в горы и попытаться его там разбить, употребив все силы и возможности. И брошенные аулы уже не были слишком дорогой ценой за конечный успех дела.
– Приказывай, имам, – обратились люди к Шамилю, потому что он был их единственной надеждой.
– Укройте свои семьи и приходите в Аргвани, – сказал Шамиль.
– Вы ведь и сами так решили. А еще хочу попросить вас: будьте едины, ибо только в этом наша настоящая сила.
– Да ниспошлет тебе Аллах удачу! – благословляли люди имама.
– Да сбудется все, что ты задумал!
– Да не ослабнет твоя рука!
– Рука Аллаха сильнее всех рук, – сказал Шамиль и тронул своего коня.
Он уже почти миновал беженцев, как на пути у него встала изможденная женщина, одетая во все черное.
– Поберегись, мать! – крикнул Султанбек, придерживая коня.
Но женщина не шелохнулась. Она протянула руки к Шамилю и с горечью спросила:
– Даже если мы победим, кто вернет мне сына?
– Не следует роптать на волю всевышнего, – ответил Шамиль.
– Все мы кого-то потеряли.
– Я хочу, чтобы мой сын вернулся, – плакала женщина.
– Мой единственный сын.
– Я стану твоим сыном, – сказал Шамиль, – если ты меня примешь.
Женщина опустила голову, утерла концом платка слезы и уступила имаму дорогу.
Глава 69
На рассвете, когда кончился дождь, привезли раненых и убитых. Погибших поручили заботам отрядного священника, который, перекрестясь, принялся устанавливать между штыками составленных в пирамиду ружей походный аналой, состоявший из икон, большого креста и церковных книг.
Раненых передали в руки докторов, которые давно развернули свой фербонт – походный лазарет и теперь приступили к делу. Когда был получен приказ к выступлению отряда, раненых под прикрытием двух рот решено было отправить в Шуру.
И вот теперь под палящим солнцем, которое не оставило и следа от ночного дождя, отряд двинулся к высокому перевалу. Граббе шел вдоль правой стороны Теренгульского ущелья. Прибывший накануне батальон вместе с другими войсками, остававшимися в лагере при Гертме, а также с обозом и артиллерией двигался по левой стороне.
Траскин спал в своей кибитке, несмотря на отчаянную тряску. Накануне он слишком переволновался. Чтобы как-то отвлечься от пугающей пальбы, Траскин велел накрыть богатый ужин, ожидая, что Граббе вот-вот вернется с победой. Но вместо него компанию Траскину составили генералы Галафеев и Пантелеев. Последний прибыл из Шуры с батальоном и фургоном маркитанта на хвосте.
Несмотря на то, что приборы подпрыгивали от каждого орудийного выстрела, а вино лилось через край, они славно отужинали. Граббе не появлялся, и они стали пить за его скорейшее возвращение в лагерь, за удачный штурм, за победу, за здоровье императора, за военного министра Чернышева, а потом и друг за друга. После нескольких бокалов настоящего французского вина из собственных запасов Траскина все сидевшие за столом перестали замечать неудобства ужина почти на поле боя, зато показались друг другу любезнейшими людьми. Сверх того, они распознали друг в друге истинных героев, которым несправедливая судьба не позволила на этот раз проявить свою храбрость. Они готовы были тут же отправиться к Буртунаю, дабы явить пример стратегического гения, но приказа от командующего все никак не поступало.
Устав бороться с пляшущими на столе приборами, они принялись обсуждать ход военных действий.
– Вот если бы Шамиль прошел курс в Академии Генерального штаба, – чертил в воздухе вилкой Траскин, – тогда бы другое дело. А так – одно дикое упрямство.
– Не скажите, Александр Семенович, – не соглашался Галафеев.
– В академиях горной войне не учат. Это дело практическое.
– Взять бы этого Шамиля да в ту же Академию профессором! – предложил вдруг Пантелеев.
– Вот был бы педагог! А то видел я этих ученых, штык от репы не отличат!
– Поо-звольте, ваше превосходительство, – махал вилкой Траскин.
– Этак академия вольнодумцев плодить начнет! У Шамиля, я слышал, одна свобода на уме, а война – всего лишь маскировка.
– Как то есть? – не понимал Пантелеев.
– Мы уж двадцать лет с ними воюем.
– И еще столько же будем, – добавил Галафеев.
– Ты вы полагаете, Аполлон Васильевич, не возьмет наш Ганнибал Шамиля? – удивился Траскин.
– Вряд ли, – сказал Галафеев.
– Не та эта птица, чтобы легко в руки даться. Он еще нас поклюет.
– Вы это из чего рассуждаете? – осведомился Пантелеев.
– Да разве сами не видите? Это же такой боевой народ и кого угодно над собой не поставит, – объяснял Галафеев.
– Горцы, они родятся с кинжалами. Их даже учить не надо. Тут вся жизнь – сплошная военная академия. Девки, и те так ножичком приголубят, что кишки вон. Сам видел!
– Дас, – процедил Траскин, наливая себе вина.
– Это же сколько денег утечет, пока Шамиль не угомонится?
– Много, – заверил Пантелеев.
– Тут уж считать не приходится.
– Ну, раз надо, так надо, – согласился Траскин, поднося к губам трясущийся бокал. Но, так и не сумев с ним совладать, поставил бокал на стол и в сердцах воскликнул: – Сколько ж можно палить? Ни поесть, ни поспать! Варвары!
В конце колонны тащился большой фургон маркитанта. Аванес был мрачен. Прибыв на место в разгар боя, Аванес спешно распаковал свои тюки в надежде, что вот-вот вернутся участники дела и начнется хорошая торговля. Уцелевшие после боя денег не жалели. Но в его походную лавку заглядывали только те, кто был в лагере, а им пока мало что было нужно, кроме галантерейных мелочей, ниток да мыла. Пару раз забегал мальчонка, пригретый артиллеристами, и получал бесплатно леденец от жалостливой маркитантки.
К вечеру появился весь перепачканный, в разодранной одежде Аркадий, про которого в огне сражения все позабыли, кроме приставленных к нему казаков. Аркадий купил водки и конфет, но уходить не торопился, странно поглядывая на спутницу Аванеса, будто догадывался, что это не жена его. Та осталась в Шуре с детьми и хозяйством. А эта новая маркитантка хоть и была закутана в платки Каринэ и одета в ее платье, но рук прятать так и не научилась. А они слишком явно свидетельствовали, что их обладательница была дама благородная. Не говоря уже о всяких там «Будьте так любезны, мсье», которыми она смущала офицеров, или «Вам что-то надобно, сударь?», которыми Лиза награждала простых солдат.
– Лиза?! – обомлел Аркадий, тут же позабыв про свои обиды, которые собирался залить водкой и заесть конфетами.
– Тише, умоляю вас, – ответила Лиза, приоткрывая лицо.
– Как вы здесь? – недоумевал Аркадий.
– У меня не было другого выхода, сударь.
– А… – Не зная, что на это сказать, Аркадий решил осведомиться насчет своих пистолетов.
– Мой футляр при вас?
– Да, – кивнула Лиза.
– Только уходите.
– Отчего же?
– Маркитант грозил, что выставит меня вон, если все откроется. А я насилу уговорила его взять меня с собой.
– А вы не боитесь? – спросил Аркадий.
– Тут ведь стреляют.
– Мне теперь все равно, – махнула рукой Лиза.
– Лишь бы супруга своего увидеть.
– Понимаю, – кивнул Аркадий, хотя мало что понимал, кроме того, что его дуэльные пистолеты были теперь поблизости.
Теперь, когда лагерь снялся и двигался в гору, Аркадий не находил себе места. Ему хотелось излить кому-то свою душу, израненную незаслуженными обидами, но никому не было до него дела. И ноги сами принесли Аркадия к фургону маркитанта.
Аванес зло на него поглядывал, опасаясь, как бы через Аркадия не пронюхало про Лизу отрядное начальство. Попов хоть и покровитель маркитанта, а по головке не огладит. Да еще и оштрафует на бочонок вина, а то и рома.
Но дорога становилась все труднее, быки с трудом тащили тяжелый фургон, а Аркадий помогал, то подставляя плечо, то поправляя съезжавшую в сторону поклажу. И Аванесу ничего не оставалось, как разрешить Аркадию ехать с ними. Казаки, приглядывавшие за Аркадием, ехали поодаль, рассудив, что тому некуда деться.
Когда дорога была более или менее ровной, Аркадий забирался в фургон и начинал рассказывать Лизе о своих несчастьях. Но ей это было неинтересно. Она жадно оглядывала окрестности, опасаясь пропустить цель своего путешествия, хотя и знала, что до Ахульго еще далеко.
Горы были покрыты цветами. Это казалось Лизе чудом, но повсюду были алые острова маков, прелестные кустики сиреневого чабреца, россыпи ромашки, голубые васильки, бело-розовые головки клевера, лопухи, краснеющий шиповник, распустившиеся головки репейника и множество других неизвестных Лизе растений. Кое-где наливались соком одинокие яблони и абрикосовые деревья. В прозрачном душистом воздухе порхали разноцветные бабочки и стрекозы, носились шмели и пчелы. Зачарованная этой неожиданной красотой, Лиза не заметила, как казаки сняли с фургона Аркадия и куда-то его увели.
Идиллический пейзаж навевал Лизе сладкие грезы о скорой встрече с супругом. О том, как он будет тронут, нет, покорен ее храбростью, как она припадет к его сильной груди, как увенчает его сильные плечи эполетами, как он увлечет ее в страстные объятия… Как они вернутся домой, в их тихое имение, и она народит ему детей, которым он потом будет рассказывать о своих подвигах.
Обе части отряда соединились за Теренгульским ущельем. Впереди, над чередой крутых уступов, возвышался хребет Салатау.
Аркадия доставили к Граббе, который в окружении командиров разглядывал хребет в подзорную трубу.
– Нус, – спросил Пулло Аркадия.
– Где же дорога, о которой вы мне рассказывали?
Аркадий растерянно оглядывался, но никаких дорог видно не было. Далеко впереди курсировали разведчики – конные казаки и милиционеры. Было похоже, что и они не могут отыскать сносный путь.
– Показывай, – велел Граббе, оглянувшись на Аркадия.
– Я собственно… – неуверенно отвечал Аркадий.
– Забыл? – грозно спросил Траскин, надеявшийся замять дело, в результате которого из казны исчезла немалая сумма.
– Я помню! – ответил Аркадий.
– Однако тогда были снежные обвалы и нельзя было идти дальше. А дорогу мне показали.
– Так и вы покажите, – настаивал Пантелеев.
Аркадий долго всматривался в вершины хребта, пока не приметил ту, что показывал ему кунак из Буртуная, собиравшийся проводить его до Аргвани. Впрочем, это оказалось не так уж и трудно, потому что речь тогда шла о самой высокой вершине.
– Надо идти туда! – объявил Аркадий, указывая на главную вершину хребта.
– Идти или взлететь? – спросил Пулло.
– Дороги-то нет.
– Должна быть, – уверял Аркадий.
– А наверху перевал.
– Есть дорога! – закричали вдруг сверху милиционеры.
Эта дорога оказалась едва заметной тропинкой, часто и вовсе терявшейся на очередном уступе.
– И это у них называется дорогой? – недоумевал Граббе.
– У горцев все дорога, – сказал Пулло.
– Было бы где ногу поставить. А где нога, там и колесо. Где одно колесо пройдет, там и другое уцепится.
– Люди Шамиля отсюда наверх уходили, – докладывал капитан горской милиции Жахпар-ага, который прибыл вместе с Пантелеевым.
– Я сам видел.
– Я тоже видел, – соглашался Попов.
– Арьергард, человек сто мюридов было.
– Гляди у меня, – пригрозил Граббе Аркадию.
– Не окажется на месте перевала – пеняй на себя.
Пока начальство решало, куда двигаться дальше, офицеры, участвовавшие во вчерашнем деле, атаковали фургон маркитанта. Аванес ожил, повеселел и уже покрикивал на Лизу, не успевавшую доставать все, что требовалось господам офицерам. Спички, табак, папиросы, шампанское, шоколад, изюм, орехи, подметки, бумага и почтовые конверты – товар шел нарасхват.
Но сигнальные горны безжалостно нарушили торжество Аванеса. Отряд выступал дальше.
Глава 70
Дорога становилась все труднее, а отлогости все круче. Утомленные и без того уже долгим и трудным подъемом, кони покрылись испариной и тяжело дышали, а волы, тащившие тяжелую артиллерию, поминутно останавливались, жалобно мыча и отказываясь идти дальше.
Не легче было и солдатам с набитыми скарбом и сухарями заплечными мешками, тяжелыми ружьями, патронными сумками, палашами, манерками с водой, котелками да еще скатанными шинелями через плечо.
Граббе сменил экипаж на коня и держал над собой зонтик, защищаясь от палящего солнца. Траскин упорно держался за свою кибитку. Остальные, жалея своих коней, давно уже двигались пешком, так получалось быстрее.
Обоз растянулся огромным хвостом и заметно отставал. Чтобы подтянуть арьергард, Граббе велел сделать короткий привал.
Он оглядывался кругом и не мог понять, отчего так быстро изменился пейзаж. Издали он выглядел довольно сносно, даже несколько романтически, а тут вдруг явились расщелины, обрывы и гигантские валуны, разбросанные повсюду какой-то неведомой силой. Но для себя Граббе уже решил, что его не остановят ни природа, ни мюриды, какими бы храбрыми они ни были. И если нет дорог, он проложит их сам. А с Шамилем он расквитается за все, в том числе за эти мучения на скальном бездорожье. Но, чтобы добраться до Шамиля, нужно было двигаться, и как можно быстрее.
Граббе велел снова поставить в голову колонны музыкантов Развадовского. И лишь только заиграла музыка, усталость с войск будто рукой сняло. Освободившись от своих ружей, которые теперь несли другие солдаты, музыканты пустили в ход весь состав своего оркестра. Веселая музыка взбодрила солдат настолько, что вслед за пританцовывавшими ложечниками пускались вприпляску и они сами. Лихое воинство вышагивало, улыбаясь и залихватски насвистывая.
– Молодцы! – хвалил Граббе Траскину своих воинов.
– В бой – как на праздник. Когда доберутся до вершины, велите отпустить им двойную порцию спирту.
Солдатам и в самом деле было весело. Они давно уже не знали другой жизни, кроме жизни своей роты, своего батальона, которые стали их семьей. Они научились радоваться самому малому, жить каждым днем, потому что не знали, наступит ли для них следующий.
А над головами уставших волов свистели безжалостные бичи погонщиков, заставляя их двигаться. Вьючные кони, тащившие на себе по нескольку скатанных палаток, офицерское имущество, бурдюки с водой и многое другое, тоже едва шли по каменистому склону, понукаемые нагайками.
Крики, ругань, надсадное ржание и скрежет колес разносились по всему отряду, но главное внимание было обращено на музыкантов. По знаку Развадовского вперед выходил то один музыкант, то другой, не переставая играть и выплясывая каждый свой танец. А в перерывах и сам Стефан показывал, на что способна его труба.
Горцы-милиционеры, увлеченные необычайным зрелищем, молодецки подкручивали усы и прищелкивали пальцами в такт музыке. А некоторые даже поглядывали на маркитантку, будто прикидывая, не пригласить ли ее на лезгинку.
Решив, что прелюдия удалась, Развадовский скомандовал своим подопечным:
– Шестой номер! Запевай!
И песельники дружно запели:
То не вороны чернеют
На вершинах скал.
Тама горцы в бурках черных
Строят свой завал…
Казалось, уже ничто не может остановить это грозное поющее шествие, которое неукротимо надвигалось на перевал. Но чем выше поднимался отряд, тем неуютнее чувствовал себя Траскин. Он мучился в своей кибитке, которую трясло и бросало из стороны в сторону. Даже конвой, двигавшийся по бокам, не в силах был облегчить эту пытку. Но идти пешком Траскин и вовсе не мог. А когда думал о том, что придется все же пересесть на лошадь, у него становились дыбом волосы. И хуже всего было то, что до вершины хребта было еще очень далеко. Он будто издевался над Траскиным, все отдаляясь и делаясь все выше по мере приближения к нему отряда. Траскин проклинал все на свете, в том числе и себя:
– Черт меня дернул соваться на этот Кавказ! – чертыхался полковник.
– Тут костей не соберешь!
Траскин жалел, что не отказался идти на Ахульго. При своей ловкости в делах он легко бы нашел способ остаться в крепости. Одна только надежда урвать орден поважнее за какой-нибудь подвиг, а там и генеральский чин заставила его двинуться в этот поход. Не говоря уже о поручении Чернышева приглядывать за Граббе и деньгах, которые делались тут на каждом шагу. Чтобы отвлечься, Траскин прикидывал в уме грядущие барыши:
– Лошади кормятся сами, травы вдоволь, а фуражное довольствие – сорок пять копеек за пуд сена да три рубля за четверть ячменя… Итого, кругленькая сумма, если помножить на всех отрядных лошадей, – бормотал Траскин.
– Солдаты в аулах прокормятся, вон сколько зверья кругом бродит, да стада, небось, брошены… Итого, на круг выходит…
Раздался страшный треск, кибитка сильно накренилась, и Траскин вывалился на руки обомлевшему есаулу, который не сумел его удержать.
– Не ушиблись, ваше благородие? – испуганно спросил есаул, когда подоспевшие казаки подняли на ноги полковника.
– Бог миловал, – крестился Траскин.
– А как это я?
– Колесо слетело, – горестно сообщил кучер.
– Вдрызг поломалось!
Это происшествие задержало весь отряд. Задние колонны напирали на передние, которые остановились, пока не уладилось дело с Траскиным. В результате образовался хаос, когда первые ряды смешались, а задние продолжали идти.
– Что случилось? – кричал Васильчиков, пробираясь на коне сквозь образовавшуюся толпу.
– Приказано немедленно двигаться!
Но, увидев, в чем дело, Васильчиков спрыгнул с лошади и бросился к Траскин у.
– Господин полковник! Как же это?
– Еще легко отделался, – потирал бок Траскин, которого уже осматривал доктор.
– Починить можно? – спросил Васильчиков мастеровых, которые осматривали поломку.
– Можно, ваше благородие, – отвечали те.
– Через час будет как новая.
– Как через час? – не соглашался Васильчиков.
– Его превосходительство командующий отрядом не велел терять ни минуты.
– Тады надоть снять у кого-то, – чесал в затылке мастеровой.
– Да вон хотя бы у маркитанта. У него такие же.
– Снимайте! – заорал Траскин.
Аванес долго причитал, стараясь отвести от себя нежданную беду, и жалобно смотрел на Лизу, надеясь, что она сможет ему помочь. Но Лиза хранила инкогнито и упрямо молчала, прячась за шалью. Когда Аванес понял, что Васильчиков с мастеровым не отстанут, то отдал им запасное колесо, которое возил с собой на всякий случай.
Кибитку починили, и отряд двинулся дальше, но теперь он представлял собой огромную толпу, штурмовавшую хребет всяк на свой лад. Эта тактика себя не оправдала. Оказавшись перед почти отвесной стеной очередного уступа, толпа остановилась.
Милиционеры умели подниматься даже там, где это казалось невозможным, и всегда оказывались впереди. Если отрядные лошади выбивались из сил и часто останавливались, не желая идти дальше, то с виду невзрачные кони горцев преодолевали подъемы без труда, а когда хозяева их останавливали, то вертелись от нетерпения или безмятежно пощипывали редкую траву.
– Кентавры, – говорил о горцах Граббе.
– Дикий народ.
А тем временем несколько горцев стояли над уступом, в который уперся отряд, и насмешливо поглядывали на остальных.
– Не пройдут, – говорил один.
– Залезут, – спорил другой.
– Но до Ахульго все равно не дойдут.
– Куда им. Да еще с пушками…
– Не втащат…
– Посмотрим. Этому генералу сильно Шамиль нужен.
– Пусть попробует взять, – усмехался милиционер.
– Многие уже пробовали. Шамиль – как ящерица, за хвост схватят – думают, поймали, а в руке один хвост и остается.
Милютин с топографом сумели забраться еще выше. И теперь Алексеев набрасывал маршрут похода, а Милютин рисовал. Художник он был неважный, но старательный. По крайней мере, эти рисунки могли пригодиться ему в дальнейшем, чтобы восстановить картину событий.
Только взглянув на отряд сверху, Милютин увидел, как он велик и сколько всякого люду в нем собрано. Если батальоны разных полков еще можно было отличить по цвету погон, то милиция от казаков была почти неотличима. Кроме того, в отряде было множество людей, о которых Милютин ничего не знал. Горцы, какие-то господа в цивильной одежде, наемные возчики со своими арбами, незнакомые офицеры. Был даже один верблюд, неизвестно каким образом оказавшийся в отряде, но по всему было видно, что черводарский – столько всего было нагружено на это степенное животное.
Под рисунком, изображавшим движение отряда, Милютин приписал: «При занятии возвышенностей пехота перестраивается в ротные колонны по той причине, что для мелких частей передвижения удобнее, чем для густой колонны, которая может двигаться только по широким дорогам».
– Жарко, – сказал Алексеев, снимая сюртук.
– И ни деревца, где укрыться.
Теперь и Милютин почувствовал, как печет солнце. Странно было, что на такой жаре еще что-то могло двигаться. Не было даже ветерка, чтобы освежить разгоряченных, истекающих потом людей. Только огромное пыльное облако клубилось над отрядом, скрывая от глаз его конец.
А высоко в небе безмятежно парили стервятники. Они уже высмотрели добычу и ждали теперь, когда их оставят наедине с павшей лошадью.
Граббе понял, что так он не скоро доберется до перевала. И в дело были пущены саперы. Они явились с порохом и инструментами, в помощь им отрядили по команде рабочих от каждого батальона.
Саперы наметили будущую дорогу и начали взрывать пороховыми минами утесы. Остальные расчищали дорогу от камней и разбивали кувалдами мешающие выступы. Дорога разрабатывалась с таким расчетом, чтобы можно было везти артиллерию парными быками в две упряжки и конными тройками.
– Поберегись! – неслось отовсюду, где работали саперы, когда с горы скатывали валун или груду камней.
Работа продвигалась медленно, но верно. К вечеру отряд смог подняться на широкий уступ. Саперы продолжали подрывать скалы, прокладывая отряду путь наверх. Вести дорогу напрямую было невозможно, и она шла змейкой, огибая один отрог за другим. Но даже пробитые в скалах дороги не всегда выручали, и приходилось снимать орудия с лафетов, чтобы втащить их наверх вручную, на лямках.
Чем выше поднимался отряд, тем труднее становился подъем. Порой он казался и вовсе невозможным, но войско его как-то преодолевало. Всадники цеплялись за шеи лошадей и молили Бога, чтобы лошадь не поскользнулась и не сорвалась вниз, на идущих сзади, а то и вовсе в пропасть. Пешие напоминали черепах, одетых в панцири своих вьюков. Они медленно карабкались в гору, опираясь на ружья, хватаясь за хвосты лошадей, подставляя друг другу спины.
Тяжелее всего было арьергарду, которому приходилось тащить, толкать, подсаживать все, что составляло огромный обоз отряда. Если изможденные лошади не падали сами, то редко на какой удерживались вьюки. Если вьюки не исчезали в темных глубоких расселинах, то лошадей навьючивали вновь, и эта история повторялась вновь и вновь. С арбами и прочими повозками, которые нельзя было бросить, бились целыми ротами, поднимая их с уступа на уступ. Брань и нагайки перевозчиков-черводаров мало помогали делу – ни лошади, ни волы не в силах были втащить поклажу на такую крутизну. Солдатам ничего не оставалось, как взваливать тюки и корзины на себя. Многие не выдерживали. Кто сидел, кто лежал по сторонам, изнемогая от усталости и жажды, потому что вода из манерок была давно выпита. Они тяжело дышали, не насыщаясь разряженным воздухом, и отводили глаза от упрямо двигающихся вверх товарищей. Таким старые солдаты советовали класть в рот пулю.
– Жажду утоляет, – делились опытом бывалые вояки.
– И дух крепит.
Пуль у солдат хватало, но пользы от них не было. Только горький привкус ненадолго перебивал чувство жажды.
Маркитант Аванес уже подумывал, не повернуть ли ему обратно, но всякий раз убеждался, что спуститься теперь будет еще труднее. Да и кто будет его спускать, если солдаты, которым он посулил по фляжке водки и куску солонины, бросят его на такой высоте и уйдут дальше? Они и теперь надрывались, не столько польстившись на его харчи, сколько не желая отступать от данного Аванесу слова.
Офицерам тоже приходилось несладко. А нелепые приказы начальства выводили их из себя. Для очистки совести они тоже кричали своим солдатам:
– Не отставать!
– Прибавить шагу!
– Не растягиваться, ребята!
Проверять, как исполняются их приказы, офицеры и не думали. Их беспокоило другое: смогут ли они сами добраться до перевала, не ударив лицом в грязь? И не столько перед начальством, сколько перед горцами, которые только что ушли этим ужасным путем.
Когда авангард отряда, которым командовал Попов, взобрался на последний перед вершиной уступ, по нему был открыт ружейный огонь. Егеря залегли за камнями и открыли ответную стрельбу. Мюридов не было видно, но щелкавшие по камням пули свидетельствовали, что горцы отлично видят противника. Усталые солдаты были отчасти благодарны мюридам, вынудившим их остановиться. Теперь можно было немного передохнуть и отдышаться, пока подтянутся остальные войска. Здесь было уже не так жарко, как внизу, воздух был свеж и даже прохладен.
Отряд Али-бека миновал перевал и ушел на соединение с Шамилем. А на хребте, как и прежде, располагались мюриды Муртазали Оротинского, стараясь подольше задержать наступающие войска. До того они их не тревожили, опасаясь, как бы Граббе не выбрал путь полегче, но теперь настало время действовать.
– Не давайте им подняться! – кричал Муртазали мюридам.
– Они и не собираются, – отвечали мюриды, стреляя и снова заряжая ружья.
– Подкрепления ждут.
– Не думал, что такое войско сможет сюда забраться.
– Залезли все-таки…
– На свою голову залезли, – говорил Муртазали.
– Теперь и спускаться придется.
Попов хотел уже повести солдат в атаку, но увидел, что казаки Лабинцева втаскивают на уступ два единорога. Не обращая внимания на пальбу, канониры установили орудия и принялись бить по вершине горы разрывными гранатами. А тем временем егерям было велено скрытно приближаться к перевалу, перебегая от одного укрытия к другому.
Пальба продолжалась целый час, пока не стало ясно, что им никто не отвечает. А затем появился и сам Граббе с конвоем. Он сидел на своем коне так прямо и бодро, будто и не было этого мучительного восхождения. Но молодцеватый вид давался ему нелегко, в глазах генерала горела ярость. Он несколько раз принужден был слезать с коня, но продолжал упорно лезть в гору, проклиная в сердцах скалы, которые пытались ему помешать.
Скоро на вершине хребта собралось все командование отряда. Перед ними открылся целый загадочный мир, который звался Гумбетом и был частью Имамата – государства Шамиля.
Вокруг, на сколько хватало глаз, громоздились высокие горы, между которыми зеленели долины и блестели реки. Кое-где угадывались очертания аулов, и ближайший, Артлух, виднелся слева, верстах в пяти, на склоне хребта.
Граббе взирал на этот незнакомый мир, как Ганнибал смотрел на Италию с заснеженных Альп. И так же, как его кумир, Граббе был уверен, что покорит эту землю, эту горную страну, которая не покорялась еще никому. Тем важнее была бы победа. О наградах Граббе теперь не думал, победить Шамиля – это само по себе было выше всяких наград.
Небо затянули облака, и жара быстро сменилась холодом. Кони скользили по гололедице, и только теперь все заметили, что снег на перевале еще не растаял.
Граббе готов был ринуться вниз, но рекогносцировка, в которой участвовали и Милютин с Алексеевым, принесла неутешительные результаты. Дорога, ведущая от перевала в глубь Гумбета, была так сильно разрушена, что легче было проложить новую, чем исправлять старую.
Снова призвали Аркадия.
– Где же твоя аробная дорога, любезный? – спросил Граббе, не глядя на Аркадия.
– Была, ваше превосходительство, – сказал Аркадий со страхом глядя в разверзшуюся под ногами пропасть.
– Куда же она подевалась? – спросил Траскин.
– Дождем смыло?
– Да вот же она, – показывал Аркадий, приметивший череду вывороченных камней и обрушенных уступов.
– Она? – спросил Граббе топографа.
– То была тропа, ваше превосходительство, а никак не аробная дорога, – уточнил Алексеев.
– А деньги, значит, уплачены? – с подозрением спросил Граббе Траскина.
– До копейки, – подтвердил Траскин, храбро глядя в глаза генералу.
– Какие деньги? – не понял Аркадий.
– Казенные! – пояснил Попов.
– Или ты совсем в уме повредился?
– Позвольте, милостивый государь!..
– взвился Аркадий.
– Был милостивый, да весь вышел, – оборвал его Попов.
Он сделал жандармам знак, и те схватили негодующего Аркадия.
– Пустите! – кричал Аркадий.
– Я вызываю полковника на дуэль!
– Недолечили убогого, – фальшиво сокрушался Траскин.
– Как что – сразу к барьеру тащит.
Граббе на мгновение вспомнил свою неоконченную дуэль с Анрепом и решил отыграться на Аркадии.
– Я его вылечу, – пообещал он.
– Для начала сто ударов шпицрутенами.
– Дворян сечь не велено, – осторожно заметил Пантелеев.
– Тут война, милостивый государь, – отмахнулся Граббе, – а не дворянское собрание.
Остальные удовлетворенно зашумели. Траскин перевел дух. А Лабинцев с Пулло одобрили шпицрутены по иной причине – злым от усталости войскам такое зрелище пришлось бы очень кстати. Тем более что наказывать будут виновника их мучений, который указал отряду неверную дорогу.
Экзекуцию решено было произвести, когда на перевале соберется весь отряд. А до тех пор Аркадия заключили в найденную неподалеку пещеру и приставили караул.
На сбор всего отряда ушло два дня. Как это ни казалось странным, но живительный горный воздух начал творить чудеса. Проделавшие тяжкий путь солдаты являлись на перевал бодрыми, розовощекими и окрепшими. А свое житье в крепостях, среди пустой муштры и гнилого воздуха с назойливыми комарами, вспоминали как сущее наказание.
Тем временем саперы рвали порохом утесы и высекали в скалах дорогу, по которой отряд должен был спуститься к южной подошве хребта.
Граббе торопил строителей. После Ганнибала он успел представить себя и в образе Суворова, тоже переходившего Альпы и сказавшего затем: «Где олень прошел, там и русский солдат пройдет». Граббе находил много общего в своем походе с Итальянским походом Суворова. То же отсутствие карт и тот же каменный мешок, из которого Суворов с таким трудом выбрался, зато получил затем звание генералиссимуса. О том, что к концу похода его генералы ходили оборванными и в дырявых сапогах, а после триумфального возвращения Суворова ждала опала, Граббе старался не думать. Ему не терпелось явить миру свои великие подвиги, увенчать которые, по замыслу Граббе, должен был поверженный Шамиль.
– А уж государь на награды не поскупится, – уповал Граббе.
– Если, конечно, Чернышев не помешает из зависти.
Каждый день отряд недосчитывался нескольких человек. Разведка облазила все вокруг и никого не нашла. Но выстрелы продолжали звучать ниоткуда, будто сами камни стреляли в немирном Гумбете. Пули настигали то саперов, делавших дорогу, то фуражиров, кормивших лошадей, то жандармского ротмистра, игравшего в карты с подчиненным. А то вдруг сама собой съехала с колодок и опрокинулась в пропасть телега с зарядным ящиком и прочими артиллерийскими припасами. Да еще по ночам представала тревожная картина: на ближних и дальних высотах горели сигнальные костры, возвещая всему Гумбету о непрошеных гостях.
Оставаться на перевале было невыгодно и опасно. Войска мерзли, потому что негде было взять дров и нечем было согреться, кроме спирта. А неуловимые снайперы не давали покоя ни днем, ни ночью. Граббе решил перенести часть лагеря ниже, на широкий уступ хребта, до которого уже была пробита дорога. Но перед спуском командующий счел полезным развлечь войска назидательным примером в виде шпицрутенов.
Когда послали за Аркадием, оказалось, что пещера пуста, а часовой лежал внизу, на остром выступе скалы, с разбитой головой.
– Тут дело нечисто, – сказал генерал Пантелеев, когда узнал о случившемся.
– Пустое, – отмахнулся Граббе.
– Один сорвался, другой сбежал.
– Похоже на то, – поддержал командующего Траскин, радуясь про себя, что наконец-то избавился от невольного участника своих финансовых манипуляций.
– Небось, пьян был, покойник, – добавил Попов, который тоже втайне испытывал облегчение.
Остальные держали свое мнение при себе, потому что оно противоречило мнению начальства. Граббе и сам чувствовал, что не все так просто, но не хотел омрачать вступление в Гумбет тревожными предвестиями. Вместе этого он отдал приказ о немедленной передислокации.
Вокруг запели горны, и отряд двинулся во владения Шамиля. Сначала вниз сошла пехота, затем спустили артиллерию. Прочие тяжести и обоз оставались пока на перевале. В ожидании, когда будет разработана дорога дальше, на уступе было решено построить укрепление. Граббе назвал его «Удачным» в ознаменование благополучного перехода через хребет.
Глава 71
Отойдя от перевала, Муртазали занял высоты на одном из отрогов главного хребта. Вдоль скатов этого отрога, считал наиб, неминуемо должен был двинуться Граббе, чтобы выйти к Аргвани. Здесь были припасены кучи камней, чтобы скатывать их на неприятеля, и устроены позиции для стрельбы.
Ночью мюриды услышали условный свист, откликнулись, а затем из темноты появился Айдемир. Он был известный канатоходец, но не всем было известно, что он еще и один из лучших разведчиков Шамиля. Айдемир явился не один, с ним был Аркадий.
– Кунак мой, – объяснил Айдемир.
– Помогал генерала на перевал завлечь.
– А сюда зачем пришел? – спросил Муртазали.
– Они его в зиндан посадили, – объяснял Айдемир, – когда дорог не оказалось.
– Смотри, – предупредил Муртазали.
– Как бы он тебя самого не обманул.
Говорили по-аварски, но Аркадий кое-что понял. По крайней мере, то, что здесь ему будет лучше, чем под шпицрутенами.
– Они его казнить хотели! – воскликнул Айдемир.
– Тише! – поднял руку Муртазали.
– Отведи его в село, здесь он нам не нужен.
– Пошли, – сказал Айдемир Аркадию.
Они двинулись вдоль гребней перевала в сторону аула Артлух.
– Как ты узнал, что я в пещере? – допытывался Аркадий.
– Видел, – ответил Айдемир.
– А почему спас?
– Мы же вместе хлеб ели, – удивился Айдемир.
– Значит, кунаки. У нас так, если друг – то друг, если враг – то враг.
– Но ты, выходит, лазутчик был, – соображал Аркадий.
– А ты разве не был? – усмехнулся Айдемир.
– Только тебе платили больше.
– Платили? – переспросил Аркадий.
– Мне?
– Я слышал: почти десять тысяч дали, если на Шамиля выведешь.
– Это неправда! – негодовал Аркадий.
– Я не потому с тобой пошел!
– А почему? Жить надоело?
– Я сейчас не могу тебе всего сказать, – смутился Аркадий.
– Но ты почти угадал.
– Куда же тогда деньги делись? – спросил Айдемир.
– Не знаю, – ответил Аркадий, угнетаемый мрачными подозрениями.
– Зачем тогда головой рисковал? – допытывался Айдемир.
– Лучше скажи, зачем часового вниз скинул? – спросил, не удержавшись, Аркадий.
– Сам упал, когда на меня бросился, – объяснил Айдемир, а затем показал разодранную на плече черкеску.
– Он меня штыком хотел проткнуть!
– Не надо было тебе меня спасать, – сказал Аркадий, чувствуя себя виноватым.
– Не нравится – иди обратно, кунак, – предложил Айдемир.
– Генерал очень обрадуется.
Позади них послышались выстрелы горских винтовок, а в ответ раздался грохот сотен ружей из лагеря.
– Так и будете стрелять? – спросил Аркадий.
– А как же? – удивился Айдемир.
– Война.
– Но там, в лагере… – не решался Аркадий.
– Там у меня знакомая дама.
– Ничего, – успокаивал Айдемир.
– Наши женщины тоже воюют, когда надо.
– Она воевать не станет, – убеждал Аркадий.
– Тогда путь уходит домой, – сказал Айдемир.
– Она не уйдет, – сказал Аркадий.
– Она любит!
– Любит! – воскликнул Айдемир, улыбаясь, а потом посоветовал: – Укради, если нравится.
– Не могу, – покачал головой Аркадий.
– Почему? – прищурился Айдемир.
– Сам не можешь – я помогу.
– Она не меня любит, – объяснил Аркадий.
– А мужа своего. Но найти его никак не может.
– Мужа? – удивился Айдемир.
– Он что, к нам перешел?
– Говорит, в Хунзахе.
– Тогда пусть подождет, – нахмурился Айдемир.
– Мы и до Хунзаха доберемся.
Аркадий помолчал, покусывая ус, а затем спросил:
– А к вам много наших переходит?
– Секрет, – ответил Айдемир.
– Зачем тебе? Ты же перешел.
– Я, может, и не перешел бы, – сказал Аркадий.
– Так уж судьба повернула.
– У всех – судьба, – сказал Айдемир.
О будущности своей Аркадий не имел ни малейшего представления. Ему ничего не оставалось, как положиться на кунака Айдемира, а в голове его бродили лишь беспокойные мысли о Лизе, оставшихся у нее дуэльных пистолетах и отрядном начальстве, сделавшем из Синицына посмешище, да к тому же присвоившего деньги, которые, выходит, причитались ему.
Аул Артлух был оставлен жителями, и теперь здесь располагалась часть мюридов Муртазали Оротинского. На рассвете его дозорные заметили военные приготовления в лагере Граббе, и Муртазали велел оставить аул, а мюридам присоединиться к остальным, расположившимся вдоль предполагаемого движения Граббе на Аргвани.
Но не успели мюриды отойти, как летучим отрядом, которым взялся командовать Пантелеев, был атакован Артлух. Граббе догадывался, что те, кто стрелял по лагерю ночью, могут оказаться в ауле. Но еще больше его интересовали сакли, которые он приказал разобрать. Возведение укрепления, начатое накануне, нуждалось в бревнах и строительном камне, а отряд нуждался в дровах для костров. Войска уже давно не имели горячей пищи, дров едва хватало для чая, да и то лишь офицерам. Солдатам приходилось обходиться сухарями, размоченными в воде.
Узкую дорогу к Артлуху не пришлось даже исправлять, достаточно оказалось отвалить несколько скальных обломков. Заняв Артлух, никого и ничего в нем не найдя, Пантелеев дал знать в лагерь, чтобы присылали солдат. Те явились, разрушили несколько домов и отправляли в лагерь на арбах камень, бревна и вязанки дров.
Милютин с Алексеевым наметили план укрепления, и Граббе самолично обозначил колышками его контур. Затем, по заведенному порядку, был отслужен молебен, место окропили святой водой, и рабочие принялись рыть ямы для фундамента и угловых столбов.
Днем солнце снова начало припекать, на защищенной от северных ветров стороне хребта было теплее. Снег растаял, превратив землю, вытоптанную лагерем, в скользкую грязь. Но солдатам до этого будто и дела не было. Укрепление строили всем отрядом. Для солдат это было отдыхом после изнурительно перехода через перевал. Да к тому же музыканты Развадовского веселили лагерь, то пускаясь в Камаринскую, то, взявшись под руки, выплясывая Журавля и не стесняясь употреблять в припевках матерные словечки.
У Аванеса дела снова пошли на лад. Холодные ночи оказывали свое воздействие, и бурки шли нарасхват. Папахи тоже постепенно теснили офицерские фуражки. Природа брала свое, не считаясь с воинскими уставами. Офицеры, скучавшие в своих палатках, наведывались к маркитанту по нескольку раз в день за напитками да закусками, но чаще всего спрашивали чай и кофе.
Лиза превратилась в бойкую торговку, стараясь больше делать и меньше говорить. Но ее аристократические манеры, по мнению Аванеса, только мешали делу. Но Лиза все чаще и чаще ощущала на себе жгучие взгляды офицеров, которые так давно не видели женщин, что даже закутанная в платок Лиза могла показаться им образцом совершенства.
Не смотреть на них она не могла. А к разговорам внимательно прислушивалась, надеясь что-нибудь узнать насчет своего супруга или хотя бы понять, когда отряд достигнет Ахульго, где непременно должен был оказаться и Михаил Нерский, застрявший в Хунзахе.
Ничего нового она не услышала, зато узнала странные вещи про Аркадия: повел не той дорогой, арестован, бежал к горцам. Вечером она пытала Аванеса, что это все означает. Тот, подсчитывая выручку, меланхолично сообщал, что бегство к горцам – дело теперь обычное. Но потерянные клиенты его не интересовали, с большей охотой он рассказывал про вороватых интендантов, берущих в долг князей и каверзы штабных чинов, задерживающих жалование. Засыпая, он мечтал о настоящих битвах, после которых к нему в руки за бесценок плыла военная добыча.
Удачное еще не было закончено, успели возвести только каменные стены и деревянное помещение для штаба, но обоз уже спустился и занял укрепление, образовав внутри вагенбург.
Глава 72
Айдемир ушел с Аркадием в аул Данух, который тоже был оставлен жителями и располагался на пути к Аргвани, в четырех верстах от строившегося укрепления.
Они расположились в пустой сакле. Дождавшись темноты, Айдемир развел в очаге огонь, набрал в роднике воды и бросил в старый котел несколько горстей муки, которая была у него в особом кармане за пазухой. К этой похлебке он добавил кусочек старого курдюка, найденный в доме.
Аркадия теперь чрезвычайно волновал вопрос о перебежчиках. Про них он знал лишь со слов повредившегося уме казначея, который рассказывал в Шуринском лазарете, как солдаты прячутся у кунаков, а после возвращаются, чтобы получить награду и поделить ее с горцем. Но Айдемира интересовало другое.
– Сначала ты скажи, – спросил он, – это все войска у Граббе или еще будут?
– Больше неоткуда брать, – сообщил Аркадий.
– Разве что пополнение пришлют, или Головин свои войска даст, или из Хунзаха гарнизон явится.
– Эти точно придут, – согласился Айдемир.
– Там есть солдаты.
– Так что? – продолжал любопытствовать Аркадий.
– Часто ли к вам наши переходят?
Айдемир не отвечал, размышляя, стоит ли об этом говорить Аркадию, которого он все еще считал сомнительным человеком. Но так как Аркадий сам теперь мог считаться перебежчиком, то Айдемир решил обосновать его новое положение.
– Много есть, – начал Айдемир.
– Были ваши, стали наши…
– Дезертиры? – предположил Аркадий.
– Или пленные?
– Всякие, – продолжал Айдемир.
– Пока ваш солдат здесь воюет, он сам становится как горец. А горец не любит, когда его по морде, как ваши офицеры солдат бьют, как скотину какую. Потому и бегут, чтобы людьми жить, а не терпеть, как ослы. Удивляюсь, как другие терпят. У нас так нельзя. У него кинжал – у тебя кинжал. Это ханы людей за людей не считают. А у Шамиля – нельзя. Если кого обидели, а он сам с врагом не смог рассчитаться, тогда Шамиль преступнику голову снимет. У нас все равны. А свободного человека только Аллах обидеть может, если заслужил.
– А если рабу легче оставаться рабом? – сомневался Аркадий.
– Из свободы кашу не сваришь.
– Тогда пусть подбирает ханские объедки, – возмутился Айдемир, – как собака.
– И что же, у вас все свободно живут?
– Конечно, – заверил Айдемир.
– Рабство – грех, харам. А у Шамиля теперь считается как преступление. Если узнает – сначала хозяина накажет, а потом и самого раба, чтобы не позорил человеческое звание.
Аркадию странно было это слышать. Но его сосед по лазарету рассказывал, что многие бежавшие солдаты, даже пленные, потом не хотели возвращаться.
– Они даже жен себе крадут, – рассказывал Айдемир, закончив с патронами и принимаясь за чистку винтовки.
– Как это? – не понял Аркадий.
– Где крадут?
– В станицах, если казаки. А если просто солдат, то в крепости. А если ислам принимает, то и на нашей жениться может.
– На горянке? – не верил Аркадий.
– А что? Война, кунак. Мужчины умирают, женщины остаются. Откуда дети будут, если женщины замуж не выходят?
Эта простая логика убедила Аркадия. Он вспомнил о своей невесте, которую, наверное, следовало выкрасть, а не уступать заезжим фанфаронам. И у Аркадия дрогнуло сердце.
– А красть невест – это трудно? – спросил он кунака.
– Не труднее, чем тебя, – рассмеялся Айдемир.
– И убивать никого не надо. Особенно если она тоже тебя любит.
Запах готового блюда Аркадию не понравился. Но, глядя, с каким аппетитом ест его кунак, Аркадий решился попробовать похлебку. И тут только понял, как был голоден.
Пока Аркадий ел, Айдемир готовил заряды для своего пистолета. Один за другим он вынимал свои газыри, снимал украшенную серебряную головку и насыпал внутрь порох. Для этого у него была пороховница в виде бараньего рога с особой меркой. Лучший порох, затравочный, который насыпался на полку перед стрельбой, хранился в изящной натруске. Еще у Айдемира была коробочка для войлочных пыжей и пуль. Закончив с газырями, он принялся заряжать пистолет. Сначала насыпал пороху, забил пыж, затем положил пулю, предварительно смазав ее бараньим салом, и тоже прибил ее пыжом. Потом проверил шомполом, если он отскакивал, значит пистолет был заряжен правильно.
Пистолет у Айдемира был отменный, дагестанской работы, оправленный в серебро, с изящной резьбой по дулу и рукояти. Красивое оружие было гордостью горцев, которые мало заботились о красивой одежде, но за хорошее оружие могли отдать последнее, что имели.
– Знатный пистолет, – сказал Аркадий.
– Кубачинский, – гордо сообщил Айдемир.
– Лучше вашего ружья бьет.
– А у меня французские, – сказал Аркадий.
– У тебя? – удивился Айдемир, окидывая взглядом Аркадия.
– Покажи!
– В лагере остались, – с сожалением сообщил Аркадий.
– Дуэльные.
– Это когда друг в друга стреляют? – спросил Айдемир.
– С секундантами, – кивнул Аркадий.
– С кем дрался? – поинтересовался Айдемир.
– Ни с кем, – ответил Аркадий.
– Хотел только.
– Значит, ваше начальство разрешает убивать друг друга? – спросил Айдемир.
– Не разрешает, но это дело чести, – объяснил Аркадий.
– Правильно, – согласился Айдемир.
– Негодяев надо убивать, как шакалов.
– Это не убийство, – объяснял Аркадий.
– Это поединок.
– Один на один?
– Да, только, если я вызываю кого-то на дуэль, право выбора оружия за ним. Пистолеты или шпаги, например.
– Интересно, – качал головой Айдемир.
– Сделает подлость и еще оружие выбирает, каким лучше драться умеет?
– Дуэльный кодекс, – кивнул Аркадий.
– Такие правила.
– Почему тогда солдаты не вызывают на дуэль офицеров, которые их унижают?
– Во-первых, вызвать можно только равного, – объяснял Аркадий, который знал дуэльный кодекс наизусть.
– То есть дворянин – дворянина. А во-вторых, нельзя вызывать на дуэль начальника, если оскорбление нанесено по служебным делам. Другое дело – личное оскорбление, тут и генерала можно к барьеру.
– А царя? – спросил Айдемир.
– Царя нельзя, – ответил Аркадий.
– Своего нельзя…
Тут он призадумался, считать ли Шамиля царем горцев? Выходило, что не царь, ведь власть ему досталась не по наследству, а по выбору, да и дворян горских он же сам и изничтожал.
– А еще кого нельзя? – допытывался Айдемир.
– Сумасшедших. От них и от людишек с потерянной репутацией даже вызов принимать не положено, – пояснял Аркадий.
– Кроме того, тяжесть оскорбления делится по степеням, а от них уже зависит род дуэли: до первой крови, тяжелой раны или до смерти…
Аркадий увлеченно раскрывал тонкости дуэльного дела, и Айдемир слушал его с большим интересом. Аркадий добрался до секундантов, затем перешел к распорядителям и докторам. Айдемир начал уже путаться в дуэльной науке, но Аркадий говорил со все большим жаром, излагая теперь виды дуэлей на пистолетах:
– Первая – дуэль на месте по команде, потом – на месте по желанию, далее – тоже на месте, но с последовательными выстрелами. Еще бывают дуэли с приближением и с приближением и остановкой…
Но Айдемир отказывался верить, что такое простое дело, как поединок, требует стольких странных правил. Он еще некоторое время кивал, а затем прервал Аркадия неожиданным вопросом:
– А могу я вызвать на дуэль вашего генерала Граббе?
– Вряд ли он примет вызов, – усомнился Аркадий.
– Ты же не дворянин.
– У нас дворян нет, – покачал головой Айдемир.
– Но разве свободный человек не лучше дворянина?
– Он и от равного-то, от генерала, вызова не принял, – объяснял Аркадий.
– Вернее, как будто принял, но на дуэль не явился.
– Испугался? – усмехнулся Айдемир.
– Граббе храбр до безумия, – заверил Аркадий.
– Скорее, счел соперника за сумасшедшего.
– Где, говоришь, твои пистолеты? – напомнил Айдемир.
– В обозе, – сказал Аркадий.
– У маркитанта. В его фургоне следует дама, про которую я тебе говорил, а у нее футляр с пистолетами. А тебе зачем?
– Люблю хорошие пистолеты, – сказал Айдемир.
– Значит, я не могу вызвать на дуэль Граббе?
– Нет, – мрачно произнес Аркадий.
– А я могу.
– А он не скажет, что ты тоже сумасшедший?
– Сумасшедших шпицрутенами не наказывают.
Ветер доносил отдаленную стрельбу, но Аркадий этого уже не слышал. Не увидел он и Артлуха, объятого пламенем. Аркадия сморил сон.
Глава 73
Утром, когда Граббе принимал рапорты подчиненных, явился вестовой с казачьей охраной. Он привез пакет от Головина из Южного Дагестана. Усталый вид и взмыленная лошадь вестового свидетельствовали о том, что он ехал без отдыха, чтобы доставить важные бумаги.
Корпусной командир извещал, что не имеет возможности предоставить Граббе новые войска по причине необычайно широкого восстания, охватившего Самурскую долину и вылившегося за ее пределы.
Оказалось, что Ага-бек Рутульский собрал большую партию сообщников и взволновал сразу несколько вольных обществ. Джамааты поклялись содействовать Ага-беку и Шамилю, а вслед за ними поднялся и остальной народ. Отряды Ага-бека входили даже в доселе мирные аулы и повсюду встречали единодушное желание драться против царских войск.
«Возмутитель этот обратился и в Рутульское общество, распустив слух, что, собрав там полчища, сделает нападение на батальон, расположенный во временном укреплении в селении Хазры, – писал Головин.
– Не давая веры этим слухам, мы, полагая, что Ага-бек желает отвлечь внимание от настоящего своего замысла – вторжения в Шекинскую провинцию для выручки в ней многочисленных стад, там пасущихся, и которые, как они предугадывали, будут заарестованы при открытии действий, или для нападения на ближайшие к вольным обществам Шекинские селения и войска наши, там расположенные, я поручил принять строгую воинскую осторожность и иметь бдительное наблюдение за действиями возмутителей».
После чего Головин сообщал, что наблюдением ограничиться не удалось, и описывал, с какими трудами, при недостаточных силах он во главе Дагестанского отряда борется с Ага-беком, тушит пожары восстаний в Табасаране, Кайтаге, Самуре, Кюринском, Кубинском и Шекинском ханствах и защищает от вторжения Кахетию. Да к тому же прокладывает дороги через высокие горы и строит укрепления, день и ночь отбиваясь от наседающих горцев.
Головин и рад бы помочь Граббе, но нечем. Разве что, став твердою ногою в возмутившихся обществах и смотря по обстоятельствам, сможет пройти в Центральный Дагестан, чтобы восстановить порядок и давно потерянное там повиновение. Однако в этом он всецело полагается на Граббе, которому ранее послал часть своего отряда, а сам через это терпит лишения.
– Лишения! – негодовал Граббе.
– Походил бы он по этим скалам, узнал бы, что такое лишения!
Теперь ясно было, что Головин больше войск не даст и придется полагаться на то, что есть. Разве что ханы явятся со своими милициями, да из Хунзаха должно быть подкрепление.
Дорога была достаточно разработана, чтобы двигаться дальше, на Аргвани.
– Пора и в путь, господа, – объявил Граббе.
– Промедление усиливает противника, – согласился Галафеев.
– Вот именно, господа, – добавил Пантелеев.
– Пока мы тут топчемся, Шамиль не перестает волновать аулы, и к нему стекаются все новые толпы.
– Решено, – сказал Граббе.
– Выступаем через час.
Все пришло в движение, снимались палатки, вьючили и запрягали лошадей. Батальоны выступали походным порядком. Обоз и тяжести было решено оставить до поры в Удачном, под защитой 3-го батальона Апшеронского полка с тремя полевыми орудиями под командой мaйopa Тарасевича.
Отряд потянулся по склонам хребта в сторону аула Данух, мимо которого лежал путь на Аргвани. Но не успел авангард пройти несколько верст, как с гребней гор на него покатились камни. Один камень увлекал за собой другие, и на отряд обрушивался гремящий камнепад.
Солдаты прятались, где могли, старались вжаться в скалы в надежде, что камнепад пройдет верхом. Но не всех берегла судьба. Первый же обвал обернулся ранеными и убитыми. Несколько лошадей каменная лавина унесла в пропасть и погребла под собой. Чуть было не снесло и орудие с тройкой лошадей, но Ефимка успел перерезать своим кинжалом упряжь. Лошадьми пришлось пожертвовать, зато орудие было спасено. Дорога была завалена, и саперам было велено снова ее расчищать. Но как только они принялись за дело, сверху снова покатились камни.
Граббе приказал выбить горцев с их позиции, и егеря, помогая друг другу, полезли по почти отвесному склону. Они пробовали подняться несколько раз, но их встречали выстрелы и новые камнепады. Убедившись, что так противника не отогнать, Граббе велел пустить в ход артиллерию.
Орудия установили на безопасном расстоянии и начали обстреливать ближайшие вершины. Когда не помогли ядра единорогов, начали стрелять гранатами. А затем уже и мортиры, предназначенные для навесной стрельбы, начали забрасывать на вершину свои ужасные снаряды. В конце концов горцы перестали тревожить отряд.
Но Муртазали Оротинский и не думал оставлять Граббе в покое, он только сменил позицию. Его задачей было продолжать тревожить войска, затруднять их следование и дождаться подхода Ташава-хаджи, который должен был вскоре явиться с новыми силами. Тогда бы удалось вновь занять перевал и отрезать Граббе путь к отступлению.
Отряд Граббе, похожий на огнедышащего дракона, двигался дальше. Неподалеку от Дануха, у места, до которого была разработана дорога, был сделан привал. Пока саперы пробивали дорогу дальше, войска приводили себя в порядок и хоронили убитых. Раненых перевязали и отправили в Удачное, где остался походный лазарет.
Траскин, с трудом оправившись от пережитых волнений, с подозрением поглядывал на Данух, который располагался на возвышенном скалистом мысу и был опоясан пропастью.
– А как насчет этого аула, ваше превосходительство? – спросил Траскин Граббе.
– Все они одинаковые, – ответил Граббе.
– Что ни аул, то разбойничий притон.
– Неужели так его и оставим? – продолжал Траскин, внимательно разглядывая Данух в подзорную трубу.
– Вы разве не слышали, господин полковник? – сказал Граббе.
– Разведчики уверяют, что аул пуст.
– Совершенно верно, – кивал Траскин.
– Но разве это повод для его пощажения? Если бы жители вышли к нам со смиренным принесением покорности… А то ведь все к Шамилю подались. Я полагаю, что неприятель сделал это намеренно, чтобы сохранить сильную позицию на будущее.
Граббе начал догадываться, куда клонит Траскин. Участие в такой экспедиции уже было для него подвигом, но если бы оказалось возможным отличиться, это значительно украсило бы его послужной список.
– Что вы предлагаете? – спросил Граббе.
– Атаковать аул, – выпалил Траскин.
– Если вашему превосходительству будет угодно доверить мне командование сей операцией.
Окружавшие их офицеры переглянулись, и в их глазах недоумение соседствовало с иронией. Они отлично знали цену подобным операциям, которые частенько придумывались лишь для того, чтобы важным чинам, своим или приезжавшим с инспекциями, представился повод заслужить награду. Впрочем, они и сами не упускали случая пустить пыль в глаза. Стойкие в настоящем бою, командиры-кавказцы всегда готовы были «сочинить дело» и там, где его не было. И чем шумнее, громче, тем значительнее выходило в реляциях самое ничтожное происшествие. И они не считали это за грех, потому что знали, с какой легкостью в канцеляриях навешивают ордена на залетных барчуков, даже не нюхавших пороху, зато протежируемых петербургским начальством.
– Я, ваше превосходительство, знаю, как надо, – горячился Траскин, размахивая руками.
– Тут артиллерию, там кавалерию, а после солдаты – в штыковую, на «Ура!».
– Да вы стратег! – деланно улыбнулся Граббе.
– И как мне самому не пришла в голову такая важная мысль? Дерзайте, господин полковник! Даю вам три часа.
Но Данух был не совсем пуст. Айдемир давно уже лежал на крыше дома, наблюдая за тем, что происходило в лагере Граббе. Там пели горны, слышалась барабанная дробь, а саперы не перестали взрывать скалы.
Айдемир ждал, пока проснется Аркадий, чтобы перебраться на другой наблюдательный пункт по ходу движения отряда.
Неожиданно из лагеря вышла небольшая колонна и направилась к Дануху. Впереди двигались милиционеры, за ними скакали казаки с двумя пушками, следом шел батальон егерей, а в конце колонны двигалась большая кибитка, сопровождаемая военным оркестром и солдатами, которые помогали кибитке преодолевать заваленную камнями узкую дорогу.
Не доходя до аула с полверсты, артиллерия развернулась и открыла огонь. Сделав с дюжину выстрелов, пушки умолкли. Молчал и аул. Тогда кавалерия бросилась его окружать, а пехота пошла в штыковую атаку.
Айдемир уводил еще не совсем проснувшегося, но успевшего оглохнуть от пушек Аркадия по извилистым улицам аула.
– Зачем стреляют? – не понимал Аркадий.
– Тебя ловят, – кричал Айдемир.
– Беги за мной!
Они покинули аул задолго до того, как Траскин самолично прибыл к захваченному Дануху. Он выбрался из кибитки и принялся командовать, все больше ощущая себя полководцем на поле сражения. Траскин суетиться, раздавал приказания, но его никто не слушал, потому что каждый и без него знал свой маневр.
Как и в прошлый раз, в плен были взяты пустые сакли, а трофеями послужили дрова и сушившиеся на террасах пучки трав. Тем не менее Траскин чувствовал себя победителем. В конце концов он рисковал своей жизнью. Взять хотя бы каменные лавины, которые обрушились с гор, когда отряд подходил к аулу. Да и сам он, надо признаться, был отличной мишенью при своих необычайных размерах. За каждым углом, на каждой крыше мог оказаться отчаянный мюрид, мечтавший лишить отряд одного из главных начальников. Траскин слышал, что такие случаи бывали. Глядишь – пустой аул, а сунешься – ад кромешный. Вот и теперь он шел по аулу и кожей чувствовал, с какой ненавистью смотрят на него пустые глазницы каменных домов. Он не верил лазутчикам, которые донесли, что аул уже день как оставлен. Траскину хотелось думать, что горцы бежали, устрашившись его атаки. Следов поспешного бегства он, правда, не заметил. Хоть бы одна отбившаяся овца, хоть бы раненная курица – и того бы было достаточно для свидетельства о его победе. И Траскину повезло. Егеря нашли корову, видимо, в спешке забытую, которая вернулась к своему дому и жалобно мычала, толкая рогами запертые ворота.
Возвращение Траскина в лагерь было триумфальным. Все участники молниеносной экспедиции получили усиленный рацион и сверх того по чарке водки.
– Покорно благодарим, ваше превосходительство! – кричали солдаты.
Оркестр играл победный марш, солдаты плясали, а растроганный Траскин и сам едва сдерживался, чтобы не составить солдатам компанию.
В журнале военных действий геройский подвиг начальника штаба Линии был отмечен особо. Милютин облек его в надлежащую форму, добавив картинные описания вымышленных маневров, окружений и штурмов. В результате о полковнике Траскине в рапорте было записано как о «совершившем важный к пользе и славе империи подвиг без малейших пожертвований, явив не только отличное усердие и храбрость, но и новый опыт неустрашимости с совершенным пренебрежением опасностей».
Траскин перечитывал эту запись снова и снова, будто не веря своим глазам и воинскому счастью. Запись о взятии Пантелеевым Артлуха выглядела куда скромнее.
– Он и без того генерал, – оправдывал себя Траскин.
– И орденов успел нахватать.
На радостях Траскин расщедрился. На алтарь своей победы над беззащитным аулом он возложил трофейную корову и послал адъютанта с тремя казаками в Удачное за вьюками из личных запасов. Офицерам был дан такой обед, что тосты за героя не умолкали несколько часов. И только Граббе был мрачен. Непомерное бахвальство Траскина вывело его из себя, и он неожиданно, без объяснений, покинул пировавшую компанию. Бросившемуся следом адъютанту Васильчикову Граббе велел писать приказ по отряду, суть которого заключалась в следующем: вакханалию прекратить, пьянство пресечь, трубить общий сбор и немедленно выступать.
Огорченные офицеры помчались к своим частям, поругивая Граббе и сожалея о прерванном веселье.
Глава 74
Когда Айдемир с Аркадием вышли к Аргвани, аул поразил Синицына своим грозным видом.
– Да это же крепость, – прошептал Аркадий.
– Аул как аул, – пожал плечами Айдемир.
– Ты настоящих крепостей не видел!
Но и то, что видел Аркадий, было необыкновенно после прежних аулов, в которых ему довелось побывать.
Сотни каменных домов были расположены шестью, как сосчитал Аркадий, ярусами. Каждый представлял собой отдельный бастион, а все вместе возвышалось над окрестностями несокрушимой цитаделью, обнесенной завалами и окруженной по бокам крутыми, глубокими балками.
Не менее грозен был вид мюридов, встретивших их на подступах к аулу. Будто вытесанные из камня, они сурово смотрели на гостей, положив руки на кинжалы.
Айдемир остановил Аркадия, подошел к мюридам, перекинулся с ними несколькими словами, и те расступились, пропуская гостей по узкой тропинке, ведшей в Аргвани по краю оврага.
Аул был полон людей. Одни строили завалы, другие чистили оружие, третьи готовили заряды. Повсюду что-то горячо обсуждали. На годекане слушали аксакала, который что-то читал из толстой книги.
Аркадий едва поспевал за Айдемиром, который быстро поднимался по извилистым улочкам. Натыкаясь на завалы, они ныряли под арки, входили во дворы, поднимались на крыши домов, переходили с одной крыши на другую, и так – все выше, пока не оказались у дома наиба Абакара, в котором располагалась временная резиденция Шамиля.
У входа стоял исполинского вида мюрид, который смотрел в небо с выражением радости на лице. В пронзительно чистом небе кувыркался почтовый голубь.
– Салам алейкум, Султанбек! – поздоровался Айдемир, протягивая мюриду руку.
– Ва алейкум салам, Айдемир, – пожал руку Султанбек, немного смущенный, что его застали за столь детским развлечением.
Он напустил на себя серьезный вид, пожал руку и Аркадию, но затем спросил, внимательно оглядывая незнакомца:
– Это кто?
– Кунак мой, – пояснил Айдемир.
– У меня дело к Шамилю.
– Имам занят, – ответил Султанбек, все еще косясь на Аркадия.
– Срочное дело, – настаивал Айдемир.
– Важное.
– Проходи, – приоткрыл дверь Султанбек.
– Там скажут, когда имам тебя примет.
Айдемир вошел в дверь, Аркадий направился следом, но Султанбек преградил ему дорогу.
– А он пусть останется здесь.
– Послушай, брат, – оглянулся на Султанбека Айдемир – Я же говорю, это мой кунак.
– Если кунак – веди его к себе домой, а сюда нельзя.
– Он не просто кунак, – объяснял Айдемир.
– Он русский!
– Русский? – удивился Султанбек, уставившись на Аркадия.
– Как – русский?
– К нам перешел, – объяснял Айдемир, – Помощник мой.
– А, русский, – осознал наконец Султанбек и широко улыбнулся.
– Это хорошо.
– Заходи, – кивнул Айдемир Аркадию.
Но Султанбек стоял на своем:
– Нельзя, брат. Ты иди, Шамиль про тебя спрашивал, а про него мне ничего не говорили.
– Не могу же я его здесь оставить, – упрямился Айдемир.
– Почему? – удивился Султанбек. –
Мы его в хорошее место отведем.
– Какое место? – насторожился Айдемир.
– Ему понравится! – заверил Султанбек.
Он присвистнул, и с крыши спрыгнул молодой мюрид.
– Что нужно?
– Проводи нашего русского кунака, – велел ему Султанбек.
– Ты знаешь, куда.
– А, знаю, – закивал мюрид.
– Пошли!
Оказавшись во дворе, Айдемир увидел на террасе дома Юнуса и взбежал к нему наверх. Они были старые знакомые.
– Что нового? – спросил Юнус.
– Что имам велел, я узнал, – сказал Айдемир.
– Имам хотел узнать характер генерала, его привычки и слабости, – припоминал Юнус.
– А то, что он захватил Данух, мы и сами знаем.
– Я все расскажу, – кивнул Айдемир.
– Расскажи мне, – сказал Юнус, отводя Айдемира на край террасы, где лежало несколько овчин.
– А я запишу. Шамиль совещается с наибами, не стоит им мешать. И тебе лучше, чтобы поменьше людей знали твои тайные обязанности. А с наибами столько народу – в двух комнатах не помещаются.
– Хорошо, пиши, – сказал Айдемир, садясь на овчину.
Юнус достал перо, чернила и положил перед собой на дощечку небольшой лист бумаги.
– Говори.
– Генерал Граббе – человек опасный, – начал Айдемир.
– Любит выходить из лагеря ночью, атаковать на рассвете и всегда идет до конца. Иногда сам не понимает, что делает. Был бы осторожный – нам бы легче было с ним воевать. А он слишком честолюбивый. Он будет добиваться своего, чего бы это ни стоило. Как чабанская собака, если вцепится – сдохнет, а не отпустит…
Голубь принес важные известия, которые Шамиль решил обсудить со своими наибами. Но еще важнее было, чтобы наибы хорошо понимали, что будет делать каждый из них, чтобы они действовали сообща, по одному замыслу.
– Ага-бек связал Головина по рукам и ногам, – говорил Шамиль.
– Его люди поднимают общество за обществом.
– Значит, Граббе больше ничего оттуда не получит? – предположил Ахбердилав.
– Наиб пишет, что Головин хвалился, будто разделается с ним и сам двинется на нас, – сказал Шамиль с легкой улыбкой.
– Ага-бек его не отпустит, – сказал Сурхай, уже вполне оправившийся после ранения.
– Но у Граббе и так много сил, – напомнил Абакар.
– Не слишком ли далеко мы его завели? – размышлял Али-бек.
– На сильного зверя нужен хороший капкан, – возразил Газияв Андийский.
– А еще лучше – надежная клетка, – добавил наиб Лабазан, пришедший в Аргвани с салатавским ополчением.
– Наши люди рвутся в бой, имам, – сказал Балал Магомед, который привел всадников.
– Аргванинцы тоже хотят сражаться открыто, а не отбиваться в саклях, – поддержал его Абакар.
– Сабли против пушек? – усомнился Сурхай.
– Твои джигиты принесут больше пользы, если будут драться с их кавалерией.
– Про это я и говорю!
– Но Граббе сначала пускает в ход пушки, – говорил Али-бек.
– Значит, нельзя дать им приблизиться! – настаивал Балал Магомед.
– Все надо делать по возможности, – сказал Ахбердилав.
– И хоть немного больше, чем возможно. А мечтать будем потом. Я бы тоже хотел, чтобы в Имамате был весь Кавказ, но мы имеем только то, что у нас есть.
– Если бы удалось прогнать Граббе от Аргвани, – размышлял Али-бек, – можно было бы броситься в Хунзах и захватить крепость, которую построил Фезе. Тогда бы вся Авария была в наших руках.
– Хаджи-Мурад не даст, – покачал головой Газияв.
– Там бы было видно, – сказал Али-бек.
– По крайней мере он не стал бы прятаться за пушки.
– Хаджи-Мурад хоть и враг, но горец, – согласился Ахбердилав.
– Мы бы сразились как положено.
– Будь здесь Ташав, мог бы сказать, что нужно обойти генерала, освободить Эндирей и захватить крепость Внезапную, – сказал Сурхай.
Пока наибы спорили, предлагая свои способы справиться с Граббе, вошел Юнус и передал Шамилю записку, составленную со слов Айдемира. Шамиль пробежал ее глазами, а затем поднял руку.
– Братья! – прервал споры Шамиль.
– Мы пока еще в Аргвани, и пусть каждый займется своим делом, прежде чем сюда явится Граббе со своими войсками. Он может оказаться здесь раньше, чем мы предполагаем. Но, сколько бы сил ни было у генерала, мы заставим его пожалеть, что он явился без приглашения.
На совете решили, что аул будут защищать подразделения испытанных в боях мюридов. Ополчение расположится в окрестностях. Были определены передовые части и резерв, которым предписывалось действовать по строгому порядку.
Провожатый привел Аркадия в другой конец аула, где упражнялись в стрельбе несколько десятков человек. Все были в видавших виды бурках и больших папахах. Они были похожи на остальных ополченцев, только у многих были русые бороды.
Одни стреляли в цель – лежащий на боку пень с нарисованной сверху мишенью из больших солдатских ружей, а другие из горских, которые были легче и короче.
– Видали? – говорил один, потрясая горской винтовкой.
– И бьет сильнее, и носить сподручнее.
– А мне с нашим лучше, – хвалил солдатское ружье другой стрелок.
– Оно, знамо дело, хоть и тяжельше, зато со штыком. И приклад поувесистее будет, когда до драки дойдет.
Аркадий не верил своим ушам – стрелки говорили на чистом русском языке.
– Братцы! – обрадовался Аркадий.
– Свои!
– А ты что за птица? – спросил Аркадия старый воин, не выказывая никакой радости.
– Аркадий Синицын, честь имею, – представился Аркадий.
– Из господ, выходит?
– Из дворян, – уточник Аркадий.
Остальные окружили Аркадия и, опершись на свои ружья, с подозрением его разглядывали.
– Откель взялся? – продолжал спрос старик.
– Из Петербурга, – неуверенно отвечал Аркадий.
– Из студентов.
– Беглый али пленный?
– Я… Я сам! – отвечал Аркадий, не зная как правильно объяснить свое положение.
– Но извольте мне не тыкать!
– Ишь, как взъерепенился! – смеялись кругом.
– Да ты, ваше благородие, не туда попал.
– Это у вас, господ, «ты» да «вы», грязь да князь, а у вольных людей благородий не признают.
– Мы таких разве что на кол не сажаем!
– Да кто вы такие? – не понимал Аркадий, впервые видевший столь непривычных ему русских.
– Мы-то люди почтенные, православные, а ты что за собака, что в Имамате, свободном царстве, смеешь барские манеры показывать?
– А барин, он царю своему, христопродавцу, тот же раб!
– Не извольте оскорблять государя, – протестовал Аркадий.
– Он помазанник Божий!
– Божьи люди заповеди его исполняют, – сказал моложавый стрелок.
– Бог ведь как велел: больший из вас да будет вам слуга. А цари, вопреки господу, народ тиранят.
– Будь они праведники, Христос бы из царей апостолов избирал, а не из простых людей.
– Бог заповедал ближних любить, как самое себя.
– А не штыком их крестить, когда народец гнезда свои обороняет.
– Сказано: как хотите, чтобы с вами поступали люди, так поступайте и вы с ними, ибо в этом закон и пророки.
– Так вы… дезертиры? – начал понимать Аркадий.
– Сам ты дезертир, – отвечали стрелки.
– Мы с поля боя не бежали.
– Батюшка, священник наш, как увидал, чего тут творится, так сам к Шамилю и ушел. И мы за ним.
– Батюшка? – еще больше удивился Аркадий.
– Да где же он?
– Погиб, царство ему небесное, – ответил старик.
– А прежде из ссыльных был, из декабристов.
– Не из самих декабристов, – поправляли старика другие.
– Благословлял он их только.
– За то и поплатился каторгой. А уж оттуда – сюда его, в солдаты.
– Душа-человек был, – кивали вольные стрелки.
– Грамоте нас выучил.
– Но вы… выходит, против своих воюете? – недоумевал Аркадий.
– Мы против тиранства ополчились, – объяснял старик.
– Для спасения страждущей родины своей и для исполнения святого закона христианского. Для того ли нам Евангелие дано, чтобы зло умножать? Или горец – не человек, не по подобию Божьему создан? Как начнешь разбирать – все свои. А хорошо ли мы их возлюбили? Вот поколотим генерала вашего, а там и на Русь двинемся, народ поднимать.
– И то! – кивали стрелки.
– Не желаем, чтобы детки наши на барщине маялись.
– Без свободы им счастья не видать.
Многое из того, что говорили эти странные люди, Аркадий уже слышал или читал в запрещенных бумагах, которые ходили по рукам после восстания декабристов. Но подобные призывы раньше не трогали ни ума его, ни сердца и казались ему делом безнадежным. Но теперь перед ним был неожиданный продукт слияния свободных идей и войны, которую горцы вели за свою свободу. Аркадий не готов был принять это как неизбежность, но чувствовал, что Россию чаша сия не минует.
Недоумение, застывшее на лице Аркадия, вольные стрелки расценили по-своему.
– А ты, часом, не лазутчик? – прищурился старик.
– Лазутчик и есть! – вгляделся в Аркадия моложавый стрелок.
– Признал я его! В Шуре с офицерами столовался!
– В петлю его!
– Голову долой!
Стрелки накинулись на Аркадия.
– Нельзя, братцы! – кричал старик.
– Сперва к Шамилю, на суд!
– Эй, кунаки! – послышалось издали.
Это был Айдемир, который спешил к Аркадию. При Айдемире было снаряжение канатоходца, которое он оставлял в Аргвани.
– Мы разве так вас встречали? – спросил Айдемир у старика.
– Лазутчика поймали, – объяснил тот.
– Шпионит, как пить дать.
– Нет, уважаемые, – улыбался Айдемир, бросая на землю канат и собирая свой складной шест.
– Это помощник мой, канатоходец.
– Да ну? – не верили стрелки.
– Пусть докажет.
– Али он токмо для господ по канату скачет?
– Увидите, – пообещал Айдемир.
– Сегодня бесплатное представление.
Он влез на ближайшую крышу, закрепил там канат, а другой конец просунул в бойницу соседней сакли. Когда все было готово, Айдемир принялся отбивать ритмы на перевернутом медном тазу, созывая народ. Со всех сторон начали стекаться люди.
Аркадий увидел, что вот-вот начнется представление, но не знал, как ему быть. Шутовской маски не было, а по канату ходить он не умел. Но Айдемир позвал его на крышу, вручил шест и подтолкнул к туго натянутому канату.
– Не смогу, – упирался Аркадий.
– Сумеешь, – убеждал Айдемир.
– Это совсем нетрудно.
И Аркадий решился. Что ему стоило пройти по веревке, когда люди решались переменить всю свою жизнь? Аркадий скинул сапоги, поглубже вдохнул и поставил на канат ногу. Тот дрожал от напряжения, но был крепок. Аркадий сделал маленький шаг, потом второй и перебежал до соседнего дома.
Публика взорвалась одобрительными криками. А затем за дело взялся и сам Айдемир. И его виртуозные трюки вселяли в зрителей уверенность, что для людей нет ничего невозможного.
Аркадий смотрел на канатоходца, на людей, на горы вокруг и чувствовал, что в нем что-то переменилось, будто змея выползала из опостылевшей кожи. Он сам уже не понимал, как случилось, что он уступил свою невесту без боя? Он ненавидел себя за слабость и клялся отомстить, украсть любимую, убить соперника, сделать что угодно, погибнуть, наконец, но не позволить кому бы то ни было попирать его честь и достоинство.
Вдруг Аркадий заметил людей, стоявших на крыше за квартал от площади, и среди них – человека в белой черкеске, с которым другие горцы, по всему видно – важные люди, говорили с особым почтением.
– Шамиль! – мелькнуло в голове у Аркадия.
Он, не отрываясь, смотрел на имама, которого собирался вызывать на дуэль. И эта мысль показалась ему теперь чудовищной, которая могла придти лишь безумцу.
– Безумные не имеют права на поединок, – напомнил себе Аркадий.
– Даже вызов от безумца не принимается.
Вечером, перед тем, как наибам отправиться на свои позиции, Шамиль объезжал свое небольшое войско, выстроившееся перед аулом на смотр.
Наибы со своими мюридами и знаменами смотрелись не хуже регулярных частей Граббе. На флангах стояли подразделения пеших и конных ополченцев, прибывших из разных обществ. Среди ополченцев было и много жителей Аргвани. Отослав семьи, они остались защищать свой аул. Как и другие горцы, они не могли себе представить, чтобы кто-то мог покуситься на их дома, поля и сады. Скорее предки их встали бы из могил, чем они согласились бы впустить в свой аул незваных гостей.
Бывшие рабы стояли своей командой. И опытный глаз Шамиля сразу отличил их от остальных. Внешне они ничем не отличались от остальных ополченцев, но то, как крепко они держались за свои кинжалы, говорило о том, что они еще не стали для них привычным оружием, но уже служили верным свидетельством освобождения.
Русская команда стояла особо, на взгорке позади колонн. Среди вольных стрелков стоял и Аркадий. Юнус уже знал о его приключениях от Айдемира и кивнул Аркадию как старому знакомому. Аркадий тоже вспомнил Юнуса и удивился такому возвышению своего кунака, который, как думал Аркадий, был простым жителем Буртуная. Ведь именно он спас Аркадия от бдительных хубарцев, когда канатоходец со своим помощником выведывали дороги на Ахульго.
У отрядов ополчения Шамиль задержался. Народ был полон решимости поквитаться с Граббе, это было написано на лицах людей. Но у Шамиля сжалось сердце, когда он увидел среди ополченцев совсем еще мальчишек, чуть старше его сына Джамалуддина.
Имам обернулся к сопровождавшему его Юнусу и негромко сказал:
– Дети должны уйти.
– Абакар им говорил, – оправдывался Юнус.
– Но они не слушаются.
– Зачем гибнуть за свободу, если некому будет ей насладиться? – сказал Шамиль.
– Придумай что-нибудь, но дети должны покинуть Аргвани сегодня же. Пусть живут для мира, а не для войны. Мертвым свобода не нужна.
– Твоя воля будет исполнена, имам, – сказал Юнус.
Шамиль привстал на стременах, вскинул над собой руку и обратился к горцам:
– О люди! Вы собрались сюда по своей воле. Вы пришли по сердцу и совести! Вы объединились, чтобы защищать общую свободу, общее достоинство и одну для всех родину. Так знайте же, что эту битву мы уже выиграли! – возвестил Шамиль, сводя пальцы в кулак.
– Потому что единый народ можно уничтожить, но победить его нельзя.
Повсюду раздались одобрительные возгласы, горцы принялись салютовать из пистолетов и гарцевать на своих конях. Порядок, в котором стояли части, мгновенно нарушился, уступив всеобщему воодушевлению.
Глава 75
Отряд Граббе приближался к Аргвани. Горцы продолжали скатывать на отряд камни, обстреливали растянувшиеся колонны и нападали на цепи охранения. Но Граббе упорно продвигался вперед, прорубая в скалах дорогу и отбиваясь от горцев штыками и картечью.
Заслышав выстрелы, солдаты делали все быстро и слаженно. Орудия всегда были наготове, а Ефимка сделался отменным наводчиком и ловко вбивал клинья в прицельный механизм, когда нужно было согнать горцев с очередного гребня.
Но чем дальше продвигался отряд, тем чаще случались происшествия, вызывавшие у Граббе непроходящий гнев. Из отряда начали бежать солдаты. Это было очень опасно, потому что дурной пример мог повлиять и на других. Особенно если учесть, что больше половины отряда состояло из «штрафных» солдат, которых списывали на Кавказ из других полков. А сверх того в отряде было полно поляков, разжалованных декабристов и прочих ненадежных субъектов. Правда, за время службы они превращались в одну семью и ставили свой полк выше всего остального, включая Кавказский корпус, да и всю армию. Но, тем не менее, побеги случались все чаще. И самым досадным было то, что происходило это на глазах у всего отряда. Откуда ни возьмись, появлялись прежние перебежчики, которые принимались злословить насчет Граббе и даже государя императора, объявляя их тиранами и кровопийцами, а затем манили к себе солдат из отряда, обещая им волю без господ и райскую жизнь у Шамиля. Граббе приказывал открывать по ним огонь, перебежчики скрывались, но затем появлялись в другом месте, причем, с новым пополнением из рядов отряда. Новые перебежчики бранили Граббе, а Траскина величали Арбуз-пашой, умеющим воевать только с коровами. Ругали почем зря и своих командиров, припоминая все обиды, накопившиеся за годы службы. Солдаты, устоявшие перед соблазном побега, знали, что все это правда, и все же променять родную роту на тревожную жизнь в горах решались немногие. Но офицеры, окруженные агитируемыми солдатами, начинали опасаться за собственную жизнь.
Траскин сделал вид, что не расслышал глупых оскорблений, но про себя отметил, что порции на беглых будут отпускаться до конца похода, по крайне мере на бумаге.
Граббе пообещал расстреливать дезертиров, однако обычное для армии офицерское рукоприкладство на время похода запретил. Зачастую именно зуботычины и вообще мордование становились последней каплей, доводившей солдат до «беглого шага».
Милиционеры, наблюдавшие за этими происшествиями, делали свои выводы. Им не нравилось, как офицеры унижают солдат, и они опасались, как бы такое обращение не распространилось и на горцев, когда Граббе одолеет Шамиля.
30 мая Граббе вышел к Аргвани и остановился на расстоянии пушечного выстрела.
Грозный вид аула привел его в замешательство. Он с удивлением разглядывал в подзорную трубу мощные укрепления, правильно расположенные части гарнизона крепости и начал осознавать, что его поединок с Шамилем вступает в новую стадию. Граббе впервые противостояла организованная сила, руководимая самим имамом, причем на позициях, искусно сооруженных грамотными инженерами с учетом всех преимуществ горной местности. Каждый квартал мог служить цитаделью, каждая сакля – блокгаузом и держать свою оборону. И миновать этот аул не представлялось возможным, потому что он запирал проход к Ахульго.
Граббе прикидывал, как распределит войска, куда двинет авангард, где оставит резерв и как станет окружать непокорных горцев. Оставалось дождаться сведений от разведчиков и топографа, чтобы выработать более точную рекогносцировку и дать окончательную диспозицию.
Аргвани произвел впечатление не только на командующего. Траскин начал подумывать о возвращении, полагая, что подвигов с него и так достаточно. Дагестан ему не нравился. Кибитка едва держалась, а палатка, как ни старались сделать ее понадежнее для Траскина, все равно промокала. Да еще эта бесконечная стрельба!
– В провианте предвидится нехватка, ваше превосходительство, – осторожно начал Траскин.
Граббе понимал, куда клонит полковник, но не подавал виду.
– Следовало ожидать, – ответил он.
– Если устраивать пиры после занятия каждого пустого аула, никакого провианта не напасешься.
– Так я же не насчет себя, – оправдывался Траскин.
– Поход выдался слишком тяжелый, вот и хотелось порадовать воинство.
– Понимаю, – соглашался Граббе.
– Но вы напрасно беспокоитесь, наш солдат и на сухаре продержится. А в Аргвани и отряд прокормим, и трофеи возьмем.
– Да, но какой ценой? – сомневался Траскин.
– Не лучше ли отложить это дело до лучших времен? Мюриды, я гляжу, народ отчаянный. Легко не дадутся.
– Это как Бог свят, – сказал Граббе.
– Вон каким ежом ощетинились.
– А до Ахульго идти и идти…
– Вы можете не ходить, – предложил Граббе.
– И так героем вернетесь.
У Траскина отлегло от сердца. Но он продолжал приводить доводы в пользу возвращения:
– И людей сбережем, и казне экономия, ваше превосходительство. Кто же знал, что тут дорог нет?
– Теперь есть, – напомнил Граббе.
– Вот по ним и придем в другой раз. А Шамиль, я полагаю, и сам теперь присмиреет.
– Когда намерены отправиться, господин полковник? – спросил Граббе.
– Как прикажете, ваше превосходительство, – развел руками Траскин.
– А вы разве не пойдете?
– Рад бы, да не могу, – ответил Граббе.
– Отчего же? – не понимал Траскин.
– Теперь все в вашей власти.
– Все, да не все, – деланно улыбался Граббе.
– Перевал-то опять горцы заняли.
– Горцы? – упавшим голосом переспросил Траскин.
– Какие еще горцы?
– Разные, если разведка не врет, – сообщил Граббе.
– Да еще Ташав-хаджи собрал повсюду разбойников и вот-вот явится на помощь Шамилю. А заодно и сатисфакции искать, за сожженные укрепления свои.
Траскину сделалось дурно, он уже ничего не говорил, а только с ужасом смотрел на Аргвани, который теперь представлялся ему мышеловкой.
– Так что, господин полковник, придется овладеть аулом, не взирая ни на какие потери, – издевался над Траскиным Граббе.
– Вы полагаете, другого выхода нет? – спросил Траскин.
– Иначе – полная катастрофа.
– Вы полагаете, ваше превосходительство, мы сможем взять Аргвани? – с надеждой спрашивал Траскин.
– Не вижу ничего невозможного, – заверил Граббе.
– Особенно при ваших-то воинских талантах.
Траскин молчал. И все же известие о том, что перевал снова занят мюридами, беспокоило его не меньше, чем неприступный вид Аргвани.
Офицеры посмеивались в усы и тихо обсуждали между собой, можно ли взять аул открытым штурмом. Солдаты покуривали свои трубки, хорошо зная, что означает штурм такого аула. А музыканты решили всех взбодрить и уже пробовали свои инструменты, но генерал Пантелеев приказал отставить музыку, будто опасаясь разбудить спящее чудовище.
Граббе вспомнил сон, который приснился ему накануне. Ему опять явилась гора, но на этот раз она парила в воздухе и звала к себе Граббе, но он никак не мог до нее дотянуться. А когда удавалось за нее уцепиться, то сверху катились камни.
Чтобы нарушить тягостную паузу, Граббе решился поведать свой сон Пантелееву. Но начал издалека.
– Перед боем главное дело – хорошенько выспаться, – сказал Граббе.
– А я лучше бы и вовсе не спал, – возразил Пантелеев.
– Такая, доложу вам, чертовщина привиделась.
– Чертовщина? – переспросил Граббе, привыкший думать, что сны особенные, значительные снятся лишь ему.
– Вы представьте только, Павел Христофорович, – рассказывал Пантелеев.
– Сплю и вижу, как наяву: штурм – тяжелее не бывает, а сам я лежу, пробитый пулей, и истекаю кровью.
– Это, Илья Андреевич, не иначе как к награде, – сам того не ожидая, объяснил Граббе.
– Дай-то Бог, – перекрестился Пантелеев.
– И чтобы не к посмертной.
– А впрочем, сны эти – одни суеверия, – отмахнулся Граббе.
– Рассказал бы я вам, что мне снится!
– Кошмары? – спросил Пантелеев.
– Потом как-нибудь, – отмахнулся Граббе, удивленный догадкой Пантелеева.
– Не время теперь.
– Воздух тут такой, – предположил Пантелеев.
– Гибельный. Кругом одни опасности мерещатся.
– Если бы только мерещились, – мрачно произнес Граббе.
– Вон как Шамиль устроился. Пойди достань.
– А вы его пушечками, – предложил Пантелеев.
– А под шумок – в штыки.
– Иначе его оттуда не выкуришь, – согласился Граббе.
– Наше счастье, что у Шамиля пушек нет, – сказал Пантелеев.
– А то бы я за исход дела не поручился.
– Несмотря на большой перевес в войсках? – удивился Граббе.
– В горах это мало что значит, – ответил Пантелеев.
– Сами видите, что тут за рельеф. Рота горцев и полк остановит, если засядет правильно.
– Не высоко ли вы их цените, Илья Андреевич? – усомнился Граббе.
– А вот сами теперь и узнаете, – пообещал Пантелеев.
– Прошу любить и жаловать, Аргвани, во всей красе и с Шамилем в придачу.
– Да я их с землей сравняю! – пообещал Граббе.
– Пусть узнают, как становиться у меня на пути.
– Тут важно обойтись малыми жертвами, – советовал Пантелеев, – чтобы горцы не особо заносились.
– Всякой победе цена есть, – сказал Граббе.
– Если бояться жертв, то и воевать не надо. А я потерь не боюсь. Накормлю аул свинцовыми яблоками, а тем временем колонну– слева, колонну – справа…
– И по центру непременно! – подсказывал Пантелеев.
– Горцы это уважают.
– Разумеется, и по центру, – раздраженно сказал Граббе, которому советы Пантелеева казались пустой болтовней.
– Не знаю только, кому поручить столь важное предприятие.
– Я и сам готов, – предложил Пантелеев, которому не терпелось показать Граббе, как надо воевать на Кавказе.
– С одним батальоном пробьюсь, с апшеронцами.
– Решено, – кивнул Граббе, пожимая Пантелееву руку.
– Но прежде пусть попробуют и полковые командиры.
Затем Граббе объявил, что разделяет отряд на три колонны. Правая под командою полковника Лабинцева, из трех батальонов с четырьмя горными орудиями, должна была атаковать юго-западный угол Аргвани. Средней колонне полковника Пулло, из двух батальонов и четырех орудий, было назначено атаковать завалы с фронта. Левая колонна генерал-майора Галафеева, из одного батальона и пеших казаков, служила прикрытием четырех орудий полевой артиллерии, обстреливавших главную башню и завалы. Эта же колонна должна была угрожать ложной атакой со стороны Дануха, а затем, обойдя Аргвани справа, занять дорогу к Чиркате, чтобы закрыть горцам дорогу к отступлению, когда другие колонны ворвутся в аул. Батальон апшеронцев составлял подвижной резерв, с которым Пантелеев собирался предпринять показательную атаку.
Распределив войска, Граббе оглядел своих офицеров и решил напутствовать их на манер Ганнибала, объявившего Альпы стенами Рима:
– Помните, господа командиры, Аргвани – это ключ к Ахульго!
Офицеры отправились готовиться к штурму. А Граббе продолжил рассматривать в трубу Аргвани, отмечая все новые завалы, брустверы, перекопы. Затем труба скользнула в сторону, и он увидел отрядных лошадей, пущенных кормиться на поля аргванинцев. Фуражировка изголодавшейся скотины походила на пир, столько было вокруг наливавшихся колосьев пшеницы и ячменя. Да и сами поля были необычайными. По недостатку пахотной земли склоны самих гор были превращены в ступенчатые террасы, поддерживаемые каменными стенами. По краям рукотворные поля были обсажены фруктовыми деревьями. Эти вековые труды изумили Граббе едва ли не больше, чем аул, превращенный в крепость.
Граббе вернулся к аулу. Штурм предстоял тяжелый, и здесь каждая деталь играла существенную роль. О неизбежных жертвах Граббе старался не думать. Он думал о том, что даже если ему удастся взять Аргвани, но не повезет взять самого Шамиля, победа его превратится в ничто. И никакие пожертвования, никакие старания не обратят внимания истории на эту битву. Даже начальство не сочтет ее за важное событие, разве что на награды не поскупится.
Войску раздали двойной рацион и велели готовиться к штурму. Служивые отнеслись к этому как к обычному делу и принялись править оружие, чинить амуницию и перековывать лошадей. Не отрываясь от работы, выпили все вино, а часть еды оставили про запас.
Топограф Алексеев уже осмотрел Аргвани с одной стороны и теперь обходил его с противоположной стороны, чтобы закончить план укрепленного аула и прилегающей местности. По пути он решил заглянуть в палатку Милютина, надеясь выпить у него чая и чего-нибудь перекусить. Но Милютина он нашел спящим. Вернее, поручик дремал, подложив под голову седло. Он поздоровался с Алексеевым одними глазами, а на предложение составить тому компанию в съемке местности лишь отрицательно покачал головой. Алексеев глотнул чуть теплого чая из остывшего самовара, положил в рот кусочек сахару и ушел.
Милютин понимал, что ему нельзя теперь спать, но не мог заставить себя подняться. Этот переход всего в шесть верст отнял у него слишком много сил. Обвалы, обстрелы и бесконечные приказания Граббе превратили переход в сущую каторгу. К тому же зарядил дождь, делая и без того трудную дорогу по круче опасной до невозможности. Приказы редко достигали цели, будто растворяясь в мокрой темной пелене. Одно спасало, что из-за дождя не видно было пропасти, от одного взгляда в которую леденела в жилах кровь. Две лошади с офицерскими вьюками сорвались в бездну, когда одна поскользнулась и увлекла собой другую. Вьюк Милютина пропал вместе с остальными. Теперь приходилось полагаться на Васильчикова, которому повезло больше: его вьюк оказался среди штабных, которые казаки берегли пуще самих себя. Но и здесь, в лагере под Аргвани, Милютину не было покоя. Граббе требовал то одного, то другого, а чаще – всего сразу. Ординарцев и вестовых уже не хватало, все сбивались с ног, разнося приказы по полкам и батальонам. Кому где стать, с кем поменяться, куда выдвинуться… Новые приказы еще больше запутывали офицеров, которые не успевали выполнить и прежние.
Милютин заглянул в палатку на минутку согреться чаем, да так и задремал, не дождавшись, пока закипит самовар. Но теперь выбирать не приходилось, нужно было вставать. Не то и штурм проспать можно, а заодно и карьеру. Милютин заставил себя подняться и, чертыхаясь, вышел из палатки.
– А еще этот Алексеев со своими картами, – негодовал про себя Милютин.
– Что от них толку? Картинки одни, для наглядности, для начальства да мемуаров. На деле-то все по-другому. Что толку обозначать дороги, если они таковы лишь до первого обвала, до хорошего дождя? Доверься такой карте – костей не соберешь! От Дануха до Аргвани шесть верст укажут, а такая одна верста сотни других стоит. Шесть верст! Чистый вздор! А двое убитых и семнадцать раненых? А пропавшие лошади с вьюками?..
Алексеев нашел подходящее место и принялся уточнять свою карту. Аргвани лежал перед топографом во всей своей грозной красе. День был ясный, вокруг открывались захватывающие дух перспективы, совсем близко парили орлы, и эта великолепная панорама отвлекала Алексеева от дела. Но вдруг его планшет пробила пуля. Другая ударилась в скалу совсем рядом, обдав топографа каменной пылью. Сообразив, что стреляют по нему, топограф спрятался за большой камень, надеясь отгородиться от пуль. План еще не был готов, и Алексеев жадно вглядывался в аул, чтобы успеть заметить все самое важное. Снова засвистели пули, и одна сбила с него фуражку. Топограф не видел, кто и откуда стрелял, но понял, что за камнем ему не отсидеться. После очередного выстрела, он бросился к расщелине, по которой поднимался, и почти кубарем скатился вниз. Планшет уцелел, хотя карта и была повреждена. Но Алексеев успел подметить главное – к аулу примыкал округлый холм, занятие которого могло облегчить штурм.
Глава 76
Холм над Аргвани беспокоил и Шамиля, но до этого холма еще надо было добраться. Все вокруг простреливалось, а подступы были надежно закрыты. В самом ауле было сделано все, что возможно, чтобы выдержать штурм и осаду. Самые отчаянные мюриды заняли передние сакли, решив сложить головы, но не сдавать позиций. На соседних высотах стояли ополченцы, готовые ринуться на неприятеля.
В ауле ждали атаки, но Граббе демонстративно не торопился. Аргванинцы сами готовы были броситься на неприятеля, видя, как его лошади травят их поля, а солдаты вырубают сады, устраивая позиции для артиллерийских батарей. Но Шамиль держался своей тактики, выжидая действий противника.
Граббе, решив дать войску набраться сил перед штурмом, в тот день только установил новые батареи и продолжал методично обстреливать аул. Ощутимого урона ядра не приносили, но бесконечная канонада выводила горцев из себя своей безнаказанностью. Им оставалось лишь восстанавливать поврежденные укрепления и собирать ядра, которые могли потом пригодиться.
Большинство аргванинцев впервые видели царские войска, и бывалые мюриды давали ополченцам советы.
– Он – штыком, а ты кинжалом отводишь и саблей бьешь! – показывал мюрид, пока другой нападал на него с солдатским ружьем.
– А еще лучше – вообще не подпускать.
– А если стреляет? – спрашивали горцы.
– Тогда и ты стреляй, зачем у тебя ружье?
– А если из пушки стреляет?
– Ловите ядра папахами, – смеялись мюриды.
– Шутить потом будем, – говорил пожилой мюрид.
– Когда из пушек – прятаться надо с той стороны домов, куда ядро не падает.
А если граната, у которой хвост горит, тогда хватайте и кидайте назад.
– А если не успеем?
– Водой поливайте, чтобы фитиль потушить.
– А если фитиль совсем маленький?
– Тогда взорвется. Прячьтесь, куда можете.
– А если некуда?
– Почему некуда? – удивлялся старый мюрид.
– Это же крепость! И потом вы же не гулять тут будете, а сидеть по своим местам, за крепкими стенами.
– А стены не пробьет?
В соседний дом ударило ядро и, отскочив, покатилось по улице.
– Разве пробивает? – спросил мюрид, выбирая осколки из бороды и стирая кровь от царапин.
– Такие стены только в упор разбить можно, и то еще постараться надо.
Канонада продолжалась и ночью. По условным знакам факелами ополченцы с нескольких сторон нападали на растянутый лагерь Граббе, но всюду их ждали засады, картечь или штыки. Пользуясь темнотой и складками местности, то собираясь вместе, то расходясь цепью, горцы снова и снова подбирались к отряду, завязывали жаркие перестрелки, бросались в шашки и едва не захватили вагенбург. Схватки продолжались до самого утра, не давая отряду покоя. Напряжение было столь велико, что стоявшая у кладбища рота куринцев чуть было не открыла огонь по надмогильным камням, приняв их за крадущихся мюридов. Поняв, что ошиблись, куринцы крестились, но бдительности не теряли. Они хорошо знали, как горная война богата на сюрпризы.
На рассвете фланги отряда были атакованы небольшими конными подразделениями с окрестных высот. Их опять встречали картечью и густой ружейной пальбой, а Лабинцев с Пулло пускали в обход свои сотни, и горцам приходилось отступать, оставляя убитых.
Шамиль видел, что Граббе успел научиться некоторым способам горной войны или у него завелся опытный советчик.
– А что если и нам сделать вылазку? – беспокоился Ахбердилав.
– Пока аргванинцы сами не кинулись на эти проклятые пушки?
– Потерпи, Магомед, – ответил Шамиль.
– Еще не время.
Утром, когда пушки ненадолго умолкли, к Граббе явились парламентеры. Генерал надеялся, что Шамиль прислал просить пощады, но люди просили лишь отдать им тела убитых, которые не сумели унести ночью.
Граббе согласился. Мертвые, если это был не Шамиль, ему были не нужны.
Шамиль видел, с какой тщательностью Граббе готовится к штурму, как окружает Аргвани своими батальонами, прощупывает подступы, перекрывает дороги к аулу казаками и милицией, как выдвигает новые артиллерийские батареи. Но видел он и решимость горцев защищаться до последней крайности. И цитаделью этой крепости были закаленные в боях мюриды Шамиля.
Не полагаясь лишь на донесения помощников, Шамиль обходил позиции, вдохновляя своих воинов. В одном из переулков он встретил группу подростков, которые ослушались приказа и спрятались в родном ауле, в котором знали все потайные места. Старшие с трудом их отыскали и теперь уводили из села. Пока горцы здоровались с Шамилем, мальчишки бросились врассыпную. Их кинулись ловить, но большинство успело исчезнуть в перекрытых завалами улочках. Одного из мальчишек успел схватить Султанбек.
– Пусти! – отбивался мальчишка.
– Разве тебе не велели оставить аул? – спросил его Шамиль.
– Пусть трусы бегут куда хотят, а я не уйду! – отвечал мальчишка, извиваясь в руках Султанбека.
– Шамиль приказал, значит надо исполнять, – внушал мальчишке Султанбек.
– А почему мой отец остался? – спорил мальчишка.
– Я тоже хочу защищать аул, как мюриды!
– Если хочешь быть мюридом, тебе нужно еще подрасти и научиться слушаться имама, – наставлял Султанбек.
– Отпусти его, – велел Шамиль.
Он пожал мальчишке руку, похлопал его по плечу и спросил:
– Как тебя зовут?
– Маиндур, – опустил глаза мальчишка.
– Так вот, Маиндур, – сказал Шамиль.
– Не для того мы пришли в ваш аул, чтобы тут воевали дети. Но, раз ты такой храбрый, я назначаю тебя наибом.
– Наибом?! – замер от восторга мальчишка.
– Над твоими друзьями, – продолжал Шамиль.
– И вот тебе мой первый приказ: вы соберетесь все, кто остался, и отойдете от аула. Когда потребуется, я вас вызову.
– А где нам ждать? – спросил Маиндур.
– В Тлярате, куда ушли ваши семьи. Вы будете их охранять. Ты хорошо меня понял?
– Да, имам, – закивал Маиндур.
– А если друзья не поверят?
– Султанбек подтвердит, – улыбнулся Шамиль.
– Давай, собирай своих безусых мюридов, – велел Султанбек.
Мальчишка, созывая своих друзей, побежал вверх по улочке, влез на завал, оттуда забрался на крышу. И со всех сторон начали появляться головы мальчишек, удивленно глазеющих на Маиндура.
– Собирайтесь за мечетью! – кричал Маиндур.
– Имам дал нам приказ, а меня назначил наибом!
Шамиль смотрел вслед мальчишкам и вспоминал своих сыновей, всех детей, оставшихся на Ахульго. Если Граббе прорвется к столице Имамата, им уже некуда будет уйти. Нужно было во что бы то ни стало остановить генерала. Уже немало аулов принесли себя в жертву, и настала пора решающих битв.
Шамиль чувствовал, что Граббе еще очень силен, и знал, что генерал не остановится ни перед чем, чтобы добиться своего. Но имам считал позицию при Аргвани достаточно крепкой, в своих воинах не сомневался, а кроме того, очень надеялся на Ташава, который должен был ударить в тыл Граббе.
Снова загрохотали пушки. Теперь они били залпами, от которых сотрясалось все вокруг и испуганно откликалось эхо.
Горцы занимали свои позиции, готовясь встретить неприятеля.
Артиллерия продолжала обстреливать аул, когда колонны Граббе двинулись на приступ, охватывая Аргвани с двух сторон. Защитники аула встретили их шквальным огнем. Солдаты падали под пулями, но колонны продолжали надвигаться на передние завалы, за которыми их ждали мюриды. Расстреляв все пули, они выскакивали из-за укрытий и бросались врукопашную. Перед завалами вырастали другие завалы – из убитых. Новые волны солдат взбирались уже по этим завалам, кидаясь на следующие, каменные. Но горцы держались стойко. Когда казалось, что горцы бегут, солдаты кидались в штыковую атаку, но на месте исчезнувших горцев вставали другие и делали дружный залп. Тем временем первые успевали снова зарядить ружья, и все повторялось. Когда защитникам передних завалов уже нечем было стрелять, на помощь приходили горцы из самого аула, где на крышах домов залегли стрелки-ополченцы.
Солдаты, бывшие на стороне Шамиля, в дело пока не вступали. Да и нелегко бы им было целиться в прежних друзей, с которыми они почти сроднились за десятки лет службы. Перебежчики занимали позиции в тылу, а между собой решили в своих не стрелять, пока не останется лишь выбор: драться или погибнуть. Под «своими» каждый понимал бывшую родную роту, с которой ел из одного котла. С другими ротами он готов был драться, тем более что это случалось и раньше, хотя дрались лишь на кулаках.
Понимая, что без большой драки дело не обойдется, солдаты по привычке прощались друг с другом:
– Не поминайте лихом, братцы, коли больше не свидимся.
И друг другу же отвечали:
– Молите Бога за нас.
Тем временем Юнус сообщил Шамилю, что на дороге, ведущей из Аргвани в сторону Чиркаты и Ахульго, собирается кавалерия казаков и милиционеров.
– Они готовятся к атаке, – предположил Юнус.
– Пусть нападают, – кивнул Шамиль.
Конница выстроилась по эскадронам и с гиканьем и пальбой бросилась на Аргвани. Но неожиданно наперерез им вылетели из лощины всадники ополченцев, которыми командовал Балал Магомед. Он давно ждал этого случая. Шамиль предупреждал его, что такое непременно случится, и они договорились, как будут действовать.
Атака Балал Магомеда была неожиданна. Кроме того, за всадниками неслась толпа пеших горцев, а с фронта нападавших встречали пули защитников Аргвани. Лошади падали, подминая под собой людей. Все смешалось, милиция бросилась в шашки, казаки кидались на завалы. Одни мешали другим, а пехота ополченцев добивала выбитых из седел противников.
Потерпев неудачу и потеряв много людей, казаки и милиция с трудом сумели уйти под прикрытие своих пушек. Горцы не стали их преследовать до лагеря и тоже отошли. Но теперь они уже не скрывались в лощине, а поднялись на окрестные возвышенности, куда не доставали ядра.
Граббе еще дважды бросал войска на штурм, но результат был тот же: мюриды оставались на своих позициях, а перед завалами оставались десятки убитых.
Шамиль молил всевышнего, чтобы атаки прекратились, потому что защитники Аргвани понесли большие потери. Но, несмотря на ощутимый урон, горцы чувствовали себя победителями.
– Теперь они уйдут туда, откуда пришли, – сказал Шамилю наиб Абакар.
– Этот генерал собирается воевать до последнего солдата, – покачал головой Шамиль.
– Он не уйдет, пока не испробует все, что сможет.
Глава 77
Убедившись, что открытым натиском сломить горцев не удается, Граббе скомандовал отступление. Стефан Развадовский, напряженно следивший за штурмом, подал знак горнистам и, не дожидаясь, пока те начнут играть, сам затрубил «Все назад!». «Марш-марш!» – отозвались горны, что означало приказ батальонам возвратиться в прежнее свое расположение. Он снова чувствовал себя Орфеем, который своей лютней усмирял бурю.
– Строй не держат! – раздраженно говорил Граббе, наблюдая отход поредевших войск.
– И шагу правильного нет!
Командиры удрученно переглядывались, понимая, что дело не в правильном шаге или строе, а в Шамиле, который успел превратить толпы повстанцев в регулярные войска, действующие по общему замыслу и в определенном порядке.
Ненадолго установилось негласное перемирие, чтобы унести с поля боя погибших и раненых. Первыми вышли горцы. Они забирали своих, а если замечали, что лежащий солдат еще жив, втыкали рядом его штык и надевали сверху белую фуражку. Иногда люди лежали вперемежку, и горцам приходилось разбирать эти ужасные завалы. Потом за дело принялась санитарная команда отряда Граббе. Их работа затянулась на несколько часов, слишком большие потери понес отряд.
Когда печальная процедура закончилась, генерал Пантелеев вынул свою саблю и объявил:
– Мой черед, господа!
– Вы намерены атаковать? – удивился Граббе, не решивший еще, как быть дальше.
– В горах атак не бывает, – ответил Пантелеев.
– Одни штурмы.
Кроме батальона егерей, с генерал-майором прибыла из Шуры батарея Конгревых ракет. Граббе в эти ракеты не верил, считая их никчемными петардами, но Пантелеев имел с ними дело в Пруссии и знал, на что они способны. Этими ракетами индусы воевали с англичанами и так преуспели, что полковник Конгрев добился, чтобы усовершенствованные им индийские ракеты были приняты на вооружение армии ее величества. А когда удалось поджечь такими ракетами Копенгаген, англичане начали подумывать о том, не заменить ли ими всю артиллерию вообще. Но ракеты, которые были в распоряжении Пантелеева, сильно отличались от английских. Те были неповоротливы и походили на пушки, а отечественные пусковые станки конструкции Засядько больше напоминали подзорную трубу на легкой треноге. Эти небольшие чугунные трубы могли переноситься солдатом или навьючиваться на лошадь вместе со снарядами, не требовали особой прислуги и могли запускать зажигательные пороховые ракеты в любом направлении.
Пантелеев придерживал ракетчиков до особого случая. Теперь этот случай настал. Когда резервный батальон поротно выстроился для атаки, вперед вышли ракетчики. Они установили свои треноги и вставили в трубы снаряды. Пантелеев вынул саблю и скомандовал канонирам-ракетчикам:
– Левый фланг, по порядку, начинай!
Ужасающе шипя и разбрасывая искры, ракеты взмывали в вечернее небо и прочерчивали в нем огненные дуги. Многие летели мимо цели, но те, что падали в аул, обдавали все вокруг огненной лавой.
Увидев, как над аулом занимаются пожары, Пантелеев под грохот барабанов повел батальон на штурм. Он был уверен, что действие ракет произведет на горцев нужно впечатление и они думать забудут о сопротивлении.
Но генерал-майор ошибался.
Столкнувшись с невиданным оружием, горцы поначалу растерялись. Но когда увидели, как солдаты-перебежчики, которым ракеты были не в диковинку, принялись их гасить, набрасывая на упавшие снаряды бурки, то и сами взялись за дело. Каменные сакли не горели, разве что ракеты попадали в стог сена или хлев, но и с этими пожарами быстро управлялись.
Шамиль обходил позиции. Убедившись, что ракеты не нанесли большого ущерба кроме нескольких обожженных человек, имам вернулся на свой командный пункт, откуда мог видеть почти все, что делалось вокруг.
– Опять идут, – показал ружьем Юнус.
Шамиль уже и сам видел стройно марширующий батальон, во главе которого шел генерал. Обнаженная сабля в его руке и взятые на изготовку ружья со штыками мрачно поблескивали в огненных всполохах летящих над батальоном ракет.
– Пусть поверят, что смогли нас напугать, – сказал Шамиль.
– А когда подойдут поближе, покажите им свой огонь.
Батальон Пантелеева почти добрался до первых завалов, когда навстречу полетели кувшины, наполненные нефтью. Нефть загоралась и растекалась под ногами солдат. В рядах Пантелеева началась сумятица. Но генерал продолжал двигаться на завалы.
Тогда раздался дружный залп засевших в завалах мюридов. Затем еще один, уже из передних саклей, затем снова из завалов.
– За мной! – кричал Пантелеев.
– В атаку, братцы!
И тут в Пантелеева что-то ударило, а по мундиру начала растекаться кровь. Генерал остановился, выронил саблю и упал на руки своего адъютанта.
– Генерал ранен! – закричал молодой поручик.
– Помогите!
Солдаты уже взбирались на завалы и бились с мюридами. Но потеря командира нарушила все дело. После небольшой стычки батальон отхлынул назад. Отстреливаясь, загораживая раненого генерала и оставляя по пути убитых, апшеронцы отступали.
Граббе взирал на происходящее с недоумением. Ему казалось, что батальон уже занял первые завалы, и вдруг – отступление.
– Их превосходительство генерал-майор ранены, – доложил Васильчиков.
Граббе поспешил к раненому. Пантелеева в окровавленным мундире принесли на плечах два дюжих солдата.
– Что с вами, Илья Андреевич? – упавшим голосом спросил Граббе.
Но смертельно бледный Пантелеев не отвечал, сжимая от боли зубы.
– Как же вы не уберегли? – набросился Граббе на адъютанта.
– Пуля чинов не разбирает, ваше превосходительство – ответил адъютант Пантелеева, который тоже был ранен, но легко.
Принесли носилки, уложили на них генерала. Доктор распорол мундир, чтобы осмотреть рану, а затем сообщил:
– Ранение в грудь, справа, и в правое плечо.
– Спасите генерала, – почти приказал Граббе.
– Сделаем все, что сможем, ваше превосходительство, – неуверенно сказал доктор, накладывая на рану повязку.
– Но раненого нужно срочно отправить в госпиталь, во Внезапную хотя бы.
– Готовьте обоз, соберите всех раненых, – приказал Граббе стоявшему поблизости Милютину.
– Будет исполнено, ваше превосходительство, – козырнул Милютин и побежал к вагенбургу.
– Не нужно, – вдруг сказал Пантелеев.
– Непременно! – настаивал доктор.
– Вас можно спасти.
– Все будет хорошо, – успокаивал раненого Граббе.
– Но как же вас угораздило, Илья Андреевич?
– Сон, – прошептал Пантелеев.
– Что? – не понял Граббе.
– Какой сон?
– Я вам рассказывал, – через силу улыбнулся Пантелеев.
– Сбылось.
И тут Граббе вспомнил. Пантелеев действительно рассказывал ему свой странный сон про ранение и кровь. Выходило, вещий был сон, а Граббе назвал его вздором.
– Вы давеча говорили, вам тоже снилось, – продолжал Пантелеев.
– Сбылось?
Граббе обдало холодом. Страшно было подумать, что и его кошмарные сны каким-то образом сбудутся. Нет, это было невозможно. Граббе хотел сказать Пантелееву, что ничего не сбылось и что сны были пустяковые, но генерала уже унесли.
– Гора! – припоминал свои сны Граббе.
– Проклятая гора!
Разгневанный генерал приказал открыть огонь из всех орудий.
Санитарный транспорт, отправлявшийся в Удачное с ранеными, должен был привезти обратно провиант и боеприпасы, которые подходили к концу.
Милютин сбился с ног, собирая повозки и лошадей. Санитары выносили все новых раненых, и повозок требовалось все больше, потому что было решено отправить в Удачное и первых убитых. Найдя еще одну повозку, обозную, Милютин велел вывалить из нее тюки с сухарями и двигаться к полевому лазарету, где раненым оказывали первую помощь. Идти за повозкой у него уже не было сил. Тогда Милютин вскочил на нее, чтобы передохнуть, пока доберется до места, и его сморил сон.
Очнулся Милютин от того, что кто-то стягивал с него сапог. Поручик отдернул ногу и поднялся. Ему в лицо тут же ударил свет фонаря. На Милютина с ужасом смотрел какой-то солдат.
– А вы разве не убиты, ваше благородие?
Оказалось, что санитарный транспорт уже выступил из лагеря, и Милютин лежал среди убитых солдат, а его шинель была испачкана их кровью.
– Пристрелить бы тебя, скотина! – крикнул Милютин солдату, отталкивая его сапогом.
Сон сняло, как рукой. Милютин спрыгнул с повозки и поспешил обратно. Когда обоз ушел и Милютин остался один, его охватил страх. Внизу грохотали пушки, летали огненными драконами Конгревые ракеты, в Аргвани бесновались пожары, в лагере горели костры, а здесь, на горной дороге, было подозрительно тихо. Именно эта коварная тишина и пугала больше всего. Милютин озирался на каждый шорох. Это мог быть крадущийся мюрид, мог быть камешек, скатившийся с обрыва от того, что пушки сотрясали землю, или змея, потревоженная войной и решившая защитить своих детенышей. Идти по извилистой дороге у Милютина уже не хватало терпения, и он двинулся напрямик, скатываясь от уступа к уступу, заглушая своим шумом свой же страх и моля Бога, чтобы не угодить в пропасть, в которой прежде канула вьючная лошадь со всем его дорожным имуществом.
В лагерь он явился изодранный и с ушибами, но счастливый, будто вырвался из смертельной опасности. На радостях он даже не услышал, как его окликнули со сторожевого секрета.
– Стой! Кто идет?
Милютин не отвечал, и его запросто могли убить, приняв за мюрида. Но на счастье поручика, невдалеке пролетела ракета, осветив его с ног до головы, и фельдфебель узнал штабного.
– И где вас носит, ваше благородие?
В ответ Милютин обнял фельдфебеля, поцеловал в пропахшую табаком бороду и пошел дальше.
Граббе пил кофе в своей палатке. Пушки не давали спать, да он и не хотел, опасаясь, что ему снова приснится то, чего он не желал больше видеть.
Явился Траскин. Ему тоже не спалось. Несчастье, случившееся с Пантелеевым, наводило Траскина на тревожные размышления. Но полковник, тем не менее, не терял даром времени. Он вызвал к себе капитана горской милиции Жахпар-агу и переводчика Биякая и велел им отыскать кого-нибудь, кто за золотой червонец покажет слабые места в обороне Аргвани. Червонец Траскин предлагал из личных средств, уж очень ему хотелось покарать беглых солдат, обзывавших его перед всем отрядом Арбуз-пашой.
И Биякай такого проводника нашел. Этот отступник был не аргванинец, но хорошо знал аул и его окрестности. Траскин передал золотой червонец Жахпар-аге и сказал, что проводник его получит, как только сделает дело.
Показания проводника подтвердили вывод, сделанный топографом Алексеевым, что лучшая позиция для атаки – округлый холм, примыкающий к аулу. Дело было только за тем, чтобы найти тропу, по которой можно было на этот холм взойти. И проводник брался ее указать.
Жахпар-ага утверждал, что лично облазил все кругом и никакой тропы не нашел. Что проводник врет, но тот стоял на своем.
– Я покажу, только вы тоже отдайте мне червонец.
– Не сомневайся, мил человек, – сладко улыбнулся ему Траскин и поспешил к Граббе.
Когда Граббе выслушал проводника и сверил его показания с картой Алексеева, ему сделалось немного легче.
– Веди, – приказал Граббе.
Отвлекая горцев новыми залпами Конгревых ракет, две роты апшеронцев под командой полковника Попова обошли аул и, сбивая штыками немногочисленные посты горцев, прорвались на вершину холма. Убедившись, что этот холм действительно командует всеми окрестностями, Попов послал солдат за пушками, а сам принялся обустраивать позиции.
Спустившись с холма, проводник тут же отправился к Жахпар-аге и сообщил, что дело сделано. В палатке были еще люди, и Жахпар-ага сделал проводнику знак следовать за ним. Как только они вышли из палатки, отступник алчно улыбнулся:
– Червонец!
– Здесь нельзя, – сказал Жахпар-ага.
– Увидят, а потом отнимут. Иди за мной.
Они подошли к краю пропасти и скрылись за большим валуном.
– Сейчас все получишь, – сказал Жахпар-ага, наставляя на отступника пистолет.
– Что ты делаешь?! – взмолился отступник.
– Пощади! Забери золото себе!
– Мне оно ни к чему, – сказал Жахпар-ага, доставая червонец.
– Это золото предателя.
Отступник зажмурил от страха глаза. Через мгновенье раздался выстрел, который никто не услышал в грохоте неумолкающих пушек. Предатель осел с простреленным лбом, у него открылся рот, будто он хотел что-то сказать, но так и не успел. Жахпар-ага сунул ему в рот червонец, а затем ногой столкнул труп в пропасть.
Глава 78
На рассвете пушки обстреляли Аргвани с холма, откуда аул просматривался до мельчайших подробностей. На этот раз пушки били прицельно, а не наугад. А тем временем батальоны пошли на новый штурм.
Горцы, всю ночь боровшиеся с зажигательными ракетами и последствиями артиллерийского обстрела, не сразу поняли, что происходит. Ядра теперь падали с другой стороны и наносили серьезный урон. В рядах защитников Аргвани возникло смятение.
Когда Шамиль понял, что случилось, он приказал немедленно очистить холм от неприятеля. Но большинство мюридов отбивалось от атакующих батальонов, а среди ополченцев нашлось немного желающих выполнить этот приказ.
– Истинно говорю вам, – возвысил голос Шамиль.
– То, что произошло у пророка, да будет над ним молитва Аллаха и мир, в день битвы при Оходе, было результатом неисполнения воинами приказа. Так подождите же, и вы увидите то, что произойдет у нас!
– Мы пойдем на них! – крикнул Султанбек.
– И я пойду! – присоединился к другу Юнус.
За ними последовали несколько мюридов и десяток аргванинцев. Пойти с ними вызвались и бывшие рабы, горевшие желанием отстоять звание свободных людей.
– И мы с вами! – крикнул старый солдат.
К нему присоединились остальные перебежчики, приговаривая:
– Двум смертям не бывать, а одной не миновать.
Среди перебежчиков уже были потери. Погиб молодой казак, когда пытался погасить упавшую рядом гранату, но она успела взорваться.
Прибежал раненный ополченец и сообщил, что солдаты ворвались в завалы с левой стороны аула.
– Приложите старания, братья, – напутствовал Шамиль тех, кто уходил отбивать холм, – и всевышний не оставит вас милостью!
Затем имам обнажил шашку и поспешил вслед за ополченцем.
Султанбек остановился в нерешительности, ведь он был не только отважным воином, но и телохранителем имама.
– Ты иди с ним, – сказал Юнус.
– А я пойду на этот проклятый холм.
Султанбек бросился за Шамилем. Остальные двинулись за Юнусом вверх по улочкам, прячась от падающих сверху ядер и гранат. Аркадий остался один. Он неумело держал ружье, доставшееся ему после убитого солдата, и не знал, как теперь быть. Но все же решился и побежал вслед за солдатами. Он скоро догнал их и спросил Юнуса:
– А о чем говорил Шамиль?
– О битве при Оходе, – ответил Юнус.
– А что это была за битва? – не отставал Аркадий.
– Под Мединой есть холм, Оход называется, – рассказывал Юнус, стараясь изложить суть дела покороче.
– Мекканские язычники пришли, чтобы сразиться с пророком, да будет над ним милость Аллаха. Мекканцев было в три раза больше, но мусульмане были на холме и сначала побеждали врагов. Когда язычники отступили, люди, которые были с пророком, захотели разграбить их лагерь. Пророк Мухаммед запрещал это, приказал не сходить с холма, но они его не послушали и захватили лагерь. Тогда язычники вернулись и разбили мусульман. Они даже ранили пророка. Вот как Аллах наказывает за непослушание!
– А что было потом? – спрашивал Аркадий, волоча за собой тяжелое ружье.
– Аллах милостив, – ответил Юнус.
– А с пророком остались истинно верные.
С ними он возвысил ислам и завоевал полмира.
Аргванинцы поднимались к холму впереди остальных. И если остальные являли храбрость, то аргванинцев переполняло еще и негодование. Это была их земля, их аул, их холм! А теперь приходилось его штурмовать! Их разум не мог вместить в себя эту нелепость. Они знали тут каждый клочок, а теперь каждый шаг по родной земле становился смертельно опасным. Сверху начали стрелять, но аргванинцы не шли – бежали, увлекая за собой остальных. Бежали и падали под пулями. Но остальные упорно лезли наверх. Они уже видели стрелявших по ним солдат, уже бросились на них в рукопашную, но те вдруг расступились и открыли пространство для стоявших наготове пушек. Пушки ударили по наступавшим картечью. Несколько человек упало, заливая кровью каменистую землю. Старый солдат рухнул на Аркадия, который вжался в землю, пережидая залп. Пока Аркадий пытался понять, жив солдат или нет, другие, не дожидаясь, пока пушки снова зарядят, бросились в штыки и кинжалы.
Схватка была ужасной, штыки сошлись со штыками, сабли с шашками, кинжалы с кинжалами. Но силы оказались не равными. За ночь на холм поднялось большое подкрепление. И схватка бы закончилась очень быстро, если бы не солдаты-перебежчики, изумившие своих старых знакомцев, не отчаянная храбрость аргванинцев и не стойкость мюридов, дравшихся каждый за троих.
Когда от смельчаков осталось всего несколько человек, окруженных плотным кольцом, Попов приказал прекратить огонь.
– Сдавайтесь, если жизнь дорога! – предложил полковник.
– Нака, выкуси, – солдат показал полковнику фигу.
– Одумайся, Никита! – крикнул ему бывший приятель.
– Повинись!
– Как бы не так!
Никита криво усмехнулся, а затем перекрестился и посмотрел в небо, будто прощаясь с миром, который обошел его счастьем.
– Предупреждаю в последний раз! – пригрозил Попов.
В ответ Юнус запел гимн мюридов, и его подхватили уцелевшие горцы. Поддерживая друг друга и подняв сабли, они пошли на солдат Попова, которые целились в них из ружей.
Попов не верил своим глазам. Но когда между противниками осталось всего несколько шагов, полковник скомандовал:
– Отставить!
Солдаты удивленно смотрели то на полковника, то на идущих на них горцев и солдат-перебежчиков.
– Расступись! – приказал Попов.
Солдаты расступились, пропуская этих диковинных людей, ценивших свободу выше жизни.
Их осталось всего семеро. Они спускались с холма, подбирая раненых и взглядами прощаясь с убитыми друзьями. По пути они встретили Аркадия, который тащил на плече смертельно раненого старого солдата. Он корил себя за то, что не пришел на помощь другим. Он собирался это сделать, но было поздно, его товарищи уже дрались в кружении.
Юнус нашел Шамиля среди мюридов, на левом краю аула. Отбив очередной натиск, горцы ждали следующего.
– Я знаю, – сказал Шамиль, положив руку на плечо Юнуса.
– Вы не смогли отбить холм.
– Люди не щадили себя, – сказал Юнус, опустив глаза.
– Но там уже много солдат и пушки стоят.
– Еще не все потеряно, – сказал Шамиль.
– Найди Айдемира и пошли его на перевал, к Муртазали. Если Ташав уже подошел, пусть атакуют. Пусть возьмут укрепление, из которого генерал получает помощь, а потом ударят по Граббе с тыла.
– Хорошо, имам, – ответил Юнус и отправился искать разведчика.
У речки, протекавшей через аул, Айдемир приводил в чувство Аркадия, который сидел, вцепившись в свое ружье и отрешенно качая головой.
– А ты как думал? – пытался шутить Айдемир.
– Война – это не каша с маслом!
– Зачем они убивают друг друга? – отвечал Аркадий.
– Я не понимаю, Айдемир.
– У генерала спроси, – говорил Айдемир, смачивая водой голову несчастного Аркадия.
– Думаешь, мне воевать охота? Я на канате танцевать хочу, а не под этими ядрами.
– Айдемир! – окликнул канатоходца Юнус и сделал ему знак подойти.
– Дело есть.
Айдемир подошел и внимательно выслушал все, что ему говорил Юнус. Когда Юнус ушел, Айдемир вернулся к Аркадию и сказал:
– Ты зайди в какой-нибудь дом, отдохни.
– А ты?
– Мне идти надо.
– Я пойду с тобой, – вскочил Аркадий.
– Далеко надо, – сказал Юнус.
– Чем дальше – тем лучше, – кивнул Аркадий.
– Не оставляй меня тут, кунак.
Айдемир сомневался, стоит ли ему брать с собой Аркадия, который был не в себе от пережитого. Но потом Айдемир решил, что он может пригодиться, если они вдруг наткнутся на посты противника. Во всяком случае вреда от него быть не могло. Но прежде Айдемир отвел Аркадия в дом своего знакомого, где старик-хозяин дал им поесть и угостил медом. В благодарность Айдемир оставил хозяину ружье Аркадия, и они двинулись в путь.
Чтобы выбраться из аула и миновать засады, Айдемир избрал мало кому известные тропы. Но чтобы пройти по ним, требовалось мастерство эквилибриста. Для Аркадия, научившегося ходить по канату, это оказалось нетрудно.
На рассвете они уже были на перевале, где их встретил Муртазали Оротинский. Его отряд заметно уменьшился, потому что регулярно нападал на Удачное, хотя взять его у него не хватало сил. Муртазали тоже с нетерпением ждал Ташава, который должен был вот-вот явиться со своими людьми и чеченским ополчением.
– Ну что там, в Аргвани? – спрашивали горцы.
– Как Шамиль?
– Держится, – успокаивал людей Айдемир.
– А то мы тут слышим, какой там ад.
– И ночью будто гроза над аулом и молнии сверкают.
– Ничего, – говорил Айдемир.
– Наши люди стоят, как скалы, а дерутся как львы.
Когда Айдемир объяснил Муртазали кто с ним пришел, тот даже обрадовался:
– Русский!
Затем достал из кармана сложенный лист бумаги и протянул его Аркадию.
– Мы перехватили почту. Взяли кое-что. А это никто прочесть не смог.
Аркадий развернул лист. Это было письмо.
– На каком языке написано? – спросил Муртазали
– На французском, – ответил Аркадий, углубляясь в текст.
– Секретное?
– Как вам сказать… – произнес Аркадий, не отрываясь от текста.
Это было письмо Михаила Нерского его жене Лизе, из Хунзаха в Шуру. Поначалу Нерский употребил самые нежные слова, говоря о своей любви к Лизе и о том, как он жаждет ее увидеть. Но затем писал об охватившем его отчаянии, когда он узнал, что она приехала в Шуру. И, наконец, требовал, чтобы Лиза немедленно покинула воюющий Дагестан, который считал неподходящим местом для романтических свиданий.
– Что там? – нетерпеливо спрашивал Муртазали.
– От царя?
– От простого солдата, – ответил Аркадий.
– Из Хунзаха.
– Ты надо мной смеешься? – нахмурился Муртазали.
– Ваши солдаты даже по-русски писать не умеют.
– Это он теперь солдат, а раньше был князь.
– Князь? – не поверил Айдемир.
– Царя хотел свергнуть. И попал в тюрьму, а потом сюда сослали.
– Наш человек! – улыбался Муртазали.
– А зачем по-французски пишет?
– Чтобы жандармы не поняли, – объяснил Аркадий.
– А о чем пишет? – допытывался Айдемир.
– Чтобы кунаки царя скинули?
– Он о любви пишет. О любви всегда легче по-французски.
– О любви? – удивился Муртазали.
– Он что, в горянку влюбился? Князь, а не знает, что наши по-французски не понимают.
– Это письмо жене, – пояснил Аркадий.
– Она в Шуру приехала, чтобы к нему поближе, а он пишет, чтобы уезжала обратно.
– А ты не врешь? – усомнился Муртазали.
– Хунзах где, а Шура – где? А письмо мы здесь отобрали.
– Не хотите – не верьте, – пожал плечами Аркадий.
Но Муртазали только махнул рукой и отправился проверять посты.
– Зачем вы пишете по-французски? – спросил Айдемир.
– Я слышал, вы с ними воевали и французы даже вашу Москву сожгли.
– Погоди, Айдемир, – ответил Аркадий.
– Придет время, и вы по-русски заговорите.
– Как это? – прищурился Айдемир.
– Зачем?
– Ты же вот говоришь.
– Я – другое дело, мне надо.
– И другим надо будет. После войны.
– Ты хочешь сказать, что царь победит?
– Не знаю, – ответил Аркадий.
– Но думается мне, что царь от Кавказа не отступится. Войск у него много, а война, сколько она ни длись, все равно когда-то закончится.
Айдемир помолчал, размышляя над словами Аркадия, и решил, что он точно – сумасшедший. Но вдруг спросил:
– А зачем царь с нами воюет?
– По правде сказать, никто этого не знает, – ответил Аркадий.
– Как – не знает? Почему?
– Военная тайна.
Айдемир удивленно потер висок.
– У вас что, других врагов нет? Зачем Францию лучше не накажете? Может, и я бы тогда против французов воевать пошел.
– Тебе-то Франция на что?
– Твою же Москву сожгли, – удивился Айдемир.
– А ты – мой кунак!
– Идут! – донесся торжествующий крик дозорного.
Все собрались на гребне, обращенном к Салатавии. Оттуда, левее от дороги, проложенной Граббе, поднимались по тропе всадники. Впереди ехал Ташав-хаджи. Один из его мюридов держал новое знамя наиба.
– Значит, будете снова штурмовать Удачное? – спросил Аркадий.
– Разве ваши офицеры не исполняют приказы? – спросил Айдемир.
– Исполняют, – ответил Аркадий.
– Как долг велит.
– Мы тоже исполняем приказы имама, – сказал Айдемир.
– Или ты думаешь, что мы побоимся?
– Нет, но… – замялся Аркадий.
– Эта женщина, которой было письмо, она там.
– В укреплении?
– Да, – кивнул Аркадий.
– Она ехала с отрядом, чтобы найти своего мужа.
– Ее сюда не звали, – поморщился Айдемир.
– Даже муж, сам говоришь, велел ей убираться.
– Но ее могут убить! – воскликнул Аркадий.
– Нас всех могут убить, – ответил Айдемир.
– И наших жен тоже. Всем было бы лучше, если бы Граббе не лез, куда не просят, а женщины сидели по своим домам.
Горцы радостно махали руками Ташаву и свистели, давая знать, что ждут его на перевале. Но Аркадий становился все мрачней. Он бросился к другому краю перевала, откуда было видно укрепление. Но поднимавшийся из ущелий туман укрывал отроги. И все же Аркадий знал, что Лиза где-то там, в лагере, в фургоне маркитанта Аванеса.
Аркадий очень беспокоился за Лизу и лихорадочно изобретал разные, порой фантастические способы ее спасения. Но все они были отвергнуты Айдемиром как смехотворные или попросту безумные. И тогда Аркадий решился на крайнее средство – выкрасть несчастную Лизу, а заодно и свои пистолеты, по которым очень скучал. Он пойдет в укрепление и скажет, что бежал из горского плена и что его самого выкрали мюриды как проводника Граббе. А теперь он знает все дороги и может указать лучший путь к Ахульго.
Айдемир посовещался с Муртазали, и они согласились, но с условием, что Аркадий передаст не только письмо Лизе от ее мужа, но и серебряный рубль одному из возниц провиантского обоза.
– Рубль? – удивился Аркадий.
– Старый долг, – сказал Муртазали.
– Вдруг погибну, а уходить на тот свет с долгами – грех.
Рубль спрятали в подметке сапога, чтобы не отобрали, когда будут обыскивать. Рубль этот был необычный, в нем содержалась записка, в которой был указан час, когда возница, преданный Шамилю, соберет надежных людей и они откроют ворота укрепления.
На прощанье Айдемир сказал Аркадию:
– Если не сможешь убежать, скажи этой храброй женщине, чтобы хорошенько спряталась, когда мы будем брать укрепление.
Аркадий кивнул и исчез в тумане.
Глава 79
Явившегося в Удачное Аркадия тут же арестовали и препроводили к майору – коменданту укрепления. Тот в легенду Аркадия не поверил и велел его обыскать. Нашли письмо. Комендант прочитал письмо и спросил: – Откуда это у вас? – Горцы перехватили почту. А вестового содержали в одной яме со мной. Я сказал, что знаю госпожу Нерскую, вот он мне письмо и отдал.
– Как же вам удалось бежать? – продолжал допрашивать Аркадия комендант.
– Сам не знаю, – говорил Аркадий.
– Аул, в котором нас держали, сгорел. А про меня горцы, видно, забыли, когда бежали.
– Где же ваш товарищ по несчастью? – спросил майор.
– Его раньше увели. Наверное, к Шамилю.
– Странный вы человек, – размышлял комендант.
– Мне тоже многое представляется странным, господин майор, – развел руками Аркадий.
– А вы что изволите иметь в виду?
– Разное про вас говорят.
– Вы вольны поступать так, как вам заблагорассудится, – сказал Аркадий.
– Но прошу вас, отдайте мне письмо.
– На что оно вам? Вряд ли вы увидите госпожу Нерскую раньше, чем я.
– Держу пари, что увижу ее через несколько минут, если вы не посадите меня под стражу, – заявил Аркадий.
– Через несколько минут? – изумился майор.
– Вы в своем уме?
– Дайте слово, – настаивал Аркадий.
– Нус, допустим, – усмехнулся майор, возвращая Аркадию письмо.
– Но стражу я к вам приставлю, так как вы все еще находитесь под неисполненным приговором. И даю слово офицера, что, если вы попытаетесь меня обмануть, я немедленно приведу приговор в исполнение. Шпицрутены у меня найдутся.
– Не извольте беспокоиться, господин майор, – сказал Аркадий, складывая письмо.
– Я могу идти?
– Ступайте, господин Синицын, – кивнул майор.
– Честь имею, – кивнул Аркадий и ушел, сопровождаемый казаком, которому велено было не спускать с Аркадия глаз.
Аркадий пробирался по заставленному повозками укреплению, отыскивая фургон Аванеса. Он оказался почти посередине вагенбурга, и у маркитанта бойко шла торговля.
– Вам что-то надобно, сударь? – привычно спросила маркитантка, когда перед фургоном появился новый покупатель.
– Лиза! – взволнованно произнес Аркадий.
– Вы меня узнаете?
– Аркадий?! – ахнула Лиза, закрывая лицо руками.
– Вы живы?
Аркадий растерянно смотрел на состарившуюся от страхов и неопределенности Лизу и не сразу вспомнил про письмо. Наконец, он достал помятую бумагу и протянул ее Лизе.
– Что это?
Лиза, одолеваемая неясными предчувствиями, осторожно развернула письмо. Прочтя еще только первые строки, она зарыдала, у нее задрожали руки, и Лиза уже не могла читать дальше.
– Откуда это у вас? – спрашивала она сквозь слезы.
– Я потом все объясню, – сказал Аркадий.
– Вы не плачьте, сударыня. Все хорошо.
– Гм! – напомнил о себе казак.
– Так вы кто будете, матушка?
– Лиза, – отвечала расчувствовавшаяся женщина, забыв про всякую конспирацию.
– Елизавета Нерская, княгиня.
– Однако! – крякнул казак.
– А мы полагали – маркитанша.
– Вы, сударь, верно полагали, – кивала Лиза.
– Так оно и есть по причине военного времени.
Казак сдвинул на лоб папаху и почесал затылок.
– Умоляю вас, никому не говорите, – попросила Лиза казака и протянула ему бутылку французского шампанского.
– Это не про нас, – вернул шампанское казак.
– Вот если бы кизлярки…
Лиза поискала в фургоне и достала четверть водки, которую делали в Кизляре.
– Благодарствуйте, – улыбнулся казак, забирая бутыль.
– Бог в помощь.
– Сердечно вам признательна, мсье, – кивнула Лиза вслед уходящему казаку, а затем снова укрылась платком.
– Что вы наделали?! – выглянул из фургона перепуганный Аванес.
– Теперь меня расстреляют!
Аркадий отвел Лизу в сторону, с трудом ее успокоил и объяснил, что нужно делать, когда начнется штурм. Затем попросил не забыть взять с собой его дуэльные пистолеты, а сам, пока не было часового, двинулся искать возницу, которому должен был передать рубль.
Но вдруг заиграли горны, забегали солдаты с носилками, и со скрипом отворились большие ворота укрепления. В Удачное въезжал санитарный обоз, отправленный ночью из лагеря под Аргвани. Под прикрытием батальона охраны, темноты, а затем и тумана колонна добралась благополучно. Но едва санитарный обоз укрылся в укреплении, как неподалеку затрещали выстрелы, и батальону вместе с гарнизоном пришлось вступить в бой.
Аркадий тут же позабыл о чужих долгах и бросился к фургону маркитанта, в котором продолжала лить слезы Лиза, перечитывая драгоценное письмо.
– Прячьтесь! – закричал Аркадий, закрывая фургон кожаным пологом.
– Горцы идут!
Когда Ташав поднялся на перевал, оказалось, что с ним пришло не так много людей, как рассчитывал Шамиль. Ташав сообщил, что основные силы еще не собраны и прибудут позже.
Затем дозорные сообщили, что к укреплению подходит отряд из Аргвани. Понимая, что на помощь своих сторонников в укреплении рассчитывать уже не приходится, наибы решили немедленно атаковать Удачное. Оно еще не было закончено, но высокие каменные стены с узкими бойницами уже стояли.
Захватить укрепление штурмом горцы не смогли, а на открытый бой гарнизон не выходил. Горцы надеялись взять укрепление измором, а гарнизон уповал на то, что, разделавшись с Аргвани, Граббе выручит их из осады. После нескольких безуспешных атак, рассерженный Ташав поклялся, что не уйдет отсюда, пока не возьмет укрепление, и послал своего мюрида поторопить ополченцев.
Айдемир поспешил в Аргвани, чтобы сообщить о положении дел.
Шамиль чувствовал, к чему клонится дело в Аргвани. И это напомнило ему бой в Гимрах, когда погиб первый имам. Шамиль ясно помнил каждое мгновенье той битвы. Особенно врезалось в память то, как выпрыгнувшего из башни имама пронзили штыки. Таким, устремленным навстречу штыкам, с саблей в руке, с душой, исполненной веры и свободы, и запечатлелся Гази-Магомед в памяти Шамиля.
– Имам! – услышал Шамиль голос Султанбека, бившегося с ним рядом.
– Ташав не смог взять укрепление.
– Не смог? – не поверил Шамиль. И это опять напомнило ему Гимринской бой, когда шедший на помощь Гамзатбек не смог пробиться к имаму.
– У него еще мало людей, – объяснял Юнус.
– А в укрепление пришло подкрепление.
– Надо уходить, – говорил Султанбек, – обрушивая бревна на подбиравшихся к башне солдат.
– Нет, – ответил Шамиль, – Я не отдам генералу Аргвани!
– Что толку, если мы все тут погибнем? – кричал Юнус.
– Пусть приходят на Ахульго, там посмотрим, кто кого!
Атаки вдруг прекратились. Устали и те, и другие. Сакли еще держались, но люди уже выбились из сил. Их хватало лишь на то, чтобы закрепиться на занятых позициях.
Несколько кварталов аула были охвачены пожарами, но их уже никто не тушил. Защитникам Аргвани приходилось все тяжелее.
Глава 80
Граббе беспрерывно сменял атакующие отряды, но ворваться в аул не удавалось. Тогда он приказал не жалеть снарядов и бить изо всех орудий. Жерла пушек накалились так, что, когда Ефимка принимался орудовать банником, он начинал тлеть. Траскин, убедившись, что обратного пути уже нет, открыл все свои запасы и особенно щедр сделался на спирт. Захмелевшие солдаты шли в бой веселее. Но многие отказывались, не желая умирать пьяными.
– Как заставить их идти вперед? – с досадой вопрошал Граббе.
– Прикажите расстрелять трусов, ваше превосходительство, – посоветовал Пулло.
– Вздор! – отмахнулся Граббе.
– Этим их теперь не напугаешь.
– Маневры нужны, ваше превосходительство, – советовал Лабинцев.
– Солдатня оглянуться не успеет, а уже в атаку бежит.
– Маневры могут иметь значение лишь до расстояния пушечного выстрела, – сомневался Граббе.
– Затем начинается действие сил нравственных.
– Одушевление войск – вернейшее средство успеха, – согласился Галафеев.
– А что если пообещать отдать аул на разграбление, – предложил Пулло.
– Аул богатый.
Граббе посулил большую награду тем, кто первым ворвется в Аргвани, и отдавал аул на полное разграбление. Но и это мало помогало. Солдаты все неохотнее шли на завалы.
Стефан Развадовский уже не мог выносить вида этой бойни. Он поднес к губам трубу и заиграл сигнал «Все назад!». Но из-за страшного грохота никто его не услышал. К тому же командиры полков приказали подчиненным заткнуть уши воском, чтобы они не пугались летящих над головами снарядов, а сами пошли впереди колонн, показывая своим примером, что от солдат требуется. Опасаясь попасть в своих, Граббе был вынужден прекратить орудийный огонь.
Волны атакующих накатывались одна за другой, пока, наконец, колонна Лабинцева не пробилась через завалы и ворвалась в передние сакли. Здесь их ждали проваливавшиеся под ногами крыши и кинжалы мюридов, решивших дорого отдать свои жизни. В каждой сакле завязывалось жаркое дело, и продвинуться дальше Лабинцеву не удавалось.
Тем временем колонна полковника Пулло ворвалась в аул с другой стороны. И там тоже начались упорные бои.
Каждую саклю приходилось брать по нескольку раз, потому что горцы уходили по подземным коридорам в другие дома, доставали спрятанное оружие, а затем вновь возвращались и оказывались в тылу нападавших. Битва продолжалась до глубокой ночи. Обе стороны несли большие потери.
Чтобы заставить горцев выйти из домов, Граббе приказал пробивать в крышах отверстия и бросать внутрь зажигательные гранаты. Сакли охватил пожар, все заволокло дымом, и битва сделалась еще ужасней. Никто не знал, откуда появится штык или ударит кинжал.
Кое-кто из защитников аула не выдержал и бросился бежать из Аргвани. Но это их не спасло. В овраге, через который они надеялись скрыться, их встретила горская милиция, которая не пощадила никого.
К концу дня в руках мюридов оставалась еще значительная часть аула. Из башни в несколько ярусов, стоявшей в восточной части Аргвани, мюриды продолжали обстреливать прорвавшиеся отряды и не давали им двигаться дальше.
Тогда Граббе велел втащить через завалы в аул четыре орудия. Их поставили на крышах домов и открыли огонь почти в упор, чтобы пробить в башне брешь. Одно орудие тут же провалилось сквозь фальшивую крышу, но другие открыли сокрушительный огонь.
Уверенный, что Шамиль теперь у него в руках, Граббе приказал теснее обложить Аргвани и отправился спать, чтобы довершить дело утром, на свежую голову. Но посреди ночи его разбудил взволнованный Васильчиков.
– Какого черта? – взревел Граббе сквозь сон.
– Шамиль ушел, ваше превосходительство! – испуганно сообщил адъютант.
– Опять?! – вскочил Граббе.
– Это невозможно!
У палатки стояли удрученные офицеры.
– Как же вы допустили, господа? – негодовал Граббе, набрасывая на плечи мундир.
– Я полагал, имам завещание пишет, а он вас дураками выставил!
– Сам не понимаю, – скрежетал зубами Галафеев.
– Все было тихо, и вдруг – такой удар, что все окружение по швам треснуло.
– Не потерплю! – грозил кулаком Граббе.
– Он у меня вот где был! Столько жертв – и все напрасно?!
– Не совсем так, – оправдывался Галафеев.
– У него тоже немало мюридов полегло.
– Что мне до его мюридов? – кричал Граббе.
– Шамиль мне нужен! Сам!
– Добудем, – обещал Галафеев.
– Если вы его здесь не взяли, как вы его с Ахульго доставать будете? – гневался Граббе.
– И ушел-то, подозреваю, не один Шамиль?
Офицеры молчали, поглядывая друг на друга.
– Сотни две прорвалось, – сообщил Траскин.
– Двести мюридов! – выдохнул Граббе.
– Да по здешним меркам это целая армия. Надеюсь, хоть аул он собой не утащил?
– Аул на месте, – мрачно процедил Галафеев.
– Горит.
– Снести его с лица земли! – приказал Граббе.
– Чтобы и следа не осталось!
– Будет исполнено, – кивнул Галафеев.
– Позор, господа офицеры! – объявил Граббе.
– За такие победы не ордена вам давать, а лишать и тех, что уже получены!
Аргвани был подвергнут разграблению. Но, кроме испорченных ружей и сломанных кинжалов, почти ничего не отыскали. Зато во многих саклях находили книги. Какие-то из них милиционеры забрали с собой, а остальные снесли в саклю на краю аула. Все прочие дома были разрушены.
И все это время хоронили убитых.
На треноге от Конгревой ракеты отрядный священник установил аналой и целыми днями отпевал погибших. Батальоны поротно вставали на колени, молились и поминали павших братьев.
Милиционеры хоронили своих единоверцев по мусульманскому обряду. Затем собрали погибших защитников Аргвани и похоронили на аульском кладбище, прочитав над ними подобающие молитвы.
На нескольких убитых оказались кресты, это были перебежчики, их отнесли к священнику, и тот принял их и молился, как за остальных христиан.
Милютин принес командующему важные трофеи – два знамени горцев.
Немного поостыв, Граббе занялся Журналом военных действий.
«Разорение непокорных деревень считаю я строгою, но необходимое мерою в настоящих обстоятельствах, – писал под его диктовку Милютин.
– Пространство между хребтами Салатау, Бетли и Гимринским издавна уже служит сборным пунктом, убежищем и твердынею всем изуверам, беглецам и удачливым наездникам, которые под начальством умных и отважных предводителей своих волнуют Дагестан и Чечню. Здесь корень всех возмущений горцев, они решительно не хотят свыкнуться с мыслью о покорности российскому императору в надежде на недоступность местности, надежде, которая могла быть поколеблена только движениями в этом пространстве сильного отряда по всем направлениям, проложением хотя бы нескольких удобных сообщений, взятием и разрушением главнейших их селений».
Затем настал черед считать потери. Для начала Граббе зачислил в горцы своих перебежчиков, затем велел Милютину умножить потери Шамиля впятеро, а свои сократить хотя бы втрое.
– Ваше превосходительство, – взмолился Милютин.
– Стоит ли так уж преувеличивать?
– Вздор! – осадил его Граббе.
– Пишите побольше, считать все равно некому.
– Слушаюсь, ваше превосходительство, – сказал Милютин и заскрипел пером.
Граббе все больше убеждался, что Раевский был прав, когда приукрашивал реляции. Это вовсе не преувеличения, а военная хитрость, вызванная суровой необходимостью. Напиши он все как есть, кому бы от этого стало лучше? В такой войне правда о потерях могла принести вред. В штабах-то зрят на цифры, а что за ними стоит, какие пожертвования, какие мучения – этого никому не объяснить, да никто и не станет вдаваться в печальные подробности.
– А насчет его превосходительства генерал-майора Пантелеева теперь же писать или потом? – осведомился Милютин.
– Думаете, выживет? – спросил Граббе, вспомнив раненного генерала.
– Раны тяжелые. А у него, я слышал, сын в прошлом году родился.
– Ну, сын. И у меня сыновья.
– А если, не приведи господь, не встанет генерал? – осторожно спросил Милютин.
– На все воля Божья, – перекрестился Граббе.
– Чтобы обеспечить будущность семейства, сколько возможно… – подводил к главному Милютин.
– Героям-то государь особое благоволение являет.
– Так и быть, – махнул рукой Граббе.
– Пусть будет герой. Хотя стратег из него никудышный. Авось, еще поправится.
Граббе не терпелось двинуться дальше. Оставалось лишь дождаться отряда, отправленного с транспортом раненых. Тем временем саперы прокладывали дорогу. Но спуск становился все труднее, а не зная пути, даже саперы со своими пороховыми зарядами мало что могли сделать. Граббе рассчитывал на проводника, который всего за червонец помог взять Аргвани и обещал показать удобную дорогу к Ахульго. Его искали повсюду, но проводник как сквозь землю провалился. Одни подозревали, что кто-то польстился на его золото, другие предполагали, что его нашла шальная пуля, но дело это так и осталось загадкой. Взятые в плен горцы, большей частью раненные, молчали или говорили, что никогда не бывали в Ахульго и дорог туда не знают. Но Граббе не оставлял надежды заставить их заговорить, а если не удастся, самим отыскать дорогу.
Наконец, вернулся отряд из Удачного. Все обошлось благополучно. Комендант укрепления послал в крепость Внезапную, на равнину, лазутчика с требованием выслать к перевалу отряд для приемки транспорта с ранеными. В тот же день из Внезапной выступили линейный батальон и три сотни шамхальской милиции с двумя орудиями. Навстречу вышел транспорт из Удачного под командой майора Тарасевича. Отбиваясь от мюридов Ташава и Муртазали, оба отряда силой проложили себе путь и встретились на перевале. Транспорт под прикрытием проследовал во Внезапную, а отряд из Удачного вернулся в укрепление. Потери в этой экспедиции были небольшие: трое убитых и семеро раненых, которых тоже отправили с транспортом. Зато из Удачного в Аргвани прибыла большая часть стоявшего там обоза. Охранять укрепление с запасами провианта, пороха и пуль был оставлен небольшой гарнизон.
Но главным приобретением Граббе стал Аркадий, который, как следовало из рапорта коменданта укрепления, знал теперь все дороги. Граббе поначалу хотел его расстрелять как дезертира, потому что не верил в его чудесное похищение горцами. К тому же, когда исчез Аркадий, приговоренный к шпицрутенам, погиб часовой, и за это никто не ответил. Но надежда узнать верную дорогу перевесила. Граббе согласился дать Аркадию последний шанс, а подчиненным велел расстрелять его, если снова обманет.
Аркадия под конвоем вывели из лагеря. С ним для обозрения местности отправили топографа, Васильчикова и Жахпар-агу.
– Нус, – сказал Васильчиков.
– Куда прикажете двигаться?
Аркадий огляделся. Дорог он не знал, но предположил, что двигаться надо вниз, туда, где темнели ущелья. Как он слышал, Ахульго располагалось над рекой. Однако он не желал делиться со своими обидчиками даже этим неясным предположением.
– Туда, – неопределенно показал Аркадий левее того места, где суетились саперы.
– А поточнее? – спросил топограф.
Аркадий молчал, будто зачарованный открывшейся перед ним панорамой.
– Говорите же, сударь, – настаивал Васильчиков.
– Иначе я за вашу жизнь гроша ломанного не дам.
– Возможно, она большего и не стоит, – горько улыбнулся Аркадий.
Он чувствовал, что настала минута прощания с жизнью. Теперь следовало вспомнить все хорошее, простить врагам своим и приготовиться к суду Божьему. Но в голове Аркадия носились совсем другие мысли. Он перестал понимать, кто он, как здесь оказался, что здесь делает и что от него нужно этим людям, так похожим на того бравого полковника, который отбил у него невесту. Какое право они имеют ему приказывать и решать его судьбу? Жаль, при нем не было его дуэльных пистолетов, он бы вызвал их на поединок, одного за другим. А каков пейзаж кругом! Престол вечности и великолепие жизни! Прелестное место для дуэлей.
В ожидании показаний Аркадия топограф Алексеев внимательно изучал местность, стараясь прозреть сквозь горы.
– Мы видим одну речку и несколько ущелий, в которых тоже должны течь реки, – размышлял он.
– Текут они вниз, а значит, они или сами сливаются с Андийским Койсу, на котором стоит Ахульго, или вливаются в его притоки…
– Правильно, – кивал Жахпар-ага.
– Однако рельеф местности может сыграть с нами дурную шутку.
– Может, – соглашался Жахпар-ага.
– Очень может. Тут прямых дорог не бывает.
– Вспоминайте же, пока не поздно! – требовал Васильчиков, грозя Аркадию пистолетом.
Неожиданно раздался свист, и перед ними появился Айдемир, облаченный в драный тулуп.
– Стой! – наставили на него ружья казаки.
– Кто таков?
Айдемир ответил по-аварски, глядя в глаза Жахпар-аге, который слега подмигнул ему, давая понять, что узнал разведчика. А Аркадий едва сдержался, чтобы не выдать свое знакомство с Айдемиром.
– Что он говорит? – спросил Васильчиков.
– Говорит, из Тляраты. Корову свою ищет. Говорит, из-за грохота пушек все их стадо разбежалось.
– Спроси, не может ли он указать нам дорогу к Чиркате и Ахульго, – сказал Васильчиков.
– Мы ему хорошо заплатим.
Жахпар-ага перекинулся с Айдемиром несколькими словами, и тот радостно закивал.
– Спрашивает, сколько дадите? – сказал Жахпар-ага.
– Пять рублей, – посулил Васильчиков.
– Золотом.
Но горец не согласился и красноречиво провел ладонью по шее.
– Говорит, Шамиль голову отрежет, если узнает. Просит десять. Его корова столько стоит, а он думает, что ее съели солдаты.
– Ладно, – кивнул Васильчиков.
– Получит этот Иуда свои сребреники.
Горец снова закивал, давая понять, что доволен сделкой.
– А не обманет? – осторожничал Васильчиков.
Жахпар-ага перемолвился с горцем, и тот ударил ногой о землю.
– Клянется землей, на которой стоит, – объяснил Жахпар-ага, недоуменно поглядывая на Айдемира.
– Это сильная клятва.
– Тогда пусть уже показывает, – торопил топограф.
Айдемир, перепрыгивая с камня на камень, повел всех за собой. Они остановились на краю ущелья, по дну которого неслась быстрая река. Топограф развернул планшет, собираясь нанести на карту дорогу к Ахульго.
– Верно! – заговорил вдруг Аркадий.
– Теперь и я вспоминаю!
Топограф взял наизготовку карандаш.
– Ну что? Куда дальше идти?
– Туда! – выкрикнул чабан и, ухватив Аркадия за ворот, бросился с ним в реку.
– Ах, шельма! – закричал Васильчиков, стреляя им вслед.
Стрельбу открыли и остальные, но было поздно. Река быстро уносила беглецов и через мгновение они уже скрылись за пенистым поворотом.
Глава 81
Шамиль и его сподвижники сделали привал в урочище Саду-майдан, на полпути между Аргвани и Чиркатой. Сюда, как было условлено, собирались те, кто уцелел после битвы. Урочище располагалось на высоком плато, обрамленном обрывами. Отсюда уже были видны Чирката с ее садами и темная лента Андийского Койсу.
Один за другим появлялись наибы с остатками своих отрядов. И каждого из них остальные приветствовали радостными возгласами, хотя глаза мюридов были затуманены горечью поражения.
Ахбердилав, Сурхай, Галбац… Шамиль благодарил всевышнего, что его близкие сподвижники остались живы, хотя отказывались покидать Аргвани до последней возможности. Но многих Шамиль так и не дождался. Одних он видел погибшими еще в ауле, судьба других была ему неизвестна.
Не было и Али-бека Хунзахского, прикрывавшего отход остальных из растерзанного Аргвани.
Люди были подавлены. Казалось бы, все было предусмотрено, все меры приняты, но Аргвани было потеряно. Горцы проявили чудеса мужества, дрались, как тигры, но поражение оставалось поражением. Кто-то считал, что всему виной пушки. Так оно и было, но нельзя было не признать, что солдаты тоже дрались храбро. По крайней мере, смерти они не боялись. И это последнее было для горцев загадкой. Одно дело – драться за свою землю, и совсем другое – идти на верную смерть лишь потому, что так велит Граббе. А ведь они наступали строем, когда даже наугад посланная пуля находила жертву. И ведь не было у солдат ненависти к горцам. Те, что переходили к Шамилю, и сами были добрыми людьми, и о других говорили то же, и война им была не в радость. А когда горцы спрашивали раненного солдата, которого вынесли из Аргвани, он отвечал:
– Так ведь у солдата, акромя войны, и нет ничего. Рота – семья, палатка – дом родной. А коли война – его жизнь, так он ради войны и воюет.
– А все-таки без пушек они бы Аргвани не взяли, – уверял Ахбердилав.
– На Ахульго и пушки не помогут, – сказал Сурхай.
– Там ядру не за что зацепиться. Вот если бы у нас на Ахульго были свои пушки…
Шамиль слышал, о чем толкуют наибы, но думал о другом. Стоила ли свобода жертв, которые приносили горцы? И стоила ли жертв, которые приносили солдаты, их несвобода? В Аргвани поход не закончился. Граббе рвался к Ахульго. Война продолжалась, и прекратить ее было теперь невозможно. Граббе не желал мира, он требовал покорности. Оставалось – снова сражаться, пока генерал не уберется из гор, которые ему никогда не покорить. Но и сражаться нужно было по-другому. Буртунай и Аргвани показали, что нельзя слишком надеяться на ополчение, твердо полагаться можно было лишь на регулярные отряды мюридов, которых пока было немного и с каждой битвой становилось все меньше. И еще нужно было во что бы то ни стало создать свою артиллерию. Но на все это требовалось время, а на Ахульго время могло остановиться.
Теперь наибы обсуждали сражение, спорили, как нужно было поступать, называли отличившихся. Геройства было проявлено много. Особенно яростно дрались аргванинские мюриды. Вспомнили Зирара и Гази-Магомеда, которые бились, пока хватало сил держать оружие, и остались лежать в завалах из убитых ими солдат. Вспомнили и братьев из Мехельты, которые дрались, не отходя друг от друга, и погибли от ядра, начиненного шрапнелью.
Наибы говорили Шамилю, что пора уходить дальше, но имам не мог заставить себя сделать этого. Он все еще надеялся, что придет еще кто-то, кто уцелел после Аргванинского сражения.
И люди приходили. Но это были разрозненные группы мюридов и ополченцев, пробиравшиеся узкими тропами. А когда появился и Али-бек с полусотней мюридов, у Шамиля немного отлегло от сердца.
Всего вокруг имама собралось около двухсот человек. Многие из них были ранены. Удивительно было то, что Шамиль остался невредимым, хотя его черкеска была иссечена пулями и осколками.
Горцы помолились, прося всевышнего о милости к погибшим шахидам, и двинулись дальше. Некоторых наибов Шамиль отправил в их вилайеты за подмогой, а сам с остальными воинами двинулся в Чиркату.
В Чиркате уже все знали. Народ был взволнован тем, что царские войска приближались и никто не мог их остановить. Уже разгромлено столько аулов, и даже Аргвани, считавшийся неприступной крепостью. На что же могла рассчитывать Чирката, лежащая у реки и совсем не готовая к защите? Да и кто мог предположить, что сюда, в недра гор, доползет чудовище войны? Даже генерал Фезе, два года назад разгромивший Ашильту и Старое Ахульго, не смог дотянуться до Чиркаты, хотя Ахульго – вон оно, совсем рядом.
Прибывшего в Чиркату Шамиля приняли с почетом. Он остановился в ауле на день, чтобы дать мюридам отдых и чтобы лекари помогли раненым.
Старики расспрашивали его о битвах, о потерях, о царских войсках и горестно качали головами. В сердцах чиркатинцев разгоралась жажда мщения, и даже те, кто раньше не стремился на войну, теперь вставали в ряды приверженцев Шамиля.
Имам посоветовал чиркатинцам поскорее переселяться на Ахульго, пока не поздно, пока аул их еще невредим. Быть может, так удастся его спасти.
И тогда недруги имама снова начали поднимать голову. Они были из тех, кого Шамиль не так давно наказывал за негостеприимство, поселив в их дома по десятку мюридов.
– Зачем нам оставлять свои уютные дома, чтобы погибнуть в пещерах Ахульго? – вопрошали они.
– Все наши несчастья из-за Шамиля! Чтобы бороться с русским царем и десяти Шамилей не хватит!
– Если уж придется переселяться, мы лучше уйдем в другие аулы, подальше от войны.
– Я знаю, что у вас на уме, – ответил Шамиль.
– Вы хотите купить себе благополучие, став проводниками наших врагов.
– Мы не предатели, – отвечали они.
– Мы уйдем отсюда сегодня же.
– Вы уйдете на Ахульго, – объявил Шамиль.
– Иначе лишитесь не только своих домов, но и голов.
Остальные чиркатинцы гневно осуждали своих односельчан, призывали их не противиться имаму и взойти на Ахульго, чтобы общими силами положить конец успехам Граббе. Люди были уверены, что Ахульго станет для него могилой.
И люди начали переселяться. Многие чиркатинцы сделали это уже давно, и теперь настала очередь остальных. Во главе этой печальной процессии отправился на Ахульго и Шамиль.
Мюриды проверили, чтобы в ауле не осталось ничего, что могло бы пригодиться Граббе, а затем тоже переправились на другую сторону Андийского Койсу и сожгли за собой мост.
Аул опустел. Кади чиркатинской мечети прятал свои книги и не заметил, как остался в ауле один. Наступало время намаза. Кади не нашел муэдзина и поднялся на минарет сам.
Он воспел славу всевышнему и призвал людей на молитву. Но аул молчал. И никто не спешил в мечеть. Кади оглядывал вымершее село, будто ждал, что вместо своих хозяев на молитву придут хотя бы их дома. Тишину нарушал лишь клекот орлов, паривших над окраиной аула, где догорали остатки моста.
Кади спустился в мечеть и сотворил молитву, прося Аллаха о даровании победы воинам Шамиля. Затем накрепко запер двери. Кади решил не покидать Чиркату и остаться в своей мечети, надеясь, что горячие молитвы его помогут спасти аул.
Глава 82
Как верно предположил топограф, река, унесшая Аркадия и Айдемира, стремилась к Андийскому Койсу, не знал он лишь того, что впадала она в Койсу как раз у аула Чирката, и это вдоль нее Шамиль поднимался к Аргвани. Но до того, как слиться с Койсу, река неслась по узкому ущелью, металась из стороны в сторону, ударяясь в отвесные обрывы и низвергаясь водопадами с крутых ступеней. Она будто умоляла горы выпустить ее из теснины, но каменные исполины, играя с рекой, предлагали ей все новые препятствия.
Падая вниз, Айдемир ударился об острый камень, но, пока мог, держал неумело барахтавшегося в воде Аркадия за одежду. Наконец, сильный водоворот разделил их. Аркадий то показывался над водой, то снова пропадал в бурном течении, и его крики заглушал грохот реки. Аркадий ободрал руки, пытаясь ухватиться за острые, скользкие камни, но река продолжала его нести, накрывая пенистыми гребнями. Когда течение немного замедлилось в пологой ложбине, ему удалось ухватиться за край торчавшего из воды большого валуна. Карабкаясь из последних сил, Аркадий влез на сухую теплую верхушку глыбы. Переведя дух, он оглянулся, ища своего друга. Сперва он увидел его папаху, сорванную буйной рекой, а затем и самого Айдемира, который показался из-под воды и тут же попытался поймать свою папаху. Ее удалось вытащить Аркадию. Затем он схватил за руку и самого Айдемира. Они едва поместились на верхушке валуна. Оба были изрядно потрепаны рекой, а у.
Айдемира к тому же была серьезно поранена нога.
– Тебе к доктору надо, – сказал Аркадий.
– Слава Аллаху, что живы остались, – ответил Айдемир.
– А нога пройдет. Жаль только, если по канату не смогу ходить.
– Сможешь! – обнадеживал друга Аркадий.
– А не сможешь, я сам буду, у меня уже получается.
– И я стану у тебя шутом? – улыбался Айдемир.
– А что? Артист из тебя – лучше некуда. Вон как чабаном прикинулся! Всех провел!
– Это было нетрудно, – сказал Айдемир.
Аркадий вдруг вспомнил что-то, задумался, глядя на Айдемира, а потом сказал:
– А все-таки ты поклялся.
– Поклялся, – кивнул Айдемир.
– И обманул, – продолжал Аркадий.
– Я не обманывал, – покачал головой Айдемир.
– У нас клятвопреступник считается низким человеком.
– У нас тоже, – согласился Айдемир.
– Но ты ведь клялся, что покажешь им путь к Ахульго, – напомнил Аркадий.
– Верно, – согласился Айдемир.
– А разве я не показал? Если поплывешь по реке дальше, она и принесет тебя к Ахульго.
– Да это ад кромешный, а не дорога, – сказал Аркадий.
– Для них такая и нужна, – ответил Айдемир.
– А для нас?
Айдемир поднял рубаху и начал разворачивать тонкую, но крепкую веревку, которая была обмотана у него вокруг пояса. На конце ее он связал аркан и, размахнувшись, набросил его на сук торчавшего у берега дерева.
– Давай, иди, – сказал Айдемир Аркадию.
Держась на веревку, они по очереди перешли бурную реку и оказались на левом берегу. Затем Айдемир отыскал тропинку, и они начали подниматься наверх.
Взобравшись на край ущелья, Айдемир огляделся. Совсем недалеко река делала поворот и скрывалась среди садов.
– Ахульго? – спросил Аркадий.
– Чирката, – ответил Айдемир.
Они тронулись в путь. Из-за раненой ноги Айдемиру становилось все труднее идти, и Аркадий подставил ему свое плечо.
Иногда они замечали вдалеке всадников, иногда слышали выстрелы. Затем увидели на другой стороне реки целый караван. Это были люди, уходившие с пути Граббе в дальние аулы. Они шли со своей скотиной и повозками, увозя стариков, детей и небогатый скарб.
– Люди! – крикнул им Айдемир.
– Вы откуда?
Но люди не отвечали, с подозрением глядя на Айдемира и особенно на Аркадия. А может, они просто ничего не расслышали.
– Ответьте, ради Аллаха! – крикнул Айдемир.
– Вы из Чиркаты?
– Там уже никого нет! – ответил кто-то с другого берега.
– А мост?
– Моста тоже нет!
Айдемиру все стало ясно. Аул оставлен, мост уничтожен. Перебраться через Койсу вплавь было невозможно, особенно с его ногой. Была еще одна переправа, почти у самого Ахульго, и ее Шамиль должен был беречь.
– Отдохнем и пойдем дальше, – сказал Айдемир.
– Ты дорогу-то знаешь? – спросил Аркадий.
– По горам, вдоль реки, – сказал Айдемир.
– Там есть, где перебраться.
Добравшись до садов, они сделали привал. Пока сушилась одежда, они нарвали черешни и сдобрили ею размокшее в воде толокно, которое Айдемир держал про запас в особом кармане. Затем прилегли отдохнуть, но усталость и пробивавшийся сквозь листву жар солнца сморили их, и они проспали до вечера.
Когда солнце скрылось за горами, они двинулись дальше. К утру Айдемир рассчитывал добраться до переправы, но из-за раненой ноги они шли слишком медленно. Бесконечные подъемы и спуски их сильно утомили. Когда им начало казаться, что они сбились с пути, из темноты вдруг что-то послышалось. Они остановились..
– Будто младенец плачет, – тихо сказал Аркадий.
– Может, и не младенец, – сказал Айдемир.
– Старики рассказывали, что так шайтаны путников заманивают.
– Черти? – испуганно огляделся Аркадий.
– Чур меня!
Детский плач доносился все явственнее. Затем послышались овечье блеяние и лай собак.
– Кутан! – определил Айдемир.
– Хутор по-вашему.
– Хутор? – обрадовался Аркадий.
– Хорошо бы. Есть очень хочется.
Они пошли в сторону кутана. Но вскоре из темноты появился огромный волкодав и начал на них яростно лаять.
– Хозяин! – закричал Айдемир.
– Стойте на месте! – послышалось из темноты.
– Кто такие?
– Убери этого зверя! – крикнул Айдемир.
– Тогда и поговорим!
Раздался свист, собака перестала лаять, но не ушла, а только угрожающе рычала, показывая свои страшные клыки.
– Чего надо? – спросил невидимый человек.
– Мы голодны и устали, – сказал Айдемир.
– Мы к Шамилю идем.
– Зачем?
– Дело есть.
– Какое дело? – спросили из темноты.
– Говори или стрелять буду.
– Зачем стрелять, брат? – сказал в ответ Айдемир.
– Я и так ранен. Помоги нам, ради Аллаха.
– А кто это с тобой?
– Кунак. Русский.
Из темноты прозвучал выстрел. Пуля просвистела высоко над головами. И снова послышался детский плач.
– Да не пугай нас зря! – уговаривал Айдемир.
– А солдаты услышат – пропадет твоя отара.
– Какие солдаты? – удивленно спросили из темноты.
– Ты что, ничего не знаешь? Русский генерал взял Аргвани.
– А-а-а… – послышалось из темноты.
– Был какой-то гром.
– Это пушки стреляли, – терпеливо объяснял Айдемир.
– Не сегодня-завтра они будут в Чиркате.
– В Чиркате?! – не поверили из темноты.
– Не может быть!
– Я так и буду разговаривать с невидимкой? – спросил Айдемир.
– Ты хоть покажись.
– Зачем? А если вы – шпионы? Сам же говоришь, русский с тобой.
– Да это наш русский! – объяснял Айдемир.
– Если бы не он, я бы давно в Койсу плавал вниз головой.
Из темноты появился человек, державший ружье наперевес. Это был Хабиб, сын чабана Курбана, мечтавший стать мюридом.
Парихан разродилась раньше срока, будто сын Хабиба торопился сделать отца героем. Когда неожиданно начались схватки, Хабиб бросился в ближайший аул за повивальной бабкой, но аул оказался пуст. Тогда, беспокоясь на жену, он примчался обратно и нашел благополучно разродившуюся жену со спящим сыном на руках. С тех пор он не находил себе места, хотел уйти на Ахульго, но жена просила не бросать ее одну. К тому же оставленная на попечение Хабиба отара требовала постоянного присмотра. Он ждал, пока кто-то явится из Ахульго, но о нем будто забыли. А теперь явились эти подозрительные люди, которых он опасался подпускать к кутану и отаре. Правда, с ним был его верный пес, готовый растерзать непрошеных гостей.
– Вот теперь и я тебя вижу, – сказал Айдемир.
– Будь я шпионом, давно бы убил тебя.
– Чем докажешь? – грозил ружьем Айдемир.
– Слушай, брат, – обратился Айдемир к Аркадию, который настороженно следил за разговором, легко улавливая его суть.
– Та монета еще у тебя?
– Монета? – не понял Аркадий.
– Серебряный рубль, который ты должен был передать нашему человеку в крепости.
– А, долг! – вспомнил Аркадий.
– Может, это сделает его гостеприимней, – кивнул на Хабиба Айдемир.
– О чем вы там шепчетесь? – спросил Хабиб.
Тьма начала рассеиваться, и теперь они хорошо видели друг друга. Стал виден и кутан. Он состоял из невысокой сакли, двух сараев и большого загона, часть которого была крытой. В загоне толпились овцы, которые блеяли от нетерпения, ожидая, пока их выпустят на луга с молодой сочной травой.
Хабиб убедился, что говоривший с ним человек действительно ранен. А тем временем Аркадий снял сапог и достал из тайника серебряный рубль.
– Держи! – Айдемир кинул рубль Хабибу.
– Мне ваших денег не надо, – ответил Хабиб, не прикасаясь к упавшему рядом рублю.
– Это не просто деньги, – сказал Айдемир.
– Это доказательство. Посмотри на монету внимательней.
Хабиб поддел монету носком сапога, подбросил и поймал ее рукой.
– Я что, рублей не видел? Только легкий какой-то. Фальшивый, что ли?
– Открой его, – сказал Айдемир.
– Постучи краем.
Не выпуская из рук ружья, Айдемир постучал монетой о дуло ружья и с удивлением увидел, как монета раскрылась. В ней Хабиб обнаружил записку.
– Лучше не читай, брат, – посоветовал Айдемир.
– Дело секретное. Шамиль тебя за это не похвалит.
Аркадий изумленно смотрел на превращение монеты в атрибут тайного ремесла, но говорить ничего не стал. Он уже привык к разным кавказским неожиданностям.
Айдемир видел, что горец еще сомневается.
– Будь мы шпионами, стал бы я говорить тебе, что мой кунак русский? – спросил Айдемир.
– У него свои счеты к генералу. Они почти кровники!
Вдруг из сакли появилась женщина с младенцем на руках. Увидев гостей, она испуганно остановилась. Спорить с мужем в присутствии жены считалось делом неприличным, и Айдемир сказал:
– Хорошо, мы уходим.
Айдемир уже повернулся спиной к Хабибу, когда тот сказал, опустив винтовку:
– Идите за мной.
Сопровождаемые бдительным волкодавом, Айдемир и Аркадий пошли за Хабибом. Он привел их в сарай, где лежало еще прошлогоднее сено и хозяйственный инвентарь.
– Отдохните пока, – сказал Хабиб.
Они расположились на сене и только теперь почувствовали, как сильно устали. Скоро вернулся Хабиб с хлебом, сыром и кувшином овечьего молока. Пока гости ели, Хабиб осмотрел рану Айдемира.
– Она у тебя не сломана?
– Не знаю, – сказал Айдемир.
– Но с ней что-то случилось. То ли когда в пропасть прыгали, то ли когда нас несла река, и нога попала между двух камней.
Хабиб ушел и через четверть часа вернулся со свежеснятой шкуркой ягненка. Затем омыл ногу Айдемира, посыпал чем-то раны и обернул шкуркой, проложив ее тонкими жердями и обвязав сверху веревкой.
– Поправишься, – пообещал Хабиб.
– Но тебе надо отдохнуть.
– Некогда, – сказал Айдемир.
– Генерал рвется к Ахульго. Нужно предупредить Шамиля.
– Значит, генерал может явиться каждый день? – спросил Хабиб.
– Каждый час, – сказал Айдемир.
– Думаешь, Шамиль сам не знает?
– Может, и знает, – сказал Айдемир.
– Но мое дело сообщать, что видел и слышал, и делать это побыстрее.
– Значит, пора, – вздохнул Хабиб, вынимая кинжал.
– О чем ты? – спросил Айдемир, кладя руку на ручку своего кинжала.
– Эти овцы – с Ахульго, – объяснил Хабиб.
– Если генерал пришел сюда, значит, на Ахульго потребуется много сушеного мяса. Тут есть хорошая пещера, в которой всегда дует ветер. Мясо там быстро сохнет. Надо резать, пока не поздно.
– Всю отару? – не верил Хабиб.
– Не оставлять же ее солдатам. Овец двадцать-тридцать еще можно погнать на Ахульго, чтобы зарезать там. Травы на Ахульго все равно мало. Но я не могу теперь идти, а у тебя – нога.
– Я пойду, – вызвался Аркадий, с трудом выговаривая аварские слова.
Горцы недоуменно переглянулись.
– А сможешь? – сомневался Айдемир.
– Дорогу покажите, я и пойду, как пастух, – убеждал Аркадий.
– Резать овец я все равно не умею.
– Я пошлю с ним собаку, – сказал Хабиб.
– Она приведет. Но сначала пусть хорошенько поест.
Пока Парихан готовила хинкал с мясом ягненка, Хабиб учил Аркадия пользоваться ярлыгой, подавать отаре команды и понимать собаку, которая отлично знала свое дело. Обучение было недолгим. Затем горцы поточили о камень кинжалы и с молитвой начали резать овец.
Аркадий старался не смотреть на это кровавое заклание, но оно вновь и вновь притягивало его взор. Самым страшным ему показалось не то, как кинжал рассекает горло, а спокойные и грустные глаза умирающих овец, будто понимавших, что они отдают себя в жертву.
– Как жертвоприношение Авраама, – подумал Аркадий.
– Только спасет ли это людей на Ахульго?
Через час вся поляна была усеяна бездыханными овцами. Резал теперь только Айдемир, весь забрызганный кровью, а Хабиб быстро и умело снимал шкуры, разделывал туши и посыпал их солью. Чтобы не привлекать орлов, которые могли навести на хутор милиционеров, знавших, что к чему в горах, бараньи головы собрали в корзины, отнесли подальше от хутора и зарыли в ямы. Оставили лишь несколько штук: опаленная на огне, а затем сваренная баранья голова считалась в горах деликатесом.
После обеда Айдемир взял у Хабиба монету, достал записку, вынул из потайного места короткий карандаш в металлической оправе и приписал на обороте записки несколько слов. Монету закрыли, и Аркадий спрятал ее туда, откуда ее достал. Затем Аркадия одели чабаном, дали кинжал, и Хабиб показал ему дорогу. По тропинке впереди небольшой отары уже трусил волкодав, часто оглядываясь на неопытного чабана.
– Можешь прикинуться немым, – посоветовал Айдемир.
– До свидания, – сказал Аркадий, пожимая на прощанье руки горцам.
– Даст Бог, еще свидимся.
– Иншаалла, – улыбнулся Айдемир.
Они смотрели вслед Аркадию, пока он не скрылся в сосновой роще, а затем вновь принялись за свой печальный труд. Когда Парихан сказала, что соль уже кончается, Айдемир и Хабиб вздохнули с облегчением. С полсотни овец остались целы, их решили понемногу отводить на переправу под Ахульго, пока была возможность.
Глава 83
Граббе хотел преследовать Шамиля, но это оказалось невозможным. Дорога, по которой ушли мюриды, исчезала в пропасти. Скоро нашли другую, которая, по всей видимости, вела в Чиркату, но она была испорчена так, что приходилось заново разрабатывать ее на каждом шагу. Саперы трудились день и ночь. Казалось, что битва все еще продолжается, но это уже была борьба со скалами. Каменные гряды стояли гигантскими барьерами, как будто природа умышленно воздвигала эти титанические завалы. Головокружительные подъемы сменялись почти отвесными спусками. Даже после работы саперов провозить орудия было затруднительно. Приходилось их разбирать и спускать в теснины на веревках, на руках, а затем вновь поднимать на заоблачные кручи.
Войска выбивались из сил. Казалось, еще один спуск, еще один подъем, и все кончится. Но за одной каменной грядой вставала другая, еще более недоступная. Даже привычная ко всему горская милиция порой останавливалась в растерянности, не зная, как преодолеть очередную преграду.
Каждый день приносил новые жертвы: пропасти поглощали людей, коней, целые повозки. А каждая ночь оборачивалась кошмаром из-за непрекращающихся обстрелов и камнепадов. Граббе опять вспомнил Ганнибала, которого римский полководец Фабий старался измотать и обессилить беспрерывными нападениями мелких отрядов, прежде чем дать главное сражение.
Отряд вынужден был часто останавливаться. Людям уже не хватало еды. Лошадям негде было пастись на каменистых уступах. Они едва шли на своих дрожащих от усталости ногах. Они пятились назад, упрямо мотали головами и испуганно ржали, не реагируя на безжалостные удары нагайками и грозя сорваться в темную теснину вместе со своим седоком или тяжелой поклажей.
Черводары упрямо гнали своих быков, те умудрялись протиснуться с арбами через самые узкие проходы, а когда это уже было невозможно, безропотно ступали на край пропасти и срывались вниз. Это походило на самоубийство. И только Жахпар-ага знал, что многие черводары устраивали такие потери сами, побуждая животных к этому безумию незаметными уколами кинжалов.
Граббе выходил из себя, не зная, как ускорить движение отряда. Но, когда ему самому приходилось двигаться по дурной дороге, нависающей над обрывом, он предпочитал не смотреть вниз, доверившись лошади, – так ужасен и притягателен был оскал пропасти, готовой поглотить его в любое мгновение. А когда, миновав очередную пропасть, оглядывался на пройденный путь, по которому еще тянулся хвост отряда, то отказывался понимать, как такое возможно. Сердце генерала замирало от невероятного зрелища и от мысли, что дальше будет еще страшнее. И он готов был сравнять Ахульго с землей, лишь бы не возвращаться через этот каменный ад.
Траскин беспрерывно молился, он почти не открывал глаз и уже был готов к тому, что его вот-вот уронят в бездну, потому что переносить его в самодельном паланкине было труднее, чем перетаскивать пушку. Траскин уже несколько раз порывался обругать капитана Жахпар-агу, который обещал, что за очередной грядой все мучения закончатся, а путь становился все неодолимее, все безнадежнее.
Аванес проклинал все на свете и готов был сам пустить под откос свой фургон, лишь бы снова оказаться в тихой, спокойной Шуре, рядом с милой сердцу, ненаглядной Каринэ и дорогими своими чадами. А Лиза стоически переносила все мучения и только думала, что лучше бы ее Михаил оставался в сибирской ссылке. Пусть бы он не дождался эполетов, зато не подвергался бы каждый день опасности быть убитым, а она могла бы спокойно жить с мужем, хотя бы и в избе.
Ефимка, как ни храбрился, а по крутизнам пробирался на четвереньках. В ужасную пропасть он старался не смотреть, как учили бывалые солдаты, но ему все равно было страшно.
Только Милютин чувствовал себя отменно: каждый шаг этой невероятной экспедиции пополнял его дневник практическими подробностями, которые должны были обогатить теорию горной войны. Не унывал и топограф Алексеев, успевавший нанести на карту все эти причуды натуры. Глаза его не верили тому, что видели, но руки сноровисто фиксировали то, что открывалось перед изумленным взором топографа.
Наконец, открылось гигантское ущелье, на дне которого пенилась белыми гребнями большая река. Но до самого Андийского Койсу, на берегу которого стояло Ахульго, было еще далеко.
Через неделю этого кошмарного движения внизу показалась Чирката. Картина аула с аккуратными саклями в окружении великолепных садов была очаровательна. Трогательный пейзаж нарушал лишь вид сожженного моста через Койсу. Этот важнейший мост нужен был Граббе, чтобы переправиться на другую сторону, по которой шла дорога к Ашильте и Ахульго. Но моста теперь не было. Отряд расположился на бивак, а к аулу был послан летучий отряд Лабинцева.
«Многолюдный сей аул, построенный на весьма выгодной позиции, богатый своими знаменитыми садами и бывший, можно сказать, средоточием всех беспокойств и главным сборным пунктом мятежных скопищ Шамиля, сдался почти без выстрела нашему летучему передовому отряду, – сообщил затем Граббе для журнала военных действий.
– Знатнейшие чиркатинские семейства были почти насильственно заключены Шамилем в замок Ахульго, где у него собрано до 800 человек; в этом заключаются все силы Шамиля, все же остальное скопище его рассеяно одним решительным нашим ударом при Аргвани».
Записав за Граббе, Милютин обратился и к своему дневнику, решив обобщить сведения о горском зодчестве, которых у него накопилось немало.
«Во всех подобных кавказских аулах, все равно, какому бы племени они принадлежали, резко выдаются две особенности их постройки, – писал Милютин.
– Во-первых, аул обращен к солнечной стороне и закрывается с севера горой, во-вторых, строится так, чтобы представлял возможно сильную оборону против неприятельского нападения. В виду этих двух главных, вполне соответствующих местным условиям и характеру населения обстоятельств на остальное уже обращалось гораздо меньше внимания, между тем как, по нашим понятиям, это остальное и составляет главнейшие условия для населения. Горский аул не принимал в расчет близость воды, ее количество и качество, количество и качество распашной земли, удобство сообщения с ближайшими населенными пунктами и т. п.; все это для горцев были второстепенные вещи, лишь бы в зимнее время, при отсутствии топлива, пользоваться лучами солнца, обратившись тылом к суровому северному ветру, да иметь возможность каждому жителю порознь и всему аулу вместе отражать нападения, вызываемые или кровомщением, или враждой за спорную землю, или стремлением сильного соседа поработить слабейшего».
Взять Чиркату оказалось не труднее, чем выпить воды из аульского родника. Аул оказался совершенно пустым. Дома были в целости. Разрушенным оказались только мельницы, на которых, как определили милиционеры, изготовлялся порох.
Наконец, и весь отряд спустился к Чиркате, заняв аул и его окрестности. Чтобы как-то взбодрить войска после тяжелого перехода, Граббе отдал аул на разграбление. Видимо, жители рассчитывали скоро в него вернуться, потому что были найдены съестные припасы, оружие и прочее, обращенное солдатами в разряд военных трофеев.
Не успело начальство расположиться на отдых и перекусить, как посреди аула заиграла музыка. Музыканты веселыми куплетами и залихватскими плясками открывали ярмарку, образовавшуюся на площади. Но вскоре играть перестали, потому что и музыкантам хотелось принять участие в этом круговороте трофеев.
Кто волок найденную шубу, кто – старые бурки и облезлые папахи. Затем притащили пустой сундук, обитый железными узорами. Следом явились кольчуга, старинная секира, деревянные вилы, большой глиняный кувшин, ягненок, куриные яйца. Продавался даже ревущий осел, которого с трудом пригнали на площаль. Кто-то принес офицерскую фуражку и аксельбанты, видимо, доставшиеся горцам во время экспедиции Фезе. Самые ловкие приносили из садов полные шапки черешни и тутовых ягод. Они отдавали их за гроши, чтобы поскорей вернуться за новым товаром.
Аванес, окунувшись в свою стихию, сразу же позабыл все перенесенные тяготы. Он торговался и продавал, торговался и покупал и всему знал цену. Закутанная в платок Лиза трудилась, как заправская маркитантка, пока не услышала, как кто-то говорил, что до Ахульго теперь рукой подать. Да вон оно, даже отсюда верхушка видна. Лиза тут же позабыла про торговлю и, закрываясь ладонью от яркого солнца, вглядывалась туда, куда показывали милиционеры. Но если их опытный глаз мог отличить одну гору от другой, то для Лизы все они сливались в сплошную стену. И все же предчувствие, что она совсем скоро встретит своего мужа, так взволновало Лизу, что даже Аванес махнул на нее рукой и принялся за дело сам.
Милиционеры тоже были взволнованы. Но не из-за близости Ахульго, а из-за бурлившего вокруг мародерства. Может быть, и они бы не побрезговали боевыми трофеями, если бы дрались с горцами сами, но в компании с войсками Граббе они чувствовали себя не совсем уютно. Они хоть и воевали против Шамиля, но у многих из них были в Чиркате кунаки или кунаки их отцов. И вообще царские войска оставались для них чужими, пришельцами, не понимающими тонкостей горской жизни, где даже кровные враги могли уважать друг друга и придерживались определенных правил, не говоря уже о том, что были единоверцами.
Милиционеры во главе с Жахпар-агой хмуро наблюдали за происходящим, но не вмешивались. Как ни крути, а победитель может себе кое-что позволить. И что такое дырявая бурка по сравнению с жизнью, которой ежеминутно рисковал солдат? Однако дело вскоре приобрело опасный поворот.
Из всех зданий аула солдаты не забрались только в мечеть. Ее крепкие двери были наглухо закрыты. Кто-то пустил слух, что там-то и собраны все богатства чиркатинцев, и тут же нашлись желающие ими завладеть. Это были новички на Кавказе, присланные для пополнения полков. Они приволокли толстое бревно и начали бить им в дверь, как тараном.
Жахпар-ага тут не выдержал и решил воспротивиться столь вызывающему кощунству. Милиционеры бросились на солдат и отняли у них бревно. В ответ солдаты кинулись на горцев с кулаками. Завязалась потасовка, в которую влезли и казаки, занявшие сторону милиционеров.
Остановить драку удалось лишь оказавшемуся поблизости Галафееву.
– Отставить! – взревел генерал, стреляя в воздух.
– Что еще за вакханалия?
– Говорят, сокровища тама, ваше превосходительство, – сообщил фельдфебель, взяв под козырек, и кивнул на милиционеров.
– А эти не дают.
– Это мечеть, ваше превосходительство, – доложил Жахпар-ага.
– Храм Божий. Грех его грабить.
– А что за сокровища? – спросил Галафеев фельдфебеля.
Тот пожал плечами, продолжая держать руку у козырька. Но вместо него ответил Жахпар-ага:
– Книги, лампады, пара старых ковров… Что там еще может быть?
– А казаки-то, – показывал на казаков фельдфебель, – супротив своих пошли!
– Мы, ваше превосходительство, чтобы порядок соблюдался, – доложил казачий вахмистр.
– Мечети грабить не велено.
– А что, если там мюриды засели? – пугал фельдфебель.
– Выйдут ночью и перережут всех.
– Двери надо открыть! – велел Галафеев.
– Вот вы, капитан, этим и займитесь.
Жахпар-ага подошел к двери и постучал в нее кулаком.
– Салам алейкум! – крикнул он.
– Откройте, пока дверь не выломали!
Кади, наблюдавший эту сцену через узкое окно, решил открыть. Дверь заскрипела, и из мечети вышел встревоженный старик.
– Говорят, в мечети спрятаны сокровища? – спросил его Жахпар-ага.
– Верно, – кивнул кади.
Жахпар-ага скинул сапоги, заглянул в мечеть и скоро вернулся.
– Там же ничего нет, – сказал Жахпар-ага.
– Там есть то, что дороже всех богатств, – настаивал кади.
– Но грабители этого не найдут, даже если разрушат мечеть до основания.
– Что он сказал? – спросил Галафеев.
– Говорит, что для добрых людей в мечети есть райские блаженства, а для дурных – адские муки.
Галафеев кашлянул, тронул нагайкой своего коня и уехал вместе со своими адъютантами. Растерянные солдаты осторожно заглядывали в открытую дверь мечети, но войти не решались.
– Тюфяки одни, – говорили солдаты.
– И книги…
– Это же не церковь, – объясняли казаки.
– Тут злата-серебра не бывает.
Тем временем милиционеры спешились, отодвинули от входа солдат и, оставив обувь у порога, пошли в мечеть молиться.
– Так вы, значит, за этих, за басурман? – подозрительно спрашивал казаков фельдфебель.
– У нас своя вера имеется, – отвечал вахмистр.
– И сказано в писании: «Не укради».
– Так в заповедях и «Не убий» сказано, – напомнил фельдфебель.
– Чего же ты воюешь?
– За войну – царю перед Богом ответ держать, – отвечал вахмистр.
– А за воровство, да еще из храма, где и нашего спасителя почитают, каждый сам ответствовать будет.
– Мудрено, – чесал затылок фельдфебель.
– Повоюй еще на Кавказе, и ты мудрецом сделаешься, – отвечал вахмистр.
– Только вы-то уйдете, а нам здесь жить.
Была и другая причина, почему казаки, особенно терские, недолюбливали присылаемых из России солдат: эти казаки были староверы, и официальную церковь не особо почитали.
Милютин с Васильчиковым объезжали Чиркату, удивляясь добротным домам и богатым садам, окружавшим аул.
– Не удивительно, что они с нами дерутся, – размышлял Милютин.
– При таком изобилии и вековечной свободе на что им наше владычество?
– Вот и я думаю, поручик, зря мы сюда сунулись, – отвечал Васильчиков.
– Тоже сказать – владычество! – добавил Милютин.
– Наш Кавказ, в который без пушек не сунешься.
– А солдаты? – рассуждал Васильчиков.
– Коли живые вернутся, так помещиков ни в грош не поставят. И другим станут говорить, как горцы сами по себе живут, без всяких помещиков. А это, знаете ли, революцией пахнет.
– Насчет революций я с вами не соглашусь, корнет, – сказал Милютин.
– Но крепостное право, полагаю, не устоит. Слишком уж много тут свидетелей насчет выгод вольной жизни.
Все это понимал и Граббе, а потому торопился разделаться с Шамилем и его вольным Имаматом, пока армия еще не до конца пропиталась его свободолюбивым, мятежным духом. Самодостаточность горцев тоже его удивляла. Помноженная на воинственный дух населения, да еще осененная твердой волей имама, она была опасной силой, с которой следовало покончить раз и навсегда.
Граббе снова окинул взглядом большой и богатый аул, его обширные сады и зеленые террасы пашен. Генерал смотрел на них в последний раз, потому что уже решил уничтожить этот чудесный мираж, смущавший не только солдат, но и генералов.
Граббе чувствовал, что Шамиль где-то совсем рядом. Но Ахульго смотрелось отсюда обыкновенным выступом, отрогом, ничем особым не выделяясь среди других гор. И Граббе горел желанием добраться до Ахульго как можно скорее, чтобы воочию убедиться, что же это за гора такая, про которую было столько толков. Но теперь ему мешала река. Андийское Койсу текло как раз в сторону Ахульго, которое стояло на другой стороне реки и до которого от Чиркаты было всего две-три версты.
Попробовали устроить мост, но сильное течение с глубоким и широким руслом не позволяло навести даже временную переправу. К тому же засевшие на другой стороне ополченцы сильно мешали делу, начиная перестрелку при каждой попытке форсировать реку. Их с большим трудом удалось оттеснить пушками, но пули, хотя и с большего расстояния, продолжали лететь из-за реки.
В воду храбро лезли саперы, держа канат, который надо было перекинуть на другую сторону. Но вместо этого с трудом удалось спасти их самих. Затем в реку входили шеренгами солдаты, пока одного не унесло и не разбило о камни. Всадники бросались в реку на конях, но те пятились и не хотели идти дальше, дрожа всем телом и испуганно фыркая. Наконец, решили пустить вперед верблюда. Тот покорно шагнул в стремнину, дошел почти до середины реки, но вдруг споткнулся и, жалобно крича, поплыл по течению, пока не исчез за поворотом реки. Это весьма опечалило его владельца, но ему посулили возместить убыток, и он покорно замолчал.
Но мост был необходим. Пробовали вбить сваи в каменистое дно, однако и этот опыт не увенчался успехом.
Тогда Граббе отправил вдоль реки, вверх по течению, летучий отряд. По полученным сведениям, где-то там был Сагритлохский мост. Его надлежало найти и перейти на правый берег. Затем большая часть отряда должна была двинуться к Ашильте, а меньшая – вернуться к Чиркате, чтобы отогнать ополченцев и строить мост уже с двух сторон. А до той поры велено было заготавливать необходимые материалы. И первыми жертвами пали ближайшие к реке сакли и сады.
– Деревья рубить! – гнал солдат прапорщик.
– Шевелись!
– Да как же можно? – недоумевали солдаты.
– Фрухты спеют!
– Делай, что велят!
– Не по-божески это, ваше благородие…
– Без тебя знаю, дурак, – злился прапорщик.
– Пшел исполнять!
Музыкантам приказали подбодрить солдат веселой музыкой. Они взяли в руки инструменты и вслед за Развадовским заиграли похоронный марш.
Мост решено было соорудить на горский манер, бревенчатыми настилами, выступавшими друг над другом. Милиционеры знали, как их строить, Милютин сделал чертеж, и первые бревна начали забивать в берег, туда, где остались ямы от основания прежнего моста.
Этот мост был стратегически важен, потому что открывал доступ к Ахульго – цели всей экспедиции. К тому же в отряде кончалось продовольствие и на исходе были военные припасы, а с той стороны, через Шуру, двигались большие обозы со всем необходимым. Рассчитывать на прежние сообщения с Внезапной через перевал и на припасы, оставленные в Удачной, уже не приходилось.
Кроме того, должны были прибыть основные силы горской милиции во главе с шамхалом Тарковским и Ахмед-ханом Мехтулинским. И уже замечены были в вечернем небе сигнальные ракеты, возвещавшие о приближении обоза и отрядов.
Граббе жалел, что сам не пошел через Шуру короткой и относительно безопасной дорогой. Он предпочел путь длинный и тяжкий, стоивший многих жертв, но обещавший устрашить окрестные племена и лишить Шамиля помощи. Однако теперь Граббе сомневался, что достиг этих целей. Его победы уходили вместе с ним, оставляя за собой одни разрушения. И никакой власти. Зато Граббе все более убеждался, что главным проводником его через эту гибельную каменную пустыню был сам Шамиль.
Глава 84
Шамиль поднимался на Ахульго ночью. Имам не чувствовал себя побежденным. Он действовал по заранее обдуманному плану. Потери Граббе были куда значительнее, чем у горцев, и генерал потерял много драгоценного времени. Но потери горцев были ощутимее. Шамилю негде было взять новые отряды мюридов, которые гибли в ожесточенных боях. Семьи многих погибших были на Ахульго, и у Шамиля начинало болеть сердце, когда он думал, как посмотрит в глаза их женам и детям. Да, они пали героями, защищая свободу, но никакая свобода не вернет женам мужей, детям отцов, а родителям сыновей.
Секретарь имама Амирхан, предупрежденный о его прибытии, встретил Шамиля у перекопа на Новом Ахульго. Он уже знал о том, что случилось в Аргвани, Буртунае и других аулах, взятых неприятелем. Были новости и для Шамиля. Как Сурхай и обещал, на Ахульго выросло несколько линий новых укреплений. Сразу за перекопом путь преграждала небольшая, но крепкая башня, связанная с тремя другими, между ними тянулись завалы в два и три яруса и крепкие каменные стены с бойницами. За этой передовой крепостью был другой, еще более глубокий ров, пересекавший всю поверхность мыса Ахульго, а уже за ним располагалось еще несколько завалов, соединенных траншеями и подземными ходами. Почти все сооружения были врыты в землю, а выступавшие над поверхностью части покрыты бревнами и землей.
Напрасно Шамиль надеялся, что Ахульго спит, что горькие вести подождут хотя бы до утра. Как только он миновал оборонительные ряды, со всех сторон, из-под земли, начали появляться огоньки – это шли люди с факелами. Они выстраивались по сторонам тропы, по которой въезжал Шамиль со своими воинами. Старики, женщины, дети – они тревожно всматривались в лица вернувшихся, ожидая увидеть своих близких. Встретив мужа или сына, женщины бросались к их коням и уводили их под уздцы, стараясь скрыть свою радость. Другие с надеждой спрашивали про своих, где они, что с ними? А если узнавали горестные вести, опускали головы, скрывая слезы отчаяния, бросали на землю факелы и медленно уходили в темноту.
Увидев свою семью, Сурхай спешился, обнял сыновей, прижал к себе свою синеглазую дочку, а затем достал из дорожной сумы обычный в такую пору гостинец. Это были короткие веточки с густо привязанными к ним гроздями спелой черешни.
Патимат и Джавгарат тоже вышли встречать Шамиля. Они стояли в свете факела, который держал Джамалуддин. Маленький Саид сидел на руках у матери и, не мигая, смотрел на отца, будто узнав его среди других мужчин. Старшие, заметно повзрослевшие сыновья рвались к отцу, но Патимат их удерживала. Жены имама не могли позволить себе выразить все свои чувства. Но даже в неверном свете факелов было заметно, что их переполняет радость.
Шамиль улыбнулся семье одними глазами, а когда проезжал мимо, сказал:
– Идите домой. Я буду позже.
У имама было много неотложных дел.
В небе горели яркие звезды, в глубине ущелья серебрилась в лунном свете река, и повсюду, далеко в ночи, горели сигнальные костры на вершинах. Горы знали: пришла большая беда.
После молитвы имам и его ближайшие сподвижники остались в мечети на совет.
– У нас есть еще день-два, пока Граббе не исправит мост и не явится к Ахульго, – сказал Шамиль.
– Все, что еще можно, должно быть сделано.
– Они идут со всех сторон, – сообщил последние сведения Амирхан.
– Ахмед-хан Мехтулинский с отрядом милиции двигается через Бетлинскую гору.
– Хаджи-Мурад тоже с ним? – спросил Ахбердилав.
– Он командует конницей, – ответил Амирхан.
– Жаль, – сказал Ахбердилав.
– Я слышал, они с ханом не ладят.
– Думаю, ты договоришься со своим земляком, – заметил Шамиль.
– Али-беку он тоже земляк, – сказал Ахбердилав.
– Зато всем нам – враг. Кровь имама Гамзатбека все еще на нем. С такими земляками разговор один: «Сабля наша – шея ваша».
– А шамхал? Он тоже здесь? – спросил Шамиль.
– Да, – кивнул Амирхан, – и тоже с большим отрядом. Идет со стороны Гимров. И с ним большие обозы.
– Что везут? – спросил Сурхай.
– Как обычно, продовольствие и оружие, порох, ядра… – говорил Амирхан.
– Мы пробовали напасть, но сил слишком мало. Тогда делали завалы, чтобы остановить колонны. Но они все равно идут. Они занимают мосты и строят новые, чтобы быстро получать новые силы и припасы.
– Выходит, они нас окружают? – размышлял Шамиль.
– Пусть окружают, – сказал Али-бек.
– Ахульго им не по зубам.
– У нас должен быть выход к сподвижникам, – настаивал Шамиль.
– Он есть, – сказал Амирхан.
– К новому Ахульго им не подобраться, а мы под защитой Сурхаевой башни можем проходить в горы.
– А если… – Ахбердилав не договорил.
– Моя башня не подведет, – заверил Сурхай.
– Но если, не дай Аллах, с ней что-нибудь случится, то у нас под Ахульго есть мост через Койсу, и подмога сможет пройти.
– Будем надеяться на лучшее, – сказал Шамиль.
– Но иногда случается и худшее. Я хочу знать, на сколько нам хватит имеющихся запасов?
Араканский наиб Хусейн, отвечавший за снабжение, принялся перечислять, сколько на Ахульго припасено зерна, муки, толокна, сушеного мяса, соли, дров, кизяка, а также коров, телят и баранов. Было даже несколько кулей сухарей, отбитых при нападении на обоз. Всего этого должно было хватить на месяц, учитывая, что в каждой семье были и свои запасы, включая сыр, масло, курдюки, орехи и прочую горскую пищу, заготавливаемую впрок.
– А что с водой? – спросил Шамиль.
– Хранилище наполнено доверху, – сказал Амирхан.
– И в Ахульго нет ни одного пустого кувшина. Вода идет сверху, по желобам.
– А если их придется снять?
– На месяц и так хватит, – развел руками Хусейн.
– А не хватит – будем доставать из реки.
– Сколько на Ахульго оружия? – продолжал спрашивать Шамиль.
– Этого у нас тоже достаточно, – заверил Хусейн.
– Порох, свинец, ружья – хватит даже для женщин.
– Женщинам лучше заниматься своими делами, – прервал его Шамиль.
– Конечно, имам, – смутился Хусейн.
– Только, знаешь… Из Чиркаты пришел Муртазали со всей семьей. А он – известный стрелок, и вся семья у него такая же. Жена его так метко стреляет – мюриды завидуют! Наши женщины проходу ей не дают, просят, чтобы научила.
– Этого нам только не хватало, – воскликнул Сурхай.
– Если они почувствуют, что такое оружие, они своих мужей позабудут!
– Так что? – улыбнулся Шамиль.
– Учит она стрелять наших женщин?
– Даже твоя Патимат пару раз стрельнула, – признался Хусейн.
– Патимат? – не поверил Шамиль.
– Моя тоже целый день стреляла, – сказал Хусейн.
– Все плечо себе отбила. Я когда узнал, запретил.
– Полезные знания еще никому не мешали, – заключил Шамиль.
– Кто хочет, пусть учится. Нас им защищать не придется, но пусть знают, как защитить себя, если нас не окажется рядом.
– Ты думаешь, Шамиль, все так плохо? – насторожился Ахбердилав.
– Я думаю, Граббе найдет здесь свой конец, – уверенно сказал Шамиль.
«Если это будет зависеть только от нас», – хотел добавить Шамиль, но не стал сеять сомнения среди сподвижников, ведь побеждает только тот, кто верит в победу. Вместо этого он молча наблюдал, как горячо они спорили, обсуждая как лучше встретить, разбить и прогнать этого шайтана Граббе.
Шамиль смотрел на них и думал, что этим ученым мужам более пристало учить людей творить добро, наделять их своими знаниями, открывать им лучезарные высоты благодатных наук, а не воевать, защищая свою землю и свои семьи. Кинжалами не напишешь книгу, штыками не вспашешь землю. А война не только убивает людей, она калечит душу народа, вынужденного следовать ее губительным потребностям, вместо того чтобы наслаждаться красотой жизни.
Вот Ахбердилав – мюрид свободы, преданный своему народу до самоотречения. А вот Али-бек, похожий на орла, высматривающего змей, и всегда готовый броситься на врага, не заботясь о последствиях. Или Сурхай, мечтающий украсить мир прекрасными зданиями, который даже свою боевую башню построил так, что ею можно любоваться. Омар-хаджи из Согратля, который пешком совершил священное паломничество и вернулся с просветленной душой, проповедуя мир и спокойствие, но вынужденный теперь драться, чтобы спасти свою несчастную родину. А богатырь Султанбек? Может показаться, что он просто создан для войны, но как темнеют его глаза, когда он видит невспаханные поля или вырубленные сады. Он никогда не ударит первым, но горе тому, кто поднимет руку на него или на его друзей. Или Юнус – человек многих талантов, с мечтательными глазами и безбрежной добротой. И за словом в карман не полезет, и саблей владеет, не хуже, чем пером. А Хусейн, знающий, как сохранить и преумножить полезное для человека и как избавиться от того, что его может погубить? С такими людьми можно было бы сделать Имамат великим и процветающим, чтобы люди видели, что на земле можно жить достойно и свободно, уважая себя и других.
Шамиль гордился своими друзьями и своими предшественниками, простыми горцами, сумевшими изменить ход времени, сделать свободу и равноправие жизненной потребностью горцев, такой же, как хлеб и вода, как воздух, не оскверняемый рабством. И в нем росла жажда покончить, наконец, с терзающей народ войной. Но для этого нужно было сначала победить генерала Граббе.
Настала пора распределить обязанности гарнизона крепости. Комендантом нового Ахульго Шамиль назначил Балал Магомеда Игалинского, отдав под его командование две сотни отборных мюридов. Столько же опытных мюридов поступило в распоряжение Омара-хаджи Согратлинского, под управлением которого осталось Старое Ахульго. Командующие должны были не только оборонять свои позиции, но и заботиться о населении Ахульго, которое насчитывало около двух тысяч человек.
– Не лучше ли отправить семьи в другие аулы, пока есть возможность? – предложил Султанбек.
– Воинам надо есть, спать, лечить раны… – сказал Али-бек.
– Да и сил становится больше, если за спиной жены и дети.
– Верно, – улыбнулся Сурхай.
– Когда рядом волчица, и волк делается львом.
Ахбердилав и Сурхай должны были отправиться за воинскими пополнениями, чтобы действовать затем по общему плану. Башню Сурхая отдали в ведение Али-бека и Малачи Ашильтинского, назначив туда гарнизон из сотни мюридов, которые скорее бы умерли, чем оставили свой пост. Большинство воинов были ашильтинцами. Убеждать их не приходилось, они и без того горели желанием отомстить за разрушенный аул, за погибших друзей и близких, за испорченные поля и вырубленные сады. Вызвались многие, но известный ашильтинский храбрец Малачи отобрал самых лучших, среди которых были и люди из его рода. Пока они обсуждали план будущего сражения, настало время предрассветной молитвы. Помолившись и испросив милости всевышнего к его преданным чадам, горцы разошлись по домам. Их ждали семьи, не сомкнувшие глаз всю ночь.
Глава 85
Граббе не спал, решив дождаться отряда, посланного верх по реке, к Сагритлохскому мосту, для занятия противоположного берега. Но отряд все не возвращался. Зато из батальона, посланного вниз, вдоль реки, в сторону Ахульго, прибыл ординарец, сообщивший, что дорога исправлена и батальон стоит напротив крепости. Одолеваемый жгучим любопытством, Граббе отправился к батальону со всей своей свитой.
Через час прибыли на место. Но, кроме силуэтов гор, заслонявших звезды, ничего видно не было. От реки тянуло холодом. И сквозь ее рев, едва слышно, обрывками доносился голос муэдзина, призывавшего на молитву жителей Ахульго.
От волнения Граббе прошиб холодный пот. Он снял фуражку, отер рукавом лоб и перекрестился.
Так они и стояли, не произнося ни слова, пока рассвет не начал очерчивать позолотой верхушки гор. Лежавший в ущелье туман стал медленно подниматься вверх по склонам, будто открывался огромный занавес перед началом грандиозного представления.
И, наконец, перед ошеломленным Граббе предстало воплощение его ночных кошмаров. Гора! Онемевший генерал не верил своим глазам и в то же время будто узнавал это исполинское каменное чудовище, которое он дерзнул потревожить. Гора светилась сотнями огненных глаз и глухо ревела голосом огибавшей ее реки. И так же, как в его ночных видениях, гора вдруг разделилась надвое, когда с нее спала туманная завеса. И еще сильнее, чем в снах, Граббе влекло в ее жуткое чрево, готовое его раздавить.
– Ваше превосходительство! – теребил его Васильчиков, решивший, что генералу сделалось дурно.
– Что? – очнулся Граббе и посмотрел на адъютанта глазами, в которых застыло изумление. А волосы и бакенбарды его, обычно тщательно ухоженные, топорщились дикими кустами.
– Вы чуть было не сорвались в реку, ваше превосходительство, – сказал Милютин, придерживавший Граббе за другую руку.
– Назад! – приказал Граббе, стараясь не смотреть на Ахульго.
– В лагерь!
Когда они вернулись в Чиркату, оказалось, что отряд, посланный для овладения противоположным берегом, встретил незначительное сопротивление у Сагритлохского моста, сумел его перейти и благополучно вернулся. Через реку перекинули канаты, переправили необходимые инструменты, и работы по наведению моста пошли быстро. К переправе, как и было приказано, вышла только часть отряда, остальные силы двинулись к Ашильте, находившейся в близком соседстве с Ахульго со стороны гор.
Граббе это порадовало, но пугающий образ Ахульго, открывшийся ему у реки, все еще стоял у него перед глазами. Генерал вошел в свою палатку, опрокинул большую рюмку водки и рухнул на походную кровать.
Когда Граббе проснулся, над ним нависал Траскин с потухшей сигарой в зубах.
– Ахульго, – произнес Граббе.
– Вот и чудно, Павел Христофорович, – обрадовался Траскин, вынул изо рта сигару и крикнул: – Кофе его превосходительству!
Тут же появился денщик Иван с подносом, на котором дымилась чашка. Граббе отхлебнул обжигающего кофе и сел на кровати.
– Который час, полковник?
– Исторический! – провозгласил Траскин.
– Мост почти готов!
– Который час, я спрашиваю? – сердился Граббе, ища свои часы.
– Полдень, ваше превосходительство, – опередил его Траскин.
– Адъютанта ко мне!
Васильчиков появился с Милютиным и топографом Алексеевым.
– Здравия желаем, ваше превосходительство! – хором сказали вошедшие.
– Зачем же все сразу? – поморщился Граббе, допивая кофе.
– Вы, пока спали, ваше превосходительство, изволили не единожды требовать Ахульго, – деликатно объяснял Васильчиков.
– А у нас как раз готово описание неприятельской позиции.
– Позиции? – не понял Граббе.
– То бишь Ахульго, – сказал Милютин.
Топограф развернул составленную им карту.
– И план, ваше превосходительство, и глазомерная съемка, и словесное описание, – сообщил Алексеев.
– Извольте, – кивнул Граббе, начавший приходить в себя.
– Правду сказать, это не гора, а достойный удивления перл, дикая прихоть природы, – начал Милютин.
– Грозная позиция! Две одиноко стоящие крутые скалы, разобщенные от всего окружающего глубокими обрывами. Всего разглядеть не удалось, но и то, что успели, являет собой достижение фортификационного искусства, которое бы сделало честь и не горскому инженеру.
– Старое и Новое Ахульго, как видно из плана, занимают два огромных утеса, разделенных между собою глубоким и узким ущельем речки Ашильтинки, – продолжил Алексеев, показывая на карте описываемое место.
– Оба вместе они составляют полуостров, огибаемый с трех сторон рекой Андийское Койсу.
– Погодите, – поднял руку Граббе.
– Я и сам все это видел. Лучше пригласите в штаб командиров, пусть они полюбуются, а я потом буду.
План, представленный Алексеевым, и словесное описание Милютина офицеры поначалу сочли преувеличением.
– Откуда такое могло взяться в горах? – недоумевал Пулло.
– Не иначе как турки шпионов прислали, – предположил Лабинцев.
– Или, скорее, англичане, – добавил Попов.
– В прошлый раз ничего такого не было.
– А мне думается, что горцы и сами кое-чему научились, – сказал Галафеев, пожевывая ус.
– Однако же, господа, – сказал Траскин, – желательно знать подробности этих титанических работ.
– Верхние площадки утесов ограждены кругом каменистыми обрывами и примыкают к окружающим горам только двумя узкими перешейками, – продолжал Алексеев.
– А над Новым Ахульго высится, кроме того, отвесная вершина, увенчанная Сурхаевой башней.
– Что еще за башня? – любопытствовал Пулло.
– Вроде небольшой крепости, – объяснял Милютин.
– Командует всеми подходами к Ахульго.
– Дас, – мрачно изрек Галафеев.
– Ничего, ваше превосходительство, – сказал Попов.
– Мы их мортирами достанем, навесным огнем.
– Подозреваю, там много сюрпризов заготовлено, – сказал Галафеев.
– И все скрыто за огромными завалами, – продолжал Милютин.
– Обрывы обоих Ахульго изрыты множеством пещер. А в одном месте утесы до того сближаются, что между ними переброшено над пропастью несколько бревен в виде моста. Сущая беда это Ахульго! Вроде как грецкий орех из двух половинок, если скорлупу снять.
– Орешек-то крепкий, – заметил Галафеев.
– Просто так не раздавишь.
– Вообще вся местность Ахульго чрезвычайно сурова и дика, – добавил Алексеев.
– Горы каменистые, бесплодные, все в трещинах.
– Так что там еще Шамиль придумал? – торопил Галафеев.
– Не довольствуясь естественной неприступностью местоположения, Шамиль укрепил свое убежище еще искусственными средствами, весьма хорошо обдуманными, – добавлял Милютин.
– Узкие гребни, которыми оба Ахульго примыкают к окружающим горам, глубоко перекопаны. За перекопами – каменные постройки с бойницами. В Новом Ахульго за передовою башнею устроено нечто вроде бастионного фронта: две каменные постройки, а между ними крытые траншеи.
– Полагаю, для перекрестного огня, – сказал Попов.
– По собранным сведениям, на обоих Ахульго устроены целые селения, но дома совершенно скрыты за покатостями со стороны возможного штурма, а большею частью вкопаны в землю.
– Ловко, – качал головой Лабинцев.
– Подземная крепость. Слыханное ли дело, господа?
– Устроены также боковые ложементы по краям обоих утесов, не считая множества завалов.
– Сдается мне, наш с Фезе визит не прошел для горцев даром, – сказал Попов.
– Вместо прежних саклей – укрепления, которые весьма трудно будет сбить даже полевой артиллерией.
– К тому же неприятель в своих подземных саклях, траншеях, завалах, пещерах и за утесами будет совершенно скрыт от наших глаз и выстрелов, – добавил Пулло.
– А наши войска, напротив, будут открыты на всех пунктах.
– А если принять в соображение меткость стрельбы неприятеля… – размышлял Галафеев.
– Да к тому же упорство и фанатизм, с которым горцы будут обороняться в своем последнем убежище…
Галафеев не закончил, увидев, что в палатку вошел Граббе. Подчиненные отдали командующему честь. А Траскин закончил вместо Галафеева:
– …Можно только дивиться подвигам, предстоящим войскам нашим, и твердой воле начальника, который решился во что бы то ни стало истребить это гнездо мятежников.
– Вашими бы устами да мед пить, господин полковник, – сказал Граббе. Затем обратился ко всем офицерам: – Ахульго – это всего лишь гора, на которой засел Шамиль. Надобно его достать. Если придется, и само Ахульго с землей сравняем. Иного пути нет. Вернуться ни с чем – значит, отдать Шамилю весь Кавказ.
«Разбить и разогнать», как обещал царю Граббе, не удалось. Оставалось одно – обложить и задушить. И это намерение обретало уже реальные очертания, потому что скоро было получено известие о занятии Ашильты и приближении с двух сторон горских милиций во главе с ханами.
К ночи мост был совершенно готов. И тогда же, по своему обыкновению делать все как можно более скрытно, Граббе приказал отряду выступать на Ахульго. Для охраны моста был оставлен Лабинцев с одним батальоном и двумя орудиями.
Войска, только что расположившиеся на отдых, поднимались в новый поход неохотно. Солдаты роптали, ругая причуды генерала:
– И куда прет на ночь глядя?
– Боится, Ахульго сбежит.
– Тьма, хоть глаз выколи!
– Зато горцы, как кошки, и ночью видят!
Будто в подтверждение их опасений из темноты раздалось несколько выстрелов. Войска отвечали тысячами и, не останавливаясь, шли дальше, привычно повинуясь приказу. Роты натыкались друг на друга, артиллерийские кони лезли вперед, офицеры командовали, пытаясь навести порядок. В результате на мосту началась давка, несколько солдат свалилось в реку, и их унесло быстрым течением.
– Выручайте, братцы! – неслось из темноты.
Им старались помочь, бросали веревки, но одного так и не нашли.
Разведчики, прибывшие из занятой Ашильты, показывали дорогу. Для большого отряда она была слишком узка, и скоро войска обратились в лавину, которая, вопреки законам природы, ползла вверх, заполняя все ложбины и тропы.
Кто-то оказывался впереди, кто-то отставал. Люди двигались, не столько повинуясь приказам, сколько следуя своим инстинктам. О скрытности уже не было и речи. А когда горцы открывали огонь из засад, в ответ снова и снова начиналась густая пальба. Противнику она вреда не приносила, зато случалось, что солдаты попадали в своих и даже открывали долгую перестрелку, приняв за горцев оказавшихся в стороне сослуживцев.
Отряд нес потери, и было приказано не отвечать на огонь. Так и шел огромный отряд, тревожимый невидимыми горцами и не обращавший внимания на стрельбу.
Когда к утру отряд добрался до Ашильты, за ним прибыли две подводы с ранеными и убитыми. Убитых похоронили, а раненых отнесли в лазарет, который уже разворачивали на окраине Ашильты.
Отсюда уже было видно Ахульго. Доктор долго смотрел на высокие горы, а затем впал в панику, требуя у Траскина выписать из Шуры побольше корпии, бинтов, пластырей и компрессов.
– Вы представляете, господин полковник, что тут будет? Вы посмотрите на эти исполины!
– Горы как горы, – отвечал Траскин, поеживаясь на утреннем холоде.
– Это не горы, а травматическая эпидемия! – предрекал доктор.
– Я который уже раз прошу перевязочных средств, а привозят все пушки да ядра!
– Будут вам средства, – обещал Траскин.
– Вот только дорога откроется…
– И пусть пришлют еще инструментов, у меня уже пилы тупые! – требовал доктор.
– И спирту побольше! Одни только ампутации сколько его требуют!
Граббе рассматривал Ахульго в подзорную трубу, оперев ее о седло своего коня. Заодно он прикрывался конем от снайперов, не перестававших обстреливать лагерь неизвестно откуда. Граббе считал оправданными любые меры предосторожности. Он не мог позволить отряду потерять своего командующего, и не столько из личных, сколько из государственных соображений.
Граббе уже оправился от материализации ночных кошмаров, и теперь Ахульго казалось ему не таким грозным. Зато он все более убеждался, сколь неприступна эта твердыня, занятая Шамилем. Граббе слышал отчаянные возгласы главного полкового врача, и это помогло ему точнее определить то, что предстояло совершить отряду.
– Ампутация! – вспомнил Граббе выражение доктора.
Вот верное слово! Граббе намеревался провести над Ахульго хирургическую операцию, пока восстание не охватило всю горную страну. Ампутировать Ахульго и удалить источник всех беспокойств – Шамиля с его зловредным учением о свободе. Свободы не бывает. Это мираж, губящий человечество и чуть не погубивший самого Граббе, не устоявшего перед соблазнами будущих декабристов.
– Ампутация! – повторил Граббе.
– Сначала Ахульго – от прочих гор. А затем и самого Шамиля – от Ахульго.
Глава 86
Шамиль наблюдал за происходящим из Сурхаевой башни. Войска Граббе разбивали свой лагерь рядом с Ашильтой.
– Выжидает, гяур, – говорил стоявший рядом Али-бек.
– Не подходит.
– Еще подойдет, – сказал Шамиль.
– Но мы тоже к нему подойдем.
Одна за другой в лагере поднимались белые палатки.
– Много их, – прикидывал Али-бек.
– Чем больше, тем лучше, – ответил Шамиль.
– Наши стрелки не промахнутся, даже если будут стрелять с закрытыми глазами.
– А через месяц, если кто останется, сами уйдут, – надеялся Али-бек.
– Голодный солдат воевать не станет.
– Ты на это не надейся, – сказал Шамиль.
– Лучше обеспечь своих людей как следует. Если генерал отрежет башню от Ахульго, вам придется трудно.
– Им будет труднее, – ответил Али-бек.
– Они внизу, а мы наверху. Пусть попробуют сюда залезть. У нас даже пушка есть!
Он имел ввиду фальконет, который Магомед сумел уволочь из осажденного укрепления Ахмет-тала.
Теперь палатки отряда Граббе появлялись уже и в ашильтинских садах. И их становилось все больше. Глядя на них, Шамиль вспомнил, как впервые увидел такие палатки.
Это было в далеком детстве. Однажды Шамилю пришлось пойти из Гимров в Эндирей, к отцу, который продавал там вино и неожиданно занемог. Отца он нашел больным, простудившимся на необычайно холодном для ранней осени ветру. Шамиль подозревал, что тут не обошлось без возлияний, до которых его отец был большой охотник. Он умел делать хорошее вино, но умел и пить его, когда находился подходящий повод. Шамиль безропотно исполнял сыновние обязанности, ухаживая за отцом, пока тот полностью не поправился. Тем временем на окраине Эндирея разбил свой лагерь генерал Ермолов. Для дагестанцев это было тогда в новость, да и сам Ермолов появился здесь впервые. И Шамиль пошел посмотреть на русское войско. Палаточный лагерь занимал огромное пространство на том месте, где теперь стояла крепость Внезапная. Офицерские палатки напоминали шатры с откидным пологом, под которым командиры спасались от солнца днем, а на случай холода они были подбиты изнутри сукном. Солдатские палатки походили на поставленные набок открытые книги. Начальство и штаб располагались в огромных шатрах, состоявших из нескольких отделений. Шамиль ходил между палаток, разглядывая устройство лагеря, обмундирование солдат и их оружие.
Караульный, заметив любопытного мальчишку, пригрозил ему штыком и стал прогонять, крича: «Айда, татар, айда!».
Шамиль ушел из лагеря, а затем долго рассказывал отцу, какие диковинные вещи там видел. Теперь же Шамиль думал, что, знай тот солдат, кого он гонит из лагеря, наверное, тогда же и проткнул бы Шамиля своим острым трехгранным штыком.
После того случая Шамиль спрашивал отца: зачем Ермолов пришел в Дагестан? Отец на это отвечал, что, наверное, чтобы покупать вино, которое он делает. А дело Шамиля – учиться и не совать нос не в свои дела. Но Шамиль думал иначе. В гости со штыками не ходят. А продавать вино солдатам, не говоря уже о горцах, – и вовсе грех. Отец от него отмахивался, но Шамиль твердо решил вернуть отца на путь истинный и избавить его от пристрастия к запретному зелью, которое, как говорил пророк, способно рано или поздно причинить большое зло. Убедившись, что проповеди не приносят желаемого результата, Шамиль прибегнул к более действенному средству. Он поклялся на Коране, что убьет себя на глазах отца, если тот не оставит греховной привычки и не перестанет позорить их род. В том, что его единственный сын непременно исполнит данное слово, отец не сомневался. И ему ничего не оставалось, как бросить пить и перестать делать вино. Он был хороший кузнец, и в горне снова загорелся огонь, и зазвенела наковальня. С тех пор виноград употреблялся только в пищу, а остальное доставалось птицам, которые щебетали в их саду целыми днями.
Шамиль смотрел на растущий лагерь Граббе и пытался предугадать его дальнейшие действия. Шамиль понимал, что генерал попробует произвести разведку боем. Так оно и случилось. В лагере запели горны, и вот уже небольшие отряды двинулись к Ахульго, стараясь прощупать возможные подходы к крепости.
– Идут! – показал Али-бек.
– Разведка, – догадался Султанбек.
– Юнус, – позвал Шамиль своего помощника.
– Скажи нашим, чтобы не раскрывали все позиции. Пусть потерпят.
– Да, имам! – ответил Юнус и поспешил вниз, на Ахульго.
Когда посланные в разведку егеря приблизились к Ахульго и Сурхаевой башне на выстрел, в них полетели пули. Егеря укрылись в горных складках, пытаясь высмотреть, откуда стреляют. Стрельба со стороны Ахульго прекратилась, зато начали стрелять из Сурхаевой башни. Егеря меняли укрытия, но пули летели с разных сторон, не давая им поднять головы. Егерям пришлось отступить, унося раненых.
– Бегут! – ликовал Али-бек.
– Может, нам самим на них напасть?
– Не торопись, брат мой, – отвечал Шамиль.
– Они попробуют еще раз. Но это не принесет им пользы.
– Не будем же мы просто так тут сидеть, пока они будут выведывать все подходы? – горячился Али-бек.
– Посмотрим, – размышлял Шамиль.
– Нам тоже нужно узнать, как расположены их войска. И кто на что годится.
– А если полезут все вместе? – спросил Али-бек.
– Граббе любит штурмовать.
– Когда уверен в успехе, – сказал Шамиль.
– А для открытого штурма у него не хватит сил. Он будет подбираться понемногу, рыть окопы и продвигать вперед пушки. А пока ему негде спрятать даже своих солдат. Теперь его оружием станет лопата.
– Мы не дадим им приблизиться, – сказал Али-бек.
– Если каждый будет делать то, что должен, и вовремя, Граббе найдет здесь свой конец, – сказал Шамиль.
Было ясно, что предстоит решительное сражение. Горцам отступать было некуда, а Граббе, судя по всему, уходить не собирался.
Понаблюдав еще немного за действиями Граббе, Шамиль решил вернуться на Ахульго, чтобы немного изменить тактику общих действий. Теперь была важна каждая мелочь, каждый шаг противника. Даже то, как он предпочел расположиться, имело свое значение. А Шамиль не желал оставаться безучастным зрителем на маневрах генерала Граббе, развернувшихся вокруг Ахульго.
Уходя, имам сказал Али-беку:
– Будьте внимательны! Их лопаты могут оказаться посильнее ружей. Они работают даже ночью.
Шамиль и его помощники спустились по крутому узкому перешейку к Ахульго, миновали глубокие перекопы и, приветствуемые сидящими в укрытиях воинами, пошли дальше. Вдруг они заметили толпу взволнованных женщин, которые грозили кому-то половниками и скалками. Когда подошел имам, женщины расступились, смущенно опуская глаза. Их пленником оказался изобретатель Магомед, которого держали двое мюридов. Рядом стоял слепой старик, сказитель, который держал одной рукой край большого мешка, а другой вынимал оттуда разные предметы.
– Кувшин! – определил старик, поднимая над собой изящный медный кувшин.
– Мой! – крикнула пожилая женщина, забирая свое имущество.
– От матери еще остался!
– Таз! – показывал старик очередной предмет, извлеченный из мешка.
– Это мой таз! – радостно закричала другая женщина.
– Чтоб у этого негодяя руки отсохли!
– Чашка! – крикнул старик.
И у чашки тоже нашлась владелица.
– Что тут происходит? – спросил Султанбек.
– Вора поймали! – заголосили женщины, потрясая своими орудиями.
– Последнее хотел украсть!
– Его надо убить!
– Два подноса у меня стащил!
– А у меня самовар! Такой хороший самовар! С царскими медалями!
Самоваров оказалось целых два. Один из них держала в руках Патимат, жена Шамиля, а рядом стоял Джамалуддин, опустив глаза от стыда перед отцом.
Магомед пытался оправдываться, но улики были налицо. Поймал вора слепой певец. На Магомеда с огромным мешком никто не обращал внимания, пока он не поравнялся с сидевшем на солнце стариком. Тот, казалось, дремал, но чуткий слух его вдруг уловил легкое позвякивание. Как ни старался Магомед нести свой мешок тихо, но он был слишком тяжел, чтобы оставаться совсем бесшумным. Старик ухватил Магомеда так неожиданно и крепко, что тот выронил мешок, и из него посыпалась всевозможная медная утварь.
– Ты знаешь, что полагается за воровство? – спросил преступника Шамиль.
– Я не крал, имам! – отвечал перепуганный Магомед.
– Клянусь Аллахом, не крал!
– Тогда откуда у тебя все это?
– Дети сами принесли.
– Он их подговорил! – снова заголосили женщины.
– Обещал дать выстрелить из пушки, если они принесут что-нибудь медное!
– А что дети понимают?
– Вот и потащили самую дорогую посуду!
– Это правда? – спросил Шамиль.
– Да, имам, – опустил голову Магомед.
– Хотел сделать еще одну пушку, как та, что я притащил из Чечни. А для этого нужна медь.
Мюриды едва заметно улыбались, поглядывая то друг на друга, то на Султанбека.
– Все равно его нужно наказать! – сказал старик, бросая на землю опустевший мешок.
– Пушки годятся только для войны, а хорошая посуда нужна всегда.
– А разве теперь не война? – спорил Магомед.
– Кому нужна будет эта посуда, если всех нас перебьют?
– Как это – перебьют? – ужаснулись женщины.
– Мы же на Ахульго!
– Это он со страху сказал, – объяснил Султанбек, кладя тяжелую руку на плечо Магомеда так, что у того чуть не подогнулись ноги.
– Я должен тебя наказать, как вора, – сказал Шамиль.
– Хотя действовал ты, как видно, в интересах общества. Так что на этот раз пусть решают сами женщины, которые считают себя пострадавшими.
Женщины все еще пылали гневом, но решимости наказать вора у них заметно поубавилось. Они лишь перешептывались, не зная, как теперь поступить.
Вдруг раздался тяжелый грохот, как будто обрушилась скала. Это ударили пушки Граббе. По ущелью заметалось эхо, а по Ахульго пробежала легкая дрожь. Со скатов посыпались мелкие камешки. Одно ядро ударило в каменные завалы и, не причинив им вреда, скатилось вниз и упало в реку. Другое упало на землю, вырвав из нее волну острых осколков, а затем, шипя и подпрыгивая, покатилось по уступам горы. Воспользовавшись некоторым замешательством, Магомед вырвался и помчался следом за ядром. Он накрыл его папахой почти у самого обрыва. Ядро было раскаленное, и папаха дымилась, но Магомед вернулся довольный.
– А еще нам нужны ядра, – сказал он.
– Из этого получится целых три для моей пушки!
Женщин поблизости уже не было. Они торопились к своим жилищам, прикрывая медной посудой головы и скликая своих детей.
Шамиль понимал, что это только проба сил, пристрелка, попытка запугать его воинов. Но на остальное население Ахульго это произвело удручающее впечатление. Жить под бомбами никому не хотелось.
В резиденции Шамиля ждал Амир-хан с новыми сообщениями. Разведка доносила, что Граббе уже обустраивает батареи на горных гребнях и других возвышенностях, окружающих Ахульго. Саперы начали рыть окопы и заготавливать лес для их прикрытия. Ханские милиции приближаются, у Ахмед-хана Мехтулинского около двух тысяч человек, у шамхала Тарковского – полторы. Но их пока не будут пускать в дело, отводя горцам роль внешнего кольца, для того, чтобы не допускать к Ахульго помощь. Но полностью окружить Ахульго Граббе не может. У Чиркаты построен новый мост, который охраняют две роты с пушкой. Сагритлохский мост цел и никем не охраняется. С кутана за рекой прислали пятьдесят овец, их пригнал к переправе под Ахульго какой-то немой чабан. Он же передал монету с запиской от Айдемира, а сам вернулся назад.
Шамиль внимательно выслушал Амирхана и прочел письменные донесения. Из письма Айдемира, кроме важных сведений об отряде Граббе, Шамиль узнал, что разведчик повредил ногу и занят пока тем, что заготавливает мясо для сушки, которое привезет на Ахульго в свое время. Шамиль велел писать ответы, указывая каждому наибу его новые задачи. Отправив связных, Шамиль решил послать письмо и генералу Граббе. Подумав немного, он взял перо и начал писать. Закончив, Шамиль подписал письмо и поставил на нем свою печать.
В качестве парламентера к Граббе отправился Юнус.
Глава 87
Первые натиски показали, что взять Ахульго с ходу не представляется возможным. Не удавалось даже сколько-нибудь серьезно приблизиться к твердыне. Подступы были чрезвычайно затруднены как сильно пересеченной местностью, так и стараниями самого Шамиля. Сюрпризом было и то, что самих горцев не было нигде видно. Казалось, будто сами горы стреляют, но слишком уж метко летели пули. Если бы даже удалось проложить дороги под пулями снайперов, то войска поджидали еще глубокие перекопы, за которыми располагалась многоярусная оборона горцев.
Поэтому войска пришлось расставлять на значительном удалении от Ахульго, но так, чтобы сохранялась хотя бы видимость окружения. Главная квартира отряда Граббе расположилась на высотах, откуда были хорошо видны Ашильта, лежавшая ниже и левее, и Сурхаева башня, стоявшая впереди и справа. Были видны и оба Ахульго. От Ашильты дорога вела на Старое Ахульго, а тропинка на Новое Ахульго пролегала слева от Сурхаевой башни. Там же, у башни, сливались речки Ашильтинка и Бетль, разделяя затем оба Ахульго и вливаясь в Андийское Койсу.
Рядом с главной квартирой расположились батальоны Куринского полка, транспорты и артиллерийский парк. Тут же, справа, за оврагом речки Бетль, были собраны в один большой табун кони всего отряда под прикрытием казаков. Передовые батальоны Куринского полка были выдвинуты к Ахульго по центру.
На левом фланге, направленном против Старого Ахульго, и на правом – против Нового, расположились, чередуясь, батальоны Апшеронского и Кабардинского полков.
Таким образом, Граббе пытался блокировать Ахульго, отрезав его от гор с юга. Он полагал, что с остальных сторон Ахульго надежно отсечено глубокими ущельями Андийского Койсу.
Сверху казалось, что оба Ахульго где-то там, внизу. Но чтобы штурмовать их, нужно было спуститься еще ниже, в ущелья, а уже затем взбираться на эти грозные утесы. В таком положении помышлять о быстром штурме не приходилось. Войска занялись разработкой подступов к Ахульго и прокладыванием крытых путей между занятыми позициями.
За каждый шаг вперед приходилось платить дорогой ценой. Закрепившись на новой позиции, войска окапывались, а затем подтягивали поближе артиллерию. Батареям, поставленным на свободных от неприятеля возвышенностях, было велено тревожить Ахульго, не переставая.
Граббе в окружении отрядных командиров колдовал над новым планом Ахульго, представленным топографом Алексеевым, когда Васильчиков сообщил, что от Шамиля выслан парламентер.
Граббе выпрямился, и на лице его появилась торжествующая улыбка.
– То-то! – сказал Граббе.
– Полагаете, Шамиль сдается? – спросил Галафеев.
– Понял, видно, что деваться ему некуда, – предположил Граббе, а затем спросил Васильчикова.
– Где он?
– Внизу, ваше превосходительство, у Сурхаевой башни.
– Сюда никого не пускать, – сказал Граббе, а затем обернулся к Пулло.
– Не сочтите за труд, господин полковник.
– Слушаюсь, – козырнул Пулло и вышел из палатки.
С Пулло отправился и Милютин, которому очень хотелось увидеть настоящего мюрида. Взяли они с собой и переводчика Биякая. Пулло и сам сносно говорил по-аварски, однако важность встречи требовала точности.
Мысль о том, что угроза блокады вынудила Шамиля сложить оружие, была столь же заманчива, сколь и невероятна. И командиры принялись горячо обсуждать, возможен ли такой счастливый исход дела.
– А что, господа? – воскликнул Траскин, мечтавший поскорее покинуть эти опасные места.
– Чего на войне не бывает!
– Другой при виде нашей армады давно бы сложил оружие, – сказал Галафеев.
– Да и Шамилю пора уже одуматься, – добавил Лабинцев.
– Чего зря кровь проливать?
– Он-то полагает, что не зря, – сомневался Галафеев.
– Фезе с Клюгенау чего только ему ни сулили, обещали кавказским императором сделать, а ведь не вышел Шамиль к царю.
– Не уговаривать надо было, а требовать! – сказал Граббе.
– Эти дикари понимают только силу.
– Да и требовали не раз, – сказал Лабинцев.
– Однако, господа, сколько с Шамилем не воюю, а все же он для меня загадка. Казалось бы, все, нет уж его, и мюриды все перебиты, и общества покорность изъявляют, ан нет, воскресает сильнее, чем был. Феномен, господа.
– Вздор! – потирал руки Граббе.
– Теперь уж попался, голубчик!
– И то верно, – кивал Галафеев.
– Не птицей же в небо улетит.
Парламентеры сошлись у подножья Сурхаевой башни, в долине речки Ашильтинки. Юнус явился с десятком мюридов. Пулло пришел с ротой солдат. Они молча смотрели друг на друга, желая убедиться в мирных намерениях. Затем Юнус крикнул:
– Письмо от Шамиля генералу!
Пока Пулло переговаривался с Юнусом через переводчика, Милютин во все глаза разглядывал горцев. Они не были похожи на загнанных в угол дикарей, как рисовалось ему прежде в воображении. Напротив, они были отлично одеты и имели дорогое оружие. Они больше походили на благородных рыцарей, гордых князей, соблаговоливших говорить с незваными пришельцами. Особенно Милютина поразил их предводитель, главный парламентер, стоявший под белым имамским знаменем. Он напоминал ему грациозную пантеру, у которой под красивой шкурой таились железные мускулы, дикую кошку, слегка расслабившуюся на жаре, но готовую в одно мгновение перепрыгнуть узкую речку и вонзить цепкие когти в свою добычу. Милютину стало немного не по себе, когда он сравнивал этих вольных детей гор со своими солдатами, храбрыми, но не приспособленными к горной войне.
Юнус тоже успел оценить противника. Пулло говорил резко, тоном начальника, но в нем не чувствовалось уверенности, когда он смотрел в глаза Юнусу. Он был одет в застегнутый до последней пуговицы мундир, который должен был только мешать ему на такой жаре и сковывать движения. А сопровождавший его поручик смотрел на мюридов удивленными глазами, которые у него и без того были слегка навыкате. Смотрел, как мальчишка на породистого коня, которого даже не мечтал заполучить. И каждого мюрида разглядывал с головы до ног, будто собирался пригласить к себе на службу. А мюриды отвечали ему взглядами, похожими на обнаженные кинжалы.
На своего земляка Биякая Юнус даже не взглянул. Да и зачем смотреть на то, что на свете не должно существовать? Противник, враг – это дело важное и понятное, но предатель? Сердце Юнуса отказывалось это принимать.
Наконец, мюрид передал письмо Милютину, храбро шагнувшему ему навстречу.
В штабе уже пили шампанское в предвкушении новых чинов и наград. Спорили насчет того, как следует поступить со значительными пленниками. А некоторые искренне сожалели, что не успели явить новые подвиги. Но тут вернулся Пулло.
Милютин с Биякаем перевели письмо, и Граббе велел Пулло прочесть его вслух. Полковник, не обращая внимания на встревоженный вид Милютина, принялся торжественно декламировать:
«От Шамиля, уповающего на Аллаха, к повелевающему многочисленными войсками генералу Граббе.
А затем, послушай, что я хочу сказать тебе. Я воевал против притеснителей и лицемеров, да очернит их Аллах, чтобы спасти от них наш народ и очистить веру. Я искренне просил их оставить народ в покое, но они не вняли моей просьбе. Они стали нападать на меня, а вы стали их помощниками. Тогда и я засучил рукава, собрал своих приверженцев и повелел им сделать то, о чем всем известно. Ибо долг мой – удержать злонамеренных отступников от нанесения ущерба нашей вере и шариату.
До сего дня я не переставал стремиться к миру и не причинял вам вреда, пока вы не захотели овладеть нами и не вышли с войной против нас с многочисленными войсками.
Знай же, что я хочу примирения с русским государем – правителем великой державы, без всякого сомнения. Еще не поздно остановить то, что может случиться. Если ты будешь благоразумен и уйдешь туда, откуда пришел, ты не увидишь от нас вреда. Если же ты желаешь сделаться причиной новых бедствий и быть проклятым Богом, то знай, что сабли наточены и руки готовы.
И мир тем, кто следует по пути господа».
– Что-с? – уставился Граббе на Пулло, будто это он написал столь возмутительное послание, а не почти поверженный Шамиль.
В штабе стало так тихо, что слышно было, как над хрустальными бокалами с вином суетятся пчелы.
– Может, не так перевели? – пытался смягчить ситуацию Пулло, грозно оглядываясь на побледневшего Биякая.
Но Граббе понял, что перевели верно. Да и как еще можно было перевести столь вызывающее письмо? Но Граббе был даже рад упрямству Шамиля. Не затем он загнал его на эти голые раскаленные скалы, чтобы заключать мир и уходить ни с чем. Нет, Граббе никому не позволит лишить его триумфа, который потрясет не только Дагестан, не только Петербург с его лицемерными вельможами, но и весь мир! Где еще достать такого противника, победа над которым сделала бы Граббе новым Ганнибалом? Нету! Вывелись! Мелочь одна мнит из себя Наполеонов! А этот горец стольких генералов оставил с носом! И ведь были не последние вояки. До Парижа дошли! Турок сокрушили! Персию заставили контрибуцию платить!
Граббе пребывал в такой ярости, что уже не знал, думает он все это или говорит.
– Прикажете штурмовать? – прервал тягостную паузу Галафеев.
– Рано, – отрезал Граббе.
– Сначала надобно подобраться поближе, тихой сапой, чтобы наверняка, железной хваткой, как бульдог!
– А насчет письма, ваше превосходительство? – напомнил Пулло.
– Будет ли ответ?
– Будет, – кивнул Граббе.
– Залпами!
Осадные работы развернулись с новой силой. Лопаты и топоры на время оттеснили ружья и шашки, саперы стали важнее солдат. Чтобы разработать дороги для артиллерии, снова приходилось взрывать скалы. Валы вокруг батарей за отсутствием земли возводили из плетней в два ряда, засыпая промежутки камнями. По одной батарее было установлено против Нового и Старого Ахульго. Еще две нацелились на Сурхаеву башню. Обстрел Ахульго усилился.
Часть Мехтулинской милиции спустились к Ашильте и расположились в садах. Сюда же перебрался и Аванес со своим фургоном. Он рассчитывал на горцев, которые давно не видели нового товара, а деньги у них водились. Как-никак, они были на службе. Но товары маркитанта горцев не заинтересовали. Они покупали разные мелочи, а тем временем присматривались к остальному, особенно к хорошему оружию, купленному маркитантом у солдат за бесценок, как трофеи. Аванесу показалось, что такой пристальный интерес таил в себе угрозу. От этих абреков можно было ожидать чего угодно, особенно если вдруг случится какая-нибудь заваруха.
Зато Лиза узнала важные новости, наполнившие ее предчувствием скорого счастья. Не смущаясь удивленными взглядами горцев, не понимавших, что может делать на войне матушка, как они называли всех русских женщин, Лиза сумела выспросить у хунзахских милиционеров о Михаиле. Нашлись те, кто его знал. Он успел прославиться постоянным несогласием с местным начальством, а горцы уважали смелых людей. Лиза поначалу испугалась, что с Михаилом снова произошло что-то нехорошее, но милиционеры ее успокоили. Оказалось, что Михаил командует волонтерами, с которыми не могло управиться самое строгое начальство, а потому ему все прощали. В Хунзахе надеясь скоро избавиться от разжалованного вольнодумца, который сумел снова выбиться в офицеры, хотя эполет еще не носил.
Эполеты были у Лизы. Она сберегла их у сердца, пронесла как тайное знамя через все ужасы этого похода. Они казались ей крыльями, которые унесут ее с милым мужем из кошмара войны в тишину и изобилие родового имения. Там они заживут мирно и счастливо, народят детей и будут рассказывать им страшные сказки про Кавказ.
Милиционеры уверяли, что Михаил вот-вот прибудет на Ахульго, соединившись по пути с транспортом из Шуры. И давали Лизе понять, как они завидуют Михаилу, у которого такая храбрая жена.
Бомбардировка, не приносившая видимого вреда горцам, зато быстро опустошавшая зарядные ящики, к вечеру была прекращена.
Наступила тишина, над которой горели ослепительно яркие звезды и уходил в вечность почти осязаемый Млечный путь. Лиза лежала в фургоне, у которого был откинут верхний полог, и ей казалось, что под таким чудесным небосводом не может быть никакой войны.
Вдруг ночное небо прочертила яркая полоска, будто кто-то чиркнул спичкой, а та вспыхнула и погасла, не загоревшись.
– Падающие звезды! – поняла Лиза.
– Нужно загадать желание.
И пока падала следующая звезда, она успела загадать самое сокровенное желание. Она просила небо вернуть ей мужа живым и невредимым. Больше она ничего не желала и не стала больше смотреть на далекие звезды. Она лежала, закрыв глаза. И вдруг услышала, как поют ночные птицы. Они пели, как-то по-особому прищелкивая, не как обычные соловьи, трелями которых она заслушивалась в своем имении.
– Аванес, – позвала Лиза.
– А скажи мне, любезный, что это за птицы такие? Не соловьи ли?
Аванес, сидевший у костра, на котором варил в котелке ужин, прислушался.
– Вай! – вскочил вдруг Аванес и заметался вокруг фургона, собирая в него вещи.
– Это особой породы соловьи! Свинцовые!
– Что ты такое говоришь? – не поняла Лиза, все еще пребывавшая в сладостных мечтах.
– А то и говорю, матушка, что это соловьи-разбойники! Если их слушать – помереть можно!
– Да что с тобой? – привстала Лиза.
– Совсем ты, что ли, обезумел?
– Пули это! – заорал Аванес.
– Смертные песни поют эти соловьи!
Аванес, пригибаясь, собрал свой фургон, схватил коней под уздцы и повел их из опасных садов. Он спешил вернуться к главной квартире, подальше от Ахульго, где торговля шла худо-бедно, зато было не так опасно. У большинства офицеров деньги давно кончились, зато имелись казначейские книжечки, под которые можно было отпускать товары. Но остановиться у штаба ему не позволили. Аванесу пришлось перебраться в Ашильту, где стоял Кабардинский егерский полк. Там он нашел уцелевшую саклю, которая и стала пристанищем маркитантов.
Глава 88
Аванес был прав. Соловьи эти пели неспроста. Снайперы Шамиля научились стрелять и ночью. Они целились туда, где что-то светилось, будь это пламя костра, слабый огонек свечи или искры огнива, которым солдаты раскуривали трубки. В отряде быстро смекнули, что к чему, и стали загораживаться от пуль валами и деревьями. Но пули продолжали свистеть, не давая покоя ни днем, ни ночью. На этот раз стрельба была особенно частой. Милиционеры, располагавшиеся в садах между Ашильтой и Старым Ахульго, еще не успели к ней приспособиться, как случилась еще большая неожиданность.
Омар-хаджи Согратлинский, комендант Старого Ахульго, не желал отсиживаться на горе сложа руки, когда на головы его людей сыпались ядра и гранаты. Как бы ни были прочны защитные сооружения, но пушки делали свое дело. Несколько домов было повреждено, женщины и дети испуганно жались по подземельям, а мюриды в гневе сжимали кулаки, не зная, чем ответить на орудийный огонь.
Омар-хаджи был человеком на редкость выдержанным, но и его терпению пришел конец, когда ядра сбили с мечети минарет. Он решил сделать вылазку и отправил к Шамилю связного, сообщив о своем намерении. Шамиль, не дождавшись от Граббе другого ответа, кроме ядер, ответил согласием. Своим стрелкам он приказал усилить огонь, чтобы отвлечь внимание противника от Старого Ахульго.
Пока выдвинутые вперед снайперы и стрелки на Сурхаевой башне отвлекали противника, Омар-хаджи во главе своих удальцов подкрался к ашильтинским садам и атаковал расположившихся на отдых милиционеров. Застигнутые врасплох, они побежали, преследуемые мюридами. Но целью Омара-хаджи были не столько милиционеры, сколько пушки, обстреливавшие Старое Ахульго. Воодушевленные успехом предприятия, мюриды слишком увлеклись погоней, а когда начали подбираться к батарее, артиллеристы успели приготовить заряды и встретили мюридов картечным огнем. Поднятые по тревоге апшеронцы бросились на помощь милиционерам, и в садах завязалась жестокая схватка. Омар-хаджи бился всю ночь и отступил только на рассвете. На Старое Ахульго он вернулся с пленными, которых заставили нести на себе связки трофейного оружия.
С обеих сторон были потери, но эта хотя и не во всем удачная вылазка вселила в горцев надежду. А Граббе она заставила умерить свой пыл и проститься с надеждами на быстрое покорение Ахульго.
На Новом Ахульго тоже нашлось много охотников повторить подвиг Омара-хаджи. Но Шамиль понимал, что теперь Граббе усилит передовые цепи, выставит новые секреты и будет следить за горцами в оба глаза и днем, и ночью.
– Потерпите, – успокаивал он разгоряченных сподвижников.
– Как бы не было поздно, – говорили мюриды.
– Если ударим вместе, то выгоним генерала из Ашильты!
– Я скажу, когда придет время, – пресек толки Шамиль.
– А пока восстанавливайте то, что испортили пушки.
Урон пока был незначительный. Стараниями горцев все, что разрушалось за день, к утру следующего дня оказывалось в прежнем виде.
Свою жажду мщения мюриды утоляли стрельбой по солдатам, слишком близко подбиравшимся к Ахульго. Стоило кому-то поднять голову над укрытием, как в него летело сразу по нескольку пуль.
Шамиль и сам готов был совершить вылазку, чтобы опрокинуть батареи, досаждавшие Ахульго. Он с трудом себя сдерживал, ожидая действий своих наибов, которые должны были последовать в ближайшее время.
Жизнь на Ахульго шла своим чередом. Люди начали привыкать к бомбежке. Заметив вспышку на батарее, они предупреждали других и успевали укрыться сами, пока ядро долетало до Ахульго. А днем не показывались на горе без особой надобности.
Чтобы отвлечь людей от невеселых мыслей, укрепить их дух, Шамиль велел ходить в медресе при мечети не только детям, но и взрослым, свободным от других дел. После общей молитвы муталимы читали людям Коран, толковали его аяты, а ученый Али-бек спускался из башни, чтобы пересказывать подходящие к случаю хадисы – предания о жизни и поступках пророка Мухаммеда.
Мальчишки постарше старались увильнуть от занятий. У них появилось новое развлечение – собирать ядра. Они научились отличать их от взрывающихся гранат по звуку, пока они еще летели. Ядра отвратительно свистели, а гранаты летели с гулом и искрами от горящего фитиля. Со временем они научились определять и то, как скоро взорвется граната, по длине фитиля и яркости огня. Но трогать гранаты им не разрешали. Только опытные мюриды могли точно определить опасность и, если было возможно, отшвырнуть гранату ногой или лопатой.
Размеренную жизнь под бомбежкой опять нарушил Магомед, не оставлявший попыток оснастить войско Шамиля артиллерией. Мальчишки собрали ему целую пирамиду из ядер, и Магомед пытался их плавить, чтобы отлить новые ядра, поменьше, для своего фальконета. И это послужило очередной причиной общественного негодования.
– Нам еду не на чем готовить! – жаловались женщины.
– Дрова кончаются, а он все тащит в свою кузню!
– Посадите его в яму, пока он нас не погубил!
– Или выгоните его с Ахульго!
И они добились того, чтобы Шамиль запретил Магомеду прикасаться к дровам, которых на Ахульго и без того было мало. Их запасли всего на месяц, считая кизяки, но людей на Ахульго оказалось больше, чем предполагалось, а блокада грозила затянуться.
Неожиданным «союзником» Магомеда сделался Граббе, который велел отвести воду, которая поступала на Ахульго по деревянным желобам. Как только вода иссякла, Магомед разобрал бесполезный желоб и пустил дерево в дело. Узнав об этом, Шамиль решил сам посмотреть, чем занят Магомед, которого он втайне любил за настойчивость и добрые намерения.
В кузне пылал огонь, перед горном сидел черный от сажи Магомед, но чугунные ядра плавились неохотно. Огня от желоба хватило лишь на то, чтобы отлить несколько ядер, которые еще нужно было обтачивать и смазывать маслом, чтобы ими можно было стрелять.
Убедившись в тщетности стараний Магомеда, Шамиль сказал:
– О брат мой, оставь, наконец, это дело. Даст Аллах, у нас еще будут настоящие пушки.
– Одна настоящая у нас уже есть! – отвечал Магомед.
– Но ей нужны ядра.
– От таких ядер толку мало, – покачал головой Шамиль.
– Самое большее, что можно ими убить, – это лошадь.
– Если попаду в лошадь шайтана Граббе, это будет удачный выстрел, – сказал Магомед.
– Хорошо, – махнул рукой Шамиль.
– Попробуй. Но оставь женщинам дрова, чтобы они могли варить баранов, которых прислал сын Курбана, или ты первый будешь есть их сырыми.
Ночью Магомед исхитрился спуститься с Ахульго, добыть где-то дров и вернуться с большой вязанкой.
Шамиль проводил на Ахульго целые дни и редко бывал в своем доме, даже ночью.
Жены Шамиля стали грустными, хотя и старались не подавать вида. Они уже выучились стрелять, и теперь в комнате у каждой стояло по ружью. Шамиль несколько раз отбирал у них оружие, но ружья появлялись снова. Жены и сами не были рады этой ненавистной утвари, но ружья их немного успокаивали, когда гора дрожала от артиллерийских залпов.
Старшие сыновья Шамиля были увлечены происходящим, пересказывали матерям последние новости и завидовал мюридам, которые целыми днями стояли у своих бойниц, высматривая противника. Но младший, Саид, по-прежнему смотрел на отца своими грустными глазенками, в которых Шамилю виделся укор.
– Почему он не улыбается? – спросил Шамиль жену.
– Улыбается, – вздохнула Джавгарат.
– Когда не стреляют.
– Скоро перестанут, – обещал Шамиль.
– Дай Аллах, – улыбнулась Джавгарат, украдкой утирая слезы.
– Не печалься. Аллах посылает людям испытания, так было всегда, – сказал Шамиль, положив руку на плечо жены.
– А Патимат, где она?
– Пошла за водой.
– Разве уже не слишком поздно? – спросил Шамиль с тревогой в голосе.
– Теперь днем за водой не ходят, – сказала Джавгарат.
– Но у нас есть запас в хранилище, – напомнил Шамиль.
– Люди стараются его беречь, – сказала Джавгарат.
– Кто знает, сколько все это продлится?
– Недолго, – сказал Шамиль, хотя уже не был в этом уверен.
– Патимат пошла одна?
– С сыновьями. И Султанбек пошел с ними, – ответила Джавгарат и вдруг задумалась, стал бы Шамиль так тревожиться, если бы за водой пошла не Патимат, а она.
– Это хорошо, – кивнул Шамиль, но тревога в его сердце все росла.
– И ты одна не ходи.
Граббе пытался туже затянуть петлю вокруг Ахульго, и у осажденных горцев возникали все новые проблемы. Главной заботой становилась вода, за которой приходилось спускаться в пропасть, к реке. И дело это становилось все более опасным, несмотря на то, что за водой отправлялись ночью.
Поев лепешек с сыром, Шамиль поднялся наверх. Из мечети слышался хор детских голосов, повторявших за учителем аяты Корана. В сумраке угадывались силуэты женщин, у которых за плечами поблескивали в лунном свете большие кувшины. На Старом Ахульго мерцало несколько огоньков. Сурхаева башня, резко очерченная на фоне огромной Луны, была похожа на часового. А горы напротив были усыпаны огнями костров отряда Граббе.
Шамиль вдруг услышал, как плачет его сын. Саид по-прежнему отказывался радоваться жизни, будто понимал, что она вовсе не так прекрасна, какой могла бы быть. Имаму казалось, что в плаче его сына есть и его вина. Но, чтобы создать новый мир, достойный человека – лучшего творения всевышнего, приходилось разрушать старый, в котором не было места истинной любви, настоящей свободе и подлинной справедливости. Многие считали, что Шамиль возжелал несбыточного, но имам готов был отдать жизнь за свою мечту. И в этом он был не одинок.
Глава 89
Саперы Граббе трудились ночи напролет, все ближе и ближе подкапываясь к Ахульго и Сурхаевой башне. Но дело продвигалось слишком медленно. Граббе неотступно терзало искушение объявить генеральный штурм. У него еще оставалась надежда, что горцы дрогнут и сдадутся, если навалиться на них всем отрядом. Но уточнявшаяся каждый день диспозиция упрямо свидетельствовала, что такой штурм грозит обернуться провалом и огромными потерями. И тогда впору будет думать не о победе, а о том, как спастись из-под Ахульго самому.
Если уж вести правильную осаду, следовало действовать осмотрительно, принимая все необходимые меры. А для начала устроить в Ашильтинских садах земляные печи для изготовления на месте хлеба и сухарей. Траскину было велено распорядиться насчет заготовки в Шуре новых партий продовольствия. Пусть свозят отовсюду, где имелись запасы. Да и по медицинской части предвиделась нехватка, прав полковой доктор, следовало озаботиться и на сей счет, не говоря уже о недостатке орудий для обстреливания Ахульго. Нужно выписать новые, с двойными комплектами зарядов, из резервных батарей. Да хотя бы от самого Головина, который должен был уже покончить с мятежниками на Самуре.
Беспокоили Граббе и сведения, доставляемые лазутчиками. Они клятвенно уверяли, что в разных местах собираются партии горцев, намеревающихся придти на помощь своему имаму. Вот и Ахбердилав, ближайший сообщник Шамиля, будто бы готовился оседлать Сагритлохский мост, в опасной близости от лагеря отряда. Этого Граббе допустить не мог. Туда была отправлена часть милиции Ахмед-хана Мехтулинского. Пусть послужит, раз уж пригрелся под крылом двуглавого орла. А отряду нужно было еще прочно обосноваться на новом месте, чтобы это был настоящий лагерь, с правильным расположением и управлением, а не цыганский табор, в котором никого вовремя не найти и не с кого спросить.
Тем временем войска устраивались как кому вздумается, придерживаясь лишь примерного плана. Офицеры старались придать своим палаткам видимость жилья. Посредине втыкался столб, на который вешались оружие и одежда. Земляные полы покрывались ветками деревьев, а затем рогожами и войлоками. Вход завешивался какой-нибудь скатертью или шторой, раскладные кровати покрывались бараньими шкурами, а сверху клались бурки вместо одеял. Несмотря на дневную жару, по ночам в горах было холодно.
Не утратившие аристократических наклонностей, офицеры позволяли себе некоторую изысканность, сооружая кровати из виноградных лоз и накрывая их коврами. Столы и табуреты сколачивались денщиками из срубленных в садах деревьев и вынутых из ашильтинских развалин досок. Затем появлялись самовар, припасы из походных тюков, несколько книжек, среди которых главенствовали Александр Марлинский и Вальтер Скотт, чубуки, табакерки, зеркальца и свечи, которые покоились на воткнутых в землю штыках.
В богатых ашильтинских садах не было недостатка в дровах, и на вертелах жарились целые бараньи туши, фаршированные душистыми горными травами.
Новоселье праздновалось с шампанским или ромом, смотря по возможностям. У кого уцелели рюмки – разливали в рюмки, но большей частью пользовались металлическими кружками, которые не боялись сотрясений, производимых осточертевшей всем артиллерией.
Горе было тому, кому выпадало идти ночным визитир-рундом – проверять исправность постов, караулов и секретов. Им приходилось лазать по кручам, не щадя ни рук, ни одежды, пугаясь каждого куста, рискуя оступиться и сорваться в речку, летящую где-то рядом водопадом в ущелье. И при всем том не иметь возможности даже раскурить трубку, опасаясь, что огонек подметит горский снайпер. И холодеть, ощущая на себе тяжелые взгляды двух исполинов, двух Ахульго, возвышающихся над мрачной пропастью.
А тем временем в лагере играет музыка, и песельники развлекают войска на все лады, получая от каждого батальона по заслуженной чарке водки.
Кто был поопытнее, прихватывал с собой в наряд фляжку с ромом или коньяком, чтобы вовремя согреться в ночном бдении. Те же, кто предпочитал ревностно исполнять служебные обязанности, часто потом оказывался простуженным и отправлялся в лазарет на излечение.
В эту лунную ночь в наряд отправился Милютин, за которым увязался и Васильчиков, давно уже чувствовавший желание проявить себя не только в штабе, но и в деле. Раз уж судьба привела его к Ахульго, то следовало оставить о себе память хотя бы в журнале военных действий. Он предполагал, что его и так наградят, если жив останется, но за дело и награда могла последовать другая, и рассказать потом будет что.
Они двинулись в путь, спотыкаясь в темноте о колья, к которым были привязаны солдатские палатки, и о самих солдат, которые спросонья ругали их последними словами.
Из темноты являлись то пирамиды из ружей, то горы седел, то горящие костры, вокруг которых грелись солдаты, покуривая свои трубки. Иногда проплывали фигуры, неизвестно куда и зачем идущие. То кричали неведомые птицы, которые казались офицерам горцами, перекликающимися особыми сигналами.
А дальше, уже на окраинах лагеря, вырастали как из-под земли караульные со своим «Стой! Кто идет?».
Помогая друг другу и тихо переговариваясь, Милютин с Васильчиковым обходили цепи.
– А все-таки любопытно, – задал Васильчиков волновавший его вопрос.
– Долго ли продержится Шамиль на своих утесах?
– Смотря по обстоятельствам, – ответил Милютин.
– Позиция у него отменная.
– Измором брать будем? – предположил Васильчиков.
– Как бы Шамиль нас самих измором не взял, – сказал Милютин.
– Он-то дома, как ни крути, а мы зависим от тылов, а тылы далеки.
– Значит, штурмом?
– При нашем положении штурм – дело ненадежное, – рассуждал Милютин.
– В военной науке и не припомню такого случая.
– А если «на ура»?
– Чудеса, говорят, случаются, но полагаться на них я бы не стал.
– Я к тому говорю, – объяснял Васильчиков, – что если мы тут застрянем, к Шамилю весь Дагестан сбежится…
– Вопрос это занимательный, – улыбнулся Милютин.
– Но адресовать его следовало бы его превосходительству генерал-лейтенанту Граббе. На то он и командующий.
– А все-таки? – не унимался Васильчиков.
– А ты бы сдался? – вдруг спросил Милютин.
– Никогда! – вспыхнул Васильчиков.
– Так ведь и горцы не раз доказали, что не трусы. Отчего же мы должны думать, что они сдадутся?
– Так ведь петля на шее.
– Это еще не повод, – сказал Милютин.
– А если бы у тебя – петля, а французы, к примеру, смирения требуют?
– То – французы, – неуверенно произнес Васильчиков.
– А то – горцы.
– То-то и оно, что горцы, – кивнул Милютин.
– Я гляжу, у них вместо крови вольность по жилам течет. Собаку, к примеру, приручить можно, а волка?
– Волков – стреляют, – согласился Васильчиков.
– Вот и мы стреляем. Только горцы – тоже люди.
– Вот и Марлинский о том же писал, – вздохнул Васильчиков.
– Можно было и по-хорошему договориться.
– Впрочем, не нашего ума дело, – сказал Милютин.
– Начальству виднее.
– Как думаешь, месяц Ахульго продержится? – гнул свое Васильчиков.
– Не знаю, – раздраженно ответил Милютин.
– У Шамиля спроси.
– У самого? – прошептал Васильчиков.
– Или у господа Бога, – сказал Милютин.
– Это, братец, Кавказ. Мы-то тешимся, что уже достаточно его знаем, Марлинского читали и в боях бывали, а мне сдается, что по-настоящему мы этот Кавказ еще и не нюхали.
– Это верно, – вздыхал Васильчиков.
– Марлинскийто понял, не зря писал, что из Кавказа наши пииты сделали миндальный пирог, по которому текут лимонадные ручьи. А здесь, брат, и вправду живой обломок рыцарства, погасшего в целом мире.
– Для сочинителей романов тут всего вдоволь: и храбрости, и благородства, и щедрого гостеприимства, и верности долгу, – соглашался Милютин.
– А все же меня в жаркое дело тянет. В самую схватку!
Васильчиков помолчал и вдруг признался:
– И отличиться хочется, и умереть страшно. Ведь зароют да костер сверху разведут.
Кроме прочего, офицерам нужно было ревизовать батарею, ближе других придвинутую к Новому Ахульго. Они долго не могли ее найти. Днем она была хорошо видна, и казалось, что дойти до нее совсем просто. Но ночью дорога превратилась в сущее наказание. И когда они, петляя, добрались до своей цели, солдаты из секрета, стоявшего на подступе к батарее, чуть было не приняла их за крадущихся горцев.
Батарея была в порядке и жила размеренной жизнью. Каждые полчаса производился выстрел. Затем направление выстрела немного менялось, и в небо вновь улетало гудящее чугунное ядро. После трех выстрелов ядрами следовал выстрел гранатой. Пламя, вырывавшееся из жерла пушки, озаряло все вокруг кровавым заревом, в котором светлым пятном проступало и Ахульго. Канониры делали привычную работу как бы между делом. Главное происходило за большим камнем, где они после ужина по очереди дремали у костерка, укрытого шалашом от горцев и от начальства. На достаточности артиллерийского расчета это не отражалось, потому что ротный воспитанник Ефимка уже умел делать все, включая производство самих выстрелов, и делал это с большим усердием. Жалел он только о том, что Ахульго исчезало из виду за мгновенье до того, как на гору обрушивался очередной снаряд, и он не видел результатов своего усердия. Днем Ефимке стрелять не разрешали: не полагалось по малолетству.
Офицеры слышали про шустрого Ефимку, но вид паренька, драившего банником дуло пушки, их вовсе не обрадовал.
– Чего же вы, сукины дети, мальчонку гробите? – сердился Милютин.
– Его ли это дело?
– Виноват, ваше благородие, – отвечал фельдфебель, держа под козырек.
– Не усмотрели. Мы его в парке оставили, так малец сам прибежал.
– Еще увижу – пеняйте на себя, – пригрозил Милютин.
– Непорядок!
– Не извольте беспокоиться, ваше благородие, – улыбался чумазый Ефимка, держа банник по форме, к ноге.
– Мне это плевое дело!
– И глаз у него – что алмаз, – оправдывался фельдфебель.
– Если мы чего не увидим, так он непременно заметит и пушку наведет так, что мое почтение. Даже их превосходительство господин генерал Граббе изволили похвалить.
Польщенный Ефимка улыбался во весь рот:
– Рад стараться, ваше благородие!
– Чаю у вас нет? – спросил Милютин, присаживаясь у костра.
– Согреться бы надо.
– Сей момент! – обрадовался фельдфебель, почувствовав, что гроза миновала. Он покопался в зарядном ящике, извлек чистый котелок и велел мальчишке: – Слетай-ка за водой. Господа офицеры чаю желают!
– И умыться не забудь, – велел Васильчиков.
– На чертенка похож.
Ефимка схватил котелок и исчез в темноте. Он спустился к реке по крутым тропкам. Ефимка уже знал их не хуже, чем устройство пушки, и удивлялся, как это горцы ими не пользуются, чтобы незаметно подобраться к батарее?
Он знал место, где была небольшая заводь и вода текла не так быстро. Из светящейся в лунном свете реки Ашильтинки он набрал котелок, поставил его на камень, а затем опустил в воду лицо, предоставив реке самой смыть с него копоть. Потом, вытерев лицо рукавом, Ефимка поднял глаза на Ахульго, нависавшее над ним темной громадой. Он не верил, что гору можно взять штурмом, на нее и влезть-то было невозможно.
Вдруг послышался шорох. Ефимка испуганно вжался между больших камней, ожидая увидеть крадущихся горцев. Но увидел девочек. С кувшинами на плечах они спускались со стороны Ахульго. Оглядевшись, девочки стали набирать из реки воду. Ефимка следил за ними, затаив дыхание. Это было так неожиданно, так невероятно! Одна из девочек вдруг посмотрела в его сторону, и он увидел ее большие глаза, в которых сиял лунный свет. Это была красавица Муслимат, дочь наиба Сурхая. Зачарованный Ефимка боялся спугнуть это видение. Ему хотелось, чтобы девочка не уходила. Но тут снова грянула пушка, отмеряя получасовую порцию устрашения. Девочка проводила испуганным взглядом искрящуюся гранату, а затем поспешила за своими подругами, которые уже исчезали в черных складках горы. Ошеломленный Ефимка взял котелок и медленно полез вверх, прислушиваясь к охватившим его новым, незнакомым до сих пор чувствам.
Выпив чаю и отдав Ефимке последний кусок колотого сахара, который нашелся в кармане у Васильчикова, офицеры пошли назад. Напоследок они еще раз напомнили солдатам, что нужно держать ухо востро, что горцы ловки и хитры и что от радения каждого зависит жизнь не только его самого, ни и спящих товарищей. Солдаты с готовностью брали под козырек: «Слушаюсь, ваше благородие!», хотя лучше необстрелянных молодых офицеров знали, что к чему и сколько опасностей таит кавказская ночь в соседстве с противником.
Ефимка в эту ночь больше не стрелял. Его отправили спать, но он так и не сомкнул глаз до рассвета, вспоминая чудесное видение у реки.
Глава 90
Наиб Ахбердилав спешил помочь Шамилю. Он со своими мюридами метался в верховьях Андийского Койсу, стараясь собрать побольше ополченцев. Его мюриды объезжали даже самые маленькие аулы, поднимая людей на борьбу.
Муэдзины взывали со всех мечетей:
– Рабы Аллаха, люди Аллаха! Поспешите на помощь, братья!
Глашатаи кричали с крыш:
– Приказ от Шамиля! Выходите!
Народ собирался на годеканах, и мюриды говорили людям:
– Всем известно о вашей храбрости! Теперь ваш имам нуждается в вашей помощи!
– Его окружили на Ахульго!
– Хотят задушить нашу свободу!
– Не думайте, что вас это не коснется!
– Если генерал, да поразит его Аллах, одолеет Шамиля, ханы доберутся и до вас!
– Неужели вы хотите стать рабами мучителей?
Не было аула, откуда бы и раньше не уходили люди к Шамилю. Тогда шли по выбору, по одному от нескольких домов, и такие наборы происходили уже не раз, лишая аулы самых сильных мужчин. Но теперь настала пора, когда нужны были все, кто мог держать оружие. Никто не мог заставить горцев выступить на битву. Однако все понимали, что если сегодня беда добралась до твоего соседа, то завтра доберется и до тебя.
– Быть может, нам даже не придется сражаться, – говорил Ахбердилав.
– Чем больше нас будет, тем скорее отступит генерал, а первыми разбегутся отступники-ханы!
Люди стекались с хуторов, шли, бросая поля и сады. Война за правое дело считалась делом первостепенной важности. Старики красили хной бороды, чтобы сойти за молодых. Даже те, кто не отличался воинственным характером, прощались с семьями, чтобы не прослыть трусом и не покрыть несмываемым позором имена своих предков, а с ними и будущих потомков. Добыть в бою славу было важнее, чем нажить богатство. Все прочее могло погибнуть, исчезнуть, все, кроме доброго имени. Человек из славного рода всегда был в цене.
Каратинцы, андийцы, гумбетовцы, люди из других обществ собирались в указанных наибами местах, а затем вливались в отряды Ахбердилава и Галбац-Дибира.
Но даже срочная мобилизация имела свои правила. Кто не мог выступить сам по старости или болезни, тот выставлял коня с седлом и снабжал остальным того, кто отправлялся на войну. Точно так же, как немощные посылали в хадж своих «заместителей», а благодать от совершенного паломничества доставалась обоим. Каждый воин должен был иметь сто пуль и соответствующее количество пороха. Конные имели позади седел хурджины с провизией и прочими необходимыми вещами вроде бурок или подков. Сверху привязывали бурки с башлыками. Если отряд был пеший, каждый имел небольшой запас самой простой пищи. В походе воины привычно полагались на местное население, которое не оставляло их в нужде.
Те же неписаные правила требовали, чтобы раненых и убитых выносили даже под пулями и при малейшей возможности отправляли домой.
– Но не бойтесь и погибнуть на пути Аллаха! – убеждал горцев Ахбердилав.
– Шахиды обретают вечное блаженство и могут ходатайствовать за всех своих близких!
А старики вспоминали погибших героев и объясняли молодым воинам:
– Если воин погибает в бою, его похоронят в запачканной кровью одежде, чтобы в Судный день Аллах выделил его перед остальными особой милостью.
Усилившись пополнением, отряды Ахбердилава и Галбац-Дибира разделились у Сагритлохского моста. Он был перекинут над глубокой пропастью, на дне которой бушевало Андийское Койсу, легко, как забаву, перекатывая большие валуны. В соответствии с полученным от Шамиля приказом Ахбердилав перешел мост, чтобы двинуться на Ашильту. Чуть позже по левой стороне реки должен был выступить к Чиркате Галбац-Дибир, который ждал еще новых подкреплений.
Ахмед-хан Мехтулинский, получив приказ Граббе блокировать Сагритлохский мост, призадумался. Явившись под Ахульго и оценив ситуацию, он решил, что Шамилю пришел конец. А вместе с имамом, как полагал хан, неминуемо рухнет и Имамат. Выходило, что опасность для ханства почти миновала, и Хаджи-Мурад, главный соперник Ахмед-хана в Аварии, уже был не нужен. От него следовало как-то отделаться. И приказ выдвинуться навстречу Ахбердилаву представлялся Ахмед-хану путем к избавлению от опасного соперника.
«Пусть два хунзахца перережут друг другу глотки», – потирал руки Ахмед-хан.
Он вызвал Хаджи-Мурада и велел ему выступить к Сагритлохскому мосту. Гордый джигит не терпел хана и ни во что не ставил его воинские способности. Но тут вынужден был выполнять приказ, исходивший от самого Граббе.
– Какой дорогой идти? – спросил Хаджи-Мурад.
– Короткой, – велел Ахмед-хан.
– И чем скорее, тем лучше.
– Правильнее было бы двинуться снизу, вдоль реки, – предложил Хаджи-Му-рад.
– Там и дорога лучше.
– Выполняй, что велено! – повысил голос Ахмед-хан.
– Генералам виднее!
Хан имел в виду не только Граббе, но и себя, носившего звание генерал-майора.
Хаджи-Мурад знал цену таким генералам, но возражать не стал. Он собрал своих людей, и отряд тронулся напрямик, через гору. Дорога была недалекая, около семи верст, но достаточно трудная, и Хаджи-Мурад не торопился, щадя своих людей и коней. Когда сверху открылся вид на Сагритлохский мост, Хаджи-Мурад увидел, что через него переправляется большой отряд. Но в сумерках всего было не разглядеть, и Хаджи-Мурад отправил вперед разведку. Его люди наткнулись на разведку Ахбердилава и после небольшой стычки отступили.
– Ахбердилав идет на Ашильту! – сообщили разгоряченные разведчики.
– У нас одного ранили.
– Встретим его здесь, – сказал Хаджи-Мурад.
– А если он пойдет по нижней дороге, вдоль реки? – предположил разведчик.
– Генералы так не думают, – пожал плечами Хаджи-Мурад.
– Им виднее, а наше дело – исполнять их приказы.
Ахбердилав, получив известие о том, где находится горская милиция, двинулся к Ашильте вдоль реки. Наступившая ночь скрывала его движение, да никто и не ждал его с этой стороны. Граббе был уверен, что все перекрыто, а Ахмед-хан попивал с Траскиным кофе в предвкушении успеха своей интриги.
Воины Ахбердилава обрушились на Ашильту внезапно. Сначала его мюриды бесшумно сняли передовые посты, затем бросились на стоявшие перед аулом палатки кабардинцев. В лагере поднялась тревога, но две роты были смяты, не успев оказать серьезного сопротивления.
Никто не понимал, что происходит. Батальоны были подняты сигналами «В ружье!» и бежали на шум выстрелов, доносившихся из разрушенного аула. Тем временем Ахбердилав успел занять Ашильту и прилегающие сады. Увидев, какой переполох поднялся в лагере, горцы дальше не пошли. Знай Ахбердилав, что даже главная квартира штаба оставалась почти без прикрытия, он бы постарался развить свой успех. Но пока разведчики пытались выяснить, что к чему, подоспевшие роты вступили с горцами в перестрелку.
Горцы наспех возводили завалы, решив закрепиться на захваченном рубеже и подготовиться к новой атаке. Тем временем в Ашильте собирали раненых и пленных. Среди трофеев оказался и фургон маркитанта, набитый хорошим оружием и всевозможными припасами. А в сакле по соседству нашли и самого маркитанта Аванеса, и перепуганную Лизу. Аванес храбро защищал женщину, называя ее своей женой, и предлагал хороший выкуп – свой фургон со всем его содержимым. Но фургон и так был в руках мюридов. Аванеса и Лизу заперли в другой сакле, где собирали пленных.
Только здесь Лиза пришла в себя и дала волю слезам. Испытать столько лишений, чтобы оказаться в плену у горцев? Посреди лагеря огромного отряда? В ее голове это не укладывалось. Аванес успокаивал ее как мог, но она продолжала рыдать у него на плече, и больше всего ее огорчал даже не сам плен, а эполеты, которые теперь не достанутся ее любимому мужу.
– Аванес, любезный, ты все можешь, – теребила она маркитанта.
– Сделай же что-нибудь! Что я скажу мужу?!
– А что я скажу своей жене? – отвечал бледный от горя Аванес.
– Я разорен!
– Я тебе все возмещу, – дрожащим голосом обещала Лиза.
– Только спаси меня! Выручи, Аванес!
– Не убивайся ты так, матушка, – утешал Лизу маркитант.
– Они тоже не звери. У меня среди них кунаки есть.
– Кунаки? – с надеждой переспросила Лиза.
– Так, торговал немного, – отвечал Аванес, припоминая, сколько тайных, хотя и не без выгоды, услуг он оказал горцам.
Известие о захвате горцами Ашильты крайне обескуражило Граббе.
– Ахбердилав? – не верил адъютанту Граббе.
– С неба он, что ли, свалился?
– Снизу подкрался, ваше превосходительство! – докладывал обстановку Васильчиков.
– А милиция куда смотрела? – гневался Граббе.
– Хана сюда!
Растерянный Ахмед-хан был удивлен не меньше, чем командующий.
– Что же вы, голубчик, творите? – орал Граббе.
– Под самым вашим носом мюриды прошли!
– Это все Хаджи-Мурад, – нашелся Ахмед-хан, решив свалить вину на своего врага.
– Он его пропустил!
– Так вы же сами, как мне докладывают, послали конницу сверху, не позаботившись о нижней дороге. Так служить нельзяс, господин генерал-майор! Такого даже простые майоры не допускают!
– Обманул Ахбердилав, – соглашался Ахмед-хан, обиженный сравнением с какими-то майорами.
– Я все исправлю!
– Для начала верните нам Ашильту! – велел Граббе.
Отослав хана, Граббе приказал открыть огонь по Ахульго из всех орудий, опасаясь, что нападение Ахбердилава – лишь часть хитроумного плана и может последовать вылазка самого Шамиля.
Граббе был прав, только вылазка с Ахульго должна была последовать после сигнала, которым должен был стать захват артиллерийской батареи, нацеленной на Новое Ахульго, и подрыв зарядных ящиков. Без этого, как показала вылазка Омара-хаджи, попытка разгромить Граббе была обречена на неудачу и бессмысленные жертвы.
Взбешенный Ахмед-хан бросился к остававшейся с ним части милиции. Но уязвило хана не столько отношение Граббе, гнев его был отчасти справедлив, сколько то, что даже не майор, а простой прапорщик Хаджи-Мурад оказался дальновиднее самого генерал-майора Ахмедхана Мехтулинского. Хан собрал своих людей и решил показать, что генерал-майоры тоже кое на что годятся.
С гиканьем и стрельбой конная милиция ринулась на позиции Ахбердилава. Мюриды встретили их дружной стрельбой из-за завалов. Конница отхлынула. Мюриды запели «Ла илагьа илла ллагь», собираясь атаковать лагерь Граббе и овладеть артиллерийскими батареями. Но время было потеряно. К месту событий уже подоспел Лабинцев с шестью ротами кабардинцев, а затем появился и Пулло с семью ротами апшеронцев и куринцев.
Мюриды уже перелезали через завалы, чтобы броситься в атаку, как по ним открыли картечный огонь несколько орудий, подтянутых к месту боя. Горцам пришлось вернуться на свои позиции. Солдаты пошли в штыковую атаку. В Ашильте и ее садах закипел ожесточенный бой.
Граббе бросал в атаку все новые части, но выбить Ахбердилава из Ашильты не удавалось. Наконец, в дело вступили казаки и шамхальская милиция. Сдерживать атакующих было уже невозможно, и Ахбердилав начал отходить к Сагритлохскому мосту, унося раненых и уводя пленных. В погоню была брошена конная милиция. Ей наперерез бросились подоспевшие всадники Сурхая. В яростной рубке мюриды отогнали милицию, позволили Ахбердилаву перейти на другую сторону реки, а затем перешли мост и сами. Когда к месту схватки подоспели всадники Хаджи-Мурада, все уже было кончено. Противники затеяли перестрелку через реку, но это уже не могло ничего изменить.
Оттеснив Ахбердилава за реку, Граббе решил не терять времени даром и не дожидаться, пока он вернется с новыми силами. Командиры сетовали на недостаток сил для решительного штурма. У Граббе же было иное мнение. Штурм! Единственной уступкой, на которую согласился Граббе, стала необходимость усиленной рекогносцировки, чтобы уяснить, существуют ли хоть какие-нибудь подступы к Ахульго. Это было крайне необходимо, потому что, несмотря на все старания и таланты топографа Алексеева, он не способен был указать верную тропу, по которой могло бы совершиться удачное восхождение на гору целого отряда.
Произвести рекогносцировку вызвался приписанный к штабу Кавказского корпуса, а теперь прикомандированный к отряду Граббе штабс-капитан Генерального штаба Морис Шульц.
Он оказался на Кавказе вследствие романтической истории, тайну которой никому не хотел раскрывать. Но это была не безответная любовь, как часто случалось у кавказских офицеров. Дама сердца Шульца была его невестой. На случай, если его убьют, Шульц оставил для нее письмо. Он отдал его Милютину, к которому питал особое доверие как к выпускнику Императорской Академии, которую окончил и сам. У Шульца было тяжелое предчувствие, но сильнее предчувствий было желание по-настоящему отличиться, раз уж судьба занесла его на пылающий Кавказ. Граббе не хотел его пускать в ночное предприятие. Как-никак, у штабс-капитана был всего один глаз, другого он лишился в Польскую кампанию. Но Шульц заверил, что и одним глазом видит больше, чем другие двумя.
В ночь на 20 июня во главе вызвавшихся пойти с ним егерей Шульц начал осторожно спускаться в ущелье, отделявшее позиции Граббе от Старого Ахульго. Затем ему предстояло углубиться в ущелье между обоими исполинами. Задачей Шульца было измерить глубину ущелья, определить крутизну спуска и подъема, а главное – найти пути для фланговой атаки.
Однако смелое предприятие Шульца не осталось незамеченным. Едва все спустились вниз, как из Нового Ахульго по ним был открыт сильный огонь. И первым повалился замертво сам Шульц. Остальные метались по узкому ущелью, не имея возможности укрыться. Потеряв с десяток человек убитыми и едва сумев увести раненых, охотники вернулись обратно.
Их рапорт чрезвычайно расстроил Граббе.
– Печальный результат, – заключил он, дослушав Галафеева, который представил ему результаты рекогносцировки.
– Однако же они сумели кое-что понять, – сказал Галафеев.
– Что же, если не секрет? – мрачно спросил Граббе.
– Необходимо сделать подкоп, заложить мину, а уже после по обрушениям взбираться на уступы.
– Вы еще скажите, что нужно перекинуть на Ахульго мост и явиться к Шамилю парадным строем, – с иронией произнес Граббе.
– Другого выхода нет.
– Выход есть всегда, надо лишь уметь его отыскать, – сухо сказал Граббе.
– Будем стараться, – пообещал Галафеев.
– А Генерального штаба штабс-капитан Шульц? – вдруг вспомнил Граббе.
– Как смели бросить его в этой бездне?
– Убийственный огонь не позволял… – пробовал оправдать охотников Галафеев.
– Достать! – оборвал его Граббе и мрачно добавил, заканчивая аудиенцию: – Мое почтение.
Весь следующий день артиллерия усиленно обстреливала Ахульго, чтобы не дать самим горцам добраться до Шульца.
Штабс-капитан был тяжело ранен в грудь, но еще дышал. Он лежал среди убитых, чувствуя, как с каждой каплей крови из него уходит жизнь. Он видел над собой яркое синее небо, затем его ослепило солнце. Его мучила жажда, угнетала беспомощность. В полузабытьи он думал о своей невесте: помнит ли она его, чувствует ли, в каком плачевном положении оказался ее жених?
Ночью за Шульцем отправился Милютин с несколькими охотниками, бывшими в прежнем деле. Им удалось отыскать едва живого штабс-капитана. Его и несколько убитых они сумели привязать к носилкам и веревками поднять на гору под выстрелами с обоих Ахульго.
То, что он чувствовал на грани жизни и смерти, Шульц рассказал потом Лермонтову. И поэт написал «Сон»:
В полдневный жар в долине Дагестана
С свинцом в груди лежал недвижим я;
Глубокая еще дымилась рана,
По капле кровь точилася моя…
Но тогда, под Ахульго, едва живого Шульца принесли в лазарет, и отрядные эскулапы не ручались, что смогут его спасти. Однако штабс-капитан выжил, и его с первой же оказией отправили в Шуру. В наградном ходатайстве Граббе особо отметил Шульца как офицера, принесшего большую пользу и вполне оправдавшего свое назначение достойным подражания мужеством.
Облегчение, испытанное Граббе после спасения представителя штаба Кавказской армии, оказалось недолгим. Вдруг выяснилось, что горцы во главе с Галбац-Дибиром взяли Чиркату. Остатки рот, занимавших аул, отступили на правый берег Койсу, а сам мост горцы разрушили. Не говоря уже о том, что оставшееся у перевала укрепление Удачное было теперь отрезано от главных сил и его ожидала печальная участь.
Это серьезно нарушило планы Граббе, готовившегося штурмовать Ахульго. Шамиль был почти у него в руках, а помощники имама настойчиво обкладывали самого Граббе. Но генерал старался не терять самообладания. В Шуру было послано экстренное приказание выслать к перевалу отряд, чтобы выручить окруженный гарнизон Удачного. Но это была еще только половина дела. Штурмовать Ахульго, имея в близком тылу деятельных наибов Шамиля с их отчаянными мюридами, было невозможно. И Граббе решил, что сначала следует избавиться от этой угрозы.
Глава 91
Ахбердилав укрепился на правом берегу Койсу, чтобы собраться с силами. Пленных отправили вверх по течению реки, в аул Игали, где стояли конные резервы мюридов.
Пленных было немного. Им связали руки, и они тянулись цепочкой, один за другим, между конными горцами. Аванеса с Лизой конвоировали отдельно, считая их мужем и женой. Лиза, успевшая привыкнуть к горам, но еще не привыкшая к горным дорогам, смертельно устала. Тем не менее она крепко прижимала к себе небольшой саквояж. Лиза опиралась на руку Аванеса, но ноги ее уже не слушались. Увидев, что она не может идти, ее посадили на осла. Этих неприхотливых животных пригнали игалинские мальчишки, прослышав, что горцы везут большую добычу. Большей частью это было трофейное оружие и то, что нашли в фургоне Аванеса. Один из мальчишек, с трудом сдерживая слезы, вел под уздцы коня, на котором его отец ушел на войну, а теперь на нем возвращалось его тело.
Аул Игали был укрыт в красивом ущелье, открывавшемся к Андийскому Койсу, которое звали тут Игалинской рекой. На ее притоке и располагался аул. Здесь стояли добротные дома, и было видно, что игалинцы живут не бедно. Вокруг наливались сады с множеством разных фруктов, а на полях поспевала кукуруза. Игали славился своими храбрецами и учеными. Здесь получал знания и Шамиль, когда был муталимом. Из Игали был и знаменитый ученый Саид, один из столпов Имамата. Это его Шамиль просил принять звание имама после гибели Гамзатбека, но Саид отказался, заявив, что имамом должен стать Шамиль, ибо нет другого человека, способного быть имамом восставших горцев.
Аул встретил прибывших скорбным молчанием мужчин и стенаниями женщин, лишившихся своих близких. Мюриды с трудом сдерживали несчастных, которые готовы были разорвать пленных. Солдат пришлось отправить на ближайший хутор.
Аванеса, несмотря на его сопротивление и угрозы пожаловаться самому Шамилю, посадили в яму и накрыли сверху деревянной решеткой. Яма оказалась глубокой, и из нее, как из колодца, даже днем были видны звезды.
Лизу отвели в дом на окраине аула, где теперь жила семья беженцев из Чиркаты. За всю дорогу Лиза не проронила ни слова. Она будто ослепла от горя, а воображение рисовало ей страшные картины плена, варварского насилия и обращения в наложницу какого-нибудь разбойника. Только оказавшись в доме, где женщины предложили ей воду, чтобы умыться, а затем угостили кислым молоком и кукурузными лепешками, Лиза немного успокоилась.
Горянки поначалу с опаской поглядывали на русскую гостью, а затем принялись с любопытством разглядывать ее наряд. В свою очередь, Лиза рассматривала горянок, их необычную одежду, украшения, яркие живые глаза и весьма красивые лица, которые могли бы украсить и петербургские салоны. Очень скоро они уже понимали друг друга, хотя говорили на разных языках. Горянки знали только «матушка» и «хорошо», которым выучились у беглых солдат, а Лиза невпопад говорила аваркам кумыкские «яхши» и «ёк», но и этого пока оказалось достаточно.
Почти подружившись с пленницей, горянки заглянули и в ее саквояж, который мужчины не тронули из деликатности. Женщины посмеивались, узнавая применение незнакомых вещиц, удивлялись золоченому зеркальцу, примеряли к своим длинным косам гребешок из слоновой кости. Но содержимое футляра, обнаруженного на самом дне саквояжа, повергло их в ужас. Они схватили дуэльные пистолеты и начали что-то сердито говорить, тыча ими в лицо Лизе. Затем забрали футляр, заперли Лизу на замок и побежали рассказывать мужьям, что у русского падишаха скоро кончатся солдаты и он теперь посылает воевать женщин вот с такими пистолетами.
Аванес томился в яме, но не отчаивался. Он знал, что если сразу не убили, значит оставалась надежда на спасение. Обмен или выкуп. На первое он не рассчитывал, помня, сколько людей должны были ему деньги и не торопились отдавать. Второе представлялось ему более возможным, верная Каринэ ничего не пожалеет, чтобы спасти драгоценного супруга. Но до разорительного выкупа следовало испробовать и другие способы, учитывая, что Аванеса и так лишили имущества, которое он вез и копил с риском для жизни, под пулями и ядрами.
Вечером Аванесу спустили несколько хинкалов и кувшин воды. Аванес подкрепился и, собравшись с духом, заорал:
– Будь я проклят, что помогал мюридам! Вот она, их благодарность!
Это не произвело никакого действия. Но Аванес решил не сдаваться.
– Да покарает меня ваш Аллах за то, что укрывал ваших лазутчиков!
В ответ он услышал только призыв муэдзина на вечернюю молитву. Аванес понял, что теперь кричать бессмысленно и даже опасно. Ожидая, пока молитва закончится, он перебирал в памяти все свои операции с горцами, запрещенные царским начальством.
– Зачем мне не отрубили голову, когда я продавал офицерам андийские бурки? – взывал Аванес.
– Почему у меня не отсохли руки, когда я доставал мюридам железо для оружия и свинец для пуль? Русские сажают в яму за долги, а меня посадили за то, что вы все мне обязаны!
Но про Аванеса будто забыли. Никто не заглядывал в его яму, кроме луны.
– Да отсыреет тот порох, которым я снабжал мюридов Шамиля!
Горцы хоть и не отзывались на вопли Аванеса, но слушали его внимательно. Однако никто не мог понять, чего требует этот армянин, пока не нашелся буртунаец, хорошо понимавший по-русски.
Он с интересом выслушал длинный список претензий маркитанта, из которого следовало, что горцы давно бы остались без оружия, пороха и всего прочего, если бы не добрая воля Аванеса, всегда бывшего в душе сторонником Шамиля.
– А помнишь, как ты продал мне красную кизлярскую водку под видом лекарства от простуды? – напомнил Аванесу буртунаец.
– Водку? – деланно изумился Аванес, обрадовавшись, что на него, наконец, обратили внимание.
– Мусульманину?
– Я тогда сильно промок под дождем. Два дня сидел в засаде, поджидал шуринского начальника, – объяснял людям буртунаец.
– А появился этот армянин. Я его не тронул, потому что он обещал мне лекарства. Говорил, что я умру, если его не выпью.
– А разве не помогло? – спросил снизу Аванес.
– Мне всегда помогает.
– Простуда, конечно, прошла, – признался буртунаец.
– Только потом пришлось грех смывать.
– Было бы тебе легче, если бы умер? – недоумевал Аванес.
– Лучше бы умер, – ответил буртунаец.
– А какой я тебе порох достал? – напомнил Аванес.
– Английский! Нет то что ваш, самодельный!
– Что за порох? – заинтересовались горцы.
– Есть у тебя еще?
– Давно кончился, – развел руками буртунаец.
– Сильный порох был.
– У меня есть! – кричал Аванес.
– Да вы Джамала спросите, Чиркеевского, сколько я ему чего доставал!
Джамал был у горцев человеком уважаемым. Они начали совещаться, решая, как быть с пленником, оказавшим горцам столько услуг.
– Так ты знаешь Джамала? – не верил буртунаец.
– Как не знать? – кричал Аванес.
– Кунак мой!
– Надо его выпустить, – предложил аксакал.
– Джамал и мой кунак тоже.
– Погоди, – не соглашались другие.
– Может, врет он все?
– За шкуру свою дрожит.
– Спроси-ка его, откуда у него в повозке было столько нашего оружия?
Буртунаец спросил, и Аванес, не моргнув глазом, ответил:
– Как это откуда? У солдат скупал после боев, чтобы гяурам не досталось!
– А пистолеты у твоей жены откуда?
– Пистолеты? – растерялся Аванес, не знавший ни про какие пистолеты ни у Каринэ, ни у Лизы, которую объявил теперь своей женой.
– Думаешь, мы не знаем? – говорил буртунаец.
– У твоей жены нашли в тайной коробке. Сразу две штуки.
По паре в коробке могли быть только дуэльные пистолеты, о которых как-то обмолвился Аркадий, навещавший Лизу. Сообразив, о чем идет речь, Аванес ответил:
– Это не пистолеты! Это подарок Шамилю!
Последнее заявление произвело на горцев должное впечатление. Они еще немного поспорили, но все же решили достать Аванеса из ямы.
– Поживет пока у меня, – сказал аксакал, кунак Джамала.
– Хорошо, – согласились остальные, с уважением поглядывая на Аванеса.
– Пусть наиб сам решает, что с ним делать.
– А где моя жена? – строго спросил Аванес.
– Разве мюриды воют с женщинами?
– Ее тоже пусть приведут ко мне, – велел аксакал.
– А если этот человек нас обманул, я сам снесу ему голову.
Аксакал пожал Аванесу руку и повел гостя к себе в дом. Его поселили в просторной и хорошо убранной кунацкой. А через некоторое время привели и Лизу, которая все еще не верила в свое спасение и со слезами бросилась на грудь к Аванесу.
– Боже мой, как я перепугалась! – повторяла Лиза, утирая слезы.
– Аванеса везде уважают, – успокаивал Лизу маркитант.
– Война кончается, потому что никому не нужна, а торговля нужна всегда. Даже этим разбойникам.
Открылась дверь, и жена аксакала внесла в кунацкую небольшой столик, на котором стояли изысканные по горским понятиям блюда: масло, сыр, мед, урбеч, орехи, золотистый вареный курдюк, чесночная подлива и горячий хлеб. Тут же были сохранившиеся с прошлого урожая яблоки, груши и хурма. Затем внучка аксакала внесла и дымящийся самовар.
– Батюшки! – всплеснула руками Лиза.
– Самовар! Родной!
– У меня брали, – гордо сообщил Аванес.
– Русский товар хорошо в горах идет.
Хозяин деликатно закрыл за собой дверь и оставил гостей одних. Лизу следовало отправить на женскую половину дома, но после тревожной разлуки можно было оставить мужа с женой и наедине, хотя бы пока поужинают.
Глава 92
Привычка Граббе выступать в темноте приучила отряд не спать, а лишь дремать, по крайней мере до полуночи. Так оно случилось и на этот раз, когда Граббе выступил против Ахбердилава. Командующий твердо решил расквитаться с наибом за дерзкое нападение на отряд и покончить с его постоянными угрозами. К тому же лазутчики сообщали о том, что Ахбердилав и Сурхай опять перешли Сагритлохский мост и что-то замышляют Галафееву, которого Граббе оставил командовать вместо себя под Ахульго, он строго наказывал:
– Глядите в оба, генерал! Как бы тут чего не вышло.
– Не извольте беспокоиться, – заверил его Галафеев.
– Пусть только посмеют высунуться.
– И не жалейте снарядов, – посоветовал Граббе.
– Только их они и боятся.
– Снаряды на исходе, – сообщил Галафеев.
– Не лучше ли их поберечь для главного дела?
– Скоро новые будут, уже везут, – успокоил Граббе.
– А этот Ахбердилав, если пронюхает, и обоз может взять.
– Такой долго думать не станет, – согласился Галафеев.
– Если даже на лагерь посмел напасть.
– К тому же, пока переправы будут в руках у горцев, наибы смогут подкреплять Шамиля беспрепятственно, – размышлял Граббе.
– Это недопустимо!
– Так точно, – поддержал начальника Галафеев.
– Пора уже избавиться от этих беспокойных соседей.
– Радикально, – заключил Граббе.
На операцию были назначены четыре батальона, казаки, милиция и несколько орудий. В целом получилось больше полка, тогда как горцев было раз в пять меньше. Предыдущий маневр Ахбердилава подсказал Граббе новую тактику. Провинившуюся милицию он послал вперед, через гору, чтобы отвлечь внимание противника от остальных войск, приближавшихся по нижней дороге.
Лишившись своей значительной части, отряд, окружавший Ахульго, нуждался в перераспределении сил. Галафеев видел, что войск для надежной блокады недостаточно. Но чутье подсказывало ему, что Шамиль не останется безучастным наблюдателем и непременно сделает ответный ход. Тогда на свой страх и риск Галафеев перевел две роты апшеронцев на брешь-батарею, стоявшую напротив Старого Ахульго.
К утру, когда батальоны Граббе приближались к Сагритлохскому мосту, там уже кипело сражение.
Увидев спускающихся с гор милиционеров Ахмед-хана, мюриды бросились на них в атаку. Милиционеры, возглавляемые в этом бою ханом, дрогнули. Мюриды наседали, тесня милицию и казаков и стремясь добраться до самого Ахмед-хана. Вслед за всадниками на противника бросилось и ополчение. Казалось, победа была близка, как вдруг с нижней дороги появились батальоны пехоты, которые надвигались с барабанным боем и штыками наперевес. А через их головы по горцам били картечью и гранатами единороги.
Внезапное появление значительных сил заставило горцев отступить. Толчея на мосту была удобной мишенью для пушек, и горцы понесли потери. Тем не менее Ахбердилаву удалось удержать переправу, а в Игали было отправлено немало пленных.
Раздосадованный своими потерями Граббе укрепился на правом берегу и не решился преследовать горцев.
Понимая, что снова атаковать уже не имело смысла, Ахбердилав решил распустить заметно поредевшее ополчение по домам. Он дал людям время на полевые работы, чтобы затем снова развернуть партизанскую войну в тылах Граббе. Сурхай оставил одну сотню своей кавалерии у моста, а другую отправил прикрывать Игали.
Предчувствие не обмануло Галафеева. Воспользовавшись ослаблением отряда Граббе, защитники Ахульго предприняли вылазку.
Брешь-батарея, дальше других выдвинутая к Старому Ахульго, била не переставая. Она же обстреливала и Новое Ахульго, нанося фланговым защитным сооружениям горцев заметный урон. Эту-то ненавистную батарею и решил уничтожить Шамиль. А заодно и осадные работы, которыми Граббе упрямо подбирался к Новому Ахульго. Особенно раздражали горцев мантелеты – большие длинные корзины, обтянутые рукавами из воловьих шкур, которые саперы набивали фашинами – вязанками хвороста и пучками виноградных лоз. Для нарезки лоз и рубки хвороста у саперов имелись особые фашинные ножи. Это были широкие изогнутые тесаки с зубцами на обухе, как у пилы. Мантелеты же напоминали горцам каменные катки, которыми утрамбовывали плоские крыши после дождя. Пули их не пробивали, и саперы перекатывали мантелеты перед собой, чтобы под их защитой вести траншеи и подкопы к Ахульго.
Если Граббе считал своим тактическим нововведением скрытные ночные выступления из лагеря, то Шамиль ввел в практику ночные бои. На этот раз он собрался сам возглавить вылазку, но помощники отговорили имама, пообещав, что справятся с этой задачей и сами. На вылазку отправились отряд андийцев и сотня мюридов из Старого Ахульго. Они бесшумно спустились в ущелье речки Ашильтинки, а затем двумя отрядами начали взбираться к передовым постам.
Как ни старались секреты предупредить атаку, но появление горцев все равно оказалось неожиданным.
Один отряд открыл огонь из ружей, а второй с боевым кличем бросился в шашки. Клинки сошлись со штыками, рассыпая вокруг сполохи искр. Смяв передовые посты, горцы сбросили мантелет в пропасть, а щиты, прикрывавшие проходы сверху, закидали горящими головнями из костра. Мюриды ринулись на батарею. Но там уже знали о приближении горцев и открыли огонь. А затем пошла в контратаку пехота, оставленная Галафеевым в засаде.
Горцам пришлось отступить. Они потеряли несколько человек убитыми и ранеными, но и сами увели в плен пятерых солдат и одного офицера.
Когда нападавшие скрылись в ущелье, апшеронцы прекратили преследование, посылая лишь выстрелы вслед горцам, в темноту. Но батарея продолжала палить, надеясь достать горцев, когда они будут подниматься на Ахульго.
Галафеев требовал стрелять чаще, но на батарее случилось нечто странное. Жерло одного из орудий оказалось забито мелкими камнями, которых вокруг было множество, а зарядный ящик залит водой, от которой испортился порох.
– Ишь, дьяволы! – ругался фельдфебель.
– И когда только успели?
– Ефимка! – кричал канонир.
– Не видал, чья работа?
Но Ефимка сидел, вжавшись в дальний угол батареи, зажмурив глаза и закрыв уши руками. Он думал только о том, что ядра летят на Ахульго, а там живет та девочка, которую он видел у реки.
– То-то! – погладил его по вихрам фельдфебель.
– От такой жарни, случалось, и бывалые канониры ума лишались.
Извещенный о случившемся, Граббе поспешил вернуться к Ахульго. Пока Галафеев с Пулло браво докладывали о том, как ловко им удалось устроить засаду, Граббе все более мрачнел.
– Однако же они успели разрушить наши осадные работы, – негодовал командующий.
– Зато получили по зубам и в другой раз не сунутся, – парировал Галафеев.
– А мне сдается, что они вырвали зубы у нас, – сказал Граббе, – коими мы вот-вот могли впиться в перешеек, ведущий к Ахульго.
– Дозорные все глаза проглядели, а эти как из-под земли выскочили, – оправдывался Пулло.
– А сапу мы восстановим, – пообещал Галафеев.
– Опять задержка! – махнул рукой Граббе.
– Так мы тут до зимы просидим.
– Они и месяца не выдержат, – уверял Пулло.
– Нам бы только Сурхаеву башню взять, уж очень мешает, – говорил Галафеев.
– На четыре версты окружение растягивает. Никаких войск не напасешься!
– Взять! – сердито произнес Граббе.
– А то Ахульго – вот оно, но видит око, да зуб неймет.
Позвали топографа и Милютина. Алексеев раскинул на столе карту. Граббе склонился над детальным изображением местности и ткнул пальцем в башню.
– Мимо нее к Новому Ахульго не пройти.
– Да и к самой башне подобраться трудно, – прикидывал по карте Галафеев.
– Трудно? – вскинул брови Граббе.
– На войне всегда трудно. Особенно тем, кто воевать не умеет.
– И укрыться негде, – продолжал Галафеев, не обращая внимания на плохо скрытый упрек.
– И не надобно, – покачал головой Граббе.
– А надобно атаковать и взять ее во что бы то ни стало!
– Неужели и подступиться нельзя? – спросил Пулло топографа.
– С трех обращенных к нам сторон только скалы и никаких пологостей, ваше превосходительство, – отвечал Алексеев, показывая на карте.
– Сами изволите видеть, крутизна почти что отвесная.
– Ну а вы как полагаете? – обратился Граббе к Милютину.
– Хребет у нее крепкий, ваше превосходительство, – сказал Милютин.
– Как-с? – недовольно процедил Граббе.
– Я в том смысле, ваше превосходительство, что Новое Ахульго – это вроде как бык, – водил пальцем по карте Милютин.
– А Сурхаева башня – голова его, с рогами и глазами. А посередине – перешеек, хребет.
– Что мы тут ни делай, им с башни все видно, – вставил Пулло.
– И бьют они метко, – добавил Галафеев.
– Отсечь бы голову, а с остальным легче будет, – тяжело вздыхал Граббе.
– Отсечем, – уверял Галафеев.
– И каким же способом? – обернулся к нему Граббе.
– Самым обыкновенным, тут другого не придумаешь, – сказал Галафеев.
– Пробить пушками бреши в башне, а там и в штыковую.
– Это вы славно придумали, – сурово улыбнулся Граббе.
– А солдаты к этой самой бреши тоже из пушки полетят? На манер ядра? Или крылья у них вырастут?
– Кручи нам не страшны, – ответил Галафеев.
– Наш солдат куда угодно влезет без всяких крыльев, – поддержал его Пулло.
– Было бы за что зацепиться, хоть штыком, хоть ногтем.
– Однако, ваше превосходительство, военная наука не припомнит случая… – попробовал возразить Милютин против генеральского апломба.
– Вздор! – оборвал его Граббе.
– По вашей науке мы давно должны были снять осаду и вернуться не солоно хлебавши.
– Тогда пиши пропало, – сказал Галафеев.
– Однако успех, несоразмерный с жертвами, не всегда оправдан, – храбро возражал Милютин.
– Не вашего ума дело, – снова осадил его Граббе.
– Или вы допускаете, что жертвы, принесенные нами доселе, останутся напрасными? Нет, любезный вы мой теоретик, не допущу! Теория берется из практики, а практика будет такова, что я возьму эту башню и Ахульго возьму! И никто нас не спросит, каковы были жертвы. Нас спросят, где результат? Где Шамиль? И войска тут не на параде, а на войне. А была ли в истории война без жертв? И запомнила ли история полководца, спасовавшего перед противником, дабы сохранить войска?
– Прошу прощения, ваше превосходительство, но боюсь, что я не совсем точно высказал свою мысль, – оправдывался смущенный Милютин.
– Я только хотел сказать, что перед таким штурмом необходима основательная подготовка.
– Спасибо за науку, – усмехнулся Граббе.
– Только лучше поучитесь сами, как серьезные дела делаются. Тут не армия на армию, поручик, тут уже воля на волю.
Граббе приказал готовиться к штурму. А тем временем возможно ближе продвинуть батареи к Сурхаевой башне, чтобы орудия показали свою настоящую силу.
В штабную палатку явился встревоженный Васильчиков со вскрытыми пакетами.
– Ваше превосходительство, – докладывал впопыхах адъютант.
– Позвольте…
– Оставьте церемонии, – прервал его Граббе, протягивая руку за пакетами.
– Что там?
– Одно из Тифлиса, особой важности…
Васильчиков собирался изложить все по порядку, но Граббе поднял руку, жестом приказав адъютанту замолчать. Командующий вчитывался в депеши и менялся в лице. Первое сообщение его не обрадовало. Из штаба Кавказского корпуса сообщалось об отправке к Ахульго войск, освободившихся после компании против Ага-бека на Самуре. Выходило, что победа была не столь внушительной, если Головин слал ему всего три батальона пехоты, хотя и с орудиями, вместо шести, на которых настаивал Граббе.
Второе послание было еще менее приятным. Сообщалось, что укрепление Удачное было атаковано и обложено отрядами Ташава-хаджи и Муртазали. Гарнизон держал оборону несколько дней, пока, наконец, его не выручили подошедшие из Внезапной линейный батальон и шамхальская милиция. Что, оставив после себя разрушенную крепость и имея по пути лишь слабую перестрелку с неприятельскими шайками, гарнизон под командой майора Тарасевича ушел через Миатлинскую переправу в Шуру, где и ожидает подвоза боеприпасов, провианта и медикаментов из Петровска, чтобы затем выступить к Ахульго короткой дорогой, через Зирани.
Галафеев счел, что все складывается как нельзя лучше, но Граббе подозревал, что с оставлением укрепления не все так благополучно, как представлялось в рапорте Тарасевича. Так оно потом и оказалось.
При отступлении Тарасевича преследовали горцы, и отряд понес ощутимые потери. Тарасевич вынужден был оставить громоздкий вагенбург и сбросить в пропасть пришедшее в негодность орудие. А в занятом ими укреплении горцы захватили много провианта, пороха и пуль.
Осадные работы развернулись с новой силой. Разрушенное горцами было восстановлено. Прокладывались крытые пути сообщения. К Сурхаевой башне продвигались новые батареи.
Подошли, наконец, и два транспорта, дожидавшиеся неподалеку, пока будет проложена дорога. Военные и продовольственные запасы прибыли из Шуры и Хунзаха под охраной батальона апшеронцев. Граббе сделал командиру батальона выговор за медлительность, так как посылал к нему несколько вестовых, но тот оправдывался, что никаких приказаний не получал, а потому и выжидал. Вестовые горцы-милиционеры, как потом выяснилось, перешли к Шамилю.
С транспортом привезли два легких орудия и четыре мортиры для навесного огня. Граббе считал, что этого далеко не достаточно, и снова писал Головину о нехватке сил. Однако блокирующие войска мало-помалу продвигались вперед, охватывая, по мере возможности, Сурхаеву башню, которая грозила свести на нет все усилия Граббе. Подкопаться к этой скальной твердыне не было никакой возможности, оставалось штурмовать, хотя со стороны это и выглядело безумием.
По крайней мере, пока генералу никто не угрожал с тыла, ему ничто не мешало испытать судьбу.
– Ампутация! – снова вспомнил Граббе понравившийся ему медицинский термин.
– Что не лечится, то удаляется.
Глава 93
Али-бек Хунзахский, командовавший гарнизоном Сурхаевой башни, внимательно наблюдал за тем, что происходило вокруг. Осадные работы велись, как правило, ночью, а к утру оказывалось, что Граббе еще приблизил к скале свой авангард. Мантелеты делали свое дело, защищая саперов, которые без устали вгрызались в скалы, подходя все ближе и ближе. То, что не брала кирка или лопата, взрывалось минами.
И настало утро, когда вместо саперов Али-бек увидел вокруг скалы несколько новых батарей и изготовившиеся к штурму батальоны.
Гарнизон Сурхаевой башни был невелик, невелика была и крепость, которую мюриды занимали, но значение Сурхаевой башни для Ахульго было неоценимо. Размеренные обстрелы, к которым защитники башни давно привыкли, вдруг сменились мощными залпами десятка орудий. Скала задрожала от ударов ядер, но ей они были не страшны. Зато от крепости стали отваливаться обломки. Другие батареи сосредоточили огонь на Новом Ахульго и особенно на перешейке, связывавшем его с Сурхаевой башней, чтобы помешать Шамилю послать туда подмогу. Артиллерийская подготовка продолжалась несколько часов. Башня отвечала редкими выстрелами из фальконета, который Магомед пристроил в нижнем ярусе крепости. Ядер у него было немного, как немного было и пользы от его пушки. Магомед научился из нее стрелять, но еще не умел точно наводить на цель. Он хотел поразить батарею, которая крошила скалу, а ядра летели мимо. И все же это была артиллерия, с которой противнику приходилось считаться.
Пушкам удалось пробить в защитной стене небольшую брешь. Но с этой стороны была отвесная скала, и добраться до бреши снизу не было никакой возможности. Сурхай даже не стал ее заделывать, оставив это на ночь. Вместо этого он решил еще раз проверить, все ли готово к отражению атаки, которая неминуемо должна была теперь последовать.
Люди были на местах, за бойницами. У каждого было по два ружья, на случай если начнут плавиться дула. Пороха и пуль тоже хватало. Груды камней громоздились над опасными участками, откуда можно было предположить атаки.
Али-бек с тревогой оглядывал батальоны неприятеля. Выходило, что на каждого защитника башни приходилась почти по взводу солдат, не считая артиллерии.
– Наши люди не дрогнут, – сказал Малачи, заметив беспокойство Али-бека.
– Знаю, – ответил Али-бек.
– Но мне жалко людей, которые сегодня погибнут.
– Не беспокойся о нас, – улыбнулся Малачи.
– Не каждому удается так умереть.
– Мы-то одной ногой уже в раю, – кивнул Али-бек.
– А я говорю о солдатах. На такую скалу не каждый горец рискнет полезть, а эти готовы пойти на верную смерть.
– Их так много, что захочешь – не промахнешься, – говорил Малачи.
– Только мы их сюда не звали.
– Все-таки люди, – печалился Али-бек.
– Не в поле же они выросли. Есть и у них, наверное, семьи.
– Их никто не спрашивал, – сказал Малачи.
– Мне один перебежчик рассказывал. У них там свои ханы, помещиками называются. Царь им земли дает и разрешает делать с людьми что захотят, а они ему солдат дают.
Пушки неожиданно замолчали. Но тишина была недолгой. Дружно забили барабаны, и зазвучал горн, призывая батальоны в наступление: «Та-та-та-та!».
– Шамиль предлагал генералу мир, – сказал Али-бек.
– А если хочет воевать – пусть покажет, что умеет.
– Мы тоже покажем, – ответил Малачи, прицеливаясь из ружья.
Он выстрелил, и далеко внизу упал раненный горнист. Батальоны, нарушив строй, ринулись к подножью скалы с громогласным «Ура!». В ответ горцы запели священную песню и открыли ружейный огонь.
Штурм началась там, где была надежда хоть за что-то уцепиться. Солдаты гурьбой лезли по крутому склону, опираясь на ружья и подсаживая друг друга. Из-за высоты и неровностей скал мюриды порой теряли солдат из виду. Тогда они скатывали вниз камни и бревна, которые сами находили своих жертв, выбивая целые ряды. Солдаты падали вниз, увлекая за собой своих товарищей. Их места занимали другие и с безрассудной отвагой продолжали лезть вверх. Временами артиллерия снова открывала огонь, надеясь облегчить егерям штурм. Но вместо этого осколки и сами ядра скатывались на штурмующих, внося опустошение в их ряды.
Батальоны взбирались с трех направлений, и с каждой стороны приходилось отбиваться по-разному. Горцам помогало то, что крепость имела несколько ярусов и ответвлений, это позволяло вести перекрестный огонь. Но солдат становилось все больше, и защитники едва успевали заряжать ружья. Когда пули уже не могли сдерживать надвигающуюся массу, в дело снова шли камни и бревна.
Тогда к обычным орудиям присоединились мортиры, забрасывая снаряды через стены крепости. Когда они взрывались, казалось, что само небо лопается над Сурхаевой башней. Эти бомбы наносили горцам большой урон, и находились смельчаки, которым удавалось выбросить смертоносные послания за стены.
Все вокруг было в дыму и пыли, но Али-бек знал крепость так, что мог бы обойти ее с закрытыми глазами. Он перебегал с одной позиции на другую, подбадривая друзей и направляя подкрепления на угрожаемые участки. Малачи взял на себя внешнюю оборону, надежно перекрыв все подступы к крепости. Несмотря на множество раненых и немало убитых, горцы твердо удерживали позиции.
От бомбежки скала тряслась, будто желая стряхнуть с себя штурмующих, как медведь – гончих. Но егеря преодолевали уступ за уступом, пока не оказались перед огромной каменной глыбой, служившей основанием крепости. Ни разбить ее артиллерией, ни взбираться по этой природной стене не было никакой возможности. Зато для горцев остановившиеся егеря были близкой мишенью. И в них снова полетели пули, а сверху посыпались камни. Солдатам оставалось лишь отстреливаться, прикрываясь убитыми товарищами.
Али-бек руководил битвой с главной башни, когда ему в плечо угодило ядро. Наиб упал. Мюриды подхватили окровавленного командира, сочтя его погибшим. Но Али-бек скоро пришел в себя и поднялся. Он еще не осознавал, что с ним произошло. Только увидев свою шашку, лежащую у ног, Али-бек понял, что случилось непоправимое.
– Тебе перебило руку, – сказал мюрид, все еще поддерживая наиба.
Али-бек отстранил от себя мюрида, хотел поднять шашку и только теперь обнаружил, что его правая рука висит на одних сухожилиях. Тогда он схватил шашку левой рукой и крикнул мюридам, показывая на изуродованную руку:
– Отрубите-ка это!
Мюриды не решились отсечь руку наибу. Но тот не намерен был терять время. Он наступил на висящую руку ногой и сам отрубил ее шашкой. Наскоро замотав рану, Али-бек бросился вниз, туда, где у пролома стены отбивались от наседавших солдат его бойцы. Он уже не мог стрелять, но драться шашкой был еще в состоянии. Его снова ранило, уже пулей. Но он устоял. Видя мужество наиба, горцы обрели новые силы и отбросили егерей.
– Мы отведем тебя на Ахульго! – кричал Малачи.
– Нет! – кричал в ответ Али-бек, из последних сил продолжая работать шашкой.
– Уведите его! – приказал Малачи.
– Деритесь! – требовал Али-бек.
– Деритесь, братья!
Увлеченные сражением, мюриды не заметили, как наиба ранило снова, как он упал у стены и выронил шашку.
Али-бека положили на бурку, чтобы укрыть в крепости, а затем доставить на Ахульго. Но Али-бек нашел в себе силы, чтобы сказать:
– Не дайте им захватить башню. Если понадобится, сбросьте на них даже меня.
– Все будет хорошо, – обещал Малачи, понимая, что теряет друга.
– Сегодня они нас не возьмут, – сказал Али-бек.
– Ночью заделайте пробоины и сберегите пушку Магомеда. Она досталась ему нелегко.
Али-бек закрыл глаза, и жизнь его оборвалась.
Штурм продолжался. Но смельчаки, поднимавшиеся по другому склону, тоже оказались перед трудной преградой. Огромный каменный выступ нависал прямо над ними, укрывая от пуль, но и не пуская наверх.
Горцы знали, что под выступом собрались солдаты, и ждали, когда кто-нибудь рискнет на него влезть. Храбрецы находились, но платили за свою дерзость жизнью.
Наконец, артиллерии удалось сокрушить этот выступ точными попаданиями. На солдат обрушился камнепад из осколков, но уцелевшие бросились вперед, надеясь ворваться в башню. Навстречу им из туч пыли и дыма поднялись мюриды, черные от пороха, окровавленные, но крепко державшие в руках шашки. Они кричали, как загнанные звери, и бились столь яростно, что преодолеть их сопротивление так и не удалось.
Рота за ротой пыталась пробиться в башню, но мюриды оказались стеной покрепче той, что разбили пушки. Атака была опрокинута, а склоны усеяло множество тел, среди которых были и тела горцев.
Первыми Сурхаеву башню атаковали батальоны Куринского полка. Когда Пулло потерпел неудачу, Попов по другому скату повел за собой апшеронцев. Затем настал черед Лабинцева, который бросил на приступ батальоны Кабардинского полка. Атаки возобновлялись несколько раз, но все было тщетно. Сурхаева башня осталась непокоренной.
Понеся значительные потери, Граббе вынужден был отдать приказ оставить облитые кровью утесы.
Вечером сквозь непрекращавшийся обстрел на Ахульго сумел пробраться мюрид Али-бека, чтобы доложить имаму, что произошло у Сурхаевой башни. Но прежде он отыскал мать Али-бека и с надлежащим почтением передал ей завернутую в башлык руку ее сына.
Женщина была больна и лежала в постели. Она будто уже знала, что случилось. Новости приходили каждый час, потому что люди на Ахульго внимательно следили за происходящим и даже пытались подать Али-беку помощь, но плотный огонь из пушек и ружей не позволил им миновать перешеек. Тогда они открыли огонь по наступавшим, стремясь нанести им хоть какой-нибудь урон. Многие считали, что на Сурхаевой башне все погибли. Казалось, что выжить в таком аду невозможно.
– Он погиб не сразу? – спросила женщина, когда увидела печального мюрида.
– Да, мать, – опустил голову мюрид, а затем положил перед женщиной окровавленный сверток.
– Разверни сам, – упавшим голосом попросила женщина.
Увидев руку сына, женщина привстала и воскликнула, превозмогая горе:
– Хвала Аллаху, который предопределил сыну моему погибнуть в бою с неверными, а не умереть в постели, как трусу!
– Хвала Аллаху, дарующему нам таких матерей, – сказал мюрид.
– Да ниспошлет всевышний долгую жизнь оставшимся в вашей семье.
Затем он передал сыну Али-бека Магомеду кинжал и шашку его отца, на мгновение прижал мальчишку к себе и ушел.
Жена Али-бека в ужасе закрыла глаза руками и уже не сдерживала слез. Вслед за ней заплакала ее дочь Ханзадай.
– Замолчите! – велела им мать Али-бека, которая сама едва сдерживала навернувшиеся слезы. Но затем не выдержала и произнесла дрожащим голосом: – Нет, плачьте, дети мои… Ушел мой львенок, ушло наше счастье…
Когда мюрид поднялся на поверхность горы, его окликнул Юнус:
– Тебя ждет имам. Поспеши.
В резиденции у Шамиля собрались командовавший на Старом Ахульго Омар-хаджи, комендант Нового Ахульго Балал Магомед и Сурхай.
– Истинно, мы все от Аллаха и к нему возвращаемся, – сказал Шамиль, узнав о гибели своего отважного наиба и многих других защитников башни.
Наибы приняли скорбную весть сдержанно, как того требовала война. Но в душах их поселилась скорбь. Они уважали и любили Али-бека, и потеря его стала для них большим горем.
– Они дорого отдали свои жизни, – говорил мюрид.
– Теперь каждый будет драться за двоих.
– Кто сейчас командует? – спросил Сурхай.
– Малачи Ашильтинский.
– Расскажи, как все было, – велел мюриду Шамиль.
Все внимательно слушали, задавали вопросы, а Амирхан записывал все, что рассказал мюрид. Сурхаю было особенно горько слышать, что пушки сделали с крепостью, которую он создавал с такой любовью. Он знал, что крепость могла бы держаться долго, если бы ее было кому защищать. Но еще один такой штурм мог оставить ее без гарнизона. Кроме того, башня была теперь отрезана от воды, и мюриды изнемогали не только от ран, но и от жажды.
– Я пойду с тобой, – сказал Сурхай мюриду.
– Приведу вам подмогу.
– Нет, не надо. Один пройдет – десять погибнут. Я сам чудом пробрался, – сказал мюрид и снял папаху. На его бритой голове был след от зацепившей его пули – рваная рана с запекшейся кровью.
– Отведи его к Абдул-Азизу, – велел Шамиль Султанбеку.
– Он знает, что делать.
– Пройдет, – отказывался мюрид.
– Мне обратно надо.
– Лекарь тебе поможет, – настоял Шамиль.
– А если он тебя не отпустит, мы пошлем другого.
Когда Султанбек увел мюрида, Шамиль окинул взглядом своих товарищей и сказал:
– Вот что случается, когда в народе нет порядка. Один не выполнил приказ, другой опоздал, третий вовсе не явился, когда его призывали. Храбрецы отдавали свои жизни, а колеблющиеся выжидали. Мы думали, что разобьем Граббе по пути сюда, а теперь он стоит под Ахульго. Что же нам делать?
– Держаться, – сказал Балал Магомед.
– Будем биться до последней возможности, – заверил Сурхай.
– Если они такими силами не смогли взять башню, то что они смогут против Ахульго? – сказал Омар-хаджи.
– Эти горы легче снести, чем взять, – добавил Балал Магомед.
– Мы тоже не будем сидеть сложа руки, – сказал Шамиль.
– Днем хозяйничают их пушки, а ночью поработают наши кинжалы. Наши наибы не дадут покоя ни Граббе, ни обозам, которые к нему идут.
– Проявим твердость, тогда люди снова поднимутся и придут нам на помощь, – с надеждой говорил Сурхай.
– Потерпим с помощью Аллаха, – сказал Шамиль.
– Всевышний не возлагает на плечи людей больше, чем они могут вынести. Если выдержим до осени, генерал сам уйдет – от голода и холода.
– Если еще что-нибудь останется от его войска, – добавил Сурхай.
В тот же день голубь принес вести от Ага-бека. Он сделал, что мог, борясь с войсками Головина. Они и теперь, когда восстание пошло на убыль, вынуждены били оставаться на юге Дагестана, опасаясь новых выступлений горцев. И Головин смог отправить Граббе лишь три батальона.
Ночью Шамиль послал небольшой отряд на вылазку в надежде опрокинуть батарею, стоявшую напротив Сурхаевой башни. Вылазка не удалась. Все подходы были перекрыты двойными кордонами, а в отряде Граббе не спали, деятельно готовясь к новому штурму.
Не спали и люди на Ахульго. Женщины обходили семьи, потерявшие своих сыновей и мужей. А дети растерянно смотрели на Сурхаеву башню. На вершине ее мерцал слабый огонек, а вокруг яркими звездами горели костры отряда Граббе.
Глава 94
Результаты штурма привели Граббе в гневное недоумение. Неустрашимость войск была налицо, не хватало лишь везения, какого-нибудь особенного поворота дела, чтобы предприятие закончилось успехом.
В штабе царило уныние. Милютин с Васильчиковым подсчитывали потери.
– Более трехсот, ваше превосходительство, – осторожно назвал цифру Милютин.
– По собранным пока сведениям.
– Не может быть, – ответил Граббе, не глядя на Милютина.
– Вы, верно, ошиблись, поручик.
– Убиты майор Власов, командир Моздокского казачьего полка, и штабс-капитан Генуш, – усугубил потери Пулло.
– Ранения большей частью легкие, – продолжал докладывать Милютин.
– Контузии от камней.
– К следующему разу пусть наделают щитов, – приказал Граббе.
– И подобьют чем-нибудь снизу, войлоком, что ли.
– Будет сделано, ваше превосходительство, – сказал Пулло.
– А еще бы хорошо сапоги чем-то подбить.
– Сапоги? – переспросил Граббе.
– Изволите ли видеть, ваше превосходительство, склоны усыпаны мелкой каменной крошкой, которая скользит, точно лед.
– Озаботьтесь, – согласился Граббе.
– И лестницы могут пригодиться, – добавил Пулло.
– Делайте все, что сочтете полезным, – кивнул Граббе.
– И не бросать войска массами, – добавил Милютин.
– То есть как-с? – удивился Граббе.
– Тогда и потерь меньше будет.
– Это дело, – согласился Пулло.
– А когда гуртом прут, что ни кинь сверху – то и жертва.
– Я об этом подумаю, – слегка кивнул Граббе.
– Однако же такие ужасные потери!
– У них тоже немало выбыло, ваше превосходительство, – пытался смягчить статистику Милютин.
– Лазутчики сообщают, на Сурхаевой башне гарнизон сократился чуть не вполовину. А главное – убит ядром ближайший сподвижник Шамиля Али-бек Хунзахский.
– Так они теперь без предводителя? – оживился Граббе.
– Это делу не поможет, – махнул рукой Пулло.
– Шамиль-то пока цел.
– Пока, – глубокомысленно повторил Граббе, а затем вернулся к неудачному штурму.
– Первый опыт показал, что натиск открытою силой не всегда целесообразен. При нынешнем положении следует положиться на разрушительное действие артиллерии. Ускорьте доставку полевых орудий из Шуры. Надо также возвести новые батареи, чтобы в упор, чтобы бреши пробили удободоступные. А там уже и на новый штурм двинемся.
– Как прикажете писать потери? – спросил Милютин, раскрыв походный журнал и обмакнув в чернильницу перо.
– Потом как-нибудь, – нервно ответил Граббе.
– Общим числом.
Граббе отдал еще несколько распоряжений насчет обеспечения нового штурма и тут только вспомнил, что давно не видел Траскина, которого эти распоряжения тоже касались.
– Отчего не явился на совещание начальник штаба линии? Он-то на штурм не ходил и вполне цел, я полагаю? – спросил Граббе, а остальным кивнул: – Мое почтение, господа. Занимайтесь делами.
Подчиненные вышли из палатки, а Васильчиков бросился искать Траскина.
Последний вопрос Милютина насчет потерь снова вывел из себя успокоившегося было Граббе. Укажи он реальные цифры, и они могут показаться в верхах поистине чудовищными по сравнению с результатом. За цифрами не видно ни отчаянной храбрости войск, ни безрассудного упорства мюридов. Нет, лучше уж потом посчитать, когда дело сделается. Ведь и тогда без жертв не обойдется, так что спешка тут ни к чему. А в ореоле победы никакие потери не покажутся слишком большими.
Граббе взглянул на незаконченную запись в журнале, которая звала его к великим деяниям. Он перечитал запись и отложил журнал в сторону. Внимание Граббе привлек листок, забытый на столе Милютиным. Это был неумелый, но достоверный рисунок, изображавший штурм Сурхаевой башни. По крутому склону, подсаживая друг друга, взбирались солдаты в белых фуражках, темных кителях и белых штанах. Один солдат лежал навзничь. Другой, с ружьем в руках, влезал на крутой выступ, стоя ногами на руках своего товарища, которого самого поддерживали еще двое. На смельчака сыпались камни и бревна. Под выступом сидел, склонив голову солдат, по всему видно контуженый. Снизу поднимались другие. Сверху, у края крепостной стены, стоял горец, держа в руках большой камень. В правом углу рисунка была изображена артиллерийская батарея, которая обстреливала Сурхаеву башню, и даже прочерчена была траектория снарядов.
– Живописец выискался, – проворчал Граббе.
– Изобразил мне тут Сизифов т руд.
Он вышел из палатки и взглянул на Сурхаеву башню. Она показалась ему выше, чем была вчера. Граббе перевел взгляд на Ахульго, и оно тоже показалось ему не таким, как прежде. Гора будто выросла и стала больше.
Граббе был растерян. Он попытался представить, как бы поступили на его месте великие полководцы. Но ни Ганнибал, ни Суворов, ни даже Ермолов не спешили ему помочь. Перед его глазами стоял рисунок Милютина: войска штурмуют, горцы обороняются, а артиллерия слаба.
Когда Васильчиков отыскал Траскина, тот был явно пьян. Траскин сидел на тулумбасе – огромном турецком барабане и, размахивая руками, распекал каждого подвернувшегося офицера. Те стояли навытяжку и не смели перечить полковник у.
– Вы даже стоять правильно не умеете, милостивый государь, не то что воевать! – придирался Траскин.
– Почему мундир не по форме? Кто позволил? А бурку зачем нацепили? А кинжал? А фуражку свою у кого на папаху выменяли? Чистый разбойник, мюрид, а не офицер! Вот я впишу ваши фокусы в реляцию, как положено, так узнаете, как надобно служить! – И тут же принялся за другого, артиллериста.
– Должен вам заметить, милостивый государь, у вас орудия не в порядке.
– Как то есть – не в порядке? – перепугался артиллерист.
– А так, – сердился Траскин.
– Слишком громко палят, мыслить не дают!
Велите своим канонирам, чтобы стреляли потише!
– Слушаюсь, – недоуменно отвечал артиллерист.
– Позвольте доложить, господин полковник! – обратился к Траскину Васильчиков.
Но Траскин его не слышал. Он и в самом деле немного оглох от беспрерывного орудийного грохота. Кроме того, он мешал ему спать. Только хорошенько набравшись рому, ему удавалось на час-другой прикорнуть. Но его снова будила пальба. Об опасности быть подстреленным Траскин уже не думал. К этому он привык и говорил себе: «Тут поневоле храбрецом сделаешься!». Хуже было то, что Траскин потерял аппетит. Количество убитых и раненых отвратило его от всяких жизненных удовольствий, и первой жертвой пало его легендарное чревоугодие. Теперь он мог только пить. Эта война делалась для него все невыносимей.
– Господин полковник! – уже настойчивее сказал Васильчиков.
– Вас его превосходительство спрашивают!
Уразумев, что от него требуется, Траскин заметно протрезвел.
– Ступайте, – велел он своей жертве и обратился к Васильчикову.
– Как считаете, корнет, смогу я взять Сурхаеву башню? Убить-то меня не так легко, разве что из пушки. Впрочем, они меня и так уже почти убили. Неужели обязательно стрелять так громко? Громы небесные так не шумят! Даже барабан, – постучал
Траскин по барабану, на котором сидел.
– И тот, подлец, от их пальбы гудит.
Когда Траскин нетвердой походкой явился к Граббе, тот уже все решил.
– Сдается мне, господин полковник, что вы принесете больше пользы в Шуре, чем здесь, – объявил Граббе.
– Там тоже твердая рука нужна.
– В Шуре? – переспросил Траскин, решив, что ему послышалось. Это было бы слишком хорошо в его теперешнем положении. Он бы с превеликим удовольствием отправился в Шуру, в тишину и покой. А уж как бы он обеспечил отряд, каким бы бессребреником стал, отпусти его Граббе из-под этого ужасного Ахульго!
– Припасы запаздывают, – объяснял Граббе.
– Не извольте беспокоиться, – выпалил осчастливленный Траскин.
– Все будет! И даже сверх того!
– Вы уже достаточно явили подвигов на театре военных действий, – милостиво улыбался Граббе.
– А нынче большая потребность в тыловом обеспечении. Без них армия – ничто.
– Совершенно справедливо, – радостно кивал Траскин.
– За тыловыми особый присмотр нужен.
– Имейте в виду, господин полковник, в отряде на продовольствии семь с половиной тысяч, не считая милиции, – продолжал Граббе.
– А мука на исходе, мяса нет, ну и все прочее, сами знаете.
– Воруют, – сокрушался Траскин.
– Ну да я их прижму, будьте покойны.
– Расстрелять бы пару подлецов, – сказал Граббе.
– Солдаты жизни свои не жалеют, а их обкрадывают.
Траскин смутно почувствовал, что это относится и к нему, но предпочел согласно кивнуть.
– Когда прикажете отправляться, ваше превосходительство?
– Как раненых повезут, вот с ними и отправитесь. Сами и увидите, какая в медикаментах нехватка.
– Слушаюсь, ваше превосходительство! – бодро взял под козырек Траскин.
Обратно он летел, как на крыльях:
– К черту эту войну! К черту это Ахульго! Пусть дерутся кому охота!
Граббе расстался с Траскиным без сожаления. Полковник мало соображал в военном деле, а все штабные дела давно уже легли на плечи Пулло. Траскин никому здесь не был нужен, кроме ханов, которые устраивали для него пиры в надежде на ответные услуги и протекции по службе для своих многочисленных родственников.
Избавившись от глаз и ушей Чернышева, генерал почувствовал облегчение. Теперь ничто не заставит Граббе оглядываться назад. А дело предстояло нелегкое, и всякое еще могло случиться.
Глава 95
Засидевшиеся в Хунзахе «фазаны» под командой Михаила Нерского явились к Ахульго вместе с последним транспортом. Они соединились с ним в Цатанихе, где сходились дороги из Шуры и Хунзаха.
Волонтеры прибыли к вечеру, когда еще гремела пальба первого штурма Сурхаевой башни. Пока не явились на место, они мечтали о горячих схватках, но, увидев, что тут творится, многие согласились быть санитарами, которых в отряде не хватало. До самого утра они выносили раненых и убитых и с тоской вспоминали Хунзах, откуда борьба с горцами выглядела совсем иначе. Другие, напротив, рвались в бой, решив явить пример храбрости и свято веря в свою счастливую звезду. Были и такие, которые готовы были заплатить солдатам, чтобы те слегка их ранили. Но, прослышав, что один из волонтеров по неосторожности погиб в результате такого членовредительства, решили не лезть на рожон и поучиться у бывалых кавказцев, как и награду приобрести, и ноги унести.
Палатки походного лазарета уже не вмещали раненых, которых было слишком много. Приходилось делать шалаши. А многие просто лежали рядами на траве, ожидая своей очереди.
Отрядный врач трудился, не разгибаясь. Его подчиненные доктора тоже не отходили от хирургических столов, извлекая пули и осколки, зашивая раны и ампутируя конечности. Им помогали лекари из отрядов горской милиции, изощренные в лечении боевых ран. Особых инструментов им не требовалось, все манипуляции они производили кинжалами и небольшими, отточенными, как бритвы, ножами, которые хранились в специальных кармашках под ножнами кинжалов. Обходились они и без дезинфекции, лишь слегка прокаливая лезвия на огне. Ампутированные обрубки выносили целыми корзинами.
Неподалеку батюшка, размахивая кадилом, отпевал убиенных. Затем их хоронили в братских могилах. Офицеров хоронили отдельно.
Бывший декабрист Нерский обходил лагерь, разыскивая старых знакомых. Повсюду стучали топоры, солдаты сооружали себе подобие щитов. А некоторые вбивали в подметки гвоздики, оставляя шляпки торчать, чтобы сапоги не скользили по каменной крошке.
У музыканта Стефана Развадовского, приятеля Михаила, была прострелена ладонь. Но он рассказывал Нерскому о другом – об ужасах штурма Сурхаевой башни и о том, что готовится новый штурм.
– А щиты зачем сколачивают? – недоумевал Михаил.
– Разве пуля их не пробьет?
– От камней, которыми горцы отбиваются, – объяснял Стефан.
– Это же не башня, а настоящие Термофилы!
– Скажи еще, что мы воюем с царем Леонидом и его спартанцами.
– Я иногда думаю, Михаил, что горцы и спартанцев бы воевать поучили, – сказал Стефан.
– Такие бестии! Причем натурально, а не то что спартанцы. Те, полагаю, миф, да и только.
– Так ты снова на штурм пойдешь?
– Пойду.
– А рука твоя как же? – спросил Михаил.
Стефан слегка пошевелил пальцами перевязанной руки и сказал:
– Ничего, заживет. Я, знаешь, только начал трубить атаку, а тут пуля. Чуть инструмент в пропасть не обронил.
– Значит, с музыкой в бой провожаешь? – спросил Михаил, отворачиваясь.
– А как же? Вдруг убьют, так хоть с белым светом под музыку попрощаюсь.
– Для того ли, братец, музыка?
– По мне, так я бы лучше в опере играл. Да сам знаешь, мы люди подневольные. Однако…
– Что?
– Ахульго – это такая декорация! Мне порой кажется, что это не война, а какой-то титанический театр! И что-то нашептывает мне, что здесь и будет моя главная сольная партия.
– Какой же это театр? – не соглашался Михаил.
– Скорее, Колизей для гладиаторов.
– Нет-нет, – уверял Стефан.
– Тут свободой пахнет. Роком! Судьбой! Как в античных драмах. И мой выход – не за горами, вот увидишь. И пусть я погибну, но свою главную ноту возьму!
– Ну-ну, – скептически произнес Михаил.
– От судьбы не уйдешь. Кому – театр, а кому и могила.
– И ты призадумайся, Михаил, – говорил Стефан, улыбаясь чему-то своему.
– Тут, брат, история делается, не упусти своего часа. Ахульго больше не будет.
– Воин воюет, а жена дома горюет, – вздохнул Нерский.
– Домой хочется. А путь мой, выходит, через Ахульго и лежит.
Они помолчали, думая каждый о своем и глядя на Ахульго, которое резко вычерчивалось в сумерках от каждого залпа.
– Я слышал, ты в офицеры выбился, а все без эполет? – спросил Стефан.
– Взять было негде, – ответил Михаил.
– Да и бумага о производстве пока не пришла.
– Пришла – не пришла, офицер должен быть по всей форме.
– Не с убитых же эполеты снимать, – вздохнул Михаил.
– Отчего бы и нет? Я не в смысле мародерства. Раненых – тьма, они сами тебе отдадут, кого в Шуру увозят.
– Обойдусь, – махнул рукой Михаил.
– Мне жена их везла, так я велел ей ехать обратно, от греха подальше.
– Жена? – удивился Стефан.
– Говорят, была в отряде одна женщина…
– В отряде? – впился в приятеля глазами Михаил.
– Здесь?
– С маркитантом прибыла. Только она совсем не маркитантка, – рассказывал Стефан.
– Прелестная, благородной наружности дама. Она только скрывалась под званием маркитантки, а сама, говорят, то ли княжна, то ли графиня. Вот какие чудеса тут происходят.
И он начал рассказывать, как офицеры сбегались посмотреть на прекрасную и таинственную незнакомку, а она лишь просила аудиенции у Граббе, который даме не отказывал, но и времени для нее все никак не находил.
Взволнованный Михаил вскочил, вынул из-под рубахи медальон с портретом Лизы и показал Стефану.
– Она?
Стефан всмотрелся в миниатюрное изображение. Глаза этой прелестной девушки показались ему знакомыми. Но он не решился утверждать, что эта та самая дама, которая выдавала себя за жену маркитанта. Да и возраст был заметно другой.
– Вроде и похожа, – пожал плечами Стефан.
– Но та была постарше.
– Посмотри лучше! – требовал Михаил.
– Ну, брат, когда столько лет видишь женщин только издали, они все делаются красавицами.
– Где она? – тряс друга Михаил.
– Говорят, горцы в плен увели, вместе с маркитантом.
– Как в плен? – потрясенно спросил Михаил.
– Вон там, в ауле разбитом, фургон их должен быть, – показал Стефан в сторону Ашильты.
– Если на щиты не растащили.
– Неужто не послушала меня? – побледнел Михаил.
– Я ведь писал ей, приказывал!
– Писал! – усмехнулся Стефан.
– Какая тут почта? Тут обозы в горах пропадают, не то что письма.
Но Михаил его уже не слышал. Он торопился к развалинам Ашильты.
Нерский обошел весь аул, но ничего не нашел, кроме сломанного колеса, которое могло быть прежде колесом фургона маркитанта. Михаил бросился в штаб, чтобы узнать что-нибудь насчет пленных. Но офицеры, огорченные неудачным штурмом, отмахивались от Михаила, не понимая, чего он добивается и при чем тут его жена. Или просто не хотели его огорчать. Все были слишком заняты подготовкой к новому штурму Сурхаевой башни, которую Граббе велел непременно взять. Только Попов вошел в положение Нерского, но и он ничего точно не знал, кроме того, что маркитанты и в самом деле похищены горцами. Полковник посоветовал Михаилу обождать, пока они разделаются с Сурхаевой башней. А еще лучше – постараться отличиться при штурме, чтобы Граббе снизошел до его просьбы и занялся судьбой пленных. О самой Лизе Попов знал только то, что она добивалась разрешения отправиться с оказией в Хунзах, но так ее и не дождалась.
Михаил не находил себе места несколько дней. И когда объявили сбор охотников – тех, кто желает быть в авангарде батальонов, назначенных для нового штурма Сурхаевой башни, он вызвался среди первых.
А тем временем артиллерия залпами обстреливала башню. Пока было возможно, горцы восстанавливали разрушенное. На Ахульго это видели и радостно восклицали: «Смотрите, люди, укрепления ведь не рушатся, они стоят, как и были!».
Магомед продолжал палить из своего фальконета. Но свинцовые ядра давно кончились, чугунные не всегда помещались в дуло, а каменные, которые Магомед неустанно вытачивал, приносили мало пользы.
Через неделю непрерывных обстрелов все, что выступало над стенами крепости, было разрушено, а в самих стенах пробито несколько брешей.
С обоих Ахульго производились ночные вылазки. Несколько раз уничтожались осадные работы, сбрасывались мантелеты, поджигались сапы и туры. Но к пушкам подобраться не удавалось, и после перестрелок горцы отходили назад.
Траншеи взобрались уже к перешейку, соединяющему Новое Ахульго с Сурхаевой башней, и дотянулись почти до перекопа, устроенного горцами на подступах к своим главным позициям. Атаковать перекоп Граббе еще не решался, но штурмовать Сурхаеву башню мог уже почти со всех сторон.
Штурм начался 3 июля на рассвете. Охотники ринулись вперед, прикрываясь щитами и взбираясь по лестницам на крутую скалу. В ответ горцы открыли огонь, а затем сверху посыпались камни. Но теперь сопротивление было слабее. Артиллерия сделала свое дело, и защитников оставалось уже немного. Но те, кто еще уцелел, отбивались отчаянно, понимая, что это их последний бой.
Нерский не желал прикрываться щитом и поднимался вверх, цепляясь за все, что мог, наступая на убитых и раненых. Он верил, что первым сумеет добраться до крепости и броситься на мюридов. Ему казалось, что там, наверху, он найдет спасение для своей жены и новый офицерский чин. А без этого жизнь была ему не мила. Он уже подобрался к самим стенам, как вдруг увидел над собой старого горца, который держал в руках даже не камень, а сияющий на солнце фальконет. И фальконет обрушился на Михаила. Сбитый с утеса, Нерский полетел вниз, сокрушив целый ряд поднимавшихся за ним охотников.
Несмотря на потери, егеря поднимались все выше и к полудню, взяв завалы, остановились перед самыми стенами, в которых зияли бреши. Здесь, на раскаленной от солнца скале, под летящими сверху обломками и пулями, они выжидали подходящего момента для решительной атаки. К вечеру груды обломков образовали под стенами осыпи, по которым стало возможно взобраться к разбитым стенам. Дождавшись ночи, охотники дружно крикнули «Ура!», переждали раздавшиеся в ответ выстрелы и, пока горцы перезаряжали ружья, ринулись на стены, в бреши, в штыки.
Оборона была прорвана сначала с южной, а затем и с северной стороны. Началась жестокая рукопашная схватка. Опаленный гранатой, Малачи продолжал драться даже в горящей одежде, и все, кто пытался приблизиться к нему, поплатились жизнью. Наконец, и сам он расстался с этим миром, кинувшись на поднимавшихся снизу солдат. Когда егерям казалось, что уже со всеми покончено, руины башни будто оживали, и на егерей снова бросались мюриды, хотя и были почти все ранены.
Бой длился еще несколько часов в крепости, башне, подземных этажах и примыкавшей к башне пещере. На Сурхаеву башню поднимались новые свежие роты, но только к полуночи крепость была полностью захвачена. Полная луна бесстрастно лила холодный свет на место сражения, сплошь усеянное телами погибших горцев и солдат.
С печальной вестью о захвате Сурхаевой башни и гибели ее защитников к Шамилю пробрался мюрид Магомед-Мирза. Снаряд оторвал ему обе ноги, и у солдат уже не поднялась на него рука. Позже на Ахульго вернулось еще несколько мюридов, сумевших выбраться из захваченной крепости.
Еще два дня пушки громили остатки Сурхаевой башни.
Нерский очнулся в лазарете. Голова его была перебинтована, и он едва смог приподняться, чтобы потянуться к кружке с водой. Заметив, что Нерский очнулся, санитар подал ему воды и позвал доктора.
– Нус, братец, жив? – устало улыбался доктор.
– А мы чуть было не записали вас в убитые.
– Что со мной? – с трудом спросил Нерский.
– Контузия.
– Это пройдет?
– Понемногу, – сказал доктор.
– Вы еще легко отделались. Ну да ничего, на днях отправим вас в госпиталь, в Шуру.
– Я здоров, – запротестовал Нерский.
– Я сейчас встану.
– Лежите, – приказал доктор, удерживая Нерского.
– С этим шутить нельзя.
– Не отправляйте меня, – попросил Нерский.
– Мне нужно быть здесь.
– Храбрец! – восхитился доктор.
– Там видно будет. Контузия серьезная.
Оставив Сурхаеву башню в тылу, Граббе начал продвигать блокадную линию к Ахульго. Теперь все батареи были нацелены на укрепления Шамиля, и артиллерия методично их обстреливала, пока Граббе размещал войска в новом порядке.
В военном журнале отряда Граббе цветисто расписал ход сражения и увенчал его бодрыми заверениями:
«Хотя потеря наша в продолжение приступа значительна, но она вознаграждается нравственным влиянием, произведенным над горцами взятием этого орлиного гнезда, к которому только наш штык мог найти доступ. Кроме того, нижние уступы утеса, на котором стоит башня, дают нам хорошую и менее растянутую наступательную позицию против Нового Ахульго. С Божьей помощью Шамиль и его сообщники не долго будут противиться оружию Его императорского величества».
Приложив к журналу план и профиль Сурхаевой башни, которые успел составить Алексеев, Граббе занялся представлениями к наградам. На радостях от взятия столь важного оборонительного пункта Шамиля Граббе включил в список отличившихся даже Нерского, несмотря на его декабристское прошлое.
Благодушие Граббе объяснялось не только взятием башни, но и тем, что от Головина, из штаба Кавказского корпуса, прибыли бумаги о производстве в очередные звания за дело при Аргвани. Галафеев стал генерал-лейтенантом, а полковники Пулло и Лабинцев сделались генерал-майорами. Сам Граббе получил только почетное звание генерал-адъютанта, что означало включение его в императорскую свиту при сохранении воинского звания генерал-лейтенанта. Поначалу Граббе заподозрил в этом козни старого недруга Чернышева, но, поразмыслив, счел почетное звание знаком особого расположения к нему императора. При удачном завершении компании против Шамиля Граббе вполне мог рассчитывать на производство в полные генералы.
Награждены были и многие другие, но в лагере ликования не наблюдалось. Офицеры вспоминали тяжелый бой за Сурхаеву башню, сопоставляли соотношение сил и результаты и с тревогой думали о том, что это было всего лишь началом. Что-то их ждет на Ахульго? Осмелевшие после пережитых смертельных опасностей, офицеры не скрывали своих мыслей:
– Полководцы выискались! Армию за кучу камней положат, только бы выслужиться.
– Что Граббе, что Пулло – немцам русских не жаль. Чего уж о горцах говорить.
– Да и царь у нас их кровей.
– Сам бы сходил на башню, узнал бы, почем фунт лиха.
Солдаты, потерявшие многих товарищей, мрачно роптали, покуривая трубки и стараясь не смотреть в сторону крепости Шамиля. Даже усиленный по случаю взятия башни рацион и двойная винная порция не могли победить общего уныния.
– Легче снять полумесяц с неба, чем с мечети на Ахульго, – предрекали бывалые вояки.
– Худой мир лучше доброй драки.
– Что и говорить. От таких побед одна погибель.
– Генералы солдат не считают.
Те же, кому все было нипочем, топили свои тревоги в вине и пускались плясать под веселую музыку. При этом они распевали крамольные песенки, сочиненные еще декабристами Рылеевым и Бестужевым и принесенные в войска разжалованными офицерами: Царь наш – немец русский – Носит мундир узкий. Ай да царь, ай да царь, Православный государь!
Только за парады Раздает награды. Ай да царь, ай да царь, Православный государь!
Батарея, при которой состоял Ефимка, расположилась теперь напротив Нового Ахульго. Но он уже не чистил дула, не подносил ядра, не подавал фитили… Фельдфебель решил, что мальчонка с перепугу захворал, и старался его не тревожить. Ефимка лежал в палатке, почти не ел и все просился сходить за водой. Его не пускали, но он уходил сам. Спустившись к реке, он прятался среди камней и подолгу ждал, не спустится ли за водой та девочка. Однажды она появилась, и у Ефимки снова перехватило дыхание. Не столько из-за ее красоты, сколько от радости, что она жива. Ефимка боялся ее спугнуть, хотя его жгло желание узнать, кто она и как ее зовут? А еще больше ему хотелось крикнуть, чтобы она бежала из обреченного Ахульго.
Когда ему не удавалось ускользнуть с батареи, он влезал на дерево и, спрятавшись среди ветвей, разглядывал Новое Ахульго в подзорную трубу, которую стащил у Граббе.
Глава 96
Жизнь на Ахульго продолжалась. Но теперь это была не жизнь аула, хотя бы и скрытого в горе, а безрадостное существование осажденной крепости. Уже не слышны были голоса играющей детворы, не пели песни девушки, не объезжали парни молодых коней. Даже мулла в медресе должен был говорить очень громко, почти кричать, чтобы его слышали ученики, когда кругом ревели пушки и по Ахульго катился гул, будто гора стонала от ран.
Шамиль видел, как сапы длинными змеями ползут к Ахульго, а следом тянутся батареи, готовясь в упор расстреливать передовые укрепления.
Почти каждую ночь делались ответные вылазки. Удавалось опрокинуть то одно, то другое сооружение, разрушать строящиеся батареи, бросаться в шашки на передовые цепи. Но сил у Граббе было много, и все быстро восстанавливалось. Вдруг стало известно, что передовые посты закрепляются на одном из двух гребней, которые находились на скате между Сурхаевой башней и Новым Ахульго. Это было очень опасно, потому что гребни прикрывали солдат от выстрелов с Ахульго и могли служить позицией для лобовой атаки на горцев. Шамиль двинул на них мюридов, которым удалось очистили гребень. Но удерживать его не было возможности, а на следующий день тот же гребень заняла уже целая рота апшеронцев. Горцам оставалось только яростно обстреливать гребень, не давая апшеронцам высунуться из-за укрытия.
Вскоре разведчики сообщили Шамилю, что к Ахульго подходит большой отряд. Это были присланные Головиным три батальона графа Паскевича-Эриван-ского Ширванского полка с четырьмя орудиями под командою полковника барона Врангеля. С батальонами прибыли военные и продовольственные запасы, оставшиеся после Самурской экспедиции против Ага-бека. Это было серьезное усиление. Дело было не только в численности прибывшего отряда, но и в том, что начальником его был опытнейший Александр Евстафьевич Врангель. Он состоял в должности командира Ширванского пехотного полка, а до того участвовал во многих сражениях в Европе и был адъютантом предшественника Головина – генерала от инфантерии барона Розена. В Гимринском сражении, когда погиб имам Гази-Магомед, Врангель шел во главе штурмовавшей аул колонны.
От ширванцев, или «графцев», как их называли в армии, так и веяло приближенностью к командованию Кавказским корпусом. Несмотря на недавние сражения с Ага-беком и долгий переход, они смотрелись молодцами и были одеты как с иголочки, чем сильно выделались из общей массы уставших и пообносившихся войск.
Увеличившуюся мощь Граббе Шамиль почувствовал на следующий же день, когда заняты были уже оба гребня под Сурхаевой башней, и там накапливались силы. Дальше, к Ахульго, шел крутой спуск до самого перекопа. Апшеронцы не рисковали спускаться под плотным огнем из передовых укреплений Шамиля. Это могло быть сделано только с помощью лестниц, а кроме того, означало бы открытый штурм, к которому Граббе не был готов. Зато крытые ходы сообщения уже подобрались к гребням, связались на перешейке в тугой узел, и уже оттуда к Ахульго, к перекопу, потянулась большая сапа, укрытая крепкими щитами. Перед ней перекатывали огромную, набитую ветвями корзину, за которой укрывались саперы. Этот мантелет двигался медленно, но неотвратимо. Защитников Ахульго это очень беспокоило, и они ломали голову, как бы избавиться от новой напасти. Пробовали поджечь мантелет, забросав его кувшинами с горящей нефтью, но саперам каждый раз удавалось потушить огонь. Для этого у них были припасены вода и мокрые бычьи шкуры, такие же, какими защитники Ахульго накрывали залетавшие к ним гранаты.
В душных подземельях Ахульго было неспокойно. Напряженные лица старших, испуганные лица детей и полные гнева глаза юношей накаляли и без того горячую атмосферу, не давая ей остыть даже ночью, когда остывала гора и в жилищах становилось холодно.
В комнатах жен Шамиля появились кинжалы, которые висели теперь рядом с ружьями.
– Зачем они вам? – негодовал Шамиль.
– Разве вы умеете ими драться?
– Нет, – отвечала Патимат, моловшая зерно ручной мельницей.
– Они сами умеют драться.
– Пусть будут, – поддерживала ее Джавгарат, качавшая ребенка в колыбели.
– Их кормить не надо.
– Достаточно один раз наточить! – кивал Джамалуддин.
– Да! – сказал Гази-Магомед, показывая свой маленький кинжал.
– Лучше бы вы убедили женщин спуститься с Ахульго, – сказал Шамиль.
– Пока еще можно уйти.
– Мы пробовали, – опустила глаза Джавгарат.
– Почему же они не уходят?
– Говорят, что уйдут, когда уйдут и твои жены, – ответила Патимат.
– А другие говорят, что им некуда идти, – добавила Джавгарат.
– Их везде примут, – не соглашался Шамиль.
– Особенно тех, чьи мужья погибли на Сурхаевой башне.
– Не хотят, – разводила руками Патимат.
– Но они должны думать о своих детях, – настаивал Шамиль.
– У Али-бека остался сын. У Малачи – четверо, и все здесь. Пусть уведут хотя бы младших!
– Скажи им сам, – отвернулась Патимат, вытирая слезы.
– Может, тебя они послушают.
Шамиль пробовал убедить женщин уйти, пока еще переправа под Ахульго была свободна. Но желающих опять не нашлось. Тогда Шамиль собрал ближайших помощников и приказал им отправить с Ахульго хотя бы те семьи, на руках у которых были раненые.
Эвакуация была трудной. Чтобы отвлечь от нее внимание, мюриды сделали вылазку и вступили в жаркую перестрелку с передовыми частями Граббе.
Уходившие женщины плакали, прощаясь с теми, кто оставался. И те, и другие понимали, что могут никогда больше не увидеться. Некоторые посылали с уходившими своих малолетних детей. Дети постарше уходить не хотели, прятались по пещерам, и найти их было невозможно. Они хотели остаться со своими друзьями и мстить за своих отцов. Тяжелораненых спускали на веревках.
Старики тоже наотрез отказались уходить.
– Думаете, от нас никакой пользы? – говорили они молодым.
– Хоть камень-то кинуть сможем!
– И кинжал держать пока умеем.
– Из ружья тоже не промахнемся.
– Это там, за рекой, от нас будет мало пользы, а здесь мы еще пригодимся! – убеждал рвавшийся отличиться Курбан.
Он готов был драться за двоих, чтобы никто не упрекнул его в том, что он отправил своего сына на кутан с молодой женой и овцами. Курбан получил известие, что у него родился внук, которого назвали в честь покойного отца Курбана, и готов был теперь на все.
Но стариков на вылазки не пускали. У них была другая работа – восстанавливать по ночам то, что пушки повреждали днем. Им помогали мальчишки, подавая камни и таская воду. Воду черпали из хранилища девочки, и мальчишки старались перед ними храбриться, рассказывая о том, как опасно на передовых позициях и что им тоже разрешают стрелять. И это было правдой. Мальчишки постарше научились стрелять не хуже взрослых. Но стреляли они по ночам, когда орудийная канонада немного стихала. Мальчишкам часто удавалось разглядеть то, что не всегда замечали взрослые, – искру огнива, которым солдаты раскуривали трубки, блеск штыка в лунном свете, медаль или пуговицу, на которую падал отсвет скрытого за валунами костра. И среди самых метких был Джамалуддин. Об этом говорили даже девочки, хотя некоторые считали, что про Джамалуддина так говорят, потому что он сын Шамиля. А синеглазая красавица Муслимат втайне им гордилась и всегда защищала. Джамалуддина она считала героем и своим будущим женихом, потому что не раз слышала, как их матери шутили по этому поводу.
Иногда через переправу поступала помощь. Каждый аул старался поддержать защитников Ахульго, присылая что мог. Помощь шла из самых дальних аулов, даже из Чиркея и Эндирея. С помощью приходили и ополченцы, которые вливались в ряды защитников Ахульго.
Неожиданно пришел целый караван. Это явился Ахбердилав. Он привез на Ахульго трофеи, захваченные горцами в Удачном. На шестидесяти ослах, пригнанных из Игали, прибыли пули, порох, мука, зерно и другие припасы, собранные Ахбердилавом в окрестных селах. Кроме того он привел пополнение, состоявшее из преданных Шамилю людей.
На Ахульго воспряли духом. Защитники крепости видели, что они не забыты, что весь Дагестан старается им помочь.
– Наши люди нападают на их транспорты на всех дорогах, ведущих к Ахульго, – рассказал Ахбердилав.
– Не дают отрядам покоя ни днем, ни ночью.
– Но они все равно проходят, – говорил Шамиль.
– Разве так надо нападать?
– Они делают, что могут, – объяснял Ахбердилав.
– Портят дороги, разрушают мосты, прячут в горах быков и лошадей, чтобы не давать для перевозок.
– Последний отряд пришел от самого Самура, – мрачно сказал Шамиль.
– И никто не смог ему помешать. Скоро тут будет больше солдат, чем у нас пуль.
Ахбердилав помолчал, не решаясь открыть Шамилю еще более печальные новости. Но затем решился.
– Имам, – сказал он, с трудом выговаривая слова.
– Ты должен знать, что многие уже не верят, что армию белого царя можно победить.
– Не верят? – изумился Шамиль.
– Армия Надир-шаха была во много раз больше, и наши предки ее разбили.
– После того, как Граббе взял Буртунай и Аргвани, отступники подняли головы, – с горечью говорил Ахбердилав.
– Пару таких голов я снял, но их становится слишком много.
– Если Аллаху будут угодны наши старания, то мы доберемся и до них, – пообещал Шамиль.
– Если у тебя есть еще плохие новости, говори скорее.
– Несколько сел даже вернулось в подчинение ханам, не имея сил с ними бороться, – рассказывал Ахбердилав.
– А тем временем войска исправляют испорченные дороги и прокладывают новые, чтобы Граббе получал все необходимое как можно быстрее. К тому же прошел слух, что разгромлена Сурхаева башня и вот-вот падет само Ахульго.
– Ахульго не падет никогда, – воскликнул Шамиль.
– Это не просто гора. Это больше, чем гора. Это – сердце Дагестана.
Глава 97
Лиза жила на женской половине дома и понемногу осваивалась с жизнью в красивом Игали. Женщины, которые поначалу на нее косились и не хотели иметь с ней ничего общего, тоже смягчились, видя, как она страдает и плачет ночи напролет. Они не совсем понимали, чего она так убивается, ведь жила Лиза на правах гостьи и ни в чем не нуждалась. Но была в ней какая-то загадка, и женщины это чувствовали. Уж очень разные были Лиза и Аванес, который называл ее своей женой. Разве так ведут себя жены при живых мужьях?
Аванес тоже не чувствовал себя пленником, разве что ему твердо дали понять, чтобы он не выходил за пределы села.
– Почему? – деланно удивлялся Аванес.
– Война, – отвечали ему.
– Не хотим рисковать кунаком.
Узнав, что Аванес разбирается в порохе, его привели на пороховой завод, который был в Игали уже много лет.
Аванес критически осмотрел доморощенное производство, усомнился в качестве составных частей и заявил, что порох неправильно сушат. Как сушить правильно, он и сам не знал, помнил только, что английский порох был не таким зернистым, да и цвета был какого-то другого. Его просили объявить правильный рецепт, но вместо этого Аванес обещал прислать хороший порох, когда его освободят и вернут в Шуру.
Ружья, которые изготовляли здесь же, в Игали, мастера-даргинцы из знаменитого аула оружейников Харбук, показались Аванесу слишком легкими.
– Легкие, – подтвердили оружейники.
– Зато бьют дальше русских тяжелых.
– Почему это? – удивился Аванес, вертя в руках горское ружье.
– Потому что нарезные, – объяснил оружейник, который как раз и занимался тем, что делал в очередном стволе винтовые нарезы. Для этого у него был специальный стержень, из одного конца которого торчали металлические шипы, а на другом была рукоять для вращения.
– А штык где? – вопрошал Аванес.
– Здесь, – похлопал по своему кинжалу мастер.
Однако Аванес все равно сомневался в превосходстве горских ружей. Но теперь уже потому, что вид у них был не для продажи – простой восьмигранный ствол и короткий приклад.
– Ружье должно быть красивым, – заявил он.
– Думаете, я настоящих ружей не видел?
– Отправь его в Кубачи и хорошенько заплати – будет не ружье, а сокровище, и насечкой узорной покроют, и в серебро-золото оденут, и слоновой костью обложат, – советовали оружейники.
– Но нам воевать надо, а не на пирах красоваться.
Готовые ружья испытывали за селом, у сосновой рощи. И Аванес быстро убедился, что горские ружья удобны, бьют далеко и метко, но ему все равно казалось, что со штыком оно как-то надежнее На готовом стволе каждый мастер ставил свое клеймо. И он поостерегся бы это делать, если бы не был уверен, что его ружья – настоящие.
Лиза продолжала горевать о своей несчастной доле и ждала нового, еще более ужасного удара судьбы. Но все было не так страшно. Лиза часами сидела у окна, наблюдая за жизнью аула. Сначала ей все казалось странным и чужим. Затем она начала замечать, что все необычное имеет свой смысл и причину. Женщины тоже становились ей понятнее и ближе, и, наконец, она увидела, что они такие же, как и все остальные женщины, будь то в Петербурге или Париже. И разница лишь в том, какой отпечаток накладывают на них обычаи, потребности горской жизни и окружающая их природа. Но и во всем этом проглядывали единая для всех женщин суть, которая заключалась в любви, красоте, семье и детях, и такая же единая для женщин ненависть к войне, лишавшей их всего, ради чего они жили.
Облегчив сердце слезами, Лиза стала выходить на террасу, где женщины занимались разными домашними делами. Террасы эти служили крышами для других домов, и весь аул напоминал гигантский амфитеатр. Отсюда открывались чудесные виды, особенно на сады, которые широкой зеленой дельтой, ущельем выходило к Койсу.
Глядя на это очаровательное великолепие, Лиза вспоминала тишину родительской усадьбы, свою юность, исполненную ожиданием любви и счастья. Когда по вечерам над горами вспыхивало зарево нескончаемой битвы у Ахульго, Лизе вспоминались грандиозные фейерверки, устраивавшиеся в царской резиденции в Гатчине, куда Лизе посчастливилось однажды попасть с кузиной – фрейлиной императрицы. А какие там давались балы! Как волнителен был первый вальс, который она танцевала с ослепительно мужественным Михаилом Нерским! А мазурка на зеркальном паркете, а игривый котильон! А трогательный щебет юных красавиц о молодых офицерах, головокружительных романах и последних нарядах! А очаровательные интрижки! А тайные свидания! Какая чудесная была жизнь!
Иногда Лиза пыталась рассказать обо всем этом горянкам. Но она знала слишком мало слов, а некоторым понятиям в аварском языке и вовсе не находилось соответствий. Однако горянки и по ее глазам понимали, что дома Лизе было хорошо, а здесь она несчастна.
– Зачем же ты оставила свой рай? – спрашивали они.
– Судьба, – вздыхала Лиза.
Против этого горянки возразить не могли. Их судьба тоже сильно изменилась, после того как в горы пришли царские войска.
Когда в доме кончилась вода, а женщины были в поле, Лиза решила пойти к роднику сама. Хозяин дома согласился ее отпустить, но только если она наденет платок, какие носят горянки. Лиза набросила платок, взяла на плечо большой луженый кувшин и отправилась за водой. Опустив голову, Лиза торопливо спускалась к роднику по узким улочкам, не отвечая, а только кивая на приветствия проходивших мимо горянок. Те удивленно смотрели ей вслед и шли дальше, погоняя вернувшихся с пастбища коров. У родника Лиза набрала воды, а затем чуть не выронила от тяжести кувшин. Она подумала, что ей ни за что не унести его на плече. Заметив странную горянку, проходившая мимо старушка спросила ее:
– Мун щи? Что означало: Кто ты?
Лиза не знала, как ответить, и от смущения у нее появились силы. Она вскинула кувшин на плечо и медленно пошла в гору, недоумевая, как это даже девочки легко бегают с такими тяжестями?
Подозрения, что Лиза – далеко не простая женщина, усиливались с каждым днем. Но раз уж она называла себя женой купца Аванеса, то не грех было ей и потрудиться. Ей стали разрешать делать кое-какую работу по дому, а однажды взяли и в сады – собирать созревшие абрикосы.
Ароматными краснощекими плодами были усыпаны даже самые тонкие ветки. Абрикосами наполняли высокие плетеные корзины, перекладывая плоды листьями, чтобы не помялись. Затем корзинами, по одной с каждой стороны, нагружали осликов и отправляли урожай в аул.
Провожатые осликам были не нужны, они и сами знали, куда везти поклажу.
Первые абрикосы были настоящим праздником для аульской детворы. Угощали ими и раненых. Несколько груженных абрикосами осликов вместе с мешками пороха и связками ружей отправили на Ахульго, пока еще была возможность доставлять помощь.
Некоторые женщины приходили в сады с грудными детьми. И Лиза едва не лишалась чувств, глядя на чужих младенцев, которых матери кормили грудью в тени абрикосовых деревьев. Ведь Лиза и оказалась здесь потому, что сама безумно хотела стать матерью.
Вдруг по садам прокатились тревожные голоса, послышались крики и плач. Все вдруг куда-то заспешили, и испуганная Лиза побежала за остальными. По дороге, проходившей через сады, везли раненых с Ахульго. Вереница коней медленно поднималась к аулу. Те, кто не мог ехать, шел сам, поддерживаемый товарищами. Женщины, узнавшие своих близких, горестно причитали и старались как-то облегчить их страдания, напоить водой, омыть и заново перевязать раны. Другие спрашивали о своих, и, если узнавали, что они погибли, не было предела их скорби.
Поддавшись общему волнению, и Лиза вглядывалась в лица мужчин, будто ожидала увидеть Михаила. Наконец, печальная процессия скрылась из виду, и Лиза поняла, что осталась в саду одна.
– Бежать! – мелькнуло у нее в голове.
– Скорее! Пока не хватились!
Но куда? Через горы, откуда доносится этот ужасный гул орудий? Или вдоль реки? Но там всюду мюриды. Лиза лихорадочно придумывала, что ей делать, но все казалось ей безумием. А Аванес? Как-никак, он рисковал жизнью, защищая Лизу. А теперь его снова бросят в яму, если не хуже. Между тем начало вечереть, а Лиза все еще не знала, на что решиться. И тут заревел осел, который терпеливо ждал, пока на него нагрузят корзины. Повинуясь больше инстинкту, чем разуму, Лиза нагрузила на осла абрикосы и пошла в Игали.
Уже в ауле, недалеко от дома, в котором она жила, Лизу окружило несколько одетых во все черное женщин. Они что-то кричали и грозили Лизе кулаками. А одна даже подняла с земли камень.
На шум с крыши дома выглянул Аванес и, увидев неладное, побежал звать хозяина. А женщины продолжали наседать на Лизу, которая в страхе вжалась в угол, не понимая, чего от нее хотят.
– Оставьте ее! – крикнул аксакал, явившийся вместе с Аванесом.
– Все они заодно! – негодовали женщины.
– Наших детей убивают на Ахульго, а она тут абрикосами лакомится!
– Правильно женщины говорят, – кричали собравшиеся вокруг мужчины.
– А эта женщина – не та, за кого себя выдает! Один наш видел ее в Шуре, она там с женами начальников разгуливала!
– Это правда? – оглянулся аксакал на Аванеса.
– Это не твоя жена?
Пока Аванес соображал, как выпутаться из сложного положения, Лиза вдруг выступила вперед и сказала:
– Да, я не его жена! Убейте меня, если вам станет от этого легче.
– Кто же ты? – удивленно спросил аксакал.
– Я жена русского офицера, – гордо сказала Лиза.
– Что мы говорили?! – негодовали мужчины.
– Это лазутчики!
– Мы не шпионы, – оправдывался Аванес.
– Мы – мирные люди!
– Это я во всем виновата, – сказала Лиза, едва сдерживая слезы.
– Мне ваша война не нужна, и горы ваши не нужны. Я только хотела спасти своего мужа.
И ей пришлось рассказать правду. В доказательство она показывала чудом попавшее к ней письмо Нерского. Когда аксакал перевел остальным печальный рассказ Лизы, враждебности вокруг сильно поубавилось. Женщины опустили глаза, приняв беду Лизы близко к сердцу, и стали молча расходиться.
– Выходит, ее муж сам был против царя? – спрашивали мужчины.
– Мы тоже против него. Зачем же ее Михаил с нами воюет?
– А куда ему деваться, если по-другому домой не вернешься? – объяснял аксакал.
– В ханской милиции тоже горцы воюют, – сказал Аванес.
– Вы сначала со своими разберитесь.
– Тоже верно, – соглашались мужчины.
– А храбрая у этого армянина жена.
– Это не его жена, а русского офицера.
– Все равно – храбрая.
– За нее хороший выкуп дадут.
– Кто даст?
– Муж, офицер.
– Он сам теперь в солдатах. Откуда у солдата золото?
– Наверное, царь все отнял, когда в тюрьму сажал.
– Что же теперь, отпустить их?
– Менять будем, – сказал аксакал.
– Когда придет время.
Где-то за горой особенно сильно загрохотали пушки. Люди невольно оглянулись, а затем с ненавистью посмотрели на Аванеса. Оценив ситуацию, Аванес тут же вспоминал про множество других услуг, оказанных им горцам, несмотря на смертельную опасность.
Аксакал проводил Лизу в дом и ушел.
– Слава богу, что все обошлось! – говорил Аванес, поднимая корзины на террасу.
– Но где ты была? Я думал, ты сбежала.
– Я не смогла, – призналась Лиза.
– И не думай! – предостерег ее Аванес.
– Если хочешь увидеть своего Михаила!
На террасе были расстелены паласы, и на них лежали дольки абрикосов. Их разложили сушиться, пока не получится курага. Лиза не знала, куда себя деть, все еще сомневаясь, правильно ли она сделала, что вернулась. Так ничего и не решив, она присела рядом с корзинами и тоже начала разламывать абрикосы и раскладывать их сушиться. Косточки она откладывала в сторону, где уже была их целая горка.
Потом она услышала песню. Лиза прислушалась. Пели где-то недалеко. Это было женское многоголосье, повторявшее одну и ту же фразу: «Ла илагьа илла ллагь…».
– Что это? – спросила она Аванеса.
– Обычное дело, – ответил Аванес.
– Отпевают.
– Кого? – испуганно спросила Лиза.
– Племянника хозяина, – объяснил Аванес.
– Раненного привезли, а потом он умер. Похоронили уже.
– А разве у них тоже отпевают?
– Еще как, – кивнул Аванес.
– И мужчины, и женщины. По отдельности.
К полуночи женщины начали расходиться, и каждая несла домой садака – небольшой дар, хлеб и мясо, укрытые краем платка. Садака раздавали родные покойного, считалось, что это поможет его душе в другой жизни.
Аванес тяжело вздохнул и перекрестился.
– Трое детей осталось.
– Дай им Бог, – сказала Лиза и тоже перекрестилась.
Они молчали, вслушиваясь в смиренные молитвы женщин. Когда голоса смолкли, Лиза сказала:
– Зачем эта война, Аванес? От нее всем только горе.
– Горцы воюют за свободу, – ответил Аванес.
– Своим умом хотят жить, без ханов, чтобы все были равны и никто никому не кланялся, кроме Аллаха.
– Свобода… – не понимала Лиза.
– Вот и Михаил вышел за нее на Сенатскую площадь, а оказался на каторге. Но что такое эта свобода? Она погубила мою жизнь. Зачем мне свобода, Аванес? Я хочу быть несвободной, хочу быть женой и матерью.
– Это совсем другое, – отмахнулся Аванес, а затем добавил: – Они хотят, чтобы ты написала своему мужу.
– Зачем?
– Насчет выкупа.
– Но у него ничего нет, ты же знаешь.
– Напиши, – убеждал Аванес.
– Там видно будет. А если привезут новых раненых или, не дай Бог, убитых, неизвестно что с нами сделают.
– Я устала, Аванес, – ответила Лиза.
– Пусть делают, что хотят.
– У меня семья, – напомнил Аванес.
– Моя Каринэ и любимые дети. Им без меня нельзя, пропадут.
– Тогда, пожалуй, – согласилась Лиза.
– Я напишу.
Аванес раздобыл чернила, перо и бумагу. И Лиза написала Михаилу письмо. Прощальное, полное нежной любви и страдания.
Глава 98
Прибытие свежих сил вселило в Граббе надежду. После тяжелого штурма Сурхаевой башни войска потеряли кураж, и это могло дурно отразиться на ходе всей кампании. На радость командующему, полковник Врангель рвался в бой.
Пока его отряд отдыхал после долгого перехода, Врангель успел ознакомиться с положением дел и изучить защитную систему Ахульго. Она его удивила, но не смутила. У него еще осталось ощущение победы, которое он испытал, когда брал Ахульго два года назад, в походе с Фезе. К рассказам об ужасах штурма Сурхаевой башни он отнесся скептически, считая, что осада была неправильной, а войска действовали неумело. Но свое мнение он держал при себе, как и сожаление, что его не было при Аргвани, после которого полковники стали генералами, а он все еще оставался при своем чине, несмотря на отличия в битвах с Ага-беком.
Тем временем батареи усиленно бомбардировали Ахульго, пытаясь разрушить передовые укрепления. Периодически в дело вступали Конгревые ракеты, которыми Граббе надеялся выжечь укрытия мюридов. Но против углубленных в гору и защищенных огромными глыбами укреплений, покрытых к тому же бревнами и земляными насыпями, артиллерия была бессильна.
Штурм Ахульго был назначен на 16 июля. Накануне Граббе собрал в штабе командиров.
– Господа, – начал Граббе.
– Положение диктует меры экстренные. Мы должны взять Ахульго и покончить с имамом, пока на выручку к нему не явились новые скопища. Мне докладывают, что наибы Шамиля продолжают производить волнения в горах, побуждая отъявленных бунтарей к новым покушениям на наши войска. Таким образом, штурм должен свершиться завтра же.
– Завтра? – удивился Галафеев.
– Отчего бы и нет? – спросил его Граббе.
– Или у вас, господин генерал-лейтенант, иное мнение на сей счет?
– Я полагаю, для обеспечения успеха следовало бы прежде занять левый берег Койсу, – предложил осторожный Галафеев.
– Переправа, которую устроил там Шамиль, весьма вредит нашей осаде. Через нее Шамиль не перестает получать помощь и отправляет раненых.
– Удивляюсь вашей непредусмотрительности, – слегка усмехнулся Граббе.
– Переправу я не трогал намеренно. Через нее-то и побежит Шамиль со своими разбойниками, как только увидит, что я не намерен уступать. Когда разом заговорят наши пушки, а грозные колонны взойдут на Ахульго, Шамиля оттуда как ветром сдует.
– Непременно, ваше превосходительство, – поддержал командующего Врангель.
– Горцы не выдерживают штыков, а тут на них двинется целый их лес.
Граббе окинул торжествующим взглядом своих подчиненных и сообщил:
– Барон Врангель вызвался возглавить главную штурмовую колонну, за что я ему весьма признателен.
Врангель подтвердил свое намерение легким кивком и обратился к лежавшей на столе карте.
– Предлагаю атаковать со стороны Сурхаевой башни, – показал Врангель.
– В лоб!
– Не слишком ли это опрометчиво? – усомнился Галафеев.
– Там у Шамиля сильные позиции.
– Волков бояться – в лес не ходить, – улыбнулся в ответ Врангель.
– Я и не такое видывал.
– Другого-то и пути нет, – поддержал Врангеля Попов.
– Пушки, сами видите, господа, бить бьют, но дела не решают.
– Без открытого штурма Ахульго не взять, – настаивал Врангель.
– Сколько вам понадобится войск? – спросил Граббе.
– Полагаю, достаточно будет трех моих батальонов, – ответил Врангель.
– Я с ними весь Самур прошел и могу на них положиться.
– Ценю вашу отвагу, барон, – сказал Граббе.
– Но полагаю, что добавление в вашу колонну батальона Куринского полка будет не лишним. Эти молодцы отлично здесь освоились и будут вам весьма полезны.
– Как прикажете, ваше превосходительство, – согласился Врангель.
– Надобно также заготовить побольше лестниц, чтобы переходить ров, и фашин, чтобы его заполнить.
– Этого у нас в избытке, – сказал Граббе.
– Вероятно, вы заметили, что тут кругом обширные сады, так что в материалах недостатка нет.
Затем Граббе принялся излагать общий план операции:
– В то же самое время, когда главная, она же правая, колонна барона Врангеля двинется на штурм, другая колонна под названием средней бросится по руслу реки Ашильтинки между обоими Ахульго. Назначаю в нее третий батальон и три роты второго батальона Апшеронского полка. Вверяю командование оной майору Тарасевичу.
Тарасевич приложился к козырьку и щелкнул каблуками.
– Ваша задача, господин майор, – Граббе снова склонился над картой, показывая предполагаемые направления действий колонн, – разорвать связь между обоими замками, а при малейшей возможности подняться на вершину утеса и атаковать Новый Ахульго с фланга, чтобы облегчить атаку главной колонны.
– Будет исполнено, ваше превосходительство, – заверил Тарасевич, гордый столь важным заданием.
– И наконец, – Граббе обернулся к Попову.
– Вам, господин генерал-майор, вверяется левая колонна из одного батальона Апшеронского полка. Вам предписывается угрожать сначала ложною атакою Старому Ахульго и, в случае успешного действия других войск, употребить все меры для занятия оного.
– Всенепременно, ваше превосходительство, – козырнул Попов.
– Саперам надлежит иметь наготове необходимое количество туров и фашин, – обратился Граббе к Пулло, – для устройства опорной линии в случае занятия передовых построек Нового Ахульго.
Милютин наблюдал за происходящим, как за трагическим фарсом. Он еще утром пытался деликатно намекнуть Граббе на некоторую утопичность его замысла, который был хорош только на бумаге. Но Граббе так верил в свой стратегический гений, что и слышать не хотел никаких предостережений. Он понимал, что сам по себе штурм имел мало шансов на успех, но еще больше Граббе надеялся на какую-нибудь счастливую случайность, которая бы привела к успеху дела. Ему грезилось, что горцы наконец устрашатся его новой силы и побегут, что Шамиль попросит пощады, что Врангелю и его храбрым ширванцам нипочем окажутся все преграды. И еще Граббе рассчитывал на убийственный эффект, который должны были произвести колонны Тарасевича и Попова, появившись в тылу у мюридов. А в случае неудачи, чего Граббе не допускал, но допускала военная теория в лице этого буквоеда Милютина, все можно было списать на неумелость Врангеля, которого прислал сам Головин.
– Это последнее убежище Шамиля надлежит взять во что бы то ни стало, – напутствовал Граббе командиров.
– Нас в десять раз больше, не говоря уже о мощи нашей артиллерии.
– Так-то оно так, – заметил Галафеев, в распоряжении которого оставлен был резерв.
– Однако на Ахульго засели отчаянные мюриды, решившие лучше умереть, чем сдаться.
Не заметив в некоторых подчиненных явной решимости оправдать его надежды, Граббе счел нужным подчеркнуть значимость исторического момента, призвав на помощь древних ораторов:
– Carthaginem esse delendam! – воззвал Граббе, указав рукой в сторону Ахульго.
– Карфаген должен быть разрушен!
Офицеры недоуменно переглянулись. Они слышали, что кумиром Граббе был Ганнибал, но это знаменитое требование Катона Старшего было направлено против родины великого полководца. Граббе это знал, но изречение ему нравилось и годилось для предстоящего дела. Тем более, что когда пал Карфаген, Ганнибала давно уже не было на свете. Граббе использовал девиз Катона, как используют дезертиров из вражеского лагеря. Дело было за тем, чтобы среди командиров в отряде Граббе нашелся свой Сципион, который в свое время осуществил завет Катона.
– Мое почтение, – попрощался Граббе с офицерами.
Оставшись один, Граббе отужинал и вышел подышать чудесным горным воздухом. Но в воздухе тянуло дымом и гарью от бесновавшихся пушек. Неподалеку, у аналоя, отрядный священник исповедовал солдат. Мало ли что могло случиться в завтрашнем бою, и служивые желали отпущения грехов, чтобы идти в бой с легкой душой. Глядишь, Бог и помилует. Граббе этого не понимал. Лютеране не признавали отпущения грехов священниками, они исповедовались самому Богу. Граббе перекрестился, прочел молитву и отправился спать.
Часть души Граббе принадлежала пушкам, и чем ужаснее они грохотали, тем легче он засыпал. Бессонница настигала его только в тишине. Тишина была опасна.
Генералу опять приснилась гора. Она стонала и ревела, но Граббе это уже не пугало. Он даже во сне успокаивал себя тем, что причина мучений горы заключается в нем, генерал-лейтенанте Граббе, который вот-вот посадит ее на цепь.
На рассвете, когда разом загрохотали все двадцать четыре пушки, Граббе проснулся. Он взял подзорную трубу, которую оставил ему Врангель, и отправился на заранее приготовленную позицию, откуда картина битвы представилась ему во всем своем трагическом великолепии.
По всему лагерю пели горны, гремели барабаны, и войска строились в штурмовые колонны. Для указания нужных направлений перед колоннами стояли офицеры Генерального штаба.
Когда колонны, назначенные на штурм, построились, Граббе приказал выставить белый флаг, который означал сигнал к выступлению. Колонны подняли ружья и двинулись на свои позиции. На этот раз Граббе изменил своему правилу начинать большие дела ночью. Он решил продемонстрировать Шамилю свою силу и уверенность.
Шамиль стоял на второй линии укреплений, наблюдая за маневрами Граббе. Имам видел, что затевается серьезное дело. Ночью разведчики принесли записку от Жахпар-аги, в которой излагался план штурма, принятый штабом Граббе. Это было важное донесение, но горцы и без того были готовы ко всему. Сурхай волновался не меньше Шамиля. Его систему укреплений ждало серьезное испытание.
Балал Магомед хотел занять передовые укрепления большими силами, но Шамиль не согласился с ним, не зная, чем кончится движение левой колонны Граббе на Старое Ахульго. Мост между двумя горами Шамиль разрушать не хотел, чтобы не нарушать единство обороны. Но, окажись он в руках неприятеля, авангард защитников Нового Ахульго мог оказаться отрезанным от тыла.
Пушки били, не переставая. Ядра крошили камень, укрепления понемногу разрушались. Огонь был таким сильным, что горцы удивлялись уже не тому, что их укрепления еще выдерживали обстрел, а тому, как Ахульго еще не развалилось на части.
Шамиль получал сообщения одно за другим:
– Большое войско собирается на гребне под Сурхаевой башней!
– Другой отряд спускается в ущелье Ашильтинки!
– Третий подходит к Старому Ахульго!
Но Шамиль понимал, что главная цель Граббе – Новое Ахульго с его врытой в скалу крепостью и основными силами горцев.
Канонада вдруг смолкла, оставив после пальбы лишь застилавший солнце сизый дым. Отряд, собравшийся на гребнях под Сурхаевой башней, закричал «Ура!» и бросился вниз, на позиции горцев. В ответ мюриды открыли сильный огонь. Солдаты падали, но лавина главного отряда продолжала катиться вниз, пока не заполнила собой перекоп и не наткнулась на передовые бастионы горцев. Они казались разрушенными, но как только ширванцы кинулись на приступ, все вокруг ожило, на них обрушились камни, и со всех сторон затрещали выстрелы. Перекрестный огонь из боковых укреплений выбивал целые роты, но отряд все равно продолжал надвигаться, пока не захватил передние башни. Они оказались пусты, горцы будто исчезли, забрав с собой даже раненых. Нашли только несколько тел, оставшихся под обрушениями. Тем временем сзади напирали новые толпы, и авангард ширванцев понесло дальше.
– Теперь будем сражаться до конца! – крикнул Шамиль защитникам второго рубежа обороны.
– И да поможет нам Аллах!
Колонна Врангеля, перевалив через первый рубеж, оказалась во втором, еще более глубоком перекопе, огражденном крепкой стеной укреплений. Здесь-то и начался ожесточенный рукопашный бой. Ширванцы, направляемые Врангелем, накатывались на горцев белыми волнами и откатывались обратно красными. Горцы едва сдерживали натиск, теряли людей, в дело уже вступили и Шамиль с Султанбеком и Юнусом. Волны продолжали биться о непреодолимую преграду и снова откатываться.
Вдруг к горцам подоспела подмога, это были женщины, кто в мужской одежде, а кто и в своей, но с кинжалами и ружьями. Они уже не хотели сидеть в своих подземельях, содрогаясь от страха и мучительно ожидая печальных вестей. Они предпочитали умереть рядом со своими мужьям и братьями. Вступили в дело и старики, сбрасывая на солдат обломки разбитых укреплений. А в укрытиях ползали мальчишки, заряжая ружья и подавая их по мере надобности. Если подавать становилось некому, то они вставали у амбразур и сами.
Скоро ров превратился в страшное месиво, где раненые и убитые соседствовали с живыми, которым некуда было деться, потому что сзади продолжали напирать все новые и новые роты. Через головы товарищей лезли вперед саперы, пытаясь прикрыть авангард турами, но из этого ничего не выходило. Врангель пытался остановить этот хаос, но его никто не слушал, толпа жила теперь своими законами. Потом и Врангель был ранен пулей навылет. Он припал к стане, с ужасом наблюдая, как гибнут его храбрые солдаты. Врангель стонал не от боли, а от бессилия, потому что ничем не мог помочь ни им, ни себе.
Не лучше обстояли дела и у первого перекопа. На узком перешейке столпилось так много солдат, что некоторые срывались в пропасть, а остальные были беззащитны перед огнем невидимых мюридов. К тому же колонна уже лишилась почти всех своих командиров и, не получая приказов, застыла в смертельной неподвижности. Воспользовавшись замешательством, Шамиль двинул горцев в контратаку. Снова завязалась ужасная рубка, в результате которой была отбита передняя линия укреплений.
Уже из главного лагеря были присланы офицеры и трубачи, заигравшие ненавистное Граббе «Та-та-та-та», означавшее отступление. Но отступать через заваленный ранеными и убитыми узкий перешеек было невозможно. И колонне пришлось отбиваться от наседавших горцев до тех пор, пока противников не разделила ночь. Только тогда измученные остатки колонны Врангеля смогли вернуться обратно. Из всех своих офицеров ширванцы принесли с собой только тяжело раненного барона Врангеля.
Помощи от других отрядов ширванцы не дождались. Те сами нуждались в помощи, особенно средняя колонна Тарасевича. Поначалу все складывалось удачно, и колонна углубилась в ущелье. Но горцы видели ее движение и выжидали, пока колонна полностью втянется в узкую теснину. Тарасевич уже высматривал тропинки, по которым можно было бы подняться наверх, когда на его колонну обрушился свинцовый дождь с обоих Ахульго. Ответные выстрелы не достигали цели, солдаты не видели противника и беспорядочно палили вверх. Затем на них посыпались камни и бревна. Укрыться было негде, и Тарасевич счел за лучшее поспешно отступить. Но большое число убитых и раненых не позволяло колонне быстро покинуть ужасное ущелье. Тарасевич и сам был ранен и вернулся к ночи, едва избежав гибели всей колонны под грудами камней. Выходило, что он повторил рекогносцировку Шульца, только с еще большими потерями.
Левая колонна подступила к Старому Ахульго и остановилась в ожидании развязки главного сражения. Попову удалось лишь подойти к завалам и затеять вялую перестрелку с их защитниками. Убедившись, что Попов не решается напасть, Омар-хаджи отправил к Шамилю подмогу. Перебежав по сохраненному мосту на Новое Ахульго, мюриды сразу же отправились на передовую, где кипела настоящая битва.
Результаты операции привели Граббе в оцепенение. Ужасные жертвы оказались напрасными. Галафеев утешал его тем, что горцев тоже погибло немало и, хотя потери несоизмеримы, они крайне чувствительны для Шамиля, у которого остается все меньше людей. Граббе же винил во всем Врангеля, и только полученное им в бою ранение спасало барона от гнева командующего. Граббе даже начал подозревать, что Головин намеренно прислал к нему бездарного командира. Сам бы Граббе не доверил такому полковнику и роты, даром что барон! Теперь можно было сколько угодно раздувать потери горцев, но невозможно было скрыть собственные потери. Даже уменьшенные вдвое, они выглядели чудовищно. Но самое страшное было даже не в потерях, а в том, что перспектива взятия Ахульго становилась теперь весьма туманной. И спросят за все не с Врангеля, а с Граббе.
Командующий ушел в свою палатку и не велел никого принимать. Ему было так плохо, что заболела старая, почти забытая, рана. Он хотел было позвать доктора, но тот был слишком занят в лазарете. Граббе, будто почувствовав свои немолодые годы, сидел ссутулившись за столом и пил ром из золоченого хрустального бокала. Но разве сон не сулил ему победу? Разве это был не вещий сон? Граббе попытался вспомнить, что ему привиделось ночью, и уже не был уверен, что явившаяся ему гора стонала и содрогалась от ужаса перед генералом. Теперь ему казалось, что она просто насмехалась над Граббе.
Глава 99
Хаджи-Мурад наблюдал за ходом битвы с возвышенности правее Ашильтинских садов, где располагалась Хунзахская милиция. Еще правее, за оврагом, по которому текла узкая речка, стояла милиция шамхала Тарковского. Граббе не доверял туземной милиции, он использовал ее большей частью для прикрытия тылов главного отряда и оттеснения повстанцев, пытавшихся небольшими группами прорваться на Ахульго.
Из расположения Хунзахской милиции почти ничего не было видно, кроме летящих снарядов и колонны Врангеля, облепившей перешеек между Ахульго и Сурхаевой башней. Хаджи-Мурад хотел видеть больше и перебрался с ближайшими нукерами на позиции апшеронцев, стоявших ближе к месту событий. Но и отсюда не все можно было разглядеть, кроме общего хода событий. Нукеры живо комментировали сражение.
– Смотри, смотри! – кричали они.
– Идут, как отара!
– Остановились!
– Мюриды не отходят!
– Эти волки будут стоять до конца.
– А куда им деваться? Семьи же тоже там!
– Зачем толпой идут? Там один человек еле пройдет.
– Мюриды из-под земли, что ли, стреляют?
– Нет, Шамиль Врангелю не по зубам.
– Задавит… Вон у него какая сила!
– Друг друга они задавят, – сказал Хаджи-Мурад.
– Там развернуться негде.
– Смотри, наши в шашки бросились! – продолжали нукеры.
– Они не наши, они Шамилевские…
– Все равно хорошо дерутся.
– Пусть со мной попробуют, – мрачно произнес Хаджи-Мурад.
– Тогда посмотрим.
Он повернул коня и поехал обратно. Битва ему не понравилась, он чувствовал, что штурм не увенчается успехом. Слишком самонадеянно атаковал Врангель, и слишком упорно отбивались мюриды. Но что-то еще беспокоило Хаджи-Мурада, в чем он не готов был себе признаться. Шамиль держался на Ахульго уже больше месяца, и не похоже было, чтобы он собирался сложить оружие. Значит, он на что-то надеялся. Но на что?
Ополчение уже не могло серьезно укрепить Шамиля. Его почти не было, а то, что пробиралось с левого берега Койсу, было слишком мало, чтобы изменить соотношение сил. Граббе тоже не собирался уходить. Напротив, к нему регулярно прибывали новые силы. Ахульго было раскалено от солнца и снарядов, там должны были кончиться вода, пища, да и пули с порохом. Что же тогда придавало Шамилю силы держаться и надеяться на успех? Неужели вера в справедливость своего дела? Для горцев это было посильнее оружия. Хаджи-Мурад в душе не хотел, чтобы Граббе одолел горцев, чтобы Шамиль сдался генералу, чтобы все решилось без участия самого Хаджи-Мурада, а его личный враг Ахмед-хан торжествовал победу. Но стойкость горцев вызывала у Хаджи-Мурада невольное уважение и бередила его душу. Ему казалось, что неустрашимость мюридов бросала тень на воинскую доблесть самого Хаджи-Мурада, стоявшего на другой стороне.
Ночью пронесся слух, что Врангель потерпел неудачу. А перед рассветом вновь загрохотали пушки. Они били так часто, что не было слышно даже эхо. Хаджи-Мурад помолился и отправился в главный лагерь узнать, чем кончилось дело.
Лагерь сам теперь напоминал поле сражения. Повсюду лежали раненые, отовсюду несли погибших. Вокруг царили растерянность и уныние.
Ротные командиры проводили переклички, прежде чем подать рапорт о потерях.
– Федяев?
– Погиб, – отвечали из строя.
– Лыков?
– Здесь я.
– Прасковьин?
– Здесь.
– Левандовский?
– Убит.
– Плотников?
– Без вести пропал.
– Берг?
– В лазарет понесли Максимку.
– Киселев?
– Здесь!
Ротный удивленно поднял глаза.
– Ты же раненый был.
– Контужен только, – ответил Киселев.
– Пустяшное дело.
Хаджи-Мурад ехал дальше.
Роты, не участвовавшие в деле, занимались своими делами. Одни варили кашу в котелке над костром, другие чистили ружья, третьи чинили одежду. Были и такие, что спали после того, как всю ночь выносили раненых и убитых.
Один солдат, уснувший под яблоней, приоткрыл глаза, услышав, как фыркнул конь Хаджи-Мурада. Увидев горца, солдат вскочил и схватился за ружье с криком «Горцы!»
– Отставить! – остановил его фельдфебель, узнавший Хаджи-Мурада.
– Извиняйте, господин прапорщик, – сказал фельдфебель Хаджи-Мураду.
– Утомились солдатики. Уже своих за мюридов принимают.
Хаджи-Мурад и бровью не повел и продолжил свой путь.
Из садов поднимался легкий дымок и доносился запах свежего хлеба. Чуть поодаль, у берега речки, повара разделывали коровью тушу.
А еще дальше, на небольшом поле, двое солдат поливали грядки из кувшина.
– Это что? – спросил их Хаджи-Му-рад.
– Огурцы, ваше благородие, – отвечали солдаты.
– Авось, поспеют, пока Шамильку возьмем.
Хаджи-Мурад ехал дальше и краем глаза замечал, что солдаты и даже некоторые офицеры поглядывают на него с опаской и отчуждением. Хаджи-Мурад чувствовал, что после неудачного штурма в нем видели уже не союзника, а тайного сторонника Шамиля хотя бы потому, что Хаджи-Мурад тоже был горцем. Затем он снова услышал перекличку.
– Мищенко, подпоручик?
– Убит их благородие.
– Григорьев?
– Здесь!
– Кумовой?
– Ранен.
– Рублев?
– Не нашли…
– Как – не нашли? Ему же, ефрейтору, через месяц в отставку?
– Небось, с кручи сорвался, царство ему небесное.
– Ямщиков?
– В лазарете.
– Дерюгин?
– Пропал.
– Мордовин?
– Тута!
По обрывкам разговоров, по тому, сколько тел лежало перед отрядным священником, читавшим над погибшими молитвы, по мрачным лицам командиров, по переполненному лазарету Хаджи-Мурад прикидывал потери Граббе. Выходило, что из строя выбыла почти половина колонны Врангеля, тысячи две солдат, не считая офицеров. Офицеры называли это неудачей, Хаджи-Мурад считал это поражением.
Объезжая лазарет, Хаджи-Мурад наткнулся на страшную картину. На задворках стояло несколько корзин, из которых торчали ампутированные конечности. Хаджи-Мурад невольно отвел глаза и пришпорил коня. Эта сторона войны обожгла даже его храброе сердце.
Он миновал овраг и увидел своего знакомого. Это был Стефан, который сидел на пне у костра и задумчиво курил папиросу.
– Салам алейкум, – поздоровался с ним Хаджи-Мурад, останавливая коня.
– А, джигит! – улыбнулся Развадовский вставая.
– Салам. Давно не виделись.
– На Ахульго ходил? – спросил Хаджи-Мурад.
Стефан показал перевязанную руку.
– Ранен я.
– А труба твоя где?
– Отдыхает.
– Хорошо, – кивнул Хаджи-Мурад.
– Теперь вам не до музыки.
– А сам что? – спросил Стефан.
– Пойдешь на Ахульго?
– Не пускают, – покачал головой Хаджи-Мурад.
– Подожду, пока солдаты кончатся.
– Долго ждать придется, – сказал Стефан.
– Скажи лучше, сколько Шамиль продержится?
– Аллах знает, – развел руками Хаджи-Мурад.
– Вы лучше домой идите, мы тут сами разберемся.
– Раньше надо было разбираться, – сказал Развадовский.
– Мы бы сюда и не сунулись. А теперь, брат, поздно. Теперь для Граббе – пан или пропал.
– Пропал, – хитро улыбнулся Хаджи-Мурад.
– Даже если Шамиля победит, и то пропал.
– Как это? – не понял Развадовский.
– Увидишь, – ответил Хаджи-Мурад и тронул коня вперед.
Озадаченный музыкант смотрел вслед известному джигиту и силился вникнуть в его слова. Кавказские премудрости были ему непонятны, но все яснее становилось другое – Шамиль сам превращался в какую-то исполинскую гору, которую невозможно было одолеть. И Стефан молил Бога, чтобы никто больше не пытался это сделать, чтобы кончились эти ужасные штурмы, чтобы отряд вернулся назад, а он, музыкант Стефан Развадовский, вернулся в свой отчий дом в Польшу. Но пока это было невозможно, и Стефан утешал себя тем, что его труба хотя бы не играла «в атаку», а только «все назад».
Хаджи-Мурад проехал через сады, с недоумением оглядываясь на свежие пни, миновал пекарню, которую топили дровами из фруктовых деревьев, и остановился на краю сада, у больших камней, с которых открывался вид на оба Ахульго.
Хаджи-Мурад долго смотрел на эти горы, будто ожидая, что они откроют ему свою тайну. Но горы молча залечивали свои раны. И вдруг Хаджи-Мураду до боли захотелось оказаться там, на Ахульго, среди свободных людей, среди мужчин, которыми мог гордиться весь Дагестан и которых уважали даже их противники.
Вдруг цепкий слух Хаджи-Мурада уловил какой-то шорох. Хаджи-Мурад резко обернулся в седле, успев выхватить свою верную саблю. Вокруг никого не было. Хаджи-Мурад поднял глаза вверх и увидел перепуганного мальчишку, который сидел на выступе, прижимая к себе подзорную трубу. Хаджи-Мурад приподнялся в седле и снял мальчишку с камня.
– Не убивайте, дяденька! – с трудом выговорил Ефимка.
– Не бойся, – сказал Хаджи-Мурад, опуская мальчишку на землю.
Он взял у Ефимки трубу и посмотрел в нее на Ахульго. Теперь он видел фигурки людей, мужчин и женщин, которые восстанавливали то, что разрушили пушки. Хаджи-Мурад навел трубу получше и различил девочку, которая обходила с кувшином людей, помогая им утолить жажду. Прапорщик приник к окуляру, находя на Ахульго все новые интересные подробности. Эта труба была чудесным изобретением, она доставала туда, куда не долетали пули.
– Бери! – сказал Хаджи-Мурад, протягивая мальчишке золотую монету.
Но рядом уже никого не было. Хаджи-Мурад удивленно оглядывался, пока не убедился, что мальчишка исчез. Тогда он решил, что заплатит мальчишке даже больше, когда встретит его в лагере, а пока его манило Ахульго, и он снова направил волшебную трубу на загадочную гору.
Глава 100
На хуторе Айдемира все было тихо. Младенец рос, а Парихан училась быть матерью. Ей очень не хватало других женщин, с которыми можно было бы поделиться радостями и заботами. Только оставшись одна на затерянном в горах хуторе, она почувствовала, как много для женщины значат мать, сестры, подруги. Хабиб помогал ей, как мог, но он и сам был еще слишком молод, да и не обо всем его можно было попросить. Он видел, как трудно приходится его жене с грудным младенцем, и хотел отвести ее в какой-нибудь аул, еще не покинутый людьми. Но Парихан упрямилась. Она говорила, что не может идти с ребенком неизвестно куда, по раскаленным горам, тем более когда кругом война. Но в душе она боялась другого, что Хабиб, если удастся ее пристроить к добрым людям, сразу же уйдет на Ахульго.
Хабиб, действительно, едва сдерживался, чтобы не отправиться на помощь имаму, мюридом которого он уже давно себя считал. Ему казалось, что он предает дело, за которое боролись горцы, что это позор, когда старый отец воюет вместо молодого сына. Эти терзания не давали ему покоя и лишали сна. Неподалеку была вершина, с которой можно было разглядеть Ахульго, и Хабиб часто на нее поднимался. До него ясно доносился грохот пушек, он видел вечерами сотни костров в лагере Граббе и понимал, что на Ахульго становится все тяжелее. Однажды оказалось, что исчезла Сурхаева башня. Он не верил своим глазам, но так оно и было. Хабиб не выдержал и погнал оставшихся овец к переправе. Парихан он ничего не сказал, но взял слово с Айдемира, что если он не вернется, то тот доставит его жену и ребенка в Гимры. Айдемир поклялся, что так и сделает, как только сможет идти. Нога его шла на поправку, но до выздоровления было еще далеко. У дверей своей сакли Хабиб оставил верного волкодава, который мог защитить Парихан и ее ребенка от кого угодно. Уходил Хабиб с тяжелым сердцем, но и оставаться уже не мог.
Чем ближе Хабиб подходил к переправе, тем громче была канонада, гремевшая на Ахульго. Даже рев бушующей реки не в силах был ее заглушить. Переправа представляла собой два связанных вместе бревна, перекинутых через Койсу в узком месте. Переходить по ним нужно было с осторожностью, потому что чем уже было русло реки, тем сильнее было ее течение.
Хабиб понимал: могло оказаться, что все вокруг уже захвачено царскими войсками. Он оставил отару за огромной глыбой и осторожно приблизился к переправе. У переправы никого не было видно. Если не было солдат, значит, переправу должны были охранять горцы хотя бы для того, чтобы сбросить бревна в реку, если бы вдруг появился неприятель.
– Эй, люди! – крикнул Хабиб.
– Кто ты? – донеслось с другого берега.
Отвечавший Хабибу не показывался, тоже соблюдая осторожность.
– Я – Хабиб, сын Курбана из Чиркаты!
– Чего надо? – спросили с другой стороны.
– Овец привел!
– Где они? – послышалось в ответ.
– Здесь! – ответил Хабиб.
– А вы кто?
– Мюриды!
– Покажитесь хоть один!
На другой стороне помолчали, а затем из укрытия вышли Курбан и еще двое стариков с ружьями.
– Отец?! – то ли обрадовался, то ли огорчился Хабиб.
– Я, сынок!
Хабиб перебежал мостик, поздоровался с аксакалами и обнял отца.
– А где твой немой помощник?
– Остался на хуторе, – сказал Хабиб.
– А Парихан с сыном?
– Они в безопасности, – заверил Хабиб.
– Где они сейчас?
– Там, на хуторе. Но скоро уйдут в Гимры.
– Гони сюда овец, а сам иди обратно, – велел Курбан.
– Я хочу подняться на Ахульго, – сказал сын.
– Делай, что отец говорит, – настаивал Курбан.
– Лучше ты иди на хутор, а я пойду на Ахульго, – предложил Хабиб.
– Что мне делать на хуторе?
– Мы зарезали половину отары, – объяснил Хабиб.
– Зачем? – удивился Курбан.
– Думали, осада продлится долго.
– Напрасно вы так думали.
– Но если Сурхаеву башню взяли… – говорил Хабиб.
– Башню взяли, а Ахульго – нет, – прервал его Курбан.
– Вчера полезли, но мы их так встретили, что генерал, наверное, уже свои палатки сворачивает. Так что возвращайся к семье, а мы тут сами справимся.
– Но, отец… Мои друзья воюют, а я…
Курбан хотел было сказать сыну, что многие из его друзей погибли, но сдержался.
– Если я твой отец, повинуйся, – велел Курбан.
– Хорошо, отец, – опустил голову Хабиб.
Он перегнал овец и нехотя пошел обратно. Взобравшись на уступ, он оглянулся и увидел, как старики погнали его овец к Ахульго, а отец шел позади и часто оглядывался, чтобы еще раз увидеть сына.
Аркадий изнывал от неизвестности. Он уже сделался заправским чабаном, научился доить овец, делать сыр и коптить бараньи туши. Он почти выучил аварский язык, хотя некоторые звуки произносил так, что вызывал у остальных улыбку, зато отрастил густую бороду и выглядел, как настоящий горец. Он уже не понимал, зачем драться с горцами, когда с ними можно жить, как с братьями, полагаясь на слово и зная, что те кунака не подведут. Естественная жизнь в горах наложила свой отпечаток не только на внешность, но и на мысли Аркадия. Он уразумел, что свобода для горцев – вовсе не отвлеченное понятие, не эфемерные мечты салонных вольнодумцев. Здесь, в горах, она составляла такую же природную необходимость, как вода или воздух. Она пестовалась веками, вошла в плоть и кровь, а потому и защищалась до последнего. И дело было не столько в Шамиле, сумевшем сделать свободу знаменем народного восстания, сколько в том, что горцы понимали свободу как залог справедливости и равенства. А неусыпным стражем человеческого достоинства служил здесь кинжал. Он был и у простого горца – узденя, и у хана, и никогда не было известно заранее, за кем окажется последнее слово. Тут был свой дуэльный кодекс, ясный, быстрый и неотвратимый. Он не требовал ни церемоний, ни секундантов, достаточно было обнажить клинок. А потому воздержанность в словах и поступках равно была полезна и аристократу, и обычному горцу. Тех же, кто пренебрегал законами гор, ждала неминуемая кара или от оскорбленного, или от всего общества. Аркадий узнавал горцев все лучше, многое в их жизни принимал сердцем, но что-то оставалось ему чуждым.
Он сидел у костра, задумчиво шевелил палкой угольки и спрашивал себя:
– Ну вот, даст Бог, жив останусь, вернусь домой. Батюшка стар уже, отпишет мне имение. Так что же, мужикам прикажете волю давать? Да готовы ли они к ней? Что они с ней делать будут? Пропадут ведь! Воля – она, брат, не фунт изюму, особого обращения требует. Вон, приятель выиграл в карты сотню тысяч, так чуть ума не лишился от радости. Покутил недельку, и опять в долгах.
Но вместе с тем Аркадий чувствовал, что плохо знает мужиков. Окажись какой-нибудь с ним на хуторе, еще неизвестно, от кого будет больше толку. Да и солдаты здесь – тоже бывшие мужики, но люди-то натурально другие. Такой к барину на поклон не пойдет. Может, потому и бегут они к Шамилю, что холопство им не по нутру? Да взять хотя бы самого Аркадия. Кем он был, что он понимал, когда отправлялся на Кавказ с дуэльными пистолетами в багаже и сумасбродными идеями в голове? И каким теперь стал? Невеста его бывшая, и та бы его вряд ли узнала, встреться они на улице. А тем более если бы пришла в цирк со своим «фазаном», ветераном липовым, а Аркадий бы, к примеру, бегал там на канате и исполнял смертельные сальто-мортале.
Размышления Аркадия прервал собачий лай. Волкодав почуял опасность и настороженно всматривался в темноту. Уже должен был вернуться Хабиб, но пес не мог так грозно скалить клыки на хозяина. Айдемир тоже почувствовал неладное и приковылял из сарая, опираясь на палку.
Волкодав лаял то в одну сторону, то в другую, будто не понимая, откуда исходит опасность.
– Может, солдаты? – вслушивался в темноту Айдемир.
– Выследили? – догадался Аркадий, становясь поближе к Айдемиру.
Айдемир вынул кинжал, Аркадий вынул свой. Они стали спина к спине. И вдруг пес с громким лаем бросился в темноту. Затем послышались шум борьбы, визг, лай и завывания. Айдемир и Аркадий бросились следом за волкодавом и уже через несколько шагов поняли, что он дерется со стаей волков, защищая пещеру, где сушились бараньи туши.
Айдемир вонзил кинжал в спину вцепившегося в волкодава волка, затем проткнул другого, который бросился на самого Айдемира. Аркадий, обращавшийся теперь с кинжалом так же ловко, как прежде он обращался с картами на ломберном столике, тоже пустил свое оружие в ход.
Волки были голодны и свирепы. Война распугала дичь, и им ничего не оставалось, как нападать на все, что удавалось выследить. А запах вяленого мяса разносился так далеко и был так соблазнителен, что волки не убоялись даже своего злейшего врага – волкодава. Раненные звери жалобно скулили, убитые мешались под ногами, а остальные наседали все яростнее. Волкодав и сам был изранен, но продолжал кувыркаться в кровавом месиве. Айдемир и Аркадий тоже успели почувствовать остроту волчьих клыков, но еще держались на ногах, ожесточенно рубя зверей кинжалами. Большой матерый волк бросился на спину Аркадия, и он упал. Страшные челюсти готовы были сомкнуться на его шее, когда прозвучал выстрел. Это была Парихан, отважившаяся прийти на помощь. Аркадий сбросил с себя убитого волка и вскочил на ноги.
– Уходите! – крикнул он женщине.
– Прячьтесь!
Но Парихан размахнулась и разбила прикладом ружья голову еще одному волку, а затем отбросила ружье и обнажила саблю своего мужа.
Хабиб услышал стрельбу, когда до хутора оставалось перейти последний гребень. Подгоняемый тревогой, он бросился вперед и подоспел к месту схватки, когда она была еще в самом разгаре. Он застрелил одного волка из пистолета, пронзил кинжалом другого и, отобрав у жены саблю, принялся рубить волков направо и налево. Почуяв, что людей и их собаку не одолеть, уцелевшие волки бросились удирать, преследуемые рассвирепевшим в битве волкодавом.
Утром насчитали восемь убитых волков. Хабиб зажег факел и пошел в пещеру, где сушились бараньи туши. Их там сильно поубавилось. Волки действовали отважно и умно: пока одни дрались, другие сумели почти опустошить пещеру. Осталось всего с десяток туш. Волки, судя по всему, приходили большой стаей.
Аркадий взял у расстроенного Хабиба факел и пошел в глубь пещеры, проверить, не затаился ли где-нибудь волк. Волка он не нашел, зато вдруг увидел на стенах удивительные рисунки. Существа, похожие на людей, кололи друг друга копьями и стреляли из луков. Рядом такие же существа охотились на зверей: одни, с длинными рогами, напоминали коз и оленей, другие походили на небольших слонов, третьи и вовсе казались Аркадию драконами. Вернувшись, он рассказал об увиденном Айдемиру.
– У нас таких картинок много, – махнул рукой Айдемир.
– То война, то охота. Тысячи лет прошло, а ничего не меняется. Хоть бы кто-нибудь когда-нибудь нарисовал людей, которые танцуют или по канату ходят. Правда, на одной скале я видел людей, которые летели на птицах.
Парихан с ужасом смотрела на результаты ночной битвы и удивлялась, как это она решилась принять в ней участие. Но плачущий в доме сын объяснял ее храбрость, ведь он тоже был в опасности.
Она помогала мужу, который перевязывал Айдемира и Аркадия, и заверял их, что раны не опасны. Отец научил Хабиба разбираться в травах, он приготовил целебные мази. Но волкодав был изодран так, что Айдемир уже не надеялся, что тот выживет. Он лечил пса, как мог, ласкал и старался получше кормить.
Хабиб поведал друзьям все, что узнал о сражении на Ахульго. Как пала Сурхаева башня, как горцы отбили штурм Граббе. Когда речь зашла о жертвах, Аркадий старался не смотреть на горцев, а те старались не смотреть на своего гостя.
– Думаете, генерал теперь уйдет? – спросил Хабиб после того, как все рассказал.
– Может быть, – сказал Айдемир.
– Если не получил подкрепление.
– А ты как думаешь? – обратился Хабиб к Аркадию.
– Он не уйдет, – сказал Аркадий.
– Почему? – спросил Айдемир.
– Потому, что это – Граббе, – ответил Аркадий.
– Царь не помилует, если он вернется ни с чем после стольких трат и стольких жертв.
– У нас тоже немало жертв, – сказал Хабиб.
– Но Шамиль ведь не уходит?
– Это наша земля, – воскликнул Айдемир.
– Нам уходить некуда.
Мази помогли, и раны быстро заживали. Через неделю поднялся на ноги и волкодав. Он облаял ворону, нацелившуюся на его пищу, а затем вернулся на свой пост у сакли, не забывая держать под присмотром и вход в пещеру, на которую напали волки. Он слегка прихрамывал на правую переднюю лапу, но был по-прежнему грозен для врагов.
– Волки могут вернуться, – беспокоился Айдемир.
– Неужели посмеют? – сомневался Аркадий.
– Дадут знать другой стае, что тут есть чем поживиться, и снова явятся, – сказал Хабиб.
– Надо что-то делать, – размышлял Айдемир.
– Придется переправлять туши на Ахульго, – кивнул Хабиб.
– Пусть там сушат, если так не съедят.
– Там тоже пещер много, – согласился Айдемир.
– И людей немало.
Ночью Парихан встала, чтобы покормить сына, и увидела, что Хабиб забирает с собой саблю, весь порох и пули. Она поняла, что он не вернется.
На следующий день, когда Хабиб нагрузил коня бараньими тушами и сыром, чтобы отправиться вниз, к переправе, Парихан встала у него на пути.
– Я пойду с тобой.
– Зачем? – встревожился Хабиб.
– Я скоро вернусь
– Ты не вернешься.
– Вернусь или не вернусь, а тебе нужно уходить в Гимры, – сказал Хабиб, отводя глаза.
– Айдемир тебя отведет, как только поправится.
– Нет, – твердо сказала Парихан.
– Я пойду с тобой.
– На Ахульго бои, – отговаривал ее муж.
– Там мой отец. Я умру со стыда, если с ним что-то случится. Разве ты не слышишь, как стреляют пушки?
– Не слышу, – ответила Парихан.
– Только вижу, что ты хочешь бросить нас.
– Я должен идти, Парихан! – убеждал жену Хабиб.
– А ты должна спасти нашего сына!
– Пусть я увижу то, что увидишь ты, – упрямо твердила Парихан.
– Если на Ахульго так страшно, почему другие жены еще там?
– Не смей ходить за мной! – крикнул Хабиб и повел коня прочь.
Парихан заплакала и вернулась в саклю. Но, как только Хабиб скрылся из виду, Парихан с укутанным младенцем в руках бросилась вслед за своим мужем.
Айдемир с Аркадием изумленно наблюдали семейную драму.
– Верни ее, – сказал Аркадий товарищ у.
– Оставь, – ответил Айдемир.
– Это их дело.
– А мы как же? – спросил Аркадий.
– Ты как хочешь, а я пойду на Ахульго, – сказал Айдемир.
Затем уселся на камень и начал вспарывать ножом одеревеневшую и почти приросшую к ноге шкурку ягненка.
– Давай помогу, – предложил Аркадий.
Он снял шкуру, и они увидели, что нога Айдемира почти зажила. Айдемир прошелся, не обращая внимания на оставшуюся еще боль, и сказал:
– Как новая!
– И по канату сможешь? – с улыбкой спросил Аркадий.
– Конечно! – ответил Айдемир и попытался исполнить несколько шагов лезгинки. Но боль стала сильнее, и ему пришлось отложить танец до лучших времен.
– Не спеши, брат, – сказал Аркадий.
– На Ахульго калеки не нужны, – согласился Айдемир, потирая ногу.
– Ничего, скоро буду бегать, как горный тур.
Глава 101
На Ахульго царило воодушевление. Горцы увидели, что можно бороться даже с огромным отрядом Граббе. Они верили, что нового штурма не будет и генерал оставит Ахульго в покое. Потери горцев были ощутимы, но не фатальны.
– Погибшие обрели рай, – утешал людей Шамиль.
– Они погибли не напрасно.
Слух о победе горцев разнесся по всем горам. А на следующий день к Шамилю прибыло пополнение – около ста чиркеевцев во главе со старшиной Джамалом. Он хорошо понимал, как имам нуждается теперь в помощи, и старался делать что мог. На Ахульго их встретили с радостью и облегчением. Люди видели в них надежду на то, что ход борьбы теперь изменится и что за чиркеевцами последуют другие. Имам ожидал, что воспрянут духом даже те, кто прежде не решался придти на помощь Ахульго.
Вместе с чиркеевцами на Ахульго поднялись и Хабиб с женой. Парихан поклялась, что бросится с ребенком в пропасть, если Хабиб не возьмет их с собой. И ему пришлось уступить. Он в последний раз покормил своего коня хлебом и отправил назад, привязав к его уху записку: «Привезите остальное».
Больше всего Хабиб опасался встретить отца, но на этот раз переправу охраняли юноши. Парихан отправилась в свое прежнее жилище, но оно оказалось занятым. Тогда Парихан поселилась у своей двоюродной сестры, муж которой воевал на Старом Ахульго. А Хабиб влился в ряды мюридов, занимавших там же передовые укрепления. Он старался не появляться на Новом Ахульго, избегая встречи с отцом. Но однажды услышал, что отца ранило осколком снаряда, и поспешил его проведать. К тому месту, где обособленно жили аксакалы, он подходил осторожно. И вдруг увидел отца. У того был шрам на щеке, но, тем не менее, Курбан выглядел молодцом. Он и еще несколько аксакалов сидели над тазом, в котором были разведены хна и басма, и красили свои седые бороды, которые после этой нехитрой процедуры обретали темно-коричневый цвет.
– Теперь за молодых сойдем, – шутил приятель Курбана.
– А что? – улыбался Курбан.
– Лет по десять-двадцать сбросим!
– Пусть генерал думает, что тут одни молодые, – добавил третий.
– Издалека все равно не различить.
– Генерала-то мы обманем, – лукаво улыбался самый старший.
– Еще бы вдовушку молодую убедить…
– Сама влюбится, – смеялись остальные.
– Вот война кончится, и женишься.
– Теперь войне конец, – кивал почтенный жених.
– Генерал таких орлов увидит – сам убежит.
– А сам не убежит – мы заставим, – обещал Курбан.
– Борода – бородой, а в битвах даже кровь молодеет!
Хабиб убедился, что дела у его отца не так уж плохи, и вернулся назад со спокойной душой.
Вскоре Шамиль получил еще одну радостную весть: наиб Галбац занял Чиркату, обеспечивая сообщение с Ахульго по левому берегу Койсу и переправе. Имам стремился использовать замешательство в лагере Граббе для увеличения своих сил и отправил Сурхая в верхние общества за новым пополнением. Шамиль чувствовал, что Граббе не уйдет, несмотря на свои тяжелые потери. Даже после неудачного штурма и прибывших к Шамилю чиркеевцев, у Граббе оставался значительный перевес сил, а пушки продолжали бить день и ночь. Впрочем, воины к этому давно привыкли, а остальных обитателей спасало то, что до жилищ ядра долетали редко, потому что пологий склон, на котором они располагались, был скрыт от батарей за приподнятым хребтом самого Ахульго.
Но опасность стала спутницей каждого, кто жил на осажденной горе. И жизнь их невольно менялась, приноравливаясь к тому, что происходило вокруг. Женщины просили ученых людей написать самые сильные молитвы, способные защитить от опасностей. Эти молитвы – саба – зашивались в небольшие кожаные треугольники и вешались на шеи детям. Колыбельные песни звучали печальнее, радость стала редкой гостьей в подземных домах, а детей отпускали только на уроки в медресе при мечети. Девочкам стало не до игр, им приходилось заменять матерей, многие из которых сражались вместе с мужьями. Но мальчишки оставались мальчишками, только игры их теперь были воинственными. Им разрешили вооружиться ружьями и пистолетами, и они теперь соревновались по-взрослому, стреляя в цель, бросая из пращи уже не просто камни, а самодельные гранаты – маленькие кувшины с порохом и горящим фитилем. В ходу были и луки со стрелами. Наконечники стрел окунались в нефть и поджигались перед выстрелом. Многие юноши были вооружены и саблями, доставшимися им по наследству от погибших отцов. Взрослые взирали на опасные игры без радости, но и не запрещали. Кто мог знать, чем обернется эта битва?
Вечерами женщины собирались вместе, чтобы погадать на Коране о том, что их ждет. Были и такие, кто гадал по бараньей лопатке. Ее держали против лампы и по линиям, проступавшим на лопатке, предсказывали судьбу. Но большей частью люди молились, прося Аллаха об избавлении от подступившей к Ахульго беды.
Шамиль видел, как тяжело приходится людям на Ахульго, как они устали, как стойко переносят все несчастья и испытания. Он удивлялся их решимости стоять до конца. То, что раньше приносило славу герою, стало здесь обычным делом. Ахульго преображало своих защитников, будто передавая им свою несокрушимость. Шамиль понимал, что многие предпочитают погибнуть со славой, чем пребывать в мучительном ожидании смерти от ядра.
Через два дня после штурма Шамилю сообщили, что в лагере противника началось какое-то движение. Шамиль поспешил на передовые позиции, надеясь увидеть, как Граббе уводит свой отряд. Но ожидания имама не оправдались. Войска Граббе готовились к новому штурму Ахульго.
На этот раз инженеры соорудили целую галерею из больших щитов. Она была подвешена на канатах, которые держались на крепких столбах, врытых вдоль перешейка. И под этим прикрытием, защищавшим от пуль, саперы снова вгрызались в скалы, прокладывая к Ахульго новую широкую траншею. Шамиль внимательно изучал, как работают саперы, как охраняется сооружение и как оно устроено. Ему стало ясно, что, если не остановить это продвижение, крытая траншея скоро дотянется до его оборонительных рубежей и войска Граббе смогут безопасно к ним приблизиться, как по коридору. Понимали это и все остальные, а потому охотников разрушить хитроумное сооружение искать не пришлось.
– Будет непросто, – сказал он наибам.
– Я уничтожу эту постройку, – пообещал Ахбердилав.
– Мои люди уже делали такое, – сказал Балал Магомед.
– Справимся и на этот раз.
– Нужно действовать с двух сторон, – размышлял Шамиль.
– И наибам незачем туда идти. Мюриды сами справятся.
– Если разрешишь, имам, я это сделаю, – предложил Султанбек.
– А я зайду с другой стороны, – добавил Юнус.
– Хорошо, – согласился Шамиль и улыбнулся наибам: – Пусть молодые попробуют. Они уже засиделись за завалами.
Султанбек и Юнус обрадовано переглянулись.
– Сколько вам нужно людей? – спросил Шамиль.
– Человек двадцать, – прикинул Султанбек, всматриваясь в сооружение.
– Бери больше, – советовал Балал Магомед.
– У них там охрана есть.
– Хватит, – убеждал Султанбек.
– Тридцать человек, – сказал Шамиль.
– Пойдете по ущелью, взберетесь наверх и ударите сбоку, в середину, где опорные столбы.
– Он показал направление удара и продолжал: – Юнус и еще десять человек подберутся отсюда и ударят в лоб.
– Может, и нам сделать отвлекающую вылазку? – предложил Омар-хаджи, комендант Старого Ахульго.
– С вашей стороны стоит большой отряд, – сказал Шамиль.
– Будет достаточно, если с обоих Ахульго будет открыт огонь.
– Когда начинать? – спросил Султанбек.
– За час до предрассветной молитвы, – сказал Шамиль.
– Сначала мы бросим в них гранату. Где она? – спросил Шамиль Балал Магомеда.
Комендант Нового Ахульго сделал знак своему мюриду, и тот достал из мешка артиллерийскую гранату, которую горцы успели потушить и заново снарядить.
– Увидите взрыв – и сразу начинайте. Сначала Султанбек, потом перекрестный огонь, а тем временем начнет действовать Юнус.
– Хорошо придумано, – сказал Ахбердилав.
– Ты шутишь? – улыбнулся Шамиль.
– Что тут еще можно придумать?
– Не были бы мы заперты на горе, много бы чего придумали, – с сожалением сказал Ахбердилав.
– Даст Аллах, еще повоюем, – согласился Шамиль, а затем обернулся к своим помощникам: – Идите. И будьте осмотрительны. Нас теперь не так много, чтобы зря рисковать.
Перед тем, как спуститься в ущелье, Султанбек объяснил мюридам, как им предстоит действовать, а затем сказал:
– Братья! Кто-то из нас может не вернуться из этого дела. Если буду убит я, то прошу вас не беспокоиться о моем теле. Если сможете, сбросьте его с кручи, а не сможете – оставьте там. На все воля всевышнего. Имам доверил нам судьбу Ахульго, это важнее всего.
– Если погибну я – сбросьте меня с кручи, – отозвался один из мюридов.
– И меня, – послышались голоса.
– И меня тоже!
Тридцать мюридов бесшумно спустились в ущелье и двинулись вперед, к тропинке, которая поднималась к перешейку. Лежавший в ущелье туман скрывал их от постов противника. Султанбек первым поднялся к перешейку и затаился, ожидая сигнала. Позади него замерли остальные.
Вдруг, прочертив в ночи огненную полосу, на крытую галерею упала граната. Крыша колыхалась на канатах, отчего граната скатилась на землю и взорвалась позади охранявшего мантелет караула.
Солдаты начали палить в темноту, не понимая, что происходит. В ответ с обоих Ахульго затрещали сотни выстрелов. А затем над галереей взорвалась еще одна граната.
– Вперед! – крикнул Султанбек и бросился на караул.
Завязалась схватка. Оставив мюридов драться с солдатами, Султанбек бросился к столбам, на которых держалась вся конструкция. Но повалить их не удавалось даже такому богатырю, как он. Тогда Султанбек выхватил приготовленный заранее топор и принялся рубить столбы. Хабиб, бывший в отряде Султанбека, влез наверх и начал резать кинжалом канаты, связывавшие щиты укрытия. За Хабибом последовали другие, и скоро щиты с грохотом полетели в пропасть.
В лагере поднялась тревога. К караульным поспешила на выручку стоявшая неподалеку рота апшеронцев. Они бежали, укрываясь за большими камнями, но на их пути были и открытые места, по которым велся огонь. Покончив с караулом, мюриды бросились навстречу апшеронцам. И опять штыки сошлись с саблями, рассыпая в ночи сполохи искр.
Тем временем к галерее подобрались люди Юнуса. Они бросились довершать дело, начатое Султанбеком, сбивали столбы и крушили галерею.
К месту схватки подоспела и рота куринцев, но из-за узости места ей не удавалось вступить в дело, пока впереди дралась другая рота. Тогда апшеронцы начали взбираться на камни вокруг и стрелять в мюридов поверх голов своих товарищей. Падали мюриды, падали апшеронцы, но схватка продолжалась, пока Султанбек не услышал крик Юнуса:
– Все! Уходите!
Отряд Султанбека начал отступать и скоро скрылся в темном ущелье, в которое полетело перед тем и грандиозное сооружение со всеми его щитами. Затем отошли и люди Юнуса, провожаемые выстрелами апшеронцев.
Убитые горцы остались лежать на месте схватки. Сбрасывать тела вниз ни у кого не поднялась рука.
Вернувшихся мюридов встретили как героев. Но успех вылазки омрачало то, что вернулись не все. На Ахульго недосчитались шестерых воинов, семеро были легко ранены, еще один находился на грани жизни и смерти от сквозного штыкового удара. Раненых, которым требовалась серьезная помощь, разместили в мечети, где ими занялся лекарь Абдул-Азиз.
Шамиль был печален. Наибы надеялись, что теперь-то Граббе оставит свои попытки дотянуться до Ахульго. Но имам все больше убеждался, что генерал не остановится ни перед чем, чтобы добиться своего. От Жахпар-аги пришло сообщение, что Граббе поклялся штурмовать Ахульго столько, сколько потребуется, хотя бы даже всю зиму. Он готов был собрать здесь еще больше войск, но не уходить, не сокрушив Шамиля и его крепость.
– Этот генерал вынуждает нас драться, – говорил Шамиль наибам.
– До последнего мюрида, до последнего солдата.
– Еще посмотрим, кто кого, – сказал Ахбердилав.
– Слова – это только слова, – добавил Балал Магомед.
– Фезе тоже обещал раздавить нас, а вместо этого подписал мир и убрался.
– Фезе подписал, – согласился Шамиль.
– А Граббе нарушил. Похоже, у них каждый начальник открывает свою войну.
– Они делают то, что хотят наши ханы, – сказал Омар-хаджи.
– А ханы стоят подальше от Ахульго и ждут, пока мы с русскими перебьем друг друга, – добавил Джамал, тоже участвовавший в совете.
– Прогоним генерала, доберемся и до ханов, – пообещал Ахбердилав.
– Неужели Граббе и теперь не уйдет? – вопрошал Балал Магомед.
– Посмотрим, – сказал Шамиль.
– Сил у него еще много, – сказал Джамал.
– А нам ждать помощи уже не приходится.
– Люди еще придут! – надеялся Шамиль.
– Они не могут оставить нас в беде.
– Если и придут, то немного, – говорил Джамал.
– Кругом стоит ханская милиция. К тому же отступники снова подняли головы, и народ колеблется.
– Ты знаешь, сколько у ханов сабель? – спросил Шамиль.
– Тысячи три-четыре, – сказал Джамал.
– Охраняют войска Граббе со всех сторон, как цепные псы.
– Значит, остается надеяться на собственные силы, – решил Ахбердилав.
– Или попробовать договориться Граббе, – предложил Джамал.
– О чем нам с ним договариваться? – негодовал Балал Магомед.
– Даже с генералами можно договориться по-хорошему, – сказал Шамиль.
– Я бы договорился и с Граббе, как бы ему ни хотелось получить мою голову. Но с ханами договориться нельзя. Жаль, что царь не хочет понять, что все беды в Дагестане не от нас, а от ханской нечисти, которая стравливает наши народы, чтобы сохранить свою власть. А когда интересы ханов совпадают с интересами генералов, которые думают не о России, не о Дагестане, а о своих интересах, тогда дело оборачивается плохо.
– Сейчас Граббе думает о себе, а не о ханах, – заметил Джамал.
– Если он пойдет на переговоры – хорошо, а не пойдет – хотя бы выиграем время.
– Верно, – поддержал его Ахбердилав.
– Может, Сурхай успеет поднять народ и пробьется на Ахульго.
– Хорошо, – согласился Шамиль.
– Попробуем еще раз.
– У Граббе тоже есть умные офицеры, – сказал Джамал.
– И всем хочется жить.
Ночью Джамал спустился к переправе и окольными путями направился в лагерь Граббе.
Глава 102
Милютин корпел над журналом военных действий отряда. В него надлежало записывать все, что происходило в походе, но так, чтобы выглядело это победно и не вызывало у высшего начальства неприятных вопросов. К тому же Граббе и сам был не в духе, требовал одно вписать, другое вычеркнуть и вообще для начала представить ему проект записи в журнал касаемо последних событий.
Милютин призвал на помощь Васильчикова, и они долго колдовали над журналом. В конце концов неудачи были объяснены нехваткой войск, артиллерии и инженерных средств. Потери были преуменьшены и большей частью отнесены на болезни из-за дурного климата, гнилой амуниции и скверного продовольствия, которое поставлял Траскин.
Но по всему было видно, что командующий не до конца понимал, что произошло и почему. То вдруг Граббе отправлялся к передовым постам и долго смотрел на перешеек между Сурхаевой башней и Новым Ахульго, будто не верил, что титанические труды храбрых саперов пошли прахом. То принимался отчитывать Пулло и других командиров за дурное исполнение приказа, за нерасторопность полков, за неумелость инженеров, соорудивших неизвестно что, которое так легко сокрушила горстка горцев, то даже грозил сместить командиров с должностей, а на их места поставить шамилевских мюридов.
Подчиненные глухо роптали, но спорить не решались, потому что результаты их деятельности говорили сами за себя. Однако каждый полагал, что сделал бы все по-другому, а не как самонадеянный Граббе, не желавший признавать в Шамиле сильного противника и умелого полководца.
– Нашла коса на камень, – говорил Пулло друзьям – кавказским ветеранам.
– И что лезть на рожон? – разводил руками Галафеев.
– У Шамиля тылы открыты. Ведь предлагал же я занять левый берег Койсу, блокировать Шамиля окончательно, а там артиллерией и добить.
– Торопится командующий, – соглашался Лабинцев.
– Тут все от позиции зависит.
– Ждал, что Шамиль сам уйдет, – качал головой Попов.
– А вон оно как вышло.
– Думаете, снова штурмовать будем? – предположил Галафеев.
– Полагаю, что да, – кивнул Пулло.
– Дело пошло на принцип.
– Помяните мое слово, без занятия левого берега, без батарей в тылу у Шамиля дело не сделается, – уверял Галафеев.
– Рекогносцировочку бы провести надо.
– Я распоряжусь, – пообещал Пулло.
– Оно не помешает.
Сообщив Граббе, что на левом берегу замечены новые партии горцев, за которыми необходимо присматривать, Пулло приступил к исполнению данного Галафееву обещания насчет приготовлений к занятию левого берега. Он отправил топографа Алексеева и штабс-капитана Эдельгейма скрытно осмотреть берега реки, где бы можно было перекинуть новый мост, так как старый, у Чиркаты, был разрушен, а сам аул занимали мюриды. Тщательно осмотрев реку, Эдельгейм доложил, что нет места удобнее того, где был прежде Чиркатинский мост, но для устройства переправы могло сгодиться и другое место, на расстоянии ружейного выстрела от Старого Ахульго, где были обнаружены останки некогда существовавшего моста.
Когда Галафеев осторожно напомнил командующему о необходимости полного окружения Ахульго с занятием левого берега реки, Граббе нервно возразил:
– Вздор! Тогда придется отделить от отряда два или три батальона. Это слишком ослабит отряд, а кроме того, излишне долго и хлопотно. Я и так Шамиля возьму!
– Какие будут распоряжения, ваше превосходительство? – обреченно спросил Пулло.
– Восстановить крытую галерею! – приказал Граббе.
– И никаких канатов, пусть держится на цепях!
– Прикажете исполнять? – осведомился Галафеев.
– Немедленно! – велел Граббе.
– Причем под вашу, милостивый государь, ответственность!
Галафеев взял под козырек и собирался покинуть штабную палатку, когда Васильчиков явился с неожиданной вестью.
– Позвольте доложить, ваше превосходительство, – докладывал адъютант.
– От Шамиля прибыл парламентер.
– Парламентер? – Граббе победно оглядел подчиненных.
– Сдача?!
– Не могу знать, ваше превосходительство!
– Давайте его сюда!
Васильчиков вернулся с Джамалом.
– Ба! – воскликнул Пулло.
– Старый знакомый!
Джамал церемонно поздоровался с Граббе и его командирами, а затем объявил:
– Шамилю надоело воевать, он хочет говорить о мире.
– А ты почем знаешь? – спросил его Граббе.
– Знаю, – многозначительно улыбнулся Джамал.
– Сами увидите.
– Старый плут, – шепнул Попов Лабинцеву.
– Известный мошенник, – так же тихо ответил Лабинцев.
– Сын его у нас служит, а отец для Шамиля старается.
– Так что же предлагает твой Шамиль? – недоверчиво спросил Граббе.
– Мир, – ответил Джамал.
– Вы его не трогаете, он вас не трогает. И все идут по домам.
– Это я уже слышал, – заявил Граббе.
– Но не затем я сюда явился, чтобы Шамиль учил меня, что делать. Пусть сдается, и дело с концом.
– Так разговор не получится, – с сожалением вздохнул Джамал.
– Что люди скажут?
– Мне нет до этого дела, – сердился Граббе.
– У меня с бунтовщиками разговор короткий.
– Шамиль хоть и имам, но без разрешения совета ничего не сделает, – терпеливо объяснял Джамал.
– А совет хочет знать ваши условия.
– Сдача на милость победителя! – твердил свое Граббе, вдохновленный миражом скорого триумфа.
– Нельзя ли, господин генерал, написать Шамилю письмо? – попросил Джамал.
– Он мне не поверит, что вы не желаете кончить дело миром.
– По мне, так лучше ультиматум, – сказал Лабинцев.
– Штыком написать да картечью припечатать, – добавил Пулло.
– Воля ваша, – развел руками Джамал.
– Пишите, как хотите. Но мир любит другие слова.
– Будут тебе слова, – пообещал Граббе.
– Ступай пока.
Дождавшись, пока Джамал уйдет, Граббе торжествующе улыбнулся.
– Час близок, господа! Так и быть, по случаю исторического свершения обойдемся с Шамилем как с достойным противником. Тем важнее будет победа!
– Надо бы помягче написать, – советовал Галафеев.
– Горцы – народ гордый.
– Чего уж тут церемониться, господа? – не соглашался Пулло.
– Куй железо, пока горячо, – кивал Лабинцев.
– Неужели сдастся? – не верил Попов.
– А я, грешным делом, полагал, что до зимы тут просидим.
– И без того засиделись! – важно произнес Граббе.
Он на минуту задумался, ощутив себя сразу и Ганнибалом, и Наполеоном, и принялся диктовать Милютину:
– Итак. Предварительные условия капитуляции…
Милютин замер с пером в руке, затем оглянулся на командиров и осторожно возразил:
– Ваше превосходительство, позвольте напомнить, что капитуляцию вы изволили предлагать и при Аргвани, однако Шамиль ее не принял, хотя находился на менее сильных позициях.
– И что же с того, милостивый государь? – недовольно спросил Граббе.
– Я только хотел заметить, ваше превосходительство, что недооценка противника и унизительное с ним обращение с точки зрения военной теории…
– Так-с, – процедил Граббе.
– Любопытно будет узнать.
– Я в том смысле, что если бы капитуляцию заменить хотя бы на перемирие…
– Вздор! – загремел Граббе.
– И теория ваша – вздор! А учили вас, как драться с горцами? Это Азия-с! Кавказ! Засады, завалы, обвалы, ночные вылазки, наскок – отход! И брошенные, выжженные аулы на пути отряда. А если не выжжены, то чистые крепости, а не аулы. Это вам не австрийские деревеньки. Тут кругом фронт. Авангарду спокойнее, чем арьергарду. Да дети с кинжалами, да женщины – чистые амазонки. Ты ей комплимент, а она тебе нож в брюхо. Старухи – и те загрызть готовы. Не так ли, господа?
– Ваша правда, – согласился Галафеев.
– Горцы дерутся отчаянно, по своим понятиям. Однако же…
– Оставьте ваши фантазии, господа! – горячился Граббе.
– Я вас научу, как надобно горцев усмирять! У них горы – у нас пушки! Ученые! Что они понимают, что видят из окон Генерального штаба? А я нюхал пороху по всей Европе.
– Наскоком да испугом Шамиля не взять, – сказал Лабинцев.
– Так извольте открыть сию тайну, – вопрошал Граббе.
– Как же мне взять Ахульго, как до Шамиля добраться?
– Тут и другие меры не помешают, – советовал Галафеев.
– Попробовать приласкать Шамиля, а там видно будет.
– Опять теории! – негодовал Граббе.
– Сыт по горло! Головин советует, Чернышев указывает, а как – никто не говорит. Ермолова в гении произвели, а где результат? Как заварил кашу, так скоро четверть века будет, как расхлебываем, а толку никакого.
– И все же, если под благовидным предлогом начать переговоры… – стоял на своем Галафеев.
– Что? С кем? – продолжал шуметь Граббе.
– С этим бунтовщиком, смутьяном?
– С противником, – развел руками Галафеев.
– Кто бы он ни был.
– Много чести.
– Так ведь и крови немало, – сказал Лабинцев.
– Уж сколько лет горцев шапками закидываем, а воз и ныне там, – сказал Попов.
– Да и шапок уже не хватает.
– Ядрами их надо закидывать, а не шапками, – сказал Граббе.
– Транспорты прибыли?
– Ждем, – ответил Пулло.
– На Ахульго ядер не напасешься.
– Переговоры, – напомнил Лабинцев.
– И вы того же мнения? – обернулся Граббе к Пулло.
– Если рассудить, то нам тяжело, а им-то там совсем туго, – сказал Пулло.
– Глядишь, и поймут, что деваться некуда.
– Генерал Фезе уже вел с ним переговоры, – поморщился Граббе.
– Шамиль его вокруг пальца обвел да из гор выдворил.
– Это только по внешности будут переговоры, – успокаивал командующего Пулло.
– А на деле – тот же ультиматум. А пока Шамиль будет думать, и транспорты со снарядами подоспеют, и мы левый берег займем.
– Капитуляция! – стукнул кулаком по столу Граббе.
– А вам, господа, мое почтение.
Все козырнули и вышли, кроме Милютина, которому Граббе велел остаться и писать ультиматум.
Взволнованный открывающимися перспективами, Граббе никак не мог сформулировать свои требования в надлежащей форме. Он понимал, что этот документ может стать частью истории, и желал придать ему сообразное величие. Составив первый вариант, он обнаружил, что забыл упомянуть в нем императора, а это было непростительной ошибкой в смысле дальнейшей карьеры генерала. Головиным можно было пренебречь, но государь должен был ясно присутствовать. Управившись с императором, Граббе заново перечитал документ и обнаружил, что упустил окружение имама, судьбу которого тоже надлежало определить. Потом Граббе вспомнил про оружие, которого непременно следовало лишить горцев, прежде чем брать их в плен. Кроме того, Граббе решил предначертать будущность и самого Ахульго – этого грозного бастиона мятежных сил. Граббе с удовольствием сравнял бы его с землей, будь такая возможность. Но так как это было немыслимо, то Ахульго нужно было каким-то образом обуздать, взять в плен, изъять у горцев, хотя бы в виде контрибуции, и подчинить императору.
Джамалу предстояло оставаться в лагере до утра, и ему разрешили пойти проведать своего сына Исмаила. Джамал нашел его в палатке, стоявшей в ашильтинских садах. Исмаил несказанно обрадовался, увидев отца. И еще сильнее, когда узнал, что, может быть, дело скоро закончится миром. Служба его тяготила, и, хотя он занимался лишь набором черводаров – перевозчиков грузов со своими арбами, на душе у него скребли кошки каждый раз, когда он слышал сигналы горна, зовущие солдат в атаку.
Исмаил хотел еще многим поделиться с отцом, но им помешал Биякай. Отрядный переводчик как бы случайно завернул в палатку к земляку, деланно радовался встрече с Джамалом и заводил длинные разговоры, пытаясь узнать у него, как обстоят дела Шамиля, каковы его силы, сколько на Ахульго семейств, хватает ли им еды и многое другое, что могло заинтересовать отрядное начальство. Но Джамал был человеком опытным и отвечал уклончиво. Он ссылался на то, что сам на Ахульго не был, а только слышал что-то от человека, которого прислал к нему Шамиль с просьбой отправиться к Граббе и предложить ему вступить в переговоры.
Биякай не хотел уходить ни с чем, и принялся убеждать Джамала в том, что горцы сами навлекли на себя ужасные бедствия. Он расписывал все выгоды службы царю и выставлял Шамиля смутьяном, подбивающим народ на войну из личных для себя выгод. Утверждал, что ханы вовсе не тираны и деспоты, а богобоязненные люди, пекущиеся лишь о благе своих подданных, а мюриды – чистые разбойники, алчущие чужого добра. Биякай еще долго рассуждал в том же духе, пока Джамал не спросил его:
– Выходит, во всем виноваты простые горцы, а ханы и их хозяева – генералы не виноваты ни в чем?
Так ничего и не добившись, Биякай начал зевать, а затем и вовсе отправился спать в свою палатку. Утром ему предстояло перевести письмо, которое Граббе собирался отправить Шамилю.
Джамал говорил с сыном, узнавая о его жизни в лагере и о том, что могло быть полезно имаму. Среди прочего Исмаил рассказал, что солдатам опротивела эта война, что в отряде много людей, не согласных с действиями Граббе, что есть и такие, кто готов сам перейти к Шамилю, если представится возможность, и что чем дольше держится Ахульго, тем сильнее брожения в отряде, уставшем от бессмысленного братоубийства. К тому же ропщет милиция, чувствуя, что ей не доверяют, а лошадям уже не хватает корма. Было далеко за полночь, когда Исмаил ненадолго ушел и вернулся со своим приятелем – Михаилом Нерским.
– Это Михаил, хороший человек, – сказал Исмаил, представляя Нерского своему отцу.
Джамал с подозрением посмотрел на перебинтованную голову Нерского, не понимая, как друг его сына, если он хороший человек, может воевать с горцами.
Но когда Нерский рассказал ему свою печальную историю, Джамал рассудил, что и бывшие враги часто становятся верными друзьями. А здесь перед ним был почти готовый перебежчик, воевавший не по своей воле. Но история Михаила на этом не заканчивалась. Он слышал о Джамале как об уважаемом и значительном в горах человеке, а потому решился просить его о помощи.
– Что я могу для тебя сделать? – спросил Джамал.
– Моя жена у вас в плену, – сказал Нерский.
– Жена? – не поверил Джамал.
– По всей видимости.
– Михаил показал Джамалу медальон с портретом Лизы.
– Помогите, прошу вас. Она ни в чем не виновата.
– Но как женщина оказалась здесь, на войне? – недоумевал Джамал.
– Она необыкновенная женщина, – вздохнул Нерский.
– Только не горянка, а то бы послушала меня, своего мужа, и была бы в безопасности.
И Нерский рассказал Джамалу все, что знал и предполагал, особенно про историю с маркитантом.
– Аванес? – вспомнил Джамал.
– Армянин?
– Вы его знаете? – обрадовался Михаил.
– Еще как знаю! – улыбнулся Джамал.
– Кунак.
– Обещайте помочь мне, почтенный Джамал, – с надеждой в голосе попросил Нерский.
– Сейчас у меня ничего нет, но после я сделаю для вас все, что будет в моих силах!
– Мне ничего не надо, – сказал Джамал.
– Только обещай больше не воевать с горцами.
– Клянусь, – приложил руку к сердцу Нерский.
– А для друга моего сына я сделаю все, что смогу, – заверил Джамал.
Наутро Джамала вызвали в штаб и вручили запечатанный сургучом конверт с посланием для Шамиля.
Глава 103
Пушки неожиданно замолчали. С передовых постов на Ахульго увидели, что к ним, размахивая флагом, направляется парламентер. Он сообщил, что Граббе согласен на переговоры.
По Ахульго прокатился вздох облегчения. Люди радовались, что этот кошмар вот-вот закончится и наступит долгожданный мир. Женщины принарядились и покинули свои подземные жилища, навещали родных и знакомых, радовались солнцу, которым давно уже наслаждались лишь украдкой. Лица их были бледны, но глаза искрились надеждой. Наступала новая жизнь, без ядер, смертей и постоянного страха.
Выбрались наверх и жены Шамиля. Джавгарат держала на руках Саида, и Шамиль не мог насмотреться на своего младшего сына, который радостно улыбался.
– Война закончилась? – с надеждой спрашивала Патимат, прижимая к себе заметно повзрослевших за эти ужасные месяцы сыновей Джамалуддина и Гази-Магомеда.
– Мир лучше войны, – ответил Шамиль.
– Войны больше не будет? – улыбалась Джавгарат.
– Все в руках всевышнего, – ответил Шамиль, беря на руки Саида.
– А он подрос!
– Дети по тебе скучают, – сказала Патимат.
– Ты совсем не бываешь дома.
– Теперь все должно измениться, – улыбался Шамиль.
– Наши люди показали, что не намерены сдаваться, и я надеюсь, что генерал это понял.
– Они уходят? – допытывалась Патимат.
– Сначала будут переговоры. Посмотрим, чего хочет Граббе, – ответил Шамиль и обернулся к своим старшим сыновьям, по которым очень соскучился.
Он взял за плечи Джамалуддина и почувствовал, как у него окрепли мускулы.
– Я уже стрелял из ружья, – сообщил старший сын.
– Один солдат целился в нас, а я выстрелил, и он спрятался.
– Больше этого не делай, – велел Шамиль.
– Рано тебе еще стрелять.
– А я зарезал барана, – гордо сообщил Гази-Магомед.
– Не зарезал, а резал, – поправила его Патимат.
– Мясо резал, когда нам принесли сушеную тушу.
Шамиль похлопал Гази-Магомеда по спине и увидел, что тот крепко стоит на ногах.
– Джигит, – похвалил сына Шамиль.
– Помогаешь маме?
– Да, – кивнул Гази-Магомед.
– Я тоже помогаю, – вставил Джамалуддин.
– К нам залетела граната, а я ее потушил.
От этих слов сына у Шамиля потемнело в глазах.
– Она могла взорваться, – сказал Шамиль, взяв себя в руки.
– Не успела, слава Аллаху, – рассказывала Джавгарат.
– Я только вернулась с кувшином и не успела закрыть дверь, а сверху упала эта штука с горящим хвостом. А Джамалуддин, да продлит Аллах его жизнь, схватил мой кувшин и вылил воду на эту проклятую железку.
– Я у стариков научился, – гордо сообщил Джамалуддин.
– Я много уже тушил.
– Разве ты бываешь не дома, когда стреляют? – строго спросил Шамиль.
– Я ему сколько раз говорила, – всплеснула руками Патимат.
– Но он меня не слушает.
– Все ребята тушат, – опустил голову Джамалуддин.
– И ядра собирают.
– Хорошо, что у меня такой смелый сын, – сдержанно произнес Шамиль.
– Но не забывай, Джамалуддин, что когда меня нет, старший мужчина в доме – ты.
– Я знаю, – кивнул Джамалуддин.
– А когда Джамалуддина нет, то старший – я! – объявил Гази-Магомед.
– Имам! – звал Юнус, торопившийся к Шамилю с важными новостями.
– От русских идут люди!
– Помни, ты – главный, – сказал Шамиль старшему сыну и ушел со своим помощником.
Выяснилось, что Джамал преуспел в своем деле и теперь явился к перешейку с конвоем казаков.
– Письмо Шамилю! – крикнул есаул, показывая на Джамала.
– Пусть идет! – крикнули из завалов.
Казаки отступили назад, и Джамал направился на Ахульго.
В резиденции имама, иссеченной осколками, успели навели порядок. Теперь здесь могли снова собираться на совет наибы и другие ученые люди, с которыми Шамиль решал важные вопросы. Они взволнованно обсуждали возможные варианты перемирия, хотя некоторые были и против мира с Граббе.
Амирхан вскрыл письмо и передал его Шамилю. Имам пробежал бумагу глазами, и лицо его помрачнело. Он вернул письмо секретарю и велел:
– Прочитай всем.
– Предварительные условия капитуляции, – начал громко читать Амирхан, но когда он понял смысл прочитанного, голос его невольно сделался тише.
Присутствовавшие напряглись, не веря своим ушам.
– Читай дальше, – настаивал Шамиль.
– Первое. Шамиль предварительно отдает своего сына аманатом.
Амирхан вопросительно посмотрел на Шамиля, но тот сделал ему знак продолжать.
– Второе. Шамиль и все мюриды, находящиеся ныне в Ахульго, сдаются русскому правительству: жизнь, имущество и семейства их остаются неприкосновенными; правительство назначает им место жительства и содержание; все прочее предоставляется великодушию государя императора.
– Такую жизнь пусть оставят себе! – не выдержал Ахбердилав.
Но Шамиль поднял руку, давая понять, что это еще не все условия.
– Третье. Все оружие, находящееся ныне в Ахульго, отдается нашему правительству.
– Они скорее получат мою голову, чем мой кинжал, – сказал Балал Магомед.
– Четвертое, – продолжал Амирхан.
– Оба Ахульго считать на вечные времена землею императора Российского, и горцам на ней без дозволения не селиться.
– Это все? – горько улыбнулся Омар-хаджи.
– Кажется, генерал забыл еще запретить нам дышать родным воздухом.
– Все, что было в письме, я прочитал, – сказал Амирхан, показывая письмо совету.
– А я принес то, что мне дали, – растерянно пожал плечами Джамал.
– Такими письмами можно начать войну, а не закончить, – сказал Шамиль.
– Но первое условие касается моего сына, и я не вправе отвечать на него сам. Решайте вы.
– Нет, – решительно сказал Ахбердилав.
– Этот мужлан хочет отнять у нас все, – сказал Балал Магомед.
– Даже больше, – сказал Омар-хаджи.
– Он вознамерился отнять нашу свободу, а это все равно, что выпустить из нас кровь.
– Нет! – говорили члены совета.
– Не бывать этому.
– Никогда!
– Что мы ответим генералу? – спросил Шамиль.
– Пусть убирается, пока жив, – сказал Ахбердилав.
– Терпение, братья, – сказал Джамал.
– В таком положении лучше не гневаться, а предложить свои условия.
– Если им так нужен аманат, пусть возьмут моего сына, – предложил дядя Шамиля Бартихан, заведовавший на Ахульго арсеналом.
– А сын имама – слишком большая честь для Граббе. Что касается других условий, то для нас это невозможно.
– Мы не отдадим никого, – сказал Шамиль.
– Если Граббе хочет мира, мы пообещаем ему свободный выход из гор. И что мы не станем тревожить их крепости. Но ему наши условия не понравятся.
– Все равно напиши, – советовал Джамал.
– Лучше разговаривать, чем воевать.
– Трудно разговаривать с генералом, который считает нас какими-то разбойниками и не желает признавать равной стороной, – сказал Шамиль.
– Но, может быть, так мы дождемся, пока подойдет помощь.
– К генералу она тоже подходит, – заметил Ахбердилав.
– Не такая, как Граббе хотел, – заметил Джамал.
– Если бы он надеялся взять Ахульго силой, он не стал бы с вами разговаривать. Но если генерал почувствует, что сможет это сделать, то забудет о всяких переговорах.
– Я это знаю, – сказал Шамиль.
– Мы ведь уже пробовали с ним договориться.
– Будьте осторожны, братья, – советовал Джамал.
– Он постарается вас обмануть.
Письмо, которое доставил Джамал, изумило генерала Граббе. Он счел вызывающим столь бесцеремонное обращение, когда Шамиль отвергал все его условия и выдвигал свои. Граббе даже не счел необходимым обсуждать ответ Шамиля с подчиненными.
В тот же день горцы увидели отряд саперов, которые принялись сооружать новую крытую галерею. Теперь она держалась на железных цепях. Чтобы оградить работы от новых вылазок, Ахульго усиленно обстреливалось, а ночью в небе разрывались светящиеся ядра новой конструкции, которые прислал из Шуры Траскин. Кроме того, перед траншеей снова катили огромную длинную корзину, набитую изрубленными деревьями.
Когда эта защищенная рука Граббе дотянулась еще дальше, чем первая, и готова была сомкнуться на горле Ахульго, Шамиль понял, что о переговорах уже не может быть и речи.
– Я сам отрублю эту длинную руку генерала, – пообещал Шамиль.
– Этой же ночью!
Но тут выступили вперед Ахбердилав и Балал Магомед.
– Не имамское это дело, – сказал Ахбердилав.
– Твои наибы пока еще живы.
– Посмотришь, имам, что мы сделаем с этим сооружением, – горячо поддержал друга Балал Магомед.
– Будь оно хоть все из железа!
– Старое Ахульго тоже поможет, – пообещал Омар-хаджи.
Они продолжали обсуждать, как справиться с новой угрозой, когда появились старики с молодецкими черными бородами, и только слепой сказитель был при своей обычной седой бороде. Среди стариков был и Бартихан, который предложил имаму:
– Ты лучше отправь нас на это дело.
– Аксакалов? – удивился Шамиль, разглядывая их потемневшие бороды.
– Увидишь, что один старик двух молодых стоит, – настаивал Бартихан.
– Мы тут каждую кочку знаем, – убеждал Шамиля Курбан.
– Верно, – кивали остальные.
– Сила не все может, голова – тоже полезная вещь.
– Они катят на нас эту проклятую штуку, – сказал слепой певец, будто видел все своими глазами.
– Просто так ее не сбросишь.
– А как надо? – спросил Ахбердилав.
– Зацепите веревкой за один край, потом вместе потяните, она и повернется. А потом сама собой покатится вниз.
– Попробуем, – сказал Балал Магомед.
– Она лежит поперек хребта, может, и получится, как ты говоришь.
– Пустите нас, мы сами ее свалим, – уверял Курбан.
– А убьют – не беда, – кивал Бартихан.
– Кому охота в постели помирать?
– А еще хуже – под ядрами, которые падают с неба прямо на головы, – добавил Курбан.
– Мы справимся, имам!
– Благодарю вас, почтенные, – сказал Шамиль.
– Мы позовем вас, когда потребуется.
– Разве теперь не самое время? – гнул свое Курбан.
– Нет, – твердо сказал Шамиль.
– Достаточно того, что ваши сыновья дерутся, как настоящие мюриды.
Получив отказ, расстроенные старики двинулись обратно, обсуждая свою незавидную долю и вороша молодецкие бороды, которые не произвели на Шамиля нужного впечатления. А чабан Курбан беспокойно размышлял над последними словами Шамиля, которые могли относиться и к его сыну. То, что Хабиб стал настоящим мюридом, могло означать, что он поднялся на Ахульго. Но ни его, ни Парихан Курбан здесь не видел.
Однако беспокойство его все равно не покидало.
Когда наибы со своими мюридами отправились на вылазку, Шамиль занял позицию у первых завалов, готовый сам поддержать их старания.
Первым вступил в дело Омар-хаджи. Его бойцы продвинулись вперед и вступили в ожесточенную перестрелку с апшеронцами, прикрывавшими батарею, которая обстреливала Старое Ахульго. На помощь к однополчанам бросилась другая рота, стоявшая дальше. Тем временем не замеченные противником пятьдесят человек во главе с Балал Магомедом проникли далеко по ущелью речки Ашильтинки и обрушились на батарею, обстреливавшую Новое Ахульго. Когда передовые части Граббе вступили в эти схватки, за дело взялся Ахбердилав. Его люди подобрались прямо к мантелету и бросились с кинжалами на охранивший его пост. Затем они овладели всем сооружением, разрушили его до основания, щиты подожгли и столкнули с кручи.
Шамиль хотел уже броситься на помощь, чтобы помочь скинуть вниз тяжелый защитный вал, но наибы справились сами. Они накинули цепи на его край, развернули, как советовал слепой аксакал, и опрокинули вал вниз, вслед за щитами. Со страшным грохотом, раскидывая вокруг поленья и срывая по пути камни, гигантская корзина покатилась по скату горы и исчезла в пропасти, унося с собой тяжкие труды саперов и надежды Граббе на скорое покорение Ахульго.
Выполнив задачу, мюриды вернулись обратно. Они не выражали особой радости, скромно отвечали на поздравления имама и жителей Ахульго, но глаза их светились гордостью. На это раз обошлось почти без жертв, были только раненые.
Глава 104
Граббе снова пребывал в дурном расположении духа. Время шло, а Шамиль продолжал упорствовать. Ни ядра, ни галереи на цепях, ни грозные ультиматумы горцам, ни разносы подчиненных делу не помогали. А на новый открытый штурм Граббе не решался, опасаясь еще большего конфуза. Приходилось скрепя сердце признать, что Галафеев оказался предусмотрительнее своего начальника, когда предлагал сначала занять левый берег Койсу и блокировать Ахульго со всех сторон. Но признать это публично Граббе не мог. В воздухе и без того уже витало сомнение в его полководческих талантах. Граббе попытался призвать на помощь гений Ганнибала, вспоминая, как тот раздвигал скалы перед своей армией и ее боевыми слонами. Однако способы Ганнибала здесь не годились. Тот устраивал гигантские костры, а когда скалы нагревались, заливал в трещины уксус и крошил размягченные таким образом камни. Но саперы Граббе отлично обходились и без уксуса, у них был порох. И между Граббе и Ахульго уже не было никаких скал, был только голый узкий перешеек, упиравшийся в глубокие рвы и крепкие завалы.
Граббе решил подойти к делу иначе. Призвав Милютина, он внимательно разглядел карту военных действий и вдруг спросил:
– Так откуда у Шамиля столько свежих сил?
– Не так уж и много, ваше превосходительство, – сказал Милютин.
– Лазутчики донесли, что теперь у него едва наберется триста сабель.
– Есть у него силы! – осадил Милютина Граббе.
– И я желаю знать, как они попадают на Ахульго?
– Вот здесь, – показал Милютин на поворот реки ниже Ахульго.
– Перекинута пара бревен. Через них и получает Шамиль подмогу и продовольствие.
– Отчего же переправа сия не разрушена?
– Некоторым образом по недоступности, – объяснил Милютин.
– Кругом отвесные утесы, а с нашей стороны по добраться трудно.
– Безобразие! – ударил кулаком по столу Граббе.
– Осмелюсь доложить, ваше превосходительство, – растерянно говорил Милютин, оглядываясь на Васильчикова.
– Вы и сами изволили приказывать, чтобы не трогали переправу. Вы полагали, что она послужит бегству Шамиля с Ахульго.
– Что-с? – Граббе вперился тяжелым взглядом в поручика.
– Разве я такое приказывал?
– Осмелюсь доложить, имеется запись в военном журнале…
– Вздор! – Граббе ткнул пальцем в переправу и заявил: – Уничтожить! А для исполнения сего предначертания немедленно занять левый берег Койсу.
– Прикажете писать приказ?
– Исполняйте.
Васильчикову Граббе велел вызвать Галафеева и Лабинцева. Когда они явились и получили приказ, Граббе добавил:
– Я могу взять Шамиля и так, но не желаю излишних жертв.
– Совершенно справедливо, – согласился Пулло.
– Занятием левого берега я лишу Шамиля переправы, – продолжал Граббе.
– Замкну блокаду и поставлю в тылу Ахульго батареи. Пора вразумить несговорчивого имама. Полагаю, тогда он сделается куда покладистее. Я великодушно оставлял ему возможность уйти. Увы, Шамиль не внял. Теперь я приду к нему сам.
Место, которое было избрано для возведения нового моста, было труднодоступно, а быстрое течение реки, к тому же наполнявшейся таявшими в горах снегами, делало задачу еще более сложной. Однако саперам было не привыкать, и скоро уже загремели взрывы, застучали кирки, и к реке потянулась дорога. Мюриды наиба Галбаца тут же соорудили на противоположном берегу завалы и открыли стрельбу, пытаясь помешать работам. Но строители были защищены турами, а затем были устроены и батареи, с которых горные орудия открыли по мюридам огонь. Завалы были разбиты, и горцам пришлось отступить. Засев на новых позициях, они продолжали обстреливать саперов, но те упрямо продолжали спускаться к реке.
Наконец, ночью два батальона Кабардинского полка под командой Лабинцева спустились к самой реке. Утром артиллерия снова открыла огонь, заставив горцев отступить еще дальше.
То, что происходило дальше, Милютин, несколько приукрасив события, записал в журнал отряда:
«В то же время 50 человек охотников, со всех частей отряда, бросились в реку и с неимоверными усилиями переплыли ее; некоторых из них сносило течением к самому Ахульго, и хотя они выходили на берег под сильнейшим неприятельским огнем, тем не менее почти все успели спастись от вражеских пуль. Вслед за этим натянули два каната и сделали опыты для устройства парома на бочках и на бурдюках; но все попытки кончились неудачей, потому что страшная быстрина течения и подводные камни решительно препятствовали переправе на пароме. Видя невозможность устройства паромной переправы, генерал Граббе пришел к убеждению, что единственным средством к переходу войск на левый берег реки может быть прочный мост, и потому на другой же день решил приступить к работе; охотников отозвали обратно в лагерь. 1-го и 2-го августа приготовлялся сруб и свозились материалы к месту переправы, а 3-го мост не доходил до противоположного берега всего только на 5 сажен. Горцы, видя наше намерение построить мост, вырыли на берегу ямы, чтобы укрыться в них от артиллерийского огня, и отсюда стреляли по рабочим; но скоро их выгнали сосредоточенными выстрелами артиллерии и стрелков, расположенных по берегу.
В то же время семь человек отличных пловцов переплыли реку и снова натянули канат, с помощью которого на левый берег перекинули лестницу, и по ней быстро переправились застрельщики и три роты, что послужило сигналом ко всеобщему бегству мюридов из завалов.
Таким образом, в несколько часов, почти без всякой потери, в виду неприятеля, совершена была переправа через реку, представлявшую для неприятеля все средства упорной обороны.
На другой день, т. е. 4-го августа, 2 батальона Кабардинского полка и два горных орудия переправились по вновь устроенному мосту на левый берег и заняли там позицию. Во все это время потеря отряда заключалась в 3 убитых и 37 раненых нижних чинах. Того же числа произошло небольшое дело с горцами, занявшими чиркатинские сады; но после непродолжительной перестрелки неприятель очистил их. Милиция Ахмед-хана Мехтулинского заняла Чиркату и при помощи постов наблюдала за дорогами из Аргвани, Игали и Чиркея. 5-го августа партия из андийцев и гумбетовцев, около 200 человек, взошла на высоты над позицией генерал-майора Лабинцева и начала тревожить нашу колонну; но посланные против нее две роты согнали ее с высот и заставили рассеяться.
6-го и 7-го августа возводились на левом берегу Койсу две новые батареи для легких орудий и мортирок, а 8-го числа они уже открыли по замкам огонь, настолько меткий, что он положительно не давал покоя мюридам, не позволяя им даже переходить из одной сакли в другую».
Под угрозой теперь оказалась и последняя переправа, соединявшая блокированное Ахульго с остальным миром. Сделав несколько демонстративных залпов и по ней, артиллерия смолкла. У канониров кончились заряды. Их скоро доставили через новый мост, но было велено не открывать огонь до особого распоряжения.
Лагерь Граббе пришел в движение. Войска распределялись по новым позициям. Пулло прикидывал, как воспользоваться создавшейся ситуацией, если Граббе объявит штурм. Галафеев, считавший, что Граббе бесцеремонно позаимствовал у него важнейшую тактическую идею, рвения не проявлял и только буквально исполнял распоряжения командующего. Другие командиры возбужденно носились по лагерю в предвкушении скорого конца компании.
Граббе, уверенный, что Шамиль теперь у него в руках, решил предъявить ему новый ультиматум. Он желал увидеть перед собой поверженного и смирившегося имама. Такая победа была бы несравнимо значительнее во всех отношениях. Крушить Ахульго ядрами, а затем брать штурмом то, что останется, Граббе уже не желал. В этом ему не виделось исторического величия. Граббе хотел не просто победы, он жаждал триумфа, который бы затмил славу предшественников и вознес его на недосягаемую для злопамятного Чернышева высоту. Триумфа, которым бы гордились не только дети, но и самые дальние потомки Граббе.
– Нет сомнения, что в войне с цивилизованным народом, привыкшим к некоторым удобствам, такая блокада принудила бы какую угодно крепость к сдаче, – объявил он своим генералам.
– Но горцы, не зная никаких удобств в жизни, довольствуясь весьма малым, воспламененные фанатизмом и удерживаемые неограниченным влиянием Шамиля, не решаются сложить оружие. Хотя все, начиная с Шамиля и кончая последним мюридом, отлично сознают, что их дело проиграно и мысль о победе над нашими войсками обратилась в несбыточную мечту, имам не хочет выдавать своего сына аманатом, как я того предварительно требовал. Он надеется еще, по крайней мере, на выгодные условия капитуляции и свободный пропуск из Ахульго. Он предлагает мне в аманаты одного из ближайших родственников своих. Но как Шамиль имеет племянника в Петербурге, представленного им два года тому назад генералу Фезе в залог своей покорности, который облагодетельствован правительством, и несмотря на то, в продолжение этого времени Шамиль не переставал действовать против нас, то я не мог согласиться на его предложение. И поэтому объявлю ему, что если он не представит своего сына, то я не вступлю с ним ни в какие переговоры. Нельзя теперь ручаться, что мы достигнем предположенной цели одним обложением и действием артиллерии. Но по крайней мере я употреблю все средства прежде, нежели решусь на новый штурм. Кроме избежания несомненной и большой потери в людях, я предпочитаю на некоторое время блокаду еще и потому, что сдача Шамиля и его мюридов военнопленными произвела бы в горах более морального влияния, нежели самое взятие замка Ахульго и смерть его защитников. Такой пример, неслыханный в горах Кавказских, нанес бы окончательное поражение учению, прельщающему горцев призраком независимости, и лишил бы сподвижников Шамиля всякого влияния на общество.
Биякай тоже был охвачен волнением. Он чуял, что наступает его звездный час. Если Шамиль будет побежден, то и Чиркей не долго оставался бы независимым. А значит, власти назначат туда своего пристава. Лучшего случая и представить было нельзя, чтобы избавиться от сильного соперника. Да что там избавиться! Биякай решил навсегда разделаться со старым противником Джамалом.
Выждав, пока Пулло останется в штабе один, Биякай рьяно взялся за дело.
– Господин полковник!
– Генерал, – поправил его Пулло.
– Господин генерал! – снова начал Биякай.
– Генерал-майор, – уточнил Пулло, хотя все еще носил полковничий мундир.
– Господин генерал-майор, – услужливо кивал Биякай.
– Этот Джамал все дело портит!
– Чиркеевский? – сообразил Пулло.
– Ну, выкладывай, да поскорее.
– Я слышал, опять переговоры будут?
– Может, и будут. А тебе-то что?
– Я заходил к его сыну, к Джамала сыну, когда и сам он там был, – заговорщически говорил Биякай.
– Хотел узнать, как дела на Ахульго. Он туда-сюда вертел, а ничего не сказал.
– Так-так, – заинтересовался Пулло.
– И что дальше?
– Меня пошлите, – предложил Биякай.
– Я все узнаю.
– А Шамиль станет с тобой говорить? – сомневался Пулло.
– Куда денется, – убеждал Биякай.
– Я же от вас приду с письмом.
– На Ахульго, полагаю, Джамала ждут.
– Зачем вам Джамал? – возмущенно говорил Биякай.
– Он для Шамиля старается.
– А ты почем знаешь? – спросил Пулло.
– В Чиркее все знают, – говорил Биякай.
– Пока мы тут стоим, оттуда к Шамилю и людей посылают, и продовольствие, и порох, а еще считается, что Чиркей – мирный.
– Аул не воюет, и на том спасибо.
– Пока там Джамал главный, Чиркей вам не союзник, – объявил Биякай.
– А если бы я…
– Ах, вот оно что, – понятливо улыбнулся Пулло.
– В приставы метишь?
– Воля ваша, – опустил глаза Биякай.
– А если я буду командовать в Чиркее, вам будет только польза. Всех мюридов выгоню!
– Это не мне решать, – сказал Пулло.
– Это заслужить надобно.
– Вот и я говорю, заслужить, – кивал Биякай.
– А если снова пошлете к Шамилю Джамала, он ему все расскажет, как тут и что, и будет его уговаривать, чтобы не сдавался.
– Думаешь, шпионит? – задумчиво спросил Пулло.
– Конечно! – воскликнул Биякай.
– Лазутчик шамилевский. И сын его тоже!
– Так-так, – нервно барабанил по столу пальцами Пулло.
– Нелишне будет принять меры.
– Очень надо! – настаивал Биякай.
– Этот Джамал на меня так смотрит, будто убить хочет. Я бы поговорил с ним, как следует, но я же на службе. Без разрешения начальства не смею.
– Вот что, любезный, – сказал Пулло.
– Напиши-ка ты мне все это на бумаге, а уж я представлю по начальству. Слова словами, а рапорт – это уже кое-что. Приструним твоего Джамала.
– Не моего, господин полковник, – испуганно поправил Биякай.
– Шамилевского!
– Генерал-майор, а не полковник! – напомнил Пулло.
– Рапорт! По всей форме!
Биякай добился своего. Прочитав донос Биякая, Граббе заподозрил Джамала в сочувствии Шамилю и велел ему не покидать лагерь, сославшись на то, что его услуги еще могут потребоваться. Для надежности к Джамалу приставили двух солдат. Сначала Граббе хотел даже арестовать Джамала и его сына, но взбунтовавшийся Чиркей был ему ни к чему. Разбирательство дела Джамала Граббе отложил до лучших времен, по окончании кампании против Шамиля.
Для переговоров с имамом было решено отрядить Биякая, который сразу почувствовал себя весьма важной персоной. Готовясь к визиту на Ахульго, он принарядился и почистил свое оружие. Но мысли его были в Чиркее. Если бы Граббе не удалось победить Шамиля, Биякаю было бы опасно возвращаться в аул. Но если Граббе добьется своего, то судьба Биякая обещала перемениться. Засыпая, он сладостно мечтал о том, как возьмет Чиркей в кулак, разделается со старыми недругами и заживет не хуже хана.
Наутро Биякай, снабженный запечатанным конвертом и соответствующими инструкциями, отправился на Ахульго в сопровождении роты куринцев.
Глава 105
Полная блокада, установленная Граббе вокруг Ахульго, скоро дала о себе знать. Но до того, как это случилось, к Шамилю прибыли наибы Сурхай и Муртазали Оротинский, которые привели около пятидесяти воинов и обнадежили Шамиля скорым прибытием трехсот ополченцев во главе с наибом Лабазаном Андийским. Затем должен был подойти Ташав-хаджи с ичкерийцами. Еще несколько сотен шли на помощь из даргинских обществ. Но путь уже был отрезан. Ополченцы вступали в схватки с ханскими милициями, стоявшими на подступах к Ахульго, но силы были слишком неравны.
На самом Ахульго уже не осталось скрытых от ядер мест. С высот противоположного берега все, что было раньше скрыто от войск и артиллерии Граббе, просматривалось теперь, как на ладони. Движение через переправу замерло. Спуски к реке, по которым еще можно было безопасно ходить за водой, обстреливались снайперами, и был ранен мальчишка, рискнувший принести воду днем. Облегчение, снизошедшее на Ахульго после первых переговоров и удачной вылазки наибов, сменилось тревожным ожиданием.
Шамиль собрал совет, чтобы решить, как быть дальше. Одни предлагали драться до последнего, другие – прорываться из окружения. Шамиль все еще надеялся, что ополченцы скажут свое слово и что сам Граббе не выдержит долгой осады. Многочисленному отряду и требовалось многое, и все приходилось везти из Шуры, а это было не так просто. Стоило этому потоку прерваться на неделю-другую, и все могло измениться. А Жахпар-ага сообщал ему, что в отряде зреет недовольство, которое усиливалось с каждым днем. Но и положение Ахульго день ото дня становилось тяжелее.
И вдруг снова появилась надежда. Юнус принес известие, что на стороне противника выставлен сигнальный флаг и Граббе опять шлет Шамилю письмо.
Имам с наибами направились навстречу посланцу Граббе.
– Я думал, что переговоров больше не будет, – размышлял Шамиль.
– Может, Ташав поднял народ и угрожает запереть генерала? – предположил Балал Магомед.
– Или Ага-бек привел людей, – надеялся Ахбердилав.
– Или генерал понял, что Ахульго ему не по зубам, – сказал Омар-хаджи.
– Или снаряды кончились. А может, и солдаты отказались воевать. Зачем им эти голые горы?
На Ахульго уже знали о наступившем перемирии, и люди снова поднялись на поверхность из душных подземных жилищ.
По пути Шамиль увидел толпу, окружившую слепого сказителя. На Ахульго давно не звучали песни, и люди собирались со всех сторон, чтобы послушать почтенного аксакала.
Шамиль торопился и прошел бы мимо, если бы не услышал, о чем поет старик. Это была песня о славном Хочбаре.
– Послушайте, люди, о Хочбаре я вам расскажу. Об орле из Гидатля, которого ханы боялись, Который по сотне овец беднякам раздавал И по десять коров из ханского сытого стада!
Люди знали это предание, но готовы были снова и снова слушать сказание о народном герое. Хочбар был предводителем вольного Гидатлинского общества, которое противостояло хунзахскому хану. Хан не раз пытался расправиться с Хочбаром, но тот всегда выходил победителем. Тогда коварный Нуцал-хан задумал обмануть его.
Старик, постукивая пальцами по трофейному барабану, пел:
– От Нуцал-хана к Хочбару явился посланец. В гости зовет, говорит, будто хан хочет мира.
И спросил гидатлинский герой у матери старой: – Идти ли мне к хану, идти ли в Хунзах ненавистный? – Не ходи, – отвечала она.
– Хан этот зол и коварен, И кровь, что стоит между вами, вовек не остынет. Но все же пошел он в Хунзах, чтобы Нуцал не ославил, Не объявил, что Хочбар был герой, а теперь испугался…
Дети слушали сказителя, затаив дыхание. Они были еще малы, но уже хорошо понимали, о чем эта песня, и живо представляли себе то, о чем в ней говорилось. Вот храбрец Хочбар явился в Хунзах, пригнал в подарок хану быка, а его жене подарил перстень. Но что он услышал в ответ?
– Салам, гидатлинский Хочбар!
Пришел наконец ты, Волк, истреблявший стада и отары чужие!.. А ханский глашатай уже объявлял по Хунзаху: Тащите скорее дрова!
Костер разводите огромный! На нем мы Хочбара сожжем, что попался теперь в наши руки! Шестеро ханских нукеров бросились тут на Хочбара. Бился он с ними, но все же был связан герой. А за Хунзахом костер до небес разгорался, Такой, что и скалы вокруг затрещали от жара. Сначала убили коня гидатлинца и бросили в пламя, После копье поломали и тоже сожгли на костре. Только бесстрашный Хочбар не повел даже бровью…
Дети с замиранием сердца ждали, что будет дальше, мужчины мрачнели, а женщины утирали слезы. Шамиль отыскал глазами своего старшего сына Джамалуддина и сделал ему знак подойти.
– Я только вышел послушать песню, – сказал сын.
– Я помогаю матери и смотрю за Гази-Магомедом.
Шамиль удовлетворенно кивнул и крепко прижал его спиной к себе, стараясь не слишком проявлять отцовские чувства. Но требование Граббе выдать Джамалуддина в залог будущих переговоров казалось Шамилю все более чудовищным. Говорили, что у Граббе самого несколько сыновей, и Шамиль не понимал, как он мог предлагать такие условия Шамилю. Пленные или аманаты-заложники были на войне неизбежным делом, но дети – это всего лишь дети. Хотя ведь взял Фезе у него племянника, когда подписывал мир. Но Фезе хотя бы выполнил обещание и ушел, а Граббе после его заносчивых писем Шамиль не верил.
Сказитель приближался к развязке знаменитой горской драмы.
Хан явился на казнь с двумя сыновьями. Глумливый правитель велел развязать Хочбару руки и дать ему пандур, чтобы он спел свою предсмертную песню. Хочбар согласился. Он напомнил собравшемуся народу о том, как защищал бедняков, как боролся с их притеснителями. Но спел Хочбар и о том, о чем не стал бы говорить, если бы не коварство хана. О том, как влез в окно дворца и унес шелковые шальвары любимой ханской жены, как снял серебряные запястья с белых рук его сестер, как зарезал его ручного тура. Как опустошал ханские овчарни и стойла, как угонял его табуны. На все был способен Хочбар, не мог он только обманом зазвать к себе человека и умертвить его. Свою песню герой закончил проклятием хана, который не только коварно обманул Хочбара, но совершил куда большее преступление, поправ священный для горцев закон гостеприимства.
Нуцал-хан терпел насмешки Хочбара, предвкушая его скорую гибель, но не знал хан, что ждет его самого. Хочбар вдруг схватил его сыновей и бросился в огонь вместе с ними. Хан в ужасе метался у костра, обещал золото тому, кто спасет его сыновей, но никто не решился войти в огонь, из которого все еще слышался голос Хочбара:
– Что стонете, дети Нуцала, и я ведь горю вместе с вами! Что плачете вы, был дорог и мне белый свет! Прощай, мой гнедой, топтавший нукеров Нуцала! Прощай, и копье, что не раз пробивало их грудь! Пусть сестры мои не тоскуют: я умер со славой! И мать пусть не плачет: недаром погиб молодец!
Люди еще долго стояли вокруг старика, переживая услышанное и думая, что многое из древнего предания может теперь повториться. Да разве защитники Сурхаевой башни не уходили, забирая с собой противников?
Шамиль пошел дальше, понимая, что старик не зря вспомнил эту песню именно теперь, когда люди надеялись, что новые переговоры принесут им избавление от ужасов войны. Но имам чувствовал, что речь пойдет не о мире.
Его опасения подтвердились, когда вместо Джамала он увидел совсем другого человека, явившегося в сопровождении роты солдат.
Навстречу парламентерам Шамиль послал Юнуса с десятком мюридов. Выяснив, кто и зачем явился, Юнус вернулся и сообщил все Шамилю.
– Биякай из Чиркея? – припоминал Шамиль.
– Я про него слышал.
– Я его хорошо знаю, – сказал Юнус.
– Но лучше бы не знал этого негодяя.
– Гость есть гость, – разочарованно сказал Шамиль, возвращаясь назад.
– Хотя бы узнаем, что на этот раз предлагает Граббе.
Биякая пропустили на Ахульго и с почетом проводили в резиденцию Шамиля.
После традиционных приветствий и расспросов о здоровье и семье Биякай передал Шамилю послание Граббе.
– Читай, – сказал Шамиль, отдавая письмо Амирхану.
– Но это только для тебя, – забеспокоился Биякай.
– Такие вопросы мы решаем вместе, – ответил Шамиль.
Амирхан зачитал послание. На этот раз оно было короче и терпимее. Граббе требовал освободить пленных и аманатов, взятых наибами в нескольких аулах в залог того, что они не станут поддерживать царские войска. Но главным условием для начала переговоров оставалась выдача в заложники сына Шамиля.
Воцарившееся молчание нарушил Биякай.
– Это я уговорил генерала смягчить условия, – сказал Биякай.
– Соглашайтесь, пока не поздно.
– Я уже отвечал на такие условия, – сказал имам.
– Да, Шамиль, – закивал Биякай.
– Но сардар-генерал счел, что ответ был не совсем обдуманным.
– Необдуманными были условия генерала Граббе, – возразил Шамиль.
– Но ведь и ты ответил ему резко, – разводил руками Биякай, ища поддержки у остальных членов совета. Но по их суровым лицам Биякай понял, что они бы ответили еще резче.
– Я ответил так, как подобало.
– Конечно, ты ответил как настоящий имам, – соглашался Биякай.
– Но ты говорил таким языком, который непривычно было слушать ушам генерала, которого отправил сюда сам император Николай.
– Императору я бы ответил то же самое, – сказал Шамиль.
Биякай не нашелся, что на это возразить, и растерянно смотрел на Шамиля. Но, не выдержав его испытующего, полного презрения взгляда, отвел глаза в сторону.
– Я хотел как лучше, – сказал Биякай, собравшись с духом.
– Было бы лучше, если бы генерал сидел у себя дома, – произнес Шамиль.
– И мы готовы его туда отпустить.
– Теперь так не получится, – снова принялся убеждать лукавый Биякай.
– Вы окружены со всех сторон, и Граббе стал хозяином положения.
– Но на Ахульго пока еще хозяева мы, – возразил Шамиль.
– И Граббе не удастся нас запугать.
– Но подумайте сами, зачем напрасные мучения? – продолжал Биякай.
– Я вижу, как трудно теперь на Ахульго, как страдают женщины и дети…
Стало понятно, что Биякай успел многое подметить, пока его провожали в резиденцию, и что Биякай больше шпион, чем дипломат.
– И теперь еще эта опасная зараза, – продолжал Биякай.
– Что ты имеешь в виду? – спросил Шамиль.
– Больных и раненых, которых вы в последний раз отправили из Ахульго. Они попали в руки сардара, – участливо объяснял Биякай.
– Их пощадили, но среди них оказались люди, больные оспой.
– Оспой? – встревожился Шамиль, оглядываясь на членов совета.
Но те дали понять, что ничего про оспу не слышали.
– Так сказали хакимы, лекари генерала, – сказал Биякай.
– А что тут удивительного? В такую жару, в душных пещерах, без достаточных лекарств, не говоря уже о воде и пище… Тут и здоровый заболеет. А еще град из пуль и ядер.
– Это еще не все, – горько усмехнулся Шамиль.
– Самое опасное – это предатели, которые привели сюда войска генерала. Но знаешь ли ты, что ожидает изменников?
– Нет, – испуганно произнес Биякай.
– От меня – смерть, от Аллаха – ад, от мусульман – презрение.
Биякай понял, что это относится и к нему тоже, но все же пытался склонить горцев к капитуляции.
– Сардар милостив, – уверял он.
– Просто он исполняет повеления своего царя и вынужден говорить строго. Как-никак ты лишил его нескольких тысяч воинов. Но русские говорят, что тому, кто вспомнит старое, нужно вырвать глаз, и Граббе готов забыть старые обиды. Он будет тебе другом, Шамиль, если ты согласишься положиться на его великодушие.
До того молчавшие члены совета уже не могли сдержать переполнявшего их гнева и начали переговариваться между собой, не решаясь пока перебивать имама.
– Великодушие? – возмутился Шамиль.
– Взять в заложники сына, чтобы говорить с отцом о мире – это, по-твоему, великодушие? Каков же тогда будет мир? Пусть тоже пришлет мне своего сына, тогда и поговорим.
– Но, Шамиль, – испуганно говорил Биякай, – так ты спасешься сам и спасешь своих людей. У тебя нет другого выхода.
– Аллах знает, есть или нет, – резко ответил Шамиль, решив прервать переговоры о переговорах. Но напоследок все же задал еще один вопрос, который его беспокоил.
– Почему не пришел Джамал?
– Точно не знаю, – пожал плечами Биякай.
– Но краем уха слышал, что его арестовали.
– Арестовали Джамала?
– Наверное, в Сибирь сошлют, – предположил Биякай.
– За что? – спросил Шамиль.
– Кто-то донес, что Джамал много вам помогал, – уклончиво ответил Биякай.
– Он помогал своему народу, – сказал Шамиль.
– Свободному народу.
– Я тоже хочу вам помочь, – уверял Биякай.
– Уходи, – сказал Шамиль.
– Такая помощь нам не нужна.
– Что же передать генералу? – спросил разочарованный Биякай.
– Пусть лучше забудет про Ахульго и вспомнит о своих детях, которые могут остаться без родителя.
Юнусу и Султанбеку Шамиль велел проводить Биякая обратно, к ожидавшему его на перешейке конвою.
Члены совета с негодованием обсуждали услышанное и призывали Шамиля драться до конца.
– Слабость и трусость никогда и никого не спасала, – согласился Шамиль.
Но он понимал, что вопрос о его сыне остался висеть в воздухе.
– Даже если я выдам генералу Джамалуддина, это пользы не принесет, – сказал Шамиль.
– Генерал из-за этого отсюда не уйдет. Ему нужны наши головы или наша покорность.
Шамиль написал письмо Ага-беку, сообщая наибу о трудном положении, в котором оказалось Ахульго, о том, что решил драться до конца и что ждет помощи от всех, кому дорога свобода гор.
Голубь с привязанным к лапке письмом взмыл в сине-прозрачное небо, несколько раз перевернулся, как делал это каждый раз перед дальним полетом, и… камнем упал вниз, простреленный чьей-то пулей. Юнус, так привыкшей к умной птице, что кормил ее прежде, чем ел сам, встрепенулся от боли, как будто пуля попала в него. Окровавленные белые перья кружили в воздухе, а река уносила убитого голубя. Юнус почувствовал, что это был дурной знак, и не решился сказать об этом имаму.
Глава 106
Не прошло и получаса, как снова загрохотали пушки, и народ поспешил укрыться в опостылевших подземных жилищах. Занятие войсками Граббе левого берега Койсу сделало положение Ахульго безнадежным. Яростный обстрел велся теперь со всех сторон. Безопасных убежищ на Ахульго не осталось. Ядра, гранаты и Конгревы ракеты крушили и выжигали все, что выступало над землей. И первой была сметена резиденция Шамиля, указанная Биякаем.
Под грохот одних батарей к укреплениям горцев пододвигались другие. Разрушенный мантелет заново восстанавливался и продвигался к передовым укреплениям Нового Ахульго. Посты егерей тоже выдвигались вперед и еще больше стесняли линию блокады. Теперь уже и ружейные пули доставали завалы, которые занимали горцы. Ряды защитников редели день ото дня, а оставшиеся слабели от недостатка воды и пищи. К тому же все меньше оставалось боеприпасов. Для переплавки найденных мальчишками свинцовых ядер не было дров, старики рубили ядра топорами, а затем скатывали из кусков пули на ручных каменных мельницах.
После резиденции артиллерия принялась за мечеть. Но ее горцы старались восстанавливать каждую ночь, и она как-то держалась, защищенная толстыми стенами и прочной крышей. Сюда сносили все больше раненых, и Абдул-Азиз со своими помощниками уже не успевал всем помочь.
Слова Биякая насчет оспы подтвердились. Люди мучились от лихорадки и покрывались сыпью, оставлявшей после себя рубцы. Солдатам Граббе она была не страшна, медики заблаговременно позаботились сделать им прививки от оспы. Абдул-Азиз тоже умел бороться с этой заразной болезнью, от которой в свое время излечил и самого Шамиля. Он начал прививать еще здоровых людей, делая насечки на руках и внося в кровь частицы жидкости со струпьями переболевшего человека. Больным он давал глотать шарики из толокна, в которые была добавлена та же жидкость.
Лечение ран и ушибов Абдул-Азиз считал делом гораздо более легким по сравнению со страшной оспой. Тут в ход пускался огромный арсенал хирургических приемов, мазей, присыпок, настоек и прочих средств. С тех пор, как он излечил сквозную штыковую рану, полученную Шамилем в Гимрах, авторитет его был непререкаем. Свои хирургические инструменты он изготавливал сам. Джамал обещал достать ему хирургический набор, корпусной или батальонный, которыми пользовались русские врачи, но пока горский лекарь обходился своими инструментами, главным из которых оставался острый кинжал. Но все же и искусный Абдул-Азиз не был волшебником. Число погибших росло.
Не лучше обстояли дела и с водой. Из хранилища она давно была вычерпана, и теперь там рос репейник. Безопасных спусков к Койсу или Ашильтинке не осталось. Днем никто уже и не пытался спускаться за водой под пулями передовых постов Граббе. Пробовали бросать в реку кувшины на веревках, но из этого мало что выходило. Кувшины редко долетали до воды, но и те, что долетали, плохо наполнялись. Солдаты развлекались стрельбой по сияющим кувшинам, которые горцы пытались поднять наверх, превращая их в истекающее водой решето. Большей же частью кувшины разбивались о скалы. Приходилось с риском для жизни спускаться за водой по ночам. Эти попытки редко обходились без жертв, но другого выхода не было.
Людей мучила жажда, матери не знали, что ответить детям, просившим воды, у кормящих пропадало молоко. Но, и добыв немного воды, люди оказывались перед выбором – выпить все или употребить часть на омовение перед молитвой. Со временем вместо воды начали употреблять перетертую в песок землю, что дозволялось при нехватке воды.
Тяжело было смотреть на полноводную реку под Ахульго, до которой невозможно было дотянуться. Река притягивала гибнущих от жажды людей, и многие лишались сознания от ее мучительной недоступности.
Раненые, лежавшие в мечети, желали умереть, чтобы их семьям осталась их доля воды. Когда приносили кувшин и пускали его по кругу, он часто возвращался наполненным, потому что люди только освежали уста и передавали кувшин дальше, боясь, что воды не достанется остальным.
Пища становилась все более скудной. Люди спасались сушеной бараниной, запасами толокна и теха, которые не нужно было варить.
Все ждали дождя, но небо оставалось убийственно чистым, а солнце опаляло Ахульго необычайно сильным зноем. Дети вспомнили старый обычай, сделали чучело и бегали с ним по домам. Каждая хозяйка должна была плеснуть на него водой и попросить: «Да прольется над нами дождь! Да напоит ливень иссохшую землю!».
Ничего не помогало. Ахульго было раскалено, и казалось, вот-вот треснет. В такую жару было тяжело двигаться, не то что воевать.
Мечтая напиться холодной воды, дети убегали по ночам из дому, чтобы спуститься к реке. Тянули жребий, и тот, кому выпадало идти вниз, спускался с горы с веревкой на поясе. В детей солдаты не стреляли, даже если видели в светлые лунные ночи, как они припадают к воде, а затем, наполнив водой бурдюк, влезают обратно на гору.
В лагере Граббе полагали, что судьба Ахульго предрешена и оно падет со дня на день. И тем неожиданнее было, что через неделю после того, как блокада замкнулась, горцы отважились на новую вылазку. Озлобленные безнаказанной бомбардировкой и своим безвыходным положением, горцы решили разрушить восстановленную галерею, тянувшуюся к Ахульго.
Перед рассветом сотня мюридов, босые, с кинжалами в зубах, подползли к прикрывавшему саперов мантелету. Однако на этот раз Граббе предпринял особые меры предосторожности, и навстречу мюридам бросилась в штыки дозорная рота Куринского батальона, охранявшая мантелет. Завязалась жаркая схватка. Мюриды поняли, что им не удастся воспользоваться внезапностью, на которую они рассчитывали, и им пришлось отступить, унося раненых.
Но отчаянная вылазка не прошла даром. Убедившись, что Шамиль не намерен сдаваться, Граббе на следующий день предложил ему перемирие. Военные действия предлагалось остановить на четыре дня, пока не будут подготовлены новые условия для заключения мира с имамом. Шамиль согласился. Перемирие было нужно обеим сторонам.
Письмо доставил Биякай, давший понять, что перемирие – результат его личных стараний. Но Шамиль не велел пускать его дальше перешейка, и раздосадованный Биякай вынужден был вернуться обратно.
На Ахульго спешно восстанавливали разрушенное и делали запасы воды, хоронили погибших и готовили оружие к новым боям. В том, что они последуют, никто уже не сомневался.
Ефимка, на которого в роте махнули рукой, спускался в ущелье речки Ашильтинки каждую ночь, надеясь снова увидеть синеглазую красавицу. На передовых постах его сначала останавливали, но Ефимка приносил солдатам яблоки из ашильтинских садов, и они стали его пропускать В одну из ночей девочка появилась снова. Она была так же чудесна, но все же что-то в ней переменилось. Маленьким зверьком она жадно припала к воде, уронив в нее свои длинные косы, затем набрала кувшин и села под деревцем, будто у нее не было сил подниматься обратно. Ефимка хорошо видел ее в лунном свете, серебряные украшения обрамляли не по-детски усталое лицо, а красивое платье было изодрано колючками.
– Эй, – набравшись смелости, тихо позвал Ефимка.
Девочка испуганно встрепенулась, не понимая, откуда доносится голос.
– Это я! – негромко крикнул Ефимка.
Девочка вскочила, прижимая к себе кувшин, и испуганно всмотрелась в Ефимку. Он в своей папахе был похож на обычного горского мальчишку, но почему-то не говорил по-аварски.
– Не бойся! – крикнул Ефимка, показал ей яблоко, а затем перекинул его через речку.
Муслимат легко его поймала, затем хотела выбросить, но подумала, что сможет угостить им маму, и быстро исчезла среди камней.
Счастливый Ефимка еще долго старался высмотреть девочку, но больше она не появилась.
Люди на Ахульго смогли немного отдохнуть, не опасаясь попасть под новую бомбежку. Отцы увидели своих детей, жены дождались мужей. Семьи ходили проведать родных и соседей. Муслимат с матерью навестила семью Шамиля, и девочка принесла гостинец – спелое румяное яблоко, источавшее давно забытый всеми аромат мирной жизни.
В одной из пещер нашли немного дров, и жители Ахульго смогли, наконец, поесть горячего хинкала из остатков сушеного мяса. Блюдо это было простое, в котором к мясу подавались куски вареного теста и подлива из чеснока, но для измученных людей оно стало настоящим пиршеством.
Свою долю хинкала получили и пленные солдаты, приведенные Омар-хаджи из вылазки и теперь содержавшиеся на Старом Ахульго. Сначала их поместили в полуразрушенную саклю, оставшуюся после штурмов Фезе, и солдаты ее восстановили. Но когда начались бомбежки, солдат перевели в пещеру, выходившую в сторону Чиркаты.
Охранять их был поставлен Никита, перебежчик, потерявший своих друзей в битве при Аргвани. Бежать пленным было некуда, и Никита не особо заботился о караульной службе. Когда случалась надобность, он уходил на вылазку. Здесь он был незаменим, особенно когда нужно было подобраться к караулам, охранявшим батареи. Чуть раздавался шорох, и с постов окликали:
– Стой, кто идет?
– Свои! – отвечал Никита, а затем первым бросался в дело.
Остальное время Никита проводил в душеспасительных беседах с пленными.
Те поначалу и слушать его не хотели. Они были уверены, что Граббе со дня на день возьмет Ахульго и их освободят. Но когда дело затянулось, они стали понемногу прислушиваться к тому, что говорил Никита. А тот взахлеб расписывал, как провалился штурм, как горцы делали ночные вылазки и рушили мантелеты и что скоро наибы поднимут весь Дагестан и возьмут Граббе в железные клещи.
Пленные не видели, но слышали то, что происходило на Ахульго, и понимали, что Никита не врет. Однако солдаты все еще надеялись, что их вызволят. А когда отчаялись ждать, сговорились сами сделать вылазку при первой же заварухе. Они предполагали ударить мюридам в тыл и, если повезет, пробиться к своим. Но подходящего случая все не было, только гуще и тяжелее била артиллерия, а своды их пещеры грозили вот-вот обрушиться.
А Никита по-прежнему убеждал пленных перейти к Шамилю, чтобы стать вольными людьми, и божился, что Граббе нипочем не взять горную твердыню. Солдаты начали терять надежду на освобождение, а об обмене на пленных горцев никто уже и не мечтал. Самые стойкие уговаривали друзей крепиться и не верить Никите, ведь если у Шамиля так хороши дела, то отчего кормили их все хуже, а воды давали все меньше? Но это уже не убеждало отчаявшихся людей, которые почувствовали себя ненужными прежнему начальству.
– И каково у Шамиля житье? – спрашивали пленные.
– Жили не тужили, – отвечал Никита, – пока генерал не попер.
– Чего же у него хорошего?
– Переходите, сами увидите.
– Нет уж, ты сперва расскажи.
– Красота! – говорил Никита. —
Никакой офицер тебе в зубы не тычет, и шапку ломать ни перед кем не дозволяется.
– Как это? – не понимали солдаты.
– Такой уж это вольный народ, – растолковывал Никита.
– Оно, конечно, сразу не понять, зато потом – будто сызнова родился.
– Мудрено…
– Сам-то ты, Никита, как к горцам попал?
– Взял да и ушел. Ушел и не жалею. А почему? – И Никита принялся рассказывать, горячась и размахивая руками.
– Ротный наш, штабс-капитан, вояка, каких поискать, а за людей нас не признавал. Пуговицу не застегнешь, так он тебя чуть не в шпицрутены определяет. Покажется ему, что честь не по всей форме отдал, так разорется, хоть святых выноси. Кроме как канальями да подлым народом и не величал. В бой, правда, первым ходил, не отнять этого, зато, ежели что не так, не токмо кулаками – сапогами охаживал. А после еще в ненадежные запишет, чтобы отличий никаких. Думали мы его пристрелить, когда в дело пойдем, да пожалели. Зато он чуть не всю роту довел до «беглого шага». Много бежало, кто куда. А у Шамиля – даже наибам кланяться не велят, Богу, говорят, кланяйся, а человеку не моги.
– Во всяком монастыре свой устав, – говорили солдаты.
– Каждая тварь по-своему живет.
– Оно, конечно, – соглашался Никита.
– Только ежели войдет в душу, что мы тоже человеки, а не скотина бессловесная, то уж никаким штыком не вышибешь.
– Ну, перейду я, – размышлял солдат.
– А чем кормиться буду?
– Тут всякий сгодится, – заверил Никита.
– А если ремесло какое знаешь, так в почетных людях ходить будешь.
– Ремеслу мы все выучены, – говорили пленные.
– Кто столяр, кто плотник, кто кузнец.
– Шить, строгать, лошадей подковать али сапоги стачать – все с нашим почтением.
– Война всему научит.
– Так и трудись на себя, – убеждал Никита.
– Все лучше, чем на барина спину гнуть.
– Оно, конечно, – сомневались пленные.
– Только боязно.
– Драться было не боязно, а человеком жить боязно? – удивлялся Никита.
– Мягко стелешь, да жестко спать небось.
– Тут ведь горы, у них по-своему.
– Чуть что – секир-башка.
– Опять же басурмане.
– У Шамиля всякие живут, – разъяснял Никита.
– И басурмане, и православные, и иудеи. А притеснять кто станет – тому Шамиль сам башку отхватит.
– А насчет баб как же? – не понимали пленные.
– Ихние, слыхать, не идут за наших.
– Пойдут, коли веру их примешь, – обещал Никита.
– А ежели при своей желаешь остаться, так в походе жену добывай. Что у них, что у нас в мужиках убыль. Война-то не родит, а только вдов плодит.
– Да как же перейти-то? – сомневались пленные.
– Навроде предателя, что ли?
– Али дезертира?
– Перебежчика! – втолковывал Никита.
– Это когда по своей воле.
– Н-да, – отвечали пленные.
– Однако как-то не того с прежними-то товарищами воевать…
– А ты не воюй, ежели не хочешь. А поживешь у горцев с мое, так сам отбиваться начнешь, когда господа офицеры обратно в неволю потащат.
– Так ведь служба, – вздыхали пленные.
– Уж так царь-батюшка велел.
– Служба, говоришь? – сердился Никита.
– А ты по своей воле на нее пошел?
– Куда там! Баба моя барину приглянулась, вот и забрил в рекруты.
– А я за брата пошел, – вздыхал другой пленный.
– У него семеро по лавкам, а я холостой.
– А я сам вызвался. Чего в деревне сидеть? А тут – вона, Кавказ! Я и на Польскую войну хаживал, и с турком воевал.
– А нас офицеры водили царя скидывать, а царь нас картечью, а после – в штрафные. У нас даже офицер один, разжалованный, в солдатах был, царство ему небесное.
– Против своих не пойду, там брат мой.
– Слышь, Никита, водицы бы принес.
– Сам попробуй. Горцы ее под пулями достают да еще с вами делятся.
Так они и толковали целыми днями, пока пушки утюжили Ахульго. Все тягостнее становилось солдатам в плену, и они готовы были на что угодно, лишь бы покинуть свою душную пещеру. Но старшим пока еще удавалось удерживать молодых.
– Не стыдите нашей роты перед отрядом, – говорили они и приводили устрашающие резоны: – Вот перейдете, воля ваша. А вдруг – снова плен? Горцев-то еще выменяют, а нас так точно расстреляют.
Оставалось ждать, чем кончится дело, чья возьмет. Погибать, не успев сделаться по-настоящему вольными людьми, не вкусив радостей горной свободы, никому не хотелось. А если бы Шамиль одолел генерала Граббе, тогда другое дело, тогда бы и вольности можно отведать. Если, опять же, на пленных горцев не выменяю т.
Но с каждым днем проповеди Никиты волновали сердца пленных все сильнее. И не потому, что они верили ему, перебежчику, а от того, что второй уже месяц Граббе наседал на Ахульго, а горцы держались и злобу на пленных не вымещали. Да и раненых, которые были среди пленных, горские лекари лечили, как своих.
Когда Никита отправлялся на вылазку, пленные спорили уже между собой:
– И чего Шамиль так старается? Далась ему эта свобода.
– А ты бабу свою любил? – спрашивал его товарищ.
– Из-за которой барин тебя в солдаты отдал?
– Любил, справная была баба.
– А будь твоя воля – барина бы зарезал?
– Коли вернусь – на вилы подниму.
– Вот и горцы бар-дворян своих, то бишь ханов, на кинжалы взяли. А те – к царю нашему: обижают, мол, смутьяны, выручай, батюшка!
– А на кой царю баре ихние?
– Как же без них горами владеть? Разгони их Шамиль, так и к нам воля хлынет. Ты своего помещика на вилы, другой еще одного, так и рухнет крепостная барщина.
– Туды ей и дорога.
– А дворянское племя паучье под корень вывести!
– Да кто ж дерзнет на такое?
– Вот ведь дерзнули горцы.
– За то и платят кровушкой.
– Эх, не нашего ума это дело…
– Кончить бы войну да к матушке, коли жива еще, сердешная.
– Может, столкуются еще Граббе с Шамилем?
– Дай-то Бог! Худой мир завсегда лучше доброй драки.
– Жди, пока рак на горе свистнет.
– Бежать надо, братцы. Не ровен час бомбой накроет.
Иногда из лагеря было слышно, как отбивают зорю, и тогда солдатам становилось особенно тяжело. Они тосковали по своим друзьям, по роте, по наваристым щам с добрым куском мяса, по табачку и чарке вина. А когда доносился сигнал на молитву, они усердно крестились и шептали молитвы, живо представляя себе, как то же самое происходит в их батальоне под стройное пение певчих. А потом кто-то снова говорил:
– Бежать надо, братцы.
– Бежи, кому охота, – слышалось в ответ.
– А я обожду, пока крылья вырастут.
Охотники нашлись. Они надеялись как-нибудь спуститься с утеса к реке. Но первый же сорвался с отвесной скалы, и его унесла бурная Койсу.
Узнав об этом, Никита не стал докладывать коменданту, а только перекрестился и сказал:
– Так уж ему, видать, на роду написано.
Глава 107
Лагерь Граббе пребывал в напряженном ожидании. Командующий вызывал своих генералов, что-то нервно обсуждал с ними, но Милютину никаких распоряжений не поступало, и он вспомнил про свой дневник.
«Так прошел целый месяц (с 16 июля по 16 августа), – писал он.
– Мелкие перестрелки в продолжение этого времени стоили отряду до 100 человек убитых и раненых. Кроме того, от продолжительности стоянки на одном месте, от самого воздуха, зараженного трупами, от удушливого зноя на раскаленных утесах в войсках усилились болезни. Конницу нельзя было держать при отряде по совершенному истреблению подножного корма в окрестностях.
В начали августа месяца прибыла в отряд при Ахульго депутация от Андалальского общества с письмом от Телетлинского кадия Кибит-Магомы. Этот ревностный поборник Шамиля вызывался теперь быть посредником между ним и русским начальством. Генерал Граббе отверг это новое посредничество, вразумив горца, что не иначе может смотреть на Шамиля, как на мятежника, испрашивающего себе прощения от великодушия Государя Императора.
Новые переговоры, начавшиеся 12 числа, о предварительной выдаче в аманаты сына Шамилева тянулись четыре дня. Ясно было, что Шамиль хотел только продлить перемирие и пользовался им для исправления своих укреплений…».
Милютин собирался еще подробно описать, как занят был левый берег Койсу, как это повлияло на ход блокады и положение Шамиля, но тут явился возбужденный Васильчиков.
– Решено! – объявил адъютант Граббе.
– Штурм? – догадался Милютин.
– Решительный! Если сегодня же, до наступления ночи, не выдаст сына. Ультиматум уже послан.
– Какова диспозиция? – любопытствовал Милютин.
– Экая важность, диспозиция! – отмахнулся Васильчиков – Главное, что и ты в деле участвуешь.
– Ты верно говоришь? Буду драться? – обрадовался Милютин, сожалевший, что все вот-вот кончится, а случай отличиться в серьезном деле так и не представился.
– Простых-то офицеров повыбивало. Не хватает уже. Когда распределяли, я и ввернул про тебя. Граббе и согласился, мол, практика теории только на пользу.
– Спасибо, братец, век не забуду! – жал ему руку Милютин.
– Надо бы это дело отметить.
– Я и сам не прочь промочить горло, – согласился Васильчиков.
– Да и заразы тут всякие чтобы не приставали. Жаль только, горцы маркитанта увели.
– Не беда, есть у меня запасец! – сказал Милютин, доставая припасенную фляжку с коньяком.
– До победы берег, ну да ладно.
– Только лучше бы подальше от начальства, – предложил Васильчиков.
Милютин прихватил бурку, и они, возбужденно переговариваясь, отправились искать укромное местечко.
К ставке начали съезжаться ханы и беки со свитами, чтобы присутствовать при важнейшем событии, которое обещало скорую победу над Шамилем и его мюридами. Они сами признавали лишь силу и считали ультиматум единственно правильным решением, особенно когда он предъявлялся под дулами пушек.
Однако час проходил за часом, а с Ахульго никаких известий не было. Напряжение росло, генералы мрачнели, а горская знать разочарованно улыбалась, подумывая о том, что неудачные штурмы могли вселить в Граббе неуверенность в собственных силах, и как бы он не принялся снова писать напрасные письма имаму вместо того, чтобы решить дело оружием.
И только Хаджи-Мурад с самого начала не верил, что Шамиль выдаст сына, убоявшись угроз Граббе. Почувствовав, что в лагере ему делать нечего, Хаджи-Мурад вскочил на коня и демонстративно удалился, отвечая язвительной улыбкой на недовольные взгляды Ахмед-хана.
Добравшись до передовых позиций, почти у самого Ахульго, Хаджи-Мурад достал трубу и начал разглядывать укрепления Шамиля. Он надеялся первым увидеть начало капитуляции, если она произойдет, или хотя бы самого Шамиля, которого видел пять лет назад в Хунзахе перед тем, как убить имама Гамзатбека в Хунзахской мечети. Он потом часто жалел, что Шамиля тогда не оказалось рядом с Гамзатбеком, а то бы пуля могла настичь и его. Вместе с тем Хаджи-Му-рад был этому рад, подозревая, что в присутствии Шамиля дело могло обернуться иначе.
Не похоже было, чтобы на Ахульго готовились к сдаче. Иногда из-за завалов показывались мюриды, наблюдавшие за лагерем Граббе. Один раз Хаджи-Мура-ду показалось, что он узнал своего земляка – наиба Ахбердилава, грозившего затмить своей доблестью славу Хаджи-Мурада.
– Неужели отдаст сына? – спрашивал Хаджи-Мурад сам себя.
Он ставил себя на место Шамиля и понимал, что это невозможно. Во всяком случае, не под ультиматум. Но Шамиль, его слава и успехи давно волновали Хаджи-Мурада. Он чувствовал в нем сильного соперника, которого горцы уважают больше, чем самого Хаджи-Мурада, и который сделал больше, чем Хаджи-Мурад. Слово Шамиля оказалось сильнее сабли Хаджи-Мурада, хотя и саблей Шамиль владел не хуже. Чувство, мучившее Хаджи-Мурада, было больше, чем зависть. Он считал, что в Дагестане должен быть один герой, двум здесь не было места. Хаджи-Мурад ненавидел ханов не меньше, чем Шамиль, но по-другому. Это было глубоко личное чувство, чувство оскорбленной гордости. Он не признавал за ними права что-то приказывать славному храбрецу только потому, что они были из ханского рода. Но приказывали, и он был у них на службе. Он отлично знал их порочность, их жестокость, происходившую от слабости, понимал, что сами по себе они и неделю не продержатся против Шамиля, если лишатся защиты царских войск. Но то, как управлял Имаматом Шамиль, тоже казалось Хаджи-Мураду не во всем правильным. Пусть Шамиль – святой, но управлять ему приходилось далеко не праведниками. Взять хотя бы самого Хаджи-Мурада, как бы он терпел над собой власть имама? При его гордом нраве и кровной потребности быть первым джигитом гор? Хаджи-Мурад считал, что власть не может работать, как механизм, даже если он верно рассчитан и правильно собран. Даже лучший пистолет, сделанный харбукцами и украшенный кубачинцами, приходилось регулярно смазывать, иначе жди осечки. Так и общество, полагал Хаджи-Мурад, нуждалось в некоторых послаблениях, чтобы весь механизм работал исправно, сам собой, а не как часы, которые нужно все время заводить.
Прослышав, что все вот-вот кончится, Ефимка пришел в беспокойство. Впрочем, оно его не покидало с тех пор, как он бросил девочке яблоко и она его увидела. Ефимка думал, что теперь война кончится, и он сможет подружиться с чудесной девочкой, лучше которой никогда не видел. И Ефимка решил приготовить ей новый подарок – найти самое большое и красивое яблоко в ашильтинских садах.
Только теперь Ефимка заметил, сколько вокруг было срублено деревьев. Их употребляли на строительство сап, на шалаши и костры. Повсюду лежали пожухлые ветви, на которых остались не успевшие созреть яблоки, абрикосы и груши. Но Ефимка знал место, где деревья остались нетронутыми. Они росли на взгорке, на большой террасе, и от отсутствия садовников разрослись в густой лес. Лучшие яблоки должны были расти на макушках, где было больше солнца, а снизу их не было видно. Ефимка влез на одно дерево, добрался до вершины и вдруг увидел, что невдалеке растет другое дерево, на котором красовались огромные румяные яблоки. Он слез вниз, а затем взобрался на дерево, где заприметил то, что искал. Но в густой листве найти лучшее яблоко оказалось непросто. Наконец, Ефимка добрался и до него и уже потянулся, чтобы сорвать, но вдруг услышал внизу голоса. Он замер, боясь пошевелиться, а затем посмотрел вниз. Под деревом, на расстеленной бурке, устраивались два офицера.
Это были Милютин и Васильчиков.
Милютин достал фляжку, отвинтил колпачок, в котором оказались упрятаны две серебряные рюмки, и налил в них коньяку.
– Ну, брат, за наш успех! – провозгласил Васильчиков, чокаясь с Милютиным.
– Но помни: пуля, конечно, дура, да сам не будь дураком!
– С Богом! – сказал Милютин.
Опрокинув румку, Васильчиков огляделся, ища чем бы закусить коньяк, и начал выискивать среди ветвей подходящее яблоко.
Перепуганный Ефимка отшатнулся, боясь, что его увидят, и яблоко, за которым он влез на дерево, само собой упало с ветки.
– На ловца и зверь бежит, – сказал Васильчиков поднимая спелое душистое яблоко.
Он порубил его кинжалом, они закусили, потом снова выпили и снова закусили.
– Хорошо здесь, – сказал Милютин, растягиваясь на бурке и подложив под голову руки.
– Славная будет губерния, – согласился Васильчиков.
– Тут палку воткни – и на ней плод вырастет.
– А собирать кто будет? – спросил Милютин.
– Ясно кто – горцы. Мужиков сюда не загонишь.
– Если горцы, тогда зачем же с ними воевать? Торговали бы себе.
– Это верно, – согласился Васильчиков.
– Сады водой поливать надобно, а тут кровь кругом. Вон, в Грузии не жизнь, а райские кущи. Правда, случается, и там народ бунтует. Ну да ничего. Шамиль сыночка выдаст, Граббе его пощадит, а царь так и вовсе обласкает. И будут тут тишь, да гладь, да Божья благодать.
– Скорей бы уж, – вздыхал Милютин.
– Я, конечно, за теорию радею, но и практикой сыт по горло.
– Кто же знал, что горцы столь упорно драться будут? – развел руками Васильчиков.
– Будто Ахульго – не голая скала, а сплошное сокровище.
– Значит, есть что-то в этой скале, – размышлял Милютин.
– Свобода! – усмехнулся Васильчиков, снова наливая коньяк.
– Она, брат, не безделица, – сказал Милютин, поднимаясь и беря рюмку.
– Живи мы с тобой в горах, тоже бы, небось, зверьми дрались.
– Ну тогда… За их свободу и за нашу победу!
Они выпили и снова закусили вкусным яблоком. Васильчиков убрал рюмки и закрыл фляжку.
– Я бы еще выпил, – сказал Милютин.
– Кто знает, может, больше не свидимся.
– Свидимся, – заверил Васильчиков.
– Не тебе же колонны вести. Ты только направлять будешь, как и прочие офицеры Генерального штаба. А коньяк прибереги лучше награды обмывать.
В лагере пробили вечернюю зорю, и офицеры ушли.
Ефимка осторожно слез с дерева и побрел на свою батарею. Ему уже не хотелось искать другое яблоко, ему хотелось плакать.
Когда над Ахульго сгустились сумерки, Граббе понял, что Шамиль отверг его ультиматум. Все собравшиеся у ставки всматривались в тающее в темноте Ахульго. Там лишь мерцало несколько огоньков, и никто не спешил порадовать Граббе.
– Так-с, – процедил Граббе, возвращаясь в палатку.
– Вольному воля… А за мной дело не станет.
Остальные последовали за командующим, ожидая его распоряжений. Но Граббе молчал, разглядывая разложенную на столе карту.
– Прикажете штурмовать? – осторожно спросил Галафеев.
– Подождем до рассвета, – ответил Граббе, не глядя на подчиненного.
– А пока пусть изготовится артиллерия. Пора напомнить Шамилю о моем ультиматуме.
Пулло приказал что-то своему адъютанту, и тот поспешил исполнять.
– Так что, говоришь, – обернулся Граббе к стоявшему поодаль Биякаю.
– Плохи у Шамиля дела?
– Очень плохи, господин генерал, – торопливо заговорил Биякай.
– Совсем плохи. Мюридов мало осталось, и то половина – старики, и женщины с детьми в пещерах сидят.
– Отчего же имам не смиряется? Или людей своих не жалко?
– Наибы не дают, – предположил Биякай.
– Самые заядлые у него собрались. Ахбердилав, Сурхай, Балал Магомед, Омар-хаджи… Опасные люди!
– Так сколько у него сабель? – вопрошал Граббе.
– Триста, – сказал Биякай.
– Не больше.
– Смотри у меня, – пригрозил ему пальцем Граббе.
– Слыхал я эти басни. А как штурм, так тысячи из-под земли вырастают.
– Не знаю, – испуганно пожимал плечами Биякай.
– Не женщины же воевать будут.
Граббе не очень доверял Биякаю и решил послушать ханов, которым доверял еще меньше. Те стали убеждать Граббе начать штурм как можно скорее, пока другие наибы не явились с новыми отрядами выручать имама и пока милиция, уставшая от бездействия, не разуверилась в силе самого Граббе и не разбрелась по домам.
Граббе медлил, пытаясь понять, отчего Шамиль не сдается, хотя положение его было безвыходным? Надеется на сподвижников? Уверился в своей непобедимости после неудачного штурма? Думает прорваться через осаду? Ждет, что рано или поздно Граббе сам вынужден будет снять блокаду? Но ни один ответ его не устраивал, и в генерале росло раздражение. Граббе отказывался понимать, как несколько сотен голодных, ослабших от ран и болезней людей находят в себе решимость противостоять его отряду, тысячам его испытанных солдат, десяткам тысяч снарядов, сыплющихся на гору почти два месяца? Он не знал, что еще нужно сделать, чтобы сломить Шамиля. Неужели только новый штурм, новые жертвы образумят упрямого горца? А хотя бы и штурм! Хотя бы и какие угодно жертвы, лишь бы покончить с Ахульго, пока само оно не покончило с репутацией генерал-лейтенанта Граббе.
Его размышление прервало известие, что на Ахульго что-то слышно. Граббе отодвинул Галафеева и устремился вперед, на передовые позиции, чтобы лично увидеть кульминацию Ахульгинской драмы. Остальные спешили за командующим. Было приказано пустить три светящиеся ракеты, чтобы было лучше видно. Когда Граббе и его свита подошли на возможно близкое безопасное расстояние, все замерли, вслушиваясь в тревожную ночь, освещаемую яркими ракетами.
Они услышали голос муэдзина, призывавшего правоверных на молитву.
– Что это? – обернулся Граббе к свите.
– Что там кричат?
– Азан, – сказал Ахмед-хан.
– Время ночной молитвы.
Повисла тяжелая пауза, которую прервал еще один муэдзин – уже из свиты дагестанской знати.
Разгневанный Граббе решил было отдать приказ о возобновлении артиллерийского обстрела, но вдруг увидел, как сами ханы, их свита и нукеры начали расстилать на земле бурки и походные коврики, готовясь совершить обязательный намаз. Кто-то достал кувшин и делал омовение, а кто-то, сняв сапоги, уже кланялся и припадал к земле, шепча молитвы. Граббе удивленно наблюдал это единодушие врагов, а в голове его беспокойно ворочалось изречение Цицерона: «Когда говорят пушки, музы молчат». Однако своим подчиненным Граббе недовольно сказал:
– Когда говорят пушки, должно смолкнуть все!
– Повремените, ваше превосходительство, – уговаривал его Пулло.
– Такой уж у них закон.
– Вижу, – сердился Граббе, хотя столь ревностное исполнение священного закона вызывало у него невольное уважение.
– Все они тут заодно.
– Мусульмане, – развел руками Пулло.
– Но обратите внимание, ваше превосходительство, когда наш отряд молится, то и горцы воздерживаются от нападений.
Едва дождавшись окончания молитвы, Граббе отдал приказ открыть огонь из всех орудий. Граббе и сам верил в Бога, но в таких случаях больше полагался на пушки. Орудия дружно загрохотали, сотрясая все вокруг. Не стреляла только батарея Ефимки. Оказалось, что кто-то насыпал в стволы земли, и их чуть не разорвало. А затем едва успели погасить фитиль, торчавший из зарядного ящика.
Штурм Ахульго был назначен на раннее утро.
Глава 108
Наступившее на Ахульго затишье услышали и на хуторе. Вернее, перестали слышать канонаду. Айдемир проснулся, оглушенный этой тишиной. Дежуривший у костра Аркадий тоже удивленно вслушивался, замерев, будто опасался спугнуть необычайную тишину.
– Что? – спросил Айдемир, поднимаясь.
– Тихо, – ответил Аркадий.
– А ты говорил, не уйдет генерал, – сказал Айдемир, продолжая вслушиваться в тишину.
Даже пес настороженно всматривался в даль, из которой прежде доносился тяжелый грохот, умножаемый горным эхо.
– Неужели мир? – улыбался Аркадий.
– Надо ехать! – засуетился Айдемир.
Опираясь на палку, он направился к загону, в котором стоял конь Хабиба, и принялся его седлать.
Аркадию и самому не терпелось отправиться на место событий. Он уже пробовал отвозить осажденным сушеные бараньи туши, но чуть не попал в засаду, а переправа оказалась захваченной войсками Граббе. Тогда Аркадию пришлось вернуться. И теперь нельзя было терять время.
Они нагрузили коня оставшимися припасами, взвалили по туше на плечи и двинулись вперед. Айдемир уже мог уверенно ходить и успел изучить все подходы к реке. Теперь они направлялись левее переправы, где Койсу делала изгиб и была достаточно узка, чтобы попытаться через нее перебраться.
Они шли по скатам гор, серебрившихся в лунном свете, но тропинка часто терялась. И тогда путь указывал волкодав, чуявший следы Айдемира, который не раз уже тут проходил.
Наконец, они вышли к реке и увидели Ахульго, над которым еще высели облака сизого дыма. Было тихо, но мира не чувствовалось. Зато пахло войной. На горе мерцало несколько огоньков, а дальше, вычерчивая в ночи очертания Ахульго, полыхал кострами лагерь Граббе.
Вид Ахульго поразил Аркадия, которому оно теперь показалось похожим на сердце, расколотое посередине.
– Брат мой, – сказал Айдемир.
– Если меня убьют, похорони меня лицом к Мекке.
– А как это? – спросил Аркадий.
– Положи в могилу, накрой камнем, а лицо чтобы смотрело… на юг.
– А если убьют меня, поставь над могилой крест, – сказал Аркадий.
– Хорошо, – пообещал Айдемир.
– Но лучше бы не убили ни тебя, ни меня.
Аркадий смотрел на Ахульго, и ему казалось, что это огромное каменное сердце еще бьется. Даже расколотое, оно хотело жить.
– Пошли, – сказал Айдемир, и они начали спускаться к реке.
Андийское Койсу не выглядело опасным, но конь упирался, фыркал и не хотел входить в быструю воду. Тогда Айдемир подпоясался своей вечной спутницей – крепкой веревкой, бросил конец Аркадию и полез в реку, ведя за собой коня. Догадливый пес угрожающе зарычал, подгоняя коня, и тот несмело пошел за Айдемиром. Но они еще не добрались до середины, когда Айдемир провалился в реку с головой, и его понесло течением. Он боролся с рекой, стараясь не отпускать уздечку, но коня тоже утащило в стремнину, и если бы Айдемир не отпустил уздечку, его бы унесло вместе с конем.
– Держись! – кричал Аркадий, пытаясь вытащить друга.
И это ему удалось. Айдемир с трудом выбрался на берег и в отчаянии ударил кулаком о камень.
– Все пропало!
– Не все, – успокаивал его Аркадий.
– Слава Богу, сам жив. И бараны еще целы.
– Нам здесь не перейти, – покачал головой Айдемир.
Но Аркадий имел другое мнение. Вспомнив, как это делал Айдемир, когда выручал его под Аргвани, он привязал к концу веревки продолговатый камень и перекинул веревку на другой берег. Но зацепиться там не удавалось, пока за дело не взялся сам Айдемир. Наконец, конец веревки с камнем крепко засел в расщелине.
– Пройдешь? – сомневался Айдемир, видя, как Аркадий закрепил другой конец и ступил на веревку заправским канатоходцем.
– Палку возьми!
Айдемир нашел длинную ветку, принесенную рекой, и передал ее товарищу. Аркадий уравновесил ветку в руках, как учил его Айдемир, немного постоял на веревке, привыкая к ее натяжению, и пошел по ней через бурлящую реку.
– Не торопись! – подсказывал Айдемир.
– Хорошо! Теперь можно быстрее!
Аркадий пробежал остаток веревки так быстро, будто всю жизнь выступал в цирке. Спрыгнув вниз, Аркадий перевел дух и крикнул Айдемиру.
– Привязывай что осталось!
Он перетащил на веревке бараньи туши, а затем и Айдемира с волкодавом. Взвалив провизию на себя, они двинулись к Ахульго. Их встретили выстрелами. Пули свистели мимо, но им все же пришлось искать укрытие.
– Не стреляйте! – крикнул Айдемир из-за камня.
– Кто вы? – послышался с Ахульго почти детский голос.
– Айдемир я! – отозвался разведчик.
– Шамиль знает! Мы принесли еду!
Сверху не отвечали. Потом спустилась веревка, к которой Айдемир привязал тушу.
– Тащите!
Баран взмыл наверх, а затем оттуда спустился на веревке кувшин.
– Наберите воды! – крикнул караульный.
Аркадий наполнил в реке кувшин и вернул его на Ахульго.
– Эй! – кричал Айдемир.
– У нас еще есть!
– Привязывайте! – послышалось сверху, и вниз опять упал конец веревки.
– Сначала поднимите нас! – ответил Айдемир, но затишье вдруг разорвал грохот десятков пушек, снова обрушившихся на Ахульго. Сверху уже ничего не отвечали. Тогда Айдемир снова обвязался веревкой и полез наверх, рискуя каждое мгновение сорваться. Когда не за что было ухватиться, он вонзал в гору кинжал. Наконец, выбившись из сил, он взобрался на край утеса и увидел перед собой мальчишку, который испуганно смотрел на Айдемира, нацелив на него ружье.
– Я – свой, – сказал ему Айдемир.
– Если не веришь, возьми мой кинжал.
Но тут подоспели мюриды, которых позвал второй караульный. Они узнали Айдемира, втащили то, что они принес, а затем подняли и Аркадия.
– А это кто? – всматривались мюриды в незнакомца.
– Кунак, – объяснил Айдемир.
– Жизнь мне спас.
– Салам алейкум, – улыбнулся Аркадий, протягивая мюридам руку.
– Ва алейкум салам, – жали ему руку мюриды.
– Давно не видели хороших гостей.
– Как-то не по-нашему говорит, не горец, что ли?
– Русский, – сказал Айдемир.
– Русский? – насторожились мюриды, и их изможденные лица помрачнели.
– Позвольте представиться, – кивнул гость.
– Аркадий Синицын.
Мюриды недоуменно смотрели то на Аркадия, то на Айдемира, и руки их невольно тянулись к кинжалам.
– Он мой кунак, – повторил Айдемир, тоже положив руку на кинжал.
– На вашем месте я бы поблагодарил его за помощь. Это он приводил овец на переправ у.
– А, немой! – вспомнили мюриды, вглядевшись в Аркадия.
– Перебежчик!
– Я не перебежчик, – ответил Аркадий.
– Я дворянин.
То, что удалось Айдемиру и Аркадию доставить на Ахульго, пришлось как нельзя кстати. Тут уже свирепствовал голод.
Жадно расспрашивая мюридов о положении дел и пригибаясь под свистевшими вокруг пулями, Айдемир направился к передовым укреплениям. Он надеялся найти Шамиля, чтобы имам увидел, что его разведчик опять в строю. У первых завалов Айдемир увидел Сурхая.
– Я пришел! – Айдемир пытался перекричать грохот канонады.
– Сурхай, это я! Как у вас тут дела?
– Стреляй, – Сурхай показал ему глазами на винтовку погибшего мюрида.
– Где имам? – кричал Сурхай, беря в руки винтовку.
– Зачем он тебе? Стреляй!
Айдемир выстрелил и сел под большим камнем, чтобы зарядить ружье. Вдруг он понял, что ему нечего сказать имаму. Его новости устарели, на Ахульго было не до него. Вот если бы он мог сообщить Шамилю, что скоро подойдет большой отряд, что он уже поднимается на Ахульго или окружает отряд Граббе. Но ничего такого Айдемир сказать не мог. А то, что они с Аркадием доставили на Ахульго несколько сушеных баранов и живую собаку, – разве это имело теперь какое-нибудь значение?
Аркадия перевели на Старое Ахульго, к Хабибу. Впрочем, провожатые ему не требовались, пес уже учуял хозяина и сам торопился к мосту между утесами. Мост тоже обстреливался, и преодолеть его было не так просто. Сначала нужно было спуститься вниз по крутой тропинке, а затем, выждав залп, перебегать как можно скорее. Хабиба они нашли у передовых завалов, где он вел перестрелку с апшеронцами, подбиравшимися к Старому Ахульго.
Найдя своего хозяина, пес чуть не сшиб его с ног. Увидев затем Аркадия, Хабиб удивленно воскликнул:
– Ты?
– Собственной персоной, – радовался встрече Аркадий.
Хабиб потрепал за уши своего пса и спросил:
– А где Айдемир?
– Цел он, – успокоил Аркадий.
– К Шамилю пошел.
– А мой конь? – забеспокоился Хабиб.
– На хуторе оставили?
– Конь?..
– замялся Аркадий, не зная, что ответить.
– Он… Его унесла река – Река? – не понимал Хабиб.
– Какая еще река?
– Койсу, – отвел глаза Аркадий.
– Мы пытались переправиться, а там такое течение…Моста-то уже нет…
– Теперь много чего нет, – упавшим голосом произнес Хабиб.
Пули щелкали по завалу, обдавая всех каменной пылью осколков. Хабиб зарядил ружье, прицелился и выстрелил в отв е т.
– А как отец? – осторожно спросил Аркадий.
– Жив, да сохранит его Аллах, – ответил Хабиб, а затем протянул Аркадию свое ружье.
– Заряди!
Пока Аркадий заряжал ружье, Хабиб выстрелил из другого.
– А семья? У вас такой славный сынок.
– Все хорошо, – ответил Хабиб.
– Воюем.
В завал ударило ядро, и Аркадий упал, оглушенный тяжелым камнем, выбитым взрывом из завала. Но Хабиб заметил это не сразу, а лишь когда протянул руку за заряженным ружьем и не получил его.
– Эй, вставай! – тормошил его Хабиб, но Аркадий только стонал, не открывая глаз.
В завале появилась жена Хабиба Парихан с охапкой заряженных ружей.
– Это тот человек? – удивленно смотрела на Аркадия Парихан.
– Позови кого-нибудь, – велел Хабиб.
– Скорее!
Парихан собрала отстрелянные ружья и убежала.
За Аркадием пришли старик и двое мальчишек. Они подняли его и понесли. С головы Аркадия свалилась папаха. Старик удивленно посмотрел на его отросшую шевелюру и спросил:
– Казак?
– Наш это, наш! – откликнулся Хабиб, продолжая стрелять.
Аркадия поместили в подземной сакле, где было много раненых.
Глава 109
Шамиль давно привык к беспокойным ночам, но в эту ночь вовсе не сомкнул глаз. Он понимал, что новый штурм неминуем, что воинов на Ахульго осталось слишком мало, чтобы противостоять колоннам Граббе, но сердце подсказывало ему, что они выдержат. Разведчики сообщали о начавшемся передвижении войск противника, и похоже было, что главный удар Граббе снова нанесет по Новому Ахульго. Теперь нужно было правильно расставить людей на оборонительных рубежах, но их не хватало, и приходилось рисковать. Шамиль велел вызвать подмогу со Старого Ахульго, ослабив позиции Омара-хаджи. Небольшой резерв тоже сосредоточился на Новом Ахульго.
Помогать мюридам вызвались юноши, которых уже невозможно было заставить сидеть по домам. Старики давно воевали наравне с молодыми. А женщины выучились сбрасывать камни, точить тупившиеся в боях сабли, заряжать ружья и стрелять, когда приходилось. Все Ахульго теперь стало одним домом, который приходилось защищать всем вместе.
Джавгарат тоже просила Шамиля отпустить ее с другими женщинами, а за младенцем Саидом могла присмотреть и Патимат, которая все равно не могла покинуть дом, потому что ей скоро было рожать. Но лекарь Абдул-Азиз, иногда навещавший дочь, шепнул Шамилю, что ее нельзя оставлять одну. Из-за переживаний и всего, что происходило вокруг, она могла родить раньше срока.
– Оставайся дома, – твердо сказал Шамиль Джавгарат.
– Достаточно, что Джамалуддин не вылезает из-под пуль.
Шамиль взял лампу и пошел к детям, спавшим в углу его комнаты. Он долго смотрел на своих сыновей, которые даже во сне чувствовали каждый взрыв, сотрясавший подземные кельи. Гази-Магомед спал в обнимку с кинжалом, а Джамалуддин уснул с книгой в руках. Шамиль вынул из рук сына кинжал и повесил на деревянный гвоздь рядом с кинжалом Джамалуддина. Книгу он положил в нишу над постелью. Затем провел рукой по голове Джамалуддина, и тот вздохнул, успокоился и повернулся на другой бок. Отец смотрел на Джамалуддина, не знавшего, что явившийся в горы генерал требует его в заложники, и читавшего перед сном книгу, в которой говорилось о благородных людях и красоте мира, созданного всевышним. Шамиль не мог насмотреться на своих сыновей, не мог заставить себя покинуть их. Граббе с его безумными ультиматумами был далеко, но пушки его продолжали стрелять, а войска уже строились в штурмовые колонны. И никто не знал, увидит ли Шамиль своих детей снова. Битва предстояла тяжелая.
Когда Шамиль вышел на гору, его уже ждали Султанбек и Юнус.
– Они идут, – сказал Юнус.
– Наши люди на местах? – спросил Шамиль.
– Все, кто смог, – сказал Султанбек.
– Даже раненые.
Обстрел вдруг прекратился будто для того, чтобы Шамиль спокойно добрался до оборонительных рубежей. Там он встретил Сурхая, который вышел навстречу имаму.
– На нас идут три батальона, – сказал Сурхай.
– Они уже у первого перекопа.
– А что на Старом Ахульго?
– Наступает один батальон, – докладывал Сурхай.
– И еще один, как в первый раз, спустился между горами и идет по речке.
Шамиль вынул свою шашку и огляделся кругом.
– Чего они ждут?
Будто отвечая на его вопрос, снова заревели пушки, но теперь основной огонь был сосредоточен на первом рубеже обороны, перед которым, укрытая новым мантелетом, ждала штурмовая колонна.
– Началось! – крикнул Сурхай и бросился туда, где теперь было особенно жарко.
– Держись, имам!
Это были последние слова Сурхая, которые слышал Шамиль.
На передовые укрепления обрушились свирепые залпы артиллерии. Все вокруг было пронизано осколками снарядов и камней. От огня побагровели даже облака, плывшие над Ахульго.
Сокрушив все, что можно было сокрушить, артиллерия уступила Ахульго пехоте. Батальоны куринцев под командой генерал-майора Пулло хлынули вперед, затопили собой перекоп и с громовым «Ура!» полезли на останки передовых креплений. Ни огонь уцелевших защитников, ни камни и бревна, летевшие в куринцев, не могли остановить этой лавины.
Мюриды во главе с Сурхаем яростно бросились в шашки, но лес штыков опрокинул горцев. Выжившие скрылись в подземных укреплениях и оттуда открыли огонь по наступавшим.
Куринцы, приставляя лестницы и помогая друг другу, уже взбирались на первый рубеж обороны горцев, когда отбивать его Шамиль послал еще один отряд. Снова началась ужасная сеча. Сурхай и его люди выбрались из укрытий и бросились на куринцев с флангов. Позади, как и в прошлый раз, накапливались массы солдат, пока эту плотину не прорвало. Сметая своих и чужих, лавина перевалила через первый рубеж и хлынула во второй ров. Повторялась картина прежнего штурма, только войск теперь было больше и сопротивление – ожесточенней. Горцы уже не думали о спасении, гибель в бою казалась им предпочтительнее невыносимой блокады. Мечтали они лишь о том, чтобы дорого отдать свои жизни. Среди первых погиб Сурхай, врезавшийся в гущу куринцев с шашкой в одной руке и кинжалом в другой. Израненного, его хотели взять в плен, но он продолжал биться, пока не упал под грудой сраженных им куринцев.
И так же, как и в прошлый раз, лавина остановилась перед следующей защитной линией, стоявшей над вторым рвом.
Пулло приказал надежно укрепиться на взятом рубеже. И саперы, не обращая внимания на продолжавшийся огонь, тут же втащили наверх туры и фашины и приступили к устройству ложемента – защитного укрепления для пехоты и артиллерийской батареи, которую предполагалось здесь возвести.
Прорвавшиеся вперед куринцы вступили в жаркую перестрелку с защитниками второго рубежа обороны Ахульго, где командовал Балал Магомед. Но тут по куринцам начали бить со всех сторон из подземных укрытий. В ответ началась жестокая стрельба с занятого куринцами рубежа. Потом в куринцев полетели кувшины, начиненные порохом и битым чугуном, и гранаты, которые горцы успели потушить и заново снарядить. Взрывы производили в рядах наступавших значительные опустошения. Куринцы несколько раз бросались на второй рубеж, и столько же раз горцы бросались на куринцев врукопашную, пока, в конце концов, авангард колонны Пулло не отошел назад, за первую линию.
Тем временем батальон апшеронцев под начальством майора Тарасевича проник в ущелье между утесами и начал взбираться по почти отвесной скале на Новое Ахульго, намереваясь выйти в тыл отбивавшимся горцам. Первым их заметил Хабиб, и со Старого Ахульго по апшеронцам открыли стрельбу. Это казалось невероятным, но апшеронцы, несмотря ни на что, упорно поднимались наверх. Первых поднявшихся встретил сам Шамиль с небольшой группой мюридов. Они яростно сражались, пока смельчаки апшеронцы не были сброшены вниз. Как всегда, отличился Султанбек, отрывавший от горы лестницы вместе с висевшими на ней солдатами и сталкивавший их в пропасть. Шамиль был ранен, но продолжал биться, пока это не увидел дравшийся рядом Юнус и не увел имама от края горы. Затем в дело вступили старики и подростки, а женщины с проклятиями обрушивали сверху заранее припасенные камни и бревна. Но и этих средств уже не хватало, и тогда, разгоряченные схваткой, люди начали сами бросаться на солдат в надежде увлечь их с собою в пропасть как можно больше. Первым это сделал старик, почувствовав, что иначе наступающих не сдержать. Размахивая кинжалом, он кинулся на показавшегося снизу офицера, и они полетели в пропасть, не переставая драться и сбивая по пути других. Примеру старика последовал подросток, а следом за ним бросилась и его несчастная мать. Не ожидавшие такого, изумленные апшеронцы замешкались, и этого хватило, чтобы атака была окончательно сорвана. Понеся тяжелые потери, колонна Тарасевича вынуждена была отказаться от своего отчаянного предприятия.
Старое Ахульго атаковала колонна полковника Попова, но, как и в прошлый раз, не убедившись в успехе других колонн, ограничилась демонстрацией. Знай Попов, как мало на Старом Ахульго осталось защитников, он вряд ли бы остановился.
Хаджи-Мурад наблюдал за битвой издалека. Его нукеры сначала оживленно комментировали ход дела, а затем, когда исход стал ясен, приуныли.
– Опять не смогли, – говорили они.
– Еще бы нажали и взяли Ахульго!
– Как можно столько драться? У Шамиля и людей уже нет.
– Людей нет, – согласился Хаджи-Му-рад, наводя на Ахульго подзорную трубу.
– Зато дух есть.
– Дух – не дух, а сила тоже нужна, – отвечали нукеры.
– Все равно Граббе его сломает
– Если бы мог, давно бы сломал, – ответил Хаджи-Мурад, наблюдая, как отчаянно дерутся мюриды.
– Можно неделю держаться против такого войска, пусть – месяц! А имам только на Ахульго уже два месяца воюет.
– Да, – растерянно соглашались нукеры.
– Каменный он, что ли?
– Или вера у него такая крепкая?
– Хоть бы женщин пожалел.
– Они уже сами воюют, на штыки кидаются…
– Удивительное дело…
Хаджи-Мурад и сам не понимал, что происходит. Мюриды дрались так, что вызывали удивление даже у горцев, у самого Хаджи-Мурада, который и сам был не последний джигит. Все это порождало нечто большее, чем уважение. Воинская доблесть мюридов унижала их соплеменников, оказавшихся на другой стороне. Самоотверженность защитников Ахульго порождала в противниках зависть и разрушительное сомнение. Кто бы мог теперь сказать, что Шамиль и его мюриды защищают лишь свои жизни, что обороняют лишь гору, которых в Дагестане тысячи? Что-то здесь было не так. Хаджи-Мурад догадывался, что придает Шамилю силы, но не спешил это признать. Он не хотел верить, что Шамиль сумеет выстоять против тех, кому служил Хаджи-Мурад. Служил, но не уважал. Да и врагов у него было больше в ханском дворце, чем на Ахульго.
Среди отбивавшихся на краю Нового Ахульго была и жена Сурхая. Едва люди перевели дух после отражения атаки, как стало известно, что Сурхай и его сын погибли. У женщины будто остановилось сердце.
– Погибли? – не верила она.
– А как же я? А наша дочь?..
И тут она вспомнила, как муж с ней прощался. Ее, как и других ахульгинских женщин, давно мучило тяжелое предчувствие, но на этот раз оно было таким сильным, что мешало говорить. И она только молча кивала, слушая страшные слова, которые говорил ей муж. Прощаясь, Сурхай сдержанно обнял ее, погладил прижавшуюся к матери дочку и шепнул жене:
– Аллах знает, что теперь будет. Но если я погибну, если погибнет наш сын, то лучше убей и нашу дочь, но не оставляй ее врагу.
– Нет! – отшатнулась жена.
– Так решили мужчины, – сказал Сурхай.
– Я не смогу! – застонала женщина.
– Подумай сама, что для нее лучше. И для тебя тоже. Прощай, – улыбнулся Сурхай, уходя вместе с сыном.
– Жаль, если не увижу вас снова.
Душа женщины противилась ужасной вести, противилась воле покойного мужа, но ноги сами несли ее домой, туда, где пряталась от смерти ее голубоглазая Муслимат, красота которой ослепляла всех, кто ее видел. Жена, а теперь уже вдова Сурхая была так ошеломлена ударом судьбы, что не заметила, как рядом зашипела и разорвалась граната. Женщина упала. Когда она пришла в себя, ее, окровавленную, поднимали плачущие женщины. Она никого не узнавала, она не понимала, что с ней происходит, но знала, что ей нужно домой, к дочери. Она встала на ноги, отстранила женщин, затем подняла кинжал, сделала несколько шагов и упала замертво.
На Ахульго наступило затишье. Стефан Развадовский лежал среди убитых, прижимая к себе запачканную в крови трубу.
– Кто живой, отзовись! – услышал он где-то рядом.
Стефан с трудом открыл глаза и увидел, как санитары уносят штабс-капитана, командовавшего ротой авангарда. Ударяясь о камни, позвякивала его висевшая на темляке сабля. Стефан с трудом приподнялся, ощупал разбитую голову с запекшейся кровью и заставил себя встать. Кругом было тихо, только стервятники перекликались в небе, предчувствуя богатую поживу. Стефан осознал, где находится, поглядел на руины, взятые отрядом, с которых ему призывно махали руками куринцы. Затем оглянулся на оставшееся в руках горцев укрепление, откуда на него устало смотрели мюриды, и двинулся к горцам.
– Куда ты?! – кричали куринцы.
– Поворачивай назад, дурья башка!
Но Стефан, отирая рукавом кровь с трубы и спотыкаясь об убитых, брел к горцам.
– Совсем ошалел контуженный! – кричали куринцы.
– Убьют!
Занимавшие второй рубеж горцы удивленно смотрели на Стефана, у которого вместо оружия был странный инструмент, и не стреляли. Стефан перебрался через завал и привалился к большому камню.
– Чего надо? – спросили его.
– Мира, – отозвался Стефан.
– И покоя.
– Лучше бы сразу умер, – сказал ему горец.
– Здесь покоя не будет.
– Кто хочет мира, не нападает, – добавил другой.
– Это что? – постучал кинжалом по трубе первый горец.
– Зурна?
Стефан поднес трубу к губам и медленно сыграл два такта лезгинки, которой выучился у музыкантов, сопровождавших горскую знать.
– С ума сошел, – заключили горцы.
Курбан с несколькими юношами вернулся за новыми ранеными, и Стефана отправили с ним к Абдул-Азизу.
Хотя горцы и отразили штурм Граббе, но этот удар оказался слишком тяжелым. Кроме Сурхая, погибли наибы Муртазали и Балал Магомед, а с ними десятки мюридов и других защитников Ахульго. Когда Юнус называл имена убитых и раненых, Шамиль слушал его, закрыв рукою глаза. Он не мог поверить, что лишился столь нужных и близких сподвижников, что женщины и дети воевали и гибли наравне с мужчинами. Шамиль произнес над погибшими молитву, а затем сказал:
– Благодать от деяний героев снисходит и на потомков. Они будут гордиться своими предками.
Мимо вели раненых. Курбан заметил Шамиля и подвел к нему Стефана.
– Шамиль, этот человек сам перешел к нам, – объяснил Курбан.
– Шамиль?! – улыбнулся Стефан.
– Хорошо, что ты жив!
– Зачем ты пришел? – спросил Шамиль, и Юнус перевел его слова.
– Не хочу драться с горцами, – ответил Стефан.
– В отряде много таких, которые не хотят.
– Зачем же деретесь?
– Нас не спрашивают, – сказал Стефан.
– Даже меня, музыканта, который не должен воевать, послали в бой. Граббе пошлет на тебя всех, если ты не замиришься.
– Ваш генерал не хочет мира, – ответил Шамиль.
– Он хочет покорности.
– Если будут новые штурмы, все погибнут, – горячо говорил Стефан.
– Погибнут твои храбрые мюриды, погибнут мои друзья, погибнет моя Польша…
– Так ты поляк? – спросил Шамиль.
– Я боролся за свободу Польши, а теперь вынуждены воевать против свободы гор.
– У нас есть поляки, есть русские, много разных людей есть в горах, – сказал Шамиль.
– Кто не хотел с нами воевать, те стали нашими друзьями.
– Не все могут уйти, – сказал Стефан.
– Граббе требует моего сына, – произнес Шамиль.
– Скажи, поляк, если я отдам его, генерал оставит наши горы в покое?
– Этого я не знаю, – ответил Стефан.
– Но если это условие мира и если Граббе его нарушит, то многие откажутся воевать.
Шамиль пожал руку Стефану и сказал:
– Иди, наши люди тебе помогут.
Лекарь Абдул-Азиз, прослышавший про ранения имама, был уже здесь. Но Шамиль сказал ему, что будет последним, кто получит его помощь. И лекарь ушел с остальными ранеными.
Глава 110
Все понимали, что еще один такой штурм измученные защитники Ахульго могут не выдержать. Понимал это и Шамиль. Он должен был что-то сделать, чтобы спасти людей, которые уже доказали свое презрение к смерти.
Шамиль вдруг почувствовал, как он одинок. Наступала пора, когда никто не мог помочь ему в том, что он собирался сделать. Отдать сына, который был для Шамиля больше, чем он сам, – это было испытание потяжелее войны. Джамалуддину, один взгляд на которого облегчал Шамилю сердце, предстояло стать невинной жертвой. Как объяснить ребенку,
что его отрывают от матери, от братьев, от отца, от родины в призрачной надежде спасти их и остановить кровопролитие? Слишком многого требовала от ребенка война. Джамалуддин так гордился, что был сыном имама Шамиля, а теперь ему предстояло заплатить за это страшной ценой.
Как объяснить это жене, матери Джамалуддина, которая носит под сердцем еще одного ребенка? Что ответить, если Патимат скажет, что Шамиль однажды уже отдал своего племянника Гамзата, отдал его генералу Фезе, который обещал мир, а война продолжается? Шамиль знал печальные ответы на эти вопросы, ответы разума, продиктованные обстоятельствами. Но такие ответы не могли убедить мать, они могли лишь разорвать ее и без того настрадавшееся сердце.
Затишье не могло длиться вечно. Вот-вот должен был начаться новый штурм. И все ждали, как поступит имам.
Решившись, Шамиль вознес к всевышнему свою смиренную молитву:
– О Аллах, истинно ты вскормил своего пророка Мусу, да будут над ним мир и молитва, в руках фараона. И, истинно, если я отправляю к неверным моего сына, то это будет только потому, что он под твоим покровительством и защитой. А ты есть лучший из хранителей.
Шамиль обернулся к своим сподвижникам:
– Я отдам его.
– Джамалуддина? – удивленно спросил Султанбек, точивший свою шашку, которая иступилась в бою.
– Нашего аманата, – ответил Шамиль.
– Он ничем не лучше ваших детей.
– Не надо, имам, – сказал Ахбердилав.
– Люди надеются, что, получив Джамалуддина, генерал уйдет, – сказал Шамиль.
– Но они увидят, что так не будет.
– Зачем же тогда отдавать? – воскликнул Юнус.
– Я не только его отец, я имам своего народа, – сказал Шамиль.
– Но все же я его отец.
Вокруг повисло тяжелое молчание.
Джамалуддин уже привык к тому, что мать его перестала улыбаться, что они с его второй матерью Джавгарат только и делают, что плачут, и никуда его не пускают. Только сегодня вдруг послали его привести Муслимат, дочку наиба Сурхая. Он пробрался к ним в дом подземными ходами и нашел плачущую от страха девочку, которая сидела, вжавшись в угол, и звала родителей. Увидев Джамалуддина, она перестала плакать, а когда он сказал, что отведет ее в свой дом, а ее родители придут позже, схватила свою куклу и пошла за ним. Теперь Джамалуддин важно расхаживал перед девочкой, показывая, что не боится никаких пушек, и угощал ее орехами, которые нашел в деревянном ларе.
– Я тоже не боюсь, – говорил Гази-Магомед, стараясь храбриться перед гостьей.
Джамалуддин достал бумагу, чернила, калам – заостренную палочку для письма – и сказал девочке:
– Я могу написать твое имя.
– Напиши, – улыбалась синеглазая гостья.
– Это буква «мим», – объяснял Джамалуддин.
– Как кружочек с хвостиком, – удивилась девочка.
– Это когда в начале, а если в середине – с двумя хвостиками, – объяснял Джамалуддин.
– Если поставить сверху такой значок, получится «Му»… А вот это – «сад», потом – «лам»… Потом еще буквы, а потом… И вот получилось Муслимат.
– Муслимат, – повторила девочка.
– А если написать «малаик» – «ангел», тоже надо начинать…
– С буквы мим? – догадалась девочка.
– Можешь сама попробовать, – разрешил Джамалуддин.
Муслимат взяла калам и начала старательно выводить букву.
– А ты ангелов видел? – спросила Муслимат.
– Нет, – ответил Джамалуддин.
– Их никто не видел.
– А какие они?
– Учитель говорил, что они созданы из света, – сказал Джамалуддин.
– А мама говорит, что я – ее ангел.
– Не знаю, – пожал плечами Джамалуддин.
– Может, и такие ангелы бывают. В медресе говорили, что ангелы – главные воины Аллаха, которые исполняют все его приказания и помогают людям.
– Как наибы? – догадалась Муслимат.
Джамалуддину было приятно такое сравнение, но он знал, что небесное воинство никак нельзя сравнивать с людьми.
– Ангелы сильнее всех людей, – сказал он.
– И сильнее всех пушек.
– А они нам помогут? – спросила Муслимат.
– Конечно, – кивнул Джамалуддин и вдруг обнаружил, что Муслимат уже написала все слово.
– Ты тоже умеешь? – удивился он.
– Мама научила, – сказала Муслимат.
– А ты не знаешь, когда она придет? И папа тоже?
– Скоро, – заверил Джамалуддин.
– Мой папа тоже редко приходит.
– А почему?
– Они же воюют, – объяснил Джамалуддин.
– А мне не разрешают. Но я тоже воевал. Хочешь, расскажу?
– Да, – раскрыла и без того большие глаза Муслимат.
– Я тоже воевал! – сообщил ГазиМа-гомед, доставая из ларя последние орехи и угощая девочку.
– Ты только порох приносил, – усмехнулся Джамалуддин.
– А я стрелял по-настоящему!
– А я, когда вырасту, буду Хочбаром! – пообещал Гази-Магомед.
– Его все ханы боялись!
– Вырасти сначала, – отмахнулся от брата Джамалуддин.
– У тебя кинжал больше, чем ты сам!
Джамалуддин считал себя уже взрослым. Но когда вошел его дедушка Абдул-Азиз и крепко пожал ему руку, он слегка оробел. Дедушка смотрел на него не так, как раньше, а с особым уважением и даже с надеждой. Потом он подошел к матери Джамалуддина, что-то сказал ей, и та, раскинув руки, горестно закричала:
– Не отдам!
Джамалуддин не понимал, что происходит, только видел, как Джавгарат зарыдала и начала бить себя по лицу, как метнулась к нему мать, будто хотела прикрыть от чего-то страшного, как дедушка силой удержал ее, а потом сказал Джамалуддину:
– Иди к отцу, он тебя ждет.
Мать продолжала кричать, почти выть:
– Нет! Нет! Иди ко мне, сынок!
Ошеломленный Джамалуддин не мог двинуться с места, а Муслимат и младший брат дружно заплакали.
– Джамалуддин! – крикнул Абдул-Азиз.
– Ты еще здесь?!
Джамалуддин будто очнулся и побежал из дому. Воля отца была для него превыше всего. Шамиль ждал его у мечети.
– Джамалуддин, – сказал Шамиль.
– Ты должен пойти к русскому генералу и сказать, чтобы он перестал с нами воевать.
– А разве он меня послушает? – удивился Джамалуддин.
– Меня он не послушал, а тебя послушает, ты же настоящий герой!
Джамалуддин был горд таким необыкновенным поручением, но затем его охватило неясное беспокойство.
– А потом что?
– Юнус скажет, – ответил ему отец.
– Он пойдет с тобой.
Но прежде они вошли в мечеть, большую часть которой занимали раненые, и совершили предвечерний намаз вместе со всеми, кто мог стать на молитву. Затем Шамиль вывел сына, обнял его и долго не отпускал. Разжав, наконец, объятия, Шамиль отвернулся, опасаясь, что может передумать.
Юнус поправил на Джамалуддине папаху и пошел с мальчиком к перекопу. А Шамиль вернулся в мечеть, чтобы снова молить всевышнего об избавлении гор от войны и о спасении народа.
Секретарь потом записал:
«Усилились бедствия, испытываемые детьми и женщинами, а также умножились жалобы со стороны раненых, голодных и слабых; учитывая слабость перечисленных лиц, претерпеваемые ими бедствия, тяготы, которые они вкушают – голод, жажду, недосыпание, а также обязательность перемирия с точки зрения шариата в случае, если отказ от него влечет за собой нанесение вреда мусульманам, Шамиль согласился все же отдать усладу своих очей Джамалуддина. Последние при этом обязались выполнить следующие условия имама – прекратить бой и возвратиться на свою территорию».
Глава 111
Разъяренный очередной неудачей, Граббе сосредоточил огонь всех орудий на втором рубеже обороны Ахульго, который удерживали горцы. А тем временем принимал рапорты удрученных командиров. Попов и Тарасевич ничего не смогли сделать, хотя и потерь особых не понесли. Но рапорт Пулло ошеломил Граббе.
– Сколько-с? – переспросил Граббе, которому показалось, что он ослышался, когда Пулло назвал цифру потерь Куринского полка.
– Выбыло из строя восемь офицеров, из них два убиты и восемь ранено, и триста сорок семь нижних чинов, – повторил Пулло.
– Сколько всего по отряду? – обернулся Граббе к Милютину, который подсчитывал потери на бумаге.
– Сто два убитых, – подвел итог Милютин.
– Сто шестьдесят два раненых, из них восемь офицеров, и двести девяносто три контуженных, ваше превосходительство.
– Без малого – батальон? – негодовал Граббе.
– Хорошо еще, что потери меньше, чем в прошлый раз. Только этот прошлый раз вас ничему не научил! День на уборку тел, день на похороны… Просто некогда воевать!
– По полученным сведениям, Шамиль тоже потерял немало, – вставил Галафеев.
– И в числе прочих лишился ближайшего своего помощника – Сурхая.
– Важная новость, – кивнул Граббе.
– Также и других двух наибов, – добавил Пулло.
– Сил у него, полагаю, не осталось. Уже женщины да дети воюют.
– Не осталось? – сомневался Граббе.
– Отчего же Ахульго не взято?
– Возьмем, – пообещал Галафеев.
– Войска дрались геройски, передовой бастион в наших руках. Вот наберемся сил – и конец Шамилю.
– Наберемся сил? – язвил Граббе.
– Откуда же их взять, если вы на сто шагов по батальону кладете? Если гору несчастную два месяца щупаете, а ухватить не можете! Так воевать нельзяс, господа!
– Надо бы сменить передовые части, – предложил Галафеев.
– Ширванцы отдохнули, пора их снова в дело пустить.
– Ширванцы уже ходили, да ни с чем вернулись, – отмахнулся Граббе.
– А отряд тогда лишился двух батальонов.
– Многие раненые теперь поправились, ваше превосходительство, – сообщал Милютин.
– А мне думается, господа, что многие теперь и воевать не хотят, на наши успехи глядючи, – сказал Граббе.
– В отряде ропот, милиции в разброде, ханы в усы посмеиваются… Этак мы с вами скоро одни останемся!
Упорство Шамиля и его мюридов рушило все представления Граббе о правилах ведения войны. Это не укладывалось ни в какие теории и не имело примеров. Граббе начинал понимать Фезе, который заключил с Шамилем мир. Прежде и сам Граббе считал это недопустимой оплошностью, но теперь вынужден был признать, что у Фезе могли быть для этого достаточные основания. Однако Граббе не допускал и мысли о повторении конфуза, случившегося с Фезе под Телетлем, когда он удовлетворился взятием в заложники племянника имама и ретировался, признав Шамиля властителем гор, равным в своем достоинстве коронованным особам. Слишком многое Граббе поставил на карту, слишком велики были жертвы, чтобы уйти ни с чем. Он теперь мог вернуться только с Шамилем в цепях, иначе терзавшая его многие годы тень «прикосновенности к делу декабристов» показалась бы только цветочками, а ягодки были припасены у Чернышева. Но силы Граббе, его отряда были почти исчерпаны, Головин больше подкреплений не давал, а невыносимая жара вот-вот сменится холодами, которые вынудят снять осаду и вернуться на зимние квартиры. Искусство войны, владение которым приписывал себе Граббе, не впечатляло его командиров, скорее, даже наоборот, они считали напрасными ужасные жертвы, принесенный отрядом на алтарь войны по методу Граббе. Свидетельством тому были сотни трупов, усеявших пропасти вокруг Ахульго, которые даже достать не было никакой возможности. Были среди них и горцы, но Граббе это не утешало. Он считал, что во всем виноваты его командиры, которые сами вели штурмовые колонны, разбившиеся о немногочисленных мюридов. Но это не могло служить оправданием для командующего, ведь приказы-то отдавал он сам.
Всем было очевидно, что тактика Граббе основывалась не столько на тонких военных соображениях, сколько на уверенности в том, что значительное превосходство в штыках, подкрепленное артиллерийскими батареями, сделает, в конце концов, свое дело. А его частые апелляции к Ганнибалу вызывали у подчиненных уже нескрываемую иронию.
Оставалось полагаться на все то же авось или на благоразумие Шамиля, которому Граббе смягчил условия ультиматума и грозил новым штурмом.
Артиллерия неожиданно смолка. В наступившей тишине загремел голос негодующего Граббе:
– Кто приказал?
Командиры недоуменно переглядывались.
– Почему не стреляют?
Васильчиков бросился выяснять, что случилось. Известие, с которым он вернулся, поразило Граббе еще больше, чем цифры потерь. Васильчиков был так взволнован, что не сразу сумел доложить:
– Шамиль выдал сына!
– Неужто?! – возрадовался Галафеев и поспешил к месту событий.
Следом ринулись остальные, и только Граббе с Васильчиковым остались в штабе.
– Слава тебе, господи! – перекрестился Граббе, а затем сказал адъютанту: – Что же вы-то стоите? Идите, насладитесь. И пусть немедленно доставят заложника ко мне.
– Слушаюсь, ваше превосходительство, – козырнул изнемогавший от любопытства Васильчиков и бросился из палатки.
Оставшись один, Граббе кликнул своего денщика и велел принести водки. Иван явился с подносом, на котором стояла серебряная рюмка и лежал на блюдце кусочек засахаренного лимона.
– А не обманет Шамилька? – усомнился Иван.
– Меня? – чуть не поперхнулся водкой Граббе.
– Когда у него руки связаны и петля на шее? Вздор!
– Оно конечно, – закивал старый денщик.
– Одначе мог бы и сам выйти, коли присмирел.
– Выйдет, Иван, никуда не денется, – сказал Граббе, закусывая лимоном.
– Так уж, видать, у них заведено, – ворчал денщик.
– Чтобы с церемониями.
– Ступай, братец, – велел Граббе.
Он посмотрел в окно, но увидел только бегущих куда-то солдат, толкущихся конных казаков и услышал, как то в одном, то в другом полку горны торжественно поют «на караул».
Граббе охватило сильное волнение. Он понимал, что наступил перелом, долгожданный, но все равно неожиданный. Теперь его следовало обратить в полный триумф. Граббе мысленно обратился к своему кумиру, но почему-то в голову пришел лишь горький упрек, брошенный Ганнибалу его сподвижником: «Ты умеешь побеждать, но не умеешь пользоваться победой».
– Нет, господа Чернышевы, Головины и Анрепы! – сулил Граббе.
– Надсмеяться над собою не позволю! Вы увидите, что такое настоящая победа! А не захотите увидеть, так император вам укажет, кто первый полководец в государстве. Будете ахульгинскую пыль счищать с моих сапог!
Перед посланцами Шамиля Граббе решил предстать во всем возможном величии. Жаль было, что шальной пулей убило цирюльника. Офицера, а тем более солдата заменить было можно, а хорошего цирюльника взять негде. Но на худой конец годился и денщик.
– Подай зеркало! – велел ему Граббе.
– Бегу, барин!
Иван явился с зеркалом и набором щеток. Одной он пригладил Граббе всклокоченные волосы, другой поправил усы, третьей подвил бакенбарды, напоминавшие императорские. Граббе видел, что пора бы пустить в ход и ножницы, но времени на это не было. Так он выглядел не столь величественно, как желал, зато весьма грозно.
– Ампутация! – вспомнил Граббе понравившийся ему девиз.
– Сына от Шамиля, а там и Шамиля – от Кавказа.
Молва о выдаче имамом сына прокатилась по лагерю, и все спешили увидеть это собственными глазами. От перешейка на Ахульго до ставки Граббе выстроился живой коридор. Солдаты и милиционеры, генералы и офицеры, даже раненые приковыляли из лазарета, чтобы убедиться в том, что Шамиль послал Граббе верный залог наступающего мира. Вокруг кричали «Ура!» и палили в воздух. Безмолвствовал лишь осиротевший оркестр Развадовского. Музыканты полагали, что Стефан убит, и не смели радоваться при не остывшем еще горе.
Юнус во всеоружии и с засученными рукавами новой черкески, которую ему велел надеть Шамиль, вел за руку Джамалуддина. Их сопровождали Пулло с Милютиным и небольшим конвоем казаков.
Юнус смотрел перед собой, но краем глаза подмечал все, что могло таить угрозу. Джамалуддин, напротив, удивленно смотрел по сторонам. Солдат он видел раньше только издалека, сквозь частокол штыков, и думал, что это какие-то страшные чудовища, созданные лишь для того, чтобы сеять смерть и разрушение. А тут повсюду были радующиеся люди. Джамалуддин был горд, что его так встречают. Он уже не боялся и думал о том, как передаст генералу волю отца, как тот отведет войска и как в горах наступит мир. А он вернется на Ахульго, и синеглазая Муслимат увидит, какой он герой.
Солдаты приветливо махали Джамалуддину, и многие даже пытались угостить его яблочком или кусочком сахара. Но Юнус решительно отвергал все их попытки, недвусмысленно хватаясь за рукоять сабли.
– Осади! – кричали казаки, прокладывая путь необыкновенному заложнику.
– Не велено!
Михаил Нерский еще числился больным, но теперь это уже не имело значения. Он смотрел на грозного мюрида, быстрого и сильного, как пантера, и сожалел, что горное гнездо свободы теперь разорено. И даже птенец Шамиля вот-вот окажется в руках Граббе. Свобода, из-за мечты о которой Михаил оказался на каторге, а затем и здесь, в Дагестане, посылала ему последнюю улыбку – невинную улыбку мальчика, сына имама, сделавшего свободу знаменем народа. Михаил отвел глаза. Это шествие и это ликование его глубоко печалили. Кавказ был отдушиной империи, последним убежищем вольномыслящих людей, страной, где люди дышали полной грудью, где сам воздух соткан был из свободы, невыносимой для жандармов Бенкендорфа. А теперь все кончено… Конец… Хотя… Михаил вспомнил о главном – о жене, которая теперь должна обрести свободу. Джамал обещал помочь, но его взяли под наблюдение и не выпускали из палатки сына. Быть может, теперь все изменится? И он увидит, наконец, свою отважную Елизавету, которая больше других имела право на любовь, счастье и семейный покой.
Солдаты смотрели на гостей из Ахульго во все глаза и говорили разное:
– И чего раньше не выдал?
– Сколько люду зазря положили.
– Мальчонка-то, гляди, радуется.
– А мюрид, вона, зверем смотрит.
– Того и гляди зарежет.
– Стало быть, мир, братцы!
– Вечный мир до первой драки.
– Обожди, пока Шамилька сам не явится.
– Чего уж тут… Готово дело.
Хаджи-Мурад наблюдал за происходящим с облегчением, смешанным с сожалением.
– Не так уж и крепок оказался этот Шамиль, – говорили нукеры.
– Куда ему!
– Был герой, а станет пленник.
– Жалко, все-таки свой…
– В Сибирь отправят. Или в тюрьме держать будут.
– Не спешите радоваться, – неопределенно отвечал Хаджи-Мурад, который вовсе не был уверен, что все кончено.
– Сын Шамиля – это еще не сам Шамиль.
Ханы тоже явились лицезреть крушение Шамиля. Их радостные лица раздражали Хаджи-Мурада, который считал, что такого подарка они не заслужили, но постараются воспользоваться им сполна. И он подозревал, что первой жертвой их безграничной власти может стать он сам, которого они пока терпели как цепного пса, охраняющего добро хозяина. Только что станут делать они сами, кому они будут нужны, если не станет Шамиля и его мюридов? Ханы, похоже, и сами беспокоились о своем будущем. Хаджи-Мурад с удовлетворением отметил, что в палатку к Граббе их не пустили, и они стояли неподалеку, обсуждая неожиданные события. Теперь их волновал вопрос о том, сдержит ли Граббе слово, отведет ли войска и как договорится с Шамилем? Мир Граббе с имамом стал бы их поражением, если Шамиль не согласится вернуть им аулы и людей, не говоря уже об отнятых стадах. Но как бы ни хотели ханы крушения Шамиля и его Имамата, они все же оставались горцами и понимали, что обещания нужно исполнять.
Растерянность ханов начинала забавлять Хаджи-Мурада. Отчасти он и сам был причастен к происходящему, потому что не пропустил к Ахульго несколько толп ополченцев, явившихся по зову сердца на помощь имаму, друзьям и родственникам. Он понимал, что их ждет, и не хотел напрасной крови.
– Эй, люди! – говорил он им.
– Это все равно, что прыгать в кипящий котел! Идите домой!
Кто-то уходил, кто-то пытался пробиться, но у Хаджи-Мурада хватало сил, чтобы их не пропускать.
Граббе принял аманата весьма дружелюбно. Смышленый мальчик напомнил генералу его сыновей, которых он так давно не видел и по которым скучал. Джамалуддин понравился ему и тем, что не смутился, представ перед генералом, по-взрослому, за руку, поздоровался и с достоинством отступил назад, ожидая, пока генерал переговорит с Юнусом.
Граббе впервые видел перед собой живого мюрида, и этот статный джигит показался ему готовым драгунским полковником, если не генералом.
– Так вот, значит, каковы эти люди, смеющие что-то требовать даже с петлей на шее, – думал Граббе, с чувством некоторого опасения рассматривая Юнуса, который спокойно смотрел ему в глаза и не собирался кланяться или заискивать.
– Иметь бы полк-другой таких удальцов, и горя бы не знали.
Денщик поднес Джамалуддину вазу с фруктами и конфеты, которых мальчик никогда не пробовал.
– Угощайтесь, вашество, – буркнул Иван, с любопытством разглядывая Джамалуддина.
– Не бойсь, не отравим.
Милютин и Васильчиков делали мальчику одобрительные знаки, но Джамалуддин отвел глаза, не решаясь дотронуться до яств без разрешения Юнуса.
Затем в палатку явились отрядные командиры и переводчик Биякай. Увидев ненавистного земляка, Юнус объявил:
– С ним разговаривать не буду.
– Переводчик при службе, – пояснил Пулло.
– Уберите, – настаивал Юнус.
– Ступай, любезный, – велел Граббе Биякаю, и тот нехотя ретировался, зло оглядываясь на Юнуса.
Юнус достаточно умел говорить по-русски, чтобы изложить то, что велел Шамиль. А Шамиль передал, что полагается на слово благородного генерала и надеется, что тот выполнит условия, которые сообщил в последнем письме.
– Ультиматуме, – уточнил Пулло.
– Называйте, как хотите, – ответил Юнус.
– Кроме выдачи сына, Шамиль должен отпустить пленных и аманатов от нейтральных аулов, – напомнил Граббе.
– Много ли их у вас?
– Два офицера, пятьдесят семь солдат. И немало аманатов. Есть еще и в других аулах, – сообщил Юнус.
– Шамиль их отпустит, если и вы отпустите наших.
– Пожалуй, – согласился Граббе.
– И чтобы не стреляли пушки.
– Разумеется, – кивнул Граббе.
– И уберите войска.
– Не все сразу, – сказал Граббе.
– Для уточнения всех деталей понадобятся личное свидание с Шамилем.
– Он согласен, – сказал Юнус.
– Что ж, чудесно, – сказал Граббе. Затем потрогал свои бакенбарды и обернулся к Пулло.
– Вести предварительные переговоры я поручаю генерал-майору Пулло.
Пулло щелкнул каблуками и приложил руку к козырьку.
– Не лучше ли встретиться главным людям и сразу все решить? – недоумевал Юнус.
– Сказал – сделал, без лишних разговоров.
Граббе недоуменно взглянул на мюрида, учившего его военной дипломатии, и сказал:
– Это было бы предпочтительнее всего, – кивнул Граббе.
– Тогда пусть Шамиль сам явится ко мне.
– Так не будет, – уверенно ответил Юнус.
– Это так же верно, как и то, что ты, генерал, не захочешь явиться к Шамилю на Ахульго, хотя это его сын в твоих руках, а не твой – у нас.
– Довольно! – помрачнел Граббе.
– Тут я распоряжаюсь. И еще раз объявляю, что говорить с Шамилем будет генерал-майор Пулло, начальник отрядного штаба.
Юнус посмотрел на генерала, стараясь его запомнить.
– Где будем вести переговоры?
– Предлагаю устроить встречу здесь, – сказал Пулло, показывая на карте.
– В трехстах шагах на юго-восток от Ахульго.
Юнус взглянул на карту и понял, что Граббе имеет в виду берег Койсу, где река, обогнув Ахульго, делает еще один крутой изгиб. Место находилось на равном удалении и от Ахульго, и от позиций Граббе, и Юнус счел его подходящим.
– Может быть, имам согласится. Мы дадим знать.
Джамалуддин не понимал, о чем они говорят, и решился напомнить о себе, дернув мюрида за черкеску.
– Юнус, отец велел мне сказать генералу, чтобы он ушел от нас.
– Я ему же все сказал, – ответил Юнус.
– А что ответил генерал?
– Обещал подумать.
– Скажи ему, чтобы уходил, – настаивал Джамалуддин.
– Завтра они будут говорить с Шамилем, – сказал Юнус, – и сами обо всем договорятся.
Пулло улыбнулся Джамалуддину и сказал на понятном ему языке:
– Все будет хорошо, Джамалуддин. Ты – настоящий мужчина.
Джамалуддин не удивился, что этот генерал говорит по-аварски, ему было странно, что по-аварски не говорили все остальные. Но Юнус отметил про себя познания Пулло, хотя и не подал вида. Он надеялся, что на переговорах с Шамилем можно будет обойтись без ненавистного ему Биякая.
– Мое почтение, – сказал Граббе, заканчивая встречу.
Увидев, что Юнус не понял смысла сказанного, Пулло добавил:
– Господа, аудиенция окончена.
Когда Граббе вышел из палатки, Юнус спросил Пулло:
– Если я вернусь на Ахульго, кто останется с сыном Шамиля?
– Мы устроим его как нельзя лучше.
– С кем он останется? – ждал ясного ответа Юнус.
– Пока не знаю, но не беспокойся, – уверял Пулло.
– Здесь много хороших людей.
– Лучше всего, если с ним будет Джамал Чиркеевский, – сказал Юнус.
– Джамал? – припоминал Пулло.
– Так и быть. Если он еще здесь.
– Я слышал, вы его арестовали.
– Не совсем, – уклончиво ответил Пулло.
– Но теперь это неважно. Пусть будет Джамал.
Они условились, где и в котором часу состоится встреча Пулло и Шамиля, если имам на нее согласится, сколько будет с обеих сторон охраны и что до их встречи объявляется перемирие.
Юнус дождался, пока приведут Джамала, и передал ему Джамалуддина.
– Не скучай, – пожал Юнус руку мальчику.
– Я скоро вернусь.
– Подожди! – сказал Джамалуддин и, взяв из вазы горсть конфет, положил их в карман Юнуса.
– Скажи моему брату Гази-Магомеду, что это я ему прислал. И пусть угостят Муслимат!
– Хорошо, – пообещал Юнус и ушел.
Юнуса сопроводили до Ахульго. Поднимаясь на гору, он хотел выбросить сладости, но затем передумал. Как-никак он обещал Джамалуддину выполнить его просьбу. Однако Юнус не мог представить себе, как Муслимат, которую Граббе лишил родителей, будет есть эти конфеты. Он пытался успокоить себя тем, что их послал не Граббе, а Джамалуддин, но ему все равно казалось, что конфеты жгут и оскверняют его. И рука будто сама собой избавилась от мучительного подарка.
Глава 112
В отличие от лагеря Граббе, на Ахульго царило тревожное ожидание.
– Ну что? Как? – спрашивали Юнуса мюриды, но он не отвечал, спеша сначала сообщить все Шамилю.
Имам и его окружение встретили Юнуса у мечети.
– Сын остался с Джамалом, – поспешил успокоить Шамиля Юнус.
– Слава Аллаху, – сказал Шамиль. Он хотел расспросить о сыне поподробнее, но это могло подождать, судьба Ахульго была важнее.
– Что сказал генерал? – спросил дядя Шамиля Бартихан.
– Говорит, что согласен на мир, но хочет говорить с имамом, – сообщил Юнус.
– О чем? – негодовал Шамиль.
– Я отдал сына, пусть уводит войска.
– У них не как у нас, – объяснял Юнус.
– Слишком много начальников. Говорят, надо все обсудить, чтобы царь потом не гневался. Хотят сначала с тобой встретиться.
– Где будет встреча?
– Я сказал, пусть приходят к нам, с любой охраной, но они предлагают встретиться у Ашильтинки.
– Юнус показал предполагаемое место встречи – у огромного обломка скалы, лежавшего у речки неподалеку от Ахульго.
– Вон там.
– Может, так и лучше, – сказал Ахбердилав.
– Пусть не знают, что у нас осталось мало людей.
– Граббе придет сам? – спросил Омар-хаджи.
– Нет, сначала пришлет другого генерала, Пулло, своего первого помощника, – ответил Юнус.
– Может, и мне послать помощника? – разочарованно сказал Шамиль.
– Они будут разговаривать только с тобой, – сказал Юнус.
– Надо идти, – настаивал Бартихан.
– У нас нет другого выхода.
– Вы же слышали, у них слишком много начальников, – говорил Шамиль.
– Если я скажу – я сделаю, а этот Пулло может пообещать что угодно, а потом Граббе скажет, что это не его слова, и сделает, как ему выгодно.
– Сначала послушаем, что он скажет, – предлагал Бартихан.
– А там видно будет.
– Передай им, что я согласен, – сказал Шамиль, хотя и не желал говорить этого.
Отправив Юнуса с ответом, Шамиль поспешил домой, чтобы утешить жену. Патимат не переставала плакать с тех пор, как у нее отняли сына, и, только узнав, что ее Джамалуддин находится под покровительством Джамала, доброго человека, всей душой преданного Шамилю, немного успокоилась. Она просила рассказать еще и еще о том, как приняли сына, где его устроили, не обидел ли его кто. И Шамиль, скрепя сердце, отвечал, что Юнус обо всем позаботился, что Джамал у Граббе в почете, что сына принимали как важного человека и что он скоро вернется домой.
Патимат хотела во все это верить, но сердце ее леденила тревога. Джавгарат утешала ее как могла. Но только сестра Шамиля, у которой сын уже два года был в заложниках, понимала, как велико горе матери, у которой отняли сына. Чтобы хоть немного успокоить несчастную, она сказала:
– Кто знает, может быть, это его спасет? Может, мы все тут погибнем, а он останется жить?
– Что ты говоришь? – одернула ее Джавгарат, прижимая к себе младенца.
– Не дай Аллах! А Патимат… Ей ведь скоро рожать.
Но Патимат, оглушенная невыносимым горем, ничего не слышала. Она исступленно молилась, прося всевышнего сохранить ее сына. А маленькая Муслимат просила Аллаха скорее послать им ангелов, чтобы они вернули Джамалуддина и велели ее родителям не забывать о своей дочери, которая их так ждала.
К назначенному часу Шамиль отправился на переговоры в сопровождении ближайших сподвижников. Султанбек шел впереди со знаменем имама. Рядом с Шамилем шел Юнус, тут же был и Амирхан со всем необходимым, если бы пришлось писать договор. Следом шли наибы и почетные люди, среди которых были Газияв Андийский и дядя Шамиля Бартихан. Их сопровождал небольшой отряд мюридов. А позади, на Ахульго, собрались остальные. Многие из них были стариками с крашеными бородами и женщинами, переодетыми в мужское платье, которое они носили как воины, заменив павших мужчин. Были среди них и Аркадий со Стефаном, и перебежчики, вызвавшиеся на это сами.
У места встречи их ожидал Пулло, прибывший в сопровождении батальона солдат, который стоял поодаль в походном порядке. Батальонные офицеры стояли в десятке шагов от генерала под своим знаменем, а рядом с Пулло находились Милютин и переводчик Биякай. На большом камне у реки была расстелена пышная бурка, будто приглашавшая стороны к приятной беседе.
Сердце Шамиля кипело негодованием из-за того, что Граббе тянул с выполнением своих обязательств. Но, заметив, как напряглись лица его спутников при виде многочисленного эскорта Пулло, Шамиль ободряюще оглянулся на них и сказал:
– Видите, как они нас уважают! Взволнованы были и на другой стороне. Пулло в новом генеральском мундире, при всех орденах, нервно мял перчатки и всматривался в приближавшихся горцев.
– Не пристало генералу робеть перед… – Пулло старался подобрать воинский чин, равный имамскому званию у воюющих горцев.
– Перед генералом?.. Полным генералом?.. А может, маршалом? Хотя маршалов у нас нет… Однако не генералиссимусом же теперь величать Шамиля?
Милютин разглядывал приближавшегося имама, затаив дыхание. Он чувствовал, что стал участником исторического события, о котором будут потом долго вспоминать. Шамиля он узнал сразу, хотя никогда его не видел. Слишком значительным было лицо вождя горцев с его волевыми чертами и горящим взглядом и слишком заметно было уважение к имаму его свиты. Шамиль был в синей черкеске, при красивом оружии, но без всяких орденов, и только белая кисея украшала его папаху. В свои сорок с небольшим лет Шамиль выглядел еще молодо, и в нем чувствовалась необыкновенная энергия, которой хватило бы на весь штаб Граббе. Его мюриды тоже смотрели орлами, хотя даже бороды не могли скрыть их крайнего измождения. Но они не были похожи на побежденных, взывающих к милости победителя.
– Будь он русским генералом, да выдержи такую осаду, хотя бы против тех же турок, ордена бы градом посыпались, – размышлял Милютин.
– Пусть бы потом и крепость сдал, а все равно бы произвели в великие герои. Да за такое поражение и сам Граббе многое бы отдал. Впрочем, и поражения-то еще нет… А если и случится, так поважнее многих побед будет.
Граббе наблюдал за встречей в подзорную трубу, положив ее на седло своей лошади. Он тоже быстро отличил имама от остальных и говорил себе:
– Хорош, нечего сказать… Только не жди, что я уйду без тебя. Тогда это будет не победа, а капитуляция. А не дашься, так… – Граббе оглянулся на стоявшего рядом Васильчикова и приказал: – Снайпера ко мне.
Явился ждавший поодаль унтер с особым английским ружьем.
– Ну-ка, любезный, возьми на мушку вон того, что под знаменем, – велел Граббе.
– Слушаюсь, ваше превосходительство! – козырнул унтер-офицер.
Он положил перед собой ранец, залег, устроил на ранце ружье и прицелился.
– Готово, ваше превосходительство! – Шамиля видишь? – Так точно, – отозвался снайпер, сдерживая дыхание.
– Я и прежде его углядывал.
– Без трубы? – не верил Граббе.
– Так мне сподручнее, ваше превосходительство.
Граббе разглядывал Шамиля, который степенно беседовал с генералом Пулло, и сравнивал его с собой. В манерах и величии Граббе отдавал предпочтение себе. Но в том, как Шамиль боролся за свои убеждения, генерал чувствовал нечто особенное, чего не хватило самому Граббе в его истории с декабристами. Загадка этой нечеловеческой силы волновала Граббе, и даже новая подзорная труба не позволяла ее разглядеть. Граббе надеялся, что Шамиль сам раскроет эту тайну, когда окажется пленником Граббе.
– Пожалуй, лучше взять этого диковинного зверя живьем, – размышлял Граббе, – и привезти к царю в клетке, как Пугачева.
– Прикажете стрелять, ваше превосходительство? – напомнил о себе снайпер.
– Отставить, – приказал Граббе.
– Самое время, – убеждал унтер.
– Когда сойдутся, поздно будет.
– Учить меня вздумал? – сурово оглянулся Граббе.
– Ступай прочь!
– Слушаюсь, ваше превосходительство! – унтер вскочил и вернулся на свое место.
Пулло сделал шаг навстречу прибывшему имаму, приложил руку к козырьку и объявил:
– Его превосходительство командующий отрядом генерал-лейтенант Граббе уполномочил меня, генерал-майора Пулло, вести переговоры от его имени.
Биякай перевел и опасливо посмотрел на Юнуса, следившего за каждым его словом.
– Мир лучше войны, – сказал Шамиль.
– Жалею, что ваш сардар не захотел договориться с нами раньше.
– Приступим к делу, господа.
– Пулло приподнял саблю и сел на расстеленную бурку.
Биякай старательно переводил, но не нашел, чем заменить слово «господа», весьма нелюбимое горцами.
– У нас господ нет, – напомнил Ахбердилав.
– У нас все равны.
– Нет, так будут, – подумал Пулло, но сказал иначе: – Разумеется, просто у нас так принято, хотя бы из уважения к сану Шамиля.
Шамиль жестом умерил пыл Ахбердилава и сел напротив Пулло, скрестив ноги.
– Итак, – начал Пулло.
– Вы исполнили первый пункт наших условий. Теперь дело за следующим, насчет наших людей.
– Пленных мы отдадим, – сказал Шамиль.
– Однако я говорю не только о пленных, но и о дезертирах или перебежчиках, как вы их называете.
– Эти люди пришли к нам по своей воле, – ответил Шамиль.
– И я не могу ими распоряжаться.
– Но это преступники! – настаивал Пулло.
– Для нас они – вольные люди, – твердо сказал Шамиль.
– И вернутся к вам, если сами того пожелают.
– И все же я требую… – гнул свое Пулло.
– Я спрошу у них, – пообещал Шамиль.
– Но пора бы и вам что-то сделать.
– За нами дело не станет, – пообещал Пулло.
– Прежде, чем я отдам пленных, вы должны отвести от Ахульго войска, – настаивал Шамиль.
– Там видно будет, – уклончиво отвечал Пулло.
– Кроме того, когда я отдам ваших людей, вы вернете наших.
– Пленных у нас почти нет, – развел руками Пулло.
– Отдайте тех, кто есть.
– Это большей частью раненые, – сказал Пулло.
– Всех на всех, – настаивал Шамиль.
– Если не захотят вернуться на Ахульго, пусть уходят в свои аулы.
– Приму к сведению, – кивнул Пулло.
– Теперь, собственно, о сдаче Ахульго…
– Ахульго – не та вещь, которую можно отдать, – сказал Шамиль.
– Вы получите Ахульго только тогда, когда на горе не останется ни одного мюрида.
– Как то есть? – не понял генерал.
– Когда мы уйдем, – пояснил Шамиль.
– Я требую свободного выхода из Ахульго, требую, чтобы мне и моим людям было дано право жить, где мы захотим. Что же касается самого переселения, то при всем желании мы не сможем этого исполнить прежде истечения одного месяца.
– Месяца? – удивился Пулло.
– Это вряд ли возможно.
– А до того времени мой сын пусть живет в Чиркее, с Джамалом.
– Позвольте, – недоуменно сказал Пулло, сбитый с толку напором Шамиля.
– Но при нынешних обстоятельствах требовать должен скорее я, а не ты.
– Если мы говорим о мире, то это мои условия мира, – сказал Шамиль.
– Если все так и будет, я буду жить в Гимрах простым человеком.
– В это трудно поверить, – признался Пулло.
– Во всяком случае я не нарушу наш договор, – сказал Шамиль, – если вы первые его не нарушите.
– Ты сомневаешься в моем слове? – напрягся Пулло.
– Я бы хотел верить на слово, – покачал головой Шамиль.
– Но я отдал Граббе любимого сына, которого никогда и никому не отдавал, а ваши войска по-прежнему держат Ахульго в осаде.
– Шамиль, – успокаивающе заговорил Пулло.
– Война всем надоела. Сдайся на милость нашего повелителя, и дело с концом. Твоим людям будет гарантирована безопасность. А тебя наш государь осыплет милостями, о каких не мечтал ни один кавказский царь. Государь щедр к раскаявшимся.
– Раскаявшимся? – вспыхнул Шамиль.
– Не думаешь ли ты, что я раскаюсь в том, что старался вернуть людям их человеческое достоинство? Что укоротил жадные руки обнаглевшим ханам? Что хотел видеть людей равными и свободными, как то велит и наша, и ваша вера?
– Возможно, в твоих словах есть истина, – согласился Пулло.
– Но ты пришел, а время твое еще не пришло. У нас тоже пробовали освободить крестьян, только крестьяне в это не поверили.
– Потому, наверное, и приходят ко мне, – улыбнулся Шамиль.
– Как-нибудь, если мы станем друзьями, я покажу ваших крестьян, которые живут у нас свободно и совсем не жалеют об этом.
– Как-нибудь… – повторил Пулло, но затем решил вернуться к главному.
– А теперь, Шамиль, пора обсудить условия сдачи.
Шамиль не отвечал. Он понял, что Пулло не намерен принимать во внимание требования горцев, но все же решил послушать, что еще скажет генерал. Не дождавшись ответа Шамиля, Пулло заговорил сам:
– Вы – свободные люди, – начал генерал.
– Каждый волен распоряжаться собою и может делать, что хочет. У нас такого обычая нет. Мы слуги своего царя и исполняем его повеления. Здесь главным слугой царя является генерал-лейтенант Граббе. Поэтому, если между нами будет достигнуто соглашение, то для закрепления мира нам с тобой следует непременно явиться к нему самому, чтобы он увидел тебя и мог сообщить об этом царю.
– Значит, ты пришел не договариваться, а только пригласить меня к сардару? – спросил Шамиль.
– Только командующий может утвердить условия перемирия, – ответил Пулло.
– Вы слышите? – обернулся Шамиль к своим сподвижникам.
– Нам предлагают самим вложить шею в ярмо их царя. Я вам говорил, что из этих переговоров ничего не выйдет, но вы мне не верили. Теперь убедитесь в том, что видите своими глазами и слышите своими ушами.
В рядах горцев раздался гневный ропот. Газияв приблизился к Шамилю, готовый броситься на его защиту. Тем временем Шамиль привстал и подложил под себя полу сюртука Пулло. Теперь, если бы его солдаты попытались напасть на горцев, Шамиль мог опередить Пулло и нанести упреждающий удар. А случиться могло что угодно. Шамиль хорошо помнил, как однажды такое едва не произошло. После заключения мира с Фезе полковнику Клюгенау поручили убедить Шамиля явиться с покорностью к императору в Тифлис. Отказ Шамиля так возмутил полковника, что дело чуть не дошло до его стычки с Ахбердилавом. Наиб отвел руку Шамиля, которую он, сообразуясь с требованиями дипломатического этикета, протянул Клюгенау на прощанье. В тот же миг вспыльчивый полковник, бранясь и размахивая тростью, кинулся на Ахбердилава. Тогда Шамилю удалось предотвратить стычку, но теперь он и сам с трудом сдерживался. Его останавливала только мысль о сыне. Да и Пулло тут был не виноват, он лишь исполнял волю Граббе, если, конечно, не замыслил какую-то хитрость.
Биякай, воспользовавшись паузой, указал на людей, заполнивших край Ахульго, и спросил:
– Кто это такие, которых мы раньше не видели?
– Ахульго полно людей, точно так же, как ваши палатки наполнены солдатами, – ответил Юнус.
– Но среди них не только мюриды? – допытывался Биякай, разглядывая защитников Ахульго.
– Я вижу много безбородых, и не на всех есть чалма.
– У нас мюрид тот, кто повинуется Аллаху всевышнему и соблюдает его религию, а не только тот, кто носит бороду и чалму, – ответил Юнус.
– Наверное, ты прав, – хитро улыбнулся Биякай, догадавшийся, как обстояли дела на самом деле.
Сподвижники давали понять Шамилю, что переговоры следует прервать, но Шамиль не желал оставлять встречу без результата. Он хотел встретиться с самим Граббе, чтобы посмотреть ему в глаза и решить то, что не мог решить Пулло. Но идти в лагерь было бы безрассудством.
– Я согласен на свидание с сардаром, – твердо сказал Шамиль.
– Пусть он явится на место переговоров с тысячью своих людей, я же возьму с собою только сто.
Но это не устраивало Пулло:
– Командующему не подобает являться на свидание с кем бы то ни было, – заявил он.
– Придется тебе идти к нам в лагерь.
– Будет так, как я сказал, или не будет вовсе, – ответил Шамиль.
Обстановку попытался разрядить Бартихан.
– Ты верно сказал, – обратился он к Пулло.
– Мы – вольные люди и не покоряемся одному человеку. Мы подчиняемся только совету ученых людей, умудренных опытом долгой жизни. Но они остались на Ахульго. Мы спросим их, и, если они одобрят, Шамиль или я явимся к вам в лагерь, чтобы говорить с сардаром.
Пулло был в растерянности. Ему велено было убедить имама явиться в лагерь, но дело приняло другой оборот. Взбешенный неуступчивостью Шамиля, Пулло, срываясь на крик, принялся обвинять его во всех бедствиях, которые обрушились на горы и горцев.
Обстановка накалялась. Горцы положили руки на кинжалы. Солдаты сняли с плеч ружья. Шамиль уже готов был броситься на посланца Граббе, который отнял у него сына, однако не спешил выполнять договоренности и покидать горы. Положение спас один из мюридов Шамиля, пропев призыв к полуденной молитве, хотя время еще не наступило.
Пулло ничего не оставалось, как объявить трехдневное перемирие в надежде, что за это время Шамиль одумается. На что Шамиль ответил, что после призыва на молитву разговоров не бывает, и вернулся на Ахульго.
Глава 113
Граббе не терпелось узнать, чем кончилась встреча, и как только парламентеры вернулись в лагерь, он вышел им навстречу:
– Ну, что Шамиль?
– Все как нельзя лучше, ваше превосходительство, – сообщил Пулло.
Однако результаты переговоров разочаровали Граббе. Командующий полагал, что Шамиль уже у него в руках и осталось лишь соблюсти некоторые приличия, чтобы пленение имама не выглядело слишком обидным для его приверженцев. Но Пулло докладывал совсем о другом, а смирением тут и не пахло. Впрочем, Пулло еще смягчил краски. Он уже приспособился к характеру Граббе и воздерживался от того, чтобы прямо докладывать ему о неприятных событиях, упирая больше на успехи. Пулло только осторожно предлагал меры, которые считал нужным принять, а когда Граббе, наконец, на них решался, Пулло объяснял их воинскими талантами командующего. Тем не менее, Пулло уважал Граббе за храбрость, а слабости его считал чем-то вроде гнильцы во французском сыре, которая придает ему пикантный вкус. Но теперь было не до слабостей. Манера командующего изображать из себя небожителя, которому не пристало разговаривать с неразумными горцами, выводила Пулло из себя. Приказывать было легко, да нелегко было исполнять такие приказы. Граббе и Ахульго собирался взять за неделю, а уж скоро третий месяц пойдет.
– Попробовал бы он сам потолковать с Шамилем, – думал Пулло, делая вид, что внимательно слушает недовольного Граббе.
– Я удостою его аудиенции не ранее, чем он сложит оружие, – негодовал Граббе.
– С этими фанатиками следует быть осторожными. Кто знает, что у них на уме? А сверх того, следует твердо держаться главной нашей цели – Шамиля пленить, а скопища его разогнать.
– Непременно, – соглашался Пулло.
– Шамиль уже понял, что дело его плохо.
– И не следует забывать, что нам еще предстоит возвращаться обратно, – напомнил Граббе.
– А здесь, чтобы уйти, надо сперва победить.
– Иначе костей не соберешь, – кивал Пулло.
Граббе уже начал подумывать о новом штурме и для начала решил снова пустить в ход артиллерию. Но вдруг Васильчиков принес сообщение, что Шамиль отпускает пленных. Он не обещал этого Пулло, но демонстрировал свое намерение кончить дело миром.
Первыми вышли солдаты и офицеры, содержавшиеся на Ахульго. Однако их оказалось не так много, как говорил Юнус. Некоторые не захотели возвращаться, согласившись с перебежчиком Никитой, что вольная жизнь стоит того, чтобы ее защищать, хотя бы и вместе с горцами.
Следом потянулись аманаты, взятые Шамилем в залог сохранения некоторыми аулами нейтрального положения. Но и они вышли не все. Кое-кто остался на Ахульго. За время блокады они на многое стали смотреть иначе и решили принять сторону Шамиля, тем более что наступал мир. Перебежчики, бывшие на Ахульго, выходить наотрез отказались.
Взамен вышедших Граббе отпустил пленных горцев. Им не позволили подняться на Ахульго, и они отправились в свои аулы. Затем наступила очередь пленных, содержавшихся в Игали. Туда с письмом от Шамиля был отправлен Джамал, которому обещали не чинить его сыну препятствий по службе, если он вызволит пленных.
Лиза уже совсем свыклась с образом жизни в ауле. Завела себе подруг, делилась с ними своими горестями, помогала по хозяйству. Горянкам она так пришлась по душе, что они оставляли с ней детей, отправляясь в сады собирать урожай, а некоторые даже обещали найти Лизе мужа, если ее Михаила убьют под Ахульго.
Лиза тосковала, глядя на чужих детей. Приглядывая за младенцами, качая их в колыбели, она представляла, какими будут ее дети, выбирала им имена и верила, что это случится очень скоро. А по ночам она плакала о своем несчастном муже, за которого боялась больше, чем за себя. Легчало ей лишь тогда, когда вдруг прекращалась недалекая канонада. Вот уже несколько дней пушек не было слышно, и Лиза начала верить, что все кончилось и скоро она увидит своего супруга. Она хотела быть ему хорошей женой. Она готова была выкупить его, окажись Михаил в плену. Пусть бы они лишились своего состояния, этого Лиза не боялась. Живя в горах, она многому научилась – ходить за водой и готовить еду, доить коров и делать кизяк из коровьих лепешек, которые в ее родном имении употреблялись лишь как навоз, прясть овечью шерсть, ткать ковры и паласы, она уже управлялась с челноком так же легко, как раньше – с веером на балах. Ей нравилось, что горцы живут самодостаточно, получая от природы и трудов своих все, что им нужно. Она бы смогла теперь сама сшить мужу красивую черкеску, лишь бы он поскорее принял Лизу в свои объятия. Лиза приняла и некоторые горские обычаи, которые находила небесполезными. Однажды они помогли ей спасти жизнь Аванесу.
Маркитант тяжело переносил вынужденное безделье. Военные походы всегда приносили ему немалые доходы, а тут он лишился всего и нес новые убытки, не имея возможности выписывать из Шуры нужные товары, которых припас в избытке. Теперь он целыми днями слонялся по аулу, напевая тоскливую песню и привычно прикидывая, что бы можно было предложить горцам из новых товаров, а что из местных товаров купили бы знакомые купцы в России. Больше всего Аванесу нравились чудесные персики, только это был товар деликатный и мог быстро испортиться. Будь тут хорошие дороги – тогда бы другое дело.
– И чего царь зря деньги тратит? – размышлял Аванес.
– Провели бы дороги хорошие и торговали себе. Горец, он тоже человек, и ему хорошо жить хочется, а не воевать понапрасну. А кому воевать охота – пусть воюет за хорошие деньги. Мало ли у России врагов? На всех рекрутов не напасешься. А горцы – они будто в седле рождаются да с кинжалом в руках, такие в войне многого стоя т.
Но в домах у горцев примечал Аванес и другое. Здесь было много всякого добра, монет, украшений с незапамятных времен, неизвестно откуда и какими волнами истории занесенных. Знакомые маркитанты говорили, что на такие древности в столицах необычайный спрос, особенно среди ученых людей. Да и самому Аванесу в Шуре проигравшиеся офицеры не раз приносили занятные вещицы почти задаром. Но покупать в Игали Аванесу было не на что, да горцы вряд ли бы и продали то, что хранили веками как семейную реликвию.
Однажды, слоняясь по аулу, Аванес поспорил на базаре с продавцом оружия о том, что лучше: горская сабля или казачья шашка. Аванес так увлекся милой сердцу стихией торговли, что не заметил, как сгоряча сболтнул лишнего, заявив, что отдал бы две сабли за одну шашку. Он знал, что неправ, но не смог удержаться, чтобы не поторговаться хотя бы так. На шум начал сбегаться народ, тут же оказалась и Лиза. Когда дело приняло опасный оборот и противники уже схватили друг друга за грудки, Лиза сорвала с себя платок и бросила его между дерущимися. Поединок закончился, не успев как следует начаться.
Горцы были поражены не столько отвагой Лизы, сколько тому, как она усвоила их древний обычай, позволяющий женщине прекратить самую горячую схватку. После этого случая Лизу стали уважать даже мужчины.
Но привычная жизнь в Игали неожиданно нарушилась. Стало известно, что к аулу приближается горская милиция, а с нею – батальон Кабардинского полка. Первыми, заслышав сигнальные горны, забеспокоились лошади переселенцев из оставленных аулов. Они нетерпеливо ржали, беспокойно фыркали и били копытами землю, зная, что вот-вот явятся хозяева и начнут их сделать. Следом за лошадьми забегали коровы и козы, будто готовясь спасаться из окружаемого аула. Тем временем жители готовились защищать аул, а небольшая партия мюридов помчалась на помощь своим товарищам, стоявшим на подступах к Игали.
Однако на этот раз схватка не состоялась. От отряда противника отделилась небольшая группа, которая доставила на позиции игалинцев почтенного Джамала, которого в Игали знали. Джамал явился с письмом от Шамиля, велевшего обменять содержащихся в Игали пленных на горцев, которых отдавал Граббе, среди которых были и игалинцы.
Меняли всех на всех, включая раненых. Аванес не верил своему счастью, горячо благодарил Джамала и обещал не остаться в долгу. Но с Лизой случилась неожиданная заминка. Как ни стремилась она к своему мужу, но все же отказывалась покидать Игали, не получив обратно футляр с дуэльными пистолетами, которые обещала Аркадию сохранить. Чтобы получить обратно пистолеты, потребовалось немалое дипломатическое искусство Джамала, к которому Аванес присоединил щедрые посулы завалить аул дешевыми фабричными товарами, среди которых горцев особенно интересовали самовары.
Наконец, обмен благополучно совершился. Игалинцы с облегчением узнали, что скоро может наступить долгожданный мир. А Лиза, спешившая к мужу, выпросила у командира батальона коня, чтобы поскорее добраться до Ахульго. Командир, опешивший от вида княгини-амазонки в горском наряде, не смог отказать, и Лиза поскакала вперед, сопровождаемая гикающими и свистящими от удивления милиционерами.
Приближаясь к лагерю, они увидели бегущего к ним навстречу человека. Это был Михаил Нерский. Узнав, что в Игали меняют пленных, он попросил, что бы и его отпустили туда. Нерского не пускали, он еще числился раненым, но он сорвал с головы повязку и объявил, что совершенно выздоровел. И главному лекарю ничего не оставалось, как выписать его из лазарета.
Когда Нерский узнал во всаднице свою жену, он встал у нее на пути, раскинув руки.
– Елизавета! – кричал он.
– Это я! Лиза!
Лиза осадила коня. Она тысячи раз представляла себе, как чудесна и романтична будет эта встреча, как сердце поможет ей отличить ее героя-мужа среди множества блистательных офицеров, как замрет от умиления весь отряд во главе с генералом Граббе, когда супруг обретет свою прекрасную, верную супругу после долгой, мучительной разлуки. Но все вышло иначе. И она узнала мужа скорее по голосу, чем увидев высохшего от жары человека в выцветшем, изодранном сюртуке, треснувшей по швам фуражке и сбитых пыльных сапогах, какие бы не надел последний слуга в ее имении. И все же сердце Лизы готово было выпрыгнуть из груди от охватившего ее счастья.
Нерский сорвал ее с седла и обнял так крепко, что милиционеры предпочли деликатно отвернуться. Сбавив ход, они поехали к лагерю, удивляясь невиданным вещам, которые стали происходить в горах.
Боясь раздавить свою преданную жену, Нерский разжал объятия, но Лиза и не думала разжимать своих, которыми обнимала мужа за шею.
– Миша… – говорила она дрожащим голосом и целовала его заросшее щетиной лицо до онемения губ.
– Милый… Родной… Муж мой…
Наконец, руки Лизы ослабли, и она будто лишилась чувств. Михаил подхватил ее, посадил впереди себя на лошадь и медленно тронулся вперед.
Их необыкновенная история тронула всех. Офицеры обратились к Пулло, тот доложил командующему, и изумленный Граббе разрешил поставить воссоединившейся семье отдельную палатку. И счастью их не было предела. А вскоре на выцветшем мундире Михаила засияли новенькие офицерские эполеты, которые Лиза сумела для него сохранить.
Маркитант Аванес сунулся было просить о компенсации за понесенные убытки, но его прогнали прочь, сказав, что он еще должен благодарить начальство за спасение из горского плена. С первой же оказией Аванес отправился в Шуру, к своей Каринэ, которая была едва жива, прослышав о бедах, приключившихся с ее дражайшим супругом. Аванес, кроме того, надеялся на содействие Траскина, которому еще можно было успеть сбыть залежалый товар. Покидая лагерь, Аванес поклялся себе, что никогда больше не станет участвовать в экспедициях, а лучше займется мирной торговлей, в которой увидел у горцев большую нужду.
– Лучше от греха подальше, самоварами торговать, – крестясь, рассуждал Аванес.
– Самовар всякому нужен.
После обмена пленными Граббе решил возобновить переговоры, пытаясь добиться выхода самого Шамиля. Он менял требования и сулил неслыханные блага. Обласкал Юнуса, хвалил его перед своими генералами и пытался уговорить, чтобы тот с помощью наибов убедил Шамиля сдаться. Но ничего не помогало. Шамиль настаивал на выполнении первоначальных условий, а Граббе уходить не желал. Тогда в штабе было решено подослать лазутчиков, чтобы похитить Шамиля или его семью, но вместо этого лазутчики перешли к имаму и решили драться на его стороне. Граббе уже подумывал о крайних мерах, даже самых фантастических, когда Галафеев напомнил ему печальный конец все того же Ганнибала, который принял яд, чтобы его не смогли выдать римлянам. К тому же бывшие пленные рассказали, будто Шамиль сам искал в смерти спасения. Будто он не раз выходил молиться на открытое место или подолгу сидел там с сыном на коленях, ожидая пули как избавления.
Но Граббе все еще надеялся получить живого Шамиля, а срок перемирия истекал.
– Вздор! – убеждал себя Граббе.
– Все – вздор! И Ганнибал – тоже вздор! Поглядел бы я, как он возьмет Ахульго. И Ермолов…
Ермолова Граббе чтил и гордился, что некогда был его адъютантом. Граббе вдруг вспомнил про свои записные книжки. Отыскал ту, куда делал заметки об Отечественной войне, и наткнулся на Смоленское сражение. Тогда, в августе 1812 года, отряд Граббе защищал город от Наполеона, прикрывая отступление главных войск. И потом записал среди прочего:
«В правилах военного искусства Смоленское сражение может служить счастливым применением, как слабейшему в оборонительной войне с пользою должно искать с превосходящим в числе неприятелем сражения в крепких оборонительных позициях, нанося ему тем потери гораздо чувствительнее собственных и тем понижая самонадеянность начальников и войск неприятельских и возвышая дух своих. Так уравниваются не только нравственные, но и материальные силы».
Граббе не верил своим глазам, ему казалось, что это написано про Ахульго, только вместо Наполеона был теперь Граббе, а вместо Барклаяде-Толли и Багратиона – Шамиль. Чем больше читал Граббе свои заметки, тем больше аналогий находил с нынешним своим положением.
– Но то был Наполеон! – то ли гордился собой, то ли утешал себя Граббе.
Юнус уходил и возвращался, пока, наконец, не последовал решительный отказ Шамиля.
– Он вам не верит, – сообщил Юнус.
– Вы взяли у него сына, обещая заключить мир и отвести войска, но этого не сделали.
– Меня не интересует, верит он мне или нет, – раздраженно ответил Граббе.
– Мне приказано пленить его и захватить женщин и детей. Теперь пусть пеняет на себя!
Граббе послал Шамилю последний ультиматум, в котором угрожал штурмом и намекал, что не может поручиться за безопасность его сына, но ответа не получил, как больше не увидел он и Юнуса, который решил остаться со своим имамом. Разгневанный Граббе собрал штаб и объявил:
– Кому дозволена цель, тому дозволены и средства. Штурм, господа командиры! Всеми силами и со всех сторон.
Генералы понимали, что задетая гордыня и дипломатическая неудача лишили Граббе всякого благоразумия, но перечить командующему не стали. Одним штурмом больше – одним меньше, все равно отвечать за все ему, Граббе. Да и осада Ахульго должна же была когда-то закончиться.
Накануне штурма Милютин записал в своем дневнике:
«21-го августа срок перемирия кончается. По ходу переговоров генерал Граббе пришел к убеждению, что все употребленные им меры для взятия Ахульго мирным путем не привели к желаемому результату. Снисходительное и великодушное обращение генерала имело последствия совершенно противоположные ожиданиям: оно только ободрило неприятеля. И, следовательно, оставалось единственное средство – это сила оружия. Необходимо надлежало ускорить действие осады, потому что с наступлением сентября месяца в горах начинается дождливое и холодное время.
Осада Ахульго, стоившая уже столько крови, должна была иметь и развязку кровавую!».
Глава 114
Пока длилось неясное перемирие, а стороны настаивали каждый на своем, положение на Ахульго сделалось невыносимым. Утренние туманы не приносили облегчения, роса высыхала под первыми же лучами августовского солнца. Гора сначала дымилась душной испариной, а затем раскалялась от нестерпимой жары.
Еды почти не осталось, а вода опять стала недоступной. Стрелки Граббе даже ночью палили по известным спускам, чтобы заставить Шамиля быть покладистее на переговорах.
Мюриды туго привязывали к животам плоские камни, которые несколько притупляли чувство голода. Труднее всех приходилось тем, кто занимал передовые посты обороны. Голод обострял чувства, и до них доносился запах хлеба, который пекли в лагере Граббе.
Посты противников теперь располагались так близко, что можно было переговариваться. И однажды по обе стороны оказались братья.
– Брось ты это Ахульго, – кричал один и на виду у брата уплетал хлеб с куском жирного мяса.
– Иди к нам!
– Мне с отступниками говорить не о чем, – отвечал другой брат, с трудом пережевывая сухое толокно.
– Здесь лучше! – кричал первый, принимаясь за груши.
– Все равно дело Шамиля кончено!
– Предатель! Посмотрим, как ты заговоришь перед судом всевышнего!
– Зато я ем, что хочу, а ты грызешь камни!
– Чтоб ты подавился! – отвечал другой.
– Хочешь, брошу кусок?
Улучив минуту, один брат перебрасывал другому куски хлеба и мяса, но они летели обратно.
Дети просили есть, матери отдавали им последнее, но накормить их досыта были не в силах. Детские игры теперь стали другими: девочки готовили суп из камешков и месили землю, как тесто, а мальчики выворачивали свои папахи, как будто снимали шкуру с зарезанных баранов.
Детей старались отвлечь, и лучше всего это удавалось Айдемиру с Аркадием, который успел оправиться после контузии. Они натянули канат между двумя каменными глыбами, и Аркадий принялся на нем ходить и танцевать, а Айдемир, который еще не мог встать на канат, изображал шута. Когда и это перестало отвлекать детей от чувства голода, к канатоходцам присоединился Стефан, сопровождая выступления музыкой.
В награду артисты получали небольшой кувшин воды и по початку кукурузы. Но даже после представления дети не уходили. Они окружали Стефана, и он показывал им, как устроен его удивительный инструмент:
– Это называется труба, – объяснял Стефан очарованным детям.
– Вот мундштук, в него дуют. А это – клавиши, на них нажимают, чтобы получалась красивая музыка.
И так как Стефан разрешал каждому подуть в трубу и нажимать на клавиши, то выстраивалась целая очередь желающих, а некоторые становились в очередь по нескольку раз. Но когда дети уходили, мучительная реальность вновь вступала в свои права.
Стефан видел, как малы силы Шамиля, и знал, что Граббе просто так отсюда не уйдет. Но он не хотел огорчать своих новых друзей, которые понимали это и сами. Вместо этого он принимался рассуждать о судьбах Кавказа и горцев:
– Вы, конечно, рыцари, – говорил он, вспоминая благородных и добродетельных воинов, которыми некогда славилась Европа.
– Но рыцарство умерло. Когда большие державы дерутся за новые земли, вам придется выбирать.
– Для нас это невозможно, – убеждал Айдемир.
– Мы хотим жить сами по себе.
– Тогда Кавказ разделят, как Польшу, и все равно приберут к рукам, – отвечал Стефан.
– Какой смысл драться, пока никого не останется? Наполеон пообещал освободить польских крестьян, и крестьяне стали партизанами. Поляки поверили в возможность свободы, но вместо этого многие оказались на Кавказе и должны теперь драться против своих братьев по духу.
– И декабристы тоже, – вставил Аркадий.
– Выходит, лучшие дерутся с лучшими, – горестно размышлял Стефан.
– Разве это может привести к свободе?
– Зачем же ты к нам перешел? – спросил Айдемир.
– Не хочу, чтобы потом мучила совесть, – ответил Стефан.
– Я не воин и не желаю, чтобы искусство служило войне. Когда вы танцуете на канате, все удивляются и радуются: и горцы, и русские.
– Вообще-то да, – согласился Айдемир.
– А когда воюете – бывает ли кто-нибудь рад?
– Вряд ли, – пожал плечами Аркадий.
– Смотря, кто за что воюет, – не соглашался Айдемир.
– А я думаю, война всегда ужасна, – говорил Стефан.
– Защищать родину – святое дело. Но все войны когда-то кончаются, так подумайте о будущем. Не мне вас учить, но нельзя вечно напрягать последние силы, чтобы воевать с заведомо сильным противником. Не лучше ли выждать, пока Россия сама освободится, а тем временем развивать свои силы и умения? Вам нужно стать богатыми, чтобы заставить себя уважать. А чтобы стать богатыми, у вас должны быть богатые покровители.
– Нам нужны союзники, а не покровители, – сказал Айдемир.
– Богатый союзник – это и есть покровитель, – пояснял Стефан.
– Что тут говорить, – вздыхал Айдемир.
– У меня среди русских знаешь, сколько кунаков? А тут все ханы портят. Дали бы нам с ними покончить, не было бы у России лучше союзников!
– В России своих ханов хватает, – сказал Аркадий.
– А ворон ворону глаз не выклюет.
– И как тут разбогатеешь, когда кругом война? – не понимал Айдемир.
– Торгуйте, – советовал Стефан.
– Вы должны что-то продавать, кроме бурок и кинжалов. Есть отвага – продавайте отвагу, как швейцарские наемники. Свободный народ тоже должен что-то есть. А то на Ахульго, я вижу, едят только во сне.
– Что же делать, если кругом пушки? – недоумевал Айдемир.
– Хотя бы и пушки, – кивал Стефан.
– Их – и то делать не умеете. Какая может быть война, если у Граббе их полно, а у вас – ни одной? Тут никакая отвага не спасет. Свобода, братцы, вещь дорогая, за нее надо платить, и не только кровью. Не знаю, как это у вас выйдет, но пока вы не научитесь ладить с императором, покоя тут не будет.
– Зачем он нам? – спорил Айдемир.
– Когда Надир-шах явился, мы даже его разбили.
– Сто лет назад, – согласился Стефан.
– Но тогда мир был совсем другим. После Наполеона он сильно изменился.
Их спор затягивался. Стефан рассуждал отвлеченно, как человек, заранее простившийся с жизнью и теперь легко рассуждавший о гримасах судьбы. Но Айдемир воевал за землю, которую мечтал видеть свободной и счастливой. Правда, и Стефан иногда спускался на землю. И в одно из таких возвращений научил женщин превращать косы в оружие не хуже штыков, всего лишь повернув лезвие вдоль рукояти.
– Как думаете, – наконец, спросил Айдемир, – будет еще штурм?
– Будет, – сказал Стефан.
– Это неизбежно.
– Нет, не будет, – утверждал Аркадий.
– Генерал как-никак дал слово. А кто не держит слова, того вызывают на дуэль!
– Граббе уже вызывали, – усмехнулся Стефан.
– Барон Анреп, думается мне, все еще ждет его у барьера.
– Не знаю, как насчет Анрепа, но тут дело поважнее, – настаивал Аркадий.
– Тут о целом Кавказе речь.
У Айдемира созрел неожиданный план, но он опасался посвящать в него непонятного ему Стефана. Дождавшись, пока дети снова позвали его поиграть на трубе, Айдемир предложил Аркадию:
– Надо выкрасть сына Шамиля.
– Который у Граббе? – уточнил Аркадий.
– Какого же еще? – вспыхнул Айдемир.
– Генерал не собирается соблюдать договор, тогда пусть возвращает Джамалуддина.
– Шамиль, думаю, еще надеется на мир, – сказал Аркадий.
– Да и как это возможно, чтобы пробраться в самую ставку и выкрасть такого важного аманата?
– Можно хотя бы попробовать, – сказал Айдемир.
– Юнус мне рассказал, где посты, где секреты, а где палатка Джамалуддина.
– И где же? – поинтересовался Аркадий.
– Неподалеку от ставки, справа, отдельно стоит.
– Гиблое это дело, – покачал головой Аркадий.
– Почему? – не соглашался Айдемир и принялся показывать: – Вон там, сбоку, есть тайная тропа. Можно незаметно пробраться в лагерь. Потом пройти по верхнему руслу Ашильтинки, и мы почти у цели.
– А Шамиль разрешит?
– Когда убедится, что Граббе его обманул, может, и разрешит.
Глава 115
В ночь окончания перемирия началась перегруппировка войск. Оплошавшие батальоны апшеронцев были переведены на левую сторону реки, а их место заняли стоявшие там батальоны Кабардинского полка. Всего для штурма было назначено восемь батальонов под командой генерала Лабинцева. Слегка поправившемуся прапорщику Михаилу Нерскому, за выбытием из строя множества офицеров, дали в командование роту, укомплектовав ее зачинщиками бунта – апшеронцами и волонтерами.
Лиза была в отчаянии. Она еще не успела привыкнуть к мужу, не успела ему всего рассказать, не успела узнать, как он жил без нее столько лет, а Михаилу снова нужно было становиться в строй. Это было несправедливо. Лиза надеялась, что они вот-вот покинут эти ужасные места, где вместо соловьев поют пули, но Михаил не мог оставить свою роту, особенно перед таким важным штурмом.
– Это все обман! – не хотела отпускать мужа Лиза.
– Горцы нам не враги! Они такие же люди! Никто меня даже не обидел! Проклятая война!..
Михаилу и самому осточертело это братоубийство, но его звал долг или то, что называли в таких случаях долгом. Он нежно поцеловал на прощанье жену, пообещал, что с ним ничего не случится, и поспешил к своей роте.
Граббе спал беспокойно. Ему снова приснилась гора. Вернее, то, что гора вдруг исчезла. Генерал проснулся в холодном поту и, накинув бурку, вышел из палатки, чтобы убедиться, что Ахульго на месте. Но Ахульго не было. Все застилал холодный, густой предрассветный туман, и легко можно было поверить, что за ним ничего нет. Зато в лагере происходило нечто еще более странное. Отовсюду сквозь туман слышались крики, барабанная дробь и звучали горны, нарушая строгий приказ о скрытной передислокации.
– В чем дело? – накинулся Граббе на подоспевшего Васильчикова, который был бледен и чем-то сильно напуган.
– Бунт, ваше превосходительство, – сообщил Васильчиков, приложив руку к фуражке.
– Что-с? – округлил глаза Граббе, не поверив услышанному.
– Неповиновение в войсках, ваше превосходительство… – докладывал Васильчиков, с трудом выдавливая из себя страшные слова.
И в самом деле, по всему лагерю собирались толпы солдат, не желавших идти на новый штурм. Зачинщиками оказались пленные, возвращенные из Ахульго и Игали, а также некоторые поляки.
Как доложил Пулло, сигналом к бунту послужила музыка. Кто-то на Ахульго вдруг заиграл на трубе полонез. Подозревали, что это был Стефан Развадовский, бежавший к горцам во время последнего штурма. И ему эхом ответили музыканты его оркестра, чем смутили множество поляков, служивших в отряде. Они отказались становиться в строй, а затем волна неповиновения пронеслась по всем батальонам.
Милютин, отправленный выяснять положение вещей, убедился, что бунт был налицо.
– Братцы! – кричали самые дерзкие.
– На что нам эта Ахульга? Нешто не видали, как горцы на штыки кидаются?
– Видали! – кричали другие.
– Шамилька-то сына выдал!
– Миру просит, как обещано!
– Драться – так драться, а брататься – так брататься!
– Измена, братцы!
– Коли дадено слово – исполняй!
– Не по-божески это!
– И без того уже голодом уморили да жаждой иссушили.
– И как только в них дух держится.
– И наша кровушка – не водица.
– Резону нет!
– Сколько народу зазря положили!
– Не пуля, так камнем пришибет.
– Коли генералам охота – пусть сами лезут!
Остальные одобрительно кричали и свистели. Солдаты устали гибнуть напрасно. Предыдущие штурмы научили их, что горцы будут драться отчаянно и легко не дадутся. Появилась даже молва, что Шамиль – чародей, которого пули не берут, что он уходит с Ахульго и возвращается, когда пожелает, что он чуть ли не по небу летает, и кто-то будто бы видел это сам.
Милютин пытался пресечь смуту, но даже старые унтер-офицеры грозили ему штыками и говорили:
– Не балуй, ваше благородие.
– Как смеешь! – кричал Милютин, надеясь криком заглушить бунт.
– Молод еще солдат учить! – отвечали Милютину.
– Всякий прыщ будет старыми кавказцами помыкать.
– Пулям не кланяемся, а тебе и подавно не станем!
Но Милютин не сдавался, требовал именем командующего выдать зачинщиков, но оказывалось, что зачинщики – все.
Офицеры из бывших декабристов лишь формально исполняли свои обязанности и наказывать мятежников не спешили. Наткнувшись на Нерского, Милютин растерянно заговорил.
– Что же это такое, господин прапорщик?
– Vox populi – vox dei, – пожал плечами Нерский.
– Глас народа – глас Божий.
– Но это форменный мятеж! – размахивал саблей Милютин.
– Ну так попробуйте изрубить мятежников, – ответил Нерский.
– Или растолкуйте им, что позволительно нарушать данное слово, особенно когда в залог мира выдан ребенок.
Милютин не нашелся, что ответить, и поспешил в штаб.
В штабной палатке, плотно окруженной казаками, обсуждали чрезвычайное событие.
– Это, господа, дурное влияние либералов! – считал Галафеев.
– Чего этим смутьянам надобно? – не понимал Граббе.
– Воевать не желают, – отвечал Пулло.
– Не верят, что Ахульго можно взять штурмом.
– Дас, дожили, – нервно теребил ус Граббе.
– Порядка как не было, так и нет.
– Высечь через пятого, – предложил Лабинцев.
– Живо устав вспомнят.
– Тут дело политическое, – качал головой Галафеев.
– Тут надо с умом подойти.
– Расстрелять дюжину – и дело с концом, – советовал Попов.
– А что? И закон велит. Слыханное ли дело – бунт в походе?
– Так-то оно так… – кивал Пулло.
– Только когда в бой их поведете, как бы сзади пуля не прилетела да в затылок не клюнула.
– Неровен час – и нас на штыки подымут, – пугал Лабинцев.
– На штурм их надо гнать, пока не поздно.
Заметив вернувшегося Милютина, Граббе спросил:
– Нус, что там?
– Брожение умов, ваше превосходительство, – докладывал Милютин.
– Одни полагают, что штурмовать – только людей терять, а большинство требуют мира, раз Шамиль выдал сына.
– Не их ума дело! – вспылил Граббе.
– Их дело – повиноваться и исполнять приказы!
– Есть и такие, кто о свободах рассуждает, – продолжал Милютин.
– Мол, у горцев есть, а мы чем хуже?
– Свобода – это для Европы, – грозил кулаком Граббе.
– Для масонов! А для Азии кнут – первое дело!
С Граббе не все были согласны, но все понимали, что нет ничего опаснее вооруженного бунта, особенно по соседству с мятежным Ахульго.
– Я готов выслушать здравые предложения, – взял себя в руки командующий.
– Время не терпит, господа!
– А что если, ваше превосходительство, и солдатам пообещать свободу? – вдруг предложил Васильчиков.
– Что-с? – недоуменно уставился Граббе на адъютанта.
– Ну, чтобы увольнительный билет, чтобы отставка раньше срока, – простодушно объяснял Васильчиков.
– А князь дело говорит, – поддержал его Галафеев.
– Горцы вон как за свою вольность дерутся.
– А кто первым взойдет на Ахульго, ваше превосходительство, – продолжал ободренный Васильчиков, – что и семействам их даровано будет освобождение от крепостной зависимости.
– А прочим отличившимся – побывка и прочие льготы, – добавил Галафеев.
– Не говоря уже о наградах.
– И казаков в дело пустить, – советовал Пулло.
– Но как они и без того народ вольный, то утроить им жалование.
От удивления Граббе потерял дар речи. Предлагать столь политически опасную ересь – это сильно попахивало декабризмом. Но еще опаснее было дать разрастись бунту во вверенных ему войсках. И Граббе решился, потому что несравнимо важнее было взять Ахульго, пока оно не исчезло, как во сне, да еще вместе с Шамилем. Милютин составил приказ, и Граббе велел объявить его войскам.
Такая милость командующего произвела магическое действие. Бунт утих, солдаты построились в штурмовые колонны, а самых упрямых оттеснили в задние ряды. Даже некоторые раненые не захотели остаться в стороне. Войска будто удвоились и готовы были с новой силой штурмовать Ахульго, чтобы добыть свободу себе и своим семьям.
Глава 116
Айдемир уже собрался осуществить задуманное на свой страх и риск, когда его вызвали к Шамилю. Имам был удивлен новостями, которые приходили с передовых постов. В лагере Граббе происходило что-то странное, и Шамиль велел Айдемиру разведать, что там случилось.
Айдемир только отправился выполнять поручение, а по Ахульго уже прокатился слух о том, что солдаты отказываются воевать.
Люди хотели верить, что это правда. А когда вернулся Айдемир, который рассказал о царящем в лагере Граббе неповиновении, защитники Ахульго вздохнули с облегчением. И все же никто не перестал делать то, что должен был делать: чинили ружья, точили сабли и кинжалы, готовили заряды. Свинца осталось так мало, что пули выстругивались из дерева или вырезались из камня, а затем уже обливались свинцом.
Шамиль сомневался, что солдатский бунт заставит Граббе снять осаду, сомневались в этом и наибы. Но срок ультиматума истек, а штурма не было, и это вселяло надежду. Однако не было и парламентеров с добрыми вестями, а нацелившиеся на Новое Ахульго батальоны Граббе оставались на своих местах.
Велев наибам быть начеку, Шамиль спустился проведать свою семью. Почерневшая от горя Патимат молча выслушала обнадеживающие новости и сказала:
– Я поверю в это, когда Джамалуддин, свет моих очей, вернется к своей матери.
– Он вернется, – утешала ее Джавгарат.
– Вот увидишь, вернется!
– Знающие женщины сказали, что у нас будет еще один сын, – сказала Патимат.
– Еще один, а не один вместо другого.
– Так оно и будет, – убеждал жену Шамиль.
– Нам тяжело, а солдатам еще тяжелее. Мы знаем, за что боремся, а они – нет. Но скоро все изменится.
– Пехлеваны опять танцуют! – сообщил появившийся Гази-Магомед, и они с Муслимат побежали смотреть на канатоходцев.
Вдохновленные столь необычайными известиями из лагеря Граббе, Айдемир, Аркадий и Стефан снова давали веселое представление. Они хотели растопить страх, накопившийся в детских сердцах. На это раз и сам Айдемир рискнул встать на канат, забыв о все еще беспокоившей его ноге. А Аркадий изо всех сил развлекал детишек, попутно угощая их грушами и яблоками, которые Айдемир сумел принести из вылазки.
Представление удалось, даже взрослые приходили посмотреть на удивительных пехлеванов, которых так любили в горах. Айдемир разошелся, вспомнил свои лучшие трюки и уже ходил по веревке с закрытыми глазами и на руках. Стефан играл на своей трубе попурри из классических и горских мелодий. Все были так увлечены, что не услышали ужасного гула летящего снаряда.
Граната упала прямо перед канатом и бешено завертелась, рассыпая вокруг срывавшиеся с фитиля огоньки. Стефан замер на полуноте. Аркадий услышал шипение за своей спиной, когда вступил в веселую потасовку с мальчишками. Айдемир собирался сделать на канате сальто, когда увидел прямо перед собой шипящую гранату.
– Могли бы немного подождать, – успело мелькнуть в голове у Айдемира, а в следующее мгновенье он бросился на гранату, потому что увидел, как догорает ее фитиль, и понял, что уже не успеет отбросить ее подальше от зрителей.
Раздался взрыв, дети с криками побежали в разные стороны, а Стефан с Аркадием бросились к товарищу, тело которого было изрешечено осколками.
– Брат! – дрожащим голосом звал Аркадий.
– Не умирай!
Айдемир не отвечал, прощаясь с товарищем одними глазами.
– Я спасу тебя! – обещал Аркадий, когда они со Стефаном несли Айдемира в ахульгинский лазарет.
– Тебя вылечат, Айдемир! Потерпи немного…
Когда они добрались до Абдул-Азиза, тому оставалось только прочитать молитву над умершим.
Перемирие было прервано. Граббе начал артиллерийскую подготовку. Сотрясая скалы, батареи стали бить залпами, целя во все, что могло бы служить преградой штурмующим войскам.
Защитники Ахульго занимали свои позиции. Шамиль поспешил на передний рубеж, чтобы самому руководить обороной. А Стефан и Аркадий укрылись между большими камнями, не зная, как быть дальше. Им было стыдно смотреть в глаза горцам, им казалось, что в вероломстве Граббе есть и доля их вины.
– Мечтали после войны цирк открыть, – горевал Аркадий.
– Он даже меня выучил по канату ходить.
– А я был бы у вас по музыкальной части, – с горечью в глазах улыбался Стефан.
– Одолжи мне свою рубаху, – сказал вдруг Аркадий Стефану.
– Зачем? – не понимал Стефан.
– В лагерь пойду, – решительно сказал Аркадий.
– Жить надоело? – спросил Стефан.
– Чему быть – того не миновать, – махнул рукой Аркадий.
– Дело у меня там.
– Да какое дело, когда кругом бомбы? – отговаривал его Стефан.
– Вон что с Айдемиром сделали.
– Дело чести, – упрямо твердил Аркадий.
– Под шум да грохот и пробраться можно.
– Как знаешь…
Они обменялись одеждой, и ставший похожим на унтера Аркадий побежал вдоль края горы, укрываясь от ядер за большими камнями. Стефан издали перекрестил товарища и прошептал:
– Да защитит тебя дева Мария, матерь Божья…
Стефан смотрел вслед Аркадию, пока тот не скрылся из виду.
Аркадий и сам не знал, на что решился. Но обида за погибшего друга и презрение к Граббе, не погнушавшемуся нарушить данное слово, звали Синицына сделать то, что не успел сделать его друг Айдемир. Аркадий не мог воевать против своих, но считал, что будет справедливым отнять у Граббе неправедную добычу – сына Шамиля. Как он это сделает, Аркадий пока не знал, зато уже представлял себе, как скроется с Джамалуддином высоко в горах, у сподвижников Шамиля.
Будто унаследовав умения разведчика Айдемира, Аркадий змеей прополз по едва заметной тропинке, укрылся в густых кустах в русле речки, разделявшей два Ахульго, а затем пробрался в сады.
Здесь он передохнул, наблюдая за происходящим вокруг.
В лагере было суетно. Ординарцы носились с приказами, солдаты получали патроны, канониры везли на батареи дополнительные комплекты в зарядных ящиках, а неподалеку от Аркадия комплектовали поредевшие роты, составляя из двух одну. И вдруг кто-то тронул Аркадия за плечо. Он резко обернулся, успев обнажить кинжал. Перед ним стоял Ефимка.
– Дяденька, вы с Ахульго пришли? – спросил мальчишка.
– Откуда ты знаешь? – оторопел Аркадий.
– Я видел.
– Что ты видел, дурачок? – Аркадий попытался его разубедить.
– Ни с какого я не…
– Я тоже эту дорогу знаю, – сообщил Ефимка.
– Какую еще дорогу? – продолжал разубеждать мальчишку Аркадий.
– Я никому не скажу, – пообещал Ефимка.
– Чего тебе надо? – спросил Аркадий.
– Я по этой тропинке спускался смотреть на девочку. На синеглазку. Она ведь жива, дяденька?
Аркадий понял, о ком идет речь: синеглазую красавицу Муслимат знали на Ахульго все.
– А тебе что за дело? – спросил Аркадий, почувствовав почти родство с обитателями Ахульго.
– Я – так, – смутился Ефимка.
– Просто красивая она… Я хотел ей яблочко отнести, а их благородия господа офицеры то яблоко скушали.
– Послушай, братец, – сказал немного успокоившийся Аркадий.
– Цела твоя красавица.
– А где она там? Пушки-то опять бьют.
– То-то и плохо, что бьют, – кивнул Аркадий.
– А синеглазая твоя в глубокой пещере прячется, под землей.
– А-а-а! – обрадовался Ефимка, а затем добавил: – А меня ротный высек.
– За что же?
– Да приметил, шайтан его побери, как я в пушки, в дула, стало быть, камней накидал… – рассказывал Ефимка.
– Зачем же ты это сделал? – спросил Аркадий.
– Ведь ты, я припоминаю, сам при артиллерии состоял.
– А чтобы не стреляли, – объяснил Ефимка.
– Нешто хорошо по детям палить, да еще разными калибрами?
– Плохо, – согласился Аркадий.
– А еще хуже, когда детей берут в заложники.
– Во-во, – по взрослому кивал Ефимка.
– Был тут у нас один, самого Шамиля сын.
– Был? – насторожился Аркадий.
– Давеча в Шуру отправили с санитарным обозом, в особом экипаже, с охраной – сообщил Ефимка.
– Не врешь? – взял мальчишку за ворот Аркадий.
– Вот тебе крест! – Ефимка перекрестился.
– Сам видел. А с ним Джамала, старика этого из Чиркея, вроде как арестованного.
– Все-то ты знаешь, – прищурился Аркадий.
– Откуда?
– Да как выдали его с Ахульго, так я и приглядывал, ждал, пока подойти можно будет, – объяснял Ефимка.
– Потолковать с ним хотел, можно ли в Ахульго пробраться.
– Так бы он тебе и рассказал, – усмехнулся Аркадий.
– Выходит, можно пройти, раз ты сам оттуда явился?
– Да на что тебе туда ходить? – не понимал Аркадий.
– Девчонку спасти хочу, – признался Ефимка.
– Ишь ты, какой рыцарь! – удивился Аркадий.
– Разве ж она виновата, что их превосходительство генерал-лейтенант Граббе вздумал штурмовать Ахульго?
– А когда штурм? – спросил Аркадий.
– А как порушит завалы, так и двинется. Часа через два.
– Ну да, ну да… – кивал Аркадий.
– Только ты на Ахульго не ходи, подстрелят, и не узнаешь, откуда пуля прилетела. А девчонку и без тебя спасут.
Аркадий был в растерянности. Выходило, что он с риском для жизни пробрался в лагерь, чтобы узнать, что Джамалуддина уже увезли. Граббе оказался хитрее, чем думал Аркадий. Он лихорадочно размышлял, что ему теперь делать. И вдруг увидел Лизу. Она шла от речки с кувшином в одной руке и корзинкой фруктов в другой.
– Ну, ступай, братец, – сказал Аркадий Ефимке.
– Только обещай, что никому ни слова.
– И ты побожись, – перекрестившись, потребовал Ефимка.
– Не то меня так высекут, что живого места не оставят.
– Вот тебе крест, – в свою очередь перекрестился Аркадий.
Лиза в лагере! Это было весьма неожиданно. Аркадий спрашивал о ней у Стефана, и тот рассказал, что была в лагере дама, прибывшая с маркитантом, но их якобы увели горцы, когда напали на лагерь. Но это была точно Лиза! Аркадий проследил за ней глазами и увидел, что она скрылась в офицерской палатке, стоявшей в стороне от других. Аркадий решил навестить ее, хотя это и было опасно. Отыскав в саду срубленные, иссохшие ветки, Аркадий взял их в охапку и на манер денщика понес к палатке будто бы для костра.
Заметив упавшую на палатку тень, Лиза решила, что вернулся Михаил. Она заглянула в зеркальце, поправила волосы и откинула полог палатки:
– Это ты?
Но перед ней стоял Аркадий в выцветшем обмундировании апшеронца.
– Здравствуйте, сударыня, – выдохнул взволнованный Аркадий и слегка поклонился.
– Боже мой! Вы ли это?! – изумилась Лиза.
– А мы было вас похоронили…
– Жив, слава Богу, – развел руками Аркадий.
– А у вас, Лиза, все ли хорошо?
– Что же вы на пороге стоите? – спохватилась Лиза.
– Проходите в дом, Аркадий. Вы не представляете, как я рада вас видеть! Но… Разве это не опасно?
– Я скоро уйду, – успокаивал ее Аркадий, входя в палатку и устраиваясь неподалеку от входа, чтобы видеть, что делается снаружи.
– А говорили, что вас горцы украли…
– Было дело, – вздохнула Лиза, ставя перед Аркадием вазу с персиками.
– Весьма сочувствую, – сказал Аркадий.
– Не так уж это было и страшно, – принялась рассказывать Лиза.
– Я уже и прижилась там… А когда Шамиль меняться начал, меня и отпустили.
– А супруг ваш, Михаил?..
– А разве я не сказала? – радостно всплеснула руками Лиза.
– Жив! И мы, наконец, встретились! Вы не поверите, сударь, который уже вечер наговориться не можем. Чего только ни навидались, что он, что я, а сердцу кажется, будто мы и не расставались вовсе… Будто все другое нам приснилось, а теперь мы проснулись и счастливы…
– Весьма рад за вас, – улыбался Аркадий, на которого от рассказа Лизы повеяло чем-то далеким и теплым, как аромат пирожков с вишней, которые пекла ему в детстве няня.
– Благодарю вас, Аркадий, – сказала Лиза.
– Поверьте, в нашем счастье есть немалая и ваша заслуга… Если бы не вы… Я так мужу и говорю: если бы не мсье Аркадий…
– Не стоит, Лиза, – смущенно говорил Аркадий.
– И вы немало для меня сделали. Лучше расскажите супругу, как спасли меня от долгов.
– Пустое! – воскликнула Лиза.
– Главное, что все живы и здоровы. И счастливы… Вы представляете, никогда бы не поверила, что можно быть такой счастливой в этих горах, в этой кошмарной жаре!..
– Хорошо, что здесь хоть кто-то счастлив, – сказал Аркадий.
– О, не судите меня строго, – спохватилась Лиза.
– Конечно, эта ужасная война, все эти невозможные пушки, люди гибнут… Я так от этого устала… Скорей бы домой! О, как я хочу, чтобы мы с Михаилом поскорее отсюда уехали. Эта его беспокойная служба совсем не оставляет времени для семьи… А ведь он вправе теперь подать в отставку, только не хочет оставлять своих солдат. У него ведь почти все волонтеры, дети еще, куда им с горцами воевать!..
Аркадий ел персики, пил чудесное вино, ел конфеты, вспоминая давно забытый вкус, и слушал Лизу, по которой немного скучал и которую был рад видеть. Но вместе с тем его мучила мысль, что он забыл что-то важное, связанное с этой слегка опьяневшей от счастья дамой. И Аркадий вспомнил.
– Пистолеты! – воскликнул он.
– Лиза, мои пистолеты все еще у вас?
– Конечно, сударь! – гордо сообщила Лиза и достала из своего саквояжа футляр.
Она принялась рассказывать, каким чудом ей удалось их спасти, а Аркадий любовно гладил фамильную реликвию и думал о том, что эти пистолеты ему еще пригодятся.
Глава 117
Измученный неопределенностью, Граббе решился поставить на карту все.
– Пусть говорят что угодно, – рассуждал он в одиночестве.
– Победителей не судят. Теперь или я возьму Ахульго, или Ахульго раздавит меня.
Приготовления к решительному штурму шли быстро. Каждому командиру был предначертан его маневр. Главную колонну поведет Лабинцев, а остальные должны были превратить сокрушительный удар Лабинцева в окончательную победу.
– Теперь или никогда, – объявил Граббе своим генералам.
– Победа любой ценой!
Генералы понимали, что их ждет. Но знали они и то, что надо кончить дело, пока не до конца угасший солдатский бунт не вспыхнул снова и не привел отряд к катастрофе.
Граббе писал супруге письмо, как делал это всегда перед серьезными сражениями. Никто ведь не мог поручиться, чем обернется дело, какая шальная пуля долетит до главы большого семейства.
Генерал в самых нежных словах изъяснял свою любовь к супруге и драгоценным своим чадам, но в то же время не упускал из виду возможность того, что это письмо может стать последним. И Граббе писал так, чтобы письмо понравилось не только семейству, но и будущим историкам, кои взяли бы на себя труд описать многотрудную боевую жизнь полководца. Граббе увлекся и уже витал в исторических небесах, когда Васильчиков доложил о странном посетителе, требовавшем аудиенции у командующего. Еще более странным был футляр, переданный искателем аудиенции генералу Граббе. Этот футляр содержал в себе пару отличных дуэльных пистолетов французской работы. В голове Граббе вспыхнула неприятная, почти забытая история с неоконченной дуэлью.
– Барон Анреп?
– Никак нет, ваше превосходительство, – докладывал Васильчиков.
– Какой-то унтер или под такового ряженый.
– В моем отряде? – вскипел Граббе.
Происшествие было столь экстраординарным, что Граббе решил сам посмотреть на наглеца, позволившего себе столь дерзкий поступок.
– Введите, – приказал Граббе, сложив на груди руки и приняв величественную позу.
В окружении штабных офицеров и под конвоем двух казаков появился бледный от волнения Аркадий.
– Да это же, ваше превосходительство, беглый лазутчик! – вспомнил Попов.
– Умалишенный!
– Что вам угодно, – грозно спросил Граббе.
– Здесь не лазарет для душевнобольных.
– Я в здравом уме, – ответил Аркадий.
– А угодно мне, господин Граббе, вызвать вас на дуэль.
– Не изволите ли вы, господин… Как там вас…
– Аркадий Синицын, дворянин, – напомнил Аркадий.
– К вашим услугам!
Остальные в недоумении взирали на Синицына, не зная, скрутить ли его как буйно помешанного или просто высмеять. Но Граббе счел возможным продолжить представление.
– Так не изволите ли вы объяснить причину своего неудовольствия? – насмешливо продолжал Граббе.
– Я имею к вам личные претензии, – заявил Аркадий.
– Однако я вызываю вас за то, что вы посрамили звание русского офицера.
– Что-с? – недовольно процедил Граббе.
– Да как вы смеете?
– Вы обещали Шамилю отвести войска, если он выдаст сына, – напомнил Аркадий.
– А вместо этого открыли огонь и убили моего друга.
– Не вашего ума дело! – взревел Граббе.
– Насколько я припоминаю, вы были дрянным лазутчиком, вас присудили к шпицрутенам, но вы бежали, убив часового. Теперь вас придется расстрелять.
– Прикажете удалить негодяя? – спросил Пулло, которому все это казалось досадным недоразумением.
– Отчего же, я принимаю вызов, – вдруг сказал Граббе.
– Если он желает быть убитым из дуэльного пистолета, то я окажу ему такую милость.
– К барьеру! – воскликнул Аркадий.
Присутствовавшие были уверены, что Аркадий сошел с ума, посмев вызвать на поединок самого командующего, а вызовы от сумасшедших обычно не принимались. Но Граббе желал уничтожить этого наглеца при свидетелях, чтобы об этом прослышал и барон Анреп, с которым, быть может, Граббе еще предстояло стреляться. Но еще больше Граббе хотел явить всему отряду свою храбрость накануне решительного штурма Ахульго.
– На двадцать шагов! – объявил Граббе.
Он взял пистолет и вышел из палатки. За ним последовала встревоженная свита. Последним вышел Аркадий, держа пистолет наизготовку.
Дистанция была отмечена воткнутыми в землю шашками, и дуэлянты заняли свои позиции, взяв наизготовку, дулами вверх, пистолеты. Была выбрана дуэль на месте, когда дуэлянты стреляют по команде, а на поединок отводится всего три секунды.
– Если вы выполните свои обещания, я готов на примирение, – объявил Аркадий.
– Вздор! – ответил Граббе.
Милютин, назначенный распорядителем дуэли, с трудом заставил себя подавать команды.
– Раз…
Дуэлянты опустили пистолеты и прицелились. Только увидев перед собой дуло пистолета, Аркадий осознал, что Граббе сейчас пристрелит его, как щенка. Сам Аркадий и стрелять-то толком не умел. Он лишь владел дуэльными пистолетами, но никогда еще в поединках не участвовал. Он считал достаточным знание дуэльного кодекса, но теперь понял, что ошибался. В дуэлях мало было полагаться на судьбу, надобно было и уметь распорядиться случаем. Убивать Граббе по-настоящему Аркадий тоже не собирался, но теперь уже было поздно.
– Два, – произнес Милютин, после чего должны были прозвучать выстрелы.
Но курки щелкнули, а выстрелов не последовало.
– Три, – с облегчением объявил Милютин, после чего дуэль прекращалась.
Пулло перекрестился и забрал у дуэлянтов оружие. Оно оказалось незаряженным, в пистолетах не было ни пуль, ни пороха, одни пыжи. В пылу взаимных оскорблений и нелепости самого вызова никто не позаботился их проверить. Дуэлянты все еще стояли на своих местах, не веря в столь странный исход дуэли. Но стреляться снова Граббе расхотел, он считал, что и без того оказал слишком много чести Синицыну, которого следовало отдать в руки психиатров.
– Вы даже в дуэлянты не годитесь. В следующий раз приносите годные пистолеты, – сказал Граббе, покидая место дуэли.
– Плохи же у Шамиля дела, если он полагается на сумасшедших…
– Позвольте! – обрел голос Аркадий.
– Меня никто не подсылал! Я сам!
– Прикажете расстрелять перебежчика? – осведомился Пулло.
– Зачем же? – оглянулся Граббе.
– Если он такой смелый, пусть повоюет. Я даже готов его простить, если взойдет на Ахульго первым.
Аркадий был подавлен. Когда он оглянулся, то поверх голов офицеров увидел Лизу, которая смотрела на него с горестным сочувствием.
Пока Аркадий размышлял о том, куда делись пули – горцы ли их употребили для своих нужд или продал Аванес, его отконвоировали в роту, состоявшую из неблагонадежных солдат и волонтеров. Это была рота прапорщика Нерского, стоявшая на подступах к Новому Ахульго.
Сдавая Аркадия, конвойный сообщил, что он знает тайные тропы и должен указать путь, коим роте надлежало подняться на Ахульго, когда штурмовая колонна ударит по центру обороны Шамиля.
Нерский понял, что Аркадий – тот самый господин, который отважился вызвать на дуэль самого Граббе и про которого ему столько рассказывала Лиза.
– Весьма вам признателен, господин Синицын, – пожал ему руку Нерский.
– За что? – удивился Аркадий.
– В пистолетах даже пуль не оказалось.
– За Лизу, – сказал Михаил.
– Так вы – Нерский? – догадался Аркадий и невольно бросил взгляд на отсвечивающие под луной новые эполеты.
– Рад знакомству, – кивнул Михаил.
– Берегите ее, – сказал Аркадий.
– Таких жен еще поискать.
– Вы покажете дорогу? – спросил Нерский.
– Не знаю я никаких дорог, – ответил Аркадий.
– Иначе нас перебьют, как куропаток, – сказал Нерский, – или камнями закидают.
– Зачем же вы идете? – спросил Аркадий.
– За свободой.
– Это горцы борются за свою свободу, – сказал Аркадий.
– А мы ее только расстреливаем.
– Так вы ничего не знаете? – спросил Нерский. И он рассказал Аркадию про обещания Граббе, которые позволили погасить бунт и вернуть войскам боевой дух.
– Жаль, что я его не убил, – сказал Аркадий.
Однако на неудавшегося дуэлянта в роте смотрели как на героя. Но в самих солдатах тоже многое изменилось. Таково было действие одного лишь обещания свободы. Нерский с удивлением наблюдал эти метаморфозы и начинал лучше понимать горцев, которые рождались вольными людьми и не мыслили жизни без свободы. Но предстоящий штурм его пугал. Не потому, что он страшился погибнуть, а от того, что ему предстояло участвовать в трагической фантасмагории, когда обе стороны будут сражаться друг с другом за свободу.
Ночь перед штурмом генералы провели в своих полках, призывая солдат кончить дело решительным боем. Видя перед собой главных командиров, которые пулям не кланялись, солдаты преисполнялись чувством гордости за свои полки. А обещанные свободы неудержимо манили их на Ахульго, как будто там был спрятан ключ к извечной крестьянской мечте.
Глава 118
На рассвете 21 августа в лагере залаяли отрядные собаки. Они учуяли на Ахульго противника и кинулись его искать. В ответ залаял пес Хабиба. Они сцепились у Старого Ахульго, и обе стороны наблюдали эту ужасную схватку. Волкодав был сильнее, но других собак было больше. Схватка их превратилась в смерч, из которого летели окровавленные клочья, пока, наконец, весь этот рычащий и скулящий клубок не скатился в пропасть. Впрочем, они продолжали драться и там, пока их не унесла река.
Эта сцена произвела тягостное впечатление на всех. Но больше всего был растревожен Курбан, узнавший своего волкодава. Значит, и сын его был где-то рядом. Но искать Хабиба Курбану было некогда, потому что невдалеке забили барабаны.
Колонны Граббе двинулись на новый штурм.
Увидев, как надвигаются войска, Шамиль оглянулся на своих сподвижников и крикнул:
– Не унывайте, братья! И помните, что нет у нас убежища, кроме наших сабель!
Мюридов не нужно было убеждать. Они не боялись погибнуть, потому что жизнь на Ахульго давно уже походила на ад. И многие завидовали своим товарищам, принявшим смерть в битвах и наслаждавшимся теперь райским покоем. На Ахульго думали лишь о том, как подороже продать свою жизнь.
Войска Граббе яростно хлынули на Ахульго, но вдруг над руинами прежних укреплений появился Стефан, и труба его пронзительно запела: «Назад! Назад!». Повинуясь знакомому сигналу, авангард штурмовой колонны остановился. И готов был попятиться назад, если бы не напиравшие сзади роты апшеронцев.
Развадовский играл самозабвенно. Это была его главная сольная партия. Увидев, что апшеронцы остановились, он поднял трубу еще выше и начал играть свой прощальный привет далекой родине. Но доиграть полонез ему не было суждено. Вызванный Лабинцевым снайпер не промахнулся. Смертельно раненный, Стефан начал медленно оседать и испустил дух вместе с последними тактами мелодии. А к последнему бастиону защитников Ахульго уже неслась сокрушительная лавина, не замечая летевшие навстречу пули.
Над Стефаном встал старый слепой сказитель. Он прочитал над погибшим молитву, а затем взял в руки свой пандур и запел:
Счастлив умерший в бою, Счастлив павший в злую сечу. Открывает дверь свою Сам Аллах ему навстречу.
Смерть за смерть, мюрид, вперед! Для души, не знавшей страха. Мост пылающий ведет Над пучиной в рай Аллаха…
Волна за волной накатывались егеря через ров, но разбивались о защитников второго рубежа, которые стояли насмерть. Шамиль несколько раз увлекал мюридов в атаку, пытаясь отбросить противника, но усилия эти не имели успеха. Ров, который не удавалось закидать фашинами и завалить турами, начал снова наполняться погибшими.
Колонна Лабинцева была главной силой штурма, но в дело уже вступали и другие части. Вооруженные лестницами и веревками, солдаты лезли на Ахульго со всех сторон, с которых могли подобраться.
Становясь на плечи друг другу, солдаты карабкались на отвесные каменные стены, вбивали крючья, перекидывали через них веревки, подтягивали лестницы и взбирались все выше и выше. Как и в прошлый раз, на них сыпались камни и пули, но солдаты даже не пытались прикрываться щитами, которые только задерживали движение. Они взбирались на гору, теряя товарищей, но упорствуя в своей решимости подняться на Ахульго. Раненые падали вниз молча, чтобы не вселять страх в остальных, и почти никто не пытался ухватиться за сослуживцев, потому что тогда в пропасть сорвались бы целые ряды их товарищей.
На этот раз отбивалось все население Ахульго, даже старухи явились на поле брани с серпами и косами.
Настал черед и роты Нерского.
– Что, братцы, пошли? – скомандовал Нерский.
– Пожалуй, идем, – отозвались солдаты.
– Что Бог даст, то и будет.
– На людях и смерть красна.
Нерский подтолкнул вперед Аркадия.
– Ну, показывай.
Но Аркадий молча стоял на месте и только мотал головой, обхватив ее руками.
– Тогда уходи, – сказал ему Нерский.
– Живо!
Аркадий будто очнулся, отбежал от роты и скрылся за выступом. Затем огляделся, не преследуют ли его, и кошкой полез по едва заметной тропинке наверх. Но его заметили, и рота бросилась следом. Аркадий поднимался быстро, а преследователи не отставали. С Ахульго их заметили. Едва Аркадий остановился, не находя, куда поставить ногу и за что уцепиться, как сверху полетели глыбы, скатываемые женщинами. Одна из них зацепила Аркадия, он не удержался и, раскинув руки, рухнул на поднимавшихся за ним солдат. Нерский вжался в выемку скалы, и это его спасло. Он с ужасом смотрел, как Аркадий и четверо солдат, ударяясь об острые выступы, падают в пропасть, как новые камни сыплются на его роту, и не знал, что делать. Он уже прощался с жизнью, когда в карниз, нависший над ними, ударило ядро. Взрыв рассеял оборонявшихся и обрушил на роту Нерского груду камней, которые увлекли вниз еще несколько солдат. Но сверху глыбы теперь никто не скатывал. Нерский перевел дух и попытался взобраться дальше, но путь наверх оказался совершенно невозможным, потому что взрыв срезал все неровности, за которые можно было уцепиться. Оставшиеся в живых солдаты подобрались к своему командиру, но подняться выше тоже не смогли, несмотря на все старания. Когда же их заметили со Старого Ахульго и открыли по роте пальбу, Нерскому волей-неволей пришлось искать спасения в ущелье, чтобы не оставить на горячих скалах всю свою роту. И все же рота знала, что старалась не зря. По крайней мере она отвлекла часть обороняющихся, давая больше шансов главному отряду.
Шамиль и его наибы бились наравне с остальными. Женщины воевали рядом с мужчинами, а дети заряжали ружья и подавали их взрослым. Солнце палило так, что трудно было двигаться, но приходилось драться. Лица людей почернели, бороды их были опалены, руки, покрытые кровавыми мозолями, едва могли держать оружие, а волны неприятеля продолжали накатываться. Сам Шамиль уже не понимал, как держатся его люди. В огненном вихре, в дожде пуль и осколков падали горцы и солдаты, но никто не желал уступать.
С нескольких сторон солдатам удалось закрепить лестницы, и они поднимались по ним на головокружительные высоты. Показавшихся над поверхностью горы встречали сабли, косы и надетые на палки штыки. Но следом поднимались другие, и не было им конца. Горцы стреляли по веревкам, на которых держались лестницы, но это не всегда помогало. Тогда оставалось последнее средство – бросаться на них сверху, чтобы перерубить веревки. Смельчаки находились, но не каждому удавалось сбить на лету лестницу. Одну из лестниц попытался сбить раненый мюрид, но его сабля наткнулась на апшеронца. Следом бросилась жена мюрида, но смогла лишь повредить лестницу. Тогда вниз ринулся их сын, сжимая в каждой руке по кинжалу. И лестница рухнула, унося в пропасть множество солдат и самого юношу.
Видя, что творится на Новом Ахульго, на которое Граббе обратил все силы, Омар-хаджи решил послать на помощь имаму остававшихся у него мюридов. Стрельба со Старого Ахульго мало вредила штурмующим, и воины давно просили коменданта отпустить их туда, где шла тяжелая битва.
Среди спешивших к имаму был и Хабиб. По пути он встретил свою жену, которая несла мюридам охапку заряженных ружей. Ребенка, чтобы не оставлять одного, Парихан привязала к спине.
– Куда ты? – окликнула она мужа.
– К Шамилю! – ответил Хабиб.
– И ты иди со мной.
– А как же наш ребенок? – спросила Парихан.
– Это не тот день, когда заботятся о своих чадах, – ответил Хабиб.
– Бери кинжал и сражайся.
Парихан отдала мужчинам ружья, расстелила под камнем свой платок, положила на него мальчика и поцеловала его на прощанье.
– Да сохранит тебя Аллах, сынок мой, – сказала он сквозь слезы и поспешила за мужем.
– Первым делом рубите офицеров! – напутствовал воинов Омар-хаджи.
– А кто это – офицеры? – спросила мужа Парихан.
– Командиры, – объяснял Хабиб.
– С большими значками на плечах. Это они заставляют солдат нападать на нас.
Подмога, явившаяся со Старого Ахульго, помогла горцам удержать свои позиции. Но жертв было слишком много. Среди погибших был и Хабиб. Парихан, стеная, оттащила его от линии огня, надеясь, что он только ранен. Но Хабиб лишь улыбнулся свой жене и устало закрыл глаза. Парихан будто окаменела от горя, но затем, закусив до крови губу, вернулась на позицию и заняла место мужа. Она рыдала и дралась, дралась так, будто жаждала уйти вслед за своим Хабибом.
Когда битва стихла, Парихан вернулась, чтобы похоронить мужа, и увидела сидящего перед ним старика. Это был отец Хабиба. Несчастный Курбан отказывался верить, что потерял сына, которого так старался сберечь. Он шептал его имя, гладил его опаленную бороду и не видел ничего вокруг. Курбан не заметил даже Шамиля, который появился со своими помощниками и остановился, чтобы прочесть над погибшим молитву.
– Хабиб был отважным мюридом, – сказал Шамиль, пожимая руку Курбану.
– Да возвеличит его Аллах.
– Был, – горестно кивнул Курбан, вынимая из рук сына знаменитую двурогую саблю Зулькарнай, которая не сумела спасти Хабиба.
Увидев слезы в глазах старика, Парихан перестала сознавать, что с ней происходит. Она бросилась на Старое Ахульго к своему ребенку. Сына она нашла плачущим от голода и страха. Она схватила ребенка и помчалась туда, где стояли передовые посты неприятеля.
– Стой, куда ты? – кричали ей люди.
– Не ходи туда!
– Она сошла с ума!
– Остановите ее!
Но Парихан уже миновала рубеж, отделявший Старое Ахульго от траншей, которые занимали солдаты. Те не пытались остановить обезумевшую от горя женщину и говорили, отводя глаза:
– Спятила баба.
– Тут и мужик спятит…
– Дела, прости господи…
Парихан шла вперед, в лагерь, пока ее не остановили караульные.
– Стой! – окликнул Парихан стоявший в цепи солдат.
Парихан протянула ему своего ребенка, которого держала на руках. Солдат с подозрением оглядел странную женщину и позвал своего товарища.
– Ленька, смотри, что тут!
Другой солдат подошел к Парихан и спросил:
– Ну? Чего тебе?
Парихан и ему тоже протянула младенца. Солдат растерялся и невольно протянул руки, чтобы принять ребенка. Но Парихан его не отдала и вместо этого похлопала себя по плечу, давая понять, что отдаст младенца только человеку с эполетами.
– Офицера просит, – догадался Ленька.
Парихан закивала, услышав знакомое слово.
Раненый Нерский сидел на камне, а Лиза омывала его ссадины и осушала их смоченной в водке корпией.
– За что нам такое? – причитала Лиза.
– Сколько можно дырявить друг друга, будто не люди, а звери какие?.. Потерпи, Миша… Жив, и слава Богу… Теперь уедем, и провались оно все пропадом!..
Нерский не чувствовал боли, не отвечал на слова заботливой жены… Он лихорадочно думал о том, что у него на руках была рота, а теперь от нее почти никого не осталась. Он вспоминал картины боя и приходил в отчаяние от того, как легко сам обратился в животное, бесстрастно переступал через убитых и не слышал стенаний раненых. Но еще ужаснее было то, что рушились его прежние иллюзии. На тайных собраниях у Пестеля декабристы рассуждали о свободах, но толком ничего сделать не смогли, а горцы не только утвердили у себя свободу и равенство, но и дрались за них насмерть. И у этой кинжальной демократии было совсем не то лицо, какое декабристы рисовали в своих благостных грезах.
– Ваше благородие! – услышал вдруг Нерский.
– Что?.. оглянулся Николай.
– Тут дикарка явилась! – звали караульные.
– Офицера требует!
– Зачем? – не понял Нерский.
– Дитя хочет отдать.
– Дитя? – заволновалась Лиза.
– Как это можно – отдать свое дитя?
– Погоди, милая.
Нерский встал и направился к караульным. Увидев офицера, Парихан через силу улыбнулась и протянула ему плачущего ребенка. Нерский осторожно взял на руки младенца, догадываясь, что это сирота, и не зная, как утешить несчастную мать. Но Парихан ждала не утешения, под ребенком лежал обнаженный кинжал, и она изо всех сил вонзила его в грудь Нерскому.
У Михаила потемнело в глазах, но, даже оседая на землю, он старался не уронить младенца.
– Господи, Миша! – завопила Лиза, бросаясь к мужу.
Когда она подоспела, Михаил передал ей ребенка, и глаза его застыли, обратившись к небу. Рядом лежала заколотая штыками Парихан, на губах которой застыла предсмертная улыбка. А испуганные солдаты хлопотали вокруг прапорщика.
– Как же это, ваше благородие?..
– Не дышит…
– Прибить дьявольское отродье! – потянулся к младенцу Ленька, но Лиза отшатнулась, прижимая к себе ребенка.
– Не троньте! – заговорила она, глядя на солдат обезумевшим взором.
– Мало вы людей поубивали? Пойдите прочь!
Нерского отнесли в лагерь и положили среди сотен других погибших в этот день. Лиза с распухшими от слез глазами стояла над умершим мужем, ожидая, пока невыносимое горе уложит ее рядом с Михаилом Нерским. Но заснувший у нее на руках младенец требовал от Лизы жизни.
Ожесточенная битва на Ахульго продолжалась целый день, но овладеть последним бастионом горцев Лабинцеву не удалось. От укрепления остались одни дымящиеся руины, но и руины продолжали сопротивляться. Подземные бойницы тоже не были покинуты мюридами, хотя их оставалось все меньше и меньше. Одни гибли в бою, другие умирали от ран и жажды, а те, что оставались в мечети, погибли под ее развалинами, когда она рухнула под ядрами артиллерии, бившей с левого берега Койсу.
К концу дня Лабинцев установил на новом рубеже пушки и открыл огонь по уцелевшим укреплениям почти в упор. Делалась и тайная работа. Под шум битвы и грохот пушек саперы пробивали к последнему бастиону горцев подземную галерею, чтобы заложить мину ужасной силы.
Ханы, стоявшие со своими отрядами в окрестностях Ахульго, пребывали в мучительном ожидании. Они ждали развязки, но ординарцы, беспрерывно посылаемые ими в штаб Граббе, приносили неутешительные сведения: Шамиль все еще держался.
Стойкость мюридов раздражала ханов. Они вынуждены были признать, что без помощи царских войск им бы никогда не одолеть Шамиля, и он бы сделался в горах полновластным владыкой. В том, что Ахульго будет взято, они уже не сомневались, но последствия развернувшихся в горах событий тревожили ханов опасной непредсказуемостью. Если уже наемники-милиционеры смотрели на них с нескрываемым презрением, что говорить об остальных горцах? Кто теперь будет хотя бы уважать ханов, не говоря уже о покорности? Ханов, которых посрамили мюриды, три месяца противостоявшие огромной армии с мощной артиллерией, да к тому же с горской милицией? И то, что ханы в битве на Ахульго не участвовали, унижало их еще больше, ведь они были тут сторожевыми псами Граббе. А если Шамилю удастся уйти? Об этом страшно было даже подумать.
В милициях тоже было неспокойно. Брожения, споры, стычки – все говорило о том, что горцы чувствовали себя весьма неуютно, когда их соплеменники обретали славу у них на глазах. Многие милиционеры уже не скрывали своих чувств, и ханы начали опасаться, как бы они не решили перейти на сторону Шамиля. Служба службой, а все же они были горцами, и им было не по душе, что Граббе обманул Шамиля. Некоторые начали проситься в бой, обещая показать, как нужно воевать с мюридами. Однако казаки быстро распознали в этом опасный умысел. Они знали кавказский характер, понимали, что значат здесь честь и доброе имя, и им тоже не нравилось, как ведет дела командующий отрядом. Казаки дали знать Лабинцеву о беспокойствах в ханских отрядах, но тот и сам понимал, чем может кончиться дело, если пустить к Ахульго горскую милицию. Тем более что у многих милиционеров могли отыскаться на Ахульго родственники и кунаки. Ведь даже не все пленные и аманаты, содержавшиеся у Шамиля, пожелали оставить осажденную крепость и взяли в руки оружие, горя желанием отомстить Граббе за беспримерную жестокость и неслыханное коварство. Милиционеров к Ахульго не пустили, напротив, их отвели еще дальше от театра военных действий.
Хаджи-Мурад переживал происходящее с особой горечью. Он наблюдал за битвой, ставшей для него горьким укором. Он воспринимал стойкость Шамиля как личное оскорбление, как высочайшую награду, которой его обошли. Он ничего не ел, потому что кусок не лез ему в горло. Он вызывающе не исполнял приказы хана, считая его недостойным того, чтобы ему приказывать. Он закрывал глаза на то, как падал дух его нукеров, на разложение, охватившее его отряд, и хотел только одного – поскорее покинуть место, где его воины испытали позор, которого никогда еще не испытывали. Он всегда был готов к открытой схватке с кем угодно, но наблюдать, как ядра воюют с кинжалами, он больше не мог. Подзорная труба открывала ему все новые примеры того, как простые люди на Ахульго творили то, чему мог позавидовать славный храбрец Хаджи-Мурад.
Глава 119
Над Ахульго опустилась ночь. Луна безучастно взирала с небес на дымящиеся развалины и едва шевелившихся в них людей. Звезды ослепительно сияли, напоминая о красоте мира, но люди не знали, увидят ли это небо еще раз.
Пушки продолжали бить по последнему бастиону горцев. Почти все было сметено, кроме нескольких врытых в землю укреплений, из бойниц которых продолжали отстреливаться мюриды.
Смертельно усталый Шамиль обходил оставшихся людей, ободрял раненых и прощался с погибшими. Повсюду валялись сломанные сабли и кинжалы, испорченные ружья с разбитыми прикладами, окровавленные папахи и женские платки. Многие подземные ходы обвалились, и было уже невозможно скрытно переходить от одной позиции к другой.
За одним из развороченных ядрами завалов Шамиль опустился на камень, не успевший остыть от дневного зноя, и принялся править свою шашку, которой в тот день пришлось немало поработать.
– Дай ее мне, имам, – сказал Султанбек, сопровождавший Шамиля.
– Я это хорошо умею.
В руках Султанбека шашка летала молнией, рассыпая искры.
– Завтра новый день и новая битва, – думал Шамиль.
– Неужели за то, что даровано человеку Аллахом, за простое желание быть свободным нужно платить жизнью?
Ему хотелось позвать своих друзей Сурхая и Али-бека, но их уже не было на этом свете, как и многих других, имена которых упавшим голосом перечислял секретарь имама Амирхан.
– Ахбердилав! – вспомнил Шамиль.
– Где он, где моя правая рука?
– Жив, – сообщил Юнус, перевязывая себе рану на руке.
– Его пулей зацепило, скоро придет.
– А Омар-хаджи?
– Хоронит убитых, – сказал Амирхан.
– Погибло и много его родственников.
– На Ахульго все – родственники, – сказал Шамиль.
Султанбек вернул Шамилю отточенную шашку и принялся за свою, клинок которой тоже немало пострадал.
– Благодарю, брат мой, – сказал Шамиль, вкладывая оружие в ножны.
– Да будет доволен тобой Аллах.
– Люди спрашивают, и мужчины, и женщины… – неуверенно произнес Султанбек.
– Если не будет выхода и придется прыгать в пропасть… Станут ли они неверными, если вера запрещает самоубийство?
– Кто предпочтет смерть плену, тот не нарушит свою веру, – ответил Шамиль.
– То, что люди претерпели на Ахульго, уже делает их безгрешными.
Вскоре пришел и Ахбердилав. Рану свою он раной не считал, его больше беспокоил завтрашний день. У Ахбердилава было предчувствие, что этот день станет особенным. А к печальному списку погибших он прибавил имена еще нескольких мюридов, своих ближайших помощников.
Потери горцев были ужасны. Такое уже случалось, но привыкнуть к этому было невозможно. Шамиль чувствовал свою вину за то, что происходило на Ахульго, вину перед вдовами, сиротами, родителями, лишившимися сыновей и дочерей. Они пришли сюда счастливыми семьями а теперь со страхом ждали каждого дня, который только умножал горе. Шамилю казалось, что если бы он смог все предусмотреть, все делать правильно, то Ахульгинской трагедии могло бы не случиться. Но когда и где случалось такое? С чем это можно было сравнить? И когда мир менялся без крови? Даже самому пророку не удалось наставить соплеменников на истинный путь одними проповедями. Испытания, выпавшие горцам, были неимоверны, но желание оставаться свободными было сильнее.
– Папа, – услышал вдруг Шамиль.
Перед ним стоял его сын Гази-Магомед с испуганными глазами и теребил его за изодранную черкеску.
– Пошли домой, – просил мальчик.
– Мама плачет.
Шамиль встал, положил руку на плечо сына, и они пошли сквозь ночь, пронизанную свистом пуль и воем снарядов.
– А когда вернется Джамалуддин? – спросил сын.
Вопрос уколол Шамиля в самое сердце, и он не знал, что ответить сыну.
– Скучаешь без брата?
– Да, – сказал Гази-Магомед.
– Он всегда меня защищал.
– Ты уже и сам взрослый, – сказал Шамиль.
– Я тоже защищал Муслимат, – гордо сообщил Гази-Магомед.
– А разве ее кто-то обижает? – спросил Шамиль.
– Когда она спускалась за водой, в ее кувшин попала пуля, и вылилось много воды. Тогда я стал ходить с ней.
Шамилю тяжело было это слышать, но он похвалил сына.
– Ты уже настоящий мужчина.
– Смотри! – показал Гази-Магомед в небо.
– Звезда падает! А правда, что это ангелы кидают в шайтанов бомбы?
– Может быть, – улыбнулся Шамиль.
– А почему они не кидают их в генерала, который на нас нападает? – спросил Гази-Магомед.
– Еще кинут, – пообещал сыну Шамиль.
– Вот увидишь.
В доме горели масляные светильники. Джавгарат кормила ребенка, сетуя, что у нее не хватает молока. Муслимат спала, прижав к себе сделанную из деревянной ложки куклу. А Патимат в полузабытьи шептала молитвы и поглаживала свой большой уже живот, будто просила потерпеть ребенка, который должен был скоро родиться.
– Как вы тут без меня? – спросил Шамиль, присаживаясь на край тахты.
– Все хорошо, – сквозь слезы ответила Джавгарат.
– О Шамиль, – усталым, измученным голосом произнесла Патимат.
– Я не хочу, чтобы наш сын родился здесь… Джавгарат не хотела, и я не хочу… Неужели на земле мало места, кроме Ахульго? Зачем рожать, когда все кругом умирают?
– Потерпи, Патимат, – успокаивал ее Шамиль.
– Не гневи Аллаха.
– Когда кончится этот ужас? – продолжала Патимат, утирая скупые слезы.
– Я не могу даже спать, закрою глаза, а передо мной встает наш Джамалуддин. Где мой соколенок? Кто его накормит, кто спать уложит, кто приласкает моего сыночка?
– С ним Джамал, ты же знаешь, – сказал Шамиль, понимая, что это ее не утешит.
– Джамал – хороший человек, но его мать – я, несчастная, – прошептала Патимат.
– Зачем ты его отдал?
– Так было нужно, чтобы спасти остальных, – ответил Шамиль, проглотив ставший в горле ком.
– Разве это нас спасло? – говорила Патимат, задыхаясь он рыданий.
– Генерал обманул тебя.
– Каждый ответит за то, что совершил, – сказал Шамиль.
– А Джамалуддин… Всевышний позаботится о нем, и с ним ничего не случится, кроме предначертанного.
– Аллах милостив, – сказала Джавгарат.
– Сердце мне подсказывает, что Джамалуддин еще вернется.
– Дай Аллах, – взмолилась Патимат.
– Как я хочу увидеть его, отраду моего сердца…
Ахульго вдруг содрогнулось так, как никогда раньше. Через мгновенье раздался ужасающий грохот, как будто гора треснула на части. Все вокруг попадало вниз, а сквозь щели, образовавшиеся в потолке, сыпалась земля и багровело будто охваченное пламенем небо. Дети заплакали от страха, женщины закричали, закрывая их собой.
– Готовьтесь уходить! – велел Шамиль и поспешил наверх.
Ахульго заволокло дымом, по ущельям металось обезумевшее эхо, а с неба падал огненный дождь. Оглушенные адским грохотом люди выбирались из своих жилищ и укрытий, не понимая, что происходит. Когда дым немного рассеялся, все увидели, что там, где раньше было последнее укрепление, теперь зияла гигантская воронка. Вокруг нее горели поднятые взрывом в небо и упавшие обратно останки деревянных перекрытий и клочья одежды.
Прихрамывая, явился Ахбердилав, похожий на человека, выбравшегося из пекла. Он знал, что случилось.
Это взорвалась мощная мина, скрытно подведенная саперами под укрепление горцев, которое не удавалось взять Лабинцеву. Путь на Ахульго был открыт.
Видя, что новый штурм отбить не удастся, Шамиль приказал перевести женщин и детей на Старое Ахульго, пока был цел соединявший горы мост. Сам имам, собрав оставшихся мюридов, кинулся к завалам, которые были последней защитой Ахульго. Имам понимал, что развороченные груды камней не смогут остановить войска Граббе, когда те двинутся вперед, но они могли хотя бы ненадолго задержать их.
Остальные спешно покидали израненную гору, чтобы перебраться на другую – свое последнее убежище. Женщины несли детей и кое-какой скарб, старики вели раненых. Спускаться к мосту по крутой тропинке было нелегко, да и мост был узок, и потому все происходило слишком медленно.
Когда рассвет озолотил вершины гор, люди еще переходили через мост.
Глава 120
22 августа был днем коронации императора Николая I и императрицы Александры Федоровны, бывшей прусской принцессы. Этот праздничный день полагалось отмечать церковным парадом и торжественным салютом – ста одним пушечным выстрелом. В этот день не трудились и не воевали. Однако Граббе счел, что лучшим подарком императору будет взятие Ахульго. Салют он заменил взрывом мины, которую саперы готовили несколько дней. А на рассвете, после пения «Боже, царя храни» и общей молитвы, бросил войска на штурм.
Узнав о готовящемся взрыве, Жахпар-ага вызвался в авангард штурмовой колонны, надеясь предупредить горцев, даже если бы для этого пришлось открыто перейти на их сторону. Но было уже поздно.
Войска Граббе наступали двумя линиями и на оба Ахульго сразу. Граббе уже не боялся потерь, он боялся лишь гнева императора, если жертвы окажутся напрасными. Вместе со своей свитой он приблизился к Новому Ахульго на ружейный выстрел и навел на гору подзорную трубу. И то, что он увидел, сразу же настроило генерала на праздничный лад.
Последняя преграда исчезла, а на Ахульго происходило необычное движение. Мюридов почти не было видно, зато множество женщин с детьми спешили перебраться на Старое Ахульго.
– Бегут! – торжествующе возгласил Граббе.
– Далеко не убегут, ваше превосходительство, – сказал Пулло, тоже наблюдавший за происходящим.
– Славное начало, – сказал Граббе.
– Но думается мне, что и конец!
– Прикажете обстрелять мост? – осведомился Пулло.
– Еще пригодится, – сказал Пулло.
– Пусть прежде стрелки постараются.
– Ваше превосходительство, обещана ведь была… – решился напомнить Милютин.
– Вздор! – жестко осадил его Граббе.
– Я говорил: «Не будьте страшны для безоружных». А этим, от мала до велика, впору Георгиев вешать за воинские отличия.
По переходившим через мост людям был открыт огонь. А роты Кабардинского полка, авангард штурмовой колонны отряда, уже накатывались на Новое Ахульго.
Ров, стоивший стольких жертв, который прежде не удавалось преодолеть, теперь никто не защищал, и войска миновали его за несколько минут. Только заняв значительную часть Нового Ахульго, войска наткнулись на оборону, которую горцы держали за последними завалами. Горстка мюридов во главе с Шамилем упорно отбивалась, пытаясь сдержать войска Граббе и дать своим людям перейти через мост. А тем временем из ущелья Ашильтинки к мосту уже поднимался батальон Апшеронского полка под командой майора Тарасевича.
Узнав об этом, Шамиль послал часть мюридов защищать мост, а сам из последних сил сдерживал натиск кабардинцев. В свою очередь и от штурмовой колонны отделилась рота, чтобы ударить в тыл горцам, защищавшим мост.
Скоро все смешалось. Повсюду разгорались отдельные схватки. Видя, что всем перейти не удастся, даже женщины бросались на штыки, чтобы задержать наступавших. Другие, как птицы, уводящие хищника от гнезда, разбегались в разные стороны, исступленно отбивались от преследователей, а когда оставалось на выбор – плен или смерть, прыгали в пропасть. Одной из первых так поступила сестра Шамиля Патимат. Чтобы не испугаться, она обмотала лицо платком и бросилась со скалы раненой птицей. Но такое удавалось не всем. Многих брали в плен.
Битва продолжалась, пока имам и его немногие помощники не оказались отрезанными от моста. Им приходилось отступать, оставляя на каждом шагу погибших товарищей. И вдруг Шамиль увидел Джавгарат, которая выбралась из подземелья и спешила на помощь мюридам.
– Разве вы не ушли? – крикнул ей Шамиль.
– Мы – твоя семья, – ответила Джавгарат, стреляя из ружья.
– Мы должны уходить последними.
– Бегите! – приказал Шамиль жене.
– Скорее!
– Ты ранен! – отвечала Джавгарат, целясь из другого ружья.
Шамиль увидел, что его черкеска запачкана кровью, но он не чувствовал боли, только сердце терзала горечь от мысли, что его семья беззащитна и скоро сделается невинной жертвой этой безумной бойни.
– Уходи, имам, – услышал он голос Султанбека, который встал перед ним, отбиваясь от наседавших кабардинцев двумя саблями сразу.
– Будет то, что будет! – упорствовал Шамиль. Но, увидев, что вслед за Джавгарат на поверхность выбирается и Патимат, сжимая в руке кинжал, обратился к сражавшемуся рядом дяде Бартихану: – Ради Аллаха, уведи их отсюда!
– Куда? – не понимал Бартихан.
– Уже некуда идти!
– На стене Ахульго со стороны Гимров есть пещера, – объяснял Шамиль.
– Юнус знает.
– Юнус! – крикнул Бартихан.
– Я здесь, – вывернулся из стычки раненый Юнус.
– Помнишь ту пещеру, которую я тебе показывал? – спросил Шамиль.
– Куда ты лазил в детстве? – припоминал Юнус.
– Где обрыв?
– Спрячьте там тех, кто остался, – велел Шамиль.
Появление женщин придало мюридам новые силы, они начали теснить кабардинцев, пока к тем не подоспели новые роты. Но этого времени хватило, чтобы Бартихан, Юнус и еще несколько мужчин образовали живую цепочку, по которой начали спускать в пещеру женщин и детей. Последней спускалась Джавгарат, держа на руках своего сына Саида. Но беглецов уже заметили и открыли по ним стрельбу. Шамиль, помогавший Джавгарат, оставил ее и кинулся на стрелявших. Он зарубил одного, ранил другого, но вдруг крик отчаяния заставил его обернуться. Шамиль ужаснулся, увидев, как раненая в голову Джавгарат пошатнулась и, прижимая к себе младенца, начала оседать, рискуя сорваться в пропасть. Шамиль бросился к жене, подхватил ее и ребенка и передал их появившемуся снизу Бартихану.
– Спускайся и ты, – сказал Шамилю Бартихан.
– Еще не время, – ответил Шамиль и поспешил на помощь своим сподвижникам, еще дравшимся за Ахульго.
Когда последние защитники Ахульго были почти окружены, они сделали последний натиск, отбросили нападавших, но и сами потеряли несколько человек. Оставшиеся скрылись в подземных лабиринтах. Кабардинцы не решились их преследовать и только стреляли в темные ямы и бросали туда гранаты.
На Старом Ахульго битва продолжалась. Горцы еще защищали мост, ожесточенно сражаясь и с наседавшими кабардинцами, и с подбиравшимися снизу апшеронцами. В ход шли и ружья, и кинжалы, и камни, и тела самих оборонявшихся. Но ничто уже не могло остановить отряды Граббе. Уцелевшие горцы были оттеснены на Старое Ахульго, а затем оказалось, что еще несколько батальонов прорвалось на гору через перешеек. Хаос битвы усиливали два орудия, поставленные на Новом Ахульго и открывшие огонь по Старому почти в упор.
Шамиль со своими людьми пытался добраться до этих орудий, чтобы сбросить их с горы, но где бы они ни появлялись из подземных лабиринтов, на них тут же бросались солдаты, занявшие уже всю гору. От схватки к схватке у Шамиля оставалось все меньше людей. Среди погибших был и дядя Шамиля Бартихан. Наконец, сопротивление стало и вовсе невозможным, и сподвижники уговаривали Шамиля укрыться в пещере. Но Шамиль отказывался, желая встретить смерть на Ахульго.
– Как же мы потом будем сражаться без имама? – вопрошал Султанбек.
– Выберете другого, – сказал Шамиль, – который будет лучше меня.
– Лучше тебя не будет, – глухо произнес Султанбек.
Шамиль через силу улыбнулся и заговорил, будто прощаясь со своими сподвижниками:
– Мне мнилось, что Аллах дал мне жизнь для возвеличивания и прославления святой веры. Он не раз спасал меня, и это укрепляло во мне веру, что таково мое назначение. Но теперь я вижу, что я только жалкое, беспомощное существо. Я молю Аллаха, чтобы он избавил мою душу от этого никудышного тлена, от этой земной гнили. Святое же дело да возложит всевышний на могучие плечи более сильного, способного и достойного.
Тогда один из мюридов, унцукулец Тагир, упрекнул Шамиля:
– Смерти твоей обрадуются враги и вероотступники наши. Шариат же и ислам от нее не выиграют. Не лучше ли поберечь себя для более богоугодного дела?
Шамиль не отвечал. Тогда Ахбердилав сделал остальным знак, давая понять, что нужно хотя бы даже силой заставить имама покинуть подземелье и спуститься в пещеру. Но Шамиль согласился только тогда, когда был завален вход в келью, где хранилась его библиотека.
Омар-хаджи еще пытался защищать Старое Ахульго. Окруженные горцы засели в развалинах, укрылись в подземных ходах и продолжали сражаться. Битва и здесь распалась на множество ожесточенных рукопашных сражений, когда солдаты хотели поскорее покончить с этим ужасом, а горцы не желали сдаваться.
Милютин потом записал в своем дневнике:
«К двум часам пополудни на обеих вершинах Ахульго развевались наши знамена. Однако дело не совсем еще было кончено. Тут только начинался упорный, одиночный бой, продолжавшийся целую неделю, с 22-го по 29-е число. Каждую саклю, каждую пещеру войска должны были брать оружием. Горцы, несмотря на гибель, ни за что не хотели сдаваться и защищались с исступлением: женщины и дети, с каменьями или кинжалами в руках, бросались на штыки или в отчаянии кидались в пропасть на верную смерть. Трудно изобразить все сцены этого ужасного, фанатического боя: матери своими собственными руками убивала детей, чтобы только не доставались они нашим войскам; целые семейства погибали под развалинами саклей. Некоторые из мюридов, изнемогая от ран, и тут еще хотели дорого продать свою жизнь: отдавая уже оружие, они коварно наносили смерть тому, кто хотел принять его. Неимоверных трудов стоило выгнать неприятеля из пещер, находившихся в отвесном обрыве над берегом Койсу. Приходилось спускать туда солдат на веревках. В плен взято было до 900 человек, большею частью женщин, детей и стариков; и те, несмотря на свое изнурение и раны, еще в плену покушались на самые отчаянные предприятия. Некоторые из них, собрав последние силы свои, выхватывали штыки у часовых и бросались на них, предпочитая смерть унизительному плену. Эти порывы исступления составляли резкую противоположность с твердостью стоическою некоторых других мюридов; плачь и стон детей, страдания физические больных и раненых дополняли печальную сцену.
Пока одни войска осматривали и очищали последние убежища горцев, другие заняты были разрушением взятых укреплений. Некоторые части их, в том числе и Сурхаева башня, были взорваны порохом».
Командиры поздравляли друг друга со взятием Ахульго, будто ища подтверждения, что это, наконец, случилось. И только Граббе не мог насладиться победой сполна. Он принимал рапорты, отдавал необходимые распоряжения, ходил смотреть на убитых мюридов, на пленных, но его терзала мысль о том, что среди них не было Шамиля.
– Ищите! – требовал Граббе.
– Достаньте мне его живым или мертвым!
Пулло докладывал, что на Ахульго не оставалось уже ни одного горца, но самого Шамиля нигде не находили.
– В пещерах прячется! – говорили ханы.
– И Ахбердилава нет, и Юнуса – парламентера.
– Многих нет! Самые опасные ушли!
– Распилить бы это проклятое Ахульго!
Граббе непременно уничтожил бы Ахульго с его тайнами и его славой, но это было выше его сил.
– Пусть посмотрят еще раз, – требовали ханы.
– Не мог же он по небу уйти.
Но солдаты полагали, что очень даже мог. И все же вновь принялись осматривать все уголки Ахульго, все укрытия, которые еще не были взорваны. Но теперь их подталкивало не столько приказание начальства, сколько пронесшийся слух о том, что где-то на Ахульго спрятаны несметные сокровища Шамиля. В подтверждение этому показывали женские украшения, найденные в одном из подземных укрытий. Жахпар-ага пытался разуверить солдат, говоря, что единственное богатство Шамиля – его книги, но ему не верили.
Вскоре Биякай высмотрел пещеру в западной стене Нового Ахульго, но представить, что там могли укрываться люди, было трудно. Все же решили обложить ее постами, чтобы не дать уйти Шамилю, если бы он там оказался, а тем временем начали искать средства, чтобы в эту пещеру проникнуть.
Глава 121
Пещера встретила спасшихся живительной прохладой. Стены ее были сыры и поросли мхом, потому что находилась не очень высоко над Койсу, и, когда в горах таял снег, река поднималась до самой пещеры. Последнее половодье принесло в пещеру камни и даже ствол дерева с покореженными ветвями.
Раненную Джавгарат перевязали, но больше ничем не могли ей помочь. Глаза ее были полны слез, но Джавгарат не жаловалась. Превозмогая боль, она пережевывала оставшиеся у нее зерна, чтобы накормить этой кашицей сына.
Когда всех пересчитали, в пещере оказалось около тридцати человек. Среди них были наибы Ахбердилав, Газияв, Муса Балаханский, несколько мюридов из разных аулов Дагестана и Чечни, помощники Шамиля Юнус и Султанбек. Из семьи Шамиля, кроме жен и детей, уцелела его тетя Меседу. Была и маленькая девочка, которую Шамиль сначала принял за дочь Сурхая, но выяснилось, что Муслимат успели отправить на Старое Ахульго, а это была ашильтинка Катурай. Они не могли развести огонь, опасаясь быть замеченными. Не могли спуститься к реке за водой. Сверху и снизу стояли посты противника, и если бы они обнаружили какое-то движение в пещере, то смерть неминуемо ждала бы всех, кто в ней скрывался. Свет проникал в пещеру только днем. И тогда Шамиль видел птиц. Но это были не голуби, приносившие добрые вести, а стервятники, слетевшиеся на страшный пир. Им было чем поживиться, потому что кругом лежали неубранные тела горцев и солдат.
Шамиль вспомнил, как в детстве ему показалось, будто он слышал, как бьется сердце Ахульго, но теперь люди слышали другое – как стрельба сменилась грохотом взрывов, которые продолжали терзать Ахульго. Ночью в небо стреляли светящимися ядрами, надеясь увидеть спасающихся с Ахульго людей. Но Шамиль вспомнил и другое. В дальнем конце пещеры было место, где из щели сочилась вода, которую он в детстве принял за кровь Ахульго. Шамиль отправился искать воду, но, блуждая в темноте, не находил ни капли, будто гора была обескровлена или невыносимая жара иссушила Ахульго насквозь. Он уже хотел повернуть обратно, как вдруг что-то почувствовал под ногами. Это была веревка, та самая веревка, которую оставил здесь он сам, когда поспорил с друзьями, что заберется в эту пещеру. Веревка почти истлела, но еще могла служить путеводной нитью. Шамиль пошел вдоль нее и, наконец, нашел то место, где сочилась влага. Кровь Ахульго была живительной родниковой водой.
Люди, наконец, утолили мучительную жажду, но затем снова напомнил о себе голод. Хотя все и привыкли к нему на Ахульго, но долго так продолжаться не могло. Дети хотели есть, раненная Джавгарат едва дышала, а Патимат тихо стонала от бессилия, боясь родить здесь, где нечем будет кормить младенца, а еще больше она страшилась умереть от голода, с неродившимся ребенком под сердцем.
Положение укрывшихся в пещере становилось невыносимым, только с каждым часом отчаяние уступало место желанию во что бы то ни стало вырваться из окружения и расплатиться с Граббе. Но для начала нужно было выбраться из пещеры, хотя дело это представлялось почти безнадежным. Все кругом было обложено врагами, и казалось, что покинуть пещеру можно было, лишь бросившись в реку, которая катила свои бурные воды мимо Ахульго. Шамиль вспомнил о тропинке, по которой в детстве добрался до этой пещеры. Он даже разглядел что-то похожее на нее, тянувшееся по крутому скату, и поразился, как по ней мог пройти человек, хотя бы даже почти ребенок. К тому же в нескольких шагах от пещеры тропинка обрывалась, и вместо нее зияла большая выбоина, оставленная то ли пушечным снарядом, то ли стараниями самих горцев, старавшихся испортить любые пути на Ахульго, которыми бы мог воспользоваться противник.
– Попробуем перекинуть к тропинке это дерево, – сказал Шамиль и принялся обрубать кинжалом мешавшие сучья.
Остальные взялись ему помогать, хотя мало верили в успех этого рискованного дела. Когда все было готово, Юнус усомнился, хватит ли длины ствола, чтобы преодолеть выбоину в горе и дотянуться до тропинки.
– Дай Аллах, чтобы это дело получилось, – сказал Ахбердилав.
Надежда была у всех, но никто не мог поручиться, что ствол не соскользнет вниз с крутого ската. Тогда Султанбек взял один из своих кинжалов, сунул клинок в каменную щель и сломал его. Таким образом он приготовил несколько острых клиньев, которые вбил в край ствола. Он рассчитывал, что так оно сможет уцепиться за каменистую землю.
– Бисмиллягьи ррахIмани ррахIим… – произнес Шамиль, как полагалось при начале важного дела.
Когда стемнело, мужчины навалились за один край ствола, чтобы удерживать его на весу, и начали осторожно выдвигать ствол к тропинке. И им это удалось. Ствол впился острыми краями в выступ, на котором обрывалась тропинка. Все поняли, что появился путь к спасению, хотя и очень опасный.
– Люди, – оглянулся имам на свой небольшой отряд.
– Это дело почти невозможное, но мы должны попробовать. А чтобы из-за одних не погибли и другие, если кто-то будет ранен и не сможет двигаться, остальные пусть не останавливаются. Если ранят меня – оставьте и меня или сразу сбросьте вниз.
Тяжело вздохнув, Султанбек ответил:
– Лучше прикажи мне самому броситься в пропасть.
Шамиль был удивлен неповиновением мюрида, который не раз рисковал жизнью, защищая имама, а теперь отказывался исполнить его волю. Но Шамиль не знал, как бы сам поступил на его месте.
– Кто пойдет первым? – спросил Шамиль.
Когда никто не решился это сделать, Шамиль решил подать пример сам. Он посадил сына Гази-Магомеда к себе на спину и ступил на покачивающийся ствол. Придерживая одной рукой сына, а другой, пока была возможность, опираясь о скалу, Шамиль перешел по узкому мосту и оказался на почти такой же узкой тропинке. Переведя дух и сняв со спины Гази-Магомеда, он ухватился за край ствола, вдавливая его в землю, и негромко позвал остальных.
– Идите! Я держу бревно.
И люди, преодолевая страх и головокружение, начали переходить по бревну. Когда почти все оказались на тропинке, Шамиль сказал:
– Уходите.
– А ты? – спросил Бартихан.
– Вернусь к Джавгарат. Я не могу оставить ее одну.
– Без тебя не пойдем, – решительно объявил Юнус.
– Может быть, нам удастся ее забрать? – предложил Султанбек.
– Она умрет, – сказал Шамиль.
– Я видел это во сне. Но, пока она жива, я не оставлю ее одну и не смогу забрать у нее ребенка.
– Нам надо спешить, – напомнил Ахбердилав.
– Иначе все наши старания окажутся напрасными. Я сам останусь с ней. Быть может, она не умрет, пока солдаты оставят Ахульго.
– Я останусь с ней! – объявил унцукулец Тагир, державший бревно с другой стороны.
И, не дожидаясь, пока ему возразят, столкнул бревно вниз. Оно содрогнулось и с грохотом полетело в реку. Это отвлекло оцепление, в темноте затрещали выстрелы, и горцам ничего не оставалось, как двинуться вдоль склона к своему спасению, по пути, который указывал Шамиль.
– Да сохранит вас Аллах, – шептал он, оглядываясь на исчезающую в темноте пещеру.
Тропинка постепенно спускалась к реке, и скоро беглецы уже шли по сносной дороге. Снова выглянула луна, и горцы увидели, что у реки вокруг небольшого костра расположились солдаты. Это была рота Куринского полка, которая сторожила путь вдоль правого берега Койсу. Миновать пост было невозможно. Шамиль велел всем укрыться за выступом горы, размышляя, как быть дальше, а Юнус высмотрел по эполетам командира взвода и взял его на мушку. И вдруг, уколовшись о репейник, вскрикнула девочка. Солдаты насторожились и, подняв ружья, двинулись в сторону, откуда послышался голос.
– Стреляй! – велел Юнусу Шамиль.
Юнус выстрелил, свалив офицера. В ответ солдаты сделали дружный залп. Когда просвистели пули и ружья солдат оказались разряжены, горцы бросились в атаку. Не ожидавшие такого натиска, куринцы отбивались, но не смогли остановить горцев, которые пробились сквозь их ряды и уже уходили вдоль реки. Но кто-то успел снова зарядить ружье и выстрелил. Эта пуля неминуемо попала бы в Шамиля, если бы его не заслонил верный Султанбек. Увидев, что его друг и телохранитель упал, разъяренный Шамиль хотел вновь броситься на куринцев, но Ахбердилав его удержал. Нужно было спешить, пока дорога была свободна.
– Ушел Салатавский лев, – горевал Шамиль, удрученный новой потерей.
Изнемогая от усталости, они удалялись все дальше и дальше от Ахульго. Когда Патимат уже не могла идти, Шамиль велел остановиться, чтобы передохнуть и достать из реки воды. К тому же оказалось, что Гази-Магомед ранен в ногу штыком. Патимат, как могла, перевязала сына и только потом попросила пить.
Немного отдохнув и совершив молитву, горцы тронулись дальше. Гази-Магомед, который не мог идти и его пришлось нести Шамилю, просил отца:
– Брось меня в реку!
– Ну что ты, – успокаивал его Шамиль.
– Мне совсем не тяжело.
– Мы тебя не оставим, сынок, – говорила Патимат, едва поспевая за остальными.
– Я хочу, чтобы вы скорее спаслись! – уговаривал отца Гази-Магомед.
– Замолчи, – велел ему Шамиль.
– Если я устану, тебя возьмут другие.
Никто не знал, что ждет их впереди, но Ахбердилав приободрил людей, поклявшись, что они непременно спасутся:
– Как ты можешь это знать? – спросил Шамиль.
– Я тоже видел сон, – ответил наиб.
– Как будто огромный поток воды залил Ахульго и тех, кто там находился. Однако я, ты и люди, которые с нами, как будто взлетели над горой и оказались на дороге, ведущей к спасению.
– Да будет на то воля Аллаха, – сказал Шамиль.
– И да будет он доволен тобой, брат мой.
И люди постепенно убеждались, что сон Ахбердилава был вещим. Им встретилось еще много препятствий, но каждый раз находились и средства их преодолеть. Даже когда дорогу им преградил еще один пост, мимо которого можно было пройти поверху, но нельзя было пройти неслышно, горцы нашли способ продолжить свой путь. Поблизости лежало несколько деревьев, принесенных рекой. Горцы связали из них плот, навалили на него веток и пустили мимо поста. Заметив, что по реке что-то движется, солдаты открыли по плоту сильный огонь. Тем временем беглецы миновали пост поверху и скрылись в темноте, которая таила в себе еще немало опасностей.
Пробиваясь через все новые заслоны и потеряв в стычках шесть человек, Шамиль и его люди уходили все дальше. Выбившись из сил, они решили передохнуть недалеко от места, где Андийское и Аварское Койсу сливались в полноводный Сулак. Там, где беглецы остановились, берега Андийского Койсу близко сходились друг с другом. Но все же это было слишком большое расстояние, чтобы его можно было преодолеть без моста. К тому же другой берег был заметно выше. Однако перебраться на другую сторону было жизненно необходимо, потому что тогда они смогли бы подняться на хребет, а затем скрыться в лесах Салатавии. Оттуда можно было добраться до Чечни, куда Шамиль намерен был идти, рассчитывая на помощь своего наиба Ташава-хаджи.
Люди искали средства, чтобы перекинуть мост, но ничего подходящего поблизости не было. Они начали приходить в отчаяние, оказавшись перед непреодолимой преградой и с минуты на минуту ожидая появления погони. В том, что она за ними послана, никто не сомневался.
Глава 122
Граббе не спал всю ночь. Ему казалось, что вот-вот приведут плененного Шамиля или хотя бы принесут его голову. Но приносили раненых, приводили пленных, а Шамиля среди них опять не было. Граббе отказывался понимать, отчего эти люди не захотели променять свою беспокойную голодную свободу на сытую покорность генералу. Ведь пример тысяч убитых должен был поколебать даже самые высокие идеалы. Где-то в глубине души Граббе знал ответ на этот вопрос, но ему не хотелось признавать за горцами то, на что не оказался способен он сам, когда открестился от декабристов.
Война притупила его чувства, и огромные потери волновали Граббе уже не более, чем первые жертвы в начале экспедиции. Удивляло его лишь то, что среди погибших мюридов были и старики, и юноши, и даже женщины. Их приносили и приносили, но среди них опять не оказывалось Шамиля.
От нетерпения Граббе порывался сам взойти на Ахульго и лично отыскать виновника своих немалых трудов и лишений, но Пулло и адъютант его отговаривали. Граббе всматривался в гору, мысленно приказывал ей выдать имама, но вместо этого ему начали мерещиться странные вещи. Будто какие-то светлые призраки слетались на Ахульго, и палить по ним было бесполезно, пули их не брали. А Васильчиков и Милютин уже стали опасаться за душевное здоровье командующего.
– Не изволите ли передохнуть, ваше превосходительство? – осторожно спрашивал Васильчиков.
– Доктора настоятельно советуют.
– От тутошнего климата, от жары невыносимой первое средство – сон в прохладной тени, – поддерживал приятеля Милютин.
– Вздор! – отвечал Граббе.
– Лучшее средство теперь – плененный Шамиль!
Генералы старались успокоить Граббе.
– Пещера окружена со всех сторон нашими войсками, – утверждал Пулло.
– Оба берега надежно охраняются на значительное расстояние вверх и вниз по течению, – говорил Галафеев.
– Шамилю остается лишь сдаться на милость победителя, – заверял Попов.
Выходило, что все меры приняты и имаму деваться никуда, но Граббе терзало предчувствие, что Шамиля ему не видать.
– Что толку от этой горы, если я не возьму имама? – вопрошал растерянный Граббе.
– Для живого Шамиля каждая гора – Ахульго!
На рассвете, когда началась заупокойная панихида, командующему начало казаться, что отпевают его самого – генерал-лейтенанта Павла Христофоровича Граббе. Он перекрестился и пошел проститься с погибшими, а заодно убедиться, что хоронят не его.
Убитые лежали вдоль большой глубокой могилы, и отрядный священник обходил их, размахивая кадилом.
– Молимся об упокоении душ вождей и воинов, на поле брани жизнь свою положивших… – неслось над притихшим лагерем.
Граббе отрешенно смотрел на убитых людей, которые еще вчера жили, воевали и питали надежды. Ему казалось, что от них исходит немой укор, они будто спрашивали своего вождя, стоило ли взятие Ахульго стольких жизней, для того ли они были на свете, чтобы сделаться жертвой его амбиций и чтобы быть погребенными на скорую руку вдали от родного дома, не оставив о себе ни следа?
– Со святыми упокой, господи, души усопших чад Твоих, где нет ни страдания, ни скорби, ни стенания, но жизнь бесконечная… – пел священник.
Граббе крестился и продолжал мучиться мыслью, что заплатил непомерную цену за искалеченную гору, которая являлась ему во снах и предостерегала от свершившегося теперь безумия. Что упрямо требовал капитуляции, когда горцы отвечали на его ультиматумы пулями и ударами кинжалов. Генерал уже не хотел смерти Шамиля, он раскаивался, что не встретился с ним сам, не посмотрел в глаза ему и не кончил дело миром, как предлагал имам. Ведь сделайся Шамиль мирным жителем с сыном-заложником, все могло обернуться совсем иначе. И нашлись бы, наверное, другие средства умиротворить горцев. Но теперь было поздно. Теперь Граббе жалел о другом – что его не убил на дуэли сумасшедший господин Синицын. Все было бы кончено навсегда, и Граббе не пришлось бы убеждать себя, что отпевают не его и не его карьеру, на которой Чернышев не замедлит поставить свой крест.
– Вечная па-а-амять… – затянул священник.
А тем временем принесли еще убитых. Одного из них сопровождал крайне удрученный Пулло. Погибшим был его младший брат, командовавший ротой, которая не смогла задержать Шамиля.
– Царство ему небесное, – выразил Граббе сочувствие генералу Пулло. А в ответ услышал то, что хотел бы услышать менее всего.
– Шамиль опять ушел, – сообщил Пулло и коротко пересказал ход событий, о которых узнал от подчиненных роты Пулло-младшего.
Граббе будто что-то ударило в сердце. Он пошатнулся, и перед ним померк свет. Васильчиков с Милютиным подхватили его под руки и отвели к плетеному дорожному креслу, заранее поставленному под усыпанной плодами яблоней.
– Вздор! – едва слышно произнес Граббе.
– Это совершенно невозможно…
А в голове его заворочалась колкая мысль о брате Пулло: «Дурак. И сам погиб, и Шамиля выпустил».
– Прости, Боже, им всякое прегрешение, вольное и невольное, яже в слове и в деле, яже в ведении и в неведении, яже во дни и в нощи, яже во уме и в помышлении… – неслось над лагерем.
И когда священник восклицал:
– Господу помолимся.
Солдаты крестились и отзывались:
– Господи, помилуй…
Неподалеку в отдельной могиле Лиза хоронила своего мужа Михаила. Она отказалась хоронить его вместе с остальными, потому что узнала, что над братской могилой будет потом разведен большой костер, чтобы скрыть ее место от горцев. Когда над могилой прапорщика Михаила Нерского был поставлен крест, Лиза всплакнула, положила на могилу один из мужних эполетов и отправилась на другую сторону лагеря, где милиционеры хоронили горцев. Там она проследила, чтобы и Парихан, оставившая ей своего младенца, была упокоена как положено. Обряды Лиза знала, потому что не раз видела, как это происходило в Игали, где она была в плену.
Вскоре к Граббе явился денщик Иван с нюхательными солями и прочими снадобьями. Он знал, как привести в чувство барина, с которым такое уже случалось.
Очнувшись, Граббе огляделся, будто вспоминая, где он находится, и велел Галафееву.
– В погоню! Немедленно!
Всем постам было велено усилить бдительность, по ближайшим аулам были разосланы уведомления о строгом наказании, которое ожидает тех, кто примет к себе возмутителя, а преследовать беглецов была брошена Хунзахская милиция во главе с Хаджи-Мурадом.
Хаджи-Мурад догадывался, где нужно искать Шамиля. Часть милиции он пустил по правому берегу реки, который еще хранил следы стычек постов с беглецами, а сам с двумя сотнями всадников переправился по новому мосту на левый берег Койсу и двинулся вдоль спускавшихся к ней горных склонов.
Ахбердилав, Юнус и еще несколько мюридов не оставляли надежды отыскать что-нибудь подходящее для сооружения моста. Можно было попробовать соорудить его из нанесенных рекой обломков деревьев, привязывая одно к другому, однако на это не было времени. Пара подходящих стволов виднелась на другом берегу, но достать их было невозможно.
– Посмотрите туда, – крикнул вдруг Юнус, показывая в сторону Ахульго.
Люди всмотрелись вдаль и заметили всадников, рыщущих по обеим сторонам реки. Преследователи хоть и медленно, но приближались.
И тогда Шамиль решился на отчаянное дело. Он задумал перепрыгнуть с одного берега на другой, как в Гимрах перепрыгнул через строй солдат, осаждавших башню. Как и тогда, ему негде было как следует разбежаться, но, как и в прошлый раз, необходимость брала верх над невозможностью. До другого берега было около шести шагов, и это походило на самоубийство. Никто не думал, что на такое можно решиться, а потому никто не счел необходимым отговаривать имама. И люди не поверили своим глазам, когда изможденный и раненый Шамиль сделал несколько пружинящих шагов и взмыл над пропастью. Тело, которое Шамиль тренировал с юности, теперь возвращало ему долги. Шамиль перелетел через пропасть и вцепился в край утеса на другом берегу. Он сильно ударился о камни, разодрал пальцы в кровь, но все же сумел взобраться на утес и сел, переводя дух. Он смотрел в бездну под ногами, в ревущую в теснине реку, на своих людей на другом берегу и не верил сам, что сумел сделать то, что сделал. Боли он не чувствовал, его переполняла надежда, что теперь он сможет спасти хотя бы тех, кто уцелел в аду Ахульго.
Затем Шамиль спустился к реке, где среди камней застряли подходящие длинные стволы, и связал их брошенной Юнусом веревкой. Их подняли, перекинули над рекой, и люди смогли благополучно перебраться на левый берег. Погоня приближалась, и им следовало поскорее укрыться, чтобы не быть замеченными.
Но их заметили. Биякай, желавший отличиться и отправленный в погоню с Хаджи-Мурадом, вдруг осадил коня и указал вперед.
– Там кто-то есть!
Хаджи-Мурад достал подзорную трубу и направил ее туда, куда указывал Биякай. Там Хаджи-Мурад действительно увидел группу людей. Он разглядел, как они разрушили за собой мост, перекинутый через реку, и спешили укрыться в заросших деревьями складках гор.
– Ну, что там? – изнемогал от нетерпения Биякай.
– Горные туры, – ответил Хаджи-Му-рад.
– Из-за козы дерутся.
– Дай-ка посмотреть! – не верил Биякай.
Хаджи-Мурад, не глядя, протянул ему подзорную трубу, но выпустил ее из рук раньше, чем до нее дотянулся Биякай.
Труба полетела по каменистому склону, теряя свои стекла, а затем скрылась в бурных водах Койсу.
– Что ты наделал? – оглянулся на Биякая Хаджи-Мурад.
– Я не виноват, – оправдывался испуганный Биякай.
– Ты не так ее дал…
– Может, ты не так ее взял? – двинулся на Биякая разгневанный Хаджи-Му-рад.
– Ты многое делаешь не так! Видно, мюриды тебя сильно обидели, если ты принимаешь за них даже туров!
Биякай, опасаясь скатиться со своим конем вслед за трубой, ретировался.
– Сами их ищите! – обиженно сказал он и двинулся назад.
– Нужен был мне этот Шамиль со своими разбойниками!
Хаджи-Мурада разрывали противоречивые желания. С одной стороны, он давно хотел встретиться с Шамилем лицом к лицу, чтобы разрешить висевший в воздухе вопрос о том, кто в горах храбрее. Но, с другой стороны, уход Шамиля из Ахульго посрамил врагов самого Хаджи-Мурада и, в первую очередь, Ахмед-хана, которого он ненавидел больше, чем желал помериться силами с Шамилем. К тому же Хаджи-Мурад понимал, что урок мужества, преподанный горцами генералу Граббе, запомнится в Дагестане навечно, и отважному джигиту совсем не хотелось, чтобы его потом вспоминали как предателя, выдавшего обессиленных людей тем, кто не смог их победить. Хаджи-Мурад не любил мюридов, но теперь готов был признать, что они достойны уважения.
– Если бы Аллах не хотел спасения Шамиля, имам остался бы среди погибших на Ахульго, – рассудил Хаджи-Му-рад.
– И не мне лезть в это дело.
А своим нукерам велел:
– Ищите получше! И не спешите, они должны быть где-то здесь!
Оставив милиционеров позади, Хаджи-Мурад выехал вперед, надеясь, что Шамиль воспользуется медлительностью преследователей и успеет скрыться.
Когда он не спеша добрался до места, где еще недавно был мост, на другой стороне уже стояли его милиционеры, которые шли по правому берегу.
– Они перешли здесь! – кричали с другого берега.
– Мы видели пятна крови, которые ведут сюда.
– Вы думаете, они перелетели через эту пропасть? – спросил Хаджи-Мурад, удивляясь в душе тому, что Шамиль и его люди все же ее преодолели.
– Это дело невозможное, – отвечали милиционеры.
– Ищите дальше, – велел Хаджи-Му-рад.
– Идите вниз, в сторону Чиркея!
Тем, кто был с ним, Хаджи-Мурад велел поворачивать. Направляясь обратно, Хаджи-Мурад размышлял о том, что будет в горах дальше. Победа Граббе была похожа на поражение. Такое падение Ахульго после трехмесячной осады могло привести к Шамилю больше сторонников, чем у него было до того, как сюда пришел Граббе. Хаджи-Мурад чувствовал, что скоро и ему придется выбирать между вольной жизнью со славными битвами и унижениями, которые он испытывал под властью Ахмед-хана и его царских начальников.
Почти о том же толковали и милиционеры, не менее Хаджи-Мурада впечатленные своими соплеменниками, оборонявшими Ахульго. А после чудесного исчезновения Шамиля милиционеры с особым чувством пересказывали друг другу легенды, ходившие об имаме.
– Говорят, Шамиль знает молитвы, которые делают его неуязвимым и ослепляют его врагов, – говорил один.
– Сам Аллах делает так, что глаза врагов Шамиля перестают его видеть, – соглашался другой.
– Сколько людей погубили, а кому от этого польза? – рассуждал третий.
– А золота сколько потрачено? Наверное, каждому горцу можно было бы построить новый дом, купить коня и оружие, а в придачу – большой самовар.
Глава 123
Похоронив мужа, Лиза уехала с первым же транспортом, забравшим раненых. С собою она увозила младенца, лишившегося родителей, медальон Нерского, который она повесила на шею ребенку, и офицерские эполеты, оставшиеся от незабвенного супруга. Тем же транспортом везли в Шуру и Аркадия. Он был ранен штыком, сильно расшибся, но выжил. И Лиза пообещала, что будет хлопотать о помиловании Аркадия. Синицын гордо отказывался, но Лиза дала себе слово, что спасет несчастного, чего бы ей это ни стоило.
В ожидании вестей от посланных в погоню за Шамилем отрядов в лагере переписывали пленных. Мужчин, в большинстве своем раненных, содержали в Ашильте. Женщин, многие из которых имели на руках младенцев, собирали в саду. Там же, в другой части сада, ждали своей участи пленные дети.
Ефимка сбился с ног, разыскивая девочку, которую не мог позабыть, и увидел ее среди пленных детей. Она сидела под деревом и горько плакала, голова ее была перевязана, и сквозь ткань проступало красное пятно. Ефимка сбегал в роту, выпросил у кашевара хлеба и помчался обратно.
– Эй, – крикнул Ефимка, стараясь обратить на себя внимание девочки.
Та оглянулась, с ненавистью посмотрела на Ефимку и спрятала свое лицо в ладонях. Ефимка протянул ей хлеб, но на его пути встали мальчишки, уже без своих кинжалов, но все равно готовые дать отпор недругу.
Детей по одному подводили к писарю, которому помогал переводчик Биякай. У детей спрашивали имя, затем имя отца, и писарь заносил все в тетрадку с надписью «Список детей горцев, взятых в плен при штурме Ахульго». Мальчиков набралось около сорока. Затем стали записывать девочек. И Ефимка, наконец, узнал как зовут ту, которая так его поразила.
– Муслимат, – сказала она.
– Чья ты дочь? – спросил Биякай.
– Сурхая.
– Самого наиба Сурхая? – удивленно воскликнул Биякай.
– Да, – ответила Муслимат.
– А когда он придет за мной? И еще я хочу к маме.
Биякай засуетился, что-то шепнул писарю и быстро ушел, чтобы доложить начальству о важном открытии. Писарь почесал пером за ухом и посмотрел на стоявшую перед ним девочку.
– Ишь, синеглазая… Дите еще, а туда же – под пули…
Рядом с Муслимат вдруг встал чумазый мальчишка в изодранной папахе.
– Еще один? – удивленно спросил писарь.
– Как звать?
– Али, – назвался Ефимка именем, которое часто слышал.
– Чей сын?
– Умар, – сказал Ефимка.
– Али, сын Умара, – записал писарь и указал Ефимке на стайку ребят.
– Ступай к своим дружкам.
Ефимка подбежал к мальчишкам и протянул руку:
– Салам алейкум!
– Ва алейкум салам, – недоуменно отвечали мальчишки, не понимая, зачем этот русский записался горцем.
Ефимка оглянулся на писаря, а затем показал мальчишкам ручку кинжала, спрятанного у него за поясом. Те все равно не понимали, зачем он это делает. Но это знал Ефимка, решивший сделаться пленным горцем, чтобы спасти из плена Муслимат, а если повезет, то и остальных ребят. И Ефимка увидел, как удивленно, почти восторженно смотрит на него синеглазая красавица, догадавшаяся, что Ефимка рискует ради нее.
Но гордая радость маленького рыцаря оказалась недолгой. Биякай явился с офицером, который забрал Муслимат и увел ее с собой. Ефимка кинулся было ее выручать, но его схватили и водворили к остальным пленным мальчишкам. Теперь плакал и Ефимка, надвинув папаху на глаза, чтобы скрыть слезы бессилия от других мальчишек.
– Фимка! – послышалось вдруг где-то рядом.
Ефимка оглянулся и увидел Михея, своего фельдфебеля, который возвращался в роту с ведром водки, выданной по случаю взятия Ахульго.
– Ты чего тут? – вопрошал Михей, разглядывая пленных мальчишек.
– С волчатами снюхался?
– Я… Я… – не знал, что ответить Ефимка, окруженный мальчишками, которые теперь готовы были защищать и его.
– Живо в роту! – приказал Михей.
– Обыскались уже. Думали, прости господи, подстрелили тебя или камнем зашибло.
– Я что-то не возьму в толк, господин фельдфебель – тряс тетрадкой писарь.
– Сей мальчонка записан Алием, сыном Умара.
– Чего еще? – отмахнулся фельдфебель.
– Ефим он, Пушкарев, ротный воспитанник.
– А чего же тогда лезет в пленную ведомость? – негодовал писарь.
– Вымарывай теперь дурака.
– Не без этого, – гладил по плечу Ефимку фельдфебель.
– Малец, гляжу, в уме повредился. Война…
И Михей увел Ефимку с собой, приговаривая:
– Ну, вот и вся недолга. Ахульга, она, конечно, твердыня, одначе пушки посильнее будут. Поедем, брат домой, на вольную жизнь. А что? Сами их превосходительство генерал-лейтенант Граббе обещались!
В штаб Граббе начали поступать сведения от лазутчиков. Все они подтверждали, что Шамилю удалось уйти, но как это ему удалось и где он теперь находится, никто точно не знал. Одни полагали, что Шамиль направился в Чиркей, куда ушли многие отпущенные при обмене горцы. Другие считали, что Шамиль двинется в Гимры, чтобы укрыться у родственников. Третьи всерьез уверяли, что Шамиль умеет летать по воздуху и может объявиться где угодно, а касательно его спутников не сообщали и таких нелепиц.
Биякай плел что-то насчет подзорной трубы и Хаджи-Мурада, но Ахмед-хан не решился требовать у него отчета, удовлетворившись показаниями милиционеров, которые ничего не нашли, кроме следов крови у обрыва над Койсу.
То, что Шамиль сумел уйти, повергло командиров в уныние, но командующий старался не терять присутствия духа и велел объявить войскам свой приказ:
«Господа генералы, штаб и обер-офицеры и вы все, нижние чины отряда! Вы совершили подвиг необыкновенный, достойно увенчавший ряд успехов этой экспедиции!
Я считаю дело конченным, хотя, сверх всякого вероятия, возмутитель и сумел спастись. Но нет более ему веры в горах, нет более для него пристанища ни на утесах, ни в ущельях. Нигде не сможет он найти места, недоступнее бывшего гнезда его Ахульго, и храбрейших приверженцев, которые ныне пожертвовали собой за него. Партия его истреблена вконец. Мюриды его, оставленные своим предводителем, погибли один за другим и один возле другого.
Несомненно, что настоящая экспедиция не только поведет к успокоению края, но отразится далеко в горах Кавказа и что впечатление от штурма и взятия Ахульго надолго не изгладится из умов горцев и будет передаваемо одним поколением другому Я верил в вас, храбрые воины, я всего от вас требовал, и вы все оправдали. Благодарю вас!»
Солдаты кричали «Ура!», оркестр играл «Боже, царя храни», а генералы благодарили судьбу, что успели получить свои новые звания за битву при Аргвани. Все понимали, что после сомнительной победы при Ахульго государь уже не будет так щедр.
Скрашивало невеселую картину лишь одно – прибытие депутаций от горских обществ. Весть о падении Ахульго и поражении Шамиля потрясла даже тех, кто заранее смирился с неизбежным и надеялся лишь на чудо. Но чудесным оказалось лишь спасение Шамиля, а дело его представлялось погибшим. И многие поспешили заявить о покорности царю, чтобы обезопасить себя от разорения и наказания за помощь имаму. Граббе мало верил в их искренность, но в политическом смысле это было ему на руку. Когда придется держать ответ перед государем императором, который непременно спросит, ради чего были принесены такие жертвы, это помогло бы его умилостивить. Пользуясь представившимся случаем, Граббе обласкал депутатов, а затем поручил Ахмед-хану двинуться в их общества с милицией, привести покорившихся к присяге, водворить там приставов, а в залог взять аманатов из уважаемых семейств.
Топограф Алексеев в компании с Милютиным и Васильчиковым обошли оба Ахульго, изучая систему обороны Шамиля. Они снимали планы, делали зарисовки и не переставали удивляться тому, как горцы держались на этих раскаленных утесах почти три месяца. Цифры потерь тоже казались невероятными, особенно те, что касались горцев. Выходило вопиющее нарушение всех правил: убитых было в несколько раз больше, чем раненых.
Милютин делал для себя все новые открытия, не укладывавшиеся в принятую теорию войны, и не знал, следует ли включать свои выводы в составляемое им «Наставление». Ему казалось, что такой битвы не было раньше и не будет потом, а потому большую часть своих наблюдений он решил приберечь для мемуаров. И не преминул записать в дневник:
«Таким образом, действия 1839 года в Северном Дагестане замечательны уже потому, что представляют целый ряд таких подвигов воинских, который грешно было бы оставить в забвении. Мнения могут быть различны в том, какое значение экспедиция эта будет иметь вообще в истории Кавказского края; но без сомнения, все, принимавшие в ней участие, единогласно признают, что собственно в истории Русского войска она составит одну из блистательных страниц.
Кроме того, действия в продолжении девятинедельной осады Ахульго представляют и в отношении техническом нечто совершенно особенное в военном искусстве».
30 августа 1839 года, в день тезоименитства наследника престола Александра Николаевича, отслужив благодарственное молебствие, отряд Граббе выступил из-под Ахульго.
Артиллерия и прочие тяжести были отправлены в Темир-Хан-Шуру по аробной дороге через Цатаних и Зирани. Остальные войска двинулись в Шуру короткой дорогой через Унцукуль и Гимры. Между колонной и обозом вели пленных, которых охраняли конные казаки.
Покидая Ахульго, Граббе вспомнил опрометчивое обещание, данное им государю: «Разбить и разогнать все скопища, а Шамиля пленить». И с горечью признавался себе, что вовсе не уверен в первом, а о втором теперь не приходилось и говорить. На покорность горцев Граббе тоже не надеялся. Он слишком хорошо их узнал, чтобы ожидать, что они забудут все, что принесла им экспедиция Граббе. К тому же он понимал, что ханы вновь примутся за старое, и тогда горцы снова возьмутся за оружие, если их еще раньше не поднимет сам Шамиль. Оставалось надеяться на устрашение, произведенное взятием неприступного Ахульго. Но даже устрашение Граббе не считал теперь надежным и долговечным средством. Пока у горцев будет оружие, полагал Граббе, они не оставят мысли о независимости. Теперь он мечтал их разоружить.
Потеряв убитыми и ранеными около пяти тысяч человек, почти половину своего отряда, Граббе уходил ни с чем. Он увез бы с собой Ахульго как свидетельство своих стараний, но это было невозможно.
Развалины Ашильты и Ахульго уже скрывались из глаз, когда Граббе приказал свите остановиться. Что-то тянуло его назад, ему казалось, что он не сделал еще чего-то очень важного. Граббе отъехал в сторону и поднялся на гребень, с которого было хорошо видно еще дымящееся Ахульго. Оно было почти таким же, каким предстало ему впервые во сне. Генерал с минуту смотрел на гору, а затем отдал ей честь как побежденному, но достойному противнику.
Глава 124
Благополучно миновав Унцукуль, отряд Граббе подошел к Гимрам. Убедившись, что Шамиля в его родном ауле нет, Граббе назначил для надзора над гимринцами особого пристава и оставил ему в помощь роту апшеронцев.
Ночью случилось досадное происшествие. Кто-то проделал дыру в хлеву на окраине аула, где содержались пленные дети, и те бросились врассыпную. Поймать удалось не всех. А артиллерийский фельдфебель Михей заявил потом, что пропал и его ротный воспитанник Ефим Пушкарев.
Тогда же Граббе был извещен о том, что конный дозор гимринской знати наткнулся на Шамиля и его людей, вступил с ними в схватку, но Шамилю опять удалось пробиться. Не поверив этому, Граббе велел Пулло допросить свидетелей. Те подтвердили, что видели Шамиля, но дело обросло любопытными подробностями. Выяснилось, что никакой схватки не было, что Шамиль вышел вперед, назвал гимринцев по именам и поклялся, что его шашка не теперь, так потом настигнет каждого, кто посмеет встать на его пути. Слова Шамиля и блеск его шашки, хорошо известной своей необычайной величиной и беспощадностью, смутили преследователей, которые не посмели напасть на Шамиля и позволили пройти его небольшому отряду.
– Каков отряд? – требовал точности Пулло.
– Человек тридцать, – отвечали ему.
– Половина – больные и раненые.
– Далеко не уйдут.
– А куда ушли? – допытывался Пулло.
– В Чиркей! – убеждал Биякай.
– Богатый аул! Там у Шамиля полно друзей, особенно Джамала родственников, и мюриды его многие там теперь раны залечивают. Куда им еще идти?
Но время было упущено, и у Граббе не было ни сил, ни желания преследовать Шамиля. Объявив награду в сто червонцев за голову имама, Граббе на следующий день двинулся дальше, к Темир-Хан-Шуре.
Тем временем, узнав о случившемся, приверженцы Шамиля из Гимров тайно отправились на его поиски, надеясь помочь имаму. И некоторым это удалось.
В Шуре измотанному отряду был дан пятидневный отдых. Траскин устроил в честь победителей Ахульго торжественный обед, на который была приглашена и местная знать. Ханы не замедлили превознести воинские таланты Граббе, но между собой кляли его за близорукость, за то, что он удовлетворился обещаниями обществ вести себя смирно вместо того, чтобы настроить в горах крепостей и оградить ханские владения от вторжений мюридов. А в том, что таковые весьма возможны, пока жив Шамиль, ханы не сомневались.
Аванес, успевший несколько поправить свои дела, выставил от себя бочку вина. Когда же Граббе осведомился о Лизе, то оказалось, что она уже уехала в свое имение. Граббе это не удивило, странным было лишь то, что Лиза уехала не одна, а с ребенком, неизвестно откуда взявшимся.
Стараясь развлечь утомленного тяжелым походом и раздраженного неудачей Граббе, Траскин устроил и грандиозный бал. Граббе обещал не забыть его стараний, особенно когда будет делать представления о наградах, но предпочел увеселению чтение писем от супруги, которые ждали его в Шуре. Письма были трогательные, с приписками от детей и контурами их ладоней, приложенных на отдельных листах. Был тут даже рисунок Ахульго, на которое взбирался их батюшка с пистолетом и саблей в руках, а с горы ему грозил кинжалом Шамиль.
Даже в отсутствие Граббе бал удался на славу. Офицеры, огрубевшие за время похода, вынуждены были привести себя в порядок, а дамы чувствовали на себе особенно жаркие взоры мужчин, давно не видевших женщин. Танцам не было конца, от кавалеров не было отбоя, и дамы выбивались из сил, не смея отказать боевым офицерам. К утру они так устали, будто сами взбирались на Ахульго, о котором разгоряченные офицеры рассказывали им невообразимые ужасы. Более других хвалились своими, а чаще – чужими подвигами «фазаны»-волонтеры, которым посчастливилось уцелеть и которые теперь возвращались домой в ореоле кавказских героев.
Дождавшись подхода артиллерии, Граббе повел отряд во Внезапную, туда, откуда начинался поход. Идти он решил не через удобную Миатлинскую переправу, а через аул Чиркей, где была надежда захватить Шамиля. В том, что он может там скрываться, Биякай не уставал убеждать Пулло, у которого были свои виды на покорение Чиркея.
– Вы разве не помните, господин генерал, как на переговорах Шамиль требовал отправить сына в Чиркей, к Джамалу? – приводил аргументы Биякай.
– А теперь и сам туда направился.
– Скорее, он в Чечню уйдет, – сомневался Пулло, знавший, что и как делается в горах.
– В Чечню не дойдет, – настаивал Биякай.
– Сил не хватит, и раненых у него много. В Чиркей имам пошел, к врагам вашим, которые только прикидываются мирными.
Отряд шел к Чиркею. Дело того стоило. Граббе даже несколько повеселел, грезя о том, как захватит, наконец, Шамиля и предстанет перед императором в ореоле кавказского Ганнибала. Но даже если бы Шамиля в Чиркее не оказалось, Граббе горел желанием покарать этот опасный аул, который теперь не мог называться мирным, когда о его всяческом содействии Шамилю и даже посылке на Ахульго сотни воинов было хорошо известно. А Биякай предвкушал, как сведет счеты с Джамалом и станет в Чиркее приставом, о чем давно уже мечтал, устав угождать в штабе всем и каждому и чувствовать себя мелкой сошкой.
По пути в Чиркей Граббе получал все новые сведения о Шамиле. Лазутчики сообщали, что имама и его людей видели на брошенном хуторе, что беглецы прошли под горой Кеуда, мимо штолен рудников, в которых горцы добывали серу для пороха, что Шамиль и его люди крайне измождены, но все же им удается ускользать от разъездов. Граббе с Пулло разглядывали карту, составленную топографом, и видели, что Шамиль вполне мог направиться в Чиркей, иначе бы ему пришлось преодолеть тот ужасный Салатавский хребет, через который трудно было перебираться даже здоровым, опытным солдатам, когда отряд шел к Ахульго.
В предгорьях Граббе чувствовал себя полным хозяином, и отдохнувший отряд шел бодро, без всяких предосторожностей, с песельниками, исполнявшими разудалые куплеты.
Биякай тем временем успел доскакать до Чиркея и вернуться, чтобы встретить отряд на подступах к аулу. Биякая в аул не пустили, но он все же принес сведения о том, что в ауле неспокойно и что Граббе нужно быть настороже.
– Вздор, – по привычке ответил генерал.
К Граббе вернулась былая уверенность, после Ахульго он готов был сокрушить всякое неповиновение.
Когда показался мост через Сулак, за которым в окружении богатых садов стоял древний Чиркей, навстречу отряду вышли старейшины. Они торжественно преподнесли Граббе большую корзину винограда и уважительно приветствовали, как почетного гостя. Такое радушие чиркеевцев, всегда гордившихся тем, что в нем еще не бывала нога солдата, успокоило Граббе настолько, что он даже не велел заряжать ружья, прежде чем войти в аул.
Старики соглашались пропустить отряд через Чиркей, если Граббе освободит Джамала.
– Скажите-ка, почтенные, – спросил Граббе.
– А не выдадите ли вы мне сперва Шамиля, который у вас укрылся?
– Шамиля? – изумились чиркеевцы.
– Разве он у нас?
– Разве сардар еще не сковал его железной цепью?
– Так, значит, вы о нем ничего не знаете и ничего не ведаете? – с подозрением спросил Граббе.
– Шамиля в Чиркее нет, – твердо заявили чиркеевцы.
– Это так же верно, как то, что стада наши пасутся в ваших владениях, а нам они очень дороги.
– Что ж, посмотрим, – сказал Граббе, располагаясь на бурке неподалеку от моста.
Тут же, на кавказский манер, был сервирован на ковре походный стол, за который Граббе пригласил и старейшин. Те приняли приглашение и не переставали уверять, что преданы кавказскому начальству и мюридов, а тем более Шамиля, к себе не пускают.
Как только Граббе отпил из бокала шампанского, забили барабаны, и авангард отряда, как было заранее условлено, двинулся через мост в Чиркей. Старики забеспокоились, порывались вернуться в аул, но Граббе их не отпускал. Чиркеевцы встревоженно переговаривались, поглядывая вслед входящим в аул батальонам, но позади стариков уже стояло оцепление, пройти сквозь которое было невозможно. Беспокойство чиркеевцев Граббе счел верным знаком того, что им есть что скрывать, что, может быть, сам Шамиль выслал их, чтобы не пустить в аул отряд. Граббе отщипнул виноградинку и снова предложил старикам:
– Угощайтесь, почтенные.
– Чиркей – мирный аул, – напомнили старики.
– Но ведь было условие, чтобы к нам войска не входили.
– Мирные аулы на Ахульго мюридов не посылают, – ответил Граббе.
– Чиркеевцы – свободные люди, – разводили руками старики.
– Каждый сам выбирает, что ему делать.
– Воля ваша, – улыбнулся Граббе.
– А тут – моя воля. И я желаю убедиться, какие вы мирные.
– Тогда хотя бы отдайте почтенного Джамала, он у нас главный.
Но Граббе и не думал принимать каких-либо условий.
Три батальона ширванцев, стремившихся отличиться после неудачной атаки на Ахульго, батальон апшеронцев и четыре орудия, выставив в авангард плясунов и песельников, голосивших: «Унеси ты наше горе, быстро реченька бежит», подходили к Чиркею. Им было велено пройти весь аул и расположиться лагерем с обратной его стороны, после чего в Чиркей должен был вступить и главный отряд.
Первый батальон уже поднимался к аулу, состоявшему из добротных каменных домов и башен, между которыми вились узкие улицы. Второй батальон шел следом, между густыми садами и виноградниками, спускавшимися террасами и сходившими к тесной дороге высокими каменными оградами.
Орудия, на которые был навьючен фураж для лошадей – мешки овса и сено, переезжали мост. За ними шли Милютин, Васильчиков и топограф Алексеев, цепко оглядывая все вокруг. Им было поручено разведать малейшие признаки присутствия в ауле Шамиля или его мюридов.
И вдруг из домов аула, из садов, с террас – отовсюду затрещали ружейные выстрелы, превратив безмятежное шествие в кровавый хаос. Вслед за тем на батальоны обрушились толпы чиркеевцев, сверкая саблями и кинжалами. Застигнутые врасплох, с незараженными ружьями, солдаты побежали кто куда, потому что отступать по дороге было невозможно, она уже превратилась в поле боя.
Чтобы пустить в ход пушки, Милютин с Васильчиковым принялись рубить веревки, которыми на орудия был навьючен фураж, но натиск чиркеевцев заставил бежать и их.
Схватка была недолгой, но оставила после себя десятки убитых и раненых, брошенную в беспорядочном отступлении амуницию, потерянное оружие, перебитых лошадей и подожженный мост, с которого горцы успели скинуть одно орудие. Увидев этот нежданный погром, Граббе пришел в крайнее замешательство. Шатаясь и потирая похолодевший лоб, он побрел куда-то, не разбирая дороги, пока его не подхватил под руку Васильчиков и не привел в чувство денщик Иван, плеснув в лицо барину воды.
Отряд, не получая распоряжения от главного начальника, завязал с чиркеевцами жаркую перестрелку.
– Ваше превосходительство! – кричал на ухо Граббе Пулло.
– Измена!
Немного придя в себя, Граббе указал на чиркеевских стариков, окруженных плотным кольцом охраны, и велел:
– Арестовать мерзавцев!
Когда отряд отступил от моста и перестрелка стихла, оказалось, что, не считая пленных, убито больше полусотни человек, и еще около сотни было ранено. Потерь было бы еще больше, если бы солдаты не отважились перебегать через горящий мост, который, в конце концов, рухнул в реку.
Главные потери опять пришлись на ширванцев, потерявших под Ахульго почти всех командиров и фельдфебелей, кроме казначея и квартирмейстера, и укомплектованных офицерами из других полков, которые не успели еще освоиться на новых должностях.
Граббе жаждал мщения. Он приказал открыть орудийный огонь по Чиркею, но у канониров не оказалось снарядов. Тогда было решено взять аул штурмом, однако рухнувший мост сделал Чиркей недоступным.
Пока командиры изыскивали другие способы покарать Чиркей, Граббе приказал привести к нему стариков. Те, казалось, и сами были удивлены случившимся. Уверяли, что готовы были исполнять приказания сардара, но, как видно, жители аула поддались влиянию отчаянных абреков, которые уверяли, что Граббе собирается уничтожить Чиркей.
– И уничтожу! – грозил Граббе.
– Камня на камне не оставлю от вашего мятежного аула!
Старики просили пожалеть аул, предлагали заплатить любой штраф, но Граббе грозил им расправой и каторгой и все более укреплялся в своих подозрениях насчет присутствия в ауле Шамиля.
– Не иначе как имам там засел, – говорил он подчиненным.
– Без него бы не дерзнули на такое!
Штурмовать аул с имевшихся позиций оказалось совершенно невозможно, и Граббе решил его обойти, чтобы не оставлять без примерного наказания. Отряд спешно снялся с места и двинулся к Миатлинской переправе, вниз по течению Сулака. Стада чиркеевцев и пасшихся тут же стада других салатавских обществ были захвачены казаками и отогнаны в глубь шамхальских владений.
Уже на следующий день Граббе был у переправы. Она состояла из одного парома, который в спешке чрезмерно нагружали, отчего рвались канаты, и течение сносило его далеко вниз. Переправа затянулась на три дня, и это выводило из себя Граббе, спешившего добраться до Чиркея. Переправившись, наконец, через Сулак, отряд двинулся назад по левому берегу. У аула Инчха Граббе сделал остановку, чтобы дождаться вытребованного из крепости Внезапной транспорта с военными запасами, продовольствием и свежими лошадьми. Все эти дни лил проливной дождь, дул сильный ветер, солдаты мерзли и мечтали поскорее оказаться во Внезапной.
С транспортом прибыл вестовой от Траскина, который извещал о том, что Шамиль объявился в Чечне. Но раздосадованный этим Граббе все же оставался тверд в своем намерении покарать Чиркей, пока оттуда вдруг не явилась новая делегация.
Чиркеевцы просили пощадить аул, обещали наказать тех, кто напал на отряд, а в доказательство своего раскаяния привели с собой пленных солдат и офицеров и притащили пушку, которую достали из балки.
– Только тогда и ласковы, когда палка в руках, – сказал Граббе и долго отказывался их принимать, считая кару неизбежной необходимостью.
Но известие, что Шамиль ушел в Чечню, и убеждения генералов, что войска теперь лучше поберечь, заставили его изменить свое решение. Для оправдания такого поворота дела в военный журнал отряда было записано:
«В сущности, не было никакой пользы в разрушении богатейшего, населеннейшего и самого промышленного селения в целом Дагестане из-за дерзости двухсот человек. Жителей в Чиркее насчитывалось около четырех тысяч, и они занимались разрабатыванием виноградных садов, обнимавших собою пространство в десять квадратных верст. Уничтожить такое цветущее селение – значило бы привести в полнейшую нищету несколько тысяч людей, из которых громадное большинство не принимало ровно никакого участия в происшествии 9-го сентября».
Граббе, наконец, смягчился, допустил к себе делегатов и объявил условия, на которых соглашался даровать им прощение:
1. Чиркеевцы обязываются изгнать от себя всех мюридов.
2. Выдают 40 тысяч баранов из числа 150 тысяч, принадлежащих аулу.
3. Обязываются очистить на правой стороне Сулака место для возведения укрепления (для чего потребовалось бы вырубить несколько виноградников), а также приготовить весь необходимый для того материал.
Ради спасения своего аула чиркеевцы согласились на все. Не пожелали они только видеть у себя приставом Биякая. Граббе и сам сомневался в его способности управлять Чиркеем, а потому назначил в аул своего пристава. Чиркеевцам было также объявлено, что отныне к ним и прочим салатавским аулам будут применяться требования, предписываемые покорившимся обществам, а о привычной вольности им пора позабыть, как и о возвращении главного своего смутьяна Джамала.
Граббе хотел приступить к возведению укрепления у Чиркея немедленно, но наступавшая осень и неясность в отношении Шамиля сделались серьезными препятствиями. Постройка была отложена на следующий год.
Взятых в аманаты стариков Граббе отпустил. Джамала же вместе с сыновьями, которые содержались в Шуре, решил сослать в Сибирь как опасных бунтовщиков и деятельных сообщников Шамиля.
В рапорте начальству дело при Чиркее Граббе изобразил блистательной победой. Корпусной командир Головин отозвался об этом казусе как о постыдном отступлении, много повредившем делу и ободрившем поверженных было мюридов. Но, как потом оказалось, ко двору больше пришлась бравурная реляция Граббе.
Распустив войска отряда по зимним квартирам, Граббе отбыл из Внезапной в Ставрополь.
Глава 125
Шамиль и его небольшой отряд претерпели немало трудностей, пока преодолели Салатавский хребет и добрались до Чечни. Здесь уже были наслышаны о битве на Ахульго и приняли Шамиля как героя. Люди оказывали Шамилю почести и старались превзойти друг друга в гостеприимстве. Немало жертвенных овец и быков было заколото в ознаменование чудесного спасения Шамиля.
Проведя несколько дней в аулах Даттахи и Гендерген, Шамиль приехал в Беной. Сюда начали стекаться уцелевшие мюриды и наибы Шамиля. Вскоре прибыл и наиб Ташав-хаджи, который взял на себя заботы о Шамиле и его людях.
Здесь же, в Беное, жена Шамиля Патимат родила сына, которому дали имя Магомед-Шапи.
– Посмотри, Шамиль, он улыбается, – говорила Патимат, прижимая к себе младенца, будто боялась, что его отнимут, как отняли Джамалуддина.
Мальчик был крепкий и весело сверкал глазенками, особенно когда видел отца. Шамиль смотрел на него и вспоминал его сводного брата Саида, оставшегося на Ахульго. Отец невольно их сравнивал, и ему казалось, что Саид предчувствовал свою судьбу и потому смотрел на мир грустно, будто знал, что скоро с ним расстанется. Веселость же Магомеда-Шапи, который никогда не плакал, вселяла в отца надежду на его счастливую судьбу.
– Он мог родиться наследником повелителя гор, а появился на свет сыном бесприютного беглеца, – сказал Шамиль.
– Уже не знаю, что лучше, – говорила Патимат.
– Беглец должен думать о семье и крове, а имам всегда занят войной.
– В войне нет ничего хорошего, – ответил Шамиль.
– Смотри, – улыбалась Патимат.
– Вертится, будто танцевать хочет.
– Если бы все зависело от меня, люди бы только и делали, что пели, танцевали и наслаждались красотой жизни, – улыбнулся Шамиль.
– Как бы теперь радовался его старший брат, – тяжело вздыхала Патимат.
– Думаешь, они увидят друг друга?
– Увидят, – обещал Шамиль.
– Обязательно увидят.
– Люди говорят, что Джамалуддина увезли к царю, – тихо произнесла Патимат, которая не хотела в это верить.
– Слухи ходят разные, – отвечал Шамиль.
– Но я знаю главное – он жив и здоров.
– Да сохранит его Аллах, – сквозь слезы говорила Патимат.
– На все воля всевышнего, – кивнул Шамиль.
– Он – лучший хранитель.
Поздравить Шамиля съехалось много гостей, среди которых были и предводители чеченцев. Знаменитые храбрецы Шугаиб Центороевский и Джавадхан Даргоевский старались ободрить Шамиля, обещая, что взамен павших товарищей он найдет в Чечне новых друзей и соратников, которые будут ему верной опорой, а сами они приняли на себя звание его наибов. Ахбердилав, поправившись после ранения, тоже стал одним из главных наибов в Чечне.
Затем Шамиль перебрался в Ведено, а оттуда – в Шатой. Зная о праведности Шамиля, люди приходили к нему за советом, для разрешения споров, а большей частью – чтобы просто увидеть знаменитого имама и послушать его речи. Шамиль и сам стал посещать аулы, проповедуя шариат и единение горцев, которым предстояло еще немало испытаний.
В одном из аулов люди обратились к Шамилю с просьбой избавить их от разбойника, от которого все страдали и с которым никто не мог справиться. Это был гигант, обладавший злобным нравом и огромной физической силой. Шамиль приказал своим мюридам схватить преступника и выколоть ему глаза. Не без труда, но мюриды привели приговор в исполнение, а связанного гиганта заключили в пристройку дома, в котором остановился Шамиль. Однако ночью обозленный разбойник разорвал путы, свалил часового и с кинжалом в руке ворвался в комнату, где спал Шамиль. Шамиль успел схватить его за руку, но разбойник все же смог нанести ему несколько ран. Схватка продолжалась в полной темноте, пока не подоспел хозяин дома Шабан. Он выхватил пистолет и собирался прострелить разбойнику голову, выжидая лишь момент, чтобы не попасть в Шамиля. Но в темноте сам напоролся на кинжал и упал замертво. Спас Шамиля все тот же Шабан, споткнувшись о бездыханное тело которого, противники упали на пол. Тогда Шамилю удалось придавить разбойника грудью, так, что треснули ребра самого Шамиля, вырвать у него оружие и вонзить кинжал в грудь гиганта. Израненный Шамиль пролежал двадцать дней, пока смог встать на ноги. Когда же он вышел к людям, те уже не сомневались, что именно такой вождь им и нужен.
После поражения на Ахульго, когда многие считали его дело проигранным, Шамиль в глубине души чувствовал, что победил. Мрак покидал сердце Шамиля, будто кто-то незримый откинул тяжелую завесу, сотканную из бедствий и уныния. Будто отворилась пещера и впереди забрезжил свет. И Шамилю показалось, что он слышит наставление шейха Ярагского: «Всегда держи с нами связь, и ты победишь».
О том же писал ему и шейх Джамалуддин Казикумухский, убеждая Шамиля продолжить дело, возложенное на него народом. Это был его долг как имама и как горца.
Прочитав письмо, Шамиль прошептал:
– Золотая цепь… Цепь, связующая шейхов и восходящая к самому пророку, да благословит его Аллах и приветствует! Она никогда не прерывается!
Слава героя-мученика, восставшего из пепла Ахульго, привлекала к нему все новых приверженцев. Влияние Шамиля росло с каждым днем, а ряды его сторонников умножались. Он уже начал думать о средствах для продолжения борьбы, созывал советы ученых и вождей горских обществ, восстанавливал связи с оставшимися в Дагестане сподвижниками.
Жертвы, принесенные во имя свободы, не могли остаться напрасными.
Глава 126
В Ставрополе Граббе встречали как победителя. Сокрушить Шамиля – это кое-что значило. И, хотя в воздухе висели неприятные вопросы, Граббе все равно держался триумфатором.
В честь победы был устроен торжественный парад, который Граббе принимал, выстроив перед собой повзрослевших сыновей, одетых в черкески и при детских кинжалах. Общество оживилось, приемы чередовались с балами, а офицеры ждали наград и повышений в званиях. Граббе знал, что многие злорадствуют, называя Ахульго катастрофической победой, и повторяют язвительное совпадение, пущенное в общество Львом Пушкиным, что все великие сражения кончаются на «о»: Маренго, Ватерлоо, Ахульго. Но никто не смел говорить об этом в присутствии Граббе, потому что экспедиция закончилась, а будущее ее участников теперь всецело зависело от того, как о них отзовется командующий, если вообще сочтет необходимым о них упомянуть.
Екатерина Евстафьевна не верила своему счастью, видя осунувшегося, но живого и здорового мужа, вернувшегося из похода, о котором она наслушалась столько ужасов. Дети радовали родителя своим прилежанием в учебе и просили больше не уезжать. Денщик Иван на радостях принял лишнего и чуть не помер. А очнувшись, привел барину отменного цирюльника, выписанного местным купцом из самой Франции. Цирюльник и впрямь оказался чародеем и в несколько дней привел генерал-адъютанта Граббе в такой значительный вид, будто он никогда не выезжал дальше Зимнего дворца.
Обычно рано просыпавшийся, Граббе теперь наслаждался мягкой постелью и не спешил вставать. В экспедиции он брал пример с императора, у которого даже во дворце стояла походная койка, но теперь это казалось ему излишним, а комфорт – весьма заслуженным после тяжелого похода.
Отдохнув и насладившись домашними радостями, Граббе принялся составлять реляции начальству. Головину он писал сухо, лишь для формы, зато рапорт Чернышеву потребовал от Граббе всех его эпистолярных способностей. Мало было убедить старого недруга в полном успехе экспедиции, нужно было представить ее так, чтобы сам государь император поразился военному гению Граббе.
Он пустил в ход всю свою фантазию и пламенное красноречие, заглядывал в копии прежних рапортов, сверялся с записями в журнале военных действий отряда, перелистывал жизнеописания Ганнибала, призывал на помощь Милютина с Васильчиковым, Траскина и Пулло. Немалые труды его увенчались чем-то вроде торжественного гимна в честь грандиозных побед и прочих славных деяний, из которых почти сплошь состояла его экспедиция на Ахульго. Непомерные жертвы он оправдывал несравненно более важными результатами, уверяя, что партия Шамиля истреблена до основания. А уход Шамиля сквозь блокаду трактовал как недоразумение, не имевшее теперь никакого значения, ибо Шамиль был на Ахульго, а после его взятия – Шамиль уже не тот, и опасаться его не стоило.
«Хотя нам и не удалось захватить Шамиля, – писал Граббе, – но смерть или плен всех его приверженцев, постыдное его бегство, ужасный урок, данный тем племенам, которые его поддерживали, лишил его всякого влияния и поставил его в такое положение, что, скитаясь одиноким в горах, он должен только думать о своем пропитании и о спасении собственной жизни. Секта мюридов пала вместе со всеми ее представителями и приверженцами».
Сверх того, Граббе уделил немалое место успеху, который никто не мог оспорить, – взятию в заложники старшего сына Шамиля Джамалуддина. Уже одно это должно было заставить Шамиля смириться.
Граббе перечитывал рапорт и даже сам удивлялся, как ему все это удалось совершить всего за три месяца в диких горах, в постоянных схватках с джигитами, каких еще поискать. Особенно впечатляющие места он читал жене и детям для назидания, добавляя, что бумага всего не вместит, а было все куда более величественнее.
И все же, получив вызов в Петербург, Граббе затрепетал, не уверенный, что писания его произведут при дворе такое же впечатление, какое произвели они на драгоценную супругу его Екатерину Евстафьевну, которая, слушая их, несколько раз лишалась чувств – попеременно от страха и восторга.
Чернышев принял Граббе холодно. Он и прежде находил Граббе бездарным военачальником, а теперь, получив этому столь прискорбное подтверждение, был и вовсе разочарован. Граббе, которому было дано столько сил и средств, вернулся из-под Ахульго ни с чем и смел витийствовать о неких успехах. Неслыханные потери, о которых Чернышев имел верные сведения и от Головина, и от своего соглядатая Траскина, ни принесли ровно никакой пользы. Победы, о которых твердил Граббе, больше походили на поражение. Выходило, что побежденный Шамиль нанес весьма ощутимый урон Кавказскому корпусу, не говоря уже о государственной казне. Да и репутация самого Чернышева как военного министра могла значительно пострадать от сумасбродных действий его подчиненных.
Чернышев задумчиво перебирал на своем столе бумаги, а затем напомнил Граббе его обещания:
– Разбить и разогнать все скопища, а Шамиля пленить. Не так ли, милостивый государь?
Растерянный Граббе молчал, не зная, что ответить злопамятному Чернышеву. Но военный министр не стал более выговаривать генералу Граббе за очевидную нелепость его победных реляций, решив сначала дождаться мнения самого государя. Он лишь сделал на докладе Граббе помету:
«Представляемое общее обозрение блистательной экспедиции генерал-адъютанта Граббе весьма любопытно. Одного недоставало к славе оной – это взятия Шамиля, он успел скрыться. Теперь желательно знать, как генерал Граббе полагает воспользоваться как естественными, так и нравственными выгодами сей экспедиции».
Граббе попытался уверить Чернышева в полном успокоении Кавказа и окончательной гибели Имамата, а самого Шамиля объявил бесприютным и бессильным бродягой, голова которого стоит не более ста червонцев.
– Сто червонцев? – язвительно усмехнулся Чернышев.
– Она стоит куда больше, жаль только – не продается.
После неудачной аудиенции у Чернышева, опечаленный крушением своих надежд, Граббе с тревогой ожидал, как соизволит отозваться о его деяниях сам император. Он не сомневался, что Чернышев постарается уничтожить Граббе, возбудив в императоре гнев за провал экспедиции.
– У меня здесь врагов больше, чем на Кавказе, – горестно размышлял Граббе.
– Там не враги, там только бунтари. С ними разговор простой, а со своими – вот наука!
Траскин не особо полагался на реляции, а потому явился в Петербург с богатыми дарами. Драгоценное кубачинское оружие, роскошные бурки, чудесные украшения оказывались в высоких кабинетах как бы сами собой. Свои подношения могущественным и полезным людям Траскин скромно именовал сувенирами. Он даже императрице нашел способ поднести изумительный подарок – веер из слоновой кости, покрытый золотой насечкой, который весьма ей понравился. Теперь Траскин мог не беспокоиться о своем будущем и сочувственно поглядывал на Граббе, карьеру которого считал конченой.
Но у Граббе был припасен подарок куда более дорогой и значительный. И в ожидании высочайшей аудиенции генерал решил не терять времени даром. Он обратился к императрице Александре Федоровне с просьбой принять его по весьма деликатному делу. Узнав о необычайной цели его визита, императрица сразу же согласилась.
Подарком Граббе была удивительной красоты синеглазая девочка. Эта прелестная юная горянка, которую звали Муслимат, оказалась дочерью ближайшего сподвижника Шамиля Сурхая, как бы князя, большого ученого и замечательного инженера, стараниями которого гора Ахульго была превращена в неприступную крепость.
– Она очаровательна! – восторгалась императрица, тронутая красотой девочки.
– Сколько же ей лет?
– Шесть, ваше императорское величество, – отвечал Граббе, польщенный произведенным эффектом.
– Родители ее пали на Ахульго, хотя и была им обещана пощада, если сдадутся.
– Так эта сиротка к тому же и пленная? – всплеснула руками Александра Федоровна.
– Не совсем, ваше императорское величество, – замялся Граббе.
– Но верно то, что найдена была среди убитых и раненых на самом Ахульго.
– А что это у нее на лбу? – всмотрелась императрица.
– Рана, ваше императорское величество, – объяснил Граббе.
– Но все уже зажило.
– Бог мой! – обняла девочку императрица.
– Я о ней непременно позабочусь!
Муслимат заплакала, не понимая, кто эти люди, живущие в таком огромном красивом доме, о чем они говорят и почему так ласковы с ней.
– Не печалься, дитя мое, – промакнула ей слезы императрица.
– У меня тебе будет хорошо. Мне и самой жаль, что ты лишилась родителей, но на все воля Божья, милая Масал… Мусал…
– Муслимат, – подсказал Граббе.
– У нас она будет… Александрой, как и я, – решила императрица, обращаясь к своим фрейлинам.
– Сдается мне, сей ангел несколько диковат. Так пусть ее возьмут в воспитательный дом да хорошенько позаботятся, пока не обучится языку и манерам. И пусть почаще привозят ко мне, чтобы я была ей как мать.
– Как будет угодно вашему величеству, – кланялись фрейлины.
– У меня она будет как дома, – заверила императрица Граббе.
– Вы хорошо сделали, генерал, что привезли ее.
Император Николай I принял Граббе на следующий же день и был к нему неожиданно милостив. Присутствовавший на аудиенции Чернышев скрежетал зубами, почуяв, что Граббе сумел его переиграть, но внешне являл чрезвычайное почтение к генералу.
Николай, по привычке глядя куда-то вдаль сквозь трепещущего Граббе, говорил почти механически, изредка сверяясь с поданной флигель-адъютантом бумагой:
– С самого начала в нынешнем году военных действий в Северном Дагестане все войска, вверенные начальству вашему, явили многочисленные подвиги мужества изумительного, храбрости необыкновенной. В течение трех месяцев, преследуя неослабно возмутившиеся скопища под предводительством Шамиля, они всюду поражали мятежников среди их убежищ, самою природою укрепленных, и геройские подвиги свои увенчали после нескольких штурмов взятием замка Ахульго, несмотря на самое отчаянное сопротивление горцев и недоступность места, крепостью своею превосходящую всякое вероятие. Начальствуя вверенными вам войсками, вы всегда воодушевляли их своим примером; благоразумною же предусмотрительностью, отличными распоряжениями, решительностью предуготовили войскам путь к блестящим подвигам и совершенной победе. В ознаменование нашего особенного к вам благоволения и в справедливое воздаяние заслугам вашим всемилостивейше жалуем вас Кавалером ордена Святого Благоверного Великого Князя Александра Невского, знаки коего при сем препровождая, пребываем императорскою нашею милостью к вам благосклонны.
Тронутый монаршим вниманием и рассыпаясь в благодарностях, Граббе с поклоном принял от императора награду. Стиль императорской благосклонности больше походил на письмо, и это говорило о том, что император не собирался принимать Граббе. А потому аудиенция приобретала особый, значительный смысл, дававший Граббе надежду на благополучный исход дела. Орден же Александра Невского – красный крест с двуглавыми орлами в промежутках, хотя и оказался без бриллиантовых украшений, которые означали особую степень награждения, но все же был вторым по значению после ордена Андрея Первозванного. Граббе предпочел бы получить орден Святого Георгия 2-й степени, орден чисто военный, высокочтимый и который имели очень немногие. Но после аудиенции у Чернышева Граббе был рад и этому.
Однако резолюция, наложенная Николаем на полях доклада Граббе, спустила его с небес на землю. Император соизволил собственноручно надписать: «Прекрасно, но жаль очень, что Шамиль ушел; и признаюсь, что опасаюсь новых его козней, хотя неоспоримо, что он лишился большей части своих способов и своего влияния. Посмотрим, что дальше будет».
Что означало это «посмотрим», жестко разъяснил Чернышев. Граббе оставляли на прежней должности с условием, что он, наконец, захватит Шамиля, а горцев приведет к безусловному повиновению. Граббе пообещал, что все исполнит, разоружит горцев и больше не позволит им обманывать начальство призраком покорности. Затем составил проект системы управления горскими народами и отправился претворять его в жизнь.
О свободах и вольностях, обещанных им солдатам и их семьям, Граббе не стал даже упоминать.
– Шамиля-то не взяли, – оправдывал себя Граббе.
– Хватит с них и наград.
Все участники экспедиции на Ахульго получили серебряные медали с надписью «За взятие штурмом Ахульго в 1839 году» на Георгиевских лентах. Кроме того, каждый получил по серебряному рублю и двойной винной порции. Офицеры получили награды и повыше, о чем Граббе, которому еще предстояло с ними служить, сделал самые положительные представления. Отличившимся полкам и батальонам были пожалованы знамена с надписью «За отличие при взятии штурмом Ахульго 22 августа 1839 года». Головин сделался полным генералом, получив звание генерала от инфантерии. Граббе же остался при своем свитском звании генерал-адъютанта.
Затишье, воцарившееся в горах после Ахульго, Граббе счел благодатной почвой для введения новых порядков. Наученный горьким опытом, он преодолел искушение покончить с Шамилем одним ударом и решил применить к горцам особую систему действий, совмещая административные шаги с военным натиском.
Для начала Граббе назначил повсюду своих приставов и потребовал от горцев выдачи аманатов и по одному ружью с каждых десяти домов. Им также было велено отказаться от помощи Шамилю и не давать убежище мюридам. Без дозволения начальства запрещалось переходить на жительство из одного аула в другой и ездить внутри Кавказской линии с оружием. Кроме того, горцы были обложены всевозможными повинностями и податями, но последние брались не деньгами, а тем же оружием. Ханы воспряли духом, надеясь вернуть утраченное, но даже они предостерегали Граббе от столь оскорбительного для горцев лишения их оружия, в котором заключалось нечто большее, чем средство обороны. Оружие горцев воплощало в себе их достоинство, гарантию независимости и семейную реликвию. Даже полностью обезоружив горцев, нельзя было надеяться, что они, когда понадобится, снова его не найдут.
Однако первые результаты новой системы вселяли в Граббе радужные надежды. Но это была лишь иллюзия покорности. Если кто и отдавал оружие, то старое или испорченное. В аманатах оказывались не люди из влиятельных семей, как того требовал Граббе, а те, от которых общества и сами желали избавиться. А пугающие слухи о грядущем поголовном разоружении, обращении горцев в крестьян, введении воинской повинности и даже запрещении женщинам носить платки и шальвары привели к тому, что целые аулы, не спрашивая никакого начальства, уходили к Шамилю.
Дело кончилось тем, что чеченцы предпочли управлению Граббе власть Шамиля и провозгласили его своим имамом. Влияние Шамиля неудержимо росло и скоро распространилось далеко за пределы Чечни, потому что люди очень скоро убедились в том, что законы Имамата подходят им больше, чем новые порядки. Многие из назначенных приставами старшин приходили к Шамилю и разбивали перед ним старшинские значки. Реальная власть вновь оказалась в руках Шамиля и его наибов, а Граббе слишком поздно понял, что сам этому немало поспособствовал. В мечтах он видел себя пожинающим плоды победы на Ахульго, укореняющим в горах покорность и смирение, а на деле взрастил держидерево.
Когда волнения перекинулись в Дагестан, Милютин, ставший к тому времени гвардейским штабс-капитаном, записал в своем дневнике:
«Казалось, спокойствие и порядок водворились на Левом фланге Кавказской линии в Дагестане, но, к сожалению, ненадолго: видимое это успокоение, такими огромными пожертвованиями приобретенное, было только временною тишиной перед новой бурей!»
Уже весной следующего года Шамиль вернулся в Дагестан во главе большого отряда. Но первым делом принялся не за военные действия, а за восстановление административной системы Имамата и введение новых законов. Главными из принятых Государственным советом решений были отмена рабства и работорговли и обязательное образование для всех.
Затем произошло событие, изменившее очень многое. Прапорщик Хунзахской милиции знаменитый храбрец Хаджи-Мурад перешел к Шамилю и стал его наибом. Следом за ним перешла к Шамилю и та часть Аварии, которая еще оставалась за Хунзахским ханством. Борьба сделалась всенародной.
Граббе пытался остановить Шамиля, воины которого брали одну крепость за другой. Генерал вновь и вновь бросал против имама войска, пока Шамиль не заставил его жестоко поплатиться за Ахульго. В чеченских лесах десятитысячный отряд Граббе был наголову разбит, потерял обоз и артиллерию, а сам Граббе спасся лишь чудом, которое потом сравнивал с чудом спасения Шамиля из Ахульго. То был последний поход Граббе на Кавказе, когда он поставил на карту все, пытаясь захватить Шамиля в Дарго – новой столице Имамата. Это переполнило чашу терпения императора, и Граббе был уволен от должности. Тогда же был смещен и Головин.
Дела на Кавказе приняли совершенно неожиданное направление.
Шамиль сделался грозным владыкой гор. Но свое могущество он употребил не на расширение военных действий, а на объединение племен и прочное утверждение в горах Имамата – государства свободных людей разных народов и вер. Шамиль воздвигал общество, где граждане обретали права, о которых смелые умы остального человечества только еще мечтали.
Эпилог
Через десять лет после Ахульго Граббе принял участие в Венгерском походе, а еще через четыре года, состоя членом Комитета инвалидов, был предан суду за крупные растраты, которые случились в комитете и за которыми он не усмотрел. Но царь помиловал своего генерал-адъютанта, ограничившись строгим выговором. Во время Крымской войны Граббе стал военным губернатором Ревеля и сделался, наконец, полным генералом, получив звание генерала от кавалерии. Позже Граббе стал наказным атаманом Войска Донского, был возведен в потомственное графское достоинство, а затем назначен членом Государственного совета. Умер Граббе в своем имении в 1875 году.
Сыновья Граббе стали военными. Старший, Николай, дослужился до генерал-лейтенанта. Другой, Михаил, стал генерал-майором и погиб в русско-турецкой войне 1877 года, штурмуя Карс.
Александр, штаб-ротмистр, получил смертельное ранение при подавлении очередного Польского восстания. Младший, Владимир, тоже много воевал и стал генерал-майором. Супруга Граббе повредилась в уме, и жизнь ее имела печальный конец.
Сын Шамиля Джамалуддин, отданный в аманаты при Ахульго, которого Граббе в письме военному министру Чернышеву называл «мальчиком бойким и свыше лет умным», был увезен с Кавказа и определен в кадетский корпус. Он вырос и возмужал в России, стал почти европейским человеком. Через пятнадцать лет разлуки Шамиль вернул своего сына, обменяв его на плененные в Кахетии княжеские семьи Чавчавадзе и Орбелиани. Поручик Джамалуддин Шамиль, гвардейский уланский полк которого стоял в Польше, был вызван к царю и на предложение вернуться к отцу дал незамедлительное согласие. Николай поблагодарил его за службу, похвалил сыновнюю преданность и велел передать отцу, что зла ему не желает и что виноваты во всем кавказские начальники, не умеющие как следует вести дела. Но в Дагестане Джамалуддин чувствовал отчужденность, тосковал по оставшейся в России невесте и близким друзьям, писал письма знакомым генералам, стараясь склонить их к миру с Шамилем. Отцу он рассказывал о России, которая сама тяготилась несвободой и крепостным правом, а война лишь продлевала эту агонию. Но тогда чаяниям Джамалуддина не суждено было сбыться. Туберкулез, открывшийся у Джамалуддина, усугубил его страдания, и он умер в Карате через четыре года после возвращения на родин у.
Джавгарат, жена Шамиля, оставшаяся в ахульгинской пещере, прожила еще несколько дней. Оставшийся с ней Тагир рассказывал потом, что следом за матерью умер от истощения и сын Шамиля Саид. Тагир ничем не мог им помочь, потому что войска Граббе еще целую неделю громили остатки крепости на Ахульго. Через год Шамиль вернулся туда, где оставил жену и сына. Он нашел их среди нанесенных новым половодьем камней и похоронил на Ахульго.
Милютин обобщил опыт войны и, став профессором военной географии и статистики Императорской Военной Академии, выпустил несколько пособий для офицеров, в числе которых было и «Наставление к занятию, обороне и атаке лесов, деревень, оврагов и других местных предметов». При окончании войны в Дагестане Милютин был уже начальником Главного штаба Кавказской армии. Он дослужился до военного министра и генерал-фельдмаршала, удостоился высших орденов, в том числе и ордена Святого Георгия 2-й степени, о котором напрасно мечтал Граббе. Милютин был возведен в графское достоинство и прожил почти сто лет. Среди главных своих наград граф особенно ценил скромный знак отличия «За введение в действие Положения 19 февраля 1861 года», которого удостоился за рвение, с которым способствовал отмене крепостного права и освобождению крестьян в России. Экспедицию на Ахульго он описал в отдельной книге воспоминаний, снабженной собственными рисунками.
Рассказ о судьбах других участников нашего повествования составил бы новую книгу, а потому ограничимся лишь некоторыми, которые, возможно, не появятся на страницах следующих романов.
Лиза вырастила мальчика, привезенного из Ахульго, как сына. Получив наследство мужа, она отправила сына учиться за границу, после чего он поступил на дипломатическую службу. Не забыв о Кавказе, Лиза открыла в Петербурге магазин, где предлагались дагестанские ковры, украшения и прочие произведения горских мастеров. Тут же можно было найти и сушеные фрукты, коих прежде в столице не пробовали. Особенно большим спросом все это пользовалось у ветеранов-кавказцев и почитателей произведений Марлинского.
Для Аркадия Синицына Лиза выхлопотала прощение как повредившемуся в уме от душевной болезни. Она брала его с собой на Воды, на Кавказ, куда ее тянуло после гибели мужа. Синицын лечиться отказывался, а в доказательство своего здравого рассудка учредил в Пятигорске цирк, где собрал лучших наездников и пехлеванов со всего Кавказа. Джигиты демонстрировали публике чудеса вольтижировки, а канатоходцы поражали своими трюками. Аркадий порой и сам ходил по канату, взяв себе псевдоним Айдемир. О своей бывшей невесте, которая к тому времени родила мужу-полковнику сына, Аркадий уже не вспоминал.
Дочь Сурхая Муслимат была наречена Александрой Павловной. Обряд проходил в Зимнем дворце при попечительстве императрицы и Граббе. В Институте благородных девиц она получила хорошее воспитание и выросла прелестной девушкой. Императрица очень к ней привязалась и ласкала так, будто она принадлежала к царской семье. Она часто бывала во дворце, где как равная вела себя в обществе великих князей и княжон. Юный Константин, сын императора, влюбился в девушку без памяти, говорил, что женится на ней и станет владетельным князем на Кавказе. Но на четырнадцатом году жизни дочь наиба Сурхая внезапно заболела чахоткой и вскоре умерла. Императрица призывала лучших докторов, надеялась, что девушка поправится, молилась за нее, а когда случилось непоправимое, горестно оплакивала свою любимицу.
Ефимка, воспитанник артиллерийской роты, остался в Дагестане. После того, как он выручил пленных ребят, чтобы они не попали к помещикам, от которых он сам сбежал на Кавказ, Ефимка сделался почетным человеком. Он принял имя Али и, когда подрос, стал мюридом Шамиля. Он прожил долгую, богатую событиями жизнь и часто вспоминал ту чудесную девочку Муслимат, которую пытался спасти во время осады Ахульго.
Генерал-майор Пантелеев, тяжело раненный при Аргвани, которого многие считали погибшим, выжил. Он лечился целый год, на что царь пожаловал ему пособие в десять тысяч рублей, но остался инвалидом с хроническим страданием груди и неполным владением правой рукой. Имея большую семью, Пантелеев хотел служить и дальше. Он был зачислен по армейской пехоте без должности, затем сменил несколько тыловых должностей и дослужился до генерал-лейтенанта. Вскоре после выхода в отставку с мундиром и пенсией Пантелеев скончался. Вдова, которой выплачивалась половина пенсии мужа, выхлопотала увеличение содержания, ссылаясь на то, что денег на семью не хватает и что у нее было только пять душ крестьян, да и те ушли по реформе. В увеличении содержания ей помог Милютин, служивший тогда в императорской свите.
Князь Васильчиков продолжал служить адъютантом Граббе, а затем быстро продвинулся по служебной лестнице. В Крымскую войну он уже был начальником штаба Севастопольского гарнизона и последним покинул разрушенный город. Затем, служа в Военном министерстве и зная злоупотребления интендантов, добился отмены откупной системы в армии, а следом – и во всей России. Он дослужился до генерал-адъютанта и завершил карьеру управляющим Военным министерством. На этом посту Васильчикова сменил его старый приятель Милютин.
Молва о сражении на Ахульго всколыхнула весь Кавказ, проникла в Россию, облетела Восток и Запад. Имя Шамиля стало известно повсюду.
События 1839 года оказались столь значимыми, что их решено было увековечить и посредством живописи. Работу поручили Францу Рубо, который и создал грандиозную панораму «Штурм аула Ахульго». Панорама имела большой успех и принесла автору звание академика.
В народе Ахульго почитается как святыня. И люди не перестают посещать знаменитую гору, сравнивая свое восхождение на Ахульго с паломничеством

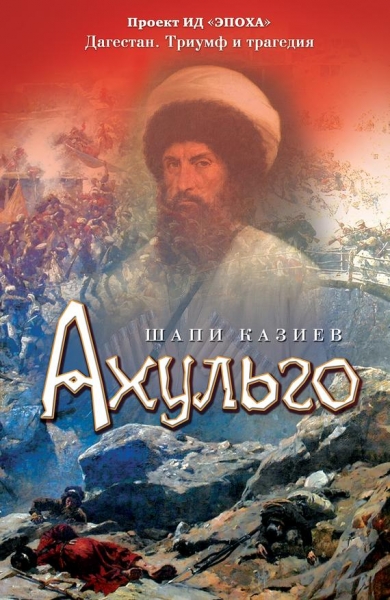



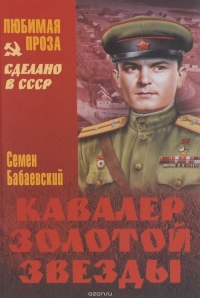

Комментарии к книге «Ахульго», Шапи Магомедович Казиев
Всего 0 комментариев