Франческо Гверацци Беатриче Ченчи Роман-быль XVI века
Глава I. Франческо Ченчи
Тот, кто сумел бы передать красками группу, ожидавшую Франческо Ченчи в зале его дворца, создал бы что-то, если и не столь прекрасное, как Мадона дела Седжиола Рафаэля, то во всяком случае нечто к ней близкое. Молодая женщина лет двадцати сидела на ступенчатом подоконнике высокого окна, держа на груди ребенка; сзади стоял красивый молодой человек и любовался этой нежной картиной. Его руки, сложенные как для молитвы, точно благодарили Бога за счастье, которое он послал ему. Выражение лица и глаз показывали, что его волновали разом три чувства, делающие из человека что-то почти божественное: сложенные руки возносились к Богу, взгляд, исполненный нежности, обращался к сыну, улыбка – к жене. Молодая женщина, вся поглощенная материнскою заботливостью, не видела этой улыбки. Ребенок казался ангелом с неба, заблудившимся на земле.
В другом конце залы, развалясь на скамье, сидел человек, который как нельзя лучше мог бы служить натурщиком Микельанджело. Лицо его едва виднелось из-под широких полей остроконечной шляпы. Длинная, седая борода была всклокочена; кожа на лице, подобная той, которую Иеремия оплакивает у детей Сиона, была темна и суха, как внутренность очага. Он был завернут в широкий плащ; ноги, сложенные одна на другую, обуты в сандалии, какия обыкновенно носили крестьяне из римских деревень. По всей вероятности он был вооружен, но скрывал оружие, потому что римский двор после папы Сикста V был очень строг с теми, кто поступал вопреки запрещению.
Двое молодых людей ходили по зале то скорыми, то медленными шагами, обмениваясь словами иногда вслух, а иногда вполголоса. Лицо одного из них было покрыто красными золотушными пятнами; из-под воспаленных век блестели черные зрачки, в которых просвечивалась жестокость, смешанная с чем-то, похожим на безумие. Волосы редкие и торчащие, испорченные зубы, приплюснутый нос и отвисшие щеки придавали ему сходство с легавой собакой. Богатая одежда его была в беспорядке, засохшие губы произносили хриплым голосом гнусные и буйные слова. Так и видно было, что в нем таилось преступление, как волк, готовый извергнуться. Другой был бледен и приятной наружности: с густыми, русыми кудрями, с грустным взглядом и медленной речью. Рассеянный, часто вздыхая, он останавливался, вздрагивал и внутреннее волнение обнаруживалось трепетом верхней губы и дерганьем бакенбардов. В одежде его всё было изысканно. Увидевший его сразу сказал бы: он вздыхает от любви.
Тут был еще старый священник, который первый нарушил молчание, обратившись с каким-то вопросом к гайдуку, который стоял в зале, и казалось уже готов был дать ему ответ, как вдруг господин с злодейским лицом надменно позвал его:
– Камило!
Натура слуг такова, что если у них нет других причин гнуть спину, то они слушаются тех, кто ими надменнее повелевает; и гайдук Камило, хотя он и далеко не был из самых дурных среди многочисленной, домашней прислуги, все-таки повернулся, точно на пружине, спиною к курату, и согнувшись в три погибели, смиренным голосом ответил:
– Эчеленца!
– Может быть, благородный граф дурно спал эту ночь?
– Не знаю, впрочем не думаю. На заре пришли письма, большею частью из Испании и королевства; – может быть, впрочем, я этого не знаю, может быть он их читает теперь.
В эту минуту неистовый лай собаки оглушил присутствующих: немного погодя, двери из комнаты графа распахнулись от сильного толчка, и из них выбежала огромная собака, разъяренная и вместе перепуганная.
Мужик, лежавший у двери, вскочил на ноги, и высвободив руку из под плаща и выхватив широкий кинжал, длиною в добрых две пальмы[1], приготовился к защите. Молодая мать прижала ребенка к груди и закрывала его обеими руками. Отец стоял перед женою и сыном, чтоб заслонять их собою. Двое прогуливавшихся господ посторонились с приличной быстротой, в которой виднелось и нежелание наткнуться на опасность, и в то же время нежелание показать страх перед этой опасностью.
Разъяренное животное лаяло неистово.
В это время на пороге показался старик. Это был Франческо Ченчи.
Франческо Ченчи, латинская кровь которого происходила от древнейшей фамилии Чинчиа, считал между своими предками папу Иоанна X. Фамилия эта отличалась как древностью происхождения, так и древностью злодеяний.
Франческо Ченчи обладал большим богатством, ежегодный доход его превышал сто тысяч скудо; в те времена это казалось несметным богатством, да и в наше время это считалось бы не малым. Наследство это оставил ему отец, который заведывал церковной казной при Пие V; и в то время, как последний заботился об очищении света от ереси, старый Ченчи старался очистить казну от денег: оба были достойны друг друга, каждый в своем роде. О Франческо Ченчи трудно было и знать, что думать; может быть, ни об одном другом человеке молва не была так разноречива, как о нем. Одни прославляли его за благочестие, щедрость, доброту, великодушие; другие, напротив, говорили, что он скуп, жесток и груб. Но дело в том, что в пользу обоих мнений можно было приводить доказательства. У него было несколько тяжб, но из всех их он выходил оправданным. Многие, однако, не довольствовались таким исходом и продолжали роптать, говоря, что еще до сих пор не видели примера, чтоб римский суд осудил когда-нибудь людей., имеющих сто тысяч дохода. Но если жизнь его казалась таинственной публике, то все злодейства его были совершенно явны для его несчастной семьи, которая из чувства стыда, а еще более из страха, не смела произнести о них ни слова. Семья его слишком хорошо знала, каким для него было наслаждением изобретать самые ужасные зверства, и чем они были страшнее, чем больше против них было общественное мнение, тем более они приходились ему по душе. Всякая выдумка этого рода должна была тотчас и во что бы ни стало приводиться в исполнение, – все равно, нужно ли было для неё издержать огромные деньги, устроить пожар или несколько убийств. Он имел обыкновение (до такой наглости дошел он) вести подробный счет своим издержкам на злодейства; и в его книге воспоминаний были записаны следующие подвиги: на бедствия и испытания Тосканеллы 3300 цехинов, – это не дорого. На похождения разбойников в Терни, 2000 цехинов, – это деньги брошенные. Разъезжал он всегда один, верхом, и когда замечал, что лошадь уставала, бросал ее и покупал другую; если ему не соглашались продать, он брал силою и в придачу еще наделял несколькими ударами кинжала. Опасность от нападения разбойников не останавливала его нигде, и он проезжал один через леса Сен-Жермано и Файолы; часто даже он отправлялся, ни мало не задумываясь, верхом из Рима в Неаполь. Появление его в каком-нибудь месте показывало, что произойдет, наверное, грабеж, пожар, или убийство, или вообще какое-нибудь большое бедствие.
Он обладал замечательной силой и был очень ловок во всякого рода телесных упражнениях; рассчитывая на это, он часто затевал ссоры со своими врагами, нанося им оскорбления и насмешки; но открытых врагов у него было не много, потому что его очень боялись и раздумывали прежде, чем решались сразиться с ним. Он постоянно содержал целую шайку разбойников; двор его палаццо был убежищем для всякого рода злодеев. Между жестокими римскими баронами он был самым жестоким.
Сикст V, римский папа, пригласив как-то в Ватикан синьоров Орсини, Колонна, Савели, графов Ченчи и других, из числа самых могущественных римских вельмож, после нескольких минут приятной беседы с ними, подошел к открытому балкону и, обратив взор свой на лежащий у ног город, сказал присутствующим:
– Или зрение мое помутилось от старости, или точно стены дворцов ваших, сиятельнейшие вельможи, украшены каким-то странным убранством: подите узнайте, что это такое, и сделайте одолжение, дайте мне знать.
Это были повешенные тела разбойников, укрывавшихся во дворцах присутствовавших вельмож. Папа велел схватить их и без всякой жалости повесить на зубчатых стенах дворцов.
Франческо Ченчи, после этого и нескольких других случаев, показавших ему вполне характер папы, счел более удобным убраться подальше; и до самой смерти его оставался в Рока-Петрела, прозванную Рока-Рибальда[2].
Ченчи был очень сильного сложения и, несмотря на преклонные лета, обладал вообще крепким здоровьем, только правая нога у него болела и он хромал. Одаренный воображением и даром слова, он мог бы приобрести славу замечательного оратора, будь другие времена, и не заскакивай его язык, при малейшем волнении, между зубами, отчего голос его походил на звук воды, бегущей между каменьями. Наружность Ченчи далеко нельзя было назвать некрасивой; но при этом у него было такое злобное выражение лица, что ему ни разу не удавалось внушить к себе любви, редко когда уважение, и слишком часто ужас. За исключением волос, превратившихся из черных в белые, нескольких морщин и цвета кожи, принявшей более желтый, желчный оттенок, лицо его оставалось таким точно, каким было и в молодости. Когда он бывал спокоен, на лбу его едва виднелась морщина, не та глубокая морщина, которую накладывает угрызение совести или забота, по едва заметная, легкая черта, которую иногда робко проводит любовь своим крылом на челе отцветающей красоты. Глаза его, обыкновенно грустные, оловянного цвета, как глаза разварной рыбы, без всякого блеска, окаймленные серыми кругами, и исполосованные кровяными, багровыми жилками, похожи были на труп в свинцовом гробу. Тонкие губы терялись в морщинах, покрывавших щеки. Лицо это одинаково пристало бы святому и разбойнику; мрачное, неразгаданное, как сфинкс, или как репутация самого графа Ченчи.
Кажется, я сказал уже довольно о его особе и его нраве. Ниже я постараюсь набросать психологический этюд этой замечательной личности.
Накануне, вечером, граф рано удалился на свою половину, не простившись ни с женою, ни с детьми. Слуге своему, Марцио, когда тот, по обыкновению, хотел ему прислужиться, он сказал:
– Ступай прочь; с меня хватит Нерона.
Нерон был огромный и очень злой пес. Ченчи дал ему имя не столько в память жестокого императора, сколько потому, что слово это, на древнем, самнитском языке, означало: сильный или храбрый.
Улегшись, Ченчи начал поворачиваться на кровати, потом стонать от нетерпения; мало-помалу нетерпение перешло в ярость, и он начал реветь. Нерон отвечал ему с своей стороны тоже ревом. Немного погодя, граф вскочил с ненавистного пуховика и воскликнул:
– Пожалуй, отравили простыни!.. Тому был уже пример, я читал в какой-то книге… Олимпиа! А, ты у меня бежала, но я доберусь до тебя!.. Никто не должен миновать моих рук… никто!.. Что это за тишина кругом меня! Что за мир во всем доме? Все покоятся… значит я не тревожу их?.. Марцио!
На зов тотчас прибежал слуга.
– Марцио, – спросил граф: – что делает семья?
– Все спят.
– Все?
– Все, – так по крайней мере кажется, потому что все тихо в доме.
– И когда я не могу заснуть, в моем доме осмеливаются спать?.. Поди, посмотри, точно ли спят; послушай у дверей, особенно у Виргилиевой комнаты; задвинь потихоньку двери снаружи и возвращайся.
Марцио пошел.
– Этого я больше всех ненавижу, – продолжал граф: – под этой оболочкой невозмутимого спокойствия кипит волна неповиновения! Змея без языка, но не без яду! Когда я дождусь твоей смерти?
Марцио, вернувшись, объявил:
– Все спят, и дон Виргилий также; но сном тревожным, сколько можно судить по лихорадочному дыханию.
– Ты запер его?
Марцио отвечал наклонением головы.
– Хорошо. Возьми это ружье, выстрели из него в дверь виргилиевой комнаты, и потом кричи во все горло: «огонь! огонь!» Вот я их научу, как спать, когда я не сплю.
– Эчеленца…[3]
– Что тебе?
– Я не скажу вам: сжальтесь над умирающим ребенком…
– Продолжай…
– Да ведь этим подымешь тревогу в целом околотке.
Граф, не смутившись ни на волос, сунул руку под подушку, вытащил оттуда пистолет и направил его на слугу; когда тот изменился в лице от страха, он мягким голосом сказал ему:
– Марцио, если еще раз, вместо того, чтоб повиноваться, ты вздумаешь противоречить мне, я убью тебя, как собаку!.. Ступай!
Марцио пошел, более чем медленно, исполнить приказание.
Невозможно описать ужаса, в каком проснулись женщины и ребенок. Они вскочили с постелей, кинулись к дверям; но не имея возможности открыть их, начали кричать, умолять, чтоб им сказали, что случилось, просить, ради Бога, чтоб их отперли и снесли от страшного беспокойства. Ответа не было. Выбившись из сил, они бросились на постели, стараясь хоть в тревожном сне найти себе отдых.
Часа через два граф опять зовет лакея и спрашивает:
– Что, светло?
– Нет, ваше сиятельство.
– Отчего не светло еще?
Марцио пожал плечами. Граф покачал головой, как бы смеясь сам над своим вопросом:
– А скоро ли начнет светать?
– Через час.
– Через час!.. Да ведь час, это вечность для того, кто не может спать! О, мой… смотри, я чуть-чуть не прибавил – Бог. Говорят, что сон – спутник праведников. Если б это была правда, я бы должен спать, как спали семь спящих дев, – все вместе… Что же делать теперь?.. А! употребим этот остаток ночи на какое-нибудь похвальное дело; – займемся воспитанием Нерона!
И он велел Марцио взять какую-то соломенную куклу и отнести ее в зал, куда выходили комнаты его жены и детей; сам он отвел Нерона в другую комнату и стал дразнить и задорить его, потом, распахнув вдруг дверь в залу, пустил его на соломенную куклу. Собака, не помня себя от ярости, прыгая и лая отчаянно, кидается на куклу и рвет ее на клочки. Граф находил особенную отраду, любуясь подвигами этого животного, и вот что говорил он Марцио:
– Это сын мой возлюбленный, и я воспитал его так, чтоб он мог защищать меня от врагов и от друзей, в особенности от моих возлюбленных детей; от жены, еще более любимой, а также немножко и от тебя (и при этом он трепал его по плечу), мой вернейший Марцио.
Нагнавши таким образом страх и ужас на весь дом, он вернулся в свою комнату, где уже потребность самой натуры, побежденной усталостью, принудила его отдаться краткому и прерывистому сну. Когда он встал, лицо его было пасмурно.
– Я видел скверный сон, Марцио!.. Мне снилось, что я обедал с моими покойниками. Это означает близкую смерть… Но прежде, чем я отправлюсь туда обедать, многие, Марцио, очень многие опередят меня, чтоб приготовить мне стол.
– Ваше сиятельство, пришли письма из королевства с нарочными…
Граф протянул руку за ними. Марцио продолжал:
– И из Испании с обыкновенной почтой; я их положил в кабинете на бюро.
– Хорошо. Идем…
И поддерживаемый Марцио, сопровождаемый Нероном, старик отправился к кабинету.
Великолепное августовское солнце едва всходило, золотя своими юными лучами лазоревый небосклон.
Граф подошел к балкону и, глядя на величественное светило, бормотал какие-то таинственные слова. Марцио, проникнутый радостью при виде этого великолепного неба и света, не мог удержаться, чтоб не воскликнуть:
– Божественное солнце!
При этом возгласе, глаза графа, обыкновенно потухшие, загорелись подобно молнии в туче, и он устремил их на небо. Если правда, что Юлиан-отступник бросил в небо кровь, которая текла из его смертельной раны, то он должен был бросить ее именно так, как был брошен этот взгляд, и с таким же намерением.
– Марцио, если б солнце было свечой, которую можно потупил, дунув на нее, ты бы потушил ее?
– Я? Боже упаси, эчеленца! Я оставил бы его, пусть горит.
– А я так – потушил бы!
Калигула желал, чтоб у римского народа была одна голова, чтоб отрубить ее одним ударом; граф Ченчи желал уничтожить солнце.
Он сел к письменной конторке, развернул и прочел одно письмо, затем другое, третье, сперва спокойно, потом с раздражением, и наконец все они полетели в сторону, сопровождаемые бранными словами.
– Все счастливы! О, Боже! ты это делаешь, право, мне на зло!
И, сжав кулак, он опустил его изо всей силы. Случаю было угодно, чтоб кулак попал прямо в лоб Нерону, который, подняв морду, следил внимательными глазами за движениями своего хозяина. Собака подскочила от злости и кинулась в дверь, распахнула ее и скрылась, ворча и лая. Граф принялся звать ее и наконец последовал за нею, проговорив с горьким смехом:
– Видишь, Марцио, будь это сын, он бы укусил меня!
Глава II. Преступление
Марцио пригласил господина с красным лицом войти в кабинет к графу, который ждал его, стоя, и едва лишь увидел его, поклонился с большой любезностью, говоря:
– Добро пожаловать, князь: в чем можем мы вам быть полезны?
– Граф, мне нужно поговорить с вами, только тут есть лишний.
– Марцио, выйди.
Марцио, поклонившись, вышел. Князь пошел вслед за ним, чтоб удостовериться, что он хорошо закрыл дверь; задернул занавеску и потом подошел к графу, не мало удивленному всеми этими предосторожностями. Граф попросил его сесть и, не делая ни малейшего движения, приготовился слушать.
– Граф! теперь Катилина начнет свою исповедь. Но прежде всего скажу вам, что, уважая в вас человека с сердцем и умом, могущего помочь и советом и рукою, я обращаюсь к вам и за тем и за другим, и надеюсь, что вы мне не откажете.
– Говорите, князь.
– Моя бесстыдная родительница, – начал князь тихим голосом: – своим развратом позорит дом мой, и частью и ваш, как состоящий в родстве с нашим. Лета, вместо того чтоб потушить, только разжигают в её старых костях позорное сладострастие. Огромный доход, доставшийся ей по распоряжению моего глупого отца, она расточает со своими гнусными любовниками. По всему Риму ходят на нее памфлеты. Я вижу насмешки на всех лицах; куда бы я ни пошел, я слышу оскорбительные речи… Кровь кипит в моих жилах… Зло дошло уже до такой степени, что нет другого средства, кроме… Ну, скажите мне, граф, что мне делать?
– Светлейшая синьора Констанция ди-Санта-Кроче! Да в своем ли вы уме?.. Полноте. Если вы это говорите, чтоб посмеяться, то я вам советую выбирать шутки поприличнее; если же вы говорите серьёзно, то убеждаю вас, сын мой, не поддаваться искушениям диавола, который, как отец лжи, смущает умы коварными образами…
– Граф, оставим диавола в покое. Я могу доставить вам доказательства слишком явные и позорящие.
– Посмотрим.
– Слушайте. Она оставляет меня, так сказать, по уши в нищете, между тем как сама она тратит все доходы на гайдуков и лакеев и на целую ватагу детей их, которые свили гнездо во дворце не хуже ласточек. Меня она с глаз гонит; не хочет слышать обо мне; – обо мне, граф, слышите, обо мне, который бы и думать не посмел о том, что она делает, если б она обращалась, как достойная мать с достойным сыном. И, чтоб уж сразу открыть вам все, вчера она выгнала меня из дому… из моего дворца… из дворца моих предков!..
– Дальше, есть еще что?
– Да разве этого мало?
– Мне даже кажется слишком много: и, по правде сказать, я уже давно заметил, что княгиня Констанция питает к вам, прости ее Господи, естественную ненависть. Сегодня ровно неделя с тех пор, как она мне много говорила про вас…
– Да?.. Что же говорила вам обо мне эта несчастная?
– Подкладывать дрова на огонь – не христианское дело, и потому я умолчу.
– Теперь, граф, пожар, зажженный вашими словами, так силен, что вы уж немного можете прибавить; и с вашим умом вы это легко поймете.
– Слишком понимаю! И притом, мне тяжело молчать, потому что мои слова могут послужить вам руководством и не допустят вас дурно кончить. Синьора Констанция объявила положительно, в присутствии нескольких значительных прелатов и римских баронов, что вы будете позором вашего рода; что вы вор… убийца… и, пуще всего, лжец…
– Она сказала это?
И Санта-Кроче покраснел от бешенства, как раскаленный уголь; голос его дрожал.
– Кроме того, она говорила, что вы низким образом проматываете всё своё достояние; что вы за деньги заложили ростовщикам-жидам ваш дворец и что она должна была выкупить его из своего кармана, для того, чтоб избежать стыда идти жить в чужом наёмном доме; она говорила, что не раз платила ваши долги и что вы каждый день делаете новые, ещё большие и худшие; что вы отчаянный игрок; что нет той гадости, в которую вы не влезли бы по уши; что вы отрицаете Бога и всякое уважение к человечеству… Наконец, что, в довершение всей гнусности вашего поведения, вы сделались пьяницей, напиваясь до состояния животного вином и водкой, и вас часто приносят домой в ужасном виде.
– Она сказала это?
– И что вы дошли до такой степени бесстыдства, что вас не удерживает уважение ни к матери, ни к месту, и вы приходите во дворец ваших знаменитых предков в сопровождении распутных женщин; и к этому она прибавила еще столько ужасов, что я краснею при одном воспоминании о них…
– Моя мать?..
– Она даже прибавила, что, считая вас положительно неспособным исправиться, она решилась, как ни тяжело это ее материнскому сердцу, прибегнуть с просьбою к его святейшеству, чтоб он велел заключить вас в крепость, где вы, кстати, сделаете визит императору Адриану. Клянусь честью, это значит быть заключенным в прекрасном обществе…
– Она это говорила?.. – продолжал вопрошать удивленный князь, между тем как граф отвечал ему тем же пронзительным, раздражающим голосом:
– Или в Чивита-Кастелану… на вечное заточение.
– На вечное заточение!.. Именно так она и сказала, – навеки?
– И даже скоро… что она должна сделать это, ради чтимой памяти своего знаменитого супруга, ради своего светлейшего рода, благородных родных, своей совести и Бога…
– Достойная мать! Ну, не добрая ли мать у меня?.. – восклицал князь голосом, который он старался сделать шутливым, хотя с трудом мог скрыть заметный страх. – А что отвечали прелаты?
– Эх! вы знаете притчу евангельскую? Дерево, не приносящее хорошего плода, вырубается…
– Однако, я вижу, что надо торопиться более, чем я думал. Граф, дайте мне совет… я не знаю, что мне делать… я в отчаянии…
Граф покачал головой, и серьезным голосом отвечал:
– Здесь, у источника всех благ, вы можете черпать их полными ведрами. Обратитесь к монсиньору Таверна, губернатору Рима, или даже, если у вас много денег и мало смысла, к знаменитейшему адвокату, синьору Просперо Фариназио, который, за деньги, изготовит вам какое хотите блюдо.
– Горе мне! у меня нет денег…
– Ну, без денег вы можете с большим успехом обратиться к колоссам Монте-Кавалло…
– И потом это было бы дело спорное, а мне нужны средства, которые бы не делали шуму… и в особенности средства скорые.
– В таком случае смиритесь и упадите к ногам папы.
– Горькое разочарование! Папа Альдобрандино – старый, фальшивый и упрямый человек, алчный к приобретению. Я боюсь его и готов скорее кинуться в Тибр, головою вниз, чем обратиться к нему.
– Да, – начал говорить граф с смущенным видом и оставив иронический тон: – теперь, как я подумал, я вижу, что это было бы и потерянное время, и потерянный труд. После важной ошибки, которую он сделал, приняв сторону моей непокорной дочери против меня, он верно сделался менее доступным к жалобам детей на родителей. Рим процветал до тех пор, покуда отец имел право на жизнь и смерть своей семьи.
– Так что же. – спросил Санта Кроче, смущенный этой неожиданной выходкой, от которой у него опустились руки с отчаяния.
Граф Ченчи, сожалея о своей неуместной вспышке, поспешил ответить:
– О! для вас совсем другое дело.
Санта Кроче, утешенный этими словами и еще более отеческим взглядом, который обратил на него граф, придвинул стул и вытянув вперед голову, начал говорить на ухо шепотом:
– Я слышал… – и остановился; но граф ободрял его, подсмеиваясь.
– Ну, сын мой, продолжайте!
– Мне говорили, граф, что вам, как человеку осторожному, всегда удавалось… когда кто-нибудь докучал вам, избавиться от этого бельма в глазу с удивительною ловкостью. Как человеку сведущему в естественных науках, вам вероятно не безызвестны свойства некоторых трав, которые отправляют в царство мертвых не меняя лошадей и, что в особенности важно, не оставляя никаких следов на большой дороге.
– Разумеется, травы имеют чудесные свойства; но в чем они вам могут помочь, я решительно не понимаю.
– Что касается до этого, то вам надо знать, что светлейшая княгиня Констанция имеет обыкновение пить на ночь какую-то травку для того, чтоб иметь хороший сон…
– Прекрасно…
– Вы понимаете, что весь вопрос в том, короткий или долгий сон; дактиль или спондей, пустяковина; право – простое слогоударение. – Говоря это, изверг принуждал себя смеяться.
– Господи, буди милость твоя на нас!.. Отцеубийство, так, для начала. Хорош первый опыт, черт возьми! Злополучный человек! да подумали ли вы, что делаете?
Князь, стараясь казаться твердым, отвечал:
– Что касается до того, думал ли я, то этим не стесняйтесь, потому что я об этом думал раз тысячу; что же до первого опыта, то надо вам знать, что это вовсе не первая проба.
– Я поверю вам, если вы даже и не побожитесь: в таком случае придвиньтесь и мы обсудим этот предмет. Искусство составлять яды уже теперь не процветает, как в былое время: большее число удивительных ядов, известных нашим предкам, исчезло. Флорентийские князья Медичи трудились очень похвально над этой важной отраслью человеческого знания; но если мы возьмем в соображение все издержки, то польза была незначительна. Вот например aqua tofana; она никуда не годится для хорошего дела: волосы падают, ногти отскакивают, портятся зубы, кожа отстает клочьями и все тело покрывается багровыми болячками – итак, вы видите, она оставляет после себя слишком явные и продолжительные улики. Ее прежде часто употребляли. Что до меня, то я снимаю шапку перед Александром Великим: мечом разрубается всякий гордиев узел, и главное – сразу…
– Меч! Разве он не оставляет следов?
– Да кто же вам советует скрывать смерть донны Констанцы? Вы, напротив, должны объявить о ней и говорить открыто, что вы её виновник.
– Граф, вы смеетесь…
– Я не смеюсь; напротив, я говорю совершенно серьезно. Вы разве ни разу не читали истории, по крайней мере римской? Да, вы читали, хорошо; но какого черта вы читаете книги, если вы из них не извлекаете ту пользу, чтоб уметь себя хорошо вести в свете? Вспомните угрозу Тарквиния Лукреции: он обещал убить ее, если она не отдастся ему; и бросив к ней на ложе зарезанного раба, объявил, что она погибла от заслуженных терзаний за оскорбление, нанесенное родителю, пала жертвою осквернения святости законов, – и много еще разных фраз, которые говорят в подобном случае. Так и вам надо сделать. Важность проступка извиняет убийство.
– Я однако же, не знаю, – ответил князь с заметным смущением. – Нет… я не хочу подвергаться опасности делать это открыто, если б даже и мог…
– Скажите лучше, – прервал его граф, коварно улыбаясь – скажите лучше, что преступления вашей матери существуют только в вашем воображении и что они вам нужны для того, чтоб отыскать в других грехи, которые бы извинили ваши собственные. Признайтесь, что вас побуждает пуще всего желание получить скорее доходы вашей матери. И за это я не могу винить вас, потому что знаю, как родители распинают сыновей своих, если не гвоздями, то долгами; но я виню вас за то, что вы вздумали издеваться над бедным стариком и хитрить со мною…
– Граф, клянусь вам честью…
– Замолчите с вашими клятвами; уж это мое дело верить или не верить; а по мне клятвы все равно что подпорки у домов – верный признак, что дом обрушится: одним словом, вам я не верю и без клятв, а с клятвами и того менее.
– Ради Бога не отталкивайте меня! – проговорил Санта-Кроче таким униженным голосом, что Ченчи показалось, будто он уже достаточно вытряс пороков из этого мешка, и потому, желая прекратить разговор, он с надменным смехом ответил:
– Сказать вам правду, я не могу дать вам путного совета. Я, помнится, читал где-то, как в былое время в одном подобном случае с успехом было употреблено следующее средство. Ночью была приставлена к стене дворца лестница, как раз под окном спальни той особы или тех особ, которых желали убить; потом исчезли или были тщательно истреблены некоторые золотые и серебряные вещи и разные мелочи для того, чтоб заставить думать, что убийство было сделано вследствие воровства; наконец окно было оставлено открытым, как будто из него выскочили воры. Таким образом было удалено всякое подозрение от того, кому эта смерть была особенно полезна. Но он и этим не удовольствовался и захотел заслужить славу строгого мстителя пролитой крови: начал осаждать судей, чтоб они нарядили самое строгое дознание; не переставал жаловаться на равнодушие суда, обещал награду в двадцать тысяч дукатов тому, кто тайно или явно изобличит виновного. Вот так-то умели во́время и с полным спокойствием духа пользоваться наследствами умерших!
– А! – воскликнул Санта Кроче, ударив себя рукою по лбу – вы достойнейший человек, граф! Я готов быть вашим рабом и сидеть на цепи, если вы того потребуете! Знаете ли, что это именно то средство, какое мне нужно! Но это еще не все: вы бы довершили ваше благодеяние и сделали бы меня безгранично признательным, еслиб согласились вызвать из Рока-Петрелла одного из этих храбрецов, которым вы поручаете подобные дела…
– Какие дела? о каких храбрецах вы бредите? Моток ваш, – вам и искать конец, чтоб распутать его; смотрите только, чтоб нитка не перерезала вам пальцы. Смотрите, мы с вами не видались и не должны больше видеться. С этой минуты я умываю руки, как Пилат. Прощайте, дон Паоло. Все, что я могу сделать для вас и что сделаю, это пожелать вам хорошего успеха.
Граф встал и простился с князем; покуда он с любезностью провожал его до двери, у него в голове вертелись мысли в роде следующих: «ведь есть же люди, которые говорят, будто я не помогаю ближнему! Клеветники! Возможно ли делать больше меня. Сосчитаем-ка, сколько людей получат поживу теперь из-за меня…»
Дойдя до двери, граф открыл ее, и провожая князя с своей обыкновенной приветливостью, прибавил отеческим голосом:
– Прощайте, дон Паоло, еще раз желаю вам всего лучшего.
Курат, услышав эти слова, прошептал тихим голосом:
– Какой достойный синьор! И как сейчас видно, что говорит от души.
Глава III. Похищение
Граф бросил взгляд в залу и, увидев там еще одного гостя, который был почетнее курата, произнес:
– Милости просим, герцог…
Гость с бледным лицом вошел в комнату, как потерянный: он или не слышал, или не хотел принять вежливого приглашения графа садиться. Одной рукой он оперся на конторку, как человек, у которого кружится голова, и из груди его вырвался глубокий продолжительный вздох.
– Какие вздохи! Что у вас за горести? – спросил граф льстивым голосом. – Как в ваши лета у вас достает времени быть несчастливым?
Герцог голосом похожим на тихое журчанье воды, мог только ответить:
– Я влюблен.
А граф, чтоб ободрить его, весело прибавил:
– Так и должно быть в ваши лета, сын мой; и вы прекрасно делаете: любите всею душою и даже всем телом: вы молоды и красивы. Если вам не быть влюбленным, то кому же и влюбляться? Уж не мне ли? Посмотрите, года посыпают мне волосы снегом и сжимают сердце льдом. Вам говорят о любви и небо и земля; вам вся природа говорит – любите:
Ручьи о любви говорят, и зефир, и деревья, И птицы, и рыбы, цветы и растенья, И хором твердят, чтоб я вечно любил, –пел сладостный голос Франческо Петрарка. – Полноте, молодой человек, разве этого можно стыдиться? Проповедуйте о ней с кафедры, кричите о ней на крышах; что за хорошая, право, вещь – любовь! Петрарка был человек серьезный, каноник, и не стыдился сознаваться, что двадцать лет горел любовью к Лауре во время её жизни, и десять лет после того, как она улетела на небо. Святая Терезия была помилована, потому что много в свою жизнь любила; а иные говорят, что и слишком много. Та же самая святая считала дьявола несчастным; – и знаете почему? потому что он не может любить. Стало быть, любите! действуя иначе, вы оскорбляете природу, которая, как вы знаете, есть старшая её дочь.
Молодой человек закрыл лицо руками и, испустив протяжный вздох, воскликнул:
– Ах, моя любовь безнадёжна!..
– Не говорите этого; самыя двери ада не безнадежны. Обсудим. Не влюбились ли вы, чего доброго, в чужую жену? Тогда беда, потому что встречается преграда, и даже две: первая – муж, вторая – заповеди.
– О, нет, граф, моя любовь законна.
– Так в таком случае женитесь…
– Богу известно, как я желал бы это сделать; но, увы! такое счастье для меня невозможно.
– Ну, так не женитесь.
– Девушка, которую я люблю, к сожалению, более низкого происхождения, чем мне хотелось бы; но когда посмотришь на чудную прелесть её форм, а еще больше, когда узнаешь возвышенность её души, то видишь, что она достойна короны…
– «То царская душа, достойнейшая власти», сказал Франческо Петрарка; и если так, то женитесь на ней.
– Когда тело мое превратится в прах, самая тень моя не расстанется с этой любовью во веки.
– Какой срок назначаете вы для этой вечности? У женщин, по самым верным исследованиям, вечная любовь длится целую неделю; у некоторых, но это редко, она еще продолжается кое-как до второго понедельника, но не больше.
Молодой, человек был до того поглощен своею любовью, что только теперь заметил, как дон Франческо издевается над ним; лицо его разгорелось от стыда, и он с досадою ответил:
– Граф, вы оскорбляете меня; я надеялся найти добрый совет; – я ошибся – виноват, и он сделал движение, чтоб уйти. Но граф, удерживая его, ласковым голосом произнес:
– Останьтесь, пожалуйста, герцог; я хотел испытать вас: теперь я слишком убедился, это вы пламенно любите и что ваша любовь роковая. Откройте мне вашу душу; я сумею принять в вас участие и мог бы даже помочь вам. Я похоронил свои страсти; шестьдесят или более лет, как проводил их до могилы и пропел им вечную память. Для меня любовь – воспоминание, для вас – надежда, для меня пепел, для вас распускающаяся роза; но не смотря на это, сердце мое узнает признаки старинной любви и, говоря со мною о ваших чувствах, вы можете смело повторить стихи Петрарки:
Числом поболее и поизящней складом.Граф Ченчи, несмотря на свои уверения, продолжал насмехаться. Не менее того, трудно было отгадать: серьезно он говорит, или смеется, потому что лицо его было совершенно серьезно, и только глаза щурились и покрывались кругом целою сетью морщин, да веки слегка вздрагивали: граф смеялся не ртом, а глазами, как ехидна.
– Девушка, которую я люблю, живет в доме Фальконьери. Кто ее родители, я не знаю; только несмотря на то, что все в доме обращаются с нею, как с любимою родственницею, она должно быть низкого происхождения. Увы! когда я в первый раз увидел ее в церкви, во всей красоте невинности и прелести, я лишился сна: всякая другая женщина мне казалась безобразною и достойною презрения.
– Боже! говорите тише, герцог; беда нам, если наши гордые римские барыни услышат вас. Они бы сделали из вас второе издание Орфея, – изорванного в клочки вакханками, с примечаниями и приложениями.
– Считая легкою победу над нею, – продолжал воодушевившийся молодой человек – и Богу известно, как я в этом раскаиваюсь, я не пренебрег теми недостойными средствами, которые употребляются обыкновенно в дело, чтоб достигнуть цели любовных желаний. Горе мне! Эти-то средства, вероятно, и сделали меня ей противным и ненавистным. Кто знает, может, она теперь ненавидит меня!.. И он остановился, чтоб удержать рыдания; потом тихим голосом продолжал: – чем, должны были звучать мои бесчестные предложения в ушах этой целомудренной девушки!
Граф с удивлением смотрел на него и думал; «такого новичка я в жизнь свою не видел.»
– Фальконьери, – продолжал герцог: – велели предупредить меня, чтоб я бросил привычку ходить у них под окнами, потому что жениться на этой девушке я не могу, а она не из тех, которые захотели бы сделаться моей любовницей.
– Ну что ж вы?
– Я решился просить её руки…
– Другого средства нет; я сделал бы то же самое.
– Мои родные, узнав о моем намерении, напустились на меня, точно я затевал святотатство; кто начал мне говорить, что это оскорбление для благородной крови, кто, что я запятнаю этим свой дворянский род; одни стали пугать меня презрением всех родных, другие ненавистью друзей; словом, от всего этого у меня голова пошла кругом и я чуть с ума не сошел.
– Ну, да это дело серьезное; я на их месте говорил бы то же самое. – Впрочем всякое неравенство сравнено с любовью, говорит поэт. Что-то подобное воспевал со своею обычною прелестью Торквато Тассо в своей пасторальной сказке: помните, герцог?
– Боже мой! могу ли я что-нибудь помнить? У меня нет больше ни памяти, ни рассудка, ничего. Ради Бога, добрейший граф, у вас так много ума и опытности, укажите мне какое-нибудь средство от моих страданий!
– Помилуйте меня, мой милый, – сказал граф, фамильярно кладя ему руку на плечо. – Вы правы…
– Да?..
– Но и ваши родные не виноваты. Вы правы в том отношения, что дым знатности не стоит дыма трубки. Ваши родные также не виноваты, потому что они, вероятно, видят, также как и я вижу, во всем этом коварство женщины, которая идет на пролом, по собственному желанию, или по наущению других. Не сердитесь, герцог, вы пришли вопрошать оракула и должны слушать его ответы, если б они были даже и неприятны. То, что вам кажется естественною недоступностью, по мне ничто другое, как обдуманное отталкивание, основанное на убеждении, что преграды разжигают страсть. Так как запрещенные яства возбуждают в нас еще больший апетит, так точно и она рассчитывает, что сила вашей любви повергнет вас туда, где ей хочется вас видеть. Одним словом, тут видна сеть, закинутая в страсть, которою вы сгораете. Любовь – человеческое чувство; но поддаваться слепым движениям души достойно животных. Когда я был молод, люди не были так щекотливы. Молодой человек ваших лет, знатного рода, как только, бывало, ему понравится какая-нибудь смазливенькая плебейка, соблазнял её деньгами. Если она не соглашалась, а это, могу вас уверить, случилось очень редко, по крайней мере в мое время, – он просто похищал ее. Если ее родные роптали, он бросал им горсть золота и они умолкали; потому что народ лает, как Цербер, для того, чтоб получать что-нибудь. Когда красавица надоедала ему, а это случалось часто, ее выдавали замуж с небольшим приданным; и в женихах не бывало недостатка; во-первых, потому что я не вижу, что может быть унизительного для этих женихов, если их невеста удовлетворит прихоти дворянина; а во-вторых, потому что губы от поцелуев не изнашиваются, а напротив только обновляются, как месяц…
Герцог выразил невольный ужас. Граф не смутился и только более настаивал:
– Нет, сын мой, не пренебрегайте советами стариков: я побольше вашего видел дел на свете и знаю, как они делаются. Послушайтесь меня: я вам предлагаю золотое средство. Во-первых, овладейте вполне девушкою, и в этом всё, или по крайней мере главная доля успеха, – с этим и вы должны согласиться; потом, если это вам удастся, обвенчайтесь с нею преспокойно, – и покойной вам ночи – будьте счастливы. Если вы можете обойти этот подводный камень, женитьбу, то старайтесь всеми силами обойти его; потому что, по моему убеждению, брак есть могила любви. Брачное да, это первый крик Гименея и в то же время последний вздох: агония любви, брак зарождается от любви так точно, как уксус от вина. Вы избегнете сверх того негодования родных и говора света, а это не малый выигрыш. Вы, может быть, скажете мне, что все это не более, как укус комара, и я с вами согласен; но когда на вас налетят тысячи комаров, они изуродуют вам лицо, клянусь вам Богом; а вы не решитесь даже жаловаться на эти смешные раны, которые не менее того мучительны; всех этих неприятностей благоразумный человек, если только может, всегда постарается избежать.
– Нет, граф, нет; я скорей готов проколоть себе сердце ножом…
– Не спешите с дурными намерениями; разделаться с собою всегда будет время. Прежде чем избирать себе лекарство, обсудите хорошенько болезнь. Вы видите, мое предложение представляет вам два разных выхода, и в то же время два средства решить вопрос. Действуйте же сообразно с обстоятельствами и руководствуясь тем здравым смыслом, которым вы обладаете.
– А если она меня возненавидит?
– Вспомните стрелу Ахиллеса. Она залечивала раны, которые наносила: так и любовь залечивает раны любви; а у красоты рука щедра, чтоб отпускать грехи, которые делаются ради неё. Простит, не бойтесь, простит; что вы думаете, что свет войдет на выворот? Не садитесь на ветку, как перелетные птицы. Женщины чаще, чем вы думаете, пугают полицией, чтоб испытать храбрость любовника. В Спарте для того, чтоб иметь жену, надо было похитить ее; и я не нашел ни у одного из историков жалоб на это со стороны жен. Эрсилия небось не любила Ромула? Нам ли римлянам пугаться похищения, когда мы сами родилась от похищенных сабинянок?
Смущенный юноша, сбитый с толку всеми этими доводами, находился в положении человека, которого тащат вниз по скользкой горе.
Алчность всегда ходит с карманами, набитыми ватой для того, чтоб затыкать ею уши совести и не давать слышат своих собственных воплей. В порыве страсти, молодой человек бессознательно воскликнул:
– Как же мне поступить? Я не гожусь на это. Я не знаю, с чего начать. Где найти людей, которые бы решились из-за меня на такое роковое дело?
Граф подумал, что не подать помощи молодому человеку, значит бросить его посреди дороги; притом же у него в голове мелькнула и другая мысль, которая заставила его присовокупить:
– Для чего ж друзья, на свете? в этом деле я могу услужить вам, если только меня не обманули глаза. – Говоря это, он подошел к двери залы, открыл ее и позвал:
– Олимпий!
Подобно тому, как гончая собака подымает морду на зов охотника, мужик вскочил на нога и, с грубою фамильярностью, ответил;
– А-га, эчеленца! вы вспомнили наконец, что я существую за этом свете – и, ворча себе под нос прибавил; – наверное хочет отправить кого-нибудь за тот свет.
– Поди сюда.
Когда Олимпий вошел в комнату, чувство порабощения, которое овладевает и самыми наглыми плебеями, при виде богатого убранства господских палат, заставило его снять шляпу, при чем его черные густые волосы рассыпались по плечам и смешались с бородою, сделав его похожим за аллегорическое изображение реки, увенчанной тростником. Его резкие черты лица казались выточенными из камня; впалые глаза, налитые кровью, с торчащими над ними бровями, более всего походили на волков в берлогах; голос у него был хриплый и резкий.
– Вы все еще живы, а? – смеясь, спросил его граф.
– Э! это просто чудо. После последнего убийства, которое я сделал для вашего сиятельства…
– Что ты бредишь, Олимпий? О каком таком убийстве? или об убийствах тебе снится?
– Мне снится? по вашему приказанию и за ваши деньги, – и ударив своей огромной рукой по конторке он прибавил: – вот здесь вы мне отсчитали золотом триста дукатов, и это было не много; – но так и быть, я ими удовольствовался, и об этом и говорить нечего. Коли мало взял, мой и убыток. Здесь…
Но граф и руками и глазами делал ему знаки, чтоб он перестал говорить об этом неприятном предмете.
– А! так это другая пара рукавов, – продолжал невозмутимо мужик – вам было предварить меня во время. Я думал, что мы между своими, дон Франческо; виноват. Когда я возвращался в свои горы, полицейский обвился около меня крепче моего пояса, шея моя чаще чувствовала веревку, чем губы фульету[4], все деревья мне казались похожими на виселицы. Теперь в этом платье я сам почти не узнаю себя; потому-то я и решился вернуться, потому что бездействие-то и есть, изволите ли видеть, отец всех пороков: а мне больше нечего было делать – и я даже начал было работать. Если в течение этого времени у кого-нибудь из врагов ваших выросло лишнее горло, которое вы не желали бы, чтоб он имел, мы налицо за приказаниями вашего сиятельства.
И правой рукой он горизонтально дотронулся до горла.
– Ты поспел, можно сказать, так же вовремя, как кизил в октябре; и я намерен употребить тебя, чтоб поднять соломинку, так как бревна теперь нет на руках; – повторяю, что это почти ничего, почти роскошь твоего ремесла, так только для того, чтоб тебе войти в колею.
– Посмотрим, что такое.
И разбойник уселся с той ужасной фамильярностью, которая возникает только между участниками в преступлении. Он положил ногу на ногу, облокотился на поднятое колено и подперев рукой голову, с закрытыми глазами, отвислою, нижнею губой, казалось весь превратился во внимание.
– Этот молодой человек, который никто другой, как светлейший герцог Альтемс, – начал дон Франческо.
– Хорошо! – промолвил разбойник, не открывая глаз и сделав едва приметное движение головою.
– Страстно влюбился в одну девушку.
– Из наших, или ваших?
– А почем я знаю? горничная…
– Ни ваша, ни наша; – заметил Олимпий, с пренебрежением пожав плечами.
– Удостоенная любви, она осмеливается оставаться непреклонною. Ей покровительствуют Фальконьери, у которых если б было столько родовых земель, сколько надменности, то нам осталось бы сеять в море. Она живет у них в доме и это придает ей храбрости; может быть, и даже без всяких «может быть», а наверное тут должна быть какая-нибудь связишка с прелатом, но у меня нет ни охоты, ни времени удостовериться в этом; как бы то ни было, все это служит помехой герцогу…
– Кто меня зовет? – спросил герцог, как бы просыпаясь.
– Бедный молодой человек; посмотри, как его отделали, страсть! Бьюсь об заклад, что вы не слышали ни одного слова из всего нашего разговора с Олимпием?
Герцог покраснел и опустил голову.
– Одним словом, Олимпий, ты должен ее украсть и привезти, куда тебе укажут.
– Других приказаний не будет, эчеленца?
– Покуда нет. Тебе надо пробраться во дворец; и если не будет возможности сделать это иначе, то проломай дверь или решетку у нижнего окна. Если бы и это не удалось, то пусти в ход веревочную лестницу…
– Успокойтесь; вы заботитесь о том, чтоб в Терачине были лихорадки[5]. С вашего позволения, башмачнику не учиться шить башмаки. Я эти вещи хорошо знаю и без вас, и еще много других, которых вы не знаете. Дайте сосчитать: один, два, три, мне надо четырех человек.
– Они будут…
– Нам нужны пистолеты и лошади. Сколько вы решились издержать на это предприятие?
– Да что, будет с тебя пятисот дукатов?
– Нет, синьор, мало. Надо заплатить людям, да оружие и лошади стоят денег, и мне останется сущий пустяк.
– Ну, хорошо; за этим дело не станет. Восемьсот дукатов, кроме благодарностей и больших милостей, на которые ты можешь от меня рассчитывать…
– Я велю изготовить телегу, чтоб перетащить их домой. Когда праздник кончен, лавры убираются. Куда мне отвезти девушку?
– Во дворец к герцогу, или в один из его виноградников, какой он укажет…
– Ну, уж это не дело, эчеленца. Если полиция пронюхает, она прежде всего кинется в дом синьора герцога. Так вы лучше постарайтесь нанять какой-нибудь виноградник вдали от города, только употребите на это кого-нибудь не из ваших.
Граф посмотрел в лицо Олимпию и как-то странно улыбнулся, как будто подсмеиваясь, что тот его не понял; потом сел у конторки и стал писать. Разбойник сделал герцогу несколько кратких и грубых вопросов. Тот отвечал ему, как потерянный: он чувствовал, что им вертели, как буря вертит листьями; он чувствовал себя во власти тех змей, которые влекут к себе животных с тем, чтоб погубить их; ему хотелось противиться, хотелось бежать и он был не в силах. Злой дух победил, добрый ангел удалялся, закрыв лицо крыльями. Граф, хотя и занятый письмом, не мог не видеть победу порока над добродетелью простодушного молодого человека.
– Когда ж за дело? – спросил он вдруг.
– Сообразив хорошенько, я вижу, что ранее завтрашней ночи я не буду в состоянии, – отвечал Олимпий.
– Завтра ночью, а! Да ты разве не знаешь, что песочные часы, которыми страсть меряет время ожидания, это все равно, что факел, с которого падают огненные капли на сердце бедного любовника? Ты старишься: уж это не прежний Олимпий. Прежде тебе можно было отпечатать на лице: cito ac fidelis, этот девиз священного римского суда, который, впрочем, не мешает ему тянуть дела также долго, как осаду Трои, и произносить беззаконные приговоры. Итак вместо рыси удовольствуемся шагом: на завтра…
Минуту спустя, наклонившись к герцогу, он спросил:
– Хотя по природе я избегаю всякого нескромного любопытства, однако не могу устоять против желания знать имя вашей возлюбленной, герцог?
– Лукреция…
– А! Лукреция. Это что-то роковое, право, что Лукрециям суждено кружить наши римские головы. Креция, Крециучиа, Крецина, я горю любовью к тебе и утром и вечером…
Закончив писать, он встал, говоря:
– Олимпий, тебе верно надо отдохнуть и потому пора идти. Смотри, чтоб никто тебя не видел, когда будешь выходить из моего дома. Марцио!
Марцио вошел.
– Марцио, проводи Олимпия по потаенной лестнице в калитке сада, которая выходят в переулок. Прощай; не забывай.
* * *
– Как поживаешь, кум? – спрашивал Олимпий, потрепав Марцио по плечу.
– Как Богу угодно, – ответил довольно сурово Марцио.
– Ого, да ты не узнаешь меня что ли, Марцио?!
– Я, нет…
– Посмотри на меня хорошенько и ты увидишь, что тебе покажется то же, что и мне.
– А что тебе кажется?
– Мне кажется, что мы составим великолепную пару серег в ушах у госпожи виселицы.
– Олимпий, это ты?
– Дух виселицы производит то же действие, как уксус к носу: просветляет ум и возвращает память…
* * *
– Граф, – начал запинаясь герцог: – я боюсь показаться неблагодарным за вашу помощь и ваши советы… однако, я чувствую, что не в силах благодарить вас. Бог… (но и делаю дурно, что призываю это святое имя в таком дурном деле, лучше было бы, если б я о нем не знал ничего). Пускай же судьба устроит это так, чтоб оно не кончилось слезами.
– А судьба за вас; потому что, как женщина, она любят молодых и смелых. Если б Цезарь не перешел Рубикон, разве он был бы диктатором римским?
– Да, но за то Мартовские Иды не видели бы его убитым пред статуей Помпея.
– Всякий человек со дня рождения находится под влиянием своей звезды. Итак, вперед. Отчего вы с неудовольствием отдаетесь в руки судьбе? Она управляет миром. Взгляните на Суллу, который лучше всякого другого умел решать споры топором, а ей все-таки посвятил великолепный храм.
И утешая таким образом, он провожал бедного молодого человека, который, выйдя от графа, шел как пьяный; до такой степени его взволновали и расстроили слова графа и все, происходившее в его присутствии. Он сознавал зло и прочувствовал еще большее; его толкнули на дорогу преступления, и он не в силах уже был свернуть с неё. Страсть, как змея, снимала его всё с большей силой и душила в нем последние проблески добра.
Граф, проводив герцога, стал читать письмо, написанное им перед тем, прерывая иногда чтение для того, чтоб отдаться громкому смеху:
«Предобрейший и светлейший монсиньор! Величайшее беззаконие, которое когда либо осквернило августейшую и благословенную столицу нашей святой религии, должно в ней совершиться. Герцог Серафим Альтемс, для удовлетворения своей необузданной страсти, замышляет с вооруженной силой похитить завтра ночью из дворца Фальконьери достойную девицу Лукрецию, служанку в доме вышепоименованных особ. Помощники герцога в злоумышлении – три или четыре самых отчаянных негодяя, под предводительством Олимпия, которого уже два года ищет полиция за воровство и убийство и за которого назначена премия в триста золотых дукатов. Будьте наготове, потому что речь идет о людях привыкших ко всякого рода опасностям, которые только увеличивают их смелость. Об этом уведомляет вас человек, преданный правительству и порядку и заботящийся о величии святой матери церкви. Рим, 6 августа 1548 года.»
– Прекрасно: почерк узнать нельзя; через час это будет в благочестивых руках монсиньора Таверна.
Он сложил письмо, запечатал его и, сделав на нем крест, надписал: «монсиньору Фердинанду Таверно, губернатору Рима».
– Всякому своя честь: он герцог, с ним и поступают по-герцогски. Об этой жемчужине, князе Павле, мы подумаем после. И вдобавок мы избавимся от Олимпия, если только он и в этот раз не вывернется. Сеть протянута по всем правилам искусства; но
Редко бывает, чтоб добрым затеям Злая судьба не мешала.Глава IV. Наказанное счастье
Молодые супруги вошли в кабинет. Муж с чувством поцеловал руку графа; жена хотела сделать то же самое, но ребенок, которого она держала на руках, раскричался и не допустил ее до этого. Была ли то случайность или предчувствие?.. Человеку неизвестны таинственные пути природы. Граф внимательно посмотрел на молодую женщину; и когда он увидел, как она хороша, глаза, его сморщились и заметали искры.
– Кто вы такие, добрые люди, и что я могу для вас сделать!
– Эчеленца, – начал молодой человек: – вы меня не узнаете! Я сын того бедного столяра… помните?.. разоренного ровно три года и четыре месяца тому назад… и если б не ваша милость, он кинулся бы в воду.
– А! теперь помню. Вы теперь уж сделались человеком, мое дитя; а добрый старик, ваш отец, здоров?
– Господь Бог отозвал его к себе. Поверьте мне, эчеленца, что последний вздох его был для Бога, а передпоследний для вас и вашего семейства; он не переставал благословлять вас и желать вам всевозможных небесных благ, какие только может пожелать человек.
– Пошли ему Бог царство небесное. А это ваша жена и ваш ребенок?
– Так точно, эчеленца. Жена моя только что могла взять молитву после родов, и я считал своим долгом привести ее поклониться вам и поблагодарить вас от всего сердца, потому что, после Бога, мы обязаны вам нашим счастьем.
– Вы счастливы?
– Очень счастливы, эчеленца, и только память об умершем родителе иногда печалит нас; но он был уже очень стар и умер, как дитя, которое засыпает… У него не было угрызений совести… и при жизни своей он спал спокойно… Бедный отец! – И, говоря это, он отирал слезы.
– А вы, моя милая, счастливы?
– Да, благодаря Святую Деву, я счастливее, чем можно себе представить. Микель любит меня; я люблю его; оба мы не надышимся на нашего милого ангела. Микель заработывает довольно, чтоб прожить, да еще и остается; так что, вы видите, эчеленца, нам не быть довольным, значило бы гневить Бога.
Когда она это говорила, лицо её сияло.
– Итак вы счастливы? – в третий раз спросил граф мрачным голосом;
– И можем сказать, благодаря вашей милости, эчеленца. Вступив в дом Микеля, я выучилась почитать ваше имя. Первое слово, которому я научу моего милаго ангела, будет благословение имени доброго барона Франческо Ченчи.
– Вы наполняете сердце мое радостью, – говорил граф, стараясь скрыть свое бешенство и для этого целуя ребенка и лаская его; – добрые люди! достойные души! то малое, что я сделал, не стоит стольких благодарностей; и притом, на нас, щедро ударенных богатством, лежит обязанность помогать бедным. К чему деньги, если не за тем, чтоб помогать несчастным? Разве они могут быть употреблены лучше этого? Ведь мы этим самым отдаем их на проценты в рай, где они вернутся нам сторицею. Мне надо благодарить вас, мои милые, за то, что вы доставили мне случай сделать добро.
При этом он достал из конторки ящик и взяв из него полную горсть золотых поднес их молодой женщине, которая вся покраснела и стала отказываться; но граф настаивал, говоря;
– Возьмите, моя милая, возьмите. Вы обидели меня тем, что не дали мне знать о рождении этого славного мальчика, мне следовало быть его крестным отцом. Купите себе ожерелье и носите его для искупления этого греха: да постарайтесь также, чтоб вам достало и на хорошенькое платье для ребенка, потому что, хотя он и прехорошенький, однако, как говорит поэт:
Часто нарядное платье украшает красоту.Я хочу, чтоб видя его все восклицали: о счастлива та которая выносила его; и ваше материнское сердце возрадуется.
Молодая мать сначала улыбалась; потом растроганная этими добрыми словами, она заплакала, но улыбка не покидала ее лица. Так весною идет дождь сквозь солнце.
– Продолжайте любить друг друга, – говорил граф, торжественным тоном отца; – да не возмутит никогда ревность ясности ваших дней, живите спокойно и в страхе Божием. Поминайте иногда меня в ваших молитвах, меня, бедного старика, который, поверьте, не так счастлив, как вы думаете (и при этом Ченчи сделался еще бледнее обыкновенного), и если вы будете в нужде, обращайтесь ко мне, как к отцу.
Молодые супруги нагнулись, чтоб поцеловать ему колени, но он не допустил их до этого и проводил напутствуя добрыми словами. Проходя по зале, они не переставали восклицать:
– Какой благочестивый барин! какой щедрый вельможа!
Слуги, слыша эти слова, переглядывались, пожимая плечами; и один из них, самый смелый, пробормотал сквозь зубы:
– Видно, дьявол превратился в капуцина!
– Счастливы! Счастливы! – заревел Франческо Ченчи, давая полную свободу своей скрываемой злобе: – и еще приходят и говорят это мне прямо в глаза. Они это сделали нарочно, чтоб только помучить меня зрелищем своего счастья! Это самое ужасное оскорбление, какое я вынес когда-либо! – Он с бешенством распахнул дверь и кликнул Марцио. В это время курат попался ему на глаза, но он бросил на него такой взгляд и таким тоном спросил его, что ему надо, что бедняк затрясся и начал было лепетать что-то, но граф его не дослушал и ушел в кабинет сопровождаемый Марцио.
– Марцио, беги за Олимпием, догони его и приведи сюда, – ступай живей; если ты с ним скоро вернешься, получишь десять дукатов…
– Я вам дам знать! Вы мне кровавыми слезами заплатите за то, что смели объявить в глаза Франческо Ченчи, что вы счастливы.
* * *
Марцио вернулся с Олимпием и получил обещанную награду, после чего граф ему велел выйти.
– Что новаго, эчеленца? – спросил Олимпий, когда они остались одни.
– Еще маленькое дельцо. Ты знаешь столяра, что живет на Рипете? Тот самый, который выстроил дом на мои деньги?
– Тот парень, который ждал в зале? Разумеется знаю и знаю, где живет; когда вы велели перестроить дом, я ходил смотреть его; хотел на самом месте угадать причину вашего благодеяния.
– А разве я не имею обыкновения делать добро? А то, что я теперь делаю для тебя – разве не благодеяние? Не прибавляй хоть неблагодарности ко всех твоим грехам, потому что этот грех больше всех противен ангелу-хранителю. – Завтра ночью…
– Я не могу, я уже условился с герцогом… Разве вы не помните?
– Я извиню тебя перед герцогом…
– Нет, уж, увольте, я из уважения к моему ремеслу не могу отказаться…
– Я устрою так, что он сам уволит тебя…
– О! тогда другое дело.
– Тогда завтра ночью, ты заберись как-знаешь в лавку столяра; собери в кучу все вещи и все дерево, какое там найдешь: подожги все это, запри лавку снаружи и уходи. За это доброе дело ты получишь сто дукатов. Служи мне верно, и я скоро обогащу тебя. И вправду, как мне лучше употребить свои деньги? Ты сам с этим согласишься. Уходи через сад, да смотри, чтобы тебя никто не видал.
Олимпий повиновался.
* * *
Оставшись наедине, Франческо Ченчи начал потирать руки от удовольствия и произносить отрывистые фразы.
– Вот праздник сегодня. Это называется жить! Затеяно отцеубийство; подготовлено похищение и пожар, и злодеям сделана измена… Покуда я живу на этом свете, дьявол может отправиться на отдых… Я противоположность Тита[6]: тот вздыхал, когда проходил день и он не сделал ни одного доброго дела; а я выхожу из себя, если не сделал десятка два злых дел. Тит – шарлатан человечества! иезуит язычества! Это подтвердят Иудея и пожары, потушенные потоками человеческой крови; а толпы распятых, для которых не доставало крестов, а одиннадцать тысяч невольников умерших с голоду, а тысячи людей брошенных на растерзание диким зверям за то, что мужественно защищали родину? Ничтожный человек, не умевший ни любить, ни ненавидеть: ты плакал, дозволив убийство полутора миллиона людей, и плача допустил вырвать из твоих объятий прекрасную Беренику. Домициан, брат твой, был вылит не из такого металла: у него было железное сердце, чело из бронзы: это был величавый образ короля. Молния не разбивает подобных полубогов; коснувшись до них, она их только освещает. К чему и жизнь, если потомство не будет дрожать при вашем имени, и трепетать, чтоб ни слова не поднялись из наших гробов? Я поклоняюсь силе. Всё ложь, кроме силы: она раскаленным железом кладет свое клеймо на чело поколений…
Глава V. Еще о Франческо Ченчи
Я еще не довольно сказал о Франческо Ченчи. Ум его представляется таким странным, сложным и даже уродливым из всего, до сих пор виденного, и из того, что увидят далее, что на этом действующем лице необходимо еще остановиться.
Не знаю, так ли теперь, но было время, когда в Риме свирепствовали страсти, вырывая человека из его обычной беспечной жизни. Все вышло в то время из границ, и происходили вещи более бесчеловечные, чем великие. Кто был доблестнее Цезаря? кто добродетельнее Катона? кто мог назваться таким же политиком, как Август, или сравняться в притворстве с Тиверием, в жестокости с Нероном, в бестолковости с Клавдием? В ком наконец можно найти более великодушия, как в Антонинах? Женщины также доходят до высшей степени разврата и целомудрия, коварства и верности. Самые здания, вместо того, чтобы поддаться времени, по-видимому властвуют над ним: они стоят незыблемо, и целые века, с их непогодами, и целые поколения людей, все разрушивших, не могли разрушить их. По Европе, Азии и Африке рассеяны остатки этого могущественного народа, подобно костям покойников, для которых целый свет был кладбищем. Римский орел, в беспредельном своем победном полете, рассеял перья своих крыльев по всей Вселенной. Рим с высоты Капитолия раскинул железную сеть на человечество; позже он пытался раскинуть другую сеть – сеть веры и угроз, – думая покорить снова людей. Только под тенью Колизея и могла родиться у пап мысль сделаться царями души. Когда они согласились переселиться в Авиньон, они на самом деле сделались рабами рабов. Пощечина, данная Бонифацию VIII[7], нанесла папству оскорбление, от которого ему трудно было бы подняться; но процесс, затеянный от имена Бонифация недостойным Климентом V, нанес уже незалечимую рану папскому влиянию…
Рим воинственный кидался на врага, как лев, терзая или милуя его. Рим духовный, как хищный зверь, следит издали за врагами, и только в самый день битвы протягивает руку за добычей. Рим пал, сперва как борющийся гладиатор, потом, как раздавленное пресмыкающееся; но в обоих случаях он показал поразительную живучесть духа; поэтому-то ему не суждено погибнуть, но переродиться. Гладиатор пал, обливая кровью землю, но поднялся снова и продолжал бороться до тех пор, пока из раны его не начали сочиться последние капли крови, – редкие и тяжелые капля, как первые капли дождя в грозу. Змея же, с рассеченным позвоночным столбом, продолжает двигаться: ей нужно жить во что бы то ни стало, хотя бы даже жизнь проявлялась в последних предсмертных судорогах. Римский факел, зажженный два раза рукою судьбы, покуда у него хватило смолы, не переставал кидать искры, способные испепелить или осветить целое поколение.
Франческо Ченчи был чем-то в роде испорченного дыхания древнего римского гения; дыхание, вышедшее из раскрывшейся гробницы, но тем не менее дыхание латинское: натура необузданная, язвительный ум, беспощаднейшая душа с ненасытной жаждой к жестокости и ко всему необыкновенному, сверхъестественному. Если б он жил во времена Брута, то не только осудил бы на смерть своих детей, но, простирая свою запальчивость до нарушения законов природы, сам отрубил бы им головы. Он сначала отличался любовью к наукам, но впоследствии смеялся над ученьем, называя его суетой и игрой воображения, или пользовался знанием, как сибариты розою, употребляя ее орудием смерти. У него были большие богатства, и он расточил их, не будучи в состоянии дойти до разорения. Одаренный чрезвычайной силой чувства, мысли и действия, он мог избрать одну из двух дорог: дорогу добра или зла. В те времена круг добра был ограничен: семейные привязанности, помогать бедным подаянием, которое увековечивает нищету; жизнь мирная; смерть темная; память длящаяся, как эхо голоса. Век, в котором он жил, не давал простора для его деятельности: это было время агонии для итальянского духа; наше небо одевалось в свинцовую шапку дантовых лицемеров, которая позволяла людям двигаться вперед едва ли на один вершок во сто лет. Не смотря на это, он ознаменовал начало своей жизни большими подвигами, но люди и обстоятельства сумели отучить его от добра, – оно ему скоро опротивело, потом он стал презирать его и наконец возненавидел. Он обратился к злу, и сказал ему, как демон: «будь моим добром!» Ему понравилась роль Титана и казалось смелостью поднять к небу возмутившееся чело и вызвать его на бой. Все его желания обратились к злу, в нем искал он средства прославиться и любил его с опьянением страсти и с упорством расчета: превзойти в злодействе всё, что существовало до него, казалось ему таким же подвигом, как перенести на другое место Геркулесовы столбы или открыть Новый Свет. Он принял узы брака для того только, чтоб иметь наслаждение расторгать их; он искал самых нежных привязанностей для того, чтоб разбивать их или язвительными насмешками, или кинжалом; в Бога он не верил, но чувствовал его присутствие, как гвоздь в сердце, и кощунствовал над ним, подобно тому, как медведь грызет копье, ранившее его, думая тем облегчить рану; словом, это было соединение Аякса и Нерона с обыкновенным разбойником. Он жил для пытки себе и другим: ненавидел и был ненавидим; питался злодеяниями, и злодеяние убило его.
Глава VI. Беатриче
Она была прекрасна. Уста её были похожи на цветок, а вся она – на неземное существо; глаза её часто и надолго возносились к небу: созерцала ли она свою родину, в которую ей суждено было скоро вернуться, или ей представлялись таинственные видения, ясные только ей одной, или наконец, любимый образ родных небес звал ее и манил к себе? Когда она возвращалась на землю и смотрела своим открытым и проницательным взглядом, то одних заставляла трепетать, как уличенных в чем-то недобром, если сердце их не было чисто, других – плакать от умиления… Довольно ей было явиться на пир, чтобы от блеска её глаз и свет факелов был сильнее, и гармонические муки музыки стройнее, и радость разливалась в молодых сердцах. Стоило ей покинуть праздник – и холодное дыхание скуки распространялось внезапно и отрицало общую радость.
Беатриче сидела на террасе дворца Ченчи, выходившей в сад. На коленях она держала ребенка, в котором по глазам, цвету волос, и вообще по сходству, нельзя было не узнать её брата; она с любовью ласкала его волосы и беспрестанно целовала в лоб. Голова ребенка склонилась к ней на грудь, и он устремлял на нее такой неподвижный взгляд, как будто мысли его витали где-то вне этого мира.
– О чем ты думаешь, мой дорогой Виргилий? – спрашивала его печально Беатриче.
– Я думаю о том, что было бы хорошо для нас не родиться на свет!
– Ах, Виргилий…
– А так как этому помочь нельзя, то лучше всего поскорей его покинуть…
– Покинуть! Отчего?
– А зачем оставаться? Мое сердце, вот тут внутри, уже умерло, я это чувствую; а когда сердце умерло, тяжело его переживать!..
– Ты едва только взглянул на жизнь, брат мой, и говоришь такие отчаянные слова, это не хорошо; живи и радуйся; ты не знаешь еще, какие розы готовит тебе судьба.
– Розы? судьба?.. Нет, смерть собирает цветы для венка на мой гробик… Судьба покинула меня в тот самый день, как умерла наша мать…
– Но мы не можем считать себя совершенными сиротами, разве добрейшая синьора Лукреция не любит нас, как мать?
– Да; но она не мать…
– А разве у тебя нет меня? и разве я не люблю тебя? А кроме меня разве у тебя нет братьев, отца?
– Какого отца?
Беатриче, пораженная внезапным ужасом, при этих словах ребенка, остановилась, и только после долгого молчания, нерешительным голосом прибавила!
– Разве Франческо не отец твой и мой?..
Мальчик опустил голову, закрыл глаза и, скрестив на груди руки, прошептал нетвердым голосом:
– Сестра, посмотри мне на лоб, и том месте, где начинаются волосы: видишь там шрам?.. видишь? Знаешь, кто ранил меня? Я тебе не говорил до сих пор; но теперь, когда чувствую, что скоро умру, я могу тебе признаться. Часто я думал о том, почему Франческо Ченчи не любит меня и не ласково на меня смотрит? Я чувствовал, что ничем этого не заслужил. И раз как-то, собравшись с духом, бросился ему в ноги и хотел поцеловать его руку. Он как закричит: «пошел вон, ты не мой сын!» и так крепко ударил меня в грудь кулаком, что я упал навзничь и головой ударился об угол шкафа, что стоит у него в кабинете. Франческо Ченчи видел, что я лежу в обмороке, весь в крови он это видел и не поднял меня!.. Вот откуда взялась моя рана, и вот причина болезни, от которой я чахну…
Беатриче вся дрожала и не в силах была произнести ни одного слова. Ребенок с возрастающим страданием поднял рукав рубашки и протянул к сестре исхудалую руку.
– Смотри, прибавил он: – на следы этой раны. Знаешь, кто сделал ее? – Нерон; и слушай, как это случилось. Раз как-то я сорвал в саду отличный персик, и сказал себе: «пойду-ка поднесу его отцу, может, он будет доволен». С этими мыслями я отправился в его комнату, открыл дверь и вижу, он читает. Чтобы не потревожить его, я подхожу тихонько, как вдруг на меня кинулся Нерон и укусил мне руку; я корчился от боли… Отец смеялся.
Грудь Беатриче волновалась, словно готова была разорваться на части.
– И не случись тут Марцио, он допустил бы собаку растерзать меня. Полюбуйся еще! – и ребенок разделил волосы на макушке: – видишь это место? Тут недостает целого клока волос… Знаешь, кто мне вырвал их? – отец. Вскоре после того, как я ударился о шкаф, с перевязанной еще головой, вне себя от горести, я с решимостью явился к отцу и сказал ему: «Отец мой, чем я оскорбил вас? за что вы ненавидите меня? благословите меня, ради Бога, благословите вашего сына, который любит вас!» Он, намотав клок моих волос себе на палец, ответил мне этими словами, – слушай, именно этими словами: «если б у тебя была голова из серы, и слова были огонь, я бы дал тебе благословение, чтоб сжечь тебя! Ступай прочь, эхидна; я невавижу тебя, а потому и ты должен меня ненавидеть; на что мне твоя любовь, щенок!» При этом он дернул так крепко за волосы, что мне казалось, будто вся кожа отделилась от черепа. Клок волос остался у него в руке. Вместо того, чтоб пожалеть меня, он пришел в такую ярость, будто ему, а не мне было больно. «Я проклинаю тебя!» – кричал он, – «и твоих детей, если они у тебя будут, чтоб всем вам жить в нищете, чтоб всем вам сделаться злодеями, убийцами и умереть на виселице!» Теперь, сделай милость, скажи мне, Беатриче, могу ли я желать жить? Мать меня покинула, отец проклял, так не лучше ли мне умереть? Разве я говорю не правду, сестра?..
И ребенок заплакал навзрыд.
Для таких страданий не было утешения. Беатриче чувствовала это и молчала, лоб её покрылся потом и частые капли его падали как слезы из глаз. Когда прошло уже довольно много времени в тяжелом молчании, Беатриче, преодолев страдание, которым была полна душа ея, попробовала утешить брата нежным голосом:
– Успокойся, Виргилий, ты может выбрал дурное время…
– Нет, он был спокоен.
– Может быть он был расстроен какими-нибудь тайными заботами…
– Нет, он был весел… После того, как собака укусила меня, он начал играть с ней… с собакой, которая чуть не растерзала сына!.. Теперь и я уж не люблю его… Знаешь, когда я его вижу, у меня кровь бьется в жилах и от его голоса у меня голова болит.
Беатриче изменилась в лице: ей делалось дурно; но она силою воли победила природу и пересилила себя; она подняла глаза к небу, хотела говорить, и не могла; вместо слов у нее вырвались рыдания. Она переждала немного, и тогда голосом, который постаралась сделать тверже, сказала:
– Не будем отчаиваться, мой Виргилий; но будем молить Бога, чтоб он внушил более человеческие чувства к нам нашему родителю.
– О, Беатриче!.. И ты думаешь, что я не молил его? О, как часто я молился!.. Ночью, накануне того дня, когда Франческо Ченчи оттолкнул меня от себя и размозжил мне голову, я встал тихонько с постели и в одной рубашке, босиком, отправился вниз в капеллу, и на коленях, перед мощами святого патрона нашего семейства, молился, чтоб душа отца смягчилась и чтоб он имел хоть немного любви к нам за ту страстную привязанность, какую мы питаем к нему… Видишь, как услышаны мои молитвы!
И помолчав минуту, он продолжал:
– Но другую молитву мою услышал Бог: это, когда я в другой раз встал с постели и опять молился в часовне перед чудотворным распятием: сжалься надо мною, Божественный Искупитель, и дай мне любовь отца, или отзови меня к себе с миром. На эти слова, Иисус наклонив голову, как будто отвечал мне: «твоя молитва услышана»…
– Он услышит всех нас и вселит кротость в сердце отца.
– Я знаю наверное, что вторая моя молитва услышана, а не первая; потому что, когда я вернулся и лег, я ясно слышал голос, который звал меня: «Виргилий! Виргилий!» Я встал, открыл дверь и никого не видел; лег, и голос опять стал звать меня: «Виргилий! Виргилий!» Уж в этот раз я не ошибся, я отвечал: «кто зовет меня?» а голос: «Я зову тебя из рая.» «Я готов, Господи!»; голос отвечал: «Нет, еще час твой не настал, но приближается».
– Это воображение, лихорадочный бред; полно, не предавайся грусти, я хочу видеть тебя веселым…
– Отчего ты называешь это воображением? Разве мы не читали в священном писании, что Самуил слышал голос Господень? Еще вчера ночью, открыв глаза, я видел, что комната вдруг наполнилась светом, и в нее вошла прекрасная женщина в голубом платье, покрытая драгоценными каменьями, подошла к моей кровати, наклонилась, положила голову около моего лица, поцеловала меня в лоб и исчезла: губы у нет были ледяные, и холод охватил меня… Хочешь знать, Беатриче, на кого была похожа эта женщина? На портрет нашей матери, который висит в большой зале. Мне всёе говорит о смерти. Разве я не чувствую, что таю как свечка!
В эту минуту прилетела птичка и присела отдохнут на перилах террасы: сев, она принялась вертеть головкой во все стороны, точно боялась, чтоб её не спугнули; потом успокоилась и начала прыгать и клевать носиком; наконец посмотрела на дитя, запела, подняла крылышки и улетела.
– Ах, если б я мог полететь за нею, – воскликнул Виргилий. – Она верно знает своего отца, и верно, мать, смотрит из гнезда и ждет её возвращения. Мать моя! мать моя! Беатриче, скажи мне, где теперь наша мать?..
– Наша мать? Она там – в раю.
– Я знаю, душа её там, со святыми: но я желал бы знать, в каком месте ее похоронили? Можешь ты показать мне, Беатриче? Граф никогда не позволял водить меня на гробницу матери.
Беатриче, желая переменить тяжелый разговор, встала и, исполняя желание ребенка, посадила его на перила террасы и перевесилась всем телом вперед.
Солнце закатывалось и посылало земле, на прощанье, своя последние, грустные лучи. При каждом потухающем луче, представлялось новое чудо: краски делались все нежнее и слабее, как звук песни на поверхности воды. Шпили колоколен, верхушки гор, отдаленные тучи, казалось, старались удержать последний, трепетный луч, – так с балкона или с пригорка, машут путешественнику белым платком, до тех пор, покуда фигура его не сольется с вечерней темнотой… О Боже! он сейчас исчезает! Глаза матери, потемневшие от слез, уж не различают его более; она вытирает их своим покрывалом, в надежде еще различить его вдали, напрягает их еще с большей силой… увы! сын её исчез – когда-то она увидит его вновь? Таинственные голоса неба и земли шептались между собою: растения, воды испускали чуть слышные вздохи…
Беатриче наклонилась над перилами, говоря:
– Там, далеко, вон за этими горами, есть земля, которую мать принесла в приданое Франческо Ченчи: там есть церковь святых Петра и Павла. В этой церкви, в мраморной гробнице, направо от входа, лежит тело нашей дорогой матери.
От движения тела Беатриче, медальон и спрятанное на груди письмо упали в сад.
– Боже мой, моя тайна! – вскрикнула молодая девушка пронзительным голосом, с зардевшимся от стыда лицом.
Франческо Ченчи, спрятавшись в лавровой беседке, давно не опускал глаз с детей и, казалось, хотел отравить их своим взглядом. Едва лишь он увидел упавшее письмо и медальон, как кинулся, чтоб поднять их, но не так скоро, как ему желалось бы, потому что больная нога служила ему помехой. Беатриче бросила на него взгляд, исполненный ужаса, и с отчаянием повторила два раза:
– Моя тайна! моя тайна! Я отдам жизнь свою тому, кто спасет ее!
Ребенок посмотрел на нее, побледневшую как смерть, взглянул на старика и, полный решительности и храбрости, с отчаянным усилием ухватился за выдающийся карниз террасы, спустился по нем в сад и с быстротою молнии схватил письмо и медальон.
– Поди сюда, – закричал рассерженный старик: – поди сюда… подай мне эти вещи…
И так как Виргилий, делая вид, что не слышит, пустился бежать прямо домой, граф в бешенстве заревел:
– Проклятая ехидна! Подай мне сюда письмо… скорей… Если я догоню тебя, я вырву тебе сердце своими собственными руками.
Ребенок бежал все скорее. Франческо, ослепленный гневом, крикнул:
– Нерон! Сюда Нерон… лови его! – и обеими руками дразнил и науськивал собаку на сына.
Разъяренная собака кинулась, но напрасно. Виргилий пробежал уже порядочную часть дороги, и когда он услышал за собой собаку, когда ему представилось, что она уже вцепилась зубами в его икры, у него точно выросли крылья: – он уже не бежал, а летел. Переступая на две ступеньки разом, взбежал он по лестнице, вручил сестре письмо и медальон, и задыхаясь и выбившись из сил, повалился у ног Беатриче.
Мгновение спустя, собака с лаем кинулась на террасу: глаза у нее так и горели, горячий пар валил изо рта. Беатриче в испуге бросает кругом отчаянный взгляд и видит в нише древнее оружие, сложенное для украшения террасы: она выдернула шпагу и стала перед лежащим братом. Разъяренная собака, нагнув морду, бросилась в сторону, чтоб добраться до него, но неустрашимая девушка наносит ей в грудь удар с такой силой, что шпага вонзается до самого сердца. Обагренная кровью, собака с воем повалилась на спину и тут же околела.
Теперь новая опасность, и еще большая. Франческо Ченчи является взбешенный, с кинжалом в руке; он едва может говорить от злости.
– Где эта зловредная змея, чорт побери! Кто убил Нерона?… Кто?
– Я.
– Хорошо, разделаюсь и с тобой… но прежде давай змею.
И он нагнулся, чтоб заколоть сына. Беатриче подняла окровавленную шпагу, направила её острие к груди Ченчи и с выражением лица, которое передать невозможно, сказала:
– Отец… не тронь его…
– Изверг! Поди прочь, говорят тебе, – кричал отец, стараясь добраться до лежащего ребенка.
Беатриче с страшным спокойствием повторила:
– Отец! не тронь его!..
При звуке этого голоса, который заключал в себе в одно и то же время и последнюю мольбу и последнюю угрозу, Франческо Ченчи остановился и устремил глаза на дочь.
Куда девалась девушка, с нежным выражением лица? Широко раскрытые глаза Беатриче сверкают как молния, вздернутые ноздри дрожат, губы сжаты, грудь высоко подымается и распустившиеся волосы падают на плечи: одна нога её вытянута вперед, все тело откинулось назад, левая рука сжата в кулак, правая с поднятой шпагой готовится нанести удар. Ни живописец, ни скульптор не сумели бы изобразить Беатриче в эту минуту; слова и подавно не в состоянии этого сделать.
Франческо Ченчи был поражен и в восхищении смотрел на нее; рука его опустилась и выронила кинжал; на минуту душа его смягчилась. Беатриче отбросила меч в сторону. Старик простер к ней объятия и с нежностью воскликнул:
– Как ты хороша, мое дитя!.. И зачем ты меня не любишь?
– Я? Я буду вас любить… – и она бросилась к нему на шею.
Отец и дочь обнялись.
Но добрые чувства длились у нечестивого старика так же коротко, как блеск молнии. Он чувствовал к добру такое же отвращение, как другие к злу. В одно мгновение в нем явились все признаки преступного пароксизма: глаза его прищурились, веки затрепетали тем сладострастным трепетом, от которого пробегала дрожь по телу; он уже гладит её волосы, трогает шею и плечи, целует ее и, наклонившись к ней на ухо, шепчет ей что-то…
Беатриче вдруг откинула назад бледное, как смерть, лицо; вырвалась из его объятий, взяла на руки лежащего брата, и уходя бросила на Франческо взгляд, полный такого грозного пренебрежения, что у него, не боявшегося ни Бога, ни людей, кровь похолодела в жилах.
Он долго оставался неподвижным, повергнутый в глубокое раздумье: в душе его происходила страшная борьба. Но голос зла победил. Какие мысли пришли ему на ум? Над чем он колебался? Что решил? Кто это знает! Может быть, сам демон с ужасом отвернулся бы, если б заглянул в душу Франческо Ченчи. Надо однако думать, что в этом водовороте дурных замыслов он остановился на самом худшем; потому что, ударяя себя рукою в лоб, он пробормотал сквозь зубы:
«Как бы не так! Я, которому хотелось бы и самой заре, когда она показывается на горизонте, крикнуть иной раз: „назад! ты будешь светить, когда я дам тебе позволение…“ я позволил остановить себя на полдороге, и кому же? соломинке – воле ребенка! Погоди же, злодейка! Все до сих пор гнулось под моею железною рукою; и ты согнешься, или я изотру тебе в порошок и душу и тело».
Глава VII. Церковь св. Фомы
Церковь св. Фомы, принадлежавшая фамилии Ченчи, была убрана черным сукном: на стенах висели траурные украшения и гирлянды цветов, перемешанных с кипарисными ветками: семь открытых гробов, из черного мрамора, ожидали своих покойников, как отверстые пасти ожидают пищи; на всех них была одна и та же надпись:
Mors parata, vita contempla.[8]
И дальше, восьмой гроб, роскошнее других, из превосходного, белого мрамора, с такою надписью:
Si charitem, caritatemque quaeris Hinc intus jacent Non irigratus haeros. Neroni cani benemerentissimo Franciscus de Cinciis hoc titulum Ponere curavit…[9]Посредине церкви стоял бархатный катафалк, вышитый золотом и убранный цветами. Кругом катафалка стояли шесть серебряных канделябров удивительной работы, с зажженными свечами.
Хор священников, в черных ризах, ожидал покойника, чтобы отслужить богатые похороны.
Скоро послышались мерные шаги; и минуту спустя, занавеска боковой двери поднялась и в ней показался маленький гроб, который несли двое мужчин и две женщины.
Джакомо и Бернардино Ченчи поддерживали гроб спереди, Лукреция Петрони и Беатриче сзади.
Покойник был Виргилий. Господь услышал вторую часть молитвы несчастного ребенка: он покоился в мире.
Позади шло несколько домовых слуг, в богатых, траурных одеждах, с зажженными свечами. Нельзя было видеть без жалости и удивления, что слуги были одеты лучше, чем Джакомо и Бернардино: особенно платье Джакомо было так истерто, что им пренебрег бы самый бедный римский дворянин. Волосы его были растрепаны, борода длинная, воротничок и рукава грязные; он держал голову вниз, точно стыдился самого себя; лоб его был покрыт морщинами, щеки бледны и худы: он проливал горькие слезы. Лицо его ясно выражало две противоположные страсти: жалость и дурно скрытую досаду. Бернардино тоже плакал, но более из подражания, чем по собственному побуждению; потому что, хотя он и не совсем одурел, но его ум был затемнен страхом к отцу, совершенным неведением всего и невежеством, в котором отец всячески старался его поддерживать. Лукреция, хотя была и мачехой Виргилия, но также проливала слезы. Но так как она была скорей ханжа, чем христианка, то она скоро и легко всему покорялась, терпеливо перенося несчастия и приписывая святой воле Божией всякое событие в жизни, как хорошее, так и дурное.
Франческо Ченчи женился на Лукреции именно потому, что слышал про её большую набожность и что раз как-то она, слушая рассказы о его жизни и неверии, воскликнула: «Господи! я скорей бы вышла за муж за дьявола, чем за графа Ченчи». Тогда он начал за ней ухаживать; притворился человеком примерной нравственности; стал посещать церкви, научился опускать вниз голову и очень трогательно подымать глаза и руки к небу; и в особенности стал щедр на подаяния. Он умел рассказывать жития святых и рассуждать о форме и сущности святых даров лучше всякого францисканца. Лукреция начала думать, что его оклеветали. Во всяком случае, разве он не мог обратиться на путь истинный? Может быть, по воле святой Девы, ей было суждено вырвать эту душу из когтей дьявола? Набожные женщины находят столько сладости, столько гордости в этой борьбе с дьяволом за душу, что, говоря вообще, они не удовлетворяются первым обращением, а с похвальным рвением трудятся над вторым, а второе поощряет их на третье, и т. д.; и если б в них было столько же силы, сколько доброй воли, то нет сомнения, что они посвятили бы всю жизнь на такое доброе дело. Как это, так и увещания родных, огромное богатство и знатность Ченчи подвигли Лукрецию на согласие вступить во второй брак с Франческо Ченчи.
Как только граф ввел в свой дом Лукрецию, он сказал ей, как будто в шутку: «Вы говорили, что скорей пойдете за муж за дьявола, чем за меня: я взял вас для того, чтоб доказать вам, что вы были правы»; – но он серьезно сдержал слово.
Он начал с того, что каждый день становился на колени подле нее, когда она читала молитвы, и пел непристойные или богохульные песни: она открывала молитвенник, он открывал произведения Маркантония Раймонда или Петра Аретина: он старался разрушить в ней всякое чувство религии и нравственности и наполнить ей душу сомнением и ужасом; но Лукреция ничего не понимала из всей этой чертовщины и большею частью даже и не слушала мужа. Иногда, когда её порочный муж, устав говорить, делался молчалив, она начинала или продолжала читать свои молитвы; вышло так, что Франческо Ченчи вместо того, чтобы бесить других, мучил самого себя; вместо того, чтоб привести ее в отчаяние, он сам кусал себе губы от досады и сходил с ума от злости. Когда это средство оказалось неудачным, он изобрел другое: заставлял ее слушать рассказы о своих ежедневных любовных похождениях; но когда и этим не удалось рассердить ее, он наполнил дом распутными женщинами; он не удерживался ни от слов, ни от действий, способных оскорбить достоинство женщины и жены, но она и тут с неизменным терпением говорила ему: «Да наставит вас Бог и простит вас, как я вас простила». Франческо не находил средства расшевелить эту холодную и незлобивую натуру. Часто, ослепленный бешенством, он унижал ее в присутствии слуг; он оскорблял ее всячески, бил ее; оставлял на лице следы своего зверского бешенства; заставлял ее терпеть недостаток в одежде и в пище… Но он только напрасно терял время: она все переносила с покорностью, во имя Христа, во искупление грехов своих. Франческо, чтоб не биться лбом об стену, перестал преследовать ее. Невероятная вещь! у него скорее истощилась способность ее мучить, чем у нее истощилось терпение. Он решил, что она истукан, и оставил ее в покое, как мертвую натуру, которую не стоить ни терзать, ни ласкать.
Одна Беатриче не плакала; глаза её были неподвижно устремлены на покойника и она как в беспамятстве, бессознательно следила за движениями других.
Когда дошли до катафалка, Беатриче взяла на руки мертвого брата и сама уложила его на катафалк, поправила ему волосы, положила на грудь распятие и букет фиалок; потом, отодвинув один из канделябров, облокотилась на край гробика и не сводила глаз с покойника.
Один из слуг смотрел на Беатриче глазами, похожими на два огненных языка, и иногда вздрагивал: слуга этот был Марцио.
Кроме четырех уже названных детей, у Франческо Ченчи было еще трое детей; Кристофан и Феликс, которых он послал учиться в Саламанку, и Олимпия. Эта девушка, бойкая и решительная, будучи не в силах больше выносить отцовские преследования, написала свой дневник, где очень верно и откровенно изложила все поступки отца, и потом, несмотря на домашнее заключение, под которым она находилась, сумела устроить так, что дневник этот был подан Святому отцу, вместе с просьбой, в которой она умоляла его поместить ее в монастырь, покуда ей не представится случая выйти честным образом замуж. Сметливая девушка привела, из гнусных поступков отца, только самые вероятные и такие, в которых легко было удостовериться; о других она умолчала, понимая, что чем сильнее безобразие, тем менее оно заслуживает доверия, и приводить факты невероятные, хотя и справедливые, значит отнимать веру и в вероятные. Кроме того она думала, что дочь, жалуясь на отца для собственного спасения, не должна выходить из границ необходимости, чтоб не дать возможности заподозрить в жалующемся неестественной ненависти против своей собственной крови. Папа, оценив умеренность молодой девушки, решился подать ей помощь; он взял ее из родительского дома, поместил в монастырь и в скором времени отдал замуж за графа Карла Габриелли, знатного и уважаемого дворянина из Губио, которому заставил графа Ченчи выдать приличное приданое. Рассказывают, что граф Ченчи; придя в ярость за этот успех Олимпии, дошел до того, что обещал сто тысяч скудо тому, кто возвратит в его дом ненавистную дочь, живую или мертвую; но папа был могущественнее его; и в этот раз Ченчи опять пришлось грызть свои удила…
Не имея возможности выместить досаду на бежавшей дочери, он с усиленной жестокостью стал преследовать тех детей, которые остались. Поражение, нанесенное его необузданному самоуправству, терзало его душу, и его видели часто, как Августа, после потери легионов Кара, бродящего по комнатам своего дворца, ломая руки.
Беатриче ничего не видела, ничего не слышала: только когда священник окропил святой водой гробик и одна капля с лица покойника брызнула ей на лицо, она вздрогнула, сделалась еще мрачнее и потом прошептала:
– Это предзнаменование, – я его принимаю.
Толпа слуг и монахов выходила из церкви вслед за священниками, потом понемногу разошлись и все соседи, пришедшие помолиться за упокой души Виргилия. Ченчи остались одни с покойником. Добрый народ от всего сердца плачет над чужим горем; правда, он скоро и забывает его, потому что свое собственное несчастье поглощает у него все слезы, а часто их даже и не хватает.
Все стояли на коленях, опустив руки и повесив головы. Беатриче, одна не меняя своего прежнего положения, вдруг подняла голову, бросила строгий взгляд на этих несчастных, и повелительным голосом воскликнула:
– О чем вы плачете? Встаньте! Знаете, кто убил нашего брата? Да, вы это знаете, но боитесь даже про себя произнести его имя. Того, чье имя вы я про себя произнести не смеете, я назову вам громко: это его отец… наш отец… Франческо Ченчи.
Стоявшие на коленях не шевельнулись, но их рыдания усилились.
– Встаньте, я говорю вам; тут нужны не слезы! Надо позаботиться о нашем собственном спасении, и теперь же, если только мы не хотим, чтоб наш отец убил всех нас.
– Успокойся, дочь моя, успокойся, грешно предаваться гневу, – ответила Лукреция: – поди, встань тоже на колени и покорись воле Божией.
– Что вы говорите, синьора Лукреция? Вы думаете служить Богу и богохульствуете. Послушать вас, так подумаешь, что Бог создал воду для того, чтоб топить нас; огонь, чтоб жечь нас; железо, чтоб резать нас… Где вы читали, что обязанность отца – мучить детей своих, и обязанность детей – позволять себя мучить? Так, стало быть, нет границ, вне которых сопротивление возможно? Стало быть, всякое возмущение законно? Неужели природа сделала клеймом на лбу целых поколений людей: терпи и молчи? Разве есть что-нибудь ужаснее детоубийства? скажите мне; потому что, хоть я и знаю много беззаконий, которые делаются на свете, но может быть, еще не все знаю. Я знаю, что есть три вещи, которых перечесть нельзя: звезды на небе, дурные мысли в сердце человека и страдания несчастных… может есть и еще что-нибудь, тогда скажите мне и это. Ах, синьора Лукреция, как же вы мало любили бедного Вергилия!..
– Как! я не любила его? Это милое дитя было мне так дорого, как будто я сама родила его.
– В самом деле? Эти слова легко сказать, но на деле оно едва ли так. Любовь матери не выдумывается. Если б это было ваше дитя, если б вы выносили его, родили его в муках, вы бы теперь не плакали, а вопили. Но что удивительного, что люди не внемлют голосу крови, когда ему даже небо не внемлет? Крик Авеля теперь не достиг бы до Всевышнего… Но если небо сделалось глухо, то мое сердце осталось прежним: оно стонет, и содрогается, и бьется, как и в те времена… А ты Джакомо, ты мужчина. Неужели ты ничего не чувствуешь тут? – и молодая девушка ударила рукою по груди брата.
– Беатриче, – отвечал Джакомо Чеичи: – я уже не тот, что был прежде: лучшая часть меня самого погибла; я кажусь тенью, воспоминанием прежнего себя. Посмотри на меня… разве ты скажешь, что мне двадцать пять лет? Что можно сделать против судьбы? Я боролся больше, чем ты думаешь, я изо всех сил кусал мою цепь, покуда она не искрошила мне зубы… Посмотри, сестра, да какого унижения я доведен. Мне не во что одеться, у меня даже нет рубашки, я лишен средства держать в чистоте тело, – разве это не унизительно дворянину? Но это было бы еще небольшое горе, если б я страдал один; у меня часто не достает хлеба, чтоб накормить детей. Из двух тысяч скудо, которые отец обязан платить мне по повелению папы, он мне едва, да и то с трудом, дает восьмую часть; доход с приданого Луизы он отнимает у меня; я часто вижу детей своих нагими, жену в слезах и всех голодными… Я бегу из дому, чтоб не слышать этих криков; но они меня преследуют до отчаяния. Скажи мне, что же я могу сделать?
– Отчего мы не обратимся к папе? Олимпия обращалась же к нему, и ей удалось.
– А разве я не обращался? Я падал к его ногам, обливал пол слезами, просил его за моих детей, за вас и за себя. Я ему рассказал подробно ужасные поступки отца, я не скрыл от него и самых тайных, самых гнусных; умолял его именем Бога, которого он представляет на земле, не отказать нам в помощи. Строгий старец не был тронут, он не моргнул глазом; точно я просил помощи у бронзовой статуи св. Петра, ноги которой истерты поцелуями и все-таки остаются холодными. Он выслушал меня с неподвижным лицом, устремив в меня свои серые глаза, взгляд которых был тяжел, как свинец, и потом медленно произнес эти слова, которыя падали мне на сердце, как хлопья снега: «Горе детям, которые открывают отцовский позор! Хам за это был проклят. Сим и Афет, оказавшие уважение к отцу своему, получили благословение Божие, и потомство их обитало в вечных селениях Ханаана. Читали ли вы где-нибудь, чтоб Исаак роптал на Авраама? Разве дочь Афета удалилась в горы для того, чтоб проклинать отца своего? Отцы представляют Бога на земле. Если б ты с уважением наклонял голову, чтоб поклоняться, ты не видел бы ошибок твоего родителя, и не обвинял бы его. Ступай с Богом». И, говоря это, он прогнал меня с глаз. Теперь ты видишь на деле: Олимпия теми же доводами нашла путь к милости папы; я, напротив, заслужил равнодушие и презрение: в этом видна судьба, а что может человек против судьбы?
– Может умереть.
– Ах! У тебя нет детей, Беатриче, у тебя нет мужа, а у меня жена, любящая и любимая. Если б я не был отцом, давно бы мое тело вытащили вместе с рыбою в Остии; но придет день, и скоро придет! Я вижу, что это одно средство избавиться мне от ежедневного, невыносимого отчаяния. Когда я прохожу мимо Тибра, мне все кажется, что плеск воды под мостами говорит мне: пора! И конечно этим кончится… даже Беатриче побуждает меня на это…
Беатриче несколько раз менялась в лице, пока говорил Джакомо: внутренняя сила видимо побудила ее сказать что-то, но она удержалась; наконец, протянула руку Джакомо и произнесла тихо:
– Брат, я сказала необдуманные слова… прости меня и забудь их. Теперь встань… Кто слишком преклоняется к земле, того и поступки отзываются грязью… Будь человеком. Я в порыве горести усомнилась в милости Божией; но он простил меня, потому что я чувствую, как нисходит в душу мою спокойствие, а с подобным сердцем можно решиться на что-нибудь доброе…
– Ага! между алтарем и гробами затевается заговор?.. – вдруг раздалось сзади.
Дрожь пробежала по телу всех: они обернулись с перепуганными лицами и увидели старого графа, который точно вырос из под полу, с багровым лицом, весь в черном и с красной шапочкой на голове, какую носили патриции того времени. Лицо гордого старика было неподвижно и страшно своим спокойствием; оно было непроницаемо и зловеще, как лицо сфинкса. Все прижались друг к другу молча, и не смели поднять глаз. Так птицы, притихнут вдруг под деревом, с приближением сокола, и из кажется, что он их не видит. Одна Беатриче храбро и неустрашимо стояла перед графом.
– Святые пусть будут свидетелями того, как достойные дети делают заговор против жизни своего отца. Вперед… что же вас удерживает? Чего вы боитесь? Какое сопротивление может оказать вам один слабый, безоружный старик? Место удобное… в присутствии Бога… алтарь готов… готова жертва… где же ваш нож, злодеи?
Все в оцепенении молчали. Франческо спокойным голосом продолжал:
– А! вы не смеете… мои глаза пугают вас?.. ни у кого из вас не достает храбрости смотреть мне в лицо? Бедные дети! Ну хорошо, если вы не знаете, я научу вас, как привести в исполнение ваш замысел… и со всею подлостью, на какую вы способны. Ночью, когда все покоится, и отец ваш… Франческо Ченчи… одним словом, я сплю… тогда моя глаза не будут наводят на вас ужас… тогда вы поскорей вонзите мне острый кинжал… хорошенько выточенный между двумя молитвенниками – вот сюда в левый бок… вы увидите, как он легко войдет. Жизнь старика это нитка: даже рука ребенка… даже лапка этого насекомого (и при этом он поднял ручку покойника, которую отбросил потом с неимоверным презрением, так что она тяжело упала на край гробика) могла бы разрезать ее.
При этом некоторые невольно закрыли себе лицо руками. Граф с тою же страшною ирониею продолжал:
– Я понимаю… вы и молча заставляете понимать вас. С вас не довольно моей смерти… вы хотите пользоваться плодами вашего преступления. Это хорошо; но мне тоже дорога честь вашего рода. Я сам не вынес бы, чтоб семейство мое было опозорено наказанием… самое преступление вздор. Ну так слушайте меня… мы тут между своими… нас никто не может выдать: – вы приготовьте мне зелье усыпляющее… царство природы изобилует травами, которые имеют такие свойства! О природа! alma parens, ты с самых первых дней сотворения, производя столько ядовитых трав, предвидела будущие нужды и желания детей… как эти, которых я произвел на свет любящими и хорошими… Предусмотрительная мать! Видите-ли… бросить меня вниз с балкона, разве уж с очень высокого, я бы вам не советовал; потому что от этого редко умирают сразу, и боль могла бы вырвать у меня тайну, которую сердце напрасно старалось бы скрыть. Вы могли бы еще… да, клянусь святым Феликсом, патроном нашей фамилии… это было бы сродство истинно царское; – вы могли бы сделать, как король Манфред, которого хотя и трудно назвать святым, но нельзя также считать и за дьявола, потому что Данте поместил его в чистилище. Манфреду, видите ли, нетерпелось наследовать королевство Сицилии, а отец его, император Федерик, вовсе не торопился умирать: как тут быть? Жизнь отцов находятся в вечном противоречии с жизнью детей. Есть же люди, которых ремесло помогать смерти? И кто знает, кому бы вы были более благодарны: бабке первых или бабке второй? Я понимаю ваше нетерпение… а мне простите за это мое многословие, хотя бы в благодарность, что я же и учу вас, как от него избавиться навсегда. Манфред читал у постели отца; глаза старика отяжелели и он заснул так крепко, что слабое дыхание только показывало в нем присутствие жизни… дыхание до того легкое, что оно едва могло бы помутить зеркало или может быть перо… словом дыхание такое же, как мое… он вытащил подушку из-под головы отца и положил ее на него… как видите, дело одного мгновения; потом вскочил на постель, обоими коленами уперся ему в грудь, обеими руками прижал подушку ко рту и ноздрям… и оставался в этом положении, покуда не отправил отца, который ему ни на что не был нужен, и не приобрел короны, которая ему была необходима…
– Ужасно! Ужасно! – воскликнула Беатриче.
– Ужасно! – повторили другие.
– Чего ж вы пугаетесь? Вы боитесь обжечь пальцы о раскаленные угли ада, и затеваете играть роль дьяволов за земле? А вы разве не знаете, что для того, чтоб быть дьяволом, надо плавать шутя в огненном море и смеяться в муках? Тогда человек считается достойным обмочить свои руки в крови, как губы в вине, и говорить даже в присутствии Бога: «я не грешил.» А! вы думаете делать преступление, как бабочки, взмахом крыльев? Предоставьте мне суровую роль сатаны, потому что я чувствую себя злодеем всеми силами своих способностей. Посмотрите на эти семь гробов… я приготовил их для вас, для Олимпии, Кристофана и Феликса… вы тут не видите моего гроба, потому что я хочу умереть после всех вас. О, Боже, которого не знаю, если еще ты хочешь приобрести во мне поклонника, который уверовал бы в тебя такого, каким тебя видел Моисей, могучим и ревностным карателем четвертого и пятого поколения ненавидящих тебя, пошли мне счастье присутствовать при предсмертных муках моих детей, закрыть им глаза и уложить их на покой в эти гробы! Даю клятву благородного дворянина – зажечь тогда свой дворец и самому в нем сгореть. Но если ты не можешь оказать мне этой милости, я согласен умереть прежде них, с тем условием, чтоб мне было даровано право протянуть из могилы руку и увлечь их за собою… Но ты меня не слышишь. Ну, так я и сам позабочусь; оно будет лучше; потому что человек, покуда в нем есть дыхание, не должен сообщать своих мыслей о мести никому – даже Богу. Ступайте, избавьте меня от вашего ненавистного присутствия. Ступайте вон!
Он сделал движение рукой, как будто хотел оттолкнуть всех от себя; но ему вдруг пришла, по видимому, другая мысль; он кинулся к Джакомо и, схватив его за правую руку, заставил вернуться; потом, глядя на него пристально и приблизив к нему лицо, начал говорить:
– Ты жаловался, что у тебя нет рубах… лентяй! Ступай на гробницу той, которая была твоей матерью, подыми крышку, возьми простыню, в которую она завернута, и отнеси ее своей жене, пусть она сошьет из нее рубашки твоим детям. Да скажи ей, чтоб она оставила от нея два куска: один, чтоб закрыть тебе лицо, когда ты умрешь недоброй смертью, а другой, чтоб обтирать себе слезы, если она будет такой дурой, что станет проливать их по такому мерзавцу, такому низкому, отвратительному созданию, как ты…
– Ради Бога! оставьте меня, граф… – закричал Джакомо, дрожа всем телом и употребляя все усилия, чтоб вырваться из рук жестокого старика.
– Нет, я не оставлю тебя, покуда не научу, как находить то, что тебе нужно. Хочешь хлеба для своих детей? Принеси домой горсть праха твоей матери, пускай едят его… змеи питаются землею. Или лучше, ступай, отнеси им мое проклятие, которое я дарю им неотъемлемо inter vivos[10]… ты им посыпь их детские головы… не бойся оно не падет на камень… не отворачивай лица… я говорю тебе правду: уж это обычай в нашем семействе, что дети ненавидят отца; мы от дьявола родились и к дьяволу вернемся; проклятие, которое ты посеешь, тебе вернется с лихвою во время жатвы. Пускай у тебя с женою не будет друг для друга иных слов, кроме слов брани и ненависти; пускай она выгонит тебя из постели, опозорит твое ложе; пусть жизнь твоя сделается пыткой, смерть – облегчением…
Он наговорил бы еще больше, если б Джакомо, сделав отчаянное усилие, не вырвался из его рук и не убежал, заткнув себе уши.
– Беги… беги, – продолжал злой старик; – напрасно ты затыкаешь себе уши; мои слова имеют то же свойство, как раны моего блаженного патрона, святого Франческо: они жгут тело, разъедают кости… после смерти еще видны их следы…
Лукреция и Бернардино, дрожа от страха, пустились бежать вслед за Джакомо; осталась одна Беатриче, неподвижная у изголовья гроба.
– А ты не трепещешь? – спросил ее отец.
Беатриче, не отвечая ему, повернулась с благоговением и сложив руки к алтарю, сказала:
– Святой крест… ниспошли свою милость на эту несчастную душу…
– Безумная! что ты говоришь о кресте? Тут нет ни Христа, ни Бога…
– Замолчите, старик. Подумайте, что вы с минуты на минуту можете быть призваны перед его святое судилище, и что он один… да, он один может помиловать и спасти вас.
Старик хохотал и скрежетал зубами.
– Хочешь иметь доказательство, что я невредим? Вот оно!
И, взойдя на ступеньки алтаря, он со всей силы ударил кулаком но мраморной доске, говоря:
– Боже! если ты находится в этом алтаре, обрати меня в пепел… я вызываю тебя, чтоб ты меня разгромил за мое нечестие… – Говоря это, он положил голову на алтарь и, пробыв в этом положении несколько времени, раза три крикнул: не слышишь? – Наконец поднял эту проклятую голову. Члены его тела дрожали, но не душа. Он посмотрел на дочь; его сморщенные глаза начали щуриться и смеяться смехом ехидны; он подошел к ней, как гроза. Она даже не моргнула.
– Поди ко мне, Беатриче, тебя одну люблю я… ты свет моей жизни… ты…
И, одержимый дьявольским безумием, нечестивый старик приближается к Беатриче, уже прикоснулся к ней, уже в исступлении готов обнять ее; но она отскочила в ужасе на другую сторону гроба и воскликнула:
– Между вами и мной пусть будет ваше детоубийство!
При этом быстром движении она толкнулась о гроб, который опрокинулся вместе с покойником, увлекая за собою гирлянды цветов и канделябр с зажженными свечами; канделябр повалил Франческо Ченчи на землю. Голова покойника упала на голову старика; светлые волосы мертвого ребенка и седые волосы живого старика смешались между собою – и вспыхнули от зажженных свечей.
Старик корчился, как змея, которую давят, и, проникнутый невыразимым ужасом, ревел:
– Мертвец жжет меня!..
С отчаянным усилием он высвободился от трупа и с трудом смог стать на ноги. Как ужасен был в эту минуту Франческо Ченчи! Обожженные волосы еще дымились, щеки и висок распухли от обжога, глаза подкатились, так что из них были видны одни желтые белки, налитые кровью; все члены судорожно дрожали.
– Ага, Франческо Ченчи! – бормотал он, скрежеща зубами – ты испугался! Трус! ты испугался! Ребенок и покойник напугали тебя…. теперь я вижу, что ты, в самом деле, стар!
Беатриче исчезла. Старик, шатаясь, пошел в свои комнаты, исполненный страшных и кровавых замыслов.
Глава VIII. Отчаяние
Сырой ветер широко с силою дует с моря, нагоняя на Рим тучу за тучею, которые пугливо и зловеще бегут одна за другою, как лошади Апокалипсиса. Эти тучи наполнены гневом Божьим и носят в своем чреве ураганы, заразы и молнии для какой-нибудь осужденной на гибель головы. От дуновения этого разлагающего ветра тело постигает слабость и раздражительность; на стенах домов показывается сырость; волосы прилипают к щекам; холодный пот выступает вокруг шеи… Душа легко поддается гневу; в словах является горечь; самые мягкие голоса делаются пронзительными… Закроешь окна, начинает томить тоска; откроешь их, вещи, листы бумаги, все разносится ветром по комнате; пыль набивается в волосы, в складки рубашки и засоряет глаза.
В такой-то ветер, поздней ночью, в убогой комнате, сидели и разговаривали между собою муж и жена; перед ними стоял простой деревянный, некрашенный стол, и на столе грустно догорала, как чахоточный, сальная свеча, едва освещая комнату и бросая вокруг свет настолько, чтоб можно было рассмотреть наружность разговаривающих. Мужчина казался убитым горем; руки его висели, как у человека, доведенного до отчаяния; женщина была подавлена страданиями, но взгляд её сохранил еще истинно римскую мощь и все еще был полон огня. Она видимо была взволнована чем-то и с жаром говорила:
– Нет, я никогда не поверю всем этим злодействам… Ведь это ужасно: от таких дел солнце может остановиться на небе.
Мужчина этот был Джакомо Ченчи, женщина – Луиза Велиа. Джакомо, как мы уже сказали, было едва двадцать шест лет; он был невысок ростом и скорее полон, чем худ; но теперь он сидел ужасно исхудалый. Выросший под отцовским гневом и не испытав кротких увещиваний, способных смягчать сердце, он, может быть, следуя дурному примеру, вышел бы похожим за отца, если бы любовь не завладела во время его душой и не сделала ее способной к самым нежным чувствам. Он влюбился в Луизу, прелестную и достойную девушку, но не знатнаго, хотя и старинного рода; и она отвечала ему не потому, что он принадлежал знатной фамилии, но потому что знала, как безмерно он несчастлив.
Нет существа, которое более воспламенялось бы самопожертвованием, как женщина. Создание нежное, она легко увлекается всем тем, что ей кажется великодушным: для нее блаженство – облегчать страдания других, ухаживать за опасно больным. Когда медик и священник покидают умирающего, кто остается у его изголовья? Женщина. Она была его радостью, может быть и горем, в жизни; но в несчастии она остается его ангелом хранителем; и после его смерти, на коленах у его дома, читает молитвы по усопшем. Женщина после всех покидает мужчину, – даже после надежды.
Если знамя свободы и религии нуждается более в мужчинах для борьбы, то у него было больше женщин для проповеди и для страданий. Девственницы первых времен христианства, в цвете молодости, с восторгом окрасили белые розы своих гирлянд своею собственною кровью. Неужели было бы грешно верить, что один взгляд, которым христианская девственница обвела толпу в то время, когда поднятый топор, предназначенный для её головы, рассекал уже воздух, обратил большее число людей в веру Христову, чем проповеди Иоанна Златоуста? Если это грех, я смело исповедываюсь в нем.
От брака Луизы Велиа с Джакомо Ченчи родилось в короткое время четверо детей. Жили они сперва, хотя и несоответственно высокому происхождению Джакомо, однако довольно удобно, покуда у Франческо Ченчи не прошел страх, навеянный повелением папы, заставившим его выдавать сыну пенсию в 2000 скудо в год. Зная, что папа не станет следить за этим, Ченчи начал понемногу уменьшать пенсию и, наконец, перестал почти вовсе выдавать деньги. Наконец семейство Джакомо впало в большую бедность и начало терпеть нужду в самом необходимом.
Луиза, хотя и страдала сильно, но не столько за себя, сколько за семейство, и потому крепилась, на сколько у нее хватало силы; она обращала к мужу веселое лицо и убеждала его не падать духом, говоря, что все изменится к лучшему. После туч показывается солнце, говорила она, и проходит дурное; не может быть, чтоб такое положение продлилось…. – и тому подобные общие места, которые в этих случаях произносят губы и которым верит сердце. Увы! слишком часто судьба, вцепившись в волосы человека, тащит его в могилу и до тех пор не оставит, пока не зароет в нее и не затопчет ногами землю, которую на нее насыплет. Богу одному было известно горе достойной женщины; и как часто разрывалось сердце её при виде своего благородного мужа, одетого не только бедно, но грязно, – детей, полунагих и часто голодных. Частые потрясения даже немало изменили её душу, и она не без усилия подавляла голос упрека, который подымался в ней и укорял за слишком большое долготерпение. Она начинала жалеть, что принесла себя в жертву. Это было заметно и в её обращении с мужем; но Джакомо, постоянно подавленному горем, было не до того, чтоб замечать что-либо.
– Луиза, друг мой, – проговорил он таинственным голосом: – это еще не все… то ли он еще делал!.. Слушай… подвинься ближе, чтоб дети не слышали.
Но так как она не придвигалась, почувствовав как бы отвращение, то Джакомо сам придвинул свой стул к ней.
– Тебе надо знать, что мать моя была так же добродетельна и хороша… как ты, мой ангел… Но если сама она сохранила свое сердце чистым и верным своему супругу, ты понимаешь, что она не могла запретить другим влюбляться в себя. Синьор Гаспар Ланчи полюбил ее страстно и, действуя менее осторожно, чем следовало бы, он излил свою страсть в очень плохом и довольно невинном сонете, который напечатал и послал моей матери. На другой день он, по своему обыкновению, пришел к ней, в отсутствии Франческо Ченчи. Мать, как только его увидела, встала и, поклонившись ему, произнесла дрожащим голосом: «любезнейший синьор Гаспар, после огласки вашего сонета, я думала, вы догадаетесь, что женщина с правилами не может больше принимать вас; но так как вы сами этого не поняли, то я вынуждена вам сказать это». Видя его бледность, она однако почувствовала жалость и тотчас не прибавила: «Я желаю вам всего хорошего, синьор Гаспар; но зачем вы говорите мне о любви, которую я, как жена другого, не могу разделить, не сделавшись преступной, между тем как эта самая любовь осчастливила бы девушку? Оглянитесь кругом и вы увидите, сколько в Риме прекрасных и достойных невест; обратите вашу любовь на одну из них и вы можете быть уверены, что она будет принята с радостью, как того заслуживает».
Смущенный синьор Ланчи рассыпался в поклонах, голос его отказался служить ему, и только слезы выступили на глазах. Но так как любовь питается вздохами, слезами и надеждой, то он не переставал показываться под окнами дворца, награждая себя уж тем, что видит стены, где живет предмет его любви. Вдруг однажды, на разсвете, я слышу под окнами своей комнаты крики: «Спасите, Бога ради! спасите!» Я поспешил выйти на улицу, со шпагой в одной руке и фонарем в другой, и увидел у ворот дворца тело Гаспара Ланчи, пронзеннаго насквозь шпагой. Мать моя, измученная уже теми страданиями, какия она претерпевала прежде, впала в большую еще грусть, после смерти бедного Гаспара, причину которой приписывала себе. Еще и до этого несчастья она мало выходила из дому; а теперь уже никуда не показывалась и жила затворницей, вся поглощенная своей скорбью. Измученная старыми и новыми огорчениями, она стала чахнуть, и те, которые посещали ее, видели, что ей уже недолго осталось жить; кроме того, весть о близкой её смерти распространял сам Франческо Ченчи, который воспылал любовью, или лучше сказать, безумием к Лукреции Петрони, нашей мачехе. Раз за обедом, Франческо Ченчи воспользовался минутой, когда мать моя отвернулась, чтоб позвать слугу, и с быстротою, как аспид, всыпал порошок в её стакан. Мать выпила и, находя вино горьким, сделала выговор буфетчику. Граф тотчас велел подать себе сосуд с вином, попробовал его и объявил, что это то же превосходное, аликантское вино, какое и всегда подавалось. Я готов уже был открыть рот и сказать о порошке, но граф, бросив на меня пронзительный взгляд, от которого у меня отнялся язык, сказал: «синьора Виргинио, не обращайте внимания; когда себя чувствуешь дурно, то прежде всего теряешь вкус к вину». И сказав это, он встал из-за стела. Три дня спустя, в этот самый час, мать скончалась, пошли Господи вечный покой душе её! Тело её не бальзамировали, потому что она сильно портилась; закупорили в три гроба и поскорей отвезли на далекие похороны.
Луиза слушала этот рассказ с какою-то недоверчивостью, и когда он кончил, она с упреком произнесла:
– Я не скажу, что граф святой. Упаси Боже! Но это злословие на отца не приносит вам ничего, кроме вреда…
– Чем же я злословлю?
– А разве не за это его святейшество вас выгнал из своего присутствия, как сына без сердца и врага своего родителя?
– Этот дьявол удачлив по крайней мере так же, как и развратен.
– Стыдитесь! Вспомните, что вы говорите о вашем отце и что ваши дети вас могут слышать.
– А если и услышат, что за беда? И прекрасно, пусть знают, как дед не похож на их отца.
– На вас? А! если бы все, что вы рассказываете про графа, было правда, то вы вместе с ним имели бы право на ненависть детей…
– Ненависть моих детей! Луиза, ты с ума сошла сегодня? И Джакомо подумал, уж не бредить ли она?
– Да, да! – не удерживаясь больше, говорила вне себя Луиза – ненависть ко всему вашему роду! Ваши дети голодны и вы не можете найти им пропитания! Они голы, а вы и не думаете о том, чтоб одеть их! О себе я уж не говорю. Вы прежде любили домашний кров; а теперь он вам противен: вы приходите домой редко, всегда бываете суровы, скоро уходите, а о нас и не думаете, хотя мы и ждем вас с беспокойством целые ночи напрасно…
– Луиза! душа моя, может быть, вынесла бы ваши вопли, но она не может переносить немого горя моего семейства, я не в силах видеть столько бедствия. Друг мой, неужели ты хочешь поставить мне в вину мою чрезмерную нежность к вам?
– Скажите, Джакомо, разве от вашего отсутствия легче детям? Разве от того, что они вас не видят, они меньше плачут? Разве от того, что вас нет, они сыты, одеты, утешены? Зачем оставлять меня, бедную женщину, в отчаянии, без совета, без помощи? Разве мы соединились не для того, чтоб помогать друг другу? Зачем же мне одной нести крест?
– Ты нрава, Луиза, но неужели ты не простишь мне моей излишней нежности, или если хочешь моего малодушия?
– Фальшивый, жестокий человек! твоя нежность! твое малодушие! А куда ты тратишь пенсию, которую дает тебе отец?..
– Что значит этот гнев? Разве я тебе не говорил тысячу раз, что он отнял у меня пенсию и, как милостыню, бросает мне по три, по четыре скудо?
– Да, вот как!.. он отнял у тебя пенсию? Он бросает тебе, как милостыню, три, четыре скудо! А твои любовницы? скажи-ка, чем ты их содержишь? А твои незаконные дети? чем ты из кормишь?
– Луиза, ты бредишь…
– О! я не забочусь о себе; я вернусь к своим родителям; и хотя от них и отвернулась судьба, я знаю, что они примут меня радушно. Мне не тяжело работать, чтоб снискивать пропитание. Я не упрекаю тебя за мою отцветшую красоту, за молодость, погубленную с тобою: – конечно, я выхожу из твоего дома совсем другою, чем вошла в него… Что ж за беда? Мы, женщины, – как цветы, которые срывают для минутного удовольствия, – понюхают и бросят. Я тебе не желаю зла, избави меня Боже пожелать зла отцу моих детей…
– Луиза, друг мой!.. Ты напрасно выходишь из себя! Говори спокойней! выслушай меня.
– Ступай в объятия другой женщины… ты все таки не найдешь никого, кто бы любил тебя так, как я тебя любила… Но это слова женщины, и ты можешь на них не обращать внимания… выслушай только, умоляю тебя, слова матери. Сжалься над этими несчастными детьми… посмотри на них… посмотри на меня и сердце тебе скажет, что это твои дети… кровь твоей крови… люби их по крайней мере столько же, как тех, которые у тебя есть от другой женщины, не обрекай их на голодную смерть. Я кормила Анжелико, сколько могла, своей грудью… теперь видишь у меня уж и молока нет… О пресвятая Дева! Даже молоко иссякло у меня в груди… сжалься над бедной матерью!..
Джакомо водил кругом отупелый взгляд, и его перепуганный вид, вместо того чтоб уничтожить, еще усиливал подозрения жены. Наконец, он в отчаянии воскликнул:
– Ах! кто отравил сердце жены моей? Кто отделил плоть от моей плоти? То, что соединила воля Божия, разъединяет злоба Франческо Ченчи. Франческо Ченчи! я тебя вижу в этом! Твое зловредное дыхание поражает меня смертельно… Луиза, скажи, кто оклеветал меня в твоем сердце?
– Клевета! Много ли виновных ударяют себя в грудь говоря: я согрешил? А ожерелье, которое ты купил своей любовнице, клевета? Клевета тоже парчовое платье твоего побочного сына? Перестроенный дом снисходительному мужу также клевета?
– Если бы горе не давило мне сердце, клянусь Богом, твои слова заставили бы меня смеяться. Однако довольно, Луиза; это все ложь…
– Ты говоришь, ложь? Так возьми же, читай.
И вынув письмо из за пазухи, она его бросила ему на стол. Джакомо развернул и стал читать. Это было анонимное письмо, написанное сквернейшим почерком и плебейским слогом; в нем сообщали Луизе о неверности её мужа, о связи его с женою столяра и о том, как он мотал деньги на эту женщину. Ее уведомляли также, что он выстроил им дом и снабдив столяра деньгами для его торговли, не умалчивалось и о драгоценном ожерелье и о великолепных платьях, подаренных этой женщине; говорилось еще, и – это был самый сильный удар сердцу бедной матери – что от этой непозволительной связи родился прелестный ребенок, которого Джакомо любит без памяти. О подарке парчового платьица распространялись с злобным удовольствием.
Джакомо медленно передал письмо жене и, грустно качая головой, сказал:
– И как могла ты, Луиза, жена моя, с твоим здравым умом, поверить этому глупому и гнусному письму?
– Потому, что это правда, – ответила она с жаром, судорожно рыдая.
– Луиза, неужели и ты готова скорей поверить клеветнику, у которого недостает даже храбрости назвать себя, который может иметь, и наверное имеет, самые дурные цели, действуя так бесчестно, хочет вооружить против меня твое сердце, нарушить мое семейное счастье, похитить единственное благо, какое у меня осталось – твою любовь, – поверить ему, а не мне, который любит тебя и хранит, как зеницу своего ока, чтит тебя, как мать детей своих… и который в этом клянется тебе своей душою.
– Я больше верю письму, чем тебе, потому что письмо говорит правду, а ты лжешь.
– Луиза, я кстати напомню вам наставление, которое вы давали мне: вспомните, что ваши дети не только могут вас слышат, но уже слушают, и что я их отец.
– Я нарочно говорю в их присутствии, чтоб они раньше научились знать тебя.
– Молчать, женщина!.. Молчать! Вы не в своем уме! Это все ложь; я клянусь вам честью благородного дворянина, – этого довольно!
– В самом деле, вы дворянин без упрека; вам остается только быть без страха, чтоб походить на рыцаря Баярда! А когда вы уверили меня и мое семейство, что отец ваш дает согласие на нашу свадьбу, вы не клялись также точно честью благородного дворянина?
Джакомо покраснел до самого корня волос, потом сделался опять бледным, наконец с горечью проговорил:
– Та, из любви к которой я сделал вину, не должна бы меня так строго упрекать за нее: тогда страсть к вам отняла у меня рассудок…
– А теперь что у вас отнимает его? – продолжала все с большею настойчивостью безрассудная женщина, не в силах будучи владеть собою.
Раздраженный Джакомо начал сурово унимать ее.
– Замолчите!..
– А если я не захочу молчать?..
– Я найду средство закрыть вам рот…
– Ты найдешь?.. о! ты уж нашел его!.. Когда мы кладем головы на одну подушку, кто знает, сколько раз ты уж думал о том, чтоб уничтожить мою!..
– Луиза!..
– Теперь змея показала свой яд. Жестокий человек! С тебя не довольно жертвы? Ты хочешь, чтоб она молчала, не испустив ни одного вздоха, чтоб не возмутить радости, которую доставляет тебе её смерть. Имей по крайней мере любезность древних жрецов… увенчай твою жертву цветами и покрой ее багряницей…
– Да замолчи хоть раз, ради самого Бога!..
– Нет… я не хочу молчать!.. нет, я хочу говорит!.. я хочу обвинять тебя в твоем беззаконии перед людьми и Богом… изменник… лгун… подлец!..
Негодование закипело в груди Джакомо, уже раздраженной страданиями и несчастьями, подобно воде, которая от сильного жара начинает бить через край. Дрожа от гнева, он принялся искать на себе кинжал; но, к счастью, он потерял кинжал. Убедившись в этом, он в исступлении начал метаться по комнате; ему попалась под руку длинная граненая шпага, с которою он с безумным бешенством кинулся на жену.
Луиза схватила детей, окружила себя старшими и, взяв на руки меньшого, бросилась на колени перед мужем. Тот шел на нее; она даже не моргнула глазом.
– Напои его моею кровью, – говорила она: – молока уж нет у меня… кровожадный!
Джакомо остановился, зашатался, как человек, получивший удар в голову, отбросил шпагу и робко протянул свои объятия жене, но она отвернулась от него, воскликнув:
– Нет!.. никогда!..
Тогда Джакомо, потерянный, обратился к детям и, с невыразимой нежностью, умолял их:
– Дети мои! уверьте вашу мать, что она заблуждается; скажите ей, что я всегда любил ее и люблю. Придите вы в мои объятия… утешьте меня… мое сердце разрывается от невыразимой горести!
– Нет!.. ты заставил плакать маму!
– Ты хотел убить маму… поди!
– Мы тебя больше не любим.
– Поди вон!.. поди!.. – кричали в один голос все трое.
– Поди вон? хорошо… Мои дети отворачиваются от меня… выгоняют меня из дома… я уйду. Но ты по крайней мере, – прибавил он, обращаясь к меньшому, которого Луиза положила в колыбель: – невинное создание, которого люди не могли еще испортить… ты услышишь беспорочный голос природы, прими мое объятие, и пусть это будет единственным наследством, которое может оставить тебе твой несчастный отец.
Ребенок, перепуганный расстроенным видом отца и его судорожными движениями, закрыл личико обеими ручонками и принялся кричать от страху. Джакомо остановился, посмотрел на ребенка и, сложив крестом руки на груди, произнес тихим голосом:
– Вот, отец преследует меня до смерти… жена отвергает меня… дети гонят от себя… сама природа опрокидывает для меня свои законы, и этот ребенок чувствует ко мне инстинктивный ужас, как к чему-то зловещему!.. До этого человек не должен доживать никогда… а я терпел до последней крайности! Как бревно на дороге, я в жизни своей только помеха, ненавистная обуза. Что тебя останавливает теперь, неутешная душа? Ты утешишь и меня и моих детей, когда улетишь из моего тела!.. пойдем. Благословить их, или нет?.. Я желал бы… и не смею… Нет… может быть мои слова прежде, чем коснутся их голов, превратятся в проклятия… Горькая жизнь, несчастная смерть, проклятая память!.. Боже! ты видишь все это! Ты видишь и даешь на это свое согласие!.. Ты сломил согнутый тростник… и я признаю себя побежденным!..
С этими словами, исполненный отчаяния и ухватившись за волосы, Джакомо покинул свой дом. Всякий, кто бы увидел его в эту минуту, будь это даже враг его, сказал бы: «Господи, сжалься над этим несчастным страдальцем!»
Луиза не заметила ухода мужа, а если и заметила, то мало обратила на него внимания, вся поглощенная любовью к детям. Горячие поцелуи и ласки, которые она расточала им в эту минуту, заставили ее позабыть, что самая сильная связь семьи была порвана. Несчастная, как горько заплатит она за ту недобрую минуту, когда она безрассудно предалась слепому негодованию!
Глава IX. Свекор
– Я сама намерена все разъяснить! – воскликнула Луиза и, сделав движение, полное решимости, начала приводить в порядок свою бедную одежду, потом достала черную мантилью, завернулась в нее и, поручив детей единственной служанке, которую держала в доме, отправилась во дворец свекра.
Войдя в переднюю, она не могла не заметить, как лакеи искоса поглядывали на нее, очевидно, принимая ее за что-то неважное. Может быть, они и подняли бы ее даже на смех, если б она не остановила их, обратясь к ним с гордым видом знатной дамы:
– Доложите графу дон-Франческо, что донна Луиза Ченчи, его невестка, пришла навестить его… и что она дожидается в передней…
Слуги как будто попали из огня да в полымя. Они не знали, докладывать о ней, или нет: и то и другое было одинаково опасно. У их господина был такой бедовый характер, что, если его не угадаешь, то самое малое, что могло случиться, это потерять кусок хлеба.
Хлеб! Это та магнитная игла, которая поворачивает в известную сторону стадо сынов Адама.
Хлеб! Это та ежедневная потреба, которую люди слишком часто не умеют доставать себе без преступления и подлости.
Хлеб! Это камень, который нужно привязывать на шею всякому благородному чувству, чтоб потопить его в море зла. Слова нет, велика была мудрость, внушившая молитву к Богу о даровании хлеба насущного; но так как она часто бывает не услышана, то не лишнее было бы прибавить к ней: «а если не хочешь, Боже, или можешь дать мне насущного хлеба, так дай мне по крайней мере твердость умереть с голоду, не делая подлости».
Между тем человек не хочет умереть с голоду, и подлость намазывает себе, как масло на хлеб; незаметно даже, чтоб это ему портило аппетит или расстраивало пищеварение.
Старые лакеи, в которых было более волчьего, чем человеческого, стеснились в кружок и рассуждали, что им делать? но, по-видимому, скоро решили, потому что один из них, мигнув глазом на молодого лакея, очень тщеславного, недавно поступившего к графу, сказал: «подвалить дурака, так он пойдет».
– Кирьяк! – обратились они к новичку – мы даем вам случай показаться барину; вы молоды и ловки, а мы уже старики и не знаем, как и держать себя перед господами… так вам по праву следует доложить о синьоре.
Польщенный честолюбец попался в ловушку; а может быть им владело и тайное намерение выжить их самих со временем и завладеть милостями барина.
– Эчеленца, – произнес Кирьяк, входя к графу, согнувшись, как первая четверть луны: – пришла и ждет в передней какая-то синьора, которая называет себя невесткой вашего сиятельства; она желает вас видеть.
– Кто такая? – крикнул гриф, подскочив на кресле.
Он всегда был суров с прислугой, но сегодня был страшен. Лицо его было перевязано и он чувствовал острую боль в обожженной щеке.
– Невестка вашего сиятельства…
Граф осматривал с головы до ног слугу такими сердитыми глазами, что, тот почувствовал лихорадочный озноб; но, поддерживаемый талисманом хлеба и согнувшись уже в три погибели, он прибавил:
– Сколько я мог заметить в разных случаях, эчеленца, ваша прислуга совсем не годится для вашего сиятельства.
– Ты это заметил?
– Это и многое другое, потому что я всегда стараюсь изучать привычки моих господ, чтоб предупреждать их желания; но, не смотря на это, я думал, что не доложить о ней, было бы оскорбление, взяв в соображение знатность имени, которое она, по её словам, носит.
Дон-Франческо презрительно улыбнулся, заметив, как этот негодяй лестью старается влезть ему в душу. И когда он кончил говорить, граф, глядя ему пристально в глаза, сказал:
– А что вас заставило полагать, что мои родные, и в особенности моя невестка, донна Луиза, могут быть мне неприятны? Вы подсматриваете действия своих господ, и это очень дурно; вы перетолковываете навыворот их намерения – это еще хуже. Ступайте к моему дворецкому, скажите, чтоб он заплатил вам годовое жалованье, и снимите сейчас же мою ливрею… Чтоб сегодня ночью уж вас не было в моем доме.
Лакей очутился в положении человека, который стал под дерево с тем, чтобы защититься от дождя, и вдруг почувствовал, что на него упала ветка, сломанная грозою. Он хотел повалиться в ноги, старался произнести что-то и выправить себе помилование, но граф, не терпевший того, чтоб слуга оставался, получив приказание, произнес голосом, которому не было возможности не повиноваться:
– Поди вон!..
– А! светлейшая, сиятельнейшая донна Луиза! – говорил со слезами Кирьяк. – Посмотрите… за то, что я впустил вас, мне приходится убираться из дому!.. Подумайте сами, справедлива ли это? Я остаюсь просто на улице; я не говорю, что это по вашей вине… Сохрани Боже! но все-таки за то, что я хотел услужить вам, на меня обрушилась такая беда… похлопочите за меня; я поручаю себя вашей милости, – ведь это будет на вашей совести…
Бедный лакей, с полу-мольбой, с полу-укором, подавленный смертельной нуждой в хлебе, хватался за донну Луизу (на которую за минуту до того смотрел с презрением), как за последний якорь спасения.
У Луизы, надо сказать правду, сжалось сердце от этого тяжелого случая; она была в нерешимости, идти ли ей дальше, или вернуться домой; но решилась на худшее и вошла.
Старые лакея окружили своего товарища, попавшего в немилость и тонко подсмеиваясь над ним, лечили ему рану купоросным маслом.
Луиза, без горести, но и без унижения, подошла к письменной конторке, у которой свекор ожидал ее, стоя; и когда она, из уважения к нему, как к отцу, хотела поклониться ему в ноги, он не допустил ее до этого, но поспешил поднять и сказал кротким голосом:
– Нет, дочь моя, у меня уши не на ногах. Не в упрек вам, я скажу, что человек не должен кланяться в землю никому, кроме Бога.
– Батюшка, – так как уже вы мне даете право называть вас этим именем, – позвольте мне прежде всего просить у вас прощения за то, что я только теперь предстала пред лицо ваше. Меня уверили, что выгоните меня из вашего дома… а такого стыда, вы это поймете, не может вынести знатная римская дама…
– Конечно, вы сделались женой моего старшого сына, на которого я расточил всю свою нежность и гордость, сделались его женой без моего согласия, даже не испросив моего отцовского благословения, – да что я говорю о благословении и о согласии? даже без моего ведома, – а это мне кажется таким забвением всякого приличия, таким пренебрежением всякой покорности, что сердце отца, не могло не скорбеть глубоко. Что же касается до того, что я выгнал бы вас от себя, то, мне кажется, что моя невестка, женщина, считающая себя знатной римской дамой, должна бы знать, что римский барон не может быть невежлив с женщиной, даже в таком случае, если б её присутствие было ему и неприятно…
Так как донна Луиза, задетая тонким намеком на её скромное происхождение, уже готова была ответить с горячностью, и лукавый старик заметил это из румянца, которым вспыхнули её щеки, то он поспешил прибавить самым нежным голосом:
– Тем более, что вы принадлежите к хорошей фамилии и пользуетесь репутацией достойной женщины, поэтому я бы ни в коем случае не мог бы найти причины препятствовать вашему браку. Также точно не могли бы служить помехой и ограниченные средства вашего семейства, во-первых потому, что судьба распоряжается богатством также, как море берегами: оно заливает и осушает их без отдыха; а мне всегда была дороже добродетель без денег, чем богатство при надменности, злости и глупости…
– Дон-Франческо, мне очень больно, что для того, чтоб оправдать себя, я должна обвинять другого; но вам необходимо знать, что Джакомо, ослепленный страстью, обманул меня, уверил честным словом благородного человека, что вы дали ваше согласие на наш брак, и что некоторые обстоятельства заставляют вас желать, чтоб брак наш оставался покуда тайной.
– Вот так-то!.. – воскликнул граф, стукнув об пол ногою; – пренебрежение первою обязанностью всякого благородна го человека, которая есть правдивость, ведет всегда к несчастьем. Вы по крайней мере были только обмануты, а со мной поступили предательски. Я, может быть, мог бы обвинить вас за то, что вы с излишней легкостью поверили; я мог бы назвать неосторожными ваших родителей и вас, но во всяком случае, чем виноваты ваши дети?
– И я из-за них-то и пришла… В них течет ваша кровь и им суждено продолжать ваш род…
– А сколько их у вас?
– Четверо, и все – ангелы невинности и красоты! – с жаром отвечала Луиза, и глаза её наполнились слезами.
«Как плодородна змеиная порода!» – подумал про себя граф Ченчи; но с улыбкой продолжал:
– Да сохранит их вам Господь Бог…
– Отец мой, ваши слова ободряют меня. Выслушайте же меня: я именно с тем и пришла, чтоб говорить вам о ваших внуках. Вы видите во мне несчастнейшую из женщин. Но о себе я не говорю. Не обращайте внимания на мое бедное платье, из-за которого ваши слуги чуть не подняли меня на смех… Но помните одно, что у моих детей, а ваших внуков, нечем покрыть наготу тела и часто нет хлеба, чтоб утолить голод.
Слезы горести, которые бедная мать проливала за минуту, сменились горьким рыданием.
– Может ли это быть? Я, разумеется, не скрою, что я в отношении к Джакомо был всегда немного скуп; но это потому, что опыт доказал мне, как он всё больше и больше предается жизни, несоответствующей его средствам. Расточительность сына моего, это его неисправимый порок. Мне всегда было больно делать его худшим, чем он есть. Угрызения совести удерживали меня от слишком большой щедрости в отношении к нему; я помнил, что должен буду дать за него ответ Богу. Если б мои предки не завели обычая делать духовные завещания и если б я не имел намерения следовать этому похвальному обыкновению, то знаете ли, моя милая и почтенная невестушка, я бы был очень неспокоен на счет судьбы ваших детей, моих внуков. Но мне кажется, что с двумя тысячами скудо в год можно не только доставлять все необходимое, но даже некоторые удобства своему семейству.
– Но Джакомо уверяет, будто вы же даете ему этой пенсии и бросаете ему кое-когда по нескольку скудо, скорее в знак оскорбления, чем в подмогу его бедности.
– Он это рассказывает? и может быть даже клянется тем же честным словом благородного человека, которым он уверял вас в моем согласии на вашу свадьбу? Я не божусь, меня учили, что христианин должен говорить: да или нет… Но вот вам, удостоверьтесь сами в домовой книге (он взял записную книгу, открыл ее перед глазами невестки, и указывал пальцем на разные места, которых та, разумеется, и не посмела читать); посмотрите сами, платилась ему или нет условленная пенсия. Уж если этот несчастный доводит родителя своего до унижения оправдываться, то самые камни восстанут, чтоб свидетельствовать против него. Клевета, клевета всегда не законна; однако это еще не большая вина и не за нее мое отеческое сердце укоряет Джакомо! Но мои горести должны быть похоронены в моем сердце. Боже! Франческо Ченчи, какой ты злополучный отец, какой несчастный старик!.. Боже, Боже мой! – И он закрыл себе обеими руками лицо.
Луиза была растрогана этою почтенною наружностью, этою глубокою горестью. Бессовестный старик тем же жалобным голосом продолжал:
– Если б я по крайней мере мог найти сердце, чтоб излить в него всю безмерную горечь души моей!..
– Отец мой! – Граф!.. Я тоже несчастнейшая мать и жена; излейте мне вашу душу… мы будем плакат вместе…
– Достойная женщина! Добрая дочь моя! долг жены прилепиться, как кость к кости, к человеку, которого она избрала своим спутником в жизни: – поэтому я не должен говорить вам, и может быть я сказал уже слишком много такого, что может заставить вас любить его меньше… О, Джакомо! Какую тьму скорби ты разливаешь на последние дни жизни твоего бедного отца! Я даже не видел в лицо моих милых внуков – этой нежной гордости деда. Мы могли бы жить все вместе под одной кровлей, соединенные благословением Божиим! Этот дворец слишком велик для меня; я брожу по нем один, дрожа от холода, а я должен бы видеть себя обновленным в своих внуках, я должен бы согреваться их ласками; между вашими сердцами, которые жаждут сблизиться, и нами самими восстает непреодолимая стена, и стену эту сложил своими пороками несчастный Джакомо.
Луиза, видя выражение ненависти в лице старика, испугалась, что она окончательно повредила судьбе мужа. Поэтому она с осторожностью спросила его самым кротким голосом:
– И вас так оскорбляют, отец мой, поступки вашего сына, что даже надежда на заслуженное прощение не может иметь места в вашем отеческом сердце?
– Я предоставляю вам самим судить, я вам напомню только вещь, которая известна всему свету, и потому избавляет меня от необходимости рассказывать ее. Кто подвинул Олимпию написать папе эту предательскую записку, за которую у меня вырвали из моих объятий мою погибшую дочь и нанесли неизгладимую рану моему сердцу и вред моему доброму имени? – Джакомо. – Кто устроил, чтоб этот гнусный пасквиль попал в руки его святейшества? – Джакомо. – Кто, распростершись у ног наместника Христова, умолял его со слезами о моей смерти? Кто? – Может быть враг мой? чей-нибудь сын, у которого я умертвил отца? – Нет, Джакомо, человек, обязанный мне жизнью…
– О, отец мой, успокойтесь ради Бога! Может быть вам наговорили о Джакомо больше и хуже, чем он в самом деле говорил и делал. Вы с вашим немалым опытом знаете обыкновение слуг говорить дурно о тех, которые впали в немилость у их господина, Но если бы даже проступки сына вашего были действительно так дурны, как вы говорите, то вспомните только, что он ваша кровь, – вспомните, что Иисус Христос простил тех, которые распяли его, потому что они не ведали, что творили…
– Но Джакомо слишком хорошо ведает, что творит. Его нечестие возрастает с каждым днем: – он ежечасно стремятся к тому, чтоб отнять у меня мое доброе имя и этот последний остаток жизни… В нетерпении своем, сын мой удивляется медлительности моей смерти, у которой от избытка его желаний должны бы уже вырасти крылья. – Слушай, дочь моя, и ты простишь меня за то, что я больше не в силах удержать свое негодование. Прошу тебя об одном: пусть эти фразы останутся между Богом, мною и тобою; особенно, чтоб внуки мои никогда этого не знали, чтоб они не научились ненавидеть отца своего. – Несколько дней назад, он пришел сюда развращать Беатриче и Бернардино, бессовестно уверяя их, что я был причиною смерти Виргилия; он не знает, что бедный ребенок, к величайшему моему и своему несчастию, был поражен неизлечимою чахоткою. Но это еще не все: внизу, в церкви святого Фомы, воздвигнутой благочестием наших предков и обновленной мною, в то время, когда служилась торжественная панихида по душе покойного ребенка, превратив катафалк в кафедру нечестия, без всякого уважения к святости места, к священным алтарям, к церковному обряду, к Богу, невидимо здесь присутствовавшему, он злоумышлял вместе с другими погибшими детьми моими и женою на мою жизнь… Ты содрогаешься, добрая Луиза? Удержи свой ужас, тебе придется содрогаться гораздо больше от того, что ты еще услышишь. Когда я, несчастный отец! наклонился, рыдая над телом этого ангельского создания, отозванного преждевременно к лучшей жизни, не знаю, какое новое безумие или неслыханное бешенство овладело ими… они опрокинули на меня покойника… принялись бить меня… изранили… Посмотри сама, дочь моя; вот здесь на месте видны следы их преступного посягательства…
Он остановился, как подавленный ужасным воспоминанием; потом со слезами в голосе продолжал говорить:
– Теперь, когда ко мне будут подходить мои дети, в особенности Джакомо, знаешь ли, что мне остаётся делать? Пробовать, хорошо ли мне застегнули кольчугу, ощупывать, не забыл ли я кинжала, класть между им и мною верную собаку, которая защищала бы мою жизнь от его злобы… Да, собаку, – с тех пор, как моя собственная кровь враждует со мною… Не доверяя человеческой породе, лучше мне искать защиты между животными – у меня даже была собака, испытанной верности… они и ее убили… зловещее предзнаменование для отца, которому готовят то же самое! Уже давно не покидает меня мысль, родившаяся у моего страдальческого изголовья, и преследует меня неотступно: должен ли я допустить их совершить преступление, или, положив своими собственными руками конец моей злополучной жизни, избавить их от позора наказания, а себя от невыносимой пытки жить? О, Боже! Как тяжела эта необходимость погубить свою или их душу!
При этих словах он склонил голову, и глаза его остановились на письме из Испании, которое извещало его о неминуемой смерти Филиппа II, который более всех других королей возбуждал его удивление, и он подумал в глубине души: – счастлив он, что прежде смерти мог задушить своего сына, и за то получил благословение святой матери церкви!
В это время кто-то тихонько постучался в дверь, граф поднял голову и громким голосом произнес:
– Войдите…
Явился Марцио и, увидев, что граф не один, нерешительно сказал:
– Эчеленца… нотариус…
– Пусть ждет. Отведите его в зеленую комнату, там он может на свободе отдохнуть…
– Эчеленца, он велел мне доложить вам, что его зовут в другое место для спешного дела…
– Чорт возьми! Кто смеет иметь волю, противную моей, да еще в моем доме? Я почти готов бы сделать с ним то, что сделали с графом Уголино и бросить ключи в Тибр. Ступай и не позволяй ему уходить без моего согласия…
Плохо сдерживаемая досада, с которой граф с дрожащим голосом произнес эти слова, обнаружила бы для всякого его лицемерие в предыдущем разговоре; но мысли Луизы витали далеко, и она долго сидела с поникшей головой, как бы уничтоженная, не будучи в силах ни видеть, ни слышать происходившего. Граф посмотрел на нее и, успокоенный её видом, продолжал:
– Я решился сделать ваших детей наследниками моего движимого имущества; за недвижимое я спокоен, потому что оно не может быть ни заложено, ни продано; кроме дохода с него, ваш Джакомо не в праве ничего расточать, и волей или неволей должен будет сдать всё в неприкосновенности майорату. Вас я сделаю опекуншей движимого имущества и надеюсь, что вам будет, чем хорошо жить и еще останется для увеличения состояния. Я хотел во всем этом посоветоваться с вами, но я не мог решиться послать просить вас к себе; я боялся, что вы не примете моего приглашения. Но вы пришли по собственному побуждению, и я вижу в этом внушение Божие. Даже слепые должны бы увидеть в этом перст Божий.
Хотя Луиза, как всякая мать, была чрезвычайно обрадована блестящими намерениями деда в отношении её детей, но она все-таки, как добродетельная женщина, не могла удержаться, чтоб не заметить:
– А синьора Беатриче, а дон Бернардино?…
– Приданое Беатриче уже отделено и оно слишком достаточно для удовлетворения лаже самого знатного жениха… Бернардино готовится в духовное звание, а дом Ченчи имеет значительнейшие привилегии в самых богатых римских монастырях.
– А прочие ваши дети?
– Какие дети?
– Дон Христофан и дон Феликс?
– О! они, слава Богу, уже снабжены всем и им ничего не надо, – отвечал граф; и глаза его сжались и засветились злобной улыбкой.
– Прежде чем оставить вас, граф, позвольте… – и донна Луиза не решалась договорить; но материнская любовь взяла верх над женскою гордостью, и она с решимостью продолжала – я бы желала открыть вам причину моего прихода к вам…
– Говорите…
– Если моя молитвы будут услышаны на небе, вы проживете еще сто лет; а мои дети между тем, в совершенной крайности…
– Ах, какой я беспамятный! – начал граф, хватаясь за голову, как бы говоря про себя. – Бедная женщина! она права. Она не может рассчитывать на долю этого негодяя, которую он проматывает вне дома с другой женщиной, с любовницей, и с другими детьми, которые ему дороже законных…
– Как! как! – воскликнула Луиза, ухватившись обеими руками за правую руку тестя. – Так вы это тоже знаете, дон Франческо!
– Невестушка моя, – отвечал граф, принимая строгий вид, – вам следует знать, что сердце отца не менее дорожит добрым именем своих детей, чем сердце жены любовью мужа; но в Джакомо, который загубил в себе всякое благородное чувство, мы оба должны считать погибшим – вы мужа, я сына.
Луиза испустила тяжелый вздох…
– Теперь слушайте меня, донна Луиза. Я с радостью помогу вам деньгами для ваших нужд, только с тем, что вы поклянетесь исполнить одно условие, – я не требую, чтоб вы обязались слепо: о, никогда! Я скажу вам свое условие и причину, его вызвавшую, а если вы найдете его, в чем я и не сомневаюсь, способным устроить благосостояние ваших детей, вы свободно и по совести поклянетесь исполнить его.
– Я вас слушаю, дон Франческо.
– Вы, добрые женщины, живущие одной любовью, слишком скоро забываете досаду против предмета вашей любви: вы, как паруса, тотчас опускаетесь, чуть только спадет ветер… О! я хорошо знаю, сколько силы имеют две слезы и один поцелуй, чтоб утихомирить самую сильную супружескую грозу. Мне кажется, я уже вижу Джакомо прощенным и любимым вами в тысячу крат более, нежнейшая из супруг. Вы ему покажете деньги и скажете, как получили их от меня; а он (предоставьте ему только!) уж найдёт средство отобрать у вас эти деньги; и я буду видеть, что эти деньги, вместо того чтоб служить для прокормления детей, пойдут на удовлетворение его гнусных наклонностей. С другой стороны, я предвижу, что он даже из этого поступка выведет клевету на меня; а я не желал бы, чтоб благодеяние навлекло мне новые огорчения. Разве уж не довольно с меня всех тех, которые я переношу? Разве я слишком многого хочу, если стараюсь не увеличивать их бремени? Итак, я желаю, чтоб вы ни за что в свете не открывали ему, что имеете деньги, и особенно не открывали бы, из какого источника их получили… Ну что, находите вы это условие исполнимым, или нет?
– Разумеется исполнимым; вы даете мне добрый совет; но я даже и без всякого условия поступила бы точно также.
– Тем лучше. Вот святые мощи. – При этом граф вынул спрятанный на груди золотой крестик и, поднося его невестке, прибавил – поклянитесь на этом кресте, освященном на гробе Господнем, поклянитесь спасением вашей души, жизнью ваших детей, что вы исполните ваше обещание…
– Нет нужды в такой торжественной клятве, – отвечала Луиза, слегка улыбаясь – впрочем извольте, я клянусь вам…
– Хорошо, прервал ее граф, теперь возьмите, сколько вам угодно, – и, говоря это он открыл ящик, наполненный золотом. Молодая женщина стыдилась и не решалась ничего взять, но граф настаивал: – да берите же, берите!.. это довольно странно, право, чтоб между отцом и дочерью были такия церемонии. Ну, хорошо, я это и сам сделаю. И, наполнив кошелек, он вручил его невестке. Луиза, вся разгоревшаяся, благодарила его нежным наклонением головы.
– Прежде однако, чем вы оставите меня, моя милая невестушка, дайте мне сказать вам еще одно слово… потому что вы хорошо понимаете, что, не смотря на ужасные оскорбления, которые нанес мне Джакомо и которые он не перестает наносить мне, – он все-таки остается моим сыном. Не переставайте испытывать всевозможные средства, чтобы привлечь этого погибшего человека ко мне на грудь… закрывайте глаза на его измены… переносите оскорбления… забудьте, что у него есть другие дети, кроме ваших… что в то время, как он отказывает этим последним во всем необходимом для существования, он расточает на своих незаконных детей деньги, и они ходят в золотой и серебряной парче… Простите его, обратите его на путь истинный, возвратите его мне: мои объятия всегда отверзты для него… мое сердце всегда готово забыть все в одном искреннем поцелуе – стараясь возвратить мне сына, вы вместе с тем возвратите отца вашим детям, мужа себе. О, если б это могло случиться прежде, чем глаза мои закроются!.. Конечно моя жизнь была ни что иное, как страдание, и она уже приходит к концу; но иногда случается, что мрачные дни проясняются к вечеру, и луч солнца, бледный, но благодатный, поздний, но желанный, – проглянет, чтоб сказать ему дружеское «прости», прежде, чем он исчезнет…
– Дон Франческо, вы преисполнили меня таким удивлением, такою нежностью и благодарностью, что я не умею выразить мои чувства словами. Пускай их заменит этот поцелуй, который я, с дочернею привязанностью, кладу на вашу отцовскую руку. И хотя я знаю, что никогда не буду в состояния отплатить вам за благодеяния, которыми вы меня осыпали, позвольте мне однако просить вас прибавить к ним еще одно: простите этого слугу, которого вы прогнали по моей вине…
– Достойная женщина! Не я, Луиза, а вы простите его, потому что я прогнал его за то неуважение, с каким он говорил о вас.
При этом он позвонил и явился комнатный лакей.
– Кирьяка сюда!
Кирьяк пришел с смиренно-поникшей головою.
– Благодарите донну Луизу Ченчи, мою светлейшую невестку, за то, что она позволяет вам остаться в моем доме, прощая вам вашу вину. Вперёд ведите себя лучше и будьте почтительнее с вашими господами.
– Моя добрая госпожа и синьора, – говорил Кирьяк, бросаясь ей в ноги, – да благословит вас Господь за меня и за мое бедное семейство, которое без вашей милости должно было бы пойти по миру… и осталось бы без куска хлеба…
Луиза улыбнулась ему. Дон Франческо, не смотря на её просьбу не беспокоиться, с любезностью проводил ее до двери; потом, вернувшись скорыми шагами, положил руку на плечо Кирьяка и, устремив на него свои злые глаза, начал говорить ему:
– Теперь ты не только выйдешь из моего дома, но даже из Рима, – даже совсем из папских владений, и сейчас же; – если завтра я узнаю, что ты еще здесь, то я сам позабочусь о твоем путешествии. Иди и не оглядывайся: я не могу превратить тебя в соляной столб; но я могу просто превратить в мертвое тело. Запечатай себе рот и носи в сердце страх ко мне, но если ноги откажутся служить тебе, продолжай свой путь ползком на коленях. Ты, который имел опасное любопытство изучать обыкновения своего господина, конечно заметил, что он никогда не изменяет тому, что обещал. Ступай и помни, что Бога не изучают, а обожают; и всякий господин должен быть Богом для своих слуг и подданных.
Эти угрозы и этот взгляд навели такой ужас на Кирьяка, что он прямо выбрался из Рима, даже не простившись с своим семейством. При малейшем шелесте листьев ему казалось, что у него за спиной какой-нибудь браво графа Ченчи; и не прежде, как пройдя несколько миль от Рима, он стал спокойнее.
Граф, оставшись один, велел позвать нотариуса, чтоб скрепить завещание, которое у него уже было написано, и в ожидании его ходил по комнате, говоря про себя с злобною радостью:
– Теперь Медичи уж не насладятся моим богатством; я всех их лишаю наследства на случай, сжали они переживут меня; разумеется, я употребляю все зависящее от меня, чтоб этого не случилось Закон о лишении наследства – самый важный из всех четырнадцати, указанных Юстинианом. Стало быть, мое завещание будет исполнено, per Dio! Если б мои внуки не были доведены до того, чтоб грызть себе кулаки от голода, я воскрес бы для того, чтоб задушить судей, которые решили бы в их пользу…. Да притом я оставляю всё на монастыри и духовные братства, так я могу быть спокоен. Они не выпустят ничего из своих рук. А потомкам моим я оставляю Тибр, чтоб утопиться.
Глава X. Пир
Прекрасно море с его голубою зыбью и золотыми переливами. Влюбленная луна глядится с его волны и они трепещут от наслаждения. Но, когда они, как слезы, бегут одна за другою на берег, в их плавном говоре слышны вопли утопающих и стоны отчаяния осиротевших.
Прекрасно солнце, когда оно в блеске лучей встает из-за родных гор и одним своим взглядом зажигает жизнь на земле и в небе; прекрасно оно и в те мгновения заката; когда оставляет после себя золотой пар, подобный ожерелью, которое дарил своей возлюбленной рыцарь, отъезжающий в далекие страны… Птицы быстро летают по небу, собирая свои семьи, и поют громче от любви к погасающему светилу и от страха к рождающемуся мраку; в полях звон колокольчиков собирает стада домой; с высоты колоколен унылый звук колокола дает знать, что настал час для семейных радостей, или для поминок. Напрасно! Не все люди любят домашний очаг и молитву об умерших; многие, напротив, выжидают у оконных отверстий окончания дня и свободнее дышат при появлении ночи, потому что мысли их действия полны мрака. Я тоже, хоть я и не люблю тьмы, не откликнусь на призыв![11] Что ждет меня на закате дня? Тюремная келья, одинокая, голая, холодная, где я слышу одни стоны больных, или предсмертные муки умирающих.
С гласиса древней крепости Вольтерра, я засматриваюсь на дальние горы, любуюсь, как они из голубых, улыбающихся превращаются в черные и грозные, подобно друзьям, которые изменили, или облагодетельствованным людям, которые по обыкновению платят свой долг монетой неблагодарности. Облака, за минуту еще сиявшие отливами перламутра, становятся мрачными, как воспоминания прошлого блаженства. Кое-где мелькают белые паруса и исчезают в тумане, подобно беглым мыслям. Древняя река Чечино взвивается в лугах бесчисленными коленами, как будто боясь потеряться в море. Так точно и жизнь делает всевозможные усилия, чтобы избавиться от неизбежной смерти. Беги быстрей река, куда гонит тебя природа, и не удерживай в бесполезных усилиях свои воды, – всему суждено исполнить закон судеб. Как сломленные ветви и пучки соломы несутся твоим течением, царства и народы уплывают по реке времен и исчезают…. Остается только память о них, как гул от твоего падения…
Но день погас. Длинная ночь предстала со своим безмолвием и зовет на одинокий труд работников мысли. Вернемся же и мы к прерванной работе…
Дон Франческо Ченчи устроил великолепный, истинно царский пир. Стол был накрыт в обширной зале, потолок которой был расписав лучшими художниками того времени. Белый с золотом карниз, поддерживаемый белыми же колонами с инкрустациями золотых арабесок, окаймлял стены. Простенки между колонами покрыты исполинскими зеркалами; но так как искусство еще не достигало тогда умения делать их цельными, и они состояли из нескольких кусков, то, чтобы скрыть составные пасти, венецианцы раскидали на них амуров, фрукты, листья, цветы, всевозможных птиц, написанных с неподражаемым искусством; восемь дверей были завешены тяжелою белою шелковою тканью с рельефными золотыми цветами по кайме и с графским гербом по посредине цветов белого с алым. Словом, все было великолепно: ткани, зеркала и живопись; только живопись болонской школы уж слишком била на эффект, утратив прелесть простоты.
Я не стану описывать волшебного вида этой залы, изобилия цветов, разливающих аромат, множества зажженных свечей в серебряных канделябрах, отражающихся целыми мириадами в зеркалах, в хрустале ваз и бокалов, в золоте и серебре разных предметов самой изысканной работы. Времена нашего рассказа еще не так далеки от нас, чтобы тот, кого это занимает, не мог видеть всю эту утварь в музеях. В домах наших патриотов вещей уже или нет вовсе, или они очень редки: их распродали иностранцам. Да и чего бы еще не продали наши если б только нашелся на них покупатель?.. При виде этого безобразного торга, я почти готов сказать: благословен грабёж ненавистного немца! Солдат-грабитель не уносит у тебя надежды возвратить похищенное добро, жажды стремиться к этому всеми силами; но иностранец, который по соглашению покупает у тебя отцовскую святыню, покупает у тебя в то же время часть твоего сердца и ты продаешь ему часть своего отечества! Грабёж подстрекает сердце к исканию свободы и мщению; добровольная продажа рождает рабство.
Дон Франческо принимал своих гостей с вежливостью, свойственною его высокому происхождению, и любезностью, которую диктовал ему его ум. Тут были многие из рода Колонна, двое Санта-Кроче, Онуфрий, князь дель-Ориола и дон Паоло, о котором говорилось в начале этой повести, и монсиньор казначей; не много погодя, явились кардиналы Сфорца и Барберини, друзья и родственники дома Ченчи, с некоторыми другими лицами, о которых не упоминает история; наконец, по приказанию графа, за обедом участвовали донна Лукреция, Бернардино и Беатриче.
Беатриче оделась в траур. Если б она не надела черного платья в виде протеста против страшного веселья отцовского пира, то можно бы подумать, что она сделала это из женского кокетства; так шло оно к ней и так резко выказывало белизну её тела. Вместо всякого украшения, она вплела в свою русую косу завядшую розу, слишком верный символ её будущей судьбы.
– Добро пожаловать, благородные родные и друзья! Добро пожаловать, высокопреосвященнейшие кардиналы, столбы святой Матери Церкви и блеск её urbis et orbis[12]. Если бы небо дало мне сто бронзовых языков и сто железных грудей, как о том молил его Гомер, я бы не счел их достаточными, чтоб отблагодарить вас за честь, которую вы делаете вашим присутствием моему роду.
– Граф Ченчи, ваш знаменитый род так высоко поставлен, что ему не надо других лучей для того, чтоб блестеть яркой звездой на нашем римском небосклоне! – отвечал цветисто, по но духу того времени, Колонна.
– Вы, по вашей беспредельной благосклонности, слишком пристрастны ко мне, почтеннейший дон Курций: как бы то ни было, я чрезвычайно благодарен вам за вашу любовь. Я сделался для вас почти чужим, я боялся, что мое появление между вами испугает вас, как появление выходца из Трофониевой пещеры[13]; но что же делать! Меня грызла безграничная тоска, злой недуг! Тоска, это тончайшая пыль, которую подымает восточный ветер: она проникает всюду, ко всему пристает и давит тело и душу. Меланхолик, более чем зачумленный, должен изгнать себя из храмов Израиля и из пиршеств наследников Анакреона – я говорю для вас духовных, которым я привык показывать уважение; что же касается до вас, миряне, то я может быть действовал бы без церемонии… но нет… я думал, что, еслиб у меня были достаточные причины покончить с собою, то в деревьях и реках, чтоб повеситься или утопиться, благодаря Бога, недостатку бы не было. – Но я не повесился потому, что, когда подумаешь хорошенько, та увидишь, что смерть скверная штука; – и притом я всегда слышал, что о вещах, которыя делаются только один раз, надо подумать. Тем не менее, я не хотел наводить на вас тоску своим присутствием. Теперь, когда луч света озарил слегка мрак моей души, я отряхнул пепел с своих волос и срываю, еще один раз, может быть последний, розу, и вплетаю ее в них. Конечно, зимою не следовало бы пристращаться к розам: этого нежного цветка не вырастишь на снегу… но правда и то, что в нашей благословенной Италии во всякое время года цветут розы; вы видите этому доказательство на моей Беатриче, и если не найдешь их в своем саду, ступай в чужой и срывай их там. Да, срывай их силой! Какой закон осудит старика, который перед смертью похитил розу в воспоминание своей угаснувшей молодости и в утешение угасающей жизни? Это все равно, как если бы его святейшество отлучил от церкви умирающего за то, что он обращает последний взгляд свой к свету, которого лишается навсегда… А тебе; Беатриче, что за странная фантазия пришла приколоть к волосам увядшую розу! Ты неужели боишься для своих щек соперничества свежей розы? – Не бойся, дитя; ты можешь смело идти на всякое сравнение, потому что ты рождена все их побеждать.
Молодая девушка бросила ему взор пронзительный, как стрела; он принял его прищурясь, и зрачки его заискрились. Дон Онуфрий Санта Кроче отвечал:
– Мы собрались к вам, граф, как родные и друзья, чтобы разделить вашу радость; и я вполне убежден, что она должна быть велика, потому что я никогда не видел вас в таком веселом расположении духа.
– Я дурно делал, князь, что не старался приводить себя в веселое настроение; и что еще хуже, я заметил это слишком поздно. Парка, вы знаете, или лучше сказать, вы не знаете, потому что вы, преосвященные кардиналы, считаете эти истории за ересь… так видите ли, Парка прядет нам много дней из черной шерсти с немногими блестками из золота; вот тут-то и нужен ум, чтоб уметь отделить их; надо плакать в грустные дни, ликовать в веселые, иначе мы превратим нею жизнь в вечную панихиду. Omnia tempus habent[14]… И хотя я не согласен с мудрейшим царем Соломоном, что может даже существовать время для убийств, я пристаю к его мнению, когда он говорит, что все на свете vanitas vanitatum[15].
Монсиньор казначей заметил саркастически:
– Ваша необыкновенная веселость проявляется всегда так невоздержанно перед людьми, которых вы видите редко: в ней есть что-то лихорадочное; и я в этом удостоверяюсь более, когда вспомню, что еще недавно смерть опечалила ваш дом.
– А! Монсиньор, что вы мне напоминаете? Мы не можем уронить на землю какое-нибудь воспоминание, чтоб приятель, с докучливым участием, не поднял его и не возвратил его вам, говора: «смотрите, у вас упало с сердца горькое воспоминание, положите его опять на свое место.» Да притом всякий может удивляться этому кроме монсиньора, мудрость которого в божественных вещах вам слишком хорошо известна. В самом деле, разве я не подражаю царю Давиду? Вы видите, что я беру хороший пример; как он, я воскликнул, когда умер мой сын: «я постился и плакал, покуда он жил; я думал: кто знает, может быть, Господь Бог еще сохранить мне его! Теперь, когда он умер, зачем мне поститься? Разве я верну его? Я буду все приближаться к нему; но он ко мне уже не может придти…»
По телу Беатриче пробежала дрожь от такого лицемерия.
– Однако граф, – вскрикнули разом гости: – пора вам вывести нас из беспокойства. Мы не можем дождаться узнать причину вашей веселости, чтобы разделить ее с вами.
– Благородные друзья! Если б вы сказали: пора удовлетворить любопытству, которое нас томит, – то ваши слова были бы вероятнее, и, может быть, откровеннее. Но как бы то ни было, вы хлопочете напрасно; я не намерен портить своего радостного известия, объявив его за тощий желудок. Ни за что! Бог посылает росу утром и вечером, когда чашечки цветов готовы принять ее, а не в полдень, на раскаленные камни. Приготовьте себя прежде дарами Цереры и Бахуса, как сказал бы поэт, и потом вы услышите мое приятное известие. И так, за стол, благородные друзья, за стол!
– Синьора Лукреция, – шепнула Беатриче на ухо мачехи: – какое-нибудь ужасное бедствие висит над нашими головами! Никогда еще глаза его блистали такою злобною радостью, как сегодня.
– Господи, помилуй меня и защити!.. Не знаю отчего, но у меня тоже дрожат ноги.
– Кто вам сказал, что у меня ноги дрожат? У меня уже не дрожат ни ноги, ни душа.
Все сели за стол. Граф Ченчи на почетном месте в конце стола, но тогдашнему обычаю, предоставлявшему хозяину дома самое почетное место; с обеих сторон около себя он посадил свое семейство; дальше заняли места гости, которых рассаживал дворецкий по их значению. Блюда были изысканы и разнообразны и всякое имело особенный вид: одно представляло Колизей, другое – корабль; тут же являлась телятина в виде скалы, омываемой волнами студня; крепость из марципана, и как только ее разрезали, изнутри вылетели живые птицы, огласив залу веселым щебетаньем; из огромного пирога вылез домашний карлик, одетый папою и, дав с важностью гостям свое апостольское благословение, проворно убежал.
Стаканы двигались быстро, как челнок в руках у ткача: было выпито много сортов вина и своих, и иностранных, кипрских, греческих, и больше всего хереса, аликантского и других испанских вин.
– Ну, теперь пора, – сказали в один голос насытившиеся гости: – удовлетворить наше любопытство! Скажи нам, граф, причину вашей радости!
– Да, теперь пора! – сказал Ченчи торжественным голосом и, придав лицу строгое выражение, продолжал: – но прежде, чем отвечать, мои благородные друзья, я умоляю ответить на мой вопрос если бы Бог, которого я молил усердно и продолжительно каждый вечер прежде, чем успокоить мои члены на мягкой постели, каждое утро, едва открыв глаза, – если бы Бог, говорю, который слышал мою молитву от священников во время совершения таинства, в церковном пении девственниц, в молитвах нищих; – если б Бог, после того, как я уже приходил в отчаяние, думая, что моя молитва не услышана, неожиданно, по неизреченной своей милости, исполнил сверх всякой надежды мои желания, разве я не имел бы нрава ликовать и радоваться? Если так, то ликуйте и радуйтесь со мною, потому что я, в полном значении слова, счастливец!..
– Беатриче… дочь моя… поддержите меня… я боюсь…
– Поддерживайте себя, как можете, – отвечала Беатриче Лукреции. – Я ничего не могу… голова моя кружится и мне кажется, что все гости плавают в крови!
– О Боже! о Боже! – прибавила Лукреция: – у меня дрожь пробегает по телу, как в лихорадке.
– Я полагаю, благородные друзья и родные, что всем вам известно, а если нет, то знайте, – продолжал граф: – что в церкви святого Фомы я воздвигнул семь новых гробниц из драгоценного мрамора самой изящной работы; потом я молил Бога, чтоб он послал мне благодать похоронить в них при жизни всех моих детей; наконец, я дал обет зажечь свой дворец, церковь, ризницу и всю церковную утварь. Если б я был Нероном, я поклялся бы – поджечь во второй раз Рим.
Гости, скорей удивленные, чем испуганные, переглядывались между собою; смотрели на графа, и им было стыдно за него, что он выпил так не в меру. Беатриче, бледная, как увядшая роза, повиснувшая в её волосах, сидела склонив голову на правое плечо. Ченчи еще с большею силою продолжал:
– Одного я уже похоронил; двоих других, благодаря Бога, мне предстоит теперь похоронить разом: двое у меня в руках, что почти значит – в могиле; срок их приближается. Бог, являющий такие видимые признаки своей милости ко мне, верно захочет исполнить мою мольбу перед моей смертью.
– Граф! не худо бы вам избирать менее мрачные предметы для шуток. – Какая дурная наклонность смеяться и вместе наводить ужас!
– Разве я смеюсь?.. читайте.
При этом он вынул из-за пазухи несколько писем и бросил их на стол.
– Читайте… рассматривайте, не стесняясь; удостоверьтесь во всем; я вам на то и даю их. Вы узнаете, как еще двое ненавистных сыновей моих умерли в Саламанке. Каким образом они умерли? мне нет дела; для меня важно то, что они мертвы и закупорены в два дубовых гроба по моему приказанию. Теперь мне уже немного скудо остаётся издержать на них, – и я охотно издержу эти деньги… две свечки… две обедни… если б были тележки с известкой, способной сжечь их души, – я бы велел всыпать их две тысячи к ним в могилу… О, папа Климент, ты присудил меня платить им четыре тысячи червонцев в год пенсии! Заставишь ты меня продолжать платить? Черви не поднесут тебе жалобы, нет, – в свое время они и тебя съедят… Всемогущий Боже! прими выражение моей глубокой признательности! Ты исполнил душу мою радостью не по её заслугам, но но единой твоей неизреченной милости.
Монсиньор казначей, весь дрожа от волнения, прервал Ченчи.
– Ради Бога! благородные синьоры, Не слушайте его; он потопил рассудок в вине, или еще большее бедствие постигло его. Вы, как христиане, можете видеть явное доказательство его лжи в том, что Бог не принял бы благодарения, столь противного голосу природы; и если бы то, что произносят уста этого безумца, было истиной, то Господь обрушил бы потолок на его голову.
Гости смотрели на графа, и им казалось, что они видят перед собою Медузу Горгону. Страшный хозяин, вполне довольный ужасом, который наводил на них, продолжал с ликующим лицом:
– Мне дорого только одно, что мои дети умерли. Вам, может быть, хочется знать, как они умерли. Favete aures[16]. Феликсу обрушилась на голову главная балка потолка. В тот же самый вечер, даже, как мне пишут, в тот самый час, Кристофан был заколот ножом некиим ревнивым мужем, который застал его в объятиях своей жены.
Беатриче смотрела на него пристально, со страшно раскрывшимися глазами, в которые, казалось, перешла вся душа ее. Ченчи бросал на нее беспрестанно косвенные взгляды, и лучи глаз их встречались, перекрещивались и метали искры, как мечи двух дерущихся врагов. Бернардино склонил свою сонную голову на колени к Лукреции, которая с простертыми к небу руками, с каплями слез на щеках, походила на многострадальную мадонну. Из гостей одни, протянув на стол руки, сжатые в кулаки, грозно хмурили брови; другие проявляли осуждение своими поднятыми руками, указывающими на графа; третьи, казалось, не верили своим ушам: кто затыкал их, кто с ужасом смотрел на небо, как бы ожидая, что упадет молния. Одним словом, даже Леонардо да Винчи в своей знаменитой Тайной Вечере не представил того разнообразия выражений при словах Спасителя: Аминь, говорю вам, один из вас предаст меня, какое представляла зала Ченчи в эту минуту.
Прежде всех встали кардиналы и казначей, говоря:
– Уйдемте! уйдемте! Спасайтесь все: гнев Божий должен скоро разразиться над этим домом бесчестия!
Беспокойный шепот, возраставший как ветер, предшествующий буре и смутный говор сперва наполнили залу, потом разразились в крики негодования и ужаса; наконец все, равно исполненные злобы, с проклятиями направили свои руки на графа, точно хотели бросить в него каменья.
– Остановитесь! – кричал с жестокой иронией Франческо Ченчи. – Что вы делаете? Это не сцена, здесь нет зрителей; и если вы намерены играть трагедию, то вы трудитесь напрасно. Вам ли, преосвященные кардиналы, приходить в ужас от крови? А зачем же вы, скажите мне, одеваетесь в красное? Разве не для того, чтобы пятна человеческой крови не были заметны на вашей пурпуровой одежде? Вы, князь Колонна, не смущайтесь: я советую вам успокоиться, – ведь я прожил довольно долго в Рокка Петрелла для того, чтоб знать ваш нрав и ваш образ жизни. Скажу вам, я знаю некромантию более, чем вы желали бы, и имею силу заставлять говорить гробницы и некоторых мертвых… Вы меня понимаете, князь? а может быть, вам угодно не понимать, тогда я шепну вам кое-что на ухо. Теперь я обращаюсь к вам, почтеннейший друг, монсиньор казначей… Советую вам не забывать никогда, что я сын моего отца и что отец мой, дай ему Бог царство небесное, был сам казначеем; и право, у меня достанет духу поспорить с первым счетчиком апостолической камеры. Счастье ваше, казначей, что другие дела отвлекают меня, – какие бы ни были, не в том дело! – счастье ваше, что у меня не достает времени, или нет охоты повести нашего общего друга кардинала Альдобрандано с нитью Ариадны в лабиринт казначейства. Покрывайте для кого другого болото ваше заманчивыми цветами, чтоб он неосторожно ступил и проваливался понемножку. Я – бурная и пенистая волна: я могу разбиться о скалы берега; но прежде разрушу и потоплю все, что мне попадётся на пути. Чтите же вашего владыку; падайте мне в ноги и обожайте меня.
Гости с глубоким отвращением направились к дверям; но граф Ченчи опять закричал им вслед.
– Благородные друзья и родные, вы не можете уйти, не простившись со иною. Сделайте милость, доставьте мне еще на минуту удовольствие быть в вашем сообществе.
При этом он взял граненый кубок из чистейшего хрусталя, наполнил его до краю кипрским вином и, поднеся его к свече причем стекло казалось наполненным огнем, громко произнес:
– О, кровь жизни, созревшая под лучами солнца, ты сверкаешь и играешь при свете так же, как душа моя заблистала – заликовала при вести о смерти детей моих! О! будь ты кровь их, созревшая под огнем моего проклятия и пролитая в жертву моего мщения! Провозгласив этот заздравный тост сатане, я хотел бы сказать ему: «ангел зла, выйди из ада, овладей душами сыновей моих, Феликса и Христофана, прежде чем они достигнут дверей рая, и низвергни их в вечный плачь и скрежет, и мучь их самыми жестокими муками, какие только в состоянии изобрести твое дьявольское воображение. И если ты не можешь выдумать ничего нового, то посоветуйся со мною: я надеюсь внушить тебе новые пытки, до которых и твоя фантазия не достигала. Сатана! я пью за твое здоровье! Торжествуй со мною вместе! Теперь, благородные родные и друзья, мне ваше общество более не нужно; если вы желаете проститься со мной, вы можете это сделать, и я предоставляю на вашу волю уйти или остаться, но не дарю ни платья, ни лошади»[17].
– Клянусь святыми апостолами, – говорил один – это бешеный сумасброд.
– О, я всегда его считал развратником, способным заставить плакать самих ангелов…
– Скажите лучше, способным заставить скрежетать зубами самого дьявола…
– Во всяком случае, это лютый зверь, и его следовало бы связать…
– Да, это правда… связать… свяжемте его!..
Франческо Ченчи, окончив свои воззвания, уселся спокойно и серебряными щипчиками клал себе в рот конфеты, которые жевал с самым полным удовольствием. Когда некоторые из гостей окружили его с угрозами, он, не подымая даже головы, позвал Олимпия.
На этот зов явился разбойник, которого хитрый старик на всякий случай держал спрятанным, и с ним, по крайней мере, двадцать товарищей самого мрачного вида, одетых и вооруженных как разбойники. Они окружили гостей с обнаженными кинжалами и только ожидали знака от графа, чтоб начать кровопролитие.
Ченчи продолжал есть конфеты, наслаждаясь страхом и бледностью своих гостей: наконец встал и, подойдя к ним тихими шагами, устремил на них свои прищуренные глаза.
– Вы довольно учены для того, чтобы помнить пир, данный Домицианом[18] сенаторам, – проговорил он: неужто вы не знаете, что если Ченчи уже и не раскаленное до бела железо, каким был в молодости, то все-таки еще накален достаточно, чтоб обжечь? Притом же человек чаще обжигается о полураскаленное, чем о красное железо: заметьте это на всякий случай. Оставьте меня в покое, и как только выйдете отсюда, забудьте все, что видели и слышали. Пусть оно будет для вас сном, о котором человек с содроганием вспоминает наяву.
Гости разошлись с поникшими головами, кто отупелый от ужаса, кто со злобой в душе, но все одинаково перепуганные. Беатриче встряхнула голову и, откинув назад волосы, с движением, исполненным огня, что было ей особенно свойственно, стыдила их, крича им вослед.
– Трусы! И вы – латинская кровь! Вы – сыны древних римлян! Старик наводит на вас ужас? Несколько маснадьеров[19] леденят вам кровь? Вы бежите… бежите и оставляете двух слабых женщин и бедного ребенка в руках такого человека… три бьющихся сердца в когтях коршуна. Вы слышали? Он не скрывает… он убьет нас – и несмотря на это – Боже мой! Боже! господа, выслушайте мои слова и поймите в них больше, чем они могут… чем должны сказать вам – и несмотря на это, это – наименьшее зло, какого я боюсь от него. Я не говорю о вас, священники, но вы, рыцари, когда вы подвязывали мечи свои, не клялись ли вы защищать вдов и сирот?.. Мы хуже чем сироты… у тех нет отца, а у нас отец – палач… вспомните о ваших дочерях, благородные рыцари… вспомните ваших детей, христианские отцы… и сжальтесь над нами… возьмите нас к себе.
– Мое сердце сжимается от твоего горя, молодая девушка, но я ничего не могу для тебя сделать… – ответил один гость.
Другой сказал:
– Жди и надейся. Надежда распустит и для тебя розы утешения.
Один кардинал говорил ей:
– Если молитва и обеты, дорогая дочь моя, могут помочь тебе, мы не перестанем поминать тебя в наших молитвах.
И все расходились один за другим, произнося такие же или им подобные слова, как брызги святой воды, которою кропят гроб. Гости вздохнули свободно только тогда, когда вышли из дворца на свежий воздух.
Когда все вышли из залы, остались только дон Франческо и Беатриче, да никем не замеченный Марцио, который возился около шкафа с серебряной посудой.
– Теперь ты сама убедилась? – спросил Франческо Ченчи Беатриче, – ты отведала теперь, что такое помощь? Оглянись кругом, дитя, и ты увидишь, что ни на небе, ни на земле у тебя нет другого убежища, кроме моей груди: укройся на ней и ты найдешь приют, в котором люди глухие и бессердечные, отказывают тебе. Подумай, как безгранично я люблю тебя – кроме тебя, я ненавижу все на земле и на небе. Отдайся моему попечению. Ты напрасно искала бы человека, который стоил бы меня: я наследовал дары всех возрастов. Бодрость молодости еще не покинула меня: во мне ты найдешь и совет зрелого возраста, и постоянство старости… Люби же меня, Беатриче… прекрасное и страшное дитя… люби меня.
– Отец! Если б я уверяла вас, что я вас ненавижу, я бы не сказала правду; что боюсь вас, также нет. Я вижу, что Бог создал в лице вашем такой же бич, как голод, чума и война, и этот бич он направил на меня. Я безропотно преклоняю голову перед его неисповедимыми судьбами и, потеряв веру во всякую человеческую помощь, я все больше прилепляюсь к Богу и вверяю свою судьбу его милосердию. Отец, умоляю тебя, убей меня!
Говоря это, несчастная девушка упала перед графом с распростертыми руками, точно ожидая удара.
Но отчего Беатриче вдруг вскочила на ноги и обвилась вокруг отца? Отчего она обеими руками закрывает его голову? Отчего у нее вырвался крик ужаса, – у нее, которая ничего не боится, – крик, пробежавший эхом в самые отдаленные покои дворца?
Марцио, оставшийся в зале незамеченным, слыша слова, которые разоблачали адское намерение Франческо Ченчи, подошел потихоньку с тяжелой серебряной вазой в руках и поднял уже ее, чтоб размозжить голову Ченчи; и он сделал бы это, потому что граф ничего не замечал, весь поглощенный созерцанием чудной девственницы.
От крика Беатриче Дон Франческо невольно поднял голову, и ему мелькнул в глаза какой-то блеск, ослепивший его. В тоже время он увидел и Марцио, который с невозмутимым спокойствием убирал посуду в шкаф.
– Марцио… ты здесь?
– Эчеленца!
– Ты здесь?
– Что угодно, вашему сиятельству?
– Ступай.
Слуга поклонился и, уходя, сделал знак Беатриче, которым он, казалось, хотел сказать: «Ах! зачем вы мне помешали!»
Но Беатриче, в которой не прошел еще этот порыв любви, схватила с нечеловеческой силой за руку дона Франческо, воскликнула:
– Спеши, старик, – тебе не остается терять ни одной минуты! смерть покрывает тебя своими крыльями. Спеши, иначе твои преступления вовлекут тебя прямо в ад. Надень власяницу, старик! Посыпь себе волосы пеплом… ты довольно уже грешил. Если бы твоя молитва не в состоянии была подняться до престола Божия и грозила бы упасть тебе на голову градом проклятий, я буду около тебя, я присоединю свою молитву, и обе вместе они будут услышаны и приняты, или обе отвергнуты. Если правосудие во что бы то ни стало хочет искупительной жертвы… я охотно предлагаю свою жизнь во искупление твоей души: но спеши, старик… край могилы скользок… помни, что речь идёт о твоем вечном спасении…
Дон Франческо слушал ее, улыбаясь. Когда она кончила, он насмешливым голосом отвечал.
– Хорошо, моя возлюбленная, Беатриче, ты одна можешь приготовить меня к небесным радостям рая… Я приду к тебе сегодня ночью… и мы будем молиться вместе…
Беатриче опустила отцовскую руку. Эти слова и его гнусные действия имели лютую силу потушить в ней всякий нежный восторг и толкнуть ее в тяжелую действительность жизни. Она удалялась, убегая и с тяжелыми вздохами произносила:
– Погиб! погиб! О, погиб безвозвратно!
Дон Франческо поспешно налил себе еще стакан вина и выпил его залпом.
Глава XII. Пожар
Тяжкое несчастье постигло столяра и его бедное семейство! Муж, жена и ребенок спали все вместе в одной комнате, над лавкой.
Они спали… но тревожный сон не давал покоя жене; ей снилось, что страшное чудовище, с огненными глазами, с волосатым телом, состоящим из гибких суставов, как у червяка, и темными крыльями, как у летучей мыши, уперлось ей когтями в грудь и горло, силясь задушить ее: бедняжка пробовала сделать движение и не могла, хотела кричать и была не в силах. Наконец она сделала последнее усилие и повернулась на бок, но была не в состоянии поднять отяжелевших век; ей казалось, что вместо глаз у все были два огненных шара. Жилы на висках болезненно бились, горло пересохло. Наконец ей кое-как удалось открыть глаза, и она увидела на полу огненную полосу; вся комната была полна дымом, воздух был раскален; через минуту пол растрескался и в щели ворвались огненные языки, превратившиеся мгновенно в ужасное пламя.
– Пожар! Пожар! – кричит бедная женщина, обводя кругом испуганные глаза, и кинулась к постели, чтоб взять ребенка из колыбели.
– Пожар! – кричит за ней муж и так, как был, полунагой, кинулся к двери комнаты и открыл ее. В ту же минуту сквозь открытую дверь огонь наполнил комнату: пожар охватил уже весь дом. Столяр вернулся назад и, схватив одной рукой жену, взяв в другую ребенка, кинулся бежать сквозь огонь на лестницу. Раскаленные камни ступенек трескались с шумом; пламя в нижнем этаже свирепствовало, как вихрь во время бури, и производило гул, подобный урагану. Одежда матери и ребенка уже загорелась; но мать, несмотря на быстроту, с которой тащил ее муж, заботливо протягивала руки и тушила огонь на ребенке. Опаленные волосы несчастных дымились; ноги, руки, лица их болели от ожогов. Вперед! вперед! Только бы добраться им до выхода. Они уже близко от двери; еще один шаг и они дошли; вот они уж берутся за нее… О, ужас! она не открывается: они ее толкают, дергают; все напрасно… она задвинута снаружи.
Окруженный пламенем, несчастный отец, запыхавшийся до такой степени, что, казалось, сердце его готово было вырваться из груди, берет на руки ребенка, покидая жену… он совершенно выбился из сил… Как безумный, он мечется по коридору; не зная сам, что делает, он пытается вновь подняться на лестницу.
Жена следует за каждым его шагом, муж чувствует на плечах свежесть от её дыхания; она всё продолжает защищать от пламени дитя свое, а иногда и мужа.
Он вернулся в комнату… но здесь у него уже не хватает дыхания и бодрости: смерть помутила ему глаза, он шатается и готов упасть, во в эту последнюю минуту у него еще достает присутствия духа, чтоб вручить ребенка жене прежде, чем испустить последний вздох. Он не мог уже произнести ни одного слова, и только взгляд его, неясный, как огонь лампады, готовой погаснуть, выразил такое отчаяние, какого не высказали бы его уста. Потом, шатаясь, он сделал несколько шагов назад, и ударился изо всей силы об стену, словно хотел разбить ее собою.
Утром увидели кровавые следы рук и ног на стене и на полу.
Когда находишься в самых тисках крайности, то с физическими побуждениями случается порой то же, что и с душевными: более сильные всегда поглотят менее глубокие. Молодая женщина уже не обращает внимания на человека, который ей был так дорог, но всей душой своей привязывается к ребенку; обняв его тело, она открывает окно и высовывается из него.
Собравшийся на улице народ увидел черную фигуру на огненном фоне, и ему сделалось и жалко, и страшно. Она испустила крик, один только крик, но в этом диком пронзительном крике было столько страдания, такое безвыходное отчаяние, что он как нож резанул по сердцу присутствующих. Они готовы были помочь ей и советовались с стариками, как это сделать; но старики, с страшным римским спокойствием отвесив нижнюю губу, скрестив руки на груди, смотрели искоса на пожар и только говорили: «мы ничего не можем сделать; воды не достанет, да и надо быть дьяволом из самого ада, чтоб войти в это пекло. Знаете, что остается делать? Ждать, чтоб пожар потух сам собой и тогда стараться помочь этим бедным душам, покинувшим свет без святого причастия».
Необходимо знать, что Луиза Ченчи, из ревности, переодевалась в мужское платье и уже несколько ночей подряд блуждала около дома столяра, надеясь подстеречь своего мужа; но до сих пор её поиски были напрасны. Несмотря на это, в ней не явилось и тени подозрения в обмане и клевете. Она думала только: может быть Джакомо ходит туда не ночью, или любовники имеют свидание в другом месте, или наконец, может быть, они в ссоре: одним словом, она приискивала всевозможные средства, чтоб мучить себя, вместо того, чтоб постараться утешиться.
Она прибежала вместе с другими на крики и на зарево пожара, и когда узнала дом, то почувствовала невыразимую радость: «что дается пороком, – думала она, – то отнимается правосудием».
Прежде нежели пожар разыгрался со всею яростью, многие из жителей пустились за веревками и лестницами; нашли лестницу в соседнем приходе и приставили ее к стене; но огонь, выбивавшийся отовсюду, не давал им смелости взобраться на крышу.
Только когда мать показалась из пламени и, протягивая руки с младенцем, закричала: «спасите мое дитя!» тогда одно сердце, и только одно было тронуто: это было сердце Луизы Ченчи. В ней мигом замолчала женщина и заговорила мать: одним прыжком она очутилась у лестницы и побуждала стоящих кругом:
– Решайтесь! – говорила она – недалеко пробраться; ничего нет трудного. Римляне! тот, кто спасет их, получит от меня сто червонцев.
Но никто не двигался.
– Христиане!.. решайтесь… не теряйте времени! Двести червонцев тому, кто спасет!
Но и эта награда не расшевелила никого: страх угрожавшей опасности пересиливал корыстолюбие. Луиза подумала одну минуту о том, что она могла располагать еще одною сотнею, последнею, и что у нея не останется уже ничего для своих собственных детей и от свекра нельзя было надеяться получить вновь. «Не беда», решила она, и голосом еще более громким, точно хотела наверстать потерянное время, с удвоенной силою она крикнула:
– Триста червонцев за их спасение!.. Триста золотых дукатов!.. этого достанет на приданое двум дочерям… Римляне! Никто не решается? Так пустите же меня… я вам говорю, пропустите меня!.. мне поможет Христос!
И легче птицы она поднялась, по лестнице, которая уже почернела и дымилась. Поднявшись до окна, она сказала:
– Давайте ребенка!..
– Вот он! берите! берите!
Бедные матери поняли одна другую. Луиза спустилась. Молодой парень, пристыженный тем, что никто не кинулся на помощь, решился подняться до половины лестницы, взял ребенка и отнес его в безопасное место.
А Луиза вернулась наверх; огонь вспыхивал уже по окраинам лестницы; он исчезал на мгновение под её руками и являлся с новой силой, как только она поднималась выше… Очутись лицом к лицу с женщиной, которая, как она предполагала, похитила у нее сердце мужа, она бесстрашно протянула ей свои объятия, ей, которая сжимала в своих объятиях отца её детей. Та бросилась к ней, как потерянная от горя.
Луиза схватила крепко стан своей соперницы и спустилась вниз… Скорей, Луиза, уже лестница горит; скорей, Луиза, уже почерневшие устои трещат. Зачем она останавливается? Каждая минута гибельна! Забыв себя, забыв неизбежную опасность, забыв все на свете, она не могла устоять против непреодолимого желания увидеть лицо своей соперницы при свете пожара, и убедиться: превосходит ли она ее красотою. Таково сердце женщины!
Хотя лицо её было страшно искажено страданиями и испугом, волосы до половины сожжены и щеки в ожогах, но все-таки, даже в этом виде, она показалась ей очень красивою.
– Ах, как она хороша! – вскрикнула Луиза и пошатнулась на лестнице.
Она достигла уже третьей от низу ступени, когда с ужасным шумом обрушился потолок; пламя исчезло, облако дыма, с целыми мириадами искр, покрыло дом, лестницу и женщин. Крик ужаса разнесся эхом до противоположного берега Тибра; в нем выразилось убеждение, что эти несчастные погибли в развалинах.
Минуту спустя пожар, как гордость, униженная на мгновение, запылал ужаснее прежнего, и из пламени вышла Луиза, держа в руках бедную женщину.
Крики восторга, бешеные восклицания огласили воздух:
– «Кто этот юноша? – Не знаю. – Видел ты его когда-нибудь? – Никогда. – У него еще и бороды нет, да тщедушный какой, жиденький! А вон какие дела делает!» говорили в толпе, глядя на переодетую Луизу. – «Ура! доблестный юноша! вот настоящая латинская кровь!»
Господь сжалился над женой столяра; она впала в беспамятство и не помнила о горестной судьбе мужа. Луиза, воодушевленная все более и более желанием добра, как это всегда случается с добрыми сердцами, не допустила, чтоб спасенная женщина была отнесена в госпиталь. Она вспомнила об одной вдове, своей соседке, которая просила ее, если случится, найти ей жильца на две комнаты, и решилась поместить в них несчастную женщину.
Желая тотчас же привести в исполнение свое намерение, она велела положить ее на простыню, которую четверо здоровых людей вызвались нести. Сама она взяла на руки ребенка и только попросила, чтоб кто-нибудь помог ей дойти: голова её кружилась, и ей казалось, что земля пропадает под её ногами. Из окружавшей ее толпы вышел человек плотный, здоровый, обросший густыми волосами, в одежде чучара, из окрестностей Рима.
– Возьмите-ка мою руку! – сказал он голосом растроганным более, чем можно было ожидать от его грубого, загоравшего лица, – опирайтесь хорошенько, она выдержит и Траянову колонну. Если вам не противно, у меня достанет охоты и вас донести вместе с ребенком.
– Я вам верю. Да наградит вас Господь. Довольно и так. Теперь ступайте, – сказала она тем, которые несли бедную женщину: – потихоньку, в улицу Сан-Лорензо-Панисперино, в дом Ченчи.
– В дом Ченчи! – воскликнул он, отступив шаг назад.
– Что жь вас удивляет? Вы может быть думаете, что всякое доброе дело чуждо моему дому и достойно удивления, как какая-то редкость! Скажите пожалуйста, почему вы так думаете?
Чучарь только качал головою и не отвечал ни слова. Донна Луиза, задетая за живое, прибавила:
– И если вы хотите знать, кто имел храбрость взойти на лестницу в то время, когда вы, мужчины, не двигались с места от страха, – я скажу вам, что это была женщина; во мне вы видите жену Джакомо Ченчи и невестку графа Франческо Ченчи.
При этих словах чучар даже зашатался: он ухватился рукой за голову и долго не отнимал ее, точно хотел удержать мысля я впечатления, чтоб они не вырвались из нея.
Я не скрою от вас, кто был этот. Читатели мои могли уже убедиться, что я не люблю оставлять их долго в неизвестности; и потому я сразу скажу вам, что этим чучаром был Олимпий, а четверо добродетельных людей, державших простыню, были его товарищами и соучастниками в злодейском поджоге. Не подумайте пожалуйста, будто они действовали теперь из чувства лицемерия или хитрости, чтоб лучше скрыть свое преступление; они совершили его с такою предусмотрительностью и осторожностью, что не оставалось возможности подозревать их. Но как бы ни был дурен человек, в нем всегда есть и хорошая сторона, и у людей, с хорошими иди дурными наклонностями, не привыкших удерживать себя или притворяться, переход от зла к добру и проявление этих чувств делаются быстро и неожиданно. Я не знаю даже, родится ли человек собственно с дурною душою? Кто меньше всего имеет обыкновения сводить счеты с своей душой и действует по первому побуждению, тот, может быть, был бы лучше других, если бы слишком большое невежество, или дурные обычаи, или какие-либо другие побуждения не заслоняли ему пути к добру и не толкали его на дорогу зла.
Сказать правду, для того, чтобы держаться еще этого мнения, мне надо иметь несокрушимую веру; я думаю, нет человека, которого народ рвал бы так на части, как меня, и это именно потому, что он рассуждает мало и чувствует сильно.
Народ, прозвавший меня другом и отцом, вдруг прославил меня опять своим недостойным сыном, надел на меня цепи и даже потребовал моей смерти! Я слышал своими собственными ушами, как дети того самого народа, которого я чтил и о пользе которого всегда радел, наводнив палаццо Синьори, делили между собою при свете фонаря мелкие деньги, говоря один другому: «Тебе конечно следует меньше, ты сам маленький и не мог кричать громко, как я: „Смерть! Смерть ему!“ – Бедный народ! Ты преследовал и не таких людей, как я. Но я не назову тебя за это ни неблагодарным, ни злым, как Дант».
Тот, кто готовит себя на работу в пользу ближнего, пусть заранее знает, что он не получит другого возмездия, кроме огорчений. Еще гораздо прежде Прометея коршун пожирал сердца друзей человечества. Судьба смертных подвигается вперед медленно, поворачивая своим колесом, как огромная машина, по пути разбивая умы и жизнь и оставляя по себе один след человеческого праха.
Так и мы – мы уже умерли; но в гнезде, свитом из ненависти, мщения и позора, вырастают крылья у поколения орлов, может быть предназначенных для победы.
В самом деле, слава посеяла уже довольно, теперь сила должна пожинать. Мысль может вырастить дерево познания, но дерево жизни выходит только из-под сильных и свободных рук; а свобода есть жизнь. Пора кончиться поколению софистов и явиться поколению деятелей. Но возвратимся к рассказу.
Безутешная вдова была перенесена в дом Луизы Ченчи, которая обогнала ее вместе с Олимпием. С той заботливостью, к которой способны одни женщины, она уже приготовила ей постель, воск, масло, хлопчатую бумагу и многие другие средства, которые в те времена, а может быть и в наши, считаются самыми действительными от ожогов: в то же время она послала за лекарем и кормилицей. Эту последнюю к счастью нашли в той же улице, и она сейчас явилась. Узнав о случившемся, добрая крестьянка за вопрос: может ли она кормить ребенка до выздоровления матери, ответила: «еще бы»; и не теряя ни минуты, взяла дитя на руки, и сев в стороне, приложила его к груди.
Мать бредила всю ночь; она то проливала слезы, то вскрикивала отчаянно… На следующий день ей было не лучше; на третий день к ней до некоторой степени вернулась память, и она тотчас принялась искать около себя ребенка. Ей ответили, что дитя спит подле; она хотела повернуться, но была не в силах, и только могла проговорить слабым и умоляющим голосом:
– Ради святой Матери Божией, не обманывайте меня!
Ей побожились, что говорят правду. Она заплакала, потом спросила о муже; ей ответили, желая ее утешить, что он лежит больной в госпитале, но что есть надежда на его выздоровление.
Луиза, по-прежнему переодетая мужчиной, была при ней неотлучно, и уговорила ее молчать и быть спокойной. Иначе, – говорила она – вы себе только повредите и отдалите желанный день, в который прижмете к своему сердцу ребенка. – С этих пор больная не произнесла ни одного слова.
Луиза сильно привязалась к несчастной вдове, и это не удивительно: так же точно, как обида в сердце человека рождает необходимость нанести новую обиду, сделанное благодеяние вызывает на новое; и мы любим друг друга менее за добро, какое он вам делает, чем за те заботы, каких он нам стоит.
О том, как сильно было у Луизы желание знать подробности отношений, которые она подозревала между этой женщиной и своим мужем, нечего и говорить; но по многим причинам она не позволяла себе удовлетворить этому желанию. Прежде всего, ей казалось бесчестным воспользоваться положением этой несчастной для того, чтобы вырвать у нее тайну; было бы не по-христиански тревожить больную, заставляя ее говорить; при том же в ней уже зародилось сомнение, хотя еще и очень слабое, в справедливости своих подозрений, и скорее она предпочла оставаться в этой неизвестности, чем убедиться в страшной действительности.
На беду нет меры, которая переполнялась бы так скоро, как мера нетерпения. Однажды она сидела у постели больной. Анджиолина смотрела на нее с тем чувством обожания, какое набожные люди питают к чудотворным иконам, и шептала ей благословения. Луиза, в свою очередь, посмотрев на нее пристально, увидела, что румянец здоровья уже возвращается на её лицо, следы ожогов исчезли, и она делалась красивее, чем была до тех пор. Сердце забилось сильно в груди у ревнивой женщины, и она с горькой улыбкой спросила:
– Да точно ли я ваш единственный покровитель?
– А кто же станет заботиться обо мне, бедной, кроме вас!
– Да… но мне кажется, не изменяет ли вам память в эту минуту?
– Ах, да! вы говорите правду, – воскликнула Анджиолина, покрасневшая от своей забывчивости. – Боже! какими мы способны быть неблагодарными, даже против своей воли!
– Так… у тебя есть другой покровитель?
– Да, покровитель; вы угадали. Он сделал нам большое благодеяние.
– А как его зовут?
– Его? граф Ченчи.
– Ченчи? Ты сказала, Ченчи? – вскрикнула Луиза, точно как будто змея укусила ее в сердце, и замолчала. Но та, в порыве благодарности, и желая загладить сделанную ошибку, с чувством продолжала:
– Из всех, кого я знаю, кроме вас, это был самый достойнейший и добрейший человек на свете! Благодаря ему, мы перестроили дом, который теперь сгорел, а тогда был испорчен наводнением: – он требовал, чтоб я купила себе дорогое платье, и даже строго выговаривал мне за то, что я не выбрала его в крестные отцы моему сыну.
Луиза кусала губы до крови и наконец прервала ее резким голосом:
– Довольно! – сказала она.
И, тревожимая разными чувствами, поспешила уйти, чтоб не изменить себе.
– Безсовестная! – говорила она про себя. – Она даже не старается скрывать своего позора. Боже! Неужели в самом деле ты нам указываешь кормить змей, которые грызут наше же сердце?
Глава XII. Измена
Была глубокая ночь. Дон Франческо Ченчни сидел у себя в кабинете и читал, с большим вниманием, книгу Аристотеля о Натуре Животных; он от времени до времени останавливался в размышлении и записывал на полях мысли, которые приходили ему на ум.
Торопливый стук в потаенную дверь прервал его занятия; думая, что это пришел Марцио, по какому-нибудь непредвиденному обстоятельству, он поспешил отпереть. Олимпий, запыхавшись, с головой, повязанной окровавленным платком, вбежал в комнату, оглядываясь назад, как человек, который боится, что его преследуют, и бросился на стол, утирая рукой пот с лица. Дон Франческо, не смотря на свою обыкновенную способность скрывать свои ощущения, не мог скрыть удивления и неудовольствия, произведенных этим внезапным появлением; однако, притворившись, сколько мог, он спросил:
– Какой дьявол выпустил тебя из своих когтей в этом виде и в такое время? Ты ранен! Что там случилось такое?
– Измена, дон Франческо, измена; но клянусь Богом и святыми апостолами Петром и Павлом, я не умру, не зарезав этого негодного иуду, изменника, – будь он мой родной отец.
– Измена! Как это может быть? Да с тебя льется кровь?
– Не смотрите на это; это вздор, это мне пуля только натерла голову, больше ничего.
– Прекрасно; ну, так садись спокойно и рассказывай мне по порядку, как и что с тобой случилось.
– Дело его сиятельства герцога Альтемс назначено было на сегодняшнюю ночь, и право, какой то внутренний голос шептал мне, чтоб я не брался за него….
– Олимпий, твой мозг поврежден. Бедняга, ты бредишь.
– Бог свидетель, я не брежу, дон Франческо, я говорю правду. Я исполнил ваше приказание насчет столяра, но тут случалась штука, которой не имели в виду ни вы, ни я; сам чёрт сжег этого несчастного столяра.
– Разумеется, это дьявол заколотил гвоздями наружную задвижку.
– Это сделал я; но клянусь вам, как честный бандит, что я больше ничего не хотел, как только помешать ему выскочить тотчас из дому и разбудить всех соседей, которые потушили бы пожар; я не думал, что ваши дьявольские плошки, будут гореть с такою яростью; и никак не мог предполагать, что хозяин потеряет голову до того, что не выскочит в окно. Одним словом, я не думал, ей-Богу, не думал, что из этого должно выйти столько горя. Дон Франческо, слышали вы о подвиге донны Луизы, вашей невестки? Какая разница между ею и нами! Настоящая латинская кровь!
– Я знаю и про это. Конечно, она достойная женщина… неужели я сказал «достойная»? Да, и не отрекаюсь от слова: каждый человек имеет свои добродетели; и если б я не был Франческо Ченчи, я бы не хотеть быть никем другим, как Луизой Ченчи; в моем семействе женщины гораздо выше мужчин. Еслибы сыновья мои походили на Олимпию, на Беатриче или на Луизу; если бы в наш гнилой век была возможность приобрести славу каким-нибудь честным трудом, каким-нибудь умственным подвигом…. тогда может быть…. кто знает?… меня прельстила бы другая дорога…. но теперь…. нечего об этом и думать….
– Мне казалось, что у меня сердце разрывается на части: я плакал, как ребенок. В первый раз я вспомнил о моей матери, как она прятала меня под свою юбку и принимала на свои плечи побои, которые отец направлял на меня; я вспомнил о моей бедной Клелии, когда она бывало ждет меня у фонтана; подумал о трактирщике в Загороло, у котораго такое свежее вино летом, – о веревке мастера Александра[20], которая так влюблена в мою шею… и ни одно из этих дорогих воспоминаний не растрогало меня так, как славная донна Луиза Ченчи. Я уже даже помышлял о том, чтоб переменить образ жизни и отрезать разом старое. Но слово было дано герцогу, я не хотел изменить ему…. хотел кончить честным бандитом…. Уж этот проклятый иуда! попадись он мне только!
– Ну, будет морочить голову! Рассказывай, что было.
– Я явился к герцогу, чтобы решить окончательно, как и что делать. Я изучил и местность, и порядку в доме. Наших отправилось четверо, я – пятый. Герцог ждал на улице, в карете. Я вошел во двор и говорю дворнику: «кум, сделай милость, вызови мне сюда Крецию; скажи ей, что ее ждет Джиокино и что ему надо передать ей кое-что от её матери…. Да вот возьми себе, выпей за мое здоровье». Дворник пошел тотчас же, а мои товарищи взошли во двор и спрятались за колоннами. Девушка прилетела в ту же минуту, распевая как ласточка; проворней, чем сколько нужно чтоб сказать ave Maria, мы ее закутали и посадили в карету герцога, который принял её в свои объятия. Я велел кучеру ехать шагом, чтоб не дать ни малейшаго подозрения, и нам не попалось навстречу ни одной души. Все идет как по маслу, говорит мне на ухо один товарищ; мне, при моей привычке к таким делам, казалось, что оно идет как-то уж чересчур хорошо, и я не ошибся. Не успели мы доехать до угла, как навстречу попалась полиция, с вооруженными людьми. Другие все перепугались, я не струсил ни на волос; кричу: «Кучер, поворачивай назад и гони лошадей, сколько есть мочи». Проклятие! С этой стороны тоже целая толпа сбиров[21] нападает на нас. «Ребята, мастер Александр растянул вам сети, и если вы не хотите быть изжаренными, надо разорвать их. К оружию, дети!» Сказано – сделано; сам герцог вышел из кареты и смело обнажил шлагу. Я его не считал способным на это. Подите-ка, доверяйтесь тихой воде! Но сбиры не дожидались нашего приближения, и угостили нас ружейным залпом. Кто пал и кто остался на ногах, я не знаю. Я, правду сказать, не мог и думать о других, – да при том же было совершенно темно. Святоша, высунувшись из окна кареты, кричит: «спасите! ради Бога спасите!» точно ее режут. Полиция орет тоже своё: «бей их! бей!» а я тихохонько пробирался за стеною и наносил им удары, от которых они и вздохнуть не успевали. Таким-то образом я выбрался из толпы и пустился бегом; насколько хватало ног. Мои ноги почти не касались земли, потому, знаете, кто просто бежит, тот только бежит, а кто спасается, так тот летит. Не смотря за это, два сбира, вероятно тоже хорошие бегуны, не отставали от меня ни на шаг, точно гончие собаки. У меня даже подымались волосы сзади, от их дыхания; несколько раз они уже хватались руками за мое платье. Я повернул за угол и всеё бегу; повернул за другой, за третий: уж я чувствовал, что начинаю задыхаться, но они тоже устали, особенно один, потому что я слышал не одинаково ясно их шаги. Тогда мне припомнилась история храброго богатыря Горация[22]. Находя, что они проводили меня дальше, чем следовало, я остановился, неожиданно обернулся и простился с тем, который был ближе от меня, всадив ему пулю в самую грудь. Голубчик повернулся раза три или четыре, как собака, которая ловит свой хвост, и потом зарылся носом в землю. Другой тотчас понял, что я намерен распроститься с ними, и в свою очередь, прежде чем удалиться, отвесил мне поклон одной унцией свинцу, которая скользнув по голове, ранила мне левое ухо. Но это не помешало мне бежать. Сделав порядочный конец, я остановился, чтоб оглядеться, куда я попал, и увидел, что случайно очутился у вашего дома. Вернуться назад – значило погубить себя; до меня долетал гул раздраженного народа, точно как Тибр шумит под сводами моста Святого Ангела. Я и решился воспользоваться случаем, который, судьба так разумно представила мне: перелез через стену сада и ощупью добрался до вас по дороге, которой меня вел Марцио… Теперь, дон Франческо, спрячьте меня, пожалуйста, до завтрашней ночи, потому что я, если Бог поможет, намерен вернуться в лес.
Ченчи, слушавший его с большим вниманием, спросил:
– И ты положительно убежден, что никто не видел, когда ты взошел сюда?
– Никто. Но вы понимаете, что теперь полиция на ногах, и в первое, жаркое время мне надо ее остерегаться.
– Ты точно говоришь правду, что тебя никто не видел?
– Никто, клянусь вам. Разве вы не видите, что я переоделся барином?
И точно Олимпий переменил костюм.
– Будь спокоен; если все так, как ты говоришь, то беда не велика. Надо однако позаботиться, чтоб тебя люди не видели; я не верю им ни в чем; у них всегда навострены глаза и уши; мы окружены шпионами; они любят своих господ, как волки ягнят, чтоб полакомиться их мясом.
– Как, вы даже и в Марцио не уверены?
– Прежде, чем сломался, он был цел, говорит пословица. И да, и нет; но я его послал по делам на виллу. Тебе придется (и видишь, я зато делаю более для тебя, чем для себя) скрыться на это время в подземельях дворца.
– Как в подземельях?
– Это так говорится, в подземельях – в погребе. И ты будешь там в достойной и приятной компании – с винными бочками; я тебе разрешаю открыть их и пить из них забвение всех бед, сколько тебе угодно, с одним только условием, чтобы напившись вдоволь, ты заткнул их опять.
– Уж если иначе нельзя, то из-за хорошей компании я согласен и на такую комнату.
– Ты не будешь там жить по-княжески, но однако ж и не по-разбойничьи; соломы найдешь много; меньше чем через час я дам тебе поесть и принесу тебе огня и мазь, которая залечит тебе боль в ранах. Пусть я околею, если ты в короткое время не будешь чувствовать себя здоровым. Утешься, не все предприятия удаются безопасно; не удача, но терпение все побеждает. Римляне после поражения в Каннах продали место, на котором был Карфагенский лагерь, и наконец-таки взяли Карфаген. – Обопрись за меня… Ступай потихоньку; смотри не ушибись – идем шагом.
Они шли в темноте нескончаемыми проходами, пока не добрались до подвалов дворца.
– Тут меня и дьявол не отыщет.
– О! в этом ты можешь быть уверен; тебя никто не отыщет!
– Притом никто и не знает, что я здесь.
– И не узнает никогда.
– Мне нужно только, чтоб не узнала полиция до после-завтра; а потом мне и дела нет.
– Наклони голову и смотри не ушибись об ворот… вот так… с этой стороны… входи.
– Входить? – проговорил Олимпий и остановился. Он почувствовал сырой, холодный воздух, охвативший ему лицо. Дон Франческо расхохотался.
– Я вижу ты трусишь? – сказал он.
– Я? Нет; только я думаю о том, что все закрытые места таковы, что всегда знаешь, когда в них входишь, но никогда не знаешь, когда выйдешь.
– Как так? завтра ночью – ведь ты сам решил.
– А если вы не придете за мной?
– Да какая же мне польза от твоей смерти? Где мне найти другого Олимпия?
– Ну, а если не придёте?
– Ты тогда кричи. Погреба у самой улицы, и прохожие тебя услышат.
– Хороша находка! Из погреба Ченчи я попал бы тогда в тюрьму Корте-Савелла.
– Ты пойми, что мне самому пришлось бы отправиться в крепость за то, что я спрятал такого приятеля, как ты.
– В том, что вы говорите, есть доля правды: на всякий случай оставьте дверь открытою.
И он взошел; но дверь захлопнулась за ним.
– Дон Франческо, как же это? ведь дверь закрылась? Принесите мне скорей огня и отоприте дверь.
– Я сейчас иду за ключом и вернусь.
– Да смотрите, не забудьте огня.
– Огня! ну, огня у тебя будет вдоволь, если справедливо сказание: et fax perpetua luceat eis[23], – напевал Ченчи панихидным напевом, поспешно удаляясь.
– Удивительно, право! – продолжал граф, когда вернулся в свою комнату: – и эти люди воображают, что у них очень тонкий ум! Всякая лисица употребляет больше осмотрительности, чтоб не попасть в западню. Теперь жди меня, Олимпий; ты прождешь долго; разве ангел, в день страшного суда, придет отпереть тебя, а уж я наверное не приду. Твоя смерть будет повторением смерти римского эпикурейца Помпония Аттика, друга Цицерона. А ведь должно быть в голодной смерти есть своего рода сладострастие. Если бы Олимпий не свалился мне на голову так неожиданно, я устроил бы сам таким образом, чтобы можно было наблюдать над ним симптомы голодной смерти… Делать нечего! Это мы оставим до другого раза, если Бог поможет найти случай. Теперь же я отдаюсь в руки случайности, потому что в моих глазах один гран удачи стоит целого четверика уменья. В войне, в любви, в делах, даже в самых искусствах, всем распоряжается удача. Прощай, Олимпий, покойной ночи! Мой прощальный поклон не так торжествен, как поклон сбира, мой проще, но вернее. Спи спокойно, Олимпий; мне тоже хочется спать; и я желаю тебе сна невинности – сна, подобного моему.
Из четырех разбойников, товарищей Олимпия, трое остались убитыми на месте; четвертый, раненый смертельно, умер прежде, чем его донесли в госпиталь. Герцог также был ранен в руку, но остался жив. После длинного процесса, в котором он сознался во всем подробно, умалчивая только об участии графа Ченчи, папа был в нерешимости: осудить ли его на смертную казнь, или только на галеры? Однако сильные связи графа при дворе, а более всего деньги, которыми он щедро наделял приближенных папы, расположили его принять в соображение молодость герцога, его примерную до тех пор жизнь, и проч. и проч., и потому наказание было смягчено. В чем заключалось это смягчение, я, к удивлению моему, отыскал в делах Проспера Фариначио, который был его адвокатом: герцога послали в Авиньон папским губернатором.
Но так как вещам необыкновенным с трудом верится, когда не известны причины, делающие их обыкновенными и естественными, то весьма любопытны мемуары того времени: из них видно, что папа Климент пришел к такому решению по своей чрезмерной скупости. Он не назначил никакого содержания герцогу, но еще подверг его стольким издержкам, независимо от сопряженных с его должностью, честью и достоинством римского вельможи, что частью от этого, частью от больших издержек по процессу, знатнейший дом Альтемс потерпел значительный денежный ущерб, от которого никогда уже и не смог оправиться.
Глава XIII. Монсиньор Гвидо Гверра
Бледная, бледная, вся в белом, с лампадой в руках, Беатриче теперь похожа на весталку. Она ступает быстро и стремительно, едва касаясь земли ногами…
Вот она поставила на пол лампаду, отворила осторожно дверь, робко осмотрелась кругом и скользнула в сад.
Куда идет в такую пору Беатриче, это бесстрашное дитя? Не хочет ли она насладиться созерцанием небесного свода, на котором Бог начертал свою славу звездами, как словами? Но небо покрыто черными тучами и воздух полон тревоги под гнетом приближающейся грозы. Может быть, она вышла в сад упиться звуками, которыми соловей оглашает тишину ночи? Нет, удары грома наполняют воздух, и испуганные звери прячутся в своих берлогах, или притаившись лежат под зеленью лесов. Зачем же идет она?
Она, несчастная, идет искать того светила, которому суждено быть её путеводной звездой посреди мрака, еще более черного, чем небо этой адской ночи. Зачем мне дольше скрывать её тайну? Дочь Франческо Ченчи идет на свидание с своим возлюбленным. Но как и когда она почувствовала любовь? Как могла любовь пустить свои корни в этой душе, полной отчаяния? На гранитной скале, куда не проникал след человека, куда изредка только залетит птица, чтоб дать отдых своим крыльям, и видел свежую, прекрасную фиалку, колеблемую утренним ветерком. Кто занес туда горсть земли, которая вырастила этот скромный цветок? Так было и с Беатриче.
Монсиньор Гвидо Гверра, как видно из мемуаров того времени, происходил из знаменитого рода; он был высок ростом, красив и с приятным выражением лица. У него, как и у Беатриче, были русые волосы и голубые глаза. Нравы ли того времени были распущены, или в них было менее притворства, только тогда никто не возмущался тем, если прелаты чувствовали стремление к оружию или к любви. Часто высокие сановники церкви бросали свою духовную одежду и лезли в окно к любовницам, или надевали меч; они принимали участие в сражениях, где наносили и получали порядочные раны. Соборные уставы не только не одобряли, но напротив того, с древних времен строго преследовали подобные проделки; один обычай побеждал уставы. Коадъютор парижского архиерея ди-Гонди, впоследствии кардинал де-Ретц, переодетый в светский костюм, пробирался по ночам к Анне Австрийской, регентше Франции, а днем являлся ко двору с кинжалом под рясой. По этому случаю в то время кинжал называли молитвенником преосвященного коадъютора.
Чистейшая душа Беатриче верно бежала бы от всякой непозволительной любви. Но известно положительно, что, хотя монсеньор Гвидо Гверра и носил духовное платье, он однако же не был связан ни церковными обетами, ни священным званием, и мог по желанию сбросить рясу и идти под венец. Он остался единственным сыном у своей овдовевшей матери и обладал большими богатствами. Кроме того, он отличался блестящим умом, способностями ко всякому роду занятий, большой удачей во всем, так что не было предприятия, которое он затеял бы и которое ему не удалось бы выполнить счастливо. Судьба, казалось, хотела соединить на нем все свои блага… Лукреция знала об этой любви и покровительствовала ей, сколько могла, из сострадания к Беатриче, которую она хотела избавить от непристойных и свирепых преследований отца и видеть счастливою.
В редких случаях, когда дон Франческо выходил из дома по своим делам, или выезжал из Рима, Гвидо, извещаемый через верных посланных, тотчас являлся во дворец и утешал, как умел, бедных женщин. Не смотря на данную им клятву быть мужем Беатриче, он откладывал со дня на день исполнение этой клятвы. Пользуясь расположением папы и зная его строгий нрав и желание, чтоб он не оставлял духовного звания, в котором папа обещал ему быстрые повышения, Гвидо изыскивал все случая открыть свое сердце святому отцу, так чтобы не вооружить его против себя и получить его согласие. Но когда дон Франческо узнал через своих шпионов о намерении монсиньора Гвидо, или может быть только имел подозрение, этого уже было достаточно для того, чтобы предложить Гвидо перестать посещать его семейство и оставить всякий помысел о Беатриче, если ему дорога жизнь. Имя графа Ченчи даже у самых храбрых отнимало охоту входить с ним в ссору, и тот, кто заслужил его вражду, не мог бы считать себя в безопасности даже в своей постели; но надо думать, что монсиньор Гверра пренебрег бы его угрозами, если бы репутация любимой им девушки, которая для всякого, истинно любящего, должна быть дороже всего на свете, не удержала его, из опасения скандала; поэтому он виделся с нею редко, и злополучные любовники находили утешение только в том, что изредка пересылали друг другу письма.
Кто из вас, читатели, не получал хоть раз в свою жизнь подобных писем? Вы помните, с каким волнением вы к ним прикасались, как дрожали ваши руки, когда вы их развертывали, и с каким нетерпением вы спешили читать их при тусклом свете сумерек или при слабых лучах луны? Вы помните, как у вас бились виски, как звенело в ушах и как огненные мурашки мелькали перед глазами? Вы помните, как вы одним взглядом пробегали его всё, а потом перечитывали на досуге каждое слово и, осыпав поцелуями, прятали на груди.
В таком положении были отношения любовников, когда в один вечер, монсиньор Гверра, переодетый, шел мимо дворца Ченчи; он смотрел наверх, отыскивая огонь в окне у Беатриче, как мореход ищет маяка в бурную ночь. В то самое время, как он поравнялся с аркою дворца Ченчи, он почувствовал, что его толкнул бежавший мимо человек. Он чуть не свалился от толчка; но, устояв на ногах, схватил за шиворот бежавшего, угрожая ему голосом, полным негодования:
Тот, как только узнал его, сказал:
– Не шумите, ради Бога! Возьмите это письмо: оно от донны Беатриче.
И побежал прочь.
Гвидо, ставший неосторожным от чрезвычайной любви, осматривался кругом, не попадется ли ему фонарь. В глубине арки он увидел лампаду, горящую перед образом мадонны. Не рассуждая более, он отправляется туда и вскрывает письмо, в котором едва узнает почерк возлюбленной девушки: до такой степени оно было написано дрожащею рукою. Эти несколько строк заключали в себе мольбу: ради всего, что у него есть святого, прийти в эту самую ночь, в час, в сад, и ждать ее в лавровой беседке, если он не хочет, чтобы она умерла.
Он осторожно спрятал письмо и удалился. Вернувшись домой он взял шпагу, веревочную лестницу и, когда настало время вышел один. Дойдя до ограды сада Ченчи, он перелез ее и спрятался в назначенном месте.
Гвидо прислушивался, и ему беспрестанно слышался шум между листьями; он высовывался, осматривался кругом и, не видя никого, со вздохом возвращался в свое место. Назначенный час прошел. О Боже! уж не случилось ли несчастья, на которое указывали в письме?.. У него замерло сердце, и он, шатаясь, прислонился к дереву.
Вдруг послышался голос:
– Гвидо!.. Беатриче!..
Девушка трепетно сжала руку своего возлюбленного, который дрожал, как листья лавра над его головой. Беатриче, точно пораженная какою-то ужасной мыслью, забыв девственную скромность, прижалась к нему и, как в бреду, прошептала:
– Гвидо, возлюбленный мой, спаси меня! Гвидо, уведи меня отсюда… сейчас… не мешкай ни одной минуты!.. тут земля жжет мне ноги… здесь отравлен воздух, которым я дышу… Гвидо!.. пойдем…
– Беатриче!..
– Не будем терять слов… бежим, умоляю тебя, пока не потеряна возможность!.. Если ты не хочешь иметь меня своей женой, ничего… ты отвезешь меня в монастырь… куда хочешь… хоть в Клариссы, где замуровывают дверь за отшельницами – только спаси меня из этого проклятого места… спаси меня, я этого требую!..
– О Боже! возлюбленная ноя! что значит это волнение!.. Ты горишь, как в лихорадке.
– Тут… в душе моей смерть!.. Избавь меня от отчаяния… от вечного проклятия… Что со мной?.. Вообрази себе преступления, от которых бледнеют палачи, преступления, от которых подымаются дыбом волосы у злодеев, которые леденят кровь, от которых отнимается голос и каменеют слезы: представь себе все преступления, какие только мифология рассказывает о семействе Атридов[24], – и тогда ты не вообразишь себе всех ужасов, которые затеваются и исполняются в Риме… здесь… во дворце графов Ченчи…
– Ты приводишь меня в содрогание… во говори же… скажи мне…
– Могу ли я говорить это, а ты слушать? Если б я открыла тебе все, ты увидел бы краску на моем лице даже сквозь окружающий нас мрак ночи… Я умерла бы от стыда у ног твоих. Довольно знать тебе, что я, благородная римская девственница, я, из уст которой не вышло ни одного нескромного слова, я, у которой не было никогда ни одной мысли, которую бы я не могла поверить своему ангелу-хранителю, – я скорей избрала бы постыдную жизнь распутной женщины, чем остаться один лишний час, одну минуту за этим порогом, над которым висит гнев Божий!.. Это ужасающие тайны, которые не должны и не могут быть рассказаны.
– Но куда ты можешь идти со мной в таком виде? Как ты перелезешь стену к таком платье? Подожди до завтра…
– Завтра! Несчастный!.. Да знаешь ли, что может и теперь уж поздно?.. Я не оставлю тебя и прилипну к тебе, как раскаленные щипцы… Идем… беги… я следую за тобой!
– Пусть будет по твоему; идем, с Божией помощью…
– И не простившись с хозяином? Возможно ли это?.. – крикнул насмешливый голос.
И в то же время был нанесен сильный удар топора, который разрубил бы Гвидо пополам, если б упал на него; но, к счастью, он ударился со всего размаху о дерево, около которого стола любовники, и срезал его, как тростник; дерево, падая, ударилось о соединенные руки Беатриче и Гвидо и разъединило их.
Потрясенный, но не уничтоженный этим ударом, Гвидо ощупью искал руки Беатриче, но сильный толчок отбросил его на несколько шагов, и в то же мгновение на него наскочил человек, говоря ему шепотом:
– Безрассудный! убегайте, или вы погибли! Я кинусь вслед за вами для того, чтоб спасти вас! – и потом громко стал кричать. – А! изменник! ты не убежишь от меня!.. Вот тебе… вот тебе еще удар!..
По всему саду, смешиваясь с ревом ветра, слышны были бранные слова и страшные угрозы. Резкий голос Ченчи, как зловещая птица, кричал беспрестанно:
– Крови!.. крови!.. режьте его, как собаку!..
Гвидо бежал, оглушенный всем этим; но вдруг ему стало совестно, что он оставил Беатриче одну в руках разъяренного отца; не сознавая ясно, что нужно делать для того, чтобы помочь ей, он остановился, повернул назад и ухватился за шлагу; но прежде чем он успел обнажить ее, его настиг преследовавший его человек и сказал ему:
– Зачем вы остаетесь? Ради всех святых, отчего вы не бежите?..
– А она?..
– Ее есть кому охранять. Идите скорей, вы не можете ее спасти и только губите себя!
И он толкнул его на лестницу, придерживая ее, чтоб так мог легче взойти; потом нанес такой сильный удар по стене, что кинжал разломался на мелкие части и искры посыпались кругом; всё это он приправлял криками и проклятиями, от которых содрогнулись бы своды небесные.
– Где убитый? – спрашивал рассвирепевший дон Франческо. – Огня, огня сюда!.. чтоб я мог видеть его раны! огня, чтоб я мог вырвать сердце из его груди и бросить ему в рожу!.. где убитый?
– Он убежал, – отвечал с грустью Марцио.
– Как убежал? Неправда; он должен быть здесь… он должен быть убит!.. Бежал! Ах вы изменники, собаки!.. вы допустили его бежать! На кого мне положиться? Правая рука действует, как иуда с левой… а на тебя, Марцио… на тебя у меня уж давно есть подозрение… берегись… мои подозрения переходят прямо в удары кинжала… – Едва лишь у него вырвались эти слова, граф понял, как неосторожно поступил; он укусил себе губы, как бы в наказание за то, что они это выговорили и, стараясь тотчас изгладить дурное впечатление, прибавил более кротким голосом: – Марцио, ты с некоторых пор служишь мне не так ревностно, как прежде: я тебя не удерживаю, – хотя без тебя я буду, как без одной руки, я предпочитаю потерять тебя, чем видеть в тебе беспечного и не вполне верного слугу.
Сказанное слово и брошенный камень уж не возвращаются назад. Арабески на ножнах и узоры на клинке не делают менее острым лезвие кинжала. Слова Ченчи запали в сердце Марцио, как камень в воду; но поверхность, едва помутившаяся, пришла скоро в спокойствие, и он отвечал жалобным голосом:
– Скажите лучше, эчеленца, что я надоел вам. Это всегдашняя участь слуг. Нет чернил, которыми можно было бы прочно записывать в сердце господ долгую и верную службу. Как только тебе хоть раз изменит судьба, неблагодарность уже настороже и, как губка, стирает все… Что ж делать? надо терпеть!.. завтра я сниму вашу ливрею.
Ченчи был уверен, что обманул Марцио, а между тем Марцио, как мы увидим дальше, провел его.
– Марцио!.. что значат слова, произнесенные в гневе? Это мимолетный ветер. Я считаю тебя за самого верного слугу своего и намерен тебе теперь же доказать это.
Граф, окруженный слугами, державшими факелы, принялся искать Беатриче и скоро нашел ее. Потрясенная всем происшедшим, она оставалась без движения. Но едва лишь он увидел ее, в нем вновь вспыхнула самая зверская ярость; схватив ее за руки и потрясая ее с ужасной злобою, он с горьким сарказмом говорил ей:
– Так вот она, невинность, которой непонятны слова любви и сладострастия, как звуки незнакомого языка? Вот она девственница, берегущая лилию, которая должна умножить блаженство рая? Бесстыдница!.. распутница, принимающая тайно любовников!.. Так ты сама вызываешь на гнусные наслаждения… сама навязываешься тем, кто не хочет тебя. Скажи мне, кто был тот, с кем ты бесстыдно обнималась?
Беатриче смотрела на него и молчала. Старик, взбешенный этим спокойствием, заревел.
– Говори, если не хочешь, чтоб я убил тебя!
И так как Беатриче не прерывала молчание, он совершенно остервенел, вцепился ей руками в волосы и стал рвать их прядь за прядью; не довольствуясь этим, он поносил ее самыми грязными ругательствами, каких никогда не слышала ни одна честная женщина, и наносил ей жестокие удары в грудь, в шею, в лицо. О, из сострадании отвратим наш взор в другую сторону! Кто мог бы видеть, не содрогаясь, этот нежный лоб и щеки, изувеченные глубокими царапинами, эти божественные глаза, распухшие и в синяках, кровь, льющуюся вместе со слезами на эти милые уста! Он опрокинул ее на землю, таскал ее за волосы и беспрестанно переходил от одного тиранства к другому; топтал ее ногами, но она все молчала; раз только у нее вырвались из груди слова:
– Горе! горе мне!
– Ступайте прочь отсюда все вы, – крикнул граф: – ты, Марцио, останься… Слушай! я хотел поручить тебе эту негодницу, в доказательство моего доверия к тебе… но лучше будет, если я сам присмотрю за ней, чтоб она не заколдовала тебя… Поди в мой кабинет, в конторке, в правом углу, ты найдешь связку ключей; возьми их и принеси мне… Торопись… ступай…
Марцио, вынужденный остаться грустным зрителем безбожного обращения, пошел и мигом вернулся с ключами; он поднял девушку и, становясь между нею и отцом, делал вид, что грубо толкает ее в подвал.
Марцио оставил в нескольких шагах позади графа Ченчи; вдруг слух его был поражен страдальческим стоном и словами:
– Умереть так… без хлеба и без причастия. Ах ты изменник!
Марцио догадался, что в этих пещерах скрываются еще другие преступления, кроме того, которого он был свидетелем, и повернул голову в ту сторону, откуда слышался голос; но Франческо Ченчи, запыхавшись, поравнялся с ним в эту самую минуту и бросив на опасного слугу свирепый взгляд, спросил:
– Слышал ты стон?
– Стон?
– Да, точно стон грешной души…
– Мне послышалось… завывание ветра в пещерах…
– Нет, нет… это стоны… Дед мой заморили здесь голодом своего врага. С тех пор, говорят, в этих пещерах водятся привидения; и я этому готов поверить.
– Спаси меня Господа! Что касается до меня, я не взошел бы сюда даже со святой свечею в кармане.
– И хорошо делаешь. Открой эту дверь: вон там, направо… третью… вот так… хорошо.
Марцио отпер дверь и граф со всей силы втолкнул туда Беатриче.
– Ступай, проклятая, ты теперь испробуешь вкус хлеба покаяния и воды страдания.
Беатриче от сильного толчка упала на пол и ударилась лицом о выдающийся камень, отчего сделала еще новую рану на губах: побежденная болью, она упала в обморок. Когда душа несчастной вернулась к жизни, она встала с полу: она была одна, окруженная мраком; опершись на стену, несчастная предалась размышлениям:
– Горе мне! горе! Бог покинул меня. Никто из живущих не смеет и не может помочь мне, – никто. Судьба обрушилась на меня, как свод святого Петра. Право, уж слишком много бури для того, чтоб сломить такой слабый тростник. Ты не осудишь меня, Господи, за то, что я свалилась под бурею, которую ты сам послал на меня… Гвидо мой, Гвидо! О, горе мне! и он теперь наверное уж умер… Он говорит теперь обо мне с Вергилием… и они вместе ждут меня к себе. О, Боже! Гвидо не вини меня в своей смерти… Теперь, когда я без стыда могу говорить с тобой, я открою тебе, как беспредельна, как сильна была моя любовь к тебе. Но зачем, – да простит тебя Бог, – зачем Гвидо хотел ты соединить свою судьбу с моею? Разве я не говорила тебе, что дни мои обречены на погибель? Разве я не предваряла тебя?.. О, зачем я живу и не в состоянии умереть? Говорят, что мы не в праве лишить себя жизни! Нет? Душа должна чувствовать, страдать и не должна желать смерти телу… Я перенесла бы даже такую долю, если б я не знала, что я – семя злополучия, брошенное на землю для того, чтобы взрастить жатву слез для всех, кто меня любит… Да, дни мои растут, как ветви ядовитого дерева, которое убивает всякого, кто захотел бы отдохнуть под его тенью. Я не виню тебя, Господи! Ты возложил на спину твоего единородного сына крест из дерева, и он трижды упал под его бременем; но на меня ты возложил свинцовый крест. У меня нет сил нести его, и я бросила его на землю. Пусть берет кто хочет эту исстрадавшуюся душу… Моя жизнь слишком тяжела и я хочу кончить с нею.
В этих размышлениях, непреодолимое желание умертвить себя овладело её умом; полная решимости, с печатью смерти на челе, с душою, переполненною холодным отчаянием, она разбежалась и со всего размаху ударилась головою об стену… О, Боже! Она пошатнулась, распростерла руки и упала без чувств на землю.
Глава XIV. Убийство в Витане
Конечно, не могло быть большего благодеяния для Беатриче, как если бы мольба её была услышана и принята эта страдальческая душа, которая после краткого шестнадцатилетнего странствования на земле, не находила себе другого убежища, кроме вечного мрака смерти! Но Богу угодно было сделать иначе. Густые, изобильные волосы на голове Беатриче смягчили удар, и он не был смертелен. Мы не можем сказать, сколько часов пробыла она в беспамятстве. Когда она очнулась, то приподнялась и села опершись о стену, не помня, ни где она, ни как сюда попала. Она сжимала руками голову, в которой чувствовала сильную боль, хотя и не помнила её причины. Вдруг ей послышалось, будто произнесли её имя; она прислушивается внимательно: точно, имя её повторяется. Тогда она вспомнила рассказ Вергилия о том, как звала его к себе мать. Голос, который она теперь слышала, имел что-то среднее между звуками голоса брата и матери. Она заключила из этого, что, благодаря их ходатайству, божественное милосердие избавило ее от вечной муки и, утешенная этой мыслию, бодро встала на ноги и, всплеснув руками, с чувством невыразимого восторга, воскликнула:
– Благодарю тебя, мать моя, благодарю тебя, мой дорогой Вергилий! явитесь мне! дайте мне увидеть вас!.. откройте мне ваши объятия… Отчего мой Гвидо не с вами? Каким молодым он умер! Но если он придет сюда с вами… со мною, своей супругой, ему не тяжела будет смерть: наши поцелуи не будут преступны. Не правда ли, матушка, мне можно, целовать его даже при вас; ведь он мой супруг?
Но голос приближался все более и более.
– Синьора Беатриче… опомнитесь, не падайте духом… О, синьора Беатриче, не бойтесь, это я… это Марцио зовет вас.
– Марцио! В том мире это было имя одного слуги, который был мне предан… Это он хотел размозжить голову графу Ченчи в день пира… То было преступление; но участие ко мне подвигало его на это… Будем молить Бога, чтоб он простил его, или возложил на меня его грех, – я искуплю его в чистилище.
– Дитя мое! Я боюсь, что Бог накажет меня именно за то, что я не выжил его из этого мира.
– А теперь что делает Марцио? Он тоже умер?
– Синьора Беатриче, вы бредите… Ради Бога, опомнитесь… пересильте себя… подойдите ко мне, выслушайте меня: старик злодей, граф Ченчи спит теперь… Хотите, чтоб он уже никогда не проснулся?
– Что вы говорите, Марцио? Я не хорошо вас понимаю, у меня в голове точно туман… – Тот, кто дал вам жизнь для того, чтобы мучить вас, тот, кто называется вашим отцом, тот, кто умертвит вас, если останется жив… Хотите, чтоб он умер… в эту ночь… через пять минут? Его жизнь на кончике моего ножа.
– Нет, нет! воскликнула Беатриче, приходя в себя: – Марцио!.. Боже вас упаси это сделать – иначе я возненавижу вас… Я вас обвиню перед судом… Пусть он живет и кается: он покается когда-нибудь, может быть.
– Покается! Разве волков когда-нибудь видали на исповеди? Я сказал вам, если он останется жив, вы умрете.
– Что за беда? Разве я не пробовала умереть? Ах, как тяжело вернуться к жизни! Марцио, мой верный Марцио! У меня нет больше дыхания; я хотела бы смертью утолить жажду. Слышал ты когда-нибудь рассказы о наших предках, которые держали около себя безжалостного друга или раба для того, чтобы, когда придет необходимость покинуть жизнь, он нанес им благодетельный смертельный удар? Марцио, я столько не требую от тебя… Принеси мне только какой-нибудь травы, которая имела бы свойство закрыть мне глаза на веки, дать мне наконец покой, которым я никогда не наслаждалась при жизни.
– Нет, клянусь святой душой Анны Ринарелло, если я не погибну, вы будете жить. Несчастное дитя! не предавайтесь отчаянию. Я скоро вернусь к вам; теперь мне необходимо идти к вашему ужасному родителю… Если б он проснулся и застал нас вместе, вам бы не было спасения.
И он оставил ее. Думая только о жалком положении Беатриче, он уже готов был выйти вон из пещеры, как внезапно ему пришел на память стон, слышанный им в прошлую ночь; он вернулся назад, стал прислушиваться, по ничего не слышал: тогда он стал слегка стучать в дверь, которая была пред ним, и вдруг послышался тот же стон, но еще более страдальческий.
– Боже мой! Я умираю с голоду, умираю от жажды; лучше бы быть повешенным; я к этому уже был готов…
– Кто ты? Отвечай скорей…
– Эчеленца, разве вы не знаете, кто я? Отоприте мне дверь, ради Бога, я готов глодать своя собственные руки.
– Отвечай скорей, говорю тебе, или я уйду.
– Я человек, у которого открытый счет с правосудием; но по правде сказать из-за вздора, – впрочем, я честный бандит и прежде всего, верный: меня зовут Олимпий. Меня запер здесь граф Ченчи, два дня назад, должно быть, потому, что здесь не видно, когда встает и когда ложится солнце; он обещал вернуться, и вот я до сих пор жду его. Ах! если ты крещеный человек! дай мне каплю воды, кусок хлеба, огня… ради Бога!
– Это ужасно! Морить голодом человека и без причастия! Душа этого человека – ад, дна которого никогда не отыщешь. Олимпий, теперь я не могу помочь тебе: потерпи, я скоро вернусь; пока у меня нет ключа.
– А вы кто такой?
– Я – Марцио.
– Ты пришел наслаждаться моими предсмертными муками?
– Я никогда не изменял никому; будь спокоен… прощай!
– Когда-то мы не изменяли друг другу. Я буду ждать… буду надеяться, буду терпеть молча, – но ради Бога, Марцио, возвращайся скорее, если хочешь застать меня в живых: я голоден, я продрог… Жажда томит меня.
* * *
Граф Ченчи лежал и не мог двигаться, потому что нога его распухла от сильного движения и от гнева, который взволновал его кровь. Тревожный сон сомкнул ему наконец глаза; когда он проснулся, то попробовал встать, но острая боль не допустила его до этого. Он скрежетал зубами от злости и, произнося ужасные ругательства, восклицал: «и мне надо будет довериться этому изменнику!» Тогда он позвал Марцио, который явился мигом, но с мрачным лицом.
– Марцио, видишь, как я верю тебе, возьми ключи от тюрьмы Беатриче и отнеси ей хлеба и воды…
– Больше ничего?
– Ничего… Марцио, надень на себя какой-нибудь святой образок, чтобы прогонять привидения, если они явятся тебе. Если до твоего слуха дойдет какой-нибудь голос, не обращай внимания: это все обманы дьявола; в особенности обходи пещеры с правой стороны, там умер с голоду враг моего деда…
– Эчеленца, отчего мы не идем вместе с вами?
– Разве ты не видишь, чёрт возьми, что я не могу двигаться?
– Если ваша дочь ранена, прикажете лечить ее?
– Нет. Но разве ты думаешь, что она ранена?
– Мне кажется, и это может испортить её красоту.
– Я не точу, чтоб она потеряла теперь красоту; пусть позже… Возьми вот здесь, в шкафу, бальзам; если нужно, помоги ей.
Марцио ловко захватил другие ключи, потому что ключ от тюрьмы Беатриче он взял в то время, когда граф спал, и отправился в пещеры.
– Синьора Беатриче, – с горечью сказал Марцио, войдя к пленнице: – вот дары, которые посылает вам ваш отец, – и подняв фонарь, он с вниманием посмотрел на её ангельское лицо, обагренное кровью. Он удержал крик негодования и со всею нежностью, на какую был способен, прибавил: – подите сюда, позвольте мне вымыть вам лицо… простите, что я не умею делать этого нежнее… – Он обмывал ей раны, мазал их бальзамом и обвязывал. – О Боже! повторял он беспрестанно: – ты свидетель этого злодейства!.. А если ты ему свидетель, то как же ты можешь терпеть его?
Окончив перевязку, Марцио повторил.
– Дитя мое, вот дар, которые посылает вам тот, кто зовется отцом вашим – хлеб и вода; я пренебрег его строгим запрещением, и припас еще другую пищу; но, право, я не в силах увещевать вас – продолжать жизнь, которая превосходит самую ужасную казнь; и, что более всего надрывает мне сердце, так это то, что я не могу помочь вам ни в чем, потому что (и при этом голос его сделался глухим от сдержанных слез) я решился сегодня же оставить ваш дом.
Беатриче опустила голову, как человек, испытавший уже так много горя, что он хотя и чувствует, но не умеет более жаловаться на новые удары страдания.
– Гвидо умер, и ты покидаешь меня?
– А кто вам сказал, что монсиньор Гвидо умер?
– Так он жив?
– Жив, и цел, и невредим.
Беатриче склонила голову на плечо Марцио; она долго оставалась в таком положении, потом чуть слышно сказала:
– Гвидо жив, и ты покидаешь меня?
– Да вы и сами покидаете меня. Слушайте, я хочу открыть вам одну вещь, которую я не сказал бы даже отцу родному, если б он вернулся из царства мертвых. Я вошел в дом Ченчи для того, чтоб исполнить обет; и знаете ли какой обет? Убить графа Ченчи. Ежедневные злодейства этого изверга всё более и более утверждали меня в моем намерении; я понимал, что, отняв у него жизнь, я не только удовлетворю своей мести, но что это будет с моей стороны даже заслуга перед народом, и людьми, и перед Богом. Только, если это смущает вас, я не совершу этого на ваших глазах: больше я ничего не могу сделать для вас… и не трудитесь говорить мне… Никто меня не разубедит, никто; то, что должно исполниться, будет исполнено.
– Но чем, же граф Ченчи вооружил вас против себя? Когда вы явились к нему в дом, мне кажется, что вы ему были совершенно не известны.
– Да я-то знал его. Если бы он оскорбил меня, ранил меня, я сумел бы простить ему. Конечно, я большой грешник; но когда-то и у меня было сердце христианина. Он убил мою душу и оставил мне жизнь: теперь я умер для всего, кроме одной вещи, и я ее сказал вам. Слушайте-ка: знал ли я графа Ченчи прежде, чем вошел в его дом; это конечно не покажет вам его большим злодеем, чем он есть, потому что одним злодейством больше или меньше – это в нем не считается; но может быть разсказ мой удержит на губах ваших проклятие против его убийцы. Я мало грамотен, – потому я разсказываю вам так, как мне говорят сердце, и вы можете верить каждому моему слову, все равно как евангелию. Я родился в Тальякоццо[25]; отец мой умер, когда я был ребенком, и оставил мне заливной луг и стада́; мать моя заболела и могла смотреть за мною. Я вырос, дурные товарищи скоро окружили меня и завлекли во всевозможные пороки; в короткое время, отчасти потому, что маня обкрадывали, отчасти потому, что обыгрывали страшно, я потерял все мое достояние: с последним стаканом вина, который выпили друзья в моем доме, они выпили и забвение обо мне, они исчезли вместе с духом последнего кушанья; но по уходе их явились другие люди, кредиторы; они отняли у меня всё, выгнали безжалостно из дому… Среди белого дня я должен был взвалить к себе на плечи мою бедную мать и снести в больницу; но дороге злые мальчишки подымали меня на смех; один из них швырнул камень в меня и больную… Злодейское племя людское! Но этим еще не кончились мои мученья прежде чем я дошел до больницы, меня окружили сбиры, вырвали у меня из рук мать, бросили ее посреди улицы и потащили меня в тюрьму. Кредиторы, не довольствуясь всем, что у меня было, хотели еще выжать из меня и самую кровь: я услышал сдержанное рыдание… Это мать моя плакала; я обернулся, чтоб утешить ее, но не мог уже ее видеть, потому что глаза мои были полны кровавых слез. Я хотел говорить… и не мог… Хорошо.
Марцио замолчал, потом утерев пот с лица, продолжал:
Я вырвался из тюрьмы, бежал в лес и всем отмстил: мальчику, который бросал камни в мать, я размозжил череп об камень; хорошо. С тех пор я стал делать отметки в календаре острием моего ножа, – каждый день был обозначен чертою крови: у меня тело горело; кровь опьяняет больше вина. Бог разсудит, мог ли я устоять против демона, который овладеть моей душой; я буду перед ним оправдываться; если я заслуживаю милости, пускай он простит меня, если нет – пуст осудит; но в том, что я сделал, и в том, что намерен сделать, я не могу раскаяваться… работа мести еще не кончена; моим четкам не достает еще одного «отче наш», одной мертвой головы – головы вашего отца. В королевстве воздух был опасен моему здоровью, – я перешел в Церковную Область и нанялся в шайку Марка Шиарра…
Все то, что я сделал будучи разбойником, вам ни к чему знать; хорошо, если б его не знало и вечное правосудие! В одну субботу, вечером, при заходе солнца, я сидел на камне у опушки леса, облокотясь на ружье, которое лежало у меня поперег колен. Я ждал товарищей для вечерней молитвы, перед образом Мадонны, повешенным на дубе, а также затем, чтоб уговориться на счет завтрашнего дня. Воздух был раскален как печь; заходящее солнце было похоже на окровавленное сердце в сосуде полном крови; мои собственные волосы упали мне на глаза и от багровых лучей солнца тоже казались мне кровавыми; я отбросил их назад, напрасно. Мне все казалось кровавым: небо, поля и животные; стволы деревьев были медного цвета, в блестящих изумрудных листьях отражались те же кровавые лучи; я наводил ужас на самого себя! Может, это была кровавая желтуха! Мне страшно, прошептал я, одному! Если б около меня было хоть живое существо, чтоб избавить от страха, который овладел мною! Я бросил кругом мутный взгляд и увидел перед собою ангельское лицо, синьора Беатриче, совершенную мадонну, сошедшую с полотна и явившуюся, как радость, на землю… и… не обижайтесь, синьора, за исключением того, что она загорела и была гораздо плотнее телом, она была очень похожа на вас; на голове у неё был кувшин – она шла за водой к соседнему источнику. Губы мои невольно произнесли слова молебствия: «salus infirmorum»[26]. Увидев меня в одежде разбойника и с оружием, она не остановилась и ничем не показала ни малейшей трусости. Да и в самом деле, чего ей было бояться? Против грабежа ее охраняла бедность, против насилия – невинность и кинжал, воткнутый в её косу: она продолжала свой путь и, проходя мимо меня, сказала голосом, похожим на шелест молодых листьев, когда их заколышет первое дыханье весны: «пошли вам Пресвятая Дева свое утешение!» Я не поднял лица, не ответил ни слова; только глаза мои обратились в её сторону и следили за ней, пока могли ее видеть. Думая о том, как я в какую минуту она явилась мне, я воскликнул: «Бог милостив к тебе!» Но потом, читая повесть всех моих преступлений и в небе, и на земле, которые казались мне все еще обагренными кровью, я усмехнулся над самим собой и прибавил: конечно, Христу было много другого дела, чтоб еще заботиться обо мне. Но в эту самую минуту тот же голос проник мне в сердце: «да утешит вас Пресвятая Дева!» повторяла молодая крестьянка, возвращаясь с водой… На следующий вечер я опять вернулся к дубу, и молодая девушка опять прошла, утешая меня тем же приветствием; на другой, на третий день – то же самое. Что мне сказать вам более? Я мог провести день без пищи, но не видеть ее не мог. Прошел месяц, по крайней мере, в течение которого ни ветер, ни дождь не мешали нам видеться у дуба мадонны, и во все продолжение этого времени она не сказала мне ни одного другого слова, как: «пошли вам Пресвятая Дева свое утешение!» А я ей: да наградит вас Бог, Анета! Ее звали Анета Ринарелло; была она из деревни Витаны, отец её был тамошний пастух. Однажды вечером, не двигаясь с камня, на котором сидел, я позвал ее кротким голосом: «Анета, поставьте на землю кувшин, если вам непротивно, и посидите около меня, если это вам не неприятно». Она поставила тотчас кувшин, посмотрела на меня пристально и глазами указала ни на мадонну. Я понял, что она этим немым взглядом говорила: «я отдаю себя под покровительство мадонны». Тогда я встал, взял ее за руку, и подводя к святому изображению, сказал: «Анета, куда идем мы?»
– Это правда, что мы идем уж много времени, и не знаем, куда нас приведет дорога?
– В доме отца моего живут чужие люди, на полях, которые были моими, другие сеют и другие собирают. Я тебе ничего не могу предложить и ничего не предлагаю. Напротив того, выслушай меня со вниманием, потому что я не хочу тебя обманывать: голова моя оценена, – вся вода, которую ты черпаешь из фонтана, не достаточна для того, чтоб омыть мои руки… Не смотри на них, ты ничего не увидишь; кровь, которою они запятнаны, могут видеть только мои глаза и Божии. Если ты соединишь свою с моею, то знай, что тебя ожидают дни опасности, ночи, полные страха, времена испытаний и постыдная смерть! Детям, если несчастье пошлет их нам, знаешь ли какое наследство я могу оставить? Окровавленную рубашку. Тебе – какое вдовство? Имя жены повешенного. По голосу сердца, я желал бы, чтоб ты избрала меня своим мужем; слушаясь рассудка, мне хотелось бы, чтобы ты отвергла меня; но об этом я тебя не прошу и этого не советую тебе: я бросил кости и покоряюсь тому жребию, какой мне пошлет судьба, открой же мне спокойно свое сердце и не бойся обидеть меня. Я клянусь тебе Пресвятою Девой, которая нас слышит, что если ты хочешь остаться свободной, ты с этого вечера никогда не увидишь лица моего.
– Марцио, – с решимостью отвечала девушка, – я знаю ваши проступки и вас самих; я думала, что глаза мои давно уже сказали вам, что мой выбор сделан: лучше горе с Марцио, чем с другим радость. Что мне в том, что ваша голова оценена? Если правосудие будет вас искать, мы спрячемся вместе; если нас обоих найдут, мы вместе будем защищаться; если нас возьмут, мы вместе умрем. Но не об этом правосудии сокрушается мое сердце; есть другое правосудие, которое, не искавши, находит; есть глаз, который не закрывается для греха, и я хотела бы, чтобы вы это правосудие смягчили, Марцио; то, чего не может сделать вся вода из реки, может сделать одна слеза – слеза раскаяния.
Так говорила Анета, простая девушка, которой все воспитание заключалось-в горячей любви к Богородице. Я чувствовал, что у меня в сердце точно разломился камень, и тихо отвечал ей:
– Анета, я даю тебе честное слово оставить своих товарищей при первой возможности, потому что, если я брошу их вдруг, это родило бы в них подозрение в измене, а вслед за подозрением они решили бы мою смерть; – их много и они сильны. До тех пор я, клянусь тебе, не буду принимать участия ни в каком дурном деле и еще клянусь сделать тебя законной женой и любить вечно. – Говоря это, я снял с руки кольцо, которое принадлежало моей матери, и приложив его сперва к лику святой девы, для того чтоб освятить его, надел его на её руку, говоря: ты жена моя.
– У меня нет кольца, – сказала Анета, – на отрежь, прядь моих волос и храни ее в знак обещания моего соединиться святым браком с тобою.
Я вынул нож, она нагнула голову; я отрезал волосы, но рука у меня дрожала, я их выпустил из рук и ветер разметал по земле. Это было злое предзнаменование. Она подняла голову и улыбаясь сказала:
– Ну, отрежь другую, что за беда? что бы ни было, если судьба наша будет счастлива, я возблагодарю Бога, если несчастлива, она мне будет одинаково мила; разве я не сказала тебе, что я готова на все?
Несколько дней спустя, синьор Марк получил известие через самых верных шпионов, что из королевства и из церковной области на нас идет вооруженная сила, чтоб окружить и захватить нас. Синьор Марк, хотя и был доведен злой судьбой до положения начальника разбойников, был однако щедро одарен способностями опытного воина; он, не теряя времени, отправил меня в Абруццы следит за неаполитанским войском и заманит его в какую-нибудь засаду. Он в подробности описал мне местность и научил, как действовать; благодаря умению этого замечательного капитана, предприятие наше удалось так успешно, что ни один, решительно ни один сбир не вернулся домой с известием о поражении. После десяти дней отсутствия, я вернулся; – с каким биением сердца я приближался к знакомому дубу, я предоставляю судить вам, – вы по опыту знаете страдания любви. У подошвы дерева я нашел Анету, – нашел ее – но убитою.
Часть волос её была вырвана, члены переломаны, платье изорвано, на лице её были видны следы ног, которые ее топтали, вонзенный в сердце нож проколол ее насквозь и вошел на крайней мере на четыре пальца в землю…
Я купил красного сукна, заказал гроб из вызолоченного дерева, положил ее в него своими руками, прикрыл цветами синяки и раны, – как она была хороша, даже мертвою! – и, сопровождаемый крестьянами деревни, среди всеобщего рыдания, я похоронил свое сердце. Когда я опускал ее в могилу, у меня потемнело в глазах, и я упал наземь. Когда я пришел в себя, я сидел на земле; могила была засыпана, священник поддерживал меня, проливая слезы, и несколько добрых женщин утешали меня, рыдая. Я встал и пошел прочь, не сказав ни одного слова.
Я долго разыскивал и наконец узнал, что граф Ченчи, несколько дней назад, поселился в Рока Петрелла, которую мы до сих пор называем Рока Рибальда.[27] Его следы были всегда кровавые. Внутренний голос сказал мне: он убийца. Я стал расспрашивать подробнее и через одного мальчика пастуха узнал, что Анета приходила каждый вечер к дубу и на коленях долго молилась перед святым образом. Раз как-то, вечером, мальчик увидел едущего мимо верхом человека, который по одежде и по наружности показался ему барином. Человек этот удержал лошадь, остановил и внимательно глядел на молодую девушку во все время, пока она не кончила молитвы; тогда он подъехал в ней и, казалось, старался завязать с нею разговор; но она поклонилась ему и прошла мимо. В следующий вечер, тот же мальчик пас овец и видел двоих разбойников, которые вышли из лесу, схватили девушку, завязали ей рот и глаза и, не смотря на её сопротивление, утащили. Пастух молчал от страху; теперь он говорил для того, чтобы получить что-нибудь; и я выведал от него подробности на счет одежды и наружности разбойников. Я стал следить; ночью я блуждал около стен замка, как волк, днем прятался за ветвями деревьев. Замок был всегда заперт, как сундук скряги. Но раз как-то он открылся и оттуда вышел человек, в котором по одежде я узнал одного из разбойников, описанных мне пастухом: он пробирался осторожно и, как мы говорим между собою, нес бороду на плече; я налетел на него, как коршун: он очутился разом на земле под моими коленями, и я ухватил его руками за горло, прежде чем он успел опомниться. «Я тебе пощажу жизнь, кричал я, если ты мне откроешь, как убил девушку у дуба». Побледнев от страха, он рассказал мне, что его хозяин, граф Ченчи, увидел девушку, что она ему понравилась о что в нем разгорелось желание иметь ее; вот он и велел ему и другому слуге похитить ее и принести в замок, считая это легким приобретением; но видя, что с девушкой не удаются ни ласки, ни угрозы, он прибегнул к насилию, на которое она отвечала порядочными ударами. Тогда граф схватил ее за горло, она его, и, повалившись наземь, они долго катались, кусая друг друга. Наконец, девушка, будучи поживее, поднялась первая и, ударив ногой в лицо графа, сказала: «Вот тебе старый злодей: если б со мною был мой кинжал, я бы уж давно зарезала тебя, – вот, подожди, на днях вернется мой муж, и, клянусь пресвятою Девой, я не успокоюсь до тех пор, пока он не принесет мне в подарок твоих ушей.» Дон Франческо встал в свою очередь, не говоря ни слова; и прежде чем несчастная успела защититься, он нанес ей удар кинжала, который пронзил ее насквозь; она упала, не произнеся даже: Иисус и Мария! Один вздох, и конец. После этого он стал топтать ее ногами, как топчут виноград. Когда стемнело, он велел нам отнести тело к дубу; и мы отнесли его, потому что чей хлеб ешь, того и слушайся. Граф шел за нами с фонарем; когда мы положили труп на землю, он вынул нож, вложил его в рану и, напирая крепко, воткнул конец его в землю. «Когда придет твой муж, – воскликнул граф, – расскажи ему.» – Услыхав все это, я пришел в бешенство. А это – вечный враг удачному исходу всякого намерения, и крикнул вассалу: «ступай-же, объяви своему хозяину, что муж Анны Ринарелло вернулся и что сегодня ночью он посетит его в его доме, как оно и следует.» Я не изменил своему обещанию, и вместе с самыми отчаянными из наших товарищей напал на крепость, ограбил, и зажег дворец. Я сжег берлогу, но лисица спаслась. Граф, не имея сил сопротивляться, уехал впопыхах; он бежал с такою поспешностью, что в кабинете его я нашел на столе недописанное письмо. Если вам когда-нибудь случится быть в Рока Петрелло, вы можете увидеть там следы моего мщения, запечатленного огнем на стене. Что мне оставалось в жизни, и что осталось мне в ней теперь? Отомстить и умереть. Я рассказал все, как было, синьору Марко, он похвалил меня за мое решение, советовал преследовать врага и предложил свои братские услуги; но по моей просьбе, он хотя и неохотно, но все-таки отпустил меня. Я остриг волосы, обрил бороду и отправился в Рим, поклявшись душою покойницы быть осторожным и удерживаться от всякого преждевременного порыва.
В то время, как я придумывал: каким бы средством мне попасть в слуги в дом врага, судьба помогла мне одним странным случаем. Идя как-то по испанской площади, я услышал позади шум и крики: «берегись, берегись!» – Я обернулся и увидел карету, которую несли лошади. Кучер, сброшенный с козел, ударился головой о тумбу и лежал с размозженным черепом; кто бежал, кто смотрел из окна, кто с порога лавки и никто не думал о том, чтобы подать помощь: грубый, безжалостный народ, ему бы только увидеть, как сломают себе шею и люди, и животные, и идти потом взять на них номера в лотерею…[28] Словом, человеческое отродье! Я кинулся и схватил под уздцы одну лошадь; и, хотя она волокла меня за собою порядочное расстояние, мне все-таки удалось остановить ее. В эту минуту высунулось из окна кареты спокойное, почтенное лицо пожилого барона, который, расхвалив мою храбрость, просил меня придти в течении дня в палаццо графа Ченчи.
Вот так; я сделал ни более, ни менее, как спас, не зная того, жизнь моему жестокому врагу. Я не жалел о том; а даже был доволен; потому что если б он умер иначе, как от меча из моих рук, я считал бы свою месть украденной.
Граф принял меня, как приличествует дворянину; он расспросил меня обо всем и, узнав, что я в Риме без места, предложил мне поступить к нему в дом. Это было именно то, чего я так сильно желал: конечно, поклонник не целует с таким благоговением мадонну в Лорете, с каким я дотронулся до порога этого дворца, с намерением окружить Ченчи всевозможным горем и отчаянием. Лишенный всякой привязанности, пережив дорогих детей, которых я хотеть умертвить всех разными смертями, с осиротелым сердцем, каким он сделал мое… я хотел сохранить его до тех пор, когда жизнь сделалась бы для него наказанием, смерть отрадой, и он переиспытал бы все предсмертные муки; когда же душа его, огрубев, привыкла бы к несчастью… тогда я намерен был низвергнуть ее кровавым путем в кровавую могилу собственных детей.
Поспешностью в исполнении малейшего приказания, ловкими советами, изобретательностью и находчивостью, я мало-помалу заслужил его доверие настолько, на сколько может доверяться человек, который сомневается постоянно во всех и в самом себе. Теперь представьте себе мое удивление, когда я узнал, что не мог бы доставить ему большего удовольствия, как убить его детей! Его зверская ненависть победила мою; и если б даже я и продолжал ненавидеть вас за то, что вы его дети, мог ли бы я мучить вас с большею жестокостью, чем это делает ваш отец? Злобу заменила глубокая жалость ко всем и в особенности к вам, синьора Беатриче; потому что к вам, бедное дитя, я почувствовал нежность, безграничную привязанность, которая напоминает мне добрую душу усопшей и невольно заставляет меня плакать…
Взволнованный воспоминаниями, Марцио готовился преклонить колени перед Беатриче; но она поспешила удержать его.
– Встаньте, Марцио; прах не должен преклоняться пред лицом праха: а мы все прах; – потом она прибавила: – Марцио, я прошу вас быть внимательным к тому, что произносят ваши уста; – но это было сказано голосом такой нежной мольбы, что Марцио нисколько не был уязвлен.
– Зачем вы хотите запретить мне стоять на коленях перед вами, благородная синьора? Перед святыми предметами становятся на колени, а несчастье сделало вас святыней; – конечно, ни одно создание на свете не имело такого сходства со скорбящей мадонной, как вы. Не бойтесь, нет, вы не услышите от меня ни одного слова, которое могло бы оскорбить ваш девственный слух; – я хотел было сказать, ни одного слова, которое бы отец не мог сказать своей дочери, но пример Ченчи остановил на моих губах это сравнение. Как же я мог бы не любить вас, когда вы так напоминаете мне мою бедную покойницу? Но моя возлюбленная умерла и та любовь, которую я питал к ней, погребена вместе с нею. Чувство мое к вам не обожание и не любовь отца или брата; но в нем есть и то и другое вместе. Я знаю, что вы любите и любимы монсиньором Гвидо Гверра, и я высоко ценю этого синьора за то, что он отдал свое сердце такой достойной девушке. Марцио более, чем вы думаете, способствовал вашей законной любви. Сколько раз мог бы открыть вашу тайну злой старик, если б не было меня! В последний раз, я не мог, по внезапности случившегося, предварить монсиньора Гвидо, но я принудил его бежать, потому что он сам не хотел оставить вас, и спас ему жизнь. Я доказал ему, что он себя погубит и вам не в состоянии будет помочь; я обещал ему заботиться о вас и исполнил бы обещание, если б вы не противились мне; поэтому-то я решился оставить ваш дом. Я вошел в него для того, чтоб привести в исполнение мою месть, и теперь я поневоле должен удалиться для того, чтобы осуществить ее. Вы не хотите, чтоб я избавил вас от гнусного старика, но так как я не могу пожертвовать вам своею местью, то я по крайней мере хочу избавить вас от горя – видеть его убитым на ваших глазах; с другой стороны я рассудил, что если смерть его случится здесь в доме, подозрение пало бы на вас невинных; поэтому мне лучше всего удалиться; оставаясь здесь, я не приношу пользы вам и только врежу себе. Синьора Беатриче, если б я просил вас сохранить память о человеке, который не питал к вам другого чувства, кроме привязанности и уважения; если б я просил вас не совершенно ненавидеть меня, сочтете вы это за слишком большую смелость?
– Я буду помнить, что вы хотите убить моего отца: – когда вы будете далеко, я буду думать, что вы могли защищать меня и покинули. Ради Бога! оставьте жизнь графу; его лета уже преклонны… не отправляйте его на суд Божий, подождите, чтоб он сам смог позвать его.
– Ваш голос могуществен, но он не может победить того, который гложет мое сердце. Это невозможно! И разве вы не видите перста Божия в том, что мой замысел, удовлетворяя моему мщению за женщину, которую я так любил, спасает в то же время и вас, несчастное дитя?..
– Перст Божий, Марцио, не пишет своих решений кровью… Христос осуждает закон, который заставляет платить око за око и зуб за зуб, и хочет, чтоб мы любили тех, которые делают нам зло. Марцио, предоставьте Богу судить; то, что для Бога будет правосудием, для вас преступление.
– Как можно ему оставить жизнь? – воскликнул Марцио ударив себя по голове, как будто он вспомнил, что-то – Ведь он дышит злодейством? Знаете ли, что если б я остался лишнюю минуту, один несчастный умер бы с голоду.
– Как с голоду?
– Ах, я мерзавец! Разговаривая с вами, можно позабыть о рае… Бедный Олимпий!.. покуда я тут толкую, ты считаешь минуты судорогами твоих проголодавшихся внутренностей.
Говоря это, он поспешно взял фонарь, связку ключей и корзинку с едой, и почти бегом отправился в другую сторону пещеры. Беатриче, с трудом передвигая свое больное тело, шла вслед за ним, желая узнать ужасную тайну, которая скрывалась в словах Марцио.
Глава XV. Просьба
Беатриче следовала за Марцио, который, дойдя до тюрьмы Олимпия, стал звать его по имени; не слыша ответа, он с беспокойством начал кричать:
– Олимпий! Олимпий!
Слабый голос ответил:
– Убирайся вон, злой изменник… избавь меня от твоих искушений… Я, как могу, помирюсь с Богом, чтоб умереть спокойно…
Марцио отпер дверь. Голод и темнота довели заключенного до такого изнеможения, что слабый свет фонаря болезненно подействовал на него и заставил его пошатнуться. Марцио поддержал его и дал ему выпить несколько глотков крепительного ликера, который он захватил с собой. После нескольких минут спокойствия, голод и жажда загорелись в Олимпии еще с большею силою; он, как зверь, набросился на корзинку, и если б не слабость, до которой он был доведен, Марцио не мог бы удержать его. Он стал увещевать его быть благоразумнее, говорил, что иначе, избежав голодной смерти, он убьет себя невоздержностью.
Пораженная Беатриче робко смотрела на разбойника, вид которого был ужасен: его длинные волосы висели на висках, как пиявки, напившиеся кровью; цвет лица из бронзового сделался пепельным; губы черные; глаза зеленые, как стекло.
Подкрепившись умеренным количеством пищи и питья, Олимпий начал говорить, но одолевшая его икота прерывала на каждом слове.
– Отступник!.. пес изменник!.. подлец!.. уморить с голоду!.. безбожный старик!.. ты хотел заставить меня молчать… понимаю тебя… я пять человек убил для тебя – четырех ножом, а пятого, столяра, сжег… бедный парень!.. сгорел, как крот, залитый смолою… Ох! ох!.. Requiem aetemam dona eis, Domine.[29] А жена его, Анджиолина? – ангел по имени и по делам… Пожар в доме столяра, похищение донны Лукреции – всё сделано по его приказанию; каюсь, я употребил свои руки, но ведь он направил их… Проклятая рука! я отрезал бы тебя, если б рот не требовал пива! Скотина может в поле пастись, мы – нет; сколько преступлений из-за хлеба!.. Лисица сделала западню волку, чтоб послать его плясать на виселице… Теперь я вижу ясно: измена в измене… двойная штука… молодец, ей-Богу!.. Раненый, преследуемый полицейскими собаками, я скрылся сюда… Тогда граф сказал себе: ему хочется спрятаться, так спрячем его на три аршина в землю… лучше ничего быть не может… браво! Потом граф еще подумал: если он попадет на пытку, он может все раскрыть; когда умрет, веревка не заставит его говорить… Марцио, дай напиться!.. Ну, услужливый же человек, граф Ченчи!.. Клянусь Богородицей, да… Дон Франческо, если это гостеприимство, которое вы готовите вашим друзьям и слугам… оно не уменьшит ваших доходов… ей-богу нет… пить!
– Олимпий, не надсаживайся, молчи, ешь покойно… отдыхай… собирайся с силами… я скоро приду за тобой.
– Нет, уж я больше не дам себя запереть! теперь я жажду воздуха, у меня на груди точно собор св. Петра…
– Успокойся, Олимпий; ты видишь, что я до сих пор не изменил тебе.
– Разве прошлая минута ручается за будущую? Когда-то между двенадцатью апостолами нашелся один Иуда; теперь из двенадцати человек одиннадцать изменники, а двенадцатый уж немного попорченный… Уж если мне умирать… так дай мне выпить еще стакан воды, и идем… но умирать так, как должны умирать героя и римские разбойники – под открытым небом…
– Мерзавец ты! Разве ты видишь тут вывеску измены? – сказал Марцио, открывая себе лоб: – Я обещал спасти тебя, и спасу. Разве ты не видишь, что ты шатаешься, как пьяный, и у тебя колени подгибаются? Тебе вино бросилось в голову. Теперь нас открыли бы и обоих убили.
– А это что за женщина с тобой? Да это уж не дочь ли его? Как она пришла сюда с тобой? – рассматривал Олимпий гостью, протирая себе глаза.
– Да, это точно синьора Беатриче; но, будь уверен, что она здесь не для того, чтоб вредить тебе.
– Уж нечего делать, надо верить… скверное это слово!.. Марцио, так как я всегда видел, что для Ченчи и подобных ему людей, большей частью клятвы и обещания всё равно, что прошлогодние муравьи, то я полагаю, что между нами дело будет иначе, потому что между тобой и мной столько же разницы, как между мной и тобой – одна мераю И мы оба мужики. Марцио, я хотел бы связать тебя обещанием награды; но моя душа теперь в залоге у дьявола, а за тело у тебя будут ссоры с мастером Александром. Нет ли у тебя какого приятеля, который страдает воспалением в горле…
И он рукой показал на шею.
Марцио пожал плечами, как будто хотел сказать: это я и сам умею хорошо делать. Беатриче попробовала заговорить тоже:
– Марцио спасет вас, не сомневайтесь; а я прошу у вас, как милости, сделать для меня одну вещь, в которой весь выигрыш будет на вашей стороне. Вы должны обещать мне, что, выйдя из этой опасности, вы перемените жизнь.
– Ох, Господи! разве переменить жизнь – это то же, что переменить рубашку? Я не учился ничему другому, как владеть оружием; а железо сделано для того, чтобы ранить…
– Бог создал железо не для того, чтобы ранить насмерть сердца братьев, а для того, чтобы возделывать землю, которая есть источник жизни. Перемени свое оружие на заступ, и на тебя прольется благодать Божия…
Беатриче сказала это спокойно, без малейшей резкости, кротким голосом, так что Олимпий, имевший обыкновение преклоняться перед советами других не больше, чем колокольня от весеннего ветра, почувствовал какое-то ощущение в желудке, которое он не знал, чему приписать: слышанным ли словам, или испытанному голоду. Он подумал об этом с минуту и, видя, что ему не удается развязать узелок, остановился на том предположении, которое ему казалось более верным, – это должно быть голод!
Вернувшись в темницу Беатриче, Марцио произнес:
– Ваш отец – это целый рудник злодейств: чем больше из него достаешь руды, тем больше её остается. Я не легко пугаюсь, но когда гляжу на этот бездонный колодезь, по мне пробегает дрожь, и я ничего не понимаю. Так вы не хотите согласиться на его смерть? тем лучше. Сохраните себя чистой, белой розой, хотя, по моему, если б она окрасилась кровью злодея, она не потеряла бы цены ни перед людьми, ни перед Богом. Не унывайте однако; дни вашей неволи будут не так длинны, как вы могли бы ожидать.
– Да уничтожит Бог ваше предсказание, потому что я знаю, на каком условии вы мне обещаете свободу. Ах, Марцио! Если б вы точно любили меня, как говорите, если б в самом деле мои страдания тронули ваше сердце, вы бы не захотели сделать меня самой несчастной женщиной в мире, злоумышляя против жизни моего отца…
– Скажите лучше – вашего палача…
– Моего отца… потому что он мне даровал жизнь; благодаря ему, я дышу и чувствую…
– Он дал вам жизнь для того, чтоб отравить ее и отнять потом.
– Пусть будет так; но если он забывает обязанности, разве я тоже должна забыть обязанности дочери?
– Нет; и так каждому своя роль: мне принадлежит роль мстителя… Оставьте, повторяю вам, синьора, вы напрасно хлопочете; вы скорей могли бы перенести своими собственными руками обелиск папы Сикста из Рима, чем заставить меня бросить мое намерение.
– Я не могу располагать вами, а собою могу.
– И я не мешаю вам…
– Смотрите, я намерена предварить графа для того, чтоб он принял меры.
– Предваряйте его. Я не буду лисицей, которая исподтишка бросается на курицу – прежде, чем напасть на него, я буду рычать, чтоб он знал, что лев приближается.
– А если он вас убьет?
– Мне рассказывали, что в древние времена, когда судили двух человек, то в судилище ставили один только гроб, и один из двух противников должен был занять его. Если Провидение судит дела людские, неужели по вашему мнению я должен лечь в гроб? Мне осталось короткое время быть в доме вашем – не имеете ли вы чего поручить мне, синьора Беатриче? Я сам по себе ничего не значу: я – медная монета; однако ж и копейка, данная от души нищему, вызывает одну из тех молитв, которые ведут прямой дорогой в рай.
– И знайте еще, что я всеми своими силами буду мешать вам.
– Вы?
– Даже муравей спас жизнь голубю, укусив в ногу охотника. И теперь, когда я вам сказала все это, вы не сердитесь на меня, Марцио?
– Нисколько. Разве я не высказался вам еще прежде? Каждый человек должен прясть ту нитку, которую судьба дала ему в руки. Может быть, кто знает? Если б вы были другою, я нашел бы вас более рассудительной, но любил бы меньше.
– Так вот что, Марцио, как последней услуги прошу у тебя: оставь мне фонарь и принеси, что нужно для письма. Я хочу испробовать сперва все средства к спасению, скорей для того, чтоб не упрекать себя, чем в надежде на успех: я напишу просьбу его святейшеству и буду умолять его именем Иисуса Христа защитить меня, как он это сделал для Олимпии[30]. Бегство с Гвидо, котораго я так желала, растерявшись от горя, я теперь отвергаю: оно наделало бы скандала; свет, не зная причин, которые подвинули меня на это, приписал бы мою решимость обыкновенной любви девушки, у которой рассудок побежден страстью. Кроме того, это повредило бы намерениям Гвидо, который, кажется, желает сохранить к себе расположение папы; с меня этого довольно, чтоб уважить его волю. Последний путь к спасению заключается в том, чтобы Гвидо постарался доставить мою просьбу святому отцу и получил от него немедленное решение. Для того, чтобы заставить Гвидо не откладывать, скажите ему сами то, от чего я бы умерла от стыда скорей, чем открыла не только кому другому, но даже моей матери. – Нет… нет… я несчастная! не говорите ему ничего… дайте мне слово Марцио, что вы ему не скажете ничего.
– Я исполню ваше желание. Синьора Беатриче, выслушайте меня: за себя я ничего не боюсь, потому что уже приготовился уйти отсюда, и потому еще, что ваш отец не так хитер, чтоб я не перехитрил его. Он меня подозревает, а его подозрения переходят в острие кинжала: он сам сказал это. Притворное доверие выказано мне сегодня утром для того только, чтоб обмануть меня, – во всяком случае я не боюсь. Вы же слабые, бессильные, безобидные, должны бояться гораздо больше моего: я хочу сделать вам подарок, я который может вам пригодиться в крайнем случае; польза этого снаряда зависит от нас самих… Вот вам нож…
– Благодарю; когда у меня не останется другого исхода, с ним смерть будет вернее… и страдания меньше…
– Теперь я принесу вам все для писания; вы сейчас же принимайтесь за дело. Я буду делать вид, что чищу пистолеты в саду: неравно бы я увидел, что дон Франческо спускается к пещерке для того, чтоб застать вас врасплох, я выстрелю из пистолета, как будто нечаянно; тогда вы потушите фонарь и спрячьте все, чтоб старик ничего не увидел…
– Хорошо. Прощайте…
Когда Марцио вернулся в комнату Франческо Ченчи, он застал его все еще в постели, и тот уверял его, что чувствует сильнейшую боль. Не без удивления увидел Марцио у его изголовья двух доминиканских монахов, лица которых показались ему не совсем ангельскими; да должно быть и сами они знали, что не имеют особенно святого лика, потому что держали свои капюшоны надвинутыми на глаза. Граф приказал Марцио спрятать ключи и удалиться. Когда он вышел, граф смеясь сказал им:
– Святые отцы, хорошо ли вы его заметили? Завтра он поедет в Рокка Петрелло; выждите его в месте, которое найдете более удобным, и отправьте мне его в ад или рай (куда заблагорассудите – до этого мне нет дела) с двумя пулями во лбу… но заметьте, что и четыре пули не портят дела; потом отслужите две панихиды за упокой его души. Покуда возьмите милостыню. – Говоря это, он дал им денег.
– Эчеленца, почивайте спокойно на ваших подушках; мы услужим вам, как вы того сами желаете, – ответил один из монахов.
– Избранные души! Вот что еще: во избежание ошибки, заметьте этот красный плащ; вы увидите его или на нем, или спереди седла.
– О это лишнее, потому что я хорошо знаю его.
– В самом деле? Каким образом?
– Эчеленца, я расскажу вам в другой раз, потому что, когда только я оказываюсь в Риме, то мне все кажется, будто я хожу по горящей сере… у меня башмаки горят.
– Марцио, проводите преподобных отцов… Молите Бога за меня, святые отцы.
– Мир вам.
– Аминь.
Марцио провожал монахов, вид которых был до того страшен, что, казалось, мог заставить содрогнуться само распятие Христово. Он попробовал было заглянуть под их капюшоны, но ему не удалось хорошенько рассмотреть их лиц. В то время, как они были уже на пороге, один из них, обернувшись затем, чтобы произвести обыкновенное прощальное приветствие мир вам, – уронил на пол большой нож. Марцио поспешил поднять его и, отдавая с покорным видом достойному монаху, сказал:
– Преподобный отец, вы уронили ваши четки.
– Сын мой, Господь не запрещает Вам защищать свою жизнь от нападения злодеев; и святые делали то же самое.
– Разумеется!.. Чтобы быть святыми, нет никакой надобности быть мучениками. Напротив, отец мой, я не только не нахожу это дурным, но даже назидательным до того, что прошу, с умилением, ваше преподобие, выслушать мою исповедь в одном грехе, который обременяет мою душу.
– На этом месте? Сейчас?
– Разве каждая минута не может спасти христианина? Разве Христос отвечал тем, которые обращались к нему: приходите завтра? Батюшка, не оставьте меня без утешения; вы увидите, что это дело нескольких минут; взойдите в эту комнату; мы кончим разом.
Говоря это он силой взял его за руки и повел за собой. Монах не сопротивлялся, и предупредив товарища, чтоб тот подождал его, вошел вместе с Марцио в комнату.
– Грим, ведь я узнал тебя, – сказал Марцио с решимостью, подняв капюшон монаха.
– А я тебя, Марцио… До какого унижения ты дошел! Кто бы мог думать, что ты способен сделаться лакеем…
– А твое ремесло? Какие дела привели тебя сюда?
– Я скажу тебе; но каким образом ты лакеем в доме Ченчи?
– Для того, чтоб убить графа Ченчи, убийцу Анеты Ринарелло, витанской девушки.
– А я для того, чтоб убить завтра некоего Марцио, который, кажется, должен быть тебе сродни.
– Меня?
– Ты отгадал! Но ведь я всегда говорил, что в тебе больше семян, чем в арбузе.
– И ты это сделаешь?
– Я получил уже деньги; а ты знаешь правило честных разбойников.
– В таком случае ты согласишься, что я тебя должен убить прежде.
– Нет надобности; есть средства всё устроить. Мы были старыми товарищами в шайке синьора Марко, где мы всегда видели достойные примеры добродетели; собака не ест собачьего мяса: иногда бывало из досады и сделаешь друг другу несколько лишних петличек кинжалом, да это не портит дружбы; но зато из-за куста – никогда! Всё же, когда получил плату за убийство, надо исполнить договор; иначе наше ремесло, как ты сам знаешь, лишится доверия и останется без дела. Я обязался честным словом ждать завтра на дороге в Рокко-Петрелла человека, который будет иметь на себе или на лошади красный плащ, и убить его. Я его жду, он не проезжает; мое обязательство исполнено, и я могу с спокойною совестью вернуться в лес. Доволен ты?
– Э! так-то не дурно. А кто твой товарищ?
– Это сын мельника Трофима. Видишь, как он вырос; да к сделал-то все мигом: застал свою возлюбленною с молодцом из Риети и тут случилось ему убить их обоих, – просто ребячество: – теперь вот шесть месяцев, как он в лесу и уже много обещает. Ну, отпусти же меня и держи ухо востро, потому что старик ведь собака хорошей породы.
– Постараемся, отец Грим, хотя бы только для того, чтоб не уронить репутацию шайки. Но слушай, мне пришла в голову фантазия: если бы мне пришлось употребить тебя (за плату, разумеется) вместе с твоим мальчиком, подающим блестящие надежды, где мне найти вас?
– В трактире Аква Ферата, где берут мулов для Рио-Фредо, ты найдешь глухонемого мальчика, который исправляет должность конюха; если ты скажешь ему вежливо и тихо, как только можешь: su Monte Bove deserta и la via[31], может случиться, что он услышит тебя и даже ответит. Во всяком случае он даст мне знать, чего ты ждешь от меня. А покуда ego ti absolvo (отпускаю тебе грехи твои).
Старые товарищи разстались большими друзьями, чем прежде. Марцио вернулся в комнату графа, который, отдавши ему кое-какия приказания, исполненные им с обычным рвением, так начал говорит с ним:
– Марцио, если я кого ненавижу, это происходит оттого, что меня ненавидят; и переносить такую жизнь – не легкая вещь; кроме тебя, все злоумышляют против меня, все жаждут моей смерти. Я стою один против всех; но у меня нет, как у Горация, моста за спиною[32]. Мои дети больше всех ненавидят меня, побуждаемые двумя причинами, всесильными у людей – желанием мести и корыстолюбием. Одна вещь бесит меня, это то, что мои силы слабеют и что я теряю бодрость тела. Не к чему скрывать: года начинают тяготеть надо мною, и я не хочу подвергаться тому, что случалось со львом, который должен был выносить пинки даже от осла. Благоразумие требует оставить театр прежде, чем огни потушены; поэтому я решился удалиться в Рока Петрелла, мой замок на границе королевства. Знаешь ты туда дорогу?
– Кажется, знаю. Это по дороге в Тиволи; да притом пословица говорит: язык до Рима доведет.
– Хорошо. Так завтра ты отправишься туда верхом с письмами к нашему управляющему; ты, как способный и привычный человек, будешь смотреть за работами, которые я заказываю для того, чтоб привести в порядок замок; вели приделать новые замки к дверям, покуда приготовь мне несколько комнат и постарайся уничтожить следы пожара…
– Пожара! Разве в замке был пожар?
– Да; одно время он был слабо охраняем, и разбойники разорили и подожгли его. В то время синьор Марко Шиарра скрывался в соседних лесах, и где только проходила его шайка, то там уж скажу тебе, не видать было травы.
– Но я никогда не слышал, чтоб шайка синьора Марка жгла и разоряла.
– Я тогда попал в историю с одним из его людей за вздор, который и не стоил всех этих хлопот. Мне как-то приглянулась одна мужичка, какая-то пастушка что ли? Поверишь ли, Марцио? Она осмелилась сопротивляться мне и пугать меня мщением своего мужа? За это, конечно, она и поплатилась жизнью. Муж же её или любовник, принял шутку за серьезное, и с помощью товарищей выкинул такую штуку: поджег мой замок.
– Конечно, он был совершенно не прав. Чорт его побери, этого олуха, который не понимал, какую честь ему делает граф, пачкаясь с его мужичкой.
– Ну то-то же! Что с ними станешь делать? Они не понимают этого. Но оставим эти дрязги. Денег тебе брать с собой ни к чему; управляющий уже должен был собрать деньги с фермеров; возьми только этот плащ; я его дарю тебе; он защитит тебя от росы, которой надо очень беречься.
– Эчеленца, помилуйте! Красный плащ, обшитый золотом! Разве это приличная одежда для бедного слуги? Я бы был похож на одного из трех волхвов, право!
– Тот, кто даёт, сообразуется со своей щедростью, а не со скромностью принимающего; да притом и бароны лепятся из такого же теста, что и слуги. Что ты думаешь? Много нужно для того, чтоб в наши времена упадка из мужика превратиться в барона? Красный плащ и несколько тысяч скудо. Покуда возьми плащ, Марцио, а насчет денег знай, что граф Ченчи имеет их столько, что достанет из пятнадцати нищих сделать римских князей; и помни также, что для того, чтоб мое добро не перешло к ненавистным мне детям, я готов разделить его между моими слугами. Итак, сегодня ночью или завтра оседлай буланого; он крепче всех моих лошадей, и отправляйся в путь; я последую за тобою через пять или шесть дней. Теперь отдай мне ключи от пещеры: о непокорной дочери я сам буду заботиться.
Марцио отдал ему ключи без малейшего колебания, но вручая их, подумал: «Старый злодей! ты не знаешь, что твой чорт еще не родился, когда мой уже бегал?» Марцио со свойственной ему ловкостью не терял времени, и сумел с помощью тех инструментов, какие имел, очень скоро приспособить другие ключи к замкам пещер.
Делая вид, будто он готовится к дороге, Марцио оставался за стороже в Гонце коридора, из которого дверь вела в пещеры; он приготовил чемодан, осмотрел узду, ремни, седло и оружие; и будто заметив, что пистолеты заржавели, не быв давно в употреблении, стал их чистить маслом и порошком; а сам не спускал глаз с двери.
Ченчи, думая, что теперь самое лучшее время, что он застанет Беатриче с письмом, написанным ею или полученным через посредство Марцио, пробирался в тюрьму осторожно, боком, как кошка, едва двигаясь из-за своей больной ноги. Как только Марцио завидел его углом своего глаза, он спустил курок пистолета; выстрел раскатился как гром в закрытых пещерах. Хитрый Ченчи мигом проник в их заговор; сердце его задрожало от гнева, но ничто не изменилось в его лице, даже глаза его не прищурились: он понял, что теперь, благодаря данному сигналу, Беатриче предупреждена, и поймать ее уж было нельзя. Он спокойно направился к Марцио, и с лицемерной добротой стал говорить ему:
– Будь осторожнее вперед, сын мой; ты мог таким образом повредить себе руку.
– Представьте себе! Нечаянно чуть было не наделал беды. Остаться без руки на всю жизнь, мне самому не весело. Однако позвольте мне порадоваться вместе с вами тому, что нога ваша вылечились так скоро и даже позволяет вам вставать с постели.
– Какое там, выздоровела? Лишь потребность подышать свежим воздухом, да невыносимая тоска лежать в комнате заставили меня рискнуть выйти сюда. Дай мне свою руку Марцио, чтоб я мог немного подкрепиться тут, на воздухе.
Он оперся на руку, которую ему подставил Марцио, и видя их в эту минуту вместе, можно было принять их за самых нежных господина и слугу, которые когда либо радовали собою свет.
– Живы ли твои родители, Марцио?.
– Я сирота; родители, вероятно, должны быть у меня; но я уж очень давно не слыхал о них.
– Но верно остались следы какой-нибудь старой страстишки молоденького пламени?
– Пламени! Оно было у меня, да ветер потушил его.
– Право! А расскажи-ка мне это.
– Рассказ короток; могущественный барон влюбился в нее; она была так дерзка, что отказалась от чести, какую он хотел ей сделать; барон убил ее и заплатил ей по заслугам.
– Это причина для вздохов на каких-нибудь две недели. Время скоро залечивает такие раны.
– Не все; в некоторых остается сломанное лезвие, оно зарастет телом, но кровь продолжает сочиться из раны.
– Марцио, комедия жизни состоит не из одного акта. Разве ты видел когда-нибудь, чтобы плели гирлянды из одного цветка? Не унывай; ты молод, хорош собой; в другой раз, да не один и не два раза, а десять, ты еще будешь плясать на веселых праздниках, с разгульными товарищами вокруг майских огней. Я не намерен надавать тебе столько дел в деревне, чтоб ты не мог побывать на своей родине. Ведь ты кажется из Тальякоццо?
– Да, и так как вы мне даете позволение, дон Франческо, то я хочу попробовать не удастся ли мне изгнать одного дьявола другим.
Боже всемогущий! В то время, как они вели эти приятные речи, у обоих не выходила из головы мысль об убийстве друг друга! Граф, после короткой прогулки, начал опять жаловаться на боль в ноге и изъявил желание вернуться в комнату; Марцио проводил его, поддерживая с нежной заботливостью.
С наступлением ночи, когда все уже спали во дворце, Марцио скорыми шагами отправился в сад. Он приставил к садовой ограде лестницу, потом отпер тюрьму и выпустил Олимпия. Тот пищей и отдыхом подкрепил свои силы, а вместе с силой в нём явилось непреодолимое желание мести, которое довело его до намерения поджечь дворец прежде, чем удалиться из него. Марцио стоило немалого труда удержать Олимпия. Он просил его успокоиться на время, говоря, что у него самого несравненно сильнее необходимость отомстить; что на днях он исполнит свое мщение над графом, мщение, которое будет памятно, что безбожно погубить столько невинных за одного злодея.
После этого он отправился к Беатриче, увещевал ее бежать вместе с ним, но нашел ее непоколебимой в своем намерении переносить все, что Провидение пошлёт ей. Истощив все свои доводы, он взял написанную ею просьбу, утешал ее, как умел, несколько раз пробовал уйти и возвращался назад: он чувствовал, что сердце его разрывается от необходимости оставить ее. Она не переставала уговаривать его именем Бога отбросить всякую мысль о мщении и пощадить её отца. Он покрывал нежными поцелуями её руки, потом, оторвавшись от нея и уходя быстрыми шагами, воскликнул: «О горе нам, горе!»
Олимпий убежал по приставленной лестнице; Марцио выехал из дворца на буланом кони, на холке которого был привязан свернутый красный плащ, обшитый золотом.
Глава XVI. Тибр
Вот он Тибр! Воды его текут теперь также точно, как в то время когда Рим гляделся в него, увенчанный всеми своими башнями. Эти волны переносили на плечах своих царства, республики, империи и народы, и, что поразительнее всего! целое поколение Нумов[33], смешанное с высохшими листьями, которые ветер рассеивает по берегам реки. Прах героев и прах разбойников, прах священников и прах еретиков, был одинаково разметан по его поверхности и он не нахмурил чела и не потревожился ни тем, ни другим. На дне его почиют в мире статуи Иова[34] и Меркурия, завязнув в одной общей тине рядом с статуями святых Петра и Павла. Все вокруг тебя разорено, все изменилось; ты один остаешься тем же, а с тобою и итальянское солнце, которое играет твоими бурыми волосами, как гривой льва.
Подыми чело свое, Тибр! Может быть еще не все Нумы оставили небо Авзонии[35]. Бывают жребии, и жребии народов в том числе, которые повторяют случившееся с Антеем, сыном земли. Если когда-то, как гласит предание, лавр мог вырасти вдруг на жертвеннике Августа, этого хитрейшего из всех тиранов, то отчего бы ему не зазеленеть снова на твоих берегах, которые когда-то были для него родной землей? Вскормленный слезами, поливаемый кровью, священный лавр опять распустит свои торжественные ветви, в очищенном воздухе, не боясь небесной грозы. Бешеные ветры не перестанут бороться с ним; но его взволнованные листья наполнят свет таким громом, что от него содрогнутся пораженные народы…
Расти, божественное дерево, и пусть твои ветви обвивают чело того, кто высокой доблестью победит и друзей и врагов: но да не обовьются никогда более твои ветви вокруг меча победителя, для того, чтоб закрыть его острие, смертельное для свободы человека!
Боже великий! опусти взгляд свой на нас и посмотри, возможен ли позор, подобный нашему позору[36]: ниспошли вам душу великую, которая показала бы сильным мира, что сила есть благодать неба, поднимающая падших и защищающая немощных. Только и есть одна святая война, и эта война пусть будет вам ниспослана и судьба сбережет молодые листья лавров для того воина, который будет сражаться в этой войне, и для того поэта, который облечет ее в сияние своих песен. Мы, усталые души, подточенные заботами и измученные страданием, что можем дать мы родине? Мольбы и благословение – эти последние цветы, падающие с постели умирающего! Но не пренебрегайте ими… Благословение тех, которые останавливаются в дверях вечности для того, чтобы бросить последний взгляд любви на оставшихся, есть вещь святая и приносит счастье тому, кто принимает его с благоговением.
Для меня уже миновали мечты о твоей славе, Тибр! Мое сердце прельщено страданиями; оно не в силах более ни жалеть, ни даже проклинать: его единственная отрада теперь – смотреть в глаза смерти.
* * *
Много дней прошло с тех пор, как домашний кров напрасно ждет Джакомо Ченчи. Хотя душа Луизы горела еще огнем страсти, но пыл гнева начинал уже уменьшаться в ней: так, когда спадет ветер, большие волны продолжают еще биться о берег; они грозны на вид, но уже не опасны для пловцов. Гордость руководила римской матроной; но она не могла заставить замолкнуть ту сильную привязанность, какую она питала к своему мужу. Лукавые слова Франческо Ченчи о том, что добрая жена должна употребить все усилия, лишь бы вернуть на прямую дорогу сбившегося с пути мужа, сверх ожидания его, беспрестанно приходили ей на ум; она рассуждала о причине отсутствия мужа; одно из двух должно было случиться: или Джакомо изгнал из сердца своего всякую привязанность к ней и к своим детям, или с ним случилось какое-нибудь большое несчастье, и эти шипы одинаково больно кололи ее. Она, сколько могла, старалась искать утешения в своей горести, предаваясь постоянным заботам о детях, которых не оставляла ни на минуту. Меньшой не сходил с её груди; она осыпала его страстными поцелуями, и нередко ребенок от них пугался и плакал. Но слишком часто ласки старших, улыбки и даже слезы меньшого сына, заставали ее с мыслями, обращенными в другую сторону, и в слезах, которые без её ведома текли по её щекам. Хотя она продолжала считать Анджиолину причиной своего несчастья, но по доброте своей натуры не переставала заботиться о ней. В один из таких вечеров, когда тяжелые мысли осаждали ее одна за другою, дверь дома тихонько открылась и Джакомо неожиданно явился перед нею.
Он не поклонился, не сказал ни слова и сел у стола против жены, закрыв лицо руками. Мы уже видели его бледным и дурно одетым; но, Боже, как еще он изменился с тех пор! Растрепанные волосы и борода; шляпа и платье испачканное грязью; глаза воспаленные и окаймленные черными кругами… Луиза была вместе испугана и тронута. Когда душа переполнена страданием, то почти всегда случается, что внимание наше останавливается на каком-нибудь одном предмете, который огорчает более всего прочего. Так и Луиза, видя грязные руки и манжеты своего мужа, почувствовала, что сердце её сжалось более прежнего.
Она взяла ребенка к себе на грудь, с тем самым намерением, с каким далекий вестник мира, покуда звук его голоса еще не может достигнуть, показывает издали оливковую ветвь или машет белым платком. Но всё это не привлекло внимания Джакомо; полагая, что жена изменила ему, он оставался в глубоком раздумье о потерянной любви, погибшей надежде и прошлом счастье. Потом он вдруг вскочил и стал рвать себя за волосы, восклицая хриплым голосом:
– Зачем я пришел сюда? Право, я сам не знаю. – Ах, если б можно было выбросить из сердца привязанности, как груз из корабля, чтоб избежать погибели!.. Но если их нельзя выбросить, по крайней мере всякий может вырвать из груди любовь Вместе с сердцем. – Все может замолкнуть разом и пусть замолкнет. – При этом он направился к двери.
Луиза сказала ему не ласковым, но и не строгим голосом:
– Отец удаляется от детей своих, даже не поцеловав их!
– Где они и кто мои дети? За которого из этих детей можно поручиться, что он мой? Все основано на доверии: это хрупкое стекло! Как я могу поверить языку женщины, слова которой сети, расставленные для того, чтоб повлечь к позору и смерти?
Луиза не знала, как понимать эти речи, исполнившие удивления. Джакомо с горькой усмешкой продолжал:
– Я понимаю, что такой человек, как я, не способный содержать собственного семейства, негодное бревно, источенное червями, проклятое Богом… Я могу внушать к себе только презрение… Я понимаю также и испытываю на себе, что презрение убивает любовь и рождает ненависть. Но зачем так нагло прикрывать честностью проступок? Зачем собственную вину превращать в камень для того, чтоб бросать его в невинного? Довольно, кажется, презрения и стыда, которым покрывали меня, но зачем еще было обрушиваться на меня целым ураганом оскорбительных слов для того, чтоб ослепить мне глаза, как песком и помешать видеть ваше преступление.
– Джакомо, с кем вы говорите?
– Будьте спокойны, я не за тем пришел сюда, чтобы проклинать вас, но для того только, чтобы сказать вам, что вы могли довести меня до отчаяния, но не обмануть. Теперь довольно слов… между нами уж все сказано, – и он снова сделал движение, чтоб уйти.
– Не уходите, Джакомо; именем чести, прошу вас остаться. Когда слова ваши убивают доброе имя Божьего создания, тогда долг честного человека – объяснить их причину. Вы думаете разве, что тайна принадлежит только вам, когда в словах ваших скрывается обвинение меня в позоре?
– Мне кажется, что вам вовсе не идёт так говорит: мои слова могут показаться тёмными всякому другому, только не вам. Хотите объяснения моих слов? Хорошо, оно готово. Откуда у вас эти вещи? Кто снабдил вас всем этим, не только необходимым, но даже излишним? Это правда, что я оставил в этом доме нищету, а теперь нахожу изобилие; но я оставил вам еще одну вещь, которой не нахожу теперь, это честь мою. Теперь уж не от отца должны проистекать бедность или богатство. Как зовут того, который позаботился о нуждах ваших и этих детей? Где скрывается тот благодетель, который радеет о вас больше меня самого? Отчего друг моего семейства боится показаться мне?
– Джакомо, ради вашей собственной чести, подумайте, что вы оскорбляете мать в присутствии её детей…
– А что ж, они разве не свидетели, которые обвиняют вас ещё сильнее, чем мои слова?..
– Ваш родственник и мой помог мне; я не могу назвать вам его, потому что поклялась молчать. Я – женщина, готовая скорее видеть, как дети мои умирают с голоду, чем кормить их ценою позора! Эти подозрения не касаются меня, и я хочу, чтобы вы знали Джакомо, что я чиста, как мать ваша, которая теперь в раю.
– А вы сами, какие доказательства могли вы представить против уверений вашего мужа, кроме гнусной клеветы кого-то, кто скрывает свое имя, и несмотря на это, вы не поверили моим клятвам и моим слезам? Как же вы хотите теперь, чтоб я преклонил голову перед вашими голословными уверениями? И ко мне доходили тайные извещения, и их было не мало; но я не слушал их; теперь я вижу доказательства на деле и вы сами не в состоянии их опровергнуть.
– Джакомо! на то, в чем я укоряла вас, у меня есть в руках явные доказательства, – доказательства, сомневаться в которых нет возможности, – ваши же подозрения бесчестны… Идите! я вас не удерживаю.
– Хорошо. У меня нет ни охоты, ни сил спорить с вами.
После этого он подошел к ней и без всяких угроз, с страшным спокойствием спросил ее потихоньку:
– Могу ли я узнать, есть ли между этими детьми хоть одно мое?
– Джакомо, вы говорите безумные слова. Все они ваши лета…
– Да, конечно, это так говорится: Pater est quem juetae nuptiae demonstrant,[37] – по крайней мере так гласит гражданское право, сочиненное именно здесь, в Риме, и претор заставил бы меня содержать их. Я отец по букве закона – отец, годный только на то, чтоб быть брошенным зверям на съедение. Жаль право, что теперь вышли из моды зрелища в амфитеатре Флавия! Ничего; ведь на всяком шагу можно найти деревья, колодцы и реки. – Голос его оживился, и бледное как смерть лицо покрылось лихорадочным светом. – Я мог бы мстить! Но когда же месть имела свойство вернуть потерянное счастье? Я мог бы сделать только и вас несчастною: вот и всё! Нет, нет… я не хочу мстить… я уберу себя с вашего жизненного пути, как лишнюю помеху, и вы войдете, куда зовет вас ваше сердце. Я не прошу вас помнить меня, мне это не нужно, да и вы не сумели бы этого сделать; но точно также я не прошу вас забыть меня, потому что до этого мне еще меньше дела, и вы это исполните прекрасно и без моей просьбы. Горесть об умерших длится покуда не высохнут слезы, а они скоро высыхают; об мужьях же редко когда и плачут. Но я любил этих детей, я считал их частью самого себя, и выбросить их теперь из моего сердца мне тяжело… Я поручаю их вам, донна Луиза, если я не могу считать их своими, помните, что они ваши. Конечно, в этот последний час жизни, для меня было бы большое утешение прикоснуться губами к лицу, которое было бы моя собственная кровь… Теперь слезы мои уж не будут литься ни для кого; они падут мне на сердце – горькие, тяжелые, но последние… Простите, желаю чтобы годы ваши текли без угрызений и чтобы вы нашли нового мужа, достойного вашей верности…
Луиза не смела возражать и укорять его, боясь прибавить ещё больше горечи к его отчаянию. Она видела, как голос его стал ослабевать и перешёл почти в плач.
– Дети, обнимите его, дайте ему почувствовать, что он ваш отец, – сказала она наконец, растроганная и обращаясь к детям…
Дети подбежали к нему; один из них ухватился за его платье, стараясь привлечь его к матери, другой обнимал его колени, третий влез на стул, чтоб обнять ему шею. Джакомо вырвался из их объятий, восклицая:
– Спасайтесь на груди вашей матери. Несчастные! Разве вы не знаете, что Ченчи отравляют своим дыханием?.. Прощайте… прощайте навсегда!
Вслед за этим он исчез. Слышно было, как он скорыми шагами сбежал с лестницы. Луиза кинулась на балкон и жалобным голосом кричала:
– Джакомо! Джакомо!
Но Джакомо в исступлении бежал все дальше и дальше. Тогда в достойной женщине любовь взяла верх, и она, накинув мантилью, бросилась из дому по следам мужа. Она пробежала несколько улиц; наконец, в изнеможении от усталости и горя, не в силах будучи идти далее, она присела у какого-то палаццо. Осмотревшись кругом, она увидела, что это дворец монсиньора Гвидо Гверро; она подняла голову и заметила свет в окнах. Зная, что прелат этот приятель дома Ченчи и большой друг Джакомо, она подумала, что само провидение привело ее сюда. Она собралась с духом, вбежала по лестнице и, не дожидаясь, чтоб о ней доложили, вошла в комнату, где застала монсиньора в обществе двух людей. Лицо одного из них ей показался знакомым, но она никак не могла вспомнить, где его видела.
– Монсиньор, – сказала она: – вы любите моего мужа Джакомо. Ради Христа, пошлите людей искать его. Он выбежал из дому вне себя, и я боюсь, что у него на душе дурное намерение.
– Против кого, донна Луиза?
– Против самого себя; я боюсь, что он побежал к Тибру.
– Боже! спаси нас! Марцио идем скорей; вы ступайте с несколькими из моих слуг на право; я пойду с другими налево. Олимпий, вы останьтесь с донной Луизой.
Гвидо, Марцио и лакеи, не кланяясь, с поспешностью кинулась из дворца искать Джаконо. Донна Луиза пошла, поддерживаемая Олимпием.
– Мне лицо ваше не ново, – сказала она: – но у меня так устроена голова, что я потеряла память… Ах! да… теперь я припоминаю… вы были на пожаре у столяра, на Рипете.
– Я?
– Да, и вы были в числе тех, которые старались подать помощь несчастным.
– Я не сделал ничего, кроме зла. Все добро было сделано вами. Вы святая женщина, да благословит вас Бог! Если б я смел спросить вас, я желал бы знать, зачем вы были одеты мужчиной в эту проклятую ночь? Почему очутились вы там?
– Я расскажу вам все. Женщина, которую я спасла, растерзала мое сердце; она покрыла трауром мой дом, в котором и прежде не было радости, но не было, по крайней мере, отчаяния; потому что где обитает любовь, там всегда остается надежда. То, чего Бог не велел разделять, рука её разлучила навсегда: одним словом, она отняла у меня мужа, и в ту ночь я бродила там, как бродит волк вокруг овчарни… Я хотела выпить её кровь и думала, что это одно может утишить мою злобу. Но я услышала отчаянные крики… Эта женщина явилась у окна с ребенком на руках, я я уже не видела в ней ненавистной соперницы, а только мать… Я подумала о своих детях и кинулась спасать ее…
От рассказа донны Луизы Олимпия бросало то в жар, то в холод. Мысли роились в его голове; ему хотелось убедиться: может ли ещё для него быть надежда на пощаду и ему показалось, что нет. Так падают на узника цепи с отчаянным звуком после последних усилий, какие он употребил, чтобы разорвать их. Тень не менее, так как нет сердца, какое бы оно ни было каменное, которое не согреюсь бы от пламени любви, то и Олимпий был растрогав против воли.
– Если б я мог надеяться, – сказал он, – что раскаяние спасет меня, я никому не захотел бы исповедать моих грехов, кроме вас, почтенная синьора, и не желал бы иметь за себя перед Богом другого заступника, кроме вас. Но я так наполнил книгу жизни моей злодеяниями, что ангел хранитель не нашел бы в ней самаго малейшего пробела, чтоб написать на нем слово прощения! Но несмотря на это я исповедаю вам свои грехи, потому что, если исповедь моя не может привести пользы мне, она принесет ее вам. Знаете ли, кто поджег дом столяра? – Я…
– Вы!?
– Знаете ли, кто доставил вашему благородному мужу предательское письмо, наводненное клеветами, которое может быть и было причиной его отчаяния? – Я. – Знаете ли, кто придумал все это для того, чтобы вы и муж ваш возненавидели друг друга? Граф Франческо Ченчи. Он радостно потирал себе руки и говорил: «скорей скала, разбитая молнией, соединится в одно, чем невестка моя возвратит свою любовь Джакомо; я посеял ненависть, они будут пожинать отчаяние».
Донна Луиза вырвала свою руку у Олимпия и побежала с такой быстротой, что опередила бы оленя: достигнув своего дома, она вбежала в комнату, где все еще лежала больная Анджиолина, и приблизившись к постели, едва переводя дух, принялась ее расспрашивать:
– Женщина, на сколько есть у тебя любви к Богу, не обманывай меня. Знаешь ты графа Ченчи?
Анджиолина, испуганная видом Луизы и не узнавая ее в женской одежде, так как она до сих пор показывалась ей всегда в мужской, отвечала ей:
– Кто вы такая? Чего вы хотите от меня?
– Я не даю ответов, я спрашиваю, – повелительно произнесла донна Луиза: – скажи мне, знаешь ли ты графа Ченчи?
– Да, я знаю его…
– Ты знаешь его, о, несчастная, и это сын вашей любви?
И говоря это она схватила за волосы ребенка, который начал кричать…
– Оставьте его… Что вам сделало это бедное создание?
И она тянулась из постели, чтоб защищать дитя.
– Это сын греха, и ты родила его от Ченчи…
– От Ченчи? Синьора, – продолжала Анджиолина, залившись слезами: – прилично ли благородной даме позорить так бедную женщину? Я точно знаю старого барона, которого зовут – граф Франческо Ченчи, это он облагодетельствовал моего покойного мужа, который и повел меня как-то раз поблагодарить его; он давал мне денег, которые я неохотно приняла, потому что, несмотря на его седые волосы и добрые слова, у него блестело в глазах что-то такое, что меня пугало: но с тех пор я его и не видала.
– Не о нем… не о нем я тебя спрашиваю, а о сыне его, дон Джакомо.
– Я кажется слышала, что у дон Франческо есть дети, но никогда не видела их и не знаю, как их зовут; – она произнесла это с таким спокойствием невинности, что самый мнительный человек поверил бы ей.
– Ты не видала его? и не знаешь его имени? Поклянись мне Богом; поклянись своей душой и совестью… поклянись мне Христом Искупителем, и знай, что если ты дашь ложную клятву, он поднимет руки с креста, чтобы проклясть тебя.
Она сняла распятие, висевшее над кроватью, и поднесла его ей. Анджиолина взяла его, с благоговением поцеловала, потом возвратила Луизе, говоря:
– Есть у вас дети, синьора?
– Если б я не была матерью, разве я решилась бы броситься в пламя для того, чтоб спасти тебя и твое дитя?
Анджиолина приложила руку к груди своего дитяти, которое лежало в люльке около её постели, и произнесла:
– Если я не сказала вам всю правду, пускай, сию минуту под моей рукой перестанет биться это сердце моего сердца…
– О, я верю тебе, верю! – воскликнула донна Луиза и, наклонившись к Анджиолине, взяла ее обеими руками за голову, осыпала поцелуями её волосы, лицо, грудь, забывая какую боль она причиняла этим бедной женщине, раны которой еще не вполне зажили. Анджиолина, из чувства доброты, старалась удерживаться, чтоб не вскрикивать от этик порывистых ласк.
* * *
Луиза отгадала. Джакомо направился прямиком к Тибру, но в ту самую минуту, как он готов был кинуться в воду, чья-то рука его удержала и позвал знакомый голос.
– Сумасшедший! что вы делаете?
Пораженный Джакомо поднял голову и увидел Гвидо.
– Гвидо!
– Несчастный! А ваши дети?
Джакомо пожал плечами и не сказал ни слова; он позволил вести себя, как человек потерявший волю и силы; только когда он заносил ногу на порог своего дома, он вернулся к монсиньору Гверра и сказал.
– Друг мой, если вы думаете, что я должен благодарить вас, вы ошибаетесь. Если б вы не помешали мне, я произнес уже вечную память жизни, закрыл книгу и знал бы её конец: дурной конец, ей-Богу, дурной; но так как она могла бы кончиться еще хуже, я, был доволен им. Считайте меня неблагодарным, но я не могу благодарить вас.
Когда он вошел в дом, глазам его представилось странное зрелище.
Человек мрачной наружности, сколоченный как геркулес Фарнезский, держал на руках младшего сына Джакомо Ченчи и протягивал к нему ребенка с умоляющим видом.
Эта нежность была бы натуральна в донне Луизе, как матери и любовнице; но как могла она проявиться в душе Олимпия, в этой дикой, преступной натуре – трудно вообразить себе.
Но только держа на руках ребенка, Олимпий мог решиться рассказать Джакомо про всё то зло, какое он сделал по приказанию графа Ченчи для того, чтоб нарушить его семейное счастье. В это время ребенок поднимал свои ручонки и весело смеялся, так что Джакомо не мог очень сердиться на Олимпия, который, отдав ребенка на руки отцу, стал в сторону и прибавил:
– Теперь так как вместе с вашим сыном я принес вам мир, ради этого невинного создания, которое просит за меня, умоляю вас, синьор, простить меня.
Джакомо молчал и обводил кругом свои мутные глаза, все еще не веря вполне тому, что слышал; тогда Луиза, отстранив Олимпия, стала на колени перед мужем и начала говорить:
– Мой супруг и господин, мы оба сомневались в верности друг друга; узнав теперь злые намерения графа Ченчи и все хитрости, какие он употребил в дело, я считаю себя освобожденной от всякой данной ему клятвы и открою вам все. Движимая отчаянием, я отправилась к тестю, открыла ему положение нашего семейства и умоляла помочь моим бедным детям, которые ведь его же собственная кровь. Он говорил и действовал как нежный отец; мне, легковерной от ревности, он рассказал целую историю о вашей любви, о деньгах, которые вы мотаете на распутство и в которых отказываете детям, и щедро помог мне, дав триста скудо с условием, чтоб я не говорила вам о них ни слова. Таким образом он с лукавым намерением дал мне понять, что вы потеряны в незаконной любви; а вам, что я ценою стыда достаю удобства жизни для себя и для детей наших…
Она говорила с таким жаром и так скоро, что дон Джакомо до сих пор не мог прервать ее. Тут однако он остановил ее говоря:
– Это положение не прилично для жены Джакомо Ченчи. Луиза, твое место здесь на груди твоего Джакомо, который так сильно любил тебя и любит…
Они обнялись и плакали слезами любви. Пускай льются обильно эти сладкие слезы; кто знает, доставит ли им судьба еще случай плакать от радости!
Глава XVII. Преступная ночь
Джакомо Ченчи был приглашен на обед к монсиньору Гверро, откуда вернулся домой поздно ночью. Он был задумчив и грустен, не хотел видеть детей, не поцеловал по своему обыкновению меньшого ребенка и даже, услышав плач его, заметно переменился в лице. Когда он лег спать, его тревожили мучительные сны, и жена слышала жалобные восклицания: умер! умер! Вдруг он проснулся в испуге, водя кругом мутными глазами; и, увидав жену, которая лежала рядом, обнял ее крепко, крепкой со слезами воскликнул:
– Лучше бы мне перестать жить!
– Разве ты жалеешь, что вернулся в семейство, которое обожает тебя? – отвечала ему жена с нежностью.
– Нет, Луиза, нет, избави Бог; но несмотря на это, поверь мне, было бы лучше, если б я умер…. ты сама увидишь….
Луиза ничего не отвечала, приписывая это мрачное настроение мужа последним потрясениям. Она возлагала надежды на время, на свои заботы и на ласки детей, которые должны были возвратить спокойствие его взволнованной душе.
В эту самую ночь Марцио и Олимпий выехали из Рима, с запасом золота на значительную сумму.
Через несколько дней, дон Франческо, чувствуя себя здоровым, разбудил неожиданно на заре свое семейство и велел всем сойти вниз так, как они были. Во дворе Беатриче увидела приготовленных верховых лошадей, карету и людей для конвоя: явные признаки дальней дороги. Куда вез ее отец, сколько времени она останется вдали от Рима? это вопросы, которых она так и не задала, да и никто из семейства не решился бы задать.
Садясь в карету, Беатриче обратилась к графу:
– Батюшка, мне надо сказать вам кое-что.
– Молчать! садись….
Но Беатриче сложила умоляюще руки и повторила:
– Батюшка! выслушайте меня, ради Бога…. дело идет о вашей жизни….
Но Ченчи, приписывая её слова желанию избавиться от неприятного путешествия, втолкнул ее в карету, запер ключом дверцы и велел спустить занавески.
Сам Граф Ченчи вскочил вместе со всеми другими на лошадей, и поезд тронулся в совершенном молчании: он походил скорее на погребальную процессию какого-нибудь вельможи, чем на путешествие живых людей. Поезд выехал из ворот Сан-Лоренцо, миновал Тиволи и наконец достиг места своего назначения – Рокка-Петрелла.
* * *
С распущенными волосами, подняв глаза к небу, с повислыми руками, Беатриче Ченчи стояла на коленях в одной из комнат в Рокка-Петрелла.
Комната эта – темница: безотраден стал путь её жизни, в котором темницы сделались дорожными столбами, обозначающая расстояния. Странный вид имеет эта комната: великолепная кровать, с большим штофным золотом и золотыми украшениями; пол покрыт дорогим ковром; на простом деревянном столе стоят серебряные кружки и чаши; на мрачных стенах видны надписи, сделанные углем и выражающие столько разных ощущений, смотря по тому, бывало ли сердце узника полно грусти, или досады, или сожаления, выражения тоски, вылившейся силой необходимости.
Небо было едва видно сквозь решетку, перед которой граф Ченчи, с своей злодейской изобретательностью, приделал ящик в виде воронки и велел покрыть его отверстие частой железной сеткою. Но этим еще не ограничилась его жестокость; при заходе солнца спускалась толстый холщовый занавес, отнимая разом свет и воздух, эту последнюю отраду несчастной. Тогда тюрьма, казалось, закрывала свою пасть и поглощала свою жертву, как кит Иова.
Бедная Беатриче! Небо, которое ты так любила; небо, которому ты поверяла тайны своей нежной души, которое посылало тебе утешение в твоих безграничных страданиях; небо, которое ты призывала в свидетели правоты твоего сердца, которое ты созерцала и к которому стремилась, как к свободной родине твоего божественного духа, – ты видишь теперь это небо сквозь решетки и железные сетки, или у тебя вовсе отнимают его проблеск!
Если ночью Беатриче лишают воздуха, то и днем ей дают его очень скупо, как пищу в осажденном городе. Если б Ченчи мог, не открывая вовсе отверстия, давать ей воздух в закрытом сосуде, – о, с какой охотой он делал бы это!
Часто Беатриче, уцепившись за решетку, старалась увидеть верхушку дерева или очертания гор, что для души её было бы сладким напоминанием прекрасной природы; и хотя уже не раз её усилия не приводили ни к чему, она все-таки не переставала делать их, в надежде до чего-нибудь добиться. Тяжело привыкнуть к потере воздуха, света и зрелища природы, которых не лишено и самое последнее из животных! Одаренная душой поэта, способной сочувствовать всему прекрасному, она старалась различить сквозь щели голубые горы, зеленые долины, реку, извивавшуюся по долине, подобно исполинскому змею, – но и это ей не удавалось. Граф Ченчи в своем злобном желании лишить ее малейшего утешения, посылал по нескольку раз в день, и чаще всего утром, когда сон освежал её воспаленную кровь, работников, которые, спускаясь по веревкам вдоль стен, приколачивали, заделывали, замазывали, забивали что-то, – словом, мучили её слух нескончаемым адским стуком. – Голова её трещала и самое легкое прикосновение производило невыносимую боль во всем теле. А какой улыбкой сияет небо по ту сторону этих серых досок! Как природа ликует в своей красоте вне этих мрачных стен! Будь проклята рука, заслоняющая от человека природу. Душа сгорает желанием вырваться на волю; она готова бы сесть на крылья летящей мимо птички и полететь вместе с нею к дорогим родным, в места, где протекло её детство…. Обратив глаза к невидимому небу, Беатриче, казалось, не молилась и не роптала, но только спрашивала: «Боже! неужели ты покинул меня?»
Должно быть мысли её были гнетущи и томительны, потому что, поднявшись с колен, она, как обессиленная, бросилась на постель.
И благодетельный сон смежил её глаза.
Ей снилось, будто она на скале посреди моря, покинутая всеми. Под нею, в голубых водах, морские девы сплелись руками в веселой пляске. они беспрестанно поворачиваются к ней и знаками зовут ее принять участие в их играх. Вдруг над головой её послышался шум крыльев; она подымает глаза вверх и ей представился в виде Амура, Гвидо – друг её сердца, который, спускаясь к ней, открывал ей свои объятия: она подняла руки к нему и губы их сомкнулись в поцелуе….
Беатриче проснулась: руки её были подняты, но они тяжело опустились на одеяло и она тяжело вздохнула. Досадуя на себя, что поддалась обману сновидения, она закрылась одеялом; её девственная грудь утонула в подушках, белокурые волосы распустились по плечам.
«Несчастная! думала она: – пора бы тебе звать, что радости для тебя – сон, а наяву одно горе. Разве Гвидо может своими телесными руками сломать железный бич судьбы? И, может быть, даже, ему уже наскучила жертва, заклейменная несчастьем. Бедный! Я не хотела бы винить его: нет, потому что зараза удаляет отца от сына, мужа от жены, и за это их нельзя обвинить в злом сердце. А разве несчастье пристает не с большей силой, разве оно менее неотступно, чем зараза? Могу ли я по совести желать или ожидать, чтоб он бросился в пропасть, из которой ни люди, ни Бог, по-видимому, не могут или не хотят спасти меня! Пусть он обратит любовь свою на женщину менее несчастную, чем я, пусть он будет счастливым супругом…. отцом…. я желаю ему этого…. ах! нет…. да, я должна желать ему этого всей душой».
И обильные слезы невольно лились на её подушку.
Она старается успокоить сном свой измученный ум; но напрасно. Сквозь закрытые веки глазам её представляется темное пятно, отделившееся от далеких стен Рима и несущееся по полям и горам, как пыль, гонимая ураганом. Пятно это, приближаясь, принимало форму человека, который казался завернутым в темный плащ; шляпа спускалась на глаза…. Когда он достиг башни Рокка-Рибальда, луч месяца осветил его прекрасное лицо; он машет ей рукой. Ускоренное биение сердца подсказало ей, кто этот незнакомец.
В ущелье, у подошвы горы, около источника, полузакрытая ветвями дерев, возвышается маленькая часовня, в которой отправляет богослужение схимник, не оставлявший ни одного скорбящего сердца без утешения. Он соглашается обвенчать Беатриче с Гвидо. Она протягивает руку и, удивленная, что не встречает руки Гвидо, требует её; но он отказывается и прячет руку под плащ. Она настаивает: наконец ей удается схватить ее; рука эта влажная и липкая. Беатриче в испуге отнимает свою руку и видит, что она запачкана кровью. «Боже! чья это кровь? скажи мне…» Гвидо исчез, пропал и схимник; она осталась одна, окруженная непроницаемым мраком….
* * *
Дверь темницы чуть слышно открывается и в нее показывается седая голова, потом грудь и наконец, все тело человека, завернутого в длинный плащ, с красной шапочкой на голове. Это граф Ченчи, которого влечет сюда сама судьба. Он прислушивается к дыханию Беатриче, осторожно ступает на цыпочках, подвигается вперед и останавливается у самой кровати.
Тревожный сон закрыл глаза Беатриче; она разметалась и длинные волосы распустились на чудную грудь.
Он смотрит на нее. Вид этих дивных форм разливает радость в душе….
Что он затевает? Разве не довольно, разве уж не слишком много видеть эту волнующуюся грудь?
Ужасный старик протягивает свои костлявыя руки и тянет к себе одеяло. Все прелести красоты представляются нагими глазам его…. прелести, которые сам Амур закрыл бы крылом своим от глаз любовника.
Дверь опять потихоньку открылась; входит другой человек и останавливается: он смотрит… недоумевает…. и не узнает графа Ченчи при слабом свете лампады. Граф весь дрожит от сладострастия; глаза его щурятся, румянец сатира покрывает его щеки; он опускает с себя плащ, ставит колено за край постели и в безумии страсти простирает руки…
Бешенство любви овладевает душою Гвидо, потому что вошедший за ним человек был не кто другой, как Гвидо: он не успел еще пожелать обнажить нож, как нож уже обнажен в его руке. Граф слышит шорох за спиною и поворачивает голову. Гвидо бросил на старика взгляд, в котором тот прочел свой смертный приговор. Граф в испуге опускает полог, но Гвидо уже ухватил его за волосы, поседевшие в злодействах. Ченчи судорожно открыл рот…. что он, молит или угрожает?
Напрасно: разящий меч прорезал ему горло и вонзился так глубоко в грудь, что изверг не может произнести ни одного слова. Он зашатался, свалился на пол и из ран его брызнул целый поток крови.
Беатриче испустила вздох и томно открыла глаза…. Отец небесный! теперь это не сон… она видит желанного возлюбленного. Амур своими розовыми руками открыл уста её в нежнейшей улыбке; но улыбка падает на душу любовника, как на бронзовую статую… Он свирепо смотрит на нее и окровавленным кинжалом указывает на упавшего?
Улыбка замерла на губах Беатриче, как замирает поцелуй, который мы в минуту пробуждения посылаем ночному видению. Но девушка не знает еще всех тайн этой преступной ночи. Кто этот окровавленный труп и зачем он здесь? Он лежит лицом вниз, не дышит и луч лампады едва достигает до него. Беатриче уже открывает рот, чтобы спросить: Гвидо заметил это движение и испугался…. он посмотрел на нее, посмотрел на убитого; глаза её последовали за взглядом Гвидо, – потом она подняла их опять на Гвидо, но Гвидо уже исчез….
Страшная мысль сверкнула в душе Беатриче. Забыв девственный стыд, она вскочила с постели и не замечает или не чувствует, что её босая нога ступила в кровь, которою залит весь пол. Она берет за голову убитаго, подымает ее, – это её отец!
Губы его шевелятся в предсмертных конвульсиях; глаза уже получили страшную неподвижность смерти. Беатриче остановилась с протянутыми руками, с опущенным стоном, окаменелая от испуга…. Глаза графа открылись, оживились, – бросают ястребиный взгляд, – потом приняли оловянный цвет…. погасли…. И его конец пришел.
Ужас всего, что произошло, страшно подействовал на ум Беатриче; если она и не потеряла еще рассудка, то пришла в состояние совершенного отупения. Не помня себя, она стояла неподвижно, без мысли, без чувства. – Гвидо, как безумный, сбежал с лестницы, бросился в залу, где находились синьора Лукреция, Бернарднино, Олимпий и Марцио, и, отюросив далеко от себя окровавленный нож, закричал:
– Умер! умер!
– Зачем же вы не предоставили нам работу рассчитаться с Ченчи? – спросил Олимпий.
Марцио холодно прибавил:
– В этом надо удостовериться, – и отправился в тюрьму.
Странная натура человека! Марцио, способный убить Ченчи с тем же спокойствием, с каким он читал молитвы, удалился в смущении, как только заметил неприкрытую наготу Беатриче, сошел вниз и предварил обо всем потихоньку мачеху. Та, поборов ужас, решилась войти в комнату преступления. Она подошла к Беатриче, назвала ее по имени; назвала раз, другой; потрясла за плечи и, все-таки не получив никакого ответа, взяла за руку и увела за собою, набросив на нее упавший плащ графа. Беатриче предоставила увести себя, не противилась, когда ей стали мыть окровавленные ноги, растирать спиртом, укладывать ее в постель: она бессмысленно смотрела и не произносила ни одного слова. Решили, что ей надо пустить кровь; но для этого не было нужных инструментов, да они и не знали, как взяться за дело: позвать цирюльника было опасно, ее и оставили так, без помощи.
В это время Марцио, исполняя свой давнишний жестокий обет, вошел вместе с Олимпием в комнату, где лежал мертвец, схватил за волосы убитого Ченчи и, вынув кинжал, вонзил его в левый глаз графа до самой рукоятки.
– Теперь я удостоверился!
– В этом и надобности не было, – заметил Олимпий, толкнув пальцем в разрезанное горло Ченчи: – посмотри, какая дыра! Из нея душа могла бы выехать даже в карете. Теперь подумаем-ка, что делать с ним? – И, говоря это, он дал пинка в голову мертвеца.
– Отнесем его в сад и зароем в землю…
– Ты с ума сошел! – не довольно похоронить его; надо прежде всего, чтоб он умер каким-нибудь манером, в котором был бы какой-нибудь здравый смысл. Поди-ка ты сюда, возьми его за ноги, а я возьму за голову, и отнесем его на террасу, что выходит в сад: я заметил, она ведет к отхожим местам, и на ней вовсе нет перил. Бедный барин! отправился ночью по своей надобности без огня… экая ведь неосторожность! Может и он поел не в меру за ужином, а потом выпил вина больше обыкновенного. Посмотрите-ка, что значит судьба! он на беду себе поскользнулся и упал…
– Прекрасно, все как по маслу. Но человек, упав с высоты, сломает себе шею, размозжит череп, а на нем не бывает ран от острого оружия.
– И это предвидено: мы бросим его на сучья дерева; воткнем концы сухих веток в раны и довольно. О чем тут много хлопотать! Кто умер, тот умер, и приказал долго жить тем, которые живы!
– Иногда покойники возвращаются, но впрочем твоя мысль нравится мне.
Потолковав, они сделали всё так, как придумал Олимпий.
Войдя в дом накануне ночью через окно, куда их впустила донна Лукреция, когда все уже спали, и потому их никто не мог видеть, – они решили выйти тем же путем. Гвидо приехал с тем, чтоб освободить Беатриче, но, будучи вынужден убить графа, он решил немедля отправиться после этого в Рим. Марцио и Олимпий в ту же ночь пустились в путь к границе королевства, чтобы потом ехать в Сицилию или Венецию: они получили две тысячи цехинов, не считая обещаний будущих милостей и вечной признательности, которою фамилия Ченчи и монсиньор Гвидо никогда их не оставят.
Доехав до остерии делла-Феррата у подошвы горы, где был замок Рокка-Петрелла, Гвидо велел скорей оседлать свою лошадь. Приказание его было исполнено тотчас, и хозяин гостиницы, искоса поглядывавший на него все время своими плутовскими глазами, сказал, подавая ему стремя:
– Эге, синьор! Третьяго дня, оставляя вашу лошадь здесь, вы сказали мне, что отправляетесь в Рокка-Рмбальда на весь сентябрь: неужто вы в два обеда проглотили целый месяц? Господи помилуй!.. Вот аппетит!
– Человек предполагает, а Бог располагает.
– Я скорее думаю, что вы отправились туда за тем, чтобы разыграть какую-нибудь трагедию: вы исполнили вашу роль и теперь возвращаетесь домой…
– Что вы этим хотите сказать?
– Ничего кроме того, что у вас рукав в крови…
Гвидо с ужасом посмотрел на свой рукав и увидел, что это была правда. Он повернулся к хозяину и, бросив на него сердитый взгляд, сказал:
– Уж не начальник ли вы здешней полиции?
– Вы удивляете меня, синьор. Я кум некоего Марцио, котораго вы должны немножко знать; я заступаю место отца этим бедным ребятам, проживающим в лесах; я – естественный враг бедности, но я уважаем всеми. Все это я хотел вам сказать для того, чтобы при случае вы вспомнили о хозяине делла-Феррата.
Гвидо вернулся в комнату и остался в ней гораздо долее, чем требовалось, чтобы замыть рукав. Расставаясь с трактирщиком, он дружески пожал ему руку и улыбался ему, точно старому слуге. Странные связи делает преступление!
На следующий день, Рокка-Петрелла огласилась рыданиями и воплями, которые были тем шумнее, чем они были менее искренны. Жители деревни и окрестностей сбежались отовсюду посмотреть убитого барона. Тело его не без намерения было оставлено довольно долго на дереве. Деревенские кумушки, окружив дерево и глядя на труп, рассказывали самые необыкновенные истории. Одни говорили, что этот старый грешник, отправляясь на поклонение дьяволу, поднялся на воздух верхом на метле, как обыкновенно ездят ведьмы; но дорогой ему случилось произнести имя Иисуса, метла сломалась у него между ногами и он полетел вниз, с высоты четырех слишком миль. Другие утверждали, что кончился срок, на который он продал свою душу дьяволу; и тот по праву явился за ней. Мнение это подтверждалось тем обстоятельством, что тело повисло на бузине, которая, также как можжевельник, орех и другие подобные деревья, посвящена злому духу. Мнение это поколебала отчасти повивальная бабка, уверявшая, что выходя ночью из дома, по делам своего ремесла, она слышала большой шум в воздухе и страшное мяуканье кошек на крышах; в то же время летучая мышь потушила крылом её фонарь: все это означало, что в то время кто-то носился по воздуху. Словом, не перебрать всех чудес, которые рассказывались в те времена в подобных случаях и которым верили не только бабы и мужики, но даже люди образованные я знаменитые юрисконсульты; о тогдашних католических патерах я не говорю; им довольно было, что этому верят, и они сами прикидывались верящими, находя в том свою выгоду. На некотором расстоянии от кумушек стояла группа людей, где ораторствовал патер и все рассуждали, каким образом тело могло очутиться на воздухе; но рассуждения были прерваны приходом слуги от её сиятельства графини, которая просила всех в замок. Все отправились и нашли донну Лукрецию безутешною, по обыкновению всех вдов. Поговорив с ними и прерывая беспрестанно речь свою слезами и вздохами, она велела патеру приготовить для покойника самые великолепные похороны, соответствующие знатному роду и могуществу фамилии Ченчи; она обещала богатые милостыни бедным, чтобы они молились за эту несчастную душу. Все вышли растроганные милосердием её сиятельства и дорогой не переставали восхвалять её щедрость и доброту. Когда пришли за телом графа, оно не только было снято с дерева, но уже положено в два дубовых гроба накрепко заколоченные.
Глава XVIII. Красный плащ
– Партия проиграна, смешаем карты.
– Послушай, дон Олимпий, – заметил ему картежник, – подумай-ка, что ты сел играть прежде, чем заблаговестили к вечерней ave Maria, а теперь вон звонят уж к утренней.
– Покуда я затыкал тебе рот дукатами, ты небось не лаял, скверный Цербер. Чорт возьми! я проиграл и эту; мне сдавать.
– Мне было бы гораздо приятнее ваших денег, если б вы убрались к чорту, – как честный картежник…
– Если ты можешь устроить так, чтоб эти слова могли хоть секунду ужиться вместе… я… я даю тебе Сицилию, по ту и по другую сторону маяка.
– Уж больше семи часов прошло против срока назначенного вице-королем; и если полицейский, который уж давно точит на меня зубы, меня узнает, мне только и останется привязать себе камень на шею да броситься в море.
– Ах, ты мерзкий Иуда Искариотский! – крикнул Олимпий, ударив кулаком об стол, так что полетели бутылки, стаканы и всё, что на нём было: – ты заговорил карты… я и эту проиграл.
Картёжник лгал по обыкновению; полицейский и он были заодно, как пальцы одной руки, всегда готовые захватить, что надо. У полицейского не было лучшего шпиона для всего, что происходило в его игорном доме, и даже в окрестностях. Плата за это гнусное ремесло состояла в позволении иметь карты без бандеролей.
– Теперь уж ничего не осталось… все проиграно.
– Не унывай, дон Олимпий, завтра тебе повезет опять.
– Марцио прожужжал мне все уши тем, что моя часть вся вышла… и что его тысяча цехинов уж на исходе…
– Тысяча да тысяча – это две тысячи. Да знаешь ли ты, дон Олимпий, – заметил игрок, что за две тысячи цехинов можно здесь в королевстве купить целое герцогство? Каким образом ты выиграл столько денег? Расскажи-ка мне, как они тебе достались.
– Они мне достались, как добыча, когда мы сражались за веру.
– За какую веру? – спросил игрок; – потому что, не в обиду будь сказано, мне кажется, будто ты бывал больше с турками, чем с христианами. А в каких морях ты сражался, дон Олимпий?
– О! в разных морях.
– В каких же именно?
При таком допросе Олимпий непременно дал бы промах, если б один из игроков случайно не выручил его вопросом:
– Отчего ты никогда не приведешь с собой твоего товарища Марцио?
– О! Марцио важничает; он видится с господами и корчит из себя герцога, словно мы и не маячили вместе жизнь в Луккских лесах.
– Так ты, значит, добычу получил в лесу, а не на море, – лукаво заметил игрок.
– В лесу ли, на море ли, что тебе за дело, мерзкий иуда? А! ты за мной хочешь шпионить? – смутившись отвечал Олимпий. Игрок, который не шутя боялся этого гиганта, сдержал поневоле свое любопытство.
В следующий вечер Олимпий не садился по своему обыкновению за карточный стол, а удалился в угол комнаты. Он сидел облокотившись и выпускал изо рта облака дыма одно за другим. Лицо его, мрачное и само по себе, казалось еще страшнее в темноте.
– Отчего ты не привел своего приятеля Марцио?
Вопрос этот кольнул его, как нож в сердце. Он взбесился и наговорил лишнего:
– Потому что он в красном плаще; он воображает, что он сам граф Ченчи, у которого он украл плащ…
– Ну, успокойся, не сердись! – сказал игрок, ставя перед ним стакан вина.
Олимпий выпил залпом и, вздыхая, поставил на стол стакан.
– Ты не любишь меня, – говорил ему игрок, – и дурно делаешь; а я бы дал тебе взаймы двенадцать дукатов, чтобы отыграться…
– Кто ж тебе сказал, что я не люблю тебя? Я люблю тебя больше хлеба.
– А этот Марцио, которого ты чтишь как своего начальника, обижает тебя и не дает тебе денег…
– Представь себе! Знаешь ли, что он ответил мне, когда я сказал ему, что у меня нет денег? Если ты беден, так пойди и повесься.
– Он это сказал тебе?
– Да! и спрашивал меня: куда я намерен отправиться: если ты пойдешь, говорит, на восток, то я пойду на запад…
– Это способно заставить камень содрогнуться, – говорил игрок и, делая вид, будто пьет, передавал полный стакан Олимпию, который выпил его залпом. – Да, брат, – продолжал он: такова-то людская неблагодарность! Пока ты им нужен, они сулят тебе золотые горы, прошла нужда, и думать позабыли…
– Твоя правда! твоя правда!
– Что ж ты будешь делать теперь? Если я могу чем помочь тебе, скажи только: ты увидишь, что я для друзей готов кинуться в огонь в одной рубашке. О людях следует говорить то же, что о лошадях: я посмотрю на повороте, каков ты?… выпьем…
– Выпьем! – отвечал Олимпий, и выпив, обтерся рукой и продолжал: – Не знаю, что и делать. Если б ты мог как-нибудь доставить надежное письмо в Рим фамилии Ченчи, – я уверен, что эти не оставят меня без помощи… потому что они должны помочь мне…
– Да, вот как? – заметил игрок и навострил уши, как заяц, который прислушивается. Лицо его прояснилось и выражало радость, как у плотоядного животного, когда, спрятавшись в сумерках, оно видит или слышит приближение добычи.
Олимпий лгал, приписывая Марцио обидные слова; было совершенно наоборот: он с участием сказал ему, что его тысяча цехинов, уж несколько дней назад, кончены, и что, так как по его мнению, им необходимо скорее выбраться из королевства, то он не согласен допустить Олимпия быть обобранным игроками или растратить по харчевням необходимые на дорогу деньги. Но Олимпий лгал нарочно и обвинял другого для того, чтоб оправдать себя.
Однако Марцио подумав, нашел, что поступил неблагоразумно, и что опасно раздражать Олимпия, который сделался еще хуже прежнего, благодаря жизни и разврату большого города. Он решился отыскать Олимпия и смягчить его, пока они не выберутся из королевства, что он намерен был сделать очень скоро. Зная, в какой игорный дом ходит обыкновенно Олимпий, он отправился туда.
– Должны! – проговорил игрок, – да разве графы Ченчи твои банкиры, Олимпий?
– Им нужно быть ими…
– Понимаю, ты верно отправил спать какого-нибудь врага их дома?…
– За такие дела не даются пенсии…
– Так за что же?
– Дело поважнее этого… гораздо важнее… тайна сидит здесь… и для того, чтоб крышка была хорошо закрыта, надо наложить на нее серебряную печать…
– Да?… А ты поверишь мне эту тайну?…
– Я знаю… кто убил графа Ченчи…
– О! – воскликнули хором все игроки, видя входящего человека с вежливыми манерами и завернутого в великолепный красный плащ с золотою каймою: – добро пожаловать, дон Марцио!
Марцио был немало удивлен, когда услышал свое имя; он осмотрелся кругом, и глаза его остановились на Олимпии, лицо которого немного перекосилось. Тем не менее, Олимпий остался в своем прежнем положении и бормотал что-то, по-видимому, не обращая внимания на Марцио.
– Я очень рад, что эти господа меня знают.
– Дон Марцио, – сказал игрок, подходя к нему, – не желаешь ли снять свой плащ? Клянусь Богом, он стоит того, чтоб ты о нем заботился, потому что он очень похож на наследство какого-нибудь князя, маркиза или, по крайней мере, графа.
Марцио посмотрел еще раз на Олимпия, но тот оставался неподвижным. Он снял свой плащ и сел играть. Так как он знал хорошо все тайны шулерской игры и был настороже, то битва происходила между корсаром и пиратом. Игроки, привыкшие к легким победам над Олимпием, на этот раз с трудом могли вложить шпаги в ножны. Поиграв некоторое время, Марцио взял плащ и вышел, обещая вернуться на следующий день, и оставил Олимпия обманутым в ожидании, будто он будет его упрашивать помириться и принять сорок дукатов на этот вечер. Марцио же, в свою очередь, видя грубость Олимпия, обиделся и решился более не подвергаться унижению умасливать его. Он пошёл домой с тем, чтобы собрать свои вещи и на другой день на заре выехать из Неаполя.
Олимпий, имевший непреклонный вид до тех пор, пока надеялся, что с ним будут искать примирения, чувствовал себя теперь униженным. Он поспешил выйти и догнать Марцио. Игрок тоже не остался долго в своем пристанище и последовал за ними, прыгая за ними как сорока с подрезанными крыльями, которая скачет, скачет, потом вдруг остановится, подозрительно осматриваясь во все стороны, и опять заскачет бочком. Марцио, услышав за собою скорые шаги, сунул руку под плащ, ухватился за кинжал, и неожиданно остановившись, громко спросил:
– Кто идет!
– Это я, Марцио, не бойтесь; я догнал вас не с дурным намерением.
– С дурным или хорошим, мне нет дела. Чего вы хотите от меня?
– Не сердитесь; пойдемте дальше, если хотите, и поговорим на свободе.
Они пошли вперед. Игрок последовал за ними.
– На что это похоже, – начал Олимпий, – оставлять меня без одного байока[38]? По приятельски ли это? Вы спасли меня от голода для того, чтобы потом заморить жаждой.
– Олимпий, я говорил вам тысячу раз, чтобы вы приходили когда угодно ко мне в дом, где нет недостатка ни в пище, ни в питье. Но я не соглашусь никогда, чтобы вы мои деньги мотали на вино, на карты и на другие еще худшие пороки. Вы уже свою часть истратили всю; я дал вам счеты и доказал, что вы забрали из моих денег более двух сот дукатов; вы и сами не могли отказаться от этого. Теперь, по какому праву требуете вы от меня денег? Я денег дам вам только на дорогу, и советую вам выбираться скорей отсюда, потому что несколько слов, сказанных игроком, заставляют меня думать, что нам опасно оставаться здесь долее. Олимпий, Олимпий, я очень боюсь, что вы сделали какую-нибудь большую неосторожность и что вы погубите и себя, и меня…
– Как не так! Ведь я не вчера родился…
– Не скрытничайте, Олимпий, потому что очень может быть, что тайна уже более не принадлежит ни вам, ни мне, а мне всегда приходится чинить ваши прорехи; подумайте, что речь идет о нашей жизни.
Олимпий хорошо помнил, что проговорился; слова Марцио подействовали на него; ему стало не на шутку страшно, и он начал говорить прерывающимся голосом:
– Теперь, как я припоминаю хорошенько… правда… милый Марцио, надо чтобы вы помогли мне поднять спущенную петлю… Ну, что ж делать? Я был вне себя от злости! Одним словом… у меня сорвалось… с языка… что-то… что может заставить подозревать нас обоих в убийстве графа Ченчи…
– Вы смеетесь? Да, если так, ведь мы погибли.
– Нет… я говорю серьезно… но те, которые слышали меня, кажется, все хорошие люди. Но все таки было бы лучше, если б я не говорил… ах, если б можно было устроить так, чтоб они забыли… или в крайнем случае, чтоб не могли больше говорить…
– Как? Письма запечатывают сургучом, а рот надо запечатывать свинцом…
– Ах? Если б можно, это короче всего… можно и железом…
– Я и сам так думаю, – сказал Марцио и искоса посмотрел на Олимпия, но ему показалось, что тот также на стороже. Он прислушался: кругом мертвая тишина. Шпион шел так тихо, что пульс чахоточнаго бывает слышнее. Между тем они дошли до часовни, где перед образом мадонны горела лампада: Олимпий поднял руку, чтоб снять шляпу перед образом; но в этот миг Марцио с быстротою молнии схватил кинжал и вонзил ему в живот до рукоятки. Олимпий упал, вскрикнув:
– Марцио, что ты делаешь? О, святая Дева, помоги мне!
Марцио наскочил на него, говоря:
– Ты сам осудил себя, Олимпий, когда сказал, что болтливый рот запечатывают железом; и дай Бог, чтоб этого было достаточно. – Он собирался доконать Олимпия, по видя, что тот готов испустить дух, обтер кинжал о платье убитого, перекрестился перед образом и произнес:
– Настанет день, когда я должен буду дать ответ за эту кровь; но ты, Матерь Божия, знаешь, за себя ли я пролил ее. Если б я не сделал этого, он погубил бы целое семейство и девушку.
И он продолжил свой путь, точно как будто просто прочел перед образом молитву, а не совершил при этом убийство. Несчастная и отвратительная смесь набожности и зверства, слишком обычная в те времена! Придя в гостиницу, он собрался в дорогу, положил на стол следовавшие за постой деньги и, когда все уснули, отправился в другую гостиницу, с намерением уехать на первом же отплывавшем корабле.
Шпион, видевший всё издали, подбежал к Олимпию, но застал его уже при последнем издыхании.
Он отправился бегом в один из тёмных закоулков в центре города и постучался особенным образом в потаенную дверь одного дворца. Дверь открылась и закрылась за ним осторожно и тихо, как пасть волка, проглотившая курицу.
На другой день ещё до зари Марцио был на моле; не найдя другого судна, кроме барки, которая отправлялась в Трапани, он скоро условился о цене с хозяином, и уже всходил по лестнице на барку, как вдруг его красный плащ упал в море. Надо было пустить в ход багор, чтоб вытащить его; матросам не удалось зацепить с первого раза, они попробовали в другой и в третий раз. Покуда они теряли на это время, стая ворон показалась вдали и направилась прямо на барку. Марцио, у которого было удивительное зрение, завидел вдали вчерашнего игрока; а тот с своей стороны открыл уже красный плащ и его владельца. Марцио закричал матросам, чтобы они бросили злополучный плащ и отчаливали скорей; но было уже поздно.
– Остановитесь, эй, там, на барке, по приказанию вице-короля!
Барка осталась неподвижной, и сбирры[39] взошли на все как раз вовремя, чтоб успеть схватить за фалды Марцио в то самое мгновение, когда он уже готов был кинуться в море.
– Богу не угодно было! – сказал он, и дал себя связать без сопротивления. Чтоб не сбежался народ и чтоб не делать шуму, сбирры, следуя старому обыкновению делать всё тайно, надели на него красный плащ, выжав из него воду, и таким образом покрыли руки, на которых уже были цепи: два сбирра шли рядом с ним в качестве слуг: другие сопровождали его издали.
– Эчеленца! коршуны вернулись с добычи. – Таким образом докладывал слуга, походивший по наружности и по манерам разом на сбирра и на писаря. Слова эти, сказанные в замочную скважину, подняли с постели два существа. Одно из них был мужчина длинный, худой, с лицом желтым, как лампадное масло, и до того изрытым оспой, что походило на пармезан. Другое существо была женщина; её седые волосы вились и торчали во все стороны, точно они всю ночь боролись между собою. Одеваясь торопливо, мужчина говорил:
– Кармина, сердце моё, я надеюсь, что это дело возвратит мне милость вице-короля.
– Радость моя, вам надо во что бы то ни стало отличиться перед вице-королем, тем более, что я уже заметила, как ваш негодный помощник старается всеми средствами спихнуть вас. В последний раз, когда вице-король приезжал в викариат, вас к несчастию не было и помощник прислуживался ему до последней ступеньки лестницы, а когда его светлость входил в карету, то так согнулся перед ним, что всею своею фигурою говорил: я был бы счастлив, если б ваша светлость поставила ногу на мою шею вместо подножки. Если б вы были тут, мое сердце, честь эта выпала бы на вашу долю.
– И он сказал вице-королю эти именно слова?
– Сказал! По крайней мере мне издали казалось, что он их говорил.
– Счастливец…
– И в прошлое воскресенье, когда я встретила в обедню эту скверную старуху, жену его, она прошла мимо меня, не кланяясь, и я даже заметила, что она насмешливо улыбалась. Смотрите же, душа моя, не упускайте ни одного случая, чтобы возвратить себе милость вице-короля: вешайте и четвертуйте, только бы угодить ему.
Викарий отправился в комнату присутствия.
На звонок его ввели преступника.
Викарий сидел за длинным столом, по обеим сторонам его сидели нотариусы, кругом были разложены все инструменты пытки.
– Марцио Снозито, – произнес викарий: – вас обвиняют, и произведенное следствие подтверждает обвинение, во-первых, в том, что вы, с сообщником вашим Олимпием Жерако, убили варварским образом знатнейшего графа Франческо Ченчи, римского дворянина, в Рокка-Петрелла, на границе королевства; во-вторых, что убийство это сделано вами по приказанию всех или некоторых из членов семейства графа Ченчи; в третьих, что за убийство вы получили две тысячи цехинов, из которых одну для себя, а другую для вашего товарища, Олимпия; в четвертых, что вы украли у графа Чепчи красный плащ, обшитый золотом, который был на вас в минуту ареста; и наконец, в пятых, что в прошлую ночь вы изменнически убили сообщника вашего Олимпия острым орудием, нанеся ему четыре удара, от которых он умер в ту же минуту. На эти пять пунктов вы должны отвечать, дав предварительно клятву говорить правду. И это вы должны сделать не потому, чтоб суд нуждался в большем удостоверении, но для вашего собственного блага в этой жизни и в будущей и для исполнения буквы закона, который этого требует. Господин нотариус прочтет вам клятву.
Нотариус, сидевший по левую сторону, взял распятие и произнес:
– Говорите: клянусь на распятии Христовом…
– Я не буду клясться…
– Как не будете, когда все клянутся?
– И все лгут. Разве естественная по вашему вещь, чтоб человек произнес добровольно свой смертный приговор?
– Но вы избежали бы пытки, – заметил нотариус.
– А вам какое дело, если он хочет ее испробовать? – вмешался викарий. – Он в своем праве, и никто не может помешать ему в этом. Мастер Гиацинт, теперь ваше дело.
Палач, котораго звали мастером Гиацинтом, мигом раздел несчастного, связал его и за руки поднял к потолку.
Марцио вытерпел страшные муки, не испустив даже вздоха; и только когда его потихоньку спускали на пол, бес его зашептал ему в уши: «чего ты ждешь?» И в памяти его как в зеркале отразилась его вся жизнь: он был обманут друзьями, преследуем людьми в самых дорогих привязанностях; сыновняя любовь сделала его бандитом; любовь к женщине – лукавым и притворным; любовь к Беатриче – убийцей. Какого рода была эта последняя любовь? Он и сам не понимал ясно: часто случалось ему начать думать об Анете, а кончить Беатриче, или наоборот; душа его блуждала между отчаянною любовью и любовью невозможною. От постоянной, гнетущей скорби он исчах и потерял охоту ко всему. Часто, прислонившись к утесу, он апатично лежал целые часы на берегу Неаполитанского залива и глядел на гладкую поверхность воды. Он чувствовал слабость во всех членах; лоб и руки его были постоянно покрыты холодным потом; его душил кашель; кровохарканье и розовые пятна на щеках слишком ясно доказывали ему, что дни его сочтены. Не раз, с бритвой или пистолетом в руках, он готов был положить конец жизни, исполненной несчастий и преступлений; но желание видеть прежде Беатриче счастливой и спокойной удерживало его всякий раз: он действительно объяснял себе этим одним предлогом животный инстинкт самосохранения, усиленный вдобавок физической слабостью. В Марцио умерла большая часть его самого, много жизни и храбрости исчезло в нем. Это последнее испытание, хотя он вынес его стойко, так ослабило его, что он возжелал смерти, как высшаго блага.
– Через четверть часа, – сказал викарий Гиацинту, как только опустили Марцио, – ты повторишь пытку cum squasso[40]. Если он захочет пить – дать ему воды с уксусом; – и, говоря это, он встал и хотел уйти.!
– Викарий! – произнес Марцио слабым голосом, удерживая слезы – если я сознаюсь во всем, могу я надеяться на одну милость?…
– Сын мой, – с нежностью сказал викарий, поспешно подхода к нему – я сделаю все, что могу: я буду просить за тебя вице-короля. Герцог великодушен и щедр на милости. Нотариус! запишите скорей, что обвиняемый согласился во всем сознаться, значит обвинение справедливо. Это огромный шаг вперед в процессе, и которого уже нельзя скрыть. Ну, сын мой, так ты говоришь?…
– Милость, о которой я хочу просить, может быть не такая, как вы полагаете…
– Чего ж ты хочешь? Говори скорей, милый мой, открой мне свое сердце, все равно, как если б ты исповедывался своему родному отцу.
– Я желал бы, чтоб меня тотчас казнили, как только я сознаюсь в своих преступлениях.
– В этом без сомнения тебе не откажет милостивейший вице-король… и я помогу тебе…
– Только я желал бы умереть не на виселице… а чтоб мне отрубили голову…
– Если ты только этого хочешь, – вмешался Гиацинт, который не мог заставить себя молчать, когда говорилось о вещах, близко относившихся к его ремеслу, – у вице-короля сердце Цезаря в подобных случаях…
– Молчать! – строго крикнул викарий – это не твое дело!
– А я думал, что это-то именно и есть мое дело… должно быть, я ошибся… извините, Эчеленца!..
– Слушай, – обратился викарий к Марцио: – что касается до первой твоей просьбы, – тотчас же быть казненным, будь спокоен, я это беру на себя; но о второй надо испросить разрешения вице-короля: это не малое преимущество – иметь отрубленную голову! Это преимущество принадлежит здесь одним дворянам, которые очень держатся за свое право: но для тебя я готов сделать всё и буду лично просить вице-короля… Ну, говори же, сын мой… что ты хотел сказать…
Марцио склонил голову на плечо, и из закрытых глаз его потекли слезы… вырванные пыткой…
– Говори же; друг мой, – продолжал викарий, – не бойся… сознавайся…
Марцио, казалось, был в усыплении и не отвечал. Тогда викарий сурово схватил его за руку: он вздрогнул, открыл глаза и болезненно спросил:
– Чего вы хотите от меня?
– Исполни свое обещание, исповедуйся.
– Как?! сейчас? А где же священник?
– Тут дело идет не об исповеди церковной; ее ты сделаешь позже, друг мой; теперь нужна исповедь перед судом.
– В чем же я должен исповедаться?
– Как, в чем! В том, что я прочел тебе, друг мой; хочешь, я еще раз прочту?
– Ох! нет, хорошо, я стою смерти…
– Так сознавайся же скорей и согласись, что обвинительный акт верен.
– Хорошо, всё что хотите, лишь бы мне скорей умереть.
– Попробуй-ка, миленький мой, не можешь ли ты подписать бумагу: ребята, дайте-ка мне перо… да смотрите, чтоб оно было хорошо очинено… обмакните его хорошенько в чернила… Возьми, Марцио, и если в жизни у тебя не было счастья, покажи, что у тебя есть характер перед смертью.
Но пальцы Марцио, неподвижные от боли, выпустили перо из рук; и он, судорожно зевнув, проворчал:
– О, как лесные убийцы добрее судебных убийц! я не могу подписать…
– И в правду, Гиацинт, ты мог бы обойтись с ним почеловечнее!.. – сказал викарий палачу с упреком.
– Что вы говорите, эчеленца? Я сделал всё так нежно, что если б мне пришлось вас пытать, я не мог бы поступить ласковее.
Викарий, весь поглощенный Марцио, не обратил внимания на последние слова. Когда все его усилия не могли заставить Марцио подписать, он велел закончить обвинительный акт обыкновенной формулой, заменяющей подпись обвиняемого. Когда бумага была подписана и запечатана, он положил ее себе на грудь и, обращаясь к сторожам, сказал:
– Заботьтесь об этом несчастном: помните, что он такой же крещёный человек, как и вы, и что если человеческий суд не может простить его, то божеский может это сделать. И кто знает? может, его заступничество пригодится и нам на том свете: не забывайте о добром разбойнике на кресте. Дайте ему вина, бульону – смотрите, не лишайте его ничего, надо, чтоб он еще покуда побыл среди нас.
Марцио впал в прежнее летаргическое состояние.
Ну, не добрый ли человек этот викарий? Он истинно полюбил Марцио; и полюбил его по многим причинам, из которых одна была лучше другой: из-за него он возымел случай явиться торжествующим перед вице-королем; из-за него он надеялся возвратить его потерянную милость; из-за него он мог дать щелчок своему ненавистному помощнику. Как же ему было не полюбить Марцио от всей души?
Глава XIX. Тюрьма
Беатриче любила осеннее солнце, когда оно на закате бросало длинные тени… Часто она отправлялась с донной Луизой, которую полюбила как сестру и уважала как мать, гулять по улицам Рима, сопровождаемая лакеями, по обычаю знатных римских патрицианок. Раз как-то, гуляя без цели, они направились с площади Фарнезе в одну из выходящих на нее улиц. На середине этой улицы взгляд Беатриче остановился на большом здании без оков, с одною только дверью, которая была до того низка, что надо было сильно согнуться, чтобы пройти в нее.
Над дверью был высечен из мрамора Христос, с распростертыми руками, словно говоривший страдальцам, которые сходили в нее: «когда страданья будут одолевать тебя, если ты невинен, вспомни, что я пострадал невинно; если ты виновен, знай, что когда бы ты ни обратил ко мне свое раскаявшееся сердце, мои объятия готовы принять тебя».
В этот день дул сирокко[41] и воздух был полон влажных испарений. Стены были мокры от сырости. Беатриче смотрела на это более обыкновенного мрачное здание и, узнав, что это тюрьма Корте-Савелла, взяла за руку свою невестку и проговорила;
– Не правда ли, она точно плачет?
– Кто?
– Эта тюрьма.
– Конечно, много проливается слез в ней; и если б избыток их проник сквозь стены, я не удивилась бы этому.
– А эта трава в трещинах! Это точно молитвы заключенных, которые с трудом пробиваются сквозь стены?…
– Да. И так же как трава эта лепится по стенам, обдуваемая ветром и палимая солнцем, так молитвы заключенных обращаются к прохожим, чтоб напомнить о тех, которые страдают в этих стенах, и вызвать к ним сожаление.
– Луиза! А зачем эти мешочки спущенные на веревках?
Проходивший в эту минуту римский плебей, с размашистыми движениями и всегда готовый на острое словцо, услышав вопрос молодой девушки, ответил мимоходом:
– А это сети, расставленные узниками, чтобы ловить милостыню у прохожих; но в теперешние времена милостыня не ловится ни на лету, ни на ходу…
Другой плебей прибавил:
– Ты не то говоришь. Эти мешки, вечно пустые, изображают благодеяния попов, которыми они, как грудью без молока, кормят народ.
Луиза и Беатриче высыпали в эти мешки все деньги, какие у них были, удостоверившись сначала, что их никто не видит, и пошли дальше.
– Не деньги, – заметила Беатриче, – но сознание, что о них думают и помогают, как могут, должно быть великим утешением для этих несчастных.
– Да, – ответила Луиза, я воображаю, каким утешением должно отозваться участие в сердцах этих бедных, заживо похороненных людей… но я не желала бы испытать этого утешения.
– Не дай Боже, – вздрогнув, прошептала Беатриче.
Ведя такие грустные разговоры, они дошли до дому. Дон Джакомо с семейством поселился во дворце Ченчи, и они жили там все вместе, одни спокойные, другие в вечном страхе, а Беатриче с отчаянием в сердце, отчаянием, которое она всячески старалась скрывать, и с предчувствием неминуемого несчастья.
Обыкновенно по вечерам во дворце Ченчи собирались многочисленные друзья или родные; но в этот вечер не пришел никто. Собравшаяся вместе семья старалась поддерживать живой разговор; но вопрос или предложение часто оставались без ответа, и разговор не клеился. Все они чувствовали усталость вместо удовольствия; каждый из них желал бы остаться наедине с свояки мыслями; но едва воцарялось молчание, одиночество тотчас начинало пугать их. Из других комнат слышались шумные, беспечные игры детей и заставляли вздрагивать, как взрыв смеха во время похорон… Семья несвязным разговором старалась заглушить грустные мысли.
– Однако я замечаю, – говорила донна Луиза, – что нами овладевает мрачное настроение. Давайте читать Орланда[42]; может быть эти чудные фантазии развлекут наше воображение.
– Хорошо, – сказали в один голос Беатриче и Джакомо.
Донна Луиза взяла книгу и готова была начать чтение. Но в эту минуту у двери показался монсиньор Гвидо Гверро.
– Добро пожаловать, наш милый Гвидо, – сказал Джакомо, протягивая ему руки.
В семействе Ченчи на Гвидо смотрели, как на родного, я считали его женихом Беатриче. Известие это переходило из уст в уста между римской молодежью, которая завидовала его счастью.
Гвидо весело подошел к Беатриче и хотел поцеловать ей руку. Но она вместо того, чтоб протянуть ему ее, встала с видом решимости и сделала ему знак, чтоб он последовал за ней. Затем она повела его в амбразуру окна, где широкая штора закрыла их от всех.
Они остались там одну минуту, и когда вышли из амбразуры один за другим, на лицах их было видно, что вместо того, чтоб теснее связать узы любви, они разорвали их навсегда. Одно слово Беатриче разрубило как ударом топора цепь любви, за которую они оба держались: пожав руку убийцы отца, разве она не делалась уже через то сообщницей преступления! Она так думала и так сказала теперь своему возлюбленному.
Пораженный Гвидо воспользовался каким-то предлогом, чтобы скорее удалиться, всячески стараясь скрыть свое горе. Донна Лунза заметила смущение молодого человека и, приписывая его одной из тех минутных ссор, которые только усиливают любовь, шутя заметила:
– Беатриче! Беатриче! берегись с такой легкостью отбрасывать червонного короля; помни, что от одной, необдуманно брошенной карты, иногда проигрывают партию.
Как только Гвидо завернул за угол, он встретил своего верного слугу, который шел впопыхах к нему навстречу.
– Монсиньор, – сказал он поравнявшись с ним: – преосвященнейший кардинал Маффео прислал губернаторского курьера с приказанием отыскать вас, где бы вы ни были, и вручить вам эти шпоры.
– Шпоры! и больше он ничего не велел сказать?
– Ничего; он сказал только, что кардинал, вернувшись из деревни, застал у себя во дворце монсиньора Таверна, с которым он долго оставался наедине, запершись в кабинете; потом он вышел, дал курьеру шпоры и велел скорей отвезти их вашей милости. После того он опять заперся в кабинет с монсиньором.
Гвидо призадумался; и, немного погодя, точно озаренный какою-то мыслию, воскликнул:
– Понимаю!
В доме Ченчи, после ухода Гвидо, все оставались еще несколько времени вместе, но никто не произнес ни слова. Детей отвели спать, и с их отсутствием воцарилось глубокое молчание, прерываемое только шелестом занавесей, едва колеблемых легким ветром. Всем хотелось разойтись, и ни у кого не доставало духу уйти первому; вдруг послышался глухой шум, который все приближался; наконец раздались шаги целой толпы людей и бряцанье оружия.
Дон Джакомо встал и с удивлением и со страхом направился к дверям, чтобы узнать, что это значило? Но едва успел он сделать несколько шагов, как двери с шумом открылись, и толпа сбирров наводнила не только комнату, в которой находилось семейство Ченчи, но и весь дворец. Некоторые остановились на пороге, с обнаженными шпагами, преграждая выход из комнат.
– Вы арестованы по приказанию монсиньора Таверна, – крикнул, подпершись руками в бока, маленький сгорбленный человечек, имевший в этом положении подобие крючка.
– За что? – спросил дон Джакомо голосом, который он тщетно старался сделать спокойным.
– Вы узнаете это в свое время и в своем месте, на допросе. А теперь с вашего позволения…
Последние слова были впрочем сказаны в насмешку, потому что он еще не кончил фразы, как уже обшарил Джакомо руками с головы до ног. Удостоверившись таким образом, что на нем не было ничего, ни даже ладонки, он спросил, как бы издеваясь над ним:
– Есть на вас оружие?… Признавайтесь, лучше будет для вас.
– Мне кажется, что вы удостоверились в этом своими собственными руками.
Другие в то же самое время, с таким же старанием и еще с большею настойчивостью, обыскивали Лукрецию и Бернардино, которые в страхе и слезах не оказывали ни малейшего сопротивления. Один наглый и пьяный сбирр попробовал было дотронуться рукой до груди Беатриче, но она предупредила его сильнейшей пощечиной. Товарищи его разразились смехом и один из них в виде утешения сказал ему:
– Женские пощечины не оставляют шрамов.
– Провались ты! Кошка царапает, – отвечал сбирр, стараясь обратить неприятность в шутку.
– Позорные люди, – сказала гордо, но без гнева, Беатриче: – не имеют права коснуться рукой до римской дворянки; я готова следовать за вами, куда прикажет монсиньор Таверна, но не смейте подходит ко мне.
В то же время другой сбирр, весь провонявший табаком, хотел обыскивать донну Луизу, которая сурово смотрела на него; но полицейский удержал его:
– Не трогай ее, Пьетро; о ней нет никакого приказа….
Дети, разбуженные шумом, плакали в соседних комнатах, и в особенности грудной ребенок кричал раздирающим душу голосом. Донна Луиза боролась между любовью к мужу и любовью матери; но последнее чувство взяло наконец верх и она направилась к двери детской, успокоить детей. Но сбирр загородил ей дорогу, подняв на нее обнаженную шпагу.
Донна Луиза посмотрела ему прямо в глаза.
– Не может быть, – произнесла она: – чтоб тебе было велено не допускать мать кормить своего ребенка. Но если какой-нибудь священник, чему я не верю, недоступный никакому чувству, дал тебе это приказание, то скажи ему, что он не служитель алтаря, а злодей; ты сам, если только ты способен исполнить подобное приказание, еще больший злодей, чем он; даже я, если б обратила внимание на вас, была бы преступницей. Прочь! дай дорогу матери, которая идет кормить грудью свое дитя. – И она, с видом полным решимости, отстранила рукой шпагу и прошла. Удивленный сбирр не посмел остановить ее.
Когда полиция сделала полный обыск, перерыла все вещи и все углы, не найдя ничего такого, чтобы следовало запечатать, полицейский дал знак, что пора отправиться.
– Куда вы вас ведете? – спросили все в один голос.
– Увидите.
Донна Луиза, исполнив долг матери, вернулась к мужу. Вида его совершенно убитым, она победила свою собственную тревогу и подошла к нему, чтоб ободрить и обнять его; но сбирр, пропустивший ее за минуту перед тем, точно жалея, что позволил себе поддаться на минуту чувству, стал между нею и мужем и с грубостью оттолкнул ее.
– Прочь! мы здесь не затем, чтобы смотреть на слезы.
Во дворе уже стояло несколько готовых карет с опущенными шторами; они вошли в них при зловещем свете глухих фонарей, окруженные со всех сторон толпою сбирров, и отправились к месту назначения.
Гвидо видел этот мрачный поезд; он узнал от сбежавшейся по этому случаю толпы, кого везли, и пораженный отчаянием, уже готов был открыться, если бы добрый слуга не удержал его изо всех сил за руку.
– Монсиньор, вы себя погубите, а их не спасете; оставаясь на свободе, вы можете быть полезным для них.
Он затаил в сердце своем отчаяние и отправился домой. Там он написал матери письмо, в котором извещал ее о происшедшем несчастье и о необходимости ему укрыться, не теряя времени, от поисков полиции; просил ее принять письмо это вместо прощального поцелуя и не терять надежды на более счастливое будущее; обещал писать ей и уверял, что, чтобы ни случилось с ним, после Бога, первая мысль души его будет всегда о ней. После этого он переоделся, захватил с собой сколько мог денег и вышел через потаенную дверь дворца, с намерением тотчас же оставить город. Дорогой ему попался навстречу отряд сбирров, который шел по направлению к его дворцу; они не узнали его, потому что он был переодет. Он понял, что опасность не шуточная, отпустил слугу и отправился к воротам Анджелико, осторожно выбирая самый извилистый путь. Увидев издали, что сбирры и полицейские тщательно обыскивают у ворот всякого, кто выходит из города, он вернулся назад и, бродя по темным переулкам Рима, перебирал разные пути для спасения, не зная, на чем остановиться. Вдруг глаза его остановились на слабом свете, выходившем из подвалов одного дворца. Он нагнулся и сквозь решетки окон увидел сидящих вокруг стола угольщиков[43], которые распивали и играли в карты, точно также как делали их отцы и будут делать внуки, не смотря на все завещания отца Матвея, апостола трезвости.
Гвидо вспомнил о хозяине гостиницы Феррата, о словах, которые тот дал ему, как лозунг, и спустился в подземелье к угольщикам.
– Да здравствует Сан-Тебальдо и всякий, кто чтит его, – сказал он.
Угольщики переглянулись в нерешимости. Но один из них, которому понравилась наружность Гвидо, ответил:
– Хвала вам; знайте однако, что труд угольщика велик, а заработок ничтожен.
– Св. Николай заботится об угольщиках и заработок увеличится.
– Карбонар живет в лесу и волки окружают его.
– Когда угольщики соединятся с волками, они пойдут вместе туда, где пасутся стада и займут комнаты пастухов.
– Дайте мне знак.
– Вот он. – И он поцеловал его в лоб, в рот и в грудь.
– Хорошо, вы из наших. Только мне одно кажется странным: наше общество состоит из людей отчаянных, соединенных бедностью и необходимостью защищаться против сильных, а вы? или, может быть и вас преследуют? Чего вы хотите? Какая помощь нужна вам? Но прежде всего пойдем со мною в более верное место.
Гвидо думал, что не расслышал, потому что нигде не было видно двери, через которую можно было пройти далее. Через минуту однако же он убедился в противном. Угольщики отстранили кучу угля и, подняв камень с полу, открыли еще одно скрытое подземелье. Угольщики и Гвидо спустились вниз и за ними тотчас опять закрыли отверстие и навалили на него уголья. В этом нижнем подземелья было сложено серебро и разные вещи, и лампада горела перед образом св. Николая, которого эти смелые люди чтили как своего патрона и который считался в то же время врагом сбирров. Угольщики были с незапамятных времен сообщниками лесных разбойников или их агентами в городе. А некоторые исполняли и обе обязанности разом.
Гвидо открыл свое сердце новому другу, посланному ему судьбой, представил ему всю опасность своего положения и просил у вето совета.
– Вам надо переодеться в наше платье, сказал ему угольщик: – обрить бороду и остричь волосы; мы вам вычерним лицо и тогда я поручусь, что вас никто не узнает.
Так и было сделано, и на другой день утром он вышел из города вместе с угольщиками, без малейшего препятствия.
* * *
Кареты с именами фамилии Чеачи остановились у той самой тюрьмы, на которую еще в этот самый день Беатриче смотрела с такою грустью. Выходя из кареты, она различила при свете фонаря мраморного Спасителя и, простерев к нему руки, воскликнула из глубины сердца:
– Боже мой, будь милостив ко мне!
Когда она обернулась, чтобы взглянуть на своих, их увели уже и между ними и ею была целая толпа вооруженных людей.
Ее повели бесконечными коридорами и лестницами в тюрьму, для нее предназначенную, с шумом заперли за ней дверь двойным запором, и она осталась одна в темноте, в холодном и сыром месте, настоящем аду для живущих на земле. Она не шевельнулась; не знала, куда ступить: ей пришли в голову рассказы, слышанные ею о западнях, посредством которых избавлялись от тех, кого не решались судить, как невинных или слишком могущественных. Ей стало страшно и она осталась неподвижной у стены.
Вдруг дверь с шумом раскрылась, и толпа грязных людей вошла с водою и матрацем. Люди эти не сказали ей ни одного слова в утешение и ушли такими же тюремщиками, какими и вошли, с шумом заперев за собою дверь.
Беатриче заметила, где стояла кровать, и ощупью направилась к ней. Она бросилась на постель, обессиленная, не имея в голове ни мысли, ни желания, находясь в состоянии какого-то бессмысленного спокойствия. Она легла, закрыла глаза, но не могла заснуть: ей давило сердце, и она ни чем не могла облегчить его, хотя слезы и лившиеся из её глаз медленно, одна за другою, как льется тонкая струя воды, просачиваясь сквозь камень. К довершению страдания, она всю ночь слышала стоны, которые делались все слабее и слабее, и ей казалось, что где-то читают отходную. Она не ошибалась: в соседней келье, в эту самую ночь, один несчастный заключенный перешел к лучшей жизни. Должно быть, неслыханная жестокость или ужасное тупоумие устраивали эти тюрьмы. Точно мало было всех тех страданий, какия приходилось испытывать несчастным, – еще десяток разных часов били каждую четверть: в двенадцать часов пробило сто шестьдесят ударов, и каждый отзывался в голове бедной Беатриче. От этого одного уже можно было сойти с ума! Беатриче спросила потом: зачем тут столько часов, ей спокойно ответили, что так приказал директор тюрем, который находит, что заключенные слишком скоро привыкают к бою часов и что продолжительный звон производит желаемое действие на нервы людей. Но истязания этим не оканчивались: только что сон на заре начал смыкать глаза Беатриче, после мучительной бессонницы, три колокола принялись звонить разом, и в то же время поднялся невыносимый скрип целых сотен задвижек, которые отдергивали и отпирали, стук стольких же дверей, открывавшихся с треском, и убийственное бряцание ключей. За этим следовало мрачное церковное пение, и потом опять задергиванье задвижек и запирание замков и бряцание ключей. Все это происходило в совершенной темноте. Бедная Беатриче недоумевала: ослепла ли она, или ее осудили на вечный мрак. Скоро впрочем она была выведена из сомнения. Стук над головой заставил ее вздрогнуть – слабый, серый свет распространился в тюрьме. Она вскочила в тупом испуге и, сидя на кровати, стала осматривать место, в которое ее заключили: это была комнатка в шесть шагов ширины и семь длины, с высоким сводчатым потолком, в котором было отверстие переплетенное толстою железною решоткою. Неба не было видно из этого отверстия, потому что оно выходило на чердак, освещавшийся с боку. От этого даже в самый ясный летний день туда проникал только слабый, серый свет[44].
Бедная Беатриче!
Потом ей принесли черного хлеба, прокисшего вина и вонючего супа, в котором плавали кусочки жиру и зелени и до которого она не в состоянии была дотронуться. Она попробовала еще раз посмотреть на лица тюремщиков, надеясь увидеть хоть тень участия и этих лицах. Но нет; в этой мрачной тюрьме всё походило одно на другое, лица людей и вся обстановка. Через полчаса после того, как удалились тюремщики, ключ опять заходил в замке, дверь открылась с обыкновенным шумом и в комнату вошел человек хорошо одетый, с серьгами из раковин в ушах, с расплюснутым носом и толстыми губами. Он внимательно осмотрел стены, пол и потолок, потом украдкой заглянул на Беатриче. Это был первый человек, в котором она заметила что-то похожее на участие. При выходе его из тюрьмы, она слышала слова:
– По совести нельзя назвать эту тюрьму здоровой; вдобавок, она темна. Переведи-ка второй нумер в девятый и поставь в комнату приличную мебель. Пищи давай ей сколько она потребует, разумеется, не выходя из пределов воздержания…. Ты понял? За неисполнение в точности приказа ты будешь наказан веревками, а может и того больше…. Понял?
Тут даже человеколюбие принимало вид жестокости. Беатриче поняла однако, что этот господин, который был никто другой, как директор тюрьмы, отдавал приказания громко для того, чтоб она их слышала и получила хоть некоторое утешение. Она в душе благословила его, не имея возможности показать иначе свою благодарность.
Беатриче была переведена по приказанию директора и имела своей новой келье кусок белого хлеба и луч солнца. С этим человек может жить или, по крайней мере, ждать, когда топор или пытка положит конец его существованию.
На другое утро ее повели на допрос. Комната, куда ввели ее, была огромная зала; в конце её на возвышении сидели судьи на черных стульях, перед столом, покрытым черным сукном. Над головой президента висело безобразное распятие из черного дерева. Оно, казалось, было повешено не для утешения, но для того, чтобы наводить ужас на несчастных подсудимых; такое выражение придал Христу грубый художник. На столе, перед президентом, стоял бронзовый Христос на кресте, на котором подсудимые и свидетели клялись говорить правду. Сколько раз этого самого Христа, раскаленного, подносили целовать тем, которых судили за ересь, и когда они с ужасом бросали его на пол, из этого выводили явное доказательство того, что они отступились от Христа и Христос от них.
В некотором расстоянии от места, где находились судьи, была толстая железная решетка, отделявшая другую половину залы. За решеткой стоял палач, окруженный всевозможными орудиями пытки.
Беатриче, в сопровождении вооруженных сбирров, была введена в залу, прямо к столу судей, так что она сразу не могла видеть этих страшных орудий. Присутствующие с пытливым любопытством смотрели на нее и, пораженные её божественной красотой, удивлялись, как может подобная испорченность души обитать в таком прекрасном теле! Это подумали все, кроме двоих, имевших храбрость считать ее невинною; и эти двое были судья Москати и палач, известный под именем мастера Алессандро.
Нотариус тотчас принялся спрашивать об её летах и звании; она отвечала без робости, но и без излишней смелости, – так, как должен говорить тот, кто сознает свою невинность.
– Произнесите клятву, – приказал Москати.
Нотариус взял распятаго Христа и, поднося ей, сказал:
– Клянитесь.
Беатриче приложила руку к распятию и произнесла с выражением полнейшей невинности:
– Клянусь перед образом божественного Спасителя, распятого за меня, говорить правду так, как я знаю ее и могу сказать; если б я не могла, или не хотела сознаваться, я не позволила бы себе давать клятву.
– Этого и ждет от вас правосудие.
– Беатриче Ченчи, – начал Москати: – вас обвиняют, и на это есть достаточные доказательства, в том, что вы в сообществе вашей мачехи и братьев, подготовили убийство отца вашего, графа Франческо Ченчи. Что вы имеете сказать на это?
– Это не правда.
Она произнесла слова эти так откровенно, в них видна была такая невинность, что им невозможно было не поверить; но судья Лучиани не верил и бормотал сквозь зубы:
– Не правда? вот как!
Москати продолжал:
– Вас обвиняют в том, что вы, вместе с поименованными лицами, дали приказание убить Франческо Ченчи разбойникам Олимпию и Марцио, обещая им восемь тысяч золотых дукатов, из которых одну половину выдать тотчас, а другую после совершения убийства.
– Это не правда.
– Вот мы сейчас увидим, правда или нет, – ворчал Лучиани.
– Вас обвиняют, и обвинение это ясно из процесса, в том, что вы подарили Марцио в награду за убийство красный плащ, обшитый золотом, принадлежавший покойному графу Ченчи.
– Это не верно. Отец мой сам подарил этот плащ своему слуге Марцио, перед отъездом из Рима в Рокка-Петрелла.
– На вас лежит обвинение, и этому есть ясные доказательства в процессе, в том, что вы велели совершить убийство девятого сентября тысячу пятьсот девяносто восьмого года; и это было сделано по настоянию вашей мачихи, которая не хотела допустить, чтоб убийство произошло восьмого сентября, в день Рождества Богородицы. Олимпий и Марцио вошли в комнату, где спал Франческо Ченчи, которому перед тем дали выпить вина с опиумом; а вы с Лукрецией Петрони, с Джакомо и Бернардино Ченчи ждали совершения убийства в соседней комнате. Когда убийцы выбежали из спальни перепуганные, вы спросили их: что случилось нового? На вопрос ваш они отвечали вам, что у них не хватает духу убить спящего человека; тогда вы стали выговаривать им этими словами: «Как! если вы не решаетесь убить отца моего во время сна, то как же у вас может хватить решимости убить его, когда он проснется! И за это-то вы получаете четыре тысячи дукатов? Так если трусость ваша такова, я сама своими собственными руками убью отца моего и вам самим не сдобровать». После этих угроз убийцы вернулись в комнату графа, и один из них вонзил ему кинжал в горло, между тем как другой вбил в левый глаз большой гвоздь. Разбойники, получив обещанную награду, уехали; а вы, вместе с мачехой и братьями, потащили тело несчастного отца вашего на балкон и оттуда бросили его на бузинное дерево. Что вы на это скажете?
– Милостивые государи! Я скажу, что допросы о таких ужасных зверствах могли бы относиться скорей к стаду волков, чем ко мне. Я отвергаю их всеми силами моей души.
– Вас обвиняют еще в том, что вы приказали Марцио убить Олимпия, из страха, чтоб он не выдал вас. Отвечайте.
– Могу я говорить?
– Даже должны; говорите откровенно все, что может уяснить дело суду и служить к вашему оправданию.
– Мне нечего говорить вам, что я не была воспитана для подобных ужасов; я буду говорить, как мне внушает сердце; вы извините мне мое незнание принятых в этих случаях обрядов. Мне едва шестнадцать лет; меня воспитала святая женщина, мать моя, синьора Виржиния Санта-Кроче и донна Лукреция Петрони, моя мачеха, известная своим благочестием; ни года мои, ни жизнь тех, которые окружали и наставляли меня, не могут заставить подозревать меня в ужасных преступлениях, которые на меня возводят. Обо мне, о моей жизни, вам легко узнать, расспросив моих родных, знакомых и многочисленную прислугу. Моя жизнь – это книга, состоящая вся из немногих страниц: раскройте ее, прочтите внимательно и вы увидите. Притом же мне кажется, что для того, чтобы судить основательно о действиях людских, надо подумать о побуждениях, которые могли руководить ими. Что же по вашему могло подвинуть меня на такое страшное преступление? Жадность к богатству? Но ведь большая часть имущества дома Ченчи есть майорат, который бы никак не мог достаться мне. Из доходов, аренд и проч., тоже по закону ничего не достается женщинам. Мне наконец осталось имение моей матери, которое, как говорят, составляет более сорока тысяч скудо и которое отец не в праве был отнять у меня; вы видите, что жадность не могла быть причиною. Я не отказываюсь, я даже сознаюсь, что отец наполнял горечью мою жизнь, и… но религия запрещает оглядываться назад и смотреть на отцовскую могилу для того, чтобы проклинать ее, и я не хочу говорить об этом; довольно вам знать, что для того, чтоб избавиться от постоянных преследований и жестокостей и сделать жизнь свою менее печальною, мне даже не было надобности прибегать к ужасному преступлению, в котором вы обвиняете меня. У меня не было недостатка в примерах, каким образом избавиться от преследований отца. Сестра моя Олимпия обратилась к святому отцу с просьбою и, благодаря его доброму сердцу, была обвенчана с графом Габриэлли ди-Агобио. Я также последовала её примеру и написала прошение к папе, которое передала Марцио для того, чтоб он представил его для подачи святому отцу.
– Уверены ли вы, что ваша просьба была представлена?
– Я не знаю. Я поручила это Марцио.
– Отчего вы дали Марцио такое важное поручение?
– Потому что отец держал меня в заперти, и кроме Марцио, к которому одному отец мой имел доверие, ко мне никого не допускали.
– Продолжайте.
– И даже, предположив, что природа одарила меня подобною жестокостью и что отец дал мне повод совершить такое преступление, зачем бы мне было прибегать к тому способу убийства, о котором говорил обвинительный акт? Зачем было прибегать к оружию, когда за восемь тысяч дукатов можно достать яду, который убивает, не оставляя никаких следов. Но что я говорю: можно достать яд? Меня обвиняют в том, что яд был у меня и что я влила его в вино с намерением усыпить отца: если бы так, то мне стоило бы только налить его больше, и он не проснулся бы. К чему же было прибегать к таким опасным мерам? К чему здесь разбойник? Зачем столько сообщников, которые часто бывают изменниками и всегда ведут к гибели? Наконец, какая нужда была тут в Бернардино? какой совет может дать и какую пользу принесет двенадцатилетний ребенок? Он мог только повредить. Если бы в семействе Ченчи был грудной ребенок, то и его бы притянули к сообщничеству в преступлении. Ведь дон Джакомо был в Риме в то же самое время, когда это несчастие случилось, и в этом он может представить явные доказательства. Господа! вы люди достойные и в подобных делах опытные, и потому вы не можете придавать никакой веры таким злостным выдумкам. Если у вас есть сердце и здравый ум, вы не только перестанете терзать мою бедную душу подобными обвинениями, не даже не захотите смущать моего рассудка, показывая ему возможность смешения подобных уродств!
Красота Беатриче, её чудный голос, искренность, с какою она говорила, подействовали на всех, и все с восхищением смотрели на нее. Даже нотариус Рибальделла перестал писать и старался не проронить ни одного её слова. Даже Лучиани в изумлении воскликнул:
– Как скоро выучиваются в школе дьявола!
– Я убеждаю вас, – сказал президент Москати, – исполнить вашу клятву говорить правду; потому что ваши сообщники уже сознались во всем во время пытки…
– Как! Из-за страданий пытки они не побоялись взять себе грех надушу и опозорить себя на веки? Ах! пытка не доказывает истины…
– Пытка не доказывает истины? – воскликнул в ярости Лучиани, который не в силах был удерживаться дольше. Он вскочил с места и, дрожа всем телом, сказал: – Ты скоро сама увидишь, имеет ли пытка свойство заставлять говорить правду…
Беатриче покачала головою и продолжала:
– Донна Лукреция, женщина пожилая, изнеженная, неспособная выносить страдания, могла сделать ложное показание для того, чтоб избавиться от пытки; Бернардино – ребенок, готовый от боли сказать всё, что хотите. Джакомо жизнь давно уже опротивела, и он не раз пробовал избавиться от неё. Вот люди, которых вы пытали, и вы воображаете, что открыли истину?
– Не эти одни были вашими союзниками, – прибавил Москати. Другие также сознались.
– Кто же это?
– Марцио.
– Хорошо; пускай Марцио придет сюда, и мы удивим, осмелится ли он мне в лицо сказать то же самое. Хотя мне пора бы считать людей способными на всякие ужасы, но я не поверю до тех пор, пока не услышу своими ушами.
– Вы можете удостовериться сами, – сказал Москати, указав на введенного в это время Марцио. Беатриче оглянулась.
Около виселицы стоял Марцио, или лучше сказать, тень Марцио. Тела на нем уже не было, одни кости да кожа; только стеклянные глаза показывали, что он жив, иначе его можно было принять за труп. Он попробовал сделать движение, чтобы броситься к ногам Беатриче, но не мог ступить ни шагу и упал плашмя, лицом на землю. Беатриче нагнулась к нему и протянула руки, чтобы поднять его.
– О, моя добрая синьора, вы все таки еще чувствуете жалость ко мне? – сказал Марцио слабым голосом. – О, синьора Беатриче, пожалейте меня, я очень, очень несчастен!..
– Марцио, зачем вы обвинили меня? Что я вам сделала, что вы решились вместе с другими опозорить мое доброе имя?
– Ах, я вижу теперь, что Бог наказывает меня за мою преступную жизнь.
– Обвиняемый, – вмешался Москати, – отвечайте: подтверждаете ли вы в присутствии обвинённой всё то, в чем вы уже сознались?
– Нет; всё, что вы меня заставили подписать, было не правда. Я был измучен пыткой и не знал, что делал. В смерти Ченчи никто не виновен, кроме меня и Олимпия, которого я убил. Олимпий нанес ему удар, от которого он умер. Мы вместе потащили его тело и бросили на бузинное дерево. Синьора Беатриче невинна, и все семейство невинно. То, что я сказал теперь – правда, и я клянусь в этом. В Неаполе меня заставили подписать фальшивое показание.
Кончив говорить, Марцио упал бы снова, если бы палач не поддержал его.
– Скажите мне, синьор президент, не думаете ли вы, что она заколдовала его? – прошептал Лучиани на ухо Москати. Этот последний с пренебрежением пожал плечами.
– Итак, вы продолжаете отказываться от ваших прежних показаний? – спросил Москати Марцио.
Марцио наклонил голову в знак согласия.
– Его надо подвергнуть окончательной пытке; другого средства нет, – сказал Лучиани с какою-то радостью.
Москати вынул платок из кармана и обтер пот с лица; потом, обратившись к нотариусу, сказал:
– Убедите его не отрекаться от своих прежних показаний… убедите его… иначе закон велит подвергнуть его окончательной пытке… убеждайте его…
Добрый президент говорил это голосом, прерываемым слезами. Нотариус убеждал Марцио, говорил ему, что иначе его будут пытать до смерти. Марцио не переменил своего решения. Он не мог уже говорить и только делал знаки головой. Лучиани с торжеством сказал, обращаясь к палачу:
– Начинай!
Мастер Алессандро взял Марцио, связал руки крестом за спиною; попробовал, хорошо ли ходит веревка на блоке, потом снял шапку и спросил:
– Со встряской, или без встряски, illustrissimo[45]?
– Чорт побери! разумеется со встряской, – отвечал Лучиани, выходивший уже из себя.
Остальные наклонили головы в знак согласия.
Мастер Алессандро с помощником подняли потихоньку Марцио. Беатриче склонила свою голову на грудь, чтобы не видеть ужасного зрелища; но потом какое-то невольное чувство заставило ее поднять голову. Боже! какой ужас! И она с криком закрыла лицо руками… Палач, подняв Марцио до верху, так что его вытянутые руки достали до перекладины, которая отстояла на шесть аршин в вышину от полу, взял в руку конец веревки и выпустил ее из рук. Марцио упал как гиря и повис на четверть от полу. Сотрясение было ужасно; слышно было, как трещали кости и разрывались мускулы. Глаза Марцио судорожно раскрылись, точно хотели выскочить из головы; он разинул рот с каким-то испугом и обнажил десны, по краям которых показалась кровь, Мастер Алессандро мрачно глядел на Марцио. Нельзя было отгадать: доволен он был мастерской встряской, или жалел о нем.
– Браво, мастер Алессандро! Подтяни-ка его еще раз, да хорошенько, – говорил Лучиани, опираясь обеими руками на ручки кресла и приподымаясь от удовольствия.
– Его больше нельзя поднять, illustrissimo: он уже умер.
– Как? как? он умер? – неистово закричал Лучиани. – Как он смел умереть, не взяв назад своего отречения? Попробуйте горячими щипцами: может, он еще и жив; положите-ка ему огня под подошвы, это отлично приведёт его в чувство.
И судья уже вставал со стула, как будто желая помочь палачу; но Москати удержал его за руку и с негодованием воскликнул:
– Вспомните наконец о достоинстве вашего звания! Кто вы, судья, или палач?
Но Лучиани высвободился от президента и, подбежав к калачу, который прикладывал руку к сердцу Марцио, с беспокойством спросил:
– Ну, что?…
– Я уже докладывал вам, что он умер.
Тогда Лучиани в бешенстве обратился к трупу Марцио, осыпая его ругательствами:
– А, негодяй! ты выскочил из рук моих!
Потом он подбежал к столу, у которого сидели судии, и обратился к Москати, крича как полоумный.
– Ну, господин президент, теперь надо ковать железо, пока оно горячо; надо воспользоваться страхом, который это зрелище должно было навеять на душу обвиненной, попробуем-ка, каким голосом запоет она, когда ее подтянуть кверху веревкой.
– Довольно! – строго сказал Москати; заседание окончено, – и он встал, чтоб уйти.
Беатриче, бледная как полотно, чуть не упала в обморок; губы её посинели, в глазах потемнело. Но через минуту она пересилила себя, подняла голову и храбро подошла к трупу Марцио.
– Несчастный! – говорила она. – Ты не мог спасти меня; но я прощаю тебе и молю Бога, чтоб и он простил тебя. Ты много грешил; но ты также много любил и много страдал. Ты жил преступно, но погиб за правду. Я завидую тебе… да… моя жизнь такова, что я должна завидовать умершим. Я ничем другим не могу показать тебе мое участие, как оказав тебе последнюю услугу, и я делаю это от всего сердца.
С этими словами она закрыла ему глаза, которые были страшно открыты и наводили невольный ужас.
– Теперь идемте в тюрьму, – сказала она обращаясь к тюремщикам.
Но у неё подкашивались ноги, и она с каждым шагом готова была упасть. Мастер Алессандро снял шапку и, стоя в почтительном расстоянии от нее, сказал:
– Синьора, я знаю, что вы не можете дотронуться до меня, дай Бог, чтоб и я никогда не дотронулся до вас: но вам нужна поддержка. Если позволите, я позову кого-нибудь такого, на кого вы сможете опереться без боязни…. Она родилась от дурного корня и в тюрьме, во несмотря на это, она тоже цветок, который может смело предстать перед мадонной… я позову вам свою дочь.
Палач взял свисток и издал протяжный звук. Через несколько минут явилась молодая девушка, прекрасная собой, во бледная как воск. Бедняжка! и она знала, что рождена была для несчастья.
– Виржиния, – сказал ей отец, – дай свою руку этой синьоре… она такая же несчастная, как и ты.
Беатриче с первого взгляда почувствовала расположение к этой девушке; но когда она услышала, что ее зовут так же, как её покойную мать, то грустно улыбнулась ей и, опершись на её руки пошла с нею в свою тюрьму.
Мастер Алессандро не без намерения дал Марцио эту ужасную встряску; он знал, что тот по крайней мере умрёт на месте.
Он сделал это не из злости, но из жалости. Для того чтоб этот несчастный умер скорей и меньше мучился, палач пожертвовал тридцатью скудо, которые получил бы за его казнь; а для палача это поступок не ничтожный.
Глава XX. Пытка
Президент Улисс Москати вышел из присутствия с сердцем, полным скорби. Его добрая душа, вследствие больших несчастий, недавней потери жены и любимой дочери, сделалась еще более способной сочувствовать бедствию других. Молодость Беатриче, спокойствие и искренность, с какими она говорила на допросе, подействовали на него. Он верил её исповеди, он был убежден, что она невинна. Он даже в тот же вечер отправился к папе, с целью высказать ему свое убеждение. Климент VIII чувствовал не менее его, что Беатриче невинна, но он знал также, что фамилия Ченчи обладает несметными богатствами, и ухватился за первую возможность истребить ее для того, чтоб завладеть её сокровищами. Результат посещения Москати был тот, что на место его был назначен президентом Лучиани, а Москати удалился в монастырь, где и окончил свою жизнь.
И вот, Беатриче опять перед судьями, но напрасно взор её ищет Москати. Она теперь в полной зависимости от зверского Лучиани, и глаза его блестят злобой.
– Обвиняемая! – начинает он, – вы слышали в прошлый раз, в чем вас обвиняют; хотите ли, чтобы вам прочли еще раз.
– Нет, не надо; это такие вещи, которые достаточно услышать один раз, чтобы никогда не забыть.
– Особенно, когда они совершены вами. Теперь я убеждаю вас сознаться, так как сообщники ваши уже сознались во всем и обвинили вас. Впрочем, в крайнем случае, правосудие может обойтись и без вашего сознания…
– В таком случае, зачем вы так настоятельно требуете его?
– Я настаиваю ради спасения души вашей. Как христианка и католичка, вы должны знать, что умереть, не исповедав своих грехов, значит погибнуть на веки.
– Меня удивляет, господа, каким образом забота о спасении ваших собственных душ может еще давать вам время думать о моей душе? Предоставьте всякому заботиться о самом себе. Если вы убеждены в моей вине, осудите меня, и только.
– Обвиняемая! Знайте, что дерзость, с которою вы говорите в присутствии ваших судей, может только ухудшить ваше положение, которое и без того уже довольно серьёзно. Я еще раз спрашиваю вас: намерены вы сознаться или нет?
– Я сказала всю правду. Ложного показания, которого вы от меня требуете именем Бога, в чьи руки я отдаю себя, вы не вырвете из меня ни мучениями, ни увещеваниями.
– Это мы увидим. А до тех пор надо вам знать, что мне удавалось справляться и не с такими умами, как ваш. Нотариус, пишите: «Во имя отца и сына и святого духа аминь. Повелеваем предать обвиненную пытке бдения (vigilia) на сорок часов. Назначаем присутствовать при бдении нотариуса Рибальделла на первые четыре часа; нотариуса Грифа на вторые, и нотариуса Бамбарино за третьи; и меняться им в том же порядке в течение всех сорока часов, если обвиненная не исповедает прежде своей вины».
Виджилией назывался табурет, вышиною около полутора аршин, шириною в четверть с небольшим, оканчивавшийся почти остроконечно; спинка была тоже с заостренным ребром.
Несчастную заставили сесть на этот острый табурет; ноги ей связали для того, чтоб она не могла дотрагиваться ими до полу и тем облегчать несколько страдание; руки завязали назад веревкой, которая спускалась на блоке с потолка. Около нее приставлены были сбирры, чтобы беспрестанно толкать ее в бока, притом она билась об острие сиденья и спинки. Палач мастер Алессандро, должен был каждые полчаса подымать ее на веревке и выпускать веревку из рук, для того чтобы мученица всею своею тяжестью падала на острое сиденье. Он исполнял только то, что ему было приказано. Слишком много глаз следило за ним; ему нельзя было бы ослушаться, да притом же у него было одно только средство обнаруживать жалость: это – избавлять людей от слишком долгих мучений и прекращать скорее их жизнь. Больше этого он ничего не мог сделать, а может быть и не хотел даже. Ему было доступно некоторое чувство сострадания, но ведь он был палач по ремеслу.
Я не стану говорить о грязных намеках, которые пришлось слышать святой девственнице от всех этих зверей с человеческими лицами, которые окружали ее, и больше всех от нотариуса Рибальделлы, в котором, как в зеркале, отражалась душа Лучиани. Этот последний являлся часто даже во время ночи и, взбешенный стойкостью молодой девушки, повторял всякий раз: «толкайте ее крепче, подымайте чаще»! Я не стану описывать её горячих слез, страшных мук, от которых ее обдавало холодным потом, частых обмороков и жестокого сострадания палачей, которые разными уксусами и спиртуозной солью приводили ее в чувство для новых, еще больших страданий. Нет, перо с содроганием отказывается описывать все эти ужасы, которые наместники Христовы поддерживали и распространяли с таким религиозным усердием. Я лучше буду говорить о сверхъестественной храбрости и стойкости необыкновенной девушки, которая несмотря на страшные пытки осталась при своем решении – скорее мученически умереть, чем опозорить себя сознанием в возведенном на нее преступлении. По окончании пытки ее почти полумертвую отнесли в тюрьму и уложили в постель.
Два дня ее не трогали. На третий день сбирры опять пришли за ней. Лучиани звал ее для новых мучений. Она просила дать время одеться: сбирры, понимая, что нельзя тащить ее полу нагую, согласились и вышли с условием, чтоб она поторопилась. Дочь палача помогала; одеваясь, она говорила ей:
– Слушай, сестра моя; ты знаешь, что меня зовут для новых мучений; я могу умереть во время пытки, как умер при мне бедный Марцио; а мне хочется оставить тебе память обо мне, моя милая Виржиния. Ты возьмешь себе все мои платья и вещи, какие есть со мною в тюрьме… возьми также этот крестик, он – моей матери; но с условием… если я останусь живою после пытки и буду иметь возможность дать тебе что-нибудь другое на память, ты мне отдашь его: мне хотелось бы быть похороненной с ним. Из этих фиалок, орошенных столько раз моими слезами и выросших под лучом солнца, косвенно и грустно пробивавшимся сквозь решетки этой тюрьмы, делай каждый день, на сколько их станет, букетик для образа мадонны, который висит над моей постелью. Да… послушай Виржиния… – при этом румянец покрыл её щеки, и она стала говорить тише; – ты, может быть, знаешь, что у меня есть… ах! нет… у меня был возлюбленный, прекрасный и добрый, я любила его… и он любил меня и может быть не перестал любить; но на земле нам никогда уже не соединиться!.. может быть на небе… Возьми этот образ и отнеси его кардиналу Маффео Барберини; скажи, что его посылает ему Беатриче для того, чтоб он отдал его своему другу, и пусть он скажет ему, что я перед этим образом молилась о нем…
– Да что вы собираетесь на свободу, что ли? Мы вас уже целый час ждем, – закричали сбирры.
Беатриче пошла. Виржиния не успела ответить ей ни одного слова; слезы душили ее. Она, плача и осыпая ее поцелуями, проводила ее до двери. Беатриче оглянулась, переступая порог, и увидела, как добрая девушка бросилась на колена перед образом, на который повесила её бриллиантовый крестик.
Когда Беатриче явилась перед судьями, бледная, измученная, с потухшими глазами, окаймленными синею тенью, то даже Лучиани старался сделать помягче свое зверское лицо и свой хриплый голос.
– Благородная девушка! – говорил он, – пусть Бог скажет вам, как сердце мое страдало от необходимости мучить вас; я сам не найду приличных слов, чтобы высказать вам то, что я чувствовал. У меня тоже есть дочери ваших лет, хотя и не такие прекрасные как вы; видя ваши мучения, я спрашивал себя: что было бы со мной, если б они испытывали то же самое? Долг судьи, чувство человека и сострадание христианина заставляют меня убеждать вас подумать о себе. К чему ведет ваше упрямство? Я уже сказал вам и повторяю еще раз: в процессе множество доказательств вашей преступности; сознание самих сообщников ваших обвиняет вас. Откровенной исповедью вы заслужите милость святого отца. Он более расположен миловать, чем карать. Ему дороже всего титул милосердного, и Климент своими деяниями хочет доказать, что он его достоин. Не вынуждайте меня, синьора Беатриче, прибегать к строгости; представьте себе, что муки, испытанные вами против моего желания, это удовольствие в сравнении с теми страшными пытками, которые правосудие оставляет для некающихся преступников.
– Зачем вы искушаете меня? – спокойно отвечала Беатриче. – Разве не довольно с вас того, что вы можете, как хотите, мучить все тело? А вы хотите еще унизить мою душу. Мое тело принадлежит вам… жестокая сила отдала его в ваши руки… мучьте его, сколько хотите, но душа – моя собственность, мне её дал мой создатель; и я не испугаюсь ваших угроз и не сдамся на ваши увещания; я скорее готова терпеть ещё большие муки, чем даже те, какие вы способны выдумать.
Глаза Лучиани прищурились от злости; он ударил руками во столу и заревел:
– Ad torturam… ad torturam capiltorum[46]!.. Где мастер Алессандро? Он должен быть всегда здесь, когда я председательствую.
– Он пошел по делу в Бакано и сказал, что вернется в течении дня.
– Так принимайся ты, Карлино; я тебя считаю за хорошего парня и надеюсь, что ты не осрамишься.
Помощник палача Карлино отвечал добродушно, потирая руки.
– Постараемся, illustrissimo.
Два сбирра схватили Беатриче, распустили её чудные золотые волосы, скрутили их, привязали к веревке и, с ужасной силой и быстротой подняли за них Беатриче. Но мы не станем описывать подробностей этой страшной пытки.
Лучиани, протянув руки на стол, начал кричать:
– Сознавайтесь…
– Я невинна…
– А ну-ка приподымите её ещё, дёргайте крепче… крепче… сознавайтесь.
– Я невинна.
– А? вы не хотите говорить правду? хорошо. Ad torturam canubis.
Карлино, повинуясь безпрекословно данному приказанию, обвертывает правую руку Беатриче в моток пеньки и скручивает моток изо всей силы, как прачки скручивают белье для того, чтобы выжать из него воду. Кости трещат, мускулы разрываются, кровь струится из жил. Президент Лучиани, не моргнув глазом, повторяет при каждой страшной судороге:
– Сознавайтесь в преступлении.
– О Боже! Боже мой!
– Я вам говорю: сознавайтесь.
– Отец небесный!.. приди на помощь невинному твоему созданию!
– Скрутите крепче и подымите ее еще раз на воздух… вот так… опускайте скорей, чтобы было сильнее сотрясение…
– О мать моя! мать моя! Глоток воды!.. я умираю… ради Бога, воды… дайте минуту облегчения…
– Что за облегчение? Сознавайтесь.
– Я…
– Скорей сознавайтесь?
– Я невинна.
Ярость Лучиани не знала меры.
– Стягивай еще… ломай ей кости, кричит он, дрожа всем телом, – покуда не выжмешь из нея сознания.
– О Боже! какое мученье… Я христианка… крещеная… Умираю! умираю…
– Сознавайтесь!.. созн…
Ужасный кашель, который казалось готов был задушить Лучиани, перервал его.
– Я невинна…
– Давайте бичовочки… сейчас пытку бичовочек!
Это была возмутительная сцена: все присутствующие желали окончания пытки; сами палачи выбились из сил; Беатриче не обнаруживала более признаков жизни.
– Бичовочки, говорю вам… бичовочки… – кричал Лучиани, прерываемый кашлем.
Перепуганные палачи стояли неподвижно, а злость душила Лучиани, и из его горла выходили одни неясные звуки. Палачи не могли себе представить, чтобы президент был в своем уме; пытка бичовочек состояла в том, что несчастнаго обматывали тонкими, режущими бичовками и стягивали ими до того, что в теле перерезывались нервы и жилы, и все тело превращалось в одну сплошную рану. Было ясно, что в том состоянии, в котором была Беатриче, она не смогла бы вынести этой пытки.
Но вот на пороге двери показалось багровое лицо мастера Алессандро. Он приостановился, окинул взглядом происходящую сцену, и хотя он был и палач, но и в нем как будто зашевелилось что-то; по крайней мере он никак не мог застегнуть свою красную куртку и руки перескакивали от одной петли на другую, не попадая на пуговицы. За исключением этого, лицо его ничего, что могло бы заставить подозревать в нем волнение. Он спокойно подошел к страдалице, внимательно осмотрев ее и потопал пульс; потом, оборотясь к Лучиани с нахмуренными бровями, которыя наводили ужас не только на осужденных, но и на самих судей, сказал:
– Illustrissimo, объяснитесь хорошенько, хотите вы, чтоб подсудимая созналась, или умерла?
– Умерла теперь? Боже упаси! Надо чтоб она созналась…
– В таком случае ее больше нельзя пытать сегодня.
Итак, в те времена палач подавал пример человеколюбия.
– Мастер Алессандро, – с негодованием отвечал Лучиани, – мне кажется, что я столько же, как и вы, знаю ваше ремесло, и…
Нотариус Рибальделла, который прилепился к Лучиани и основывал свою карьеру на его успехе, боясь скандала, наклонился к президенту и сказал ему что-то на ухо. Лицо Лучиани просияло.
– Остановите пытку, мастер Алессандро, – сказал он палачу, – и постарайтесь привести в чувство подсудимую. – Потом, обращаясь к судьям, он прибавил – почтенные товарищи мои, прошу вас подождать меня на ваших местах.
Сказав это, он вышел.
Через полчаса в коридоре, где исчез Лучиани, послышался звук цепей, и в открывшейся двери показались Лукреция, Джакомо и Бернардино Ченчи, убитые как люди, вынесшие уже много страданий, от которых они не успели оправиться. Лучиано следовал за ними, как пастух, который гонит скот в бойню.
С самого дня ареста Ченчи не виделись между собою. Но внезапно двери их тюрем открылись, и они, не зная, как и почему, очутились в объятиях друг друга.
Всякий поймет, какое утешение, и вместе с тем сколько горя было для несчастных в этом свидании, в котором они могли обнявшись плакать на груди друг у друга.
Когда прошли первые минуты радостной встречи, Лучиани, грызя себе ногти от нетерпения, начал говорить им о неимоверном упрямстве Беатриче, которое, по его мнению, было единственной помехой к окончанию процесса и удерживало папское милосердие, ожидающее только смирения и раскаяния преступников, чтоб излиться как вода под жезлом Моисея. Что касается до него, то ему несказанно тяжела была необходимость подвергать пытке Беатриче; теперь у него более не доставало духу продолжать пытать ее, пусть они помогут ему поколебать её упрямство. Он умоляет их, как, истинный друг и христианин, а не как судья. Они могут быть уверены, что у них нет более ревностного заступника и адвоката, как он.
Как легко обманывать тех, кто доверяется! Как охотно веришь тому, чему хочется верить! Несчастные так жаждут утешения, что Ченчи без труда вверились Лучиани, пообещавшему им даже не разлучать их более. Он вел их теперь поддавшихся обману и побежденных, и на лице его видно было торжество победы.
Когда бедные Ченчи увидели истерзанное тело Беатриче, которая не обнаруживала никаких признаков жизни, они разразились горьким плачем и стали на колени перед мученицей, целуя края её одежды… они не смели дотронуться до её истерзанных рук, боясь увеличить её страдания. Сердце сжималось при виде этих несчастных, обремененных цепями и коленопреклоненных в каком-то обожании вокруг лежащей без чувств девушки. Они долго оставались, в этом положении: когда Беатриче начала приходить в себя и, еще не открывая глаз, услышала жалобные стоны, то она подумала, что находится в чистилище, откуда душа делается достойною подняться на небо, но когда она открыла глаза и увидела около себя своих дорогих родных, убеждение это сделалось в ней окончательным. В радости она воскликнула:
– Слава Богу, я наконец умерла! – и, сказав это, закрыла глаза. На беду, сильные боли, мучившие ее нестерпимо, слишком ясно показывали ей что она жива. Открыв снова глаза, она произнесла голосом:
– Мои дорогие, в каком виде я вижу вас!..
– А мы, Беатриче, какою мы увидели тебя! О Боже! Боже!
Несколько минут спустя, Дон Джакомо встал, цепи его загремели и при звуке их он начал говорить:
– Сестра моя, я умоляю тебя Христом Богом сжалиться над собою и не отдавать своего тела на такие мучения. Сознайся в том, чего от тебя требуют, так же, как мы сознались. Что ж делать? Я не вижу другой дороги, чтоб избавиться от мучений и кончить жизнь одним ударом. Гнев Божий разразился над нашими головами. Я покоряюсь бичу, которым карает вас Бог.
Бернардино, рыдая, сложил, как для молитвы, свои детские ручки и говорил:
– Сознайся, ради любви ко мне, Беатриче: скажи то, чего требуют от тебя эти господа. Господин президент дал мне слово, что нас освободят и мы отправимся домой к собиранию винограда.
Донна Лукреция в свою очередь обратилась к падчерице:
– Дочь моя, возложи свои надежды на Матерь всех скорбящих, Она наградит тебя. Кто из нас может назваться невинным? Мы все грешны.
По мере того, как уговаривали Беатриче, глаза её принимали все более и более строгое выражение. Случайно взгляд её остановился на Лучиани, который весь сиял злобною радостью. Для неё все стало ясно. Негодование, досада и презрение наполнили душу Беатриче. Она чуть не вышла из себя, но удержалась и, уже успокоившись, начала говорить:
– Я с бесконечной скорбью узнала, что вы не в силах были выдержать мучений и из малодушия опозорили свое имя. Я не хочу упрекать вас. Но я спрашиваю вас: по какому праву вы хотите, чтоб я разделила ваш позор? Святые люди учили нас, что мы не можем располагать своею жизнью; как же мы можем брать на душу нашу преступление, в котором не виновны, и позорить наше доброе имя? Несчастные! И какую награду надеетесь вы получить за ваше малодушие? Вы, может, думаете спасти себе жизнь? Да разве вы не понимаете, что наш приговор произнесен уже прежде, чем убедились, виновны мы или невинны? Но с них мало нашей смерти, и они хотят еще нашего позора! Не старайтесь отнять у меня мой мученический венец; я ношу его с большей гордостью, чем если бы он был из драгоценных камней. В то время, когда все, что есть на земле, покидает меня, два ангела все больше и больше овладевают моим умом; один из них ангел невинности, другой ангел терпения и твёрдости; и велика, друзья мои, их власть надо мною, потому что они не только поддерживают меня во время страданий, но обещают мне, как только настанет им конец, – а это будет скоро, – поднять меня на своих крыльях к моему Создателю. Прощай земля, напитанная слезами и кровью! Луч небесных радостей нисходит на меня и уничтожает всякое страдание… о какое наслаждение, какое счастье я испытываю! ах, как сладко умереть!..
Она склонила голову на плечо и опять упала в обморок.
Тучи, покрывавшие до сих пор солнце, в эту минуту рассеялись, и оно озарило своими лучами Беатриче; её золотые всклоченные волосы как сияние окружали её чело, она была похожа на святую, озаренную ореолом божией благодати.
Все удерживали дыхание. Сам Лучиани почувствовал какой-то страх и душа его была почти готова растрогаться.
Из груди Беатриче вырвался вздох и она пришла опять в чувство; её родные, стоявшие на коленях вокруг неё, исполненные удивления, обожания и стыда, рыдая воскликнули:
– Беатриче… святой ангел… укажи нам дорогу, по которой мы должны следовать за тобою.
Беатриче приподнялась немного и, собрав все свои жизненные силы, произнесла громко:
– Умейте умереть!
– И мы умрем, – воскликнул дон Джакомо, вставая и потряхивая своими цепями перед самым лицом судей; – мы невинны: мы не убивали нашего отца; мы показали это в мучениях пытки и вследствие обмана, в который нас ввели по неопытности нашей.
Лицо Беатриче просияло от радости и голосом нежным, как благословение матери, она произнесла:
– Мученичество на земле отзовётся славой на небе: крепитесь и умирайте, как умирали первые христиане.
Лучиани без труда стряхнул с себя человеческое чувство, невольно овладевшее им и которое он считал искушением дьявола. Видя, что его новая попытка, вместо того чтобы принести желаемый успех, на который он сильно рассчитывал, привела к противоположному результату, он загорелся злобою.
– С вами мы скоро сведем счеты, – сказал он, обращаясь к трем Ченчи, – и увидим, окажетесь ли вы на деле такими храбрыми, как на словах. А теперь, мастер Алессандро, приготовьтесь передать подсудимую пытке del taxillo.
– Так ли я услышал, illustrissimo! Вы сказали taxillo?
– Да, taxillo. Что, разве это новость для вас, что ли?
– Нет, только я не был уверен, так ли я расслышал, – отвечал палач и пошел за таксилом.
Таксилом называли род клина, сделанного из пихтовой шишки, конусообразной формы, широкий к верху и остроконечный к низу, и пропитанный терпентином и другими горючими веществами. Дьявол в одежде доминиканского монаха изобрел в Испании эту ужасную пытку.
Мастер Алессандро разул левую ногу Беатриче, которая казалась произведением греческого резца, и сунул между ногтем и телом большаго пальца острую часть шишки. Братья Ченчи и Лукреция смотрели как потерянные на то, что происходило перед их глазами. Ужас охватывал их, но что за новая готовилась пытка, они еще не могли понять. Скоро, впрочем, они поймут, в чем она состоит. Палач взял маленькую свечку, зажег ее у лампады, горевшей перед распятием, поднес ее к ноге Беатриче и прикоснулся пламенем к смолистому клину, который с треском загорелся: пламя мгновенно охватило пальцы ноги.
То были страдания, выносить которые было выше человеческих сил; но, боясь расстроить родных и желая показать им пример того, как надо выносить пытку, Беатриче старалась побороть боль и молча вынести ее. Она закусила себе щеки с такою силою, что рот наполнился кровью, и таким образом превозмогла одну боль другою, только не в её силах было удержать дрожь, которая била её тело, и судорожные крики, которые исторгала страшная боль. Наконец из груди её вырвался отчаянный, пронзительный крик, порвавший, казалось, нить жизни, и голова Беатриче опустилась как у мертвой.
Даже заяц, доведенный до отчаяния, забывает свою трусость и кусается. Дон Джакомо, не колеблясь нагнулся и схватил зубами горящий клин; но кроме обжога самому себе, он не принес этим ничего страдалице. Тогда все они, не исключая и кроткой донны Лукреции, кинулись на Лучиани, готовые растерзать его своими зубами; они ревели, как дикие звери, и наружность их почти не имела человеческого вида. Как ни бессильна была их ярость, потому что руки их были скованы и решётка не позволяла им подойти близко к судьям, но Лучиани перепугался и, вскочив на ноги, поднял стул, чтобы защищаться. Он кричал из за него, как из за баррикады.
– Смотрите, чтоб они не разорвали цепей! Держите их! Ведь это Ченчи, – они способны растерзать человека!
Палач, пользуясь смятением, снял клин с ноги Беатриче.
Несчастных Ченчи удержали без труда. Лучиани, взволнованный и видя, что его товарищи и все присутствующие еще более его пришли в ужас, хотя по совсем другой причине, счел за лучшее прекратить на этот раз истязания, которые в те времена назывались допросами.
– Отведите их в тюрьму порознь, – кричал Лучиани с порога двери. – Посадите их на пищу покаяния…
Бесчувственная Беатриче была отнесена в тюрьму и отдана на попечение доктора, который, вздыхая, объявил, что подсудимая не может быть успешно подвергнута пытке ранее целой недели.
Глава XXI. Проспер Фариначчьо
– Введите его сейчас, – сказал Чинтио Писсеро, кардинал ди-Сан Джорджио, слуге, который доложил ему, что президент Лучиани настоятельно просит аудиенции у его преосвященства. Лучиани, сделав несколько шагов, остановился посреди комнаты, почтительно наклонил голову и оставался в этом положении, не произнося ни слова.
Кардинал опустил веки, чтобы скрыть радость, которою блестели его глаза, и медленным равнодушным голосом, предвестником неблагодарности, спросил:
– Ну, что делается? Что, кончен наконец этот знаменитый процесс?
– Ваше преосвященство, – отвечал Лучиани, опустив руки по швам, – вы видите на мне повторение истории Сизифа…
Кардинал, догадываясь ещё более по выражению лица Лучиани, чем по словам его, об истине, сбросил маску равнодушия и гневно спросил:
– Что это значит? Говорите без метафор, я не люблю их.
– Это значит, ваше преосвященство, что мы не смогли добиться никакого сознания от подсудимой Беатриче; и остальные Ченчи, увлеченные её примером, взяли назад свои показания.
– Но вы… вы сами, чего доброго, уж не разжалобились ли?
– Я! – воскликнул Лучиани таким тоном, как будто он услышал величайшую нелепость: – судите сами, ваше преосвященство. Пытка веревки, пытка vigiliae, canubbiorum, rudentium, taxilli, – я все их испробовал, без отдыха, одну за другой, – так что я сам подивился. Если б пытка длилась еще немного, то нам не пришлось бы больше и говорить о подсудимой и процесс был бы потерян. Я довёл её до обморока, который длился больше трех часов.
– И даже с taxillo она не созналась?
– Нет.
– Да из чего вы их делаете, эти taxillo – из масла, что ли?
– Ваше преосвященство, мы делаем их из пихтовых шишек, пропитанных терпентином. И все эти пытки я велел производить таким образом, что даже сам мастер Алессандро посоветовал прекратить их из боязни, чтоб она не умерла под пыткой.
– А что это за мастер Алессандро?
– Палач, ваше преосвященство.
Во всяком языке есть такие соединения звуков, которые особенно неприятно действуют на нервы людей, и слово «палач» принадлежит именно к подобным звукам. Кардинал сделал недовольную мину и с пренебрежением поднял голову, как будто хотел сказать; «с какой стати между нами замешался палач?»
Лучиани также точно мысленно отвечал: «с какой стати? очень понятно с какой, и твоя досада происходит оттого именно, что он замешался тут не так, как тебе бы хотелось. О! красный человек! ты сродни палачу не по одной одежде, а и по многому другому!»
– Но когда вы увидели, что строгостью ничего нельзя сделать, отчего вы не прибегли к кротости и нежности?
– Я все испробовал, ваше преосвященство; я даже рискнуть пообещать помилование (само собою разумеется, что я говорил это от себя, оставляя возможность вашему преосвященству и его святейшеству опровергнуть приговором мои слова). Я устроил так, что сознавшиеся родные её явились к ней в ту минуту, когда, казалось, она должна была быть обессилена страданиями; они со слезами умоляли ее сознаться, уверяя, что это единственное средство спасения. Всё было напрасно! Девушка эта, упрямая до невероятности, пренебрегла и мучениями, и ласками, и, вытерпев более, чем казалось силы человеческие могли вынести, среди мучений умоляла родных своих подражать её стойкости и взять назад свое сознание. – Как все это произошло, я и сам не знаю; не знаю даже, где я был и что со мной было в то время? только они послушались её и отреклись от всего того, в чем сознались прежде.
– Меня никто не уверит, что вы в этом деле действовали с тою ревностью, какой требовал самый род процесса и которой, по-видимому, должно было заслуживать выраженное мною желание.
– Право, ваше преосвященство, напрасно вы недовольны. Подумайте только, что…
– Ну, что же вы предполагаете теперь делать? – перебил с сердитым видом кардинал.
– Я пришел за тем, чтоб узнать мудрое мнение вашего преосвященства.
Они обменялись взглядами, из которых одних уже было видно, на сколько они ненавидели друг друга. Алчность и жестокость образуют вместе адский цемент, который сплачивает души злодеев до совершенного преступления. Злодейство совершилось, и соумышленники делят между собою добычу, ненависть и угрызения совести.
Когда совершится кровавое дело, кардинал возненавидит Лучиани двойною ненавистью: ненавистью обязательной признательности и ненавистью соучастия; Лучиани же возненавидит кардинала, потому что испытает его высокомерие и будет знать, что он злодей. Но и теперь уже их ненависть проглядывает сквозь нескрываемое презрение одного к другому и боязнь одного из двух.
Послышался легкий стук в дверь и вошел человек с докладом, что адвокат Проспер Фариначчьо просит позволения явиться к его преосвященству.
– Фариначчьо! – воскликнули в одно и то же время кардинал и Лучиани.
Кардинал подумал с минуту и сказал:
– Введите его. А вы, синьор Лучиани, потрудитесь подождать в передней наших приказаний.
Предоставляю читателю судить, с какими чувствами Лучиани вышел от кардинала после такого оскорбления своего достоинства. Как! он, президент, должен выйти для простого адвоката?
– Подите же, губите свою душу ради таких господ! – бормотал он сквозь зубы, уходя.
* * *
– Ваше преосвященство, – начал Фариначчьо, раскланявшись развязно и с достоинством кардиналу: – я прямо объясню вам причину, которая дала мне смелость беспокоить вас. Я пришел просить ваше преосвященство позволить мне взять на себя защиту подсудимых Ченчи, вместе с некоторыми из своих товарищей.
– Синьор адвокат, – отвечал кардинал, нахмурив брови, – подумали ли вы, о чем вы просите? Разве эти злодеи заслуживают чести вашей защиты? гнусность их преступления отнимает у них это право, и наконец, было бы странно исполнить вашу просьбу, когда процесс уже окончен.
– Ваше преосвященство, защита есть божественное право. Бог дозволил ее Каину, а кто лучше Его знал, что тот преступен?
– Это правда, но человеческое благоразумие нашло недостойными права защиты таких ужасных преступников. Скажите мне, господин адвокат, разве эти жестокие дети дали своему отцу время защищаться? Они даже не дали ему одной минуты (и это всего, ужаснее!) для того, чтобы примириться с Богом и спасти свою душу.
– Это так, ваше преосвященство, но есть причины, которые необходимо взять в соображение. Я не стану исчислять всех тех милостей, за которые я обязан признательностью его святейшеству и вам; не буду также говорить, с каким рвением я стараюсь, на сколько мне позволяют мои слабые силы, делать все, что могу для возвеличения вашего знатного дома; я исполняю простой долг благодарности, и об этом не стоит и говорить. Если я коснулся этого, то единственно из желания убедить ваше преосвященство, что если и этом случае и найдется советник, более заслуживающий доверия, чем я, то не найдется ни в ком такой же преданности. И потому мне хочется передать вам, что с некоторых пор в Риме распространялось мнение, будто это совершенно невероятное дело, чтобы Бернардино Ченчи, одиннадцатилетний ребенок, мог принимать участие в убийстве отца; еще менее верят виновности Беатриче (это была неправда, но он лгал с умыслом,) Беатриче, необыкновенная красота которой и мужество, с каким она перенесла самые ужасные пытки, возбудили к ней всеобщее сочувствие. Шепот клеветы из одного уха в другое распространяет молву, будто бы все Ченчи обвинены в преступлении потому только, что имеются виды на их огромные богатства; дворяне негодуют за то, что хотят уничтожить знаменитый род, который, как они говорят, происходит от древнейших римлян. Я думаю, ваше преосвященство, и многие разделяют мое мнение, что для того, чтобы не дать ни малейшего предлога к подобным наветам, необходимо предоставить подсудимым право защиты. Если б вы только слышали, какая ужасная клевета распространяется в народе! Вот что говорят: где же бедному ребенку защищаться против старых волков? или неопытной молодой девушке? Запуганные угрозами, окруженные предателями…
Кардинал, привыкший владеть собою, сохранял до сих пор наружное спокойствие и слушал Фариначчьо с приятной улыбкой, во при этих последних словах он не вытерпел, сердце его закипело злобой, и он с досадой воскликнул:
– Как осмеливаетесь вы подозревать подобные ужасы?
– Да это не я подозреваю, ваше преосвященство; эта клевета ходит по городу, и она еще не останавливается на этом. Говорят, будто сознание, вынужденное страшными пытками, не есть доказательство; что лучше уж было просто избавиться от всех от всех ночью посредством западни.
Кардинал жевал бумагу для того, чтобы сдержать свай гнев; но минутами пена показывалась по углам его губ. Фариначчьо, как человек проницательный, видел, что произвел впечатление, и продолжал.
– Мне тяжело, очень тяжело, ваше преосвященство, слипать все эти толки, и я никогда не решился бы передать из вам, если б не надеялся получить от подсудимых полного признания, которое опровергнет клевету и даст случай святейшему отцу показать свою милость и благодушие, которыми он, как блестящими лучами, наполнил свет.
– И вы точно надеетесь заставить их сознаться? – спросил кардинал с просиявшим лицом.
– Да, я надеюсь.
– Всех?
– Всех…
– Я боюсь, что вы берете слишком много на себя, синьор Просперо, потому что в этих преступниках упрямство равно злодейству; а вы понимаете, что двери милосердия могут открыться мольбе покаявшегося грешника, но никак не требованию гордого упрямца, Да притом, в этом деле доказательства так явны и их так много, что они победили бы неверие самаго апостола Фомы. Мы (и при этих словах глаза кардинала ядовито засверкали) не привыкли обращать внимания на молву черни. Разве орел когда-нибудь боялся ящерицы? В наших руках есть средства, которые укорачивают языки, и вы знаете, господин адвокат, что мы умеем употреблять их в дело.
Но тем не менее слова Фариначчьо не были сказаны даром, и кардинал, желая разгадать, какая причина заставила адвоката действовать так, сказал, что он передаст его просьбу папе; собственно же ему нужно было только время на размышление.
Фариначчьо на повороте одной из улиц открыл дверцы стоящей там кареты и, обращаясь к кому-то сидевшему в ней, сказал:
– Наше дело на верной дороге, ваше преосвященство.
Но прежде, чем продолжать рассказ, читателю надо узнать, что побудило Фариначчьо взяться за защиту несчастного семейства Ченчи. Накануне того самого дня, в который происходило описанное свидание, к Фариначчьо явился угольщик и объявил, что имеет переговорить с ним о важном деле.
Фариначчьо вежливо просил его сесть и приготовился слушать.
– Я буду говорить стоя, – отвечал угольщик. – Скажите мне, господин адвокат, слышали ли вы что-нибудь о процессе Ченчи?
– Я полагаю. Он перевернул весь Рим верх дном.
– И неужели в вашем сердце ни разу не поднялся голос в пользу этих несчастных!
– Сколько раз я слышал этот голос и теперь еще слышу его! Я даже скажу вам мою тайную мысль: исключительность обстановки, замена сострадательного и честного судьи Москати жестоким Лучиани, возраст подсудимых и многое другое заставляют меня подозревать в этом деле какой-то скрытый, ужасный умысел.
– В таком случае, скажите, пожалуйста, отчего же вы, который никогда не отказывали в своей помощи самым презренным людям, не идете защищать этих несчастных?
– Потому что, обсудив как следует это дело, я вижу, что тут сломаешь себе ногу. Я уже сказал вам, я боюсь в этом деле тайного преследования… и притом, всесильного! я боюсь, что это будет не правосудие, а судебное убийство; – я вижу, друг мой, или мне кажется, что я вижу правосудие вооруженным не мечом закона, но кинжалом бандита, и…
– Продолжайте, господин адвокат, – дрожащим и умоляющим голосом сказал угольщик, видя, что Фариначчьо не решался договорить:
Просперо подошел к двери и, уверившись в том, что она хорошо заперта, вернулся на свое место.
– Ходит слух, – продолжал он, – хотя я этому слуху не верю вполне, что так как Ченчи чрезмерно богаты, а племянники папы чрезмерно бедны и жадны, то ищут повода конфисковать имения Ченчи и передать их потом, под благовидным предлогом, в котором при дворе недостатка быть не может, бедным папским племянникам.
– Как! хотя бы для этого надо было казнить четыре невинные существа?
– Кардиналы носят красные платья для того, чтобы на них не видно было крови. Но скажите, ради Бога, кто вы такой?
– Вам не для чего знать, кто я, господин адвокат; все, что я могу вам сказать, это то, что нет несчастнее меня человека на свете. Неужели вы не возьметесь защищать это несчастное семейство?
– Во первых, вам надо знать, что защита отцеубийц допускается особенною милостью, но не предоставляется de jure по закону.
– И у вас достанет духу оставить на погибель этих несчастных, невинных как сам Христос?
– Неужели вы считаете их совершенно невинными? Против них столько улик.
– Я? я утверждаю, что они невинны… потому что… убийца графа Ченчи – я сам.
– Вы? Да кто же вы такой?
– Вы обещали не спрашивать мое имя. Я убил его этими самыми руками и готов бы убить его еще раз.
Угольщик рассказал адвокату всё, как было, передал ему все тайны семейства Ченчи, все поступки и слова развратного старика, также точно как добродетель и терпение его дочери, Беатриче.
Между тем Фариначчьо, слушая рассказ, старался всячески отгадать: кто могло быть это таинственное лицо? Одну минуту ему мелькнула мысль, что это Гвидо Гверро, но его он знал слишком хорошо, а голос и манеры угольщика не имели ничего похожего на Гвидо. Подумав, Фариначчьо сказал я.
– Если б я вам сказал, подите и откройтесь, сделали бы вы это?
– Если это надо сделать сию минуту, то мне и тогда будет казаться, что это не довольно скоро.
– Нет, нет! вы будете лишней жертвой, но не спасете ягненка от пасти волка. Любовь была так же гибельна для несчастной девушки, как и ненависть. Народ приписывает ей убийство отца для того, чтоб облечь ее в венец славы, папа – для того, чтобы завладеть её богатством… Трудное препятствие, – задумчиво говорил Фариначчьо, – слишком трудное!
– Синьор Просперо, не оставьте их, ради всего святого…
– И вдобавок, – продолжал Фариначчьо, не слушая его, – при дворе меня ненавидят и готовы смять пальцами, как хлебный мякиш, при первой возможности.
– При дворе есть лица, которыя будут за вас. Я знаю, что кардиналы Франческо Сфорца и Маффео Барберини будут готовы помочь вам…
– Это немного облегчает дело… А как же мне явиться к этим господам?
– Идите прямо к ним; вы их найдете уже приготовленными.
Но не смотря на это, Фариначчьо был в нерешимости, она видна была на его лице, так что угольщик умоляющим голосом, полным слез, продолжал:
– И теперь, когда вы знаете все, неужели вы оставите их погибнуть без помощи?
– А если я погублю себя вместе с ними?
– В доброе дело не должен входить расчет.
Все это говорилось с таким жаром, что Гвидо, забывшись, произнес последние слова своим естественным голосом, Фариначчьо, не в силах будучи удержаться, воскликнул:
– Вы – монсиньор Гвидо?!
– Я? я был им когда-то…
– О, Боже! как вы изменились, – сказав Фариначчьо, протягивая ему руку, которую тот пожал с чувством.
– Теперь, когда вы знаете мое несчастие… когда, вы сами плачете над ним, – неужели вы отпустите меня с моим отчаянием?
– Пусть будет по вашему. Идите и будьте спокойны. Все, что мозг может выдумать и язык произнести, будет употреблено в дело для оправдания тех, её кого вы просите.
– Я этого и жду от вас; в случае неудачи мы прибегнем к другим средствам. Вы увидите… не говорить ей обо мне…. или нет… говорите… дайте ей это кольцо, – оно внушит ей доверие к вам. Между нами кровь её отца, но я за неё пролил эту кровь… я люблю ее… и она не может перестать меня любить – мы связаны на веки и вместе с тем разъединены навсегда; наша любовь – это цветок, который сорвет смерть. – Кончив говорить, Гвидо расстегнул пояс и отдал его Фариначчьо, который не хотел его брать, но Гвидо настоял:
– Я не думаю деньгами отблагодарить вас за то, что вы делаете; благодарность моя кончится только с моею жизнью; но, отказывая мне в моей просьбе принять это, вы меня огорчаете; а вы знаете, что у меня уже и так довольно горя.
Оставшись один, Фариначчьо стал думать о необыкновенности всего, что слышал, и о бедствии, которое висело над головою несчастного семейства Ченчи; потом мысли его перешли к защите, и он мигом нашел, на чем ее основать, и к несчастью был убежден, что это лучшее средство было и единственное. Недостаток Фариначчьо, как адвоката, заключался именно в том, что он слишком быстро останавливался на какой-нибудь одной мысли, и уже ничто не могло его заставить переменить ее. Большею частью он выбирал удачно, но если он сразу ошибался, то уже не было никакого спасения.
На другой день Фариначчьо получил папское разрешение защищать семейство Ченчи. В этом первом успехе он видел хорошее предзнаменование и был вне себя от радости. Он тотчас отправился к адвокатам де-Анжелис и Альтери и упросил их взять вместе с ним защиту семейства Ченчи. Подмога, их была очень важна для него, потому что де-Анжелис, как адвокат бедных, пользовался большой популярностью в народе, а Альтьери, как человек знатного происхождения, был очень, уважаем дворянством. Они не оправдали сразу главной идеи, на которой Фариначчьо основывал свою защиту, но после долгих прений он убедил их, доказав, что на это дело надо смотреть как на безнадежное и идти на риск. На чем он основывал свою защиту, мы увидим после.
Глава XXII. Жертва
Беатриче лежала в своей тюрьме. Все тело её болело страшно, она не могла сделать ни малейшего движения без того, чтобы не испытывать невыносимых страданий, а между тем мысли её были поглощены душевными страданиями, которые для неё были во сто раз тяжелее. Она думала о своем возлюбленном. Судьба разразила над ними свою молнию и сломила их надвое как тростник. В её жизни не было теперь цели; умрет она, или останется жива, все равно, – Гвидо уже не может протянуть ей руку, чтоб удержать её на краю пропасти; еще менее он может протянуть её за тем, чтобы быть её мужем. Она уже более и не думает о жизни, бывшей для неё одним страданием: «Я уже стою одной ногой в гробу, – говорит она про себя, – а Бог простит мне мои грехи за мои страдания. Но он!.. простит ли его Бог? А отчего Ему не простить его? Бог всегда прощает того, кто кается от глубины души. А раскается ли он? Нет, он не раскается; он готов бы вновь сделать тоже самое… да, наверное; иначе он не любил бы меня; я на его месте сделала бы тоже самое. О! несчастная! несчастная! Боже, спаси мне его! После стольких страданий на земле, пускай у меня хотя будет утешение увидеть его в раю, обнять его, сжать его руку! его руку! Да, потому что Провидение изгладит из моих воспоминаний кровь, которою она была облита… Но, Боже, как моя душа страдает от всех этих сомнений! Я точно испытываю горечь второй смерти… О, если б около меня был какой-нибудь святой человек, который бы объяснил мне все, что меня тревожит?…»
– Синьора Беатриче, – произнесла Виржиния, высунув голову из за двери: – господин адвокат Просперо Фариначчьо желает говорит с вами.
– Со мною? Что мне до этого адвоката? Я его не знаю. А впрочем, пускай! их было уж так много! Введите и этого.
Фариначчьо вошел в комнату и остановился пораженный: как ни много он слышал о красоте Беатриче, но, увидя ее, он нашел, что слава её была ниже действительности. Исхудалая от вынесенных страданий, она казалась ангелом, сошедшим с неба: он подошел к ней молча, исполненный благоговейного чувства.
– Чего вы хотите от меня? – спросила она тихим голосом.
– Благородная девушка, я пришел к вам, движимый состраданием к вашему несчастью, но еще более по настоятельным просьбам того, который плачет горькими слезами… того, которого вы, может быть, в одно и тоже время ненавидите и любите… того, одним словом, который никогда не был так достоин вас, как в ту минуту, когда терял вас навсегда… Биение вашего сердца уже сказало вам, кто послал меня…
– Он? и он плачет?
– Плачет, и умрет от отчаяния, если вы не сделаете всего, чтобы помочь себе…. Но для того, чтобы вы мне доверились вполне, он поручил мне отдать вам это кольцо.
Беатриче взяла кольцо и, не сводя с него глаз, произнесла:
– И он открыл вам всё?
– Всё.
– Решительно всё?
Фариначчьо наклонил утвердительно голову вместо ответа.
– Ну, что же вы скажете?
Фариначчьо говорил ей долго обо всём, что мы уже знаем; представил ей, в каком положении находится процесс, и в заключение сказал:
– Я много думал и пришел к тому убеждению, что для вас самих и для ваших родных есть одна только надежда на спасение: для этого вы добровольно должны объявить себя виновной в убийстве отца….
Беатриче прервала его, вскрикнув от удивления: она в недоумении смотрела на него. Если это шутка, то в этом месте, в её положении было слишком жестоко так шутить. – Если это совет, то он казался ей таким странным и уродливым, что она подумала, что или адвокат, или она, потеряли рассудок. Фариначчьо, видя из выражения её лица, как она поражена, прибавил:
– Я понимаю, что совет мой должен казаться вам странным, но я вам объясню свою мысль.
– Как, – сказала Беатриче расстроенным голосом: – после тех ужасных страданий, какие я вытерпела для того только, чтобы сохранить свое доброе имя, – я добровольно должна опозорить себя и бросить это имя, как предмет ужаса и отвращения потомству!
– Благородная девушка, позвольте мне сказать вам то, что кажется невероятным, а между тем оно справедливо. Все убеждены, что вы убили того, которого нельзя более называть отцом вашим, не оскорбляя природы; одни это думают, имея в виду известные цели, и не потому, что они вас ненавидят, – совсем нет, но они слишком любят ваши богатства; другие верят этому потому, что любят вас, а их воображению нравится видеть в вас образец чистой девственницы, и они признают вас добродетельнее Лукреции, сильнее Виргинии[47]. Народ причислил вас к этим двум героиням и поклоняется вам; если бы кто захотеть разубедить его, он бы возненавидел его и не поверил ему. Если б я не на этом основал свою защиту, я бы и себя погубил, и вас не спас. Отклоняя от себя вину, вы никого не уверите, что не вы убили отца, – вы не спасете ни себя, ни того, который потерял вас потому, что слишком сильно вас побил; судьи считают все улики, собранные в деле, достаточными для того, чтобы признать вас убийцею, и закон дозволяет, при сознании соучастников, подвергнуть не сознающагося преступника пытке до смерти.
– Аминь; меня уж так много пытали, что кажется мне остается пройти небольшой путь. Притом умирать вовсе не так тяжело, как думают люди, – я могу вас уверить в этом, – я уже достигала дверей вечности, и не один раз….
– Нет, вам не следует умирать; подумайте только, что ваше желание большой грех; в глазах Бога одинаково грешен и тот, кто накладывает на себя руку, и тот, кто, имея возможность спасти свою жизнь, не старается свести ее….
– И я соглашусь жить и видеть, как содрогаются отцы при моем появлении! И я решусь сохранить жизнь для того, чтобы люди с любопытством и ужасом останавливали свои взоры на моем челе, читая на нем надпись: «отцеубийца!» О, нет! Я лучше желала бы исчезнуть совсем с земли, чтобы не оставалось даже и воспоминания обо мне!
– Да что вы думаете, что те, которые верят в ваше преступление, ненавидят вас и смотрят на вас с ужасом? Вы ошибаетесь. Покуда у людей, будет сердце, способное биться при имени добродетели, они будут возносить до небес целомудренную девушку, вынужденную совершить убийство, защищая свою непорочность, Чем теснее родственная связь, тем сильнее оскорбление и тем законнее защита. Придет время, когда пораженные удивлением люди преклонятся перед шестнадцатилетнею девушкой, которая вытерпела мучения свыше сил, человеческих и только, из любви к родным решилась пожертвовать и жизнью, и своим добрым именем. Выше этой жертвы ничего быть не может. Посмотрите на того, который принес себя в жертву роду человеческому (говорит Фариначчьо, указывая на распятие, висевшее над постелью Беатриче) – для спасения врагов свояк и притеснителей Он принял позорную смерть.
– Да, но Христос умер не опозоренным!..
– Кого же позорили более его? Ему предпочли Варавву; по сторонам его распяли разбойников….
– Разве я могу призвать Бога истины в свидетели лжи?
– Не смущайтесь этим. Не в порядке вещей принуждать обвиняемого приносить клятву, ставя его таким образом в необходимость или быть клятвопреступником, или вредить самому себе. Бог велит всякому защищать свою жизнь.
– Господин адвокат, вы поражаете меня, но не убеждаете: я не в силах спорить с вами…. но я чувствую…. тут во глубине сердца, что не на вашей стороне истина.
Едва произнесла она эти слова, как дверь тюрьмы открылась вновь, и в ней показались измученные лица мачехи и братьев, которые окружили постель Беатриче. Они не говорили ни слова, но лица их выражали мольбу, мольбу немую, плач сердца, не слышные слуху, но которые, содрогаясь, понимает душа.
Фариначчьо истощил свое красноречие; он понимал, что больше говорить было нечего, и с отчаянием в сердце ожидал успеха, почти боясь его в то же время. Долго длилось молчание, во все время которого Беатриче смотрела на распятие, положенное к ней на постель руками Фариначчьо. Потом она взяла его в руки, с благоговением приложилась к нему и унылым голосом, точно читала псалом над мертвым, произнесла:
– Если вы этого непременно хотите, пусть будет по-вашему. Ты, Господи, видишь все; если я поступаю дурно, прости меня за мое доброе намерение. – Потом, обращаясь к родным, она сказала: – что касается меня, то я думаю, что вам, несчастным, нечего ожидать спасения. – Судьба, преследующая нас, прекратить свои удары только над нашей могилой; она обратит свои шаги на другую сторону; когда прочтет на надгробном камне: «здесь погребены все Ченчи, казненные за свои преступления». Я не хочу отнять у вас надежду и молю Бога, чтобы моя жертва спасла нас. Но будьте, готовы ко всему я не надейтесь слишком много, чтобы потом не впасть снова в глубину отчаяния….
В эту минуту неплотно закрытое окно распахнулось от сильного ветра, и лампадка, горевшая перед образом мадонной, погасла. Случай этот произвел на всех присутствующих тяжелое впечатление, как дурное предзнаменование; одна Беатриче осталась спокойною и прошептала про себя эти два стиха Петрарки:
«Как пламя, вздутое беглым зефиром, Душа улетела к Всевышнему с миром».Ченчи плакали, и все лицо Проспера было в слезах: он закрылся обеими руками и, склонив голову, погрузился в раздумье, желая найти какое-нибудь другое, менее рискованное средство, чтобы спасти этих несчастных. Но он ничего не мог придумать, и тяжелый вздох вырвался из его груди. Душа его была полна радостной надежды, когда он входил к Беатриче, теперь он оставлял ее с разбитым и почти безнадежным сердцем.
– Ну, что вам удалось получить от этой упрямой головы? – спросил Лучиани адвоката насмешливым тоном.
– Она сознается, что для своей защиты вынуждена была убить Франческо Ченчи.
– В самом деле? Чорт возьми! Да вы творите чудеса, достойнейший господин адвокат! Если б вы согласились служить у нас, клянусь Богом, я готов бы был сжечь все орудия пытки обыкновенной и необыкновенной.
Фариначчьо был возмущен радостью этого мерзавца и с негодованием сказал ему:
– Господин президент, вспомните, что греки, когда одерживали победу над греками, вместо того, чтобы радоваться, приносили публичные очищения, а они были язычники.
– О! вы знаменитый ученый, оттого вы так и судите, а я иду по обыкновенной дороге и знаю, что крестьяне дарят яйца охотнику, который убьет у них лисицу. Значит, я верно отгадал? О, меня не проведешь, и это лицо святоши не обмануло меня нисколько.
Фариначчьо, который тем сильнее воспламенялся, что это с ним редко случалось, схватил за руку Лучиани и, вытащив его на балкон, указал ему на солнце во всем блеске его лучей.
– Если б вы могли из всех этих лучей сделать венец, он был бы недостоин добродетели этой божественной девушки.
Лучиани смотрел не на солнце, а на Фариначчьо и, смеясь, сказал ему:
– Я смотрю на эту колдунью совсем другими глазами, и это по двум причинам: вот это первая (при этом он снял шапочку и указал на свою лысую седую голову), а это вторая, прибавил он, расстегнув платье и показывая ладонку, висевшую у него на шее. Простившись с адвокатом, Лучиани поспешил со своими товарищами к несчастной Беатриче для того, чтобы получить её признание. Она объявила, что мачеха и братья совершенно невинны в преступлении, которое было сделано ею одною, без всякого приготовления, но в минуту защиты от насилия. Она рассказала всё, как было, поставив себя на место Гвидо.
При вопросе Лучиани, откуда она взяла кинжал, она смешалась и не сразу нашлась, что отвечать; потом сказала, что она постоянно имела его при себе, с намерением заколоть себя скорей, чем вынести бесчестие. Но при настояниях и допросах судьи она путала и, если б он хотел добраться до истины, то ей трудно было бы поддерживать свою басню. Но ему нужно было ее признание во что бы то ни стало, и он нашел, что тех показаний, которые он получил, достаточно для произнесения смертного приговора всем Ченчи. Он обязался перед кардиналом Сан-Джорджио это сделать, а потому и поспешил порадовать его доброю вестью. Казнь всех Ченчи была таким образом заранее решена, и только для проформы допущена была защита этих несчастных.
Глава XXIII. Суд
В зале, расписанной Рафаэлем, под бархатным малиновых балдахином, обшитым золотой бахромой, торжественно восседает на возвышении папа. Ступенью ниже сидят на табуретах четыре кардинала, в своих великолепных багряных одеждах; с одной стороны Чинтио Пассеро, кардинал ди-Сан-Джорджио, племянник папы и Франческо Сфорца, кардинал ди-Сан-Грегорио; с другой Пьетро Альдобрандини, кардинал ди-Сан-Николо-элле-Карчере, другой племянник папы и Чезаре Баронио, кардинал ди-Сан-Нерео; дальше в зале сидят кардиналы, и прелаты, отличающиеся между собою шапочками красными и лиловыми. Посреди залы, с права от престола, у большого стола, судебные следователи, и во главе их президент суда; против судей – генеральный прокурор с канцелярией и нотариусами; в конце стола – адвокаты подсудимых.
Швейцарцы в стальных касках и кирасах, с алебардами на плечах, стерегут залу и не допускают в нее любопытных, грубо отталкивая их с ругательствами. С давних времен предметом гордости и унижения итальянского народа служит это употребление правительством наемников из чужих стран, для поддержания своей дикой силы и для защиты своего деспотизма от заслуженной ненависти народа.
Котла все заняли свои места и по звонку воцарилась тишина, президент, с согласия папы, дал знак прокурору начинать.
Прокурор встал с своего места, отер пот с лица и начал свое обвинение. С казенным красноречием он привел все факты, которые мы слышали при допросах несчастной Беатриче, восхвалял добродетели Франческо Ченчи, говорил с ужасом о злодействе его детей, молодость которых делала это злодейство еще ужаснее, и кончил словами евангелия о древе, приносящем дурной плод, которое исторгается и ввергается в огонь.
После него говорили по очереди адвокаты де-Анжелис и Альтьери в защиту Лукреции и Джакомо Ченчи. Наконец дошла очередь и до Просперо Фариначчьо.
Он встал, закинув назад голову и, бросив грозный и пренебрегающий взгляд на прокурора, воскликнул:
– Вы осмелились описать Франческо Ченчи образцом, оставленным милосердием Божьим на земле, чтобы напоминать людям о золотом веке. Какое поношение! Франческо Ченчи вы выставили религиозным и верующим человеком? Да, он точно заказывал образа, но для того, чтоб издеваться над ними; он воздвигал храмы, но для того, чтоб осквернять их; для того, чтобы приготовлять в них заранее гробницы для своих детей и ходить каждый день молить Бога о ниспослании им скорее смерти. Франческо Ченчи вы сделали добродетельным? Он это доказал, когда, получив известие о смерти своих сыновей, сделал пир и, поднимая кубок, наполненный вином, клялся Богом, что если бы он был наполнен кровью его детей, то выпил бы его с большим благоговением, чем вино св. Евхаристии. Эти ужасы не выдуманы мною; они рассказываются почтенными прелатами и баронами, бывшими на этом страшном пиршестве. Кому не был известен этот человек? Вы все его знали и вы все знаете, сколько злодейств он сделал в свою жизнь. Если бы Франческо Ченчи не существовал, мы могли бы думать, что жизнь Тиверия[48] есть басня, выдуманная для того, чтобы пугать людей. Надо было родиться на свет старику Ченчи, чтобы доказать, что зверство Калигулы, Нерона, Домициана, Каракаллы и других извергов, которых Бог посылал на землю, как кару небесную, могут быть еще превзойдены. Вот каков был Ченчи, и если я оклеветал его, пусть его тень явится передо мной и скажет мне, что я солгал……………………………………..
– Перед нами труп с перерезанным горлом. Чей это труп? Отца. Кто убил его? Родная дочь, и она не бледнея созналась в этом. Кто же эта женщина с столь жестоким сердцем? Вот она: это девушка шестнадцати лет; её лицо кажется сделано руками ангелов для того, чтобы на земле сохранился образ чистоты небесной. Невинность может поцеловать ее в уста. Кротость говорит и улыбается её устами. Нет человека, который не восхвалял бы ее и не превозносил до небес; много горестей она утешила, много слез пролила от несчастий ближних. Что же могло подвинуть эту ангельскую душу на ужасное преступление? Жадность к деньгам? В шестнадцать лет дитя думает о деньгах столько же, сколько соловей, оглашающий своими песнями майские ночи; она думает о деньгах столько же, сколько бабочка, порхающая в лучах летнего солнца. В шестнадцать лет девушка – вся любовь к небу и природе. Но предположим даже, что она любит деньги, каким же образом корыстолюбие могло подвинуть ее к преступлению? Большое богатство, оставленное ей матерью, ни в каком случае не могло быть отнято отцом; если она надеялась ценою преступления получить свободное имущество отца, то она никак не могла получить их через его смерть: ненавидя всех своих детей, он и так намерен был лишить их всего; но он не отказал бы ей ни и чем, если б только она согласилась исполнить его неотступные желания. О заповедных имениях нечего и говорить, – они ни в каком случае, даже в случае преступления, отцеубийства или государственной измены, не могут выйти из прямого мужеского колена.
При этих словах папа опустил голову, и глаза его засверкали. Кардинал Сан-Джорджио, напротив, поднял свою голову и искоса взглянул на святого отца. Эти оба взгляда выражали одну и туже мысль:
– Надо этого сделать нашим….
– Мы видим труп с перерезанным горлом и с ужасом узнаем, что это отец, убитый дочерью: она сама в этом сознается: – меня также пробирает холод и зубы стучат от ужаса; но будем храбры, решимся вникнуть, кто был тот, который теперь превращен в труп. Завернув свое нагое тело в плащ, он открывает дверь в комнату, где томится его несчастная заклиненная им дочь; он подходит к её постели, она плачет во сне: для несчастной девушки даже и сон не друг. Богохулец, закрыв лампаду, горящую перед образом Пречистой Девы, отдергивает покрывало и обнажает женственное тело, которое должно быть святыней для отца. У кого из присутствующих здесь бьется отцовское сердце – пусть тот пойдет за мною и посмотрят на этого безбожного старика. С лицом сатира, весь дрожа отвратительным сладострастием, он сбрасывает плащ, простирает руки, – он уже дотрагивается до тела девственницы и…. Беатриче чувствует холодное прикосновение ящерицы… она просыпается…. что ей остается делать?
«Отцы, я повел вас смотреть эту ужасную картину, и повел вас не напрасно – отвечайте, скажите, какою бы вы желали видеть в эту минуту Беатриче?.. недостойною?… презренною, какою не захотела быть римская девственница, или несчастнейшею, какова она теперь? – Беатриче встретилась лицом к лицу с бедою: она схватила кинжал и спасла свое имя от позора. Сожалея об этой страшной решимости, мы в то же время должны удивляться и поклоняться мужественной девушке, которая в былые времена Рима удостоилась бы триумфа и которую нынешний Рим измучил в пытке; которой грозит постыдная смерть».
Фариначчъо говорил долго и красноречиво, приводил законы в доказательство того, что Беатриче заслуживает прощения, ссылался на разные случаи; но мы пропустим все это и перейдем прямо к заключению речи:
«Зачем её самой нет здесь – этой несчастной Беатриче? я указал бы вам на её тело, где кротость и невинность начертаны рукою Бога, и сказал бы вам: если в вас достанет смелости, кладите на нем клеймо позора!
Боже! пуст не будет сказано, что здесь, в Риме, в столице католического мира, куртизанке воздвигнута статуя в пантеоне, а, Беатриче, мужественной девственнице – эшафот, что бесстыдство заслужило божественные почести, а беспорочность – смерть. О! Если б я имел могущество Сципиона, к бы последовал его примеру и воскликнул бы: римская девственница, поборов слабость своего пола, победив всякий страх, сумела мужественно защитить свою непорочность; она добродетельнее Лукреции и счастливее Виргиния; её именем и примером должны гордиться латинские женщины; что нам оставаться здесь толковать о том: виновна она, или невинна? идемте, лучше, судьи, защитники и народ, в Ватикан благодарить Бога за то, что он хранил для наших дней эту необыкновенную девушку!»
Присутствующие были поражены до глубины души речью Фариначчьо, и если б не уважение к присутствию папы, или вернее, не страх швейцарских алебард, то зала, верно, огласилась бы рукоплесканиями. Когда речь кончилась, судьи удалились для произнесения приговора.
После долгого ожидания пронесся слух, что приговор будет объявлен только поздно ночью. Тогда все удалились, одни с надеждой, другие с боязнью в сердце, смотря по характеру, но все, моля Бога, чтоб он направил на истинный путь умы судей.
Фариначчьо, опьяненный успехом и похвалами, которые слышал со всех сторон, был уверен, что спас Беатриче.
В двенадцать часов ночи ему принесли пакет с папской печатью; дрожащими руками он распечатал его, в надежде найти в нем помилование семейства Ченчи, но ошибся. Это была папская грамота, делавшая его духовным советником священного римского судилища со всеми преимуществами, почестями и содержанием, присвоенными этому месту.
– Слава Богу, это не то известие, которого я ждал, но оно доказывает по крайней мере, что дело идет хорошо. Если бы его святейшество был недоволен мной, он не наградил бы меня так великодушно.
И Фариначчьо заснул убаюкиваемый надеждами.
В три часа ночи (итальянцы считают час ночи через час после захождения солнца) судьи собрались в прежней зале. Один только канделябр с темным шелковым абажуром горит посреди стола: все сидят кругом и тихо обмениваются между собою словами. Слабый свет едва освещает лица, и всякий трепещет, чтобы на нем не отразилось затаенное в глубине чувство. Однако место, время и слова Фариначчьо, которые, казалось, продолжали еще раздаваться, наконец сама совесть, по-видимому, располагают в ползу помилования. Вдруг председатель совершенно неожиданно бросил взгляд на бумагу, на которую прежде не обратил было внимания, прочел ее, и лицо его из бледного сделалось мертвенным: он дрожащею рукою передал ее своему соседу, который, прочит ее, передал другому, и так далее, пока она не вернулась опять к председателю. Дрожь и бледность, как электрическая искра сообщились от председателя всему заседанию: все неподвижно садят, склонив головы и устремив глаза на красное сукно, которым покрыт стол; всех гнетет одна и та же мысль: шея каждого как бы чувствует прикосновение и тяжесть секиры палача…. Прочитав бумагу, все словно окаменели. Да и было от чего: бумага эта содержала в себе набело переписанный смертный приговор всего семейства Ченчи. Приговор этот гласил: Лукреции, Беатриче и Бернардино отрубить головы, Джакомо голову размозжить; всех терзать горячими щипцами и четвертовать; все имущество конфисковать и пользу апостольской камеры.
Долго длилось унылое молчание. Только и слышно было, как песчинка падала на песчинку в часах, да иногда раздавался треск горящих свечей: молчание было мертвое.
– Итак, мои судьи все люди недостойные? – раздался внезапно чей-то голос.
От этого неожиданного голоса перевернулись все внутренности у этих бледных купленных людей. Откуда этот голос? Глаза не могут видеть того, кто произнес грозные слова, но в конце залы слышатся во мраке тяжелые шаги. Все вскочили на ноги и обратились в ту сторону, откуда шел единственный в Риме человек, имевший право войти в залу в такую пору; все угадали в нем Христова наместника, который также один только и мог произнести приговор к смерти.
Президент с отчаянием в душе взял перо: дрожащею рукою опустил его в чернила, которые показались ему кровью, дрожащею рукою подписал… но все таки подписал; за ним подписали все прочие и, подписав, разошлись. Климент VIII тяжелыми шагами сошел с своего трона, подошел к столу, протянул руку за приговором и спрятал его у себя на груди, вместо кинжала.
Глава XXIV. Исповедь
Папа держал у себя на груди смертный приговор, выжидая удобного времени, чтобы объявить его. Ропот народа доходил до его слуха в Ватикан, как рев волны в бурю; надо было повременить, чтоб он успокоился, и тогда уже привести в исполнение свой план.
Пока он искал удобного случая, сама судьба доставила ему такой, удачнее которого он и сам не мог ни пожелать, ни придумать. Паоло Санта-Кроче, родственник семейства Ченчи, тот самый которого мы видели в начале нашего грустного рассказа, не покидал ни на минуту намерения убит свою мать, донну Констанцию, и ожидал только удобного времени. Случай представился ему в то самое время, когда смертный приговор Ченчи был уже подписав и папа не решался выпустить его в свет. Бедная донна Констанция удалилась в Субиако для поправления своего здоровья. Узнав об этом, дон Паоло тайком отправился вслед за нею и безжалостно убил ее на дороге, нанеся ей несколько ударов кинжалам;, потом, забрав всё, что только мог, он бежал от правосудия и законов. Происшествие это навело ужас за всё римское население; послышался уже ропот другого рода: «где теперь безопасность, где спокойствие для родителей?», слышалось отовсюду. Подобный говор был слишком выгоден для тех, кому нужна была смерть всех Ченчи, и они конечно поспешили им воспользоваться и постарались усилить новое настроение народа. Страх и ужас увеличились еще больше, когда отец Заноби, из иезуитов, подымая руки и вознося очи к небу, со вздохом воскликнул в своей проповеди, что «в наши времена бедным родителям грозит опасность заснуть живыми и проснуться мертвыми».
Папа видел, что настало время объявить смертный приговор и он, призвав монсиньора Таверну, отдал ему приговор, говоря:
– Поручаю вам исполнение, как только вы найдете это возможным. – Вслед за тем он удалился в свой дворец за Монте-Кавалло, над предлогом посвящения нового кардинала, а в сущности для того, чтобы избавится от просьб, и боясь поставить себя в необходимость быть милосердным.
Что же делает Беатриче в то время, когда всё готовится для её смерти?
Она спит с улыбкой на устах, как в ту ночь, когда стон умирающего разбудил ее и когда этот умирающий был её отец, убитый у её постели.
О, если б этот сон мог быть вечным сном! Если б она могла проснуться уже в объятиях Бога, в райских садах, далеко, далеко от этой проклятой земли, где для неё были насаждены одни только страдания!
Она все еще спит; но улыбка покинула её уста и брови её сдвинулись. О чем она думает? Вспоминает ли она о своей любви? или скорее о жестокости отца? или о своих мучениях? Послушаем, она говорит:
– О, Боже, за что ты так строг ко мне? Что я такое сделала?
Она пошевелилась и цепи её издали пронзительный звук, который отдался под сводом тюрьмы и замер; но этот звук не разбудил ее; она стонет во сне. Перед ней предстал призрак, с чертами брата её, дон-Джакомо; он подошел к её изголовью и произнес: «вставай, наш час настал»!
«Куда нам надо идти»? – спрашивает она; призрак нагнулся, точно хотел сказать ей что-то на ухо, и в эту минуту голова его скатилась с плеч и, окровавленная, упала на простыню. Беатриче испустила отчаянный крик и проснулась.
Она проснулась и, приподнявшись, бросала вокруг испуганные взгляды. Ничто не изменилось в её тюрьме: лампада, как и прежде; горит над её изголовьем пред образом Божией Матери; дальше своей постели она не различает ничего; глубокая тишина царствует в тюрьме, а между тем в одном из углов две коленопреклоненные фигуры молят Бога о успокоении её души.
Она слышит шаги. Наконец из мрака отделяется чья-то тень; луч лампады упал на неё, и она видит перед собой почтенного капуцина, истомленного годами и постом. Беатриче с удивлением смотрит на это бледное лицо и не произносит ни слова. Старик поднимает руку и благословляет ее, произнося молитву, которая именем Отца и Сына и Святого Духа изгоняет нечистую силу.
– Батюшка! – сказала Беатриче, когда он окончил: – во мне никогда не обитала нечистая сила.
– Дай Бой, дочь моя, но она всегда летает вокруг вас, и потому надо быть всегда готовым устоять против неё. Хочешь, дочь моя, исповедаться? Я готов тебя выслушать.
– Завтра.
– Завтра! Зачем откладывать на завтра то, что можно сделать тотчас? Разве человек знает, что будет завтра?
– Но вы застали меня врасплох, я не приготовлена, – я проснулась испуганная страшным сном!..
– А разве смерть объявляет о часе своего прихода? Разве она не является неожиданно, как тать ночной? Христос сказал…
В эту минуту дверь тюрьмы со скрипом растворилась и при свете факела было видно, как вошли следственный адвокат и с ним два жандарма. Они подошли к постели Беатриче с мрачными лицами, не выражавшими впрочем ни злобы, ни сострадания. Адвокат начал так:
– Если бы, отложив извещение, я мог изменить вашу судьбу, я сделал бы это охотно. Но, увы! дела такого рода не в моей власти! Тяжелая обязанность заставляет меня прочесть вам… ваш приговор…
– Смертный? – воскликнула Беатриче.
Капуцин закрыл лицо обеими руками; все прочие опустили головы. Беатриче с отчаянием ухватилась за рясу монаха.
– О, Боже! Боже! – кричала она. – Возможно ли чтоб я должна была умереть? Я так недавно родилась, зачем хотят отнять у меня жизнь таким ужасным образом? Господи!.. Господи!.. что я такое сделала?! Жизнь! Да знаете ли вы, что такое жизнь в пятнадцать лет?..
– Жизнь, – отвечал ей капуцин, – это бремя, которое увеличивается с годами. Счастливы те, которые не родились для этой ноши; после них самые счастливые те, которых Господь Бог отозвал рано! Дочь моя, дочь моя! что ты находишь такого в своих прошедших днях, что бы заставляло тебя желать жить?
– Ничего, – поспешила сказать Беатриче, потом она задумалась; в памяти её воскресла одна блестящая точка, но в ту же минуту исчезла и остался один мрак. – Ничего!.. ничего!.. – произнесла она с невыразимою грустью.
– Так ободрись же! Оставим скорей эту трапезу, где в яство нам подается прах земли, а в питие – слезы…
– Но как же, отец мой, какого же рода смерть?… О, Боже! Боже!
– Провидение готовит тысячи путей для того, чтобы оставить жизнь, но только один чтобы в нее войти! Что такое столетия перед дуновением уст Божиих? Слава проходит, а с нею и время, которое её несет. На пороге вечности года – это песчинки, которых различить нельзя. Обрати взор свой на небо, дочь моя, и позабудь все земное.
– О! Смерть!.. – с содроганием произнесла Беатриче, и это роковое слово, пройдя сквозь уста, обледенило их: холодный пот покрыл её чело, дрожь пробежала по всему телу… она была почти без чувств.
– Помогите! Помогите! – воскликнула Виржиния и уже бежала за спиртом и солями, но Беатриче пришла в себя и сказала:
– Прошло. – Она отстранила это лба волосы, покрытые потом, и, обращаясь к присутствующим, продолжала: – Извините меня, господа; это была минута слабости. её не избежал даже сам Христос… простите же её мне, большой грешнице. Теперь вы можете исполнить ваш долг; я вас слушаю.
Беатриче выслушала смертный приговор с большим хладнокровием. Когда адвокат вышел, она обратилась к Виржинии и взяла ее за обе руки.
– Сделай милость выйди на минуту, моя милая. Ты видишь, что времени остается немного; завтра… а прежде чем умереть, я должна исповедаться. Ступай сестра моя, я позову тебя…
У Виржинии разрывалось сердце; она вышла, не сказав ни слова, да если бы и хотела говорить, то была не в силах. Беатриче устремила задумчивый взор в тот угол тюрьмы, из которого вышел её духовник. К удивлению своему она увидела там человека на коленях, закрывшего лицо руками; на нем также был плащ капуцина, и он стоял так неподвижно, что не казался живым существом. Зачем этот человек здесь? И кто он такой, что осмеливается присутствовать при исповеди?
Беатриче молчит в недоумении; духовник также не решается произнести ни слова. Она смотрит тона одного, то на другого, и чувствует, что не в состоянии проникнуть в тайну.
Этот коленопреклоненный человек был не кто другой, как Гвидо Гверро, несчастный жених Беатриче.
Он встал, шатаясь, сделал несколько шагов; потом остановился и зарыдал.
– Кто это плачет? – сказала Беатриче; – я не думала, что в этом месте можно найти душу безутешнее моей.
Этот голос был для Гвидо райской гармонией. Он не в силах был выдержать и, откинув назад капюшон, открыл свое горящее лицо, прекрасное как голова Корреджио. Молча и весь дрожа, он подходит к Беатриче: она узнает его и отодвигается со страхом; тогда и Гвидо делает шаг назад: ни этот несчастный любовник, ни молодая девушка не только не смеют произнести ни одного слова, но они даже боятся дышать; в этой тишине только слышен звук цепей, волнуемых дрожанием рук Беатриче. Она избегает и ищет его глаз; наконец взгляды их встретились. Она прочла в его глазах страшную историю страдания и любви, и в этот миг всё забылось, кроме любви. Покоряясь непреодолимому чувству, она бросилась к нему, хотела обнять его, но вдруг остановилась и зарыдала. Остальные плакали, глядя на нее.
Духовник не дал им произнести ни слова.
– Я запрещаю вам говорить, – строго сказал он. – Одно слово, вышедшее из уст ваших, может проивнести смерть и другому из вас и вечный позор мне. Вы связаны брачным союзом. То, что Бог соединяет там, человек может разлучить, но но разъединить. Теперь довольно, дети мои…
И он твердою рукою хотел разлучить их. Беатриче с покорностью повиновалась; но Гвидо с негодованием оттолкнул капуцина. Тогда последний с нежным упреком сказал ему:
– Так ты хочешь покрыть стыдом мою седую голову за то; что я имел к тебе сострадание?
Гвидо склонил голову и поцеловал железный наручник, который сковывал правую руку Беатриче, он увидел на ней кольцо, которое прислал ей через Фариначчьо, и прошептал что-то, чего она или не расслышала или оставила без внимания. Между тем духовник накинул капюшон на голову Гвидо, и, обняв его; силой вывел из тюрьмы. Духовник объявил подозрительным сторожам, что его товарищ, измученный продолжительным бдением, не мог вынести душераздирающего зрелища; и затем он сдал его на руки братьям мизерикордии[49].
Беатриче осталась, как вкопанная, не отрывая глаз от двери, в которой исчез Гвидо; ей казалось, что она всё это видит во сне; только звук цепей при малейшем движении показывал ей, что она не спит. Она невольно взглянула на наручник, где Гвидо запечатлел свой поцелуй, и увидала на нем слезы, в которых играл свет лампады; они блестели как бриллианты, и она со вздохом сказала:
– Вот свадебный подарок, который принес мне мой супруг.
Когда отец Анджелико вернулся в тюрьму, Беатриче спросила его:
– Куда он пошел теперь?
– В монастырь.
– Ах, как он несчастен!..
– Да, очень несчастен. Он не всегда остается в монастыре; но часто посреди ночи слышится легкий стук, и является Гвидо. Братия принимает и прячет его из человеколюбия и из благодарности за щедрые даяния, которыми монастырь обязан ему и его предкам. Он не требует и не хочет ни пищи, ни покоя; идет в церковь, становится на колени перед главным алтарем и проводит так целые часы на холодном мраморе; если б не слёзы, то можно бы подумать тогда, что он не жив. Ужасно несчастье человека, у которого одни слезы служат признаком жизни. Я думаю, что если бы у него был враг, и тот сжалился бы над ним, видя его горестное положение.
Так говорил монах, и его слова изглаживали из памяти Беатриче последние следы воспоминания о страшной ночи, в которую она увидела отца, убитого рукою её возлюбленного.
– Но где же он скрывается в остальные дни?.. Батюшка, когда увидите его, умоляю вас, скажите ему, чтобы он удалился из Рима, эта атмосфера гибельна для него; тут живут люди безжалостные, я испытала это на себе. Знаете ли, у кого во всём духовном Риме есть маленькая доля человеколюбия? У палача.
– Я скажу ему…
– И если он не будет соглашаться, то скажите ему, что это была моя последняя просьба.
– Хорошо. Теперь, дочь моя, время обратить мысли к небу: пади ниц на землю и знай, что чем больше ты унижена на земле, тем более будешь возвеличена на небе.
Беатриче открыла свою душу духовнику: ничтожные грехи, легкие ошибки, которые она считала важными, показали еще более чистоту её души. Монах, слушая ее, страдал за то, что тяжелая необходимость привела её к преступлению и обагрила её руки отцовской кровью. Беатриче замолчала, не обвинив себя в отцеубийстве. Зная слабости человеческие, духовный отец приписывал её молчание стыду и не только не винил ее за это, но воздал ей хвалу; он упрашивал её открыть ему все свои грехи и ничего не скрывать. Беатриче с полною невинностью отвечала ему:
– Все мои грехи, сколько я могла припомнить их, я исповедала; за те, о которых я невольно забыла, пусть Бог простит меня.
– Однако, подумайте… поищите…
– Я ещё постараюсь припомнить. – Духовник ждал; но так как её молчание длилось долее, чем он думал, то он приписал его уже не стыду, а скрытности, и с некоторым неудовольствием спросил:
– А Франческо Ченчи, чьими руками он был убит, скажите?
– Я не должна говорить о чужих грехах! – Она произнесла это с такою искренностью, что капуцин был поражен.
– Как, разве не вы убили его?
– Я? Нет! Я не убивала его.
– Зачем же вы обвинили себя в этом?
– Батюшка, я вынесла такие мучения, что одно воспоминание о них леденит мне кровь; и, несмотря на это, я была голова умереть на пытке, стоя за правду; но родные, друзья, защитники умоляли женя и тысячами доводов убедили меня взять на себя вину; они надеялись, что этим я спасу мать и братьев. Что же касается меня, то они были убеждены, что примутся в соображение насилия и варварства графа Ченчи и я буду оправдана. По правде сказать, эти доводы не вполне убедили меня и я устояла бы и против просьб; но мне казалась, что это будет жестоко в отношении к матери и братьям, я склонила голову и решилась пожертвовать своею жизнью и своим добрым именем для того, чтобы попробовать спасти их жизнь. Я предчувствовала, что погублю себя и не спасу их; я говорила это и вы видите, что я была права. Но что ж делать? Богу так было угодно, и да будет его воля…
– Но ведь вы под клятвой объявили себя виновной?
– Адвокаты уверили меня; что по божеским и человеческим законам не грех даже убийство для защиты своей жизни, а тем менее грех сделать фальшивое показание для того, чтобы спасти не себя от смерти; и я решилась ложно обвинить себя.
– О, софисты, софисты! разве в правде была когда-нибудь погибель!
– Я тоже так думала, но синьор Фариначчьо пользуется такою ученой репутацией, что я боялась быть слишком самонадеянной, не слушаясь его. Притом он был мне послан с тем, чтобы я вполне положилась на него…
– А кто послал его к вам?
– Гвидо… он прислал мне через него кольцо, которое должно было быть освящено у брачнаго налоя… – с грустью сказала она, и лицо её покрылось румянцем.
– Расскажите мне всё, как было, дочь моя: может быть, вы грешны более, чем полагаете…
– Но тайны Божьи, батюшка?…
– Тайны Божьи, – строго отвечал монах, – остаются погребенными в сердце духовника. Можно вырвать у него сердце, но не тайну.
Тогда Беатриче рассказала ему всё, не скрыв ни малейшей подробности. Монах, начинавший слушать с недоверием, мало-помалу перешел к совершенному доверию, видя это чистое невинное лица и слыша искренний, правдивый рассказ.
Когда она кончила, отец Анджелико воскликнул:
– Господи! Такой святой души еще не бывало на земле!
Потом, благословляя Беатриче, он сказал ей:
– Святая душа, я разрешаю тебя, потому что это моя обязанность, но я объявляю, что мне следовало бы пасть на колени перед тобою и просить тебя быть моею защитницею перед Богом. Какие молитвы могут быть скорее услышаны им, как не молитвы твоих чистых, непорочных уст? Моли ими Бога; я присоединяю мои мольбы к твоим, и они будут приняты в раю. Но я не о тебе буду молиться: тебе не нужны молитвы, но об этом несчастном городе и о спасении тех, которые приговорили тебя к смерти.
Беатриче на коленях перед образом Божией Матери молила и благодарила ее за то, что она так скоро отозвала ее из этого мира, и более всего за то, что удостоила ее увидеть еще раз своего Гвидо, который не мог быть её спутником на земле, но с которым она надеялась соединиться на веки в раю…
Тут она внезапно остановилась и почти с тревогой спросила духовника:
– Батюшка, скажите мне, Бог простит моего Гвидо! Удостоится он спасения своей души? Можно мне будет сжать руку, которая убила моего овца?
– Разве ты думаешь, дочь моя, что нам даны будут райские радости, если мы не отрешимся от всего земного! Для бессмертной души воспоминание о том, что она была в земной оболочке, должно быть не только горем, но даже стыдом.
– А все-таки, – со вздохом произнесла Беатриче, – я не желала бы забыть свою любовь, хотя она и была исполнена горестей…
После этого Беатриче с благоговением продолжала молиться, и отец Анджелико молил Бога, чтобы он дал этой невинной жертве с тем же терпением вынести свои последние страдания.
В это время на пороге тюрьмы показался один из членов братства мизерикордии и, подозвав отца Анджелино, сказал ему что-то на ухо, духовник подошел к Беатриче и спросил ее:
– Дочь моя, если вы желаете видеться с вашей матерью, это вам будет разрешено.
– О, да… бедная мать!.. мы вместе будем утешать друг друга.
Глава XXV. Приготовления к смерти
Я не стану описывать встречи Беатриче с матерью, их нежных объятий, горестных излияний и слез. Плакать вместе было уже для них утешением.
Но всему есть конец; и даже слёзы, это щедрое наследие Адама, истощаются. Наплакавшись и наговорившись, обе женщины замолчали. Их бедным сердцам нужен был отдых для того, чтобы иметь силы вынести новые страдания.
Глаза Беатриче невольно остановились на платье мачехи. Оно было из великолепного штофа с цветными букетами, отделанное богатой бахромой. Это заставило её обратить внимание на свой собственный наряд, которого она до сих пор не замечала. На ней так же было роскошное зеленое платье, обшитое золотом, то самое, которое она предпочитала всем другим и в счастливые дни своей жизни носила чаще всего.
В памяти её воскресло прошлое. Она вспомнила, что была в этом самом платье, когда в первый раз встретилась с Гвидо.
Но ей нельзя было останавливаться долго на этих сладостных и вместе тяжелых воспоминаниях. Конец близок, надо о нем думать. её мысли обратились к тому: прилично ли им в такой одежде идти на эшафот? Она обратила внимание матери ни это обстоятельство, и они решили, что им необходимо одеться скромнее.
– Виржиния, – сказала Беатриче, обращаясь к дочери палача, – достань нам, пожалуйста, какой-нибудь, простой материи для двух плащей, мне и моей матери, две веревки и два покрывала… Что ж ты не отвечаешь мне, Виржиния?
Виржиния чувствовала стеснение в сердце и почти не в силах была отвечать. Наконец, подавив в себе рыдания, она сказала.
– У меня есть кусок темного канифаса, а еще кусок лиловой тафты, которые отец купил мне на ярмарке в Витербо; я не шила себе из них платья… потому что мне приличнее всего быть не замеченной… чтобы меня никто не знал… хотите ли вы взять их!..
– Охотно, моя милая, и ты не откажешь взять от меня денег на платья, не такие мрачные, как это?.. Ну, а что же нам делаеть с веревками и покрывалами?
– Веревки есть у моего отца, а покрывала поставляют братья мизерикордии… – Виржиния заплакала.
Беатриче приложила руку к сердцу, как бы желая удержать скорбь, которою оно было переполнено, и сказала:
– Хорошо, тем меньше нам остается о чем заботиться. Ступай, Виржиния, торопись, ведь наши часы сосчитаны…
Виржиния вернулась с кусками материи, и Беатриче, не теряя времени; принялась кроить. Она держала один конец, Виржиния другой, и ножницы скользили, быстро разрезая нитку.
– Посмотри, Виржиния, как легко режется эта нитка…. жизнь наша – ведь тоже нитка. Поди, милая, помоги мне шить, на живую нитку разумеется; и так будет довольно крепко. Если б мне надо было жить столько, сколько выдержит этот шов, право и тогда даже я не согласилась бы.
Все три женщины принялись за шитье, но Лукреция и Виржиния мало подвигались вперед; они больше проливали слез, чем делали стежков.
– Чего вы плачете? Верьте, друзья мои, смерть бывает горька только потому, что боятся умирать: сама же по себе смерть – право, не горе.
Так проходили последние часы жизни Беатриче; она утешала всех и с полным хладнокровием ожидала смерти, заря которой приближалась. Наконец, на востоке показалась розовая полоса, обещавшая римлянам золотое, ясное утро. Сердце Беатриче невольно сжалось и храбрость готова была покинуть ее. Она опустила голову, и свет лампады, падавший на пол, напомнил ей, где искать мужества.
Она встала, пала на колени перед образом Матери всех скорбящих и горячо молилась. Обе женщины последовали её примеру. Они еще не кончили молитвы, когда в тюрьму вошел помощник палача с бритвою в руках. Холод пробежал по телу Беатриче, когда она увидела этого человека, но она тотчас же успокоилась и, обращаясь к нему, сказала:
– Говорите, зачем вы пришли. Мы ко всему готовы, только торопитесь, потому что наши минуты сочтены.
– Ваше сиятельство…. вы знаете обыкновение…. волосы….
– Волосы! – воскликнула она и вынула гребень из косы. Её чудные золотистые волосы рассыпались и покрыли ее всю. – Вот мои волосы; что вы хотите с ними делать?
– Ваше сиятельство верно знает обычай.
Он не кончил, но она догадалась, в чем дело, и сказала:
– Всякой силе принадлежит какое-нибудь право; право топора состоит в том, чтоб его ничто не задерживало, когда он рубит. Режьте скорей.
И коса её упала на пол под острием бритвы.
Беатриче стояла, как убитая, глядя на разбросанные по полу волосы. Слезы показались на её глазах; она не в силах была удержать их и они полились по лицу; это было последнее унижение, какое могла испытать женщина, и как капля воды в полном сосуде, оно переполнило чашу страдания. Эти волосы составляли её гордость и лучшее украшение; их воспевали поэты, уподобляя волосам Вероники; эти волосы амур приглаживал крылом своим, а теперь они валяются на полу, отрезанные рукою палача!
Беатриче наклонилась, собрала их, но их было столько, что одной руки её было недостаточно, чтобы захватить всю косу, и она держала ее обеими руками.
– Подруга всех моих несчастий! – сказала она: – я надеялась, что ты сойдешь в могилу вместе со мною. Но Богу и этого не было угодно.
Потом, отделив от косы один локон, она бросила остальные волосы в камин: Через несколько минут от этих великолепных волос осталась только не большая кучка пеплу.
– Тебе, Виржиния, я вручаю эти волосы, – сказала она, разделив локон надвое. – Если когда-нибудь ты встретишь молодого человека чудной красоты, с русыми кудрями и с печатью несчастья на лице… ты его легко узнаешь, потому что все страдальцы имеют общее сходство: когда я тебя увидела в первый раз, я тотчас узнала в тебе сестру по страданию…. так если ты увидишь его…. (она шепнула ей что-то на ухо) отдай ему эти волосы; другую половину оставь себе. Я могу оставят тебе денег, и драгоценностей, и платьев, и оставлю их тебе, но то не будет часть меня самой; я знаю, что ты несчастна, сестра моя, и если б я могла изменять твою участь, Богу известно, с каким наслаждением я это сделала бы. Но так, как это невозможно, то желаю тебе по крайней мере возможного благополучия; и если тебя ожидают горькие дни, желаю, чтобы смерть была тебе отрадой. Прими мой последний, нежный поцелуй, сестра моя….
Глава XXVI. Дочь палача
Виржинии казалось, что все внутри её спёрлось; она не могла говорить и, насколько хватало сил, удерживала слезы. Чтобы не упасть без чувств к ногам Беатриче, она воспользовалась минутой, когда та обратилась к капуцину, и вышла из тюрьмы. Когда она вышла во двор, ее ошеломило свежим воздухом как обухом; голова её страшно кружилась, ноги подкосились, она зашаталась, хотела удержаться об стену, но не могла и с воплем упала на землю. Братья мизерикордии, неотлучные здесь во всякое время и всегда готовые исполнять малейшее желание осужденных, подняли ее с земли и, узнав в ней дочь палача, отнесли в её комнату; они полагали, что свежий воздух был причиной дурноты бедной девушки, привыкшей к духоте своего заточения. И действительно, кому бы могло придти в голову, что сердце дочери палача способно разорваться от сострадания?
Отец её к тому времени был уже на ногах и занимался отправлением приятной обязанности: точил топор. В то самое время, когда вошли братья мизерикордии, он пробовал ногтем, удачно ли он исполнил свое дело.
– Мастер Алессандро! – обратились к нему вошедшие: – вашей дочери дурно; уложите ее в постель и постарайтесь привести в чувство.
Сказав это, они медленно удалились; кто из них, ухаживавших даже за преступниками, захотел бы расточать свои заботы порождению палача?
Исполнителям правосудия платят, но их ненавидят, на какой бы ступени они ни стояли. Мы им бросаем кость и затем выталкиваем их. Даже принявшие на себя отправление долга благотворительности думают, что уже довольно сделали, когда подобрали на полу упавшего замертво человека из этой касты.
Алессандро поднял дочь, осмотрел ее и, полагая, что это не более, как легкий обморок, поставил топор в угол и отправился искать куриных перьев, чтобы зажечь их и дать ей понюхать. Но когда это простое средство не помогло, то он принялся брызгать ей в лицо уксусом. Она и от этого не пришла в чувство, к крайнему испугу отца. Он посмотрел на все пристально… Те же багровыя пятна, та же запекшаяся, окровавленная слюна, которую он видел у Марцио, умершего во время пытки, – отец увидел их теперь на своей дочери… Он ударил себя кулаком по голове и бросился бежать к двери с воплями: «спасите! помогите!» Едва он очутился на лестнице, как сиплый и грубый голос позвал его снизу:
– Эй! Мастер Алессандро! поворачивайся! бери топор и отправляйся проворно в Toppe-ди-Нонна, – там тебя давно ждут.
– Не могу…
– Вот что хорошо, так хорошо! Просто стоит новехонького червонца прямо из чекана! Разве ты смеешь говорить – можешь ты, или не можешь? Ты и душою, и телом продался тем, кто отдает тебе приказания…
– Не могу! не могу! Пусти меня, я бегу за лекарем?
– Что за лекарь? Какой там лекарь! В твоем ремесле лекарь лишний… Тебе следует отрубить сегодня же четыре головы…
– А если я не пойду? Если я тут же брошу вам и свою жизнь, и свой топор, и скажу: мерзавцы, такие же, как и я, – еще больше; чем я, потому что в вас не одна злость, а со злостью еще и хитрость. Добейте теперь сами топором тех, кого вы сперва убили вашими перьями… У меня умирает родная дочь, а вы не пускаете меня даже сбегать за помощью!.. У меня нет ничего – решительно ничего, что бы мне напоминало, что я человек, кроме этой несчастной, дорогой дочери – и вы у меня отнимаете право помочь ей? Если она, моя Виржиния, умрет, не все ли мне ровно тогда: быть самому казненным, или казнить других? Если я спасу Виржинию, я уйду с нею далеко от вас – в пустыню, на необитаемый остров… Лучше я буду питаться пищею диких зверей, чем вашим хлебом, сделанным из яда и человеческих тел…
Говоря это, он вернулся в комнату за топором и швырнул его оттуда изо всей силы на лестницу, разражаясь проклятиями.
– Вот тебе, блюститель благонравия! Возьми, отнеси этот топор своему господину и скажи ему, чтоб он вперед уже прямо этим пером и писал свои приговоры… Я бросаю свое ремесло. Пускай примет его от меня, если хочет, ваш судья…
Посланный подскочил от удивления, слыша такие речи, и хорошо сделал, потому что иначе топор перебил бы ему ногу, летя вниз по ступеням. Придя в себя, он обратился к сбиррам и велел силой тащить палача.
– Вчера он, мошенник, получил за казнь вперед деньги, да еще сверх того сто червонцев на эшафот, тележку, щипцы и всё, что нужно… Что ж он теперь бредит о теперь о каких-то дочерях? Если его дочь умрёт – её похоронят: для палача и это уже много. А ведь исполнителю закона прежде всего следует самому исполнять закон…
Хорошо, что мастер Алессандро заблаговременно избавился от топора, – иначе теперь целая река крови потекла бы по лестнице. На площадке однако и без того последовала порядочная свалка: с обеих сторон сыпались сильные кулачные удары. Палач отбивался от целой ватаги сбирров, рычал, упрашивал и расточал во все стороны побои.
– Дайте мне сперва помочь Виржинии, а потом я отрублю голову хоть самому св. Павлу! Дайте помочь дочери! моей дочери! Да что же вы в самом деле хуже волков, что ли? Я ведь умоляю вас – сделайте это хотя из жалости, из сострадания к бедной невинной девушке! Когда вы мне попадетесь под руку – обещаю вам за это снять ваши головы так, что вы и не почувствуете, клянусь вам честью почетного палача!
– Он с ума спятить! У тебя умерла дочь – ну и радуйся! Меньше кур – меньше и корму! Уж не приберегал ли ты ее в невесты какому-нибудь маркизу?
Побежденный не силою убеждения, но числом и силою убеждавших, мастер Алессандро принужден был сдаться. Ему связали руки и вытолкали на улицу, сопровождая бранными криками и насмешками над его приступом неожиданной отеческой нежности.
Он с отчаянием взглянул на окно комнаты, в которой его принудили оставить беспомощную дочь, или, лучше сказать, с нею оставить свою душу. Он готов был зарыдать, но удержался, видя насмешки не только одних сбирров, но и целой толпы народа, сопровождавшей его. Уста палача не произнесли желания Калигулы, хоть в глубине души он, верно, пожелал, как тот, чтобы весь римский народ имел одну голову, которую можно бы отрубить одним ударом топора. По дороге ему попался кто-то из братьев мизерекордии; он часто видел этого человека при исполнении истинно христианских обязанностей благотворительности. Он сделал ему знак и умоляющим голосом сказал:
– Христианин! всею, сколько есть в вас, любовью к Иисусу Христу умоляю вас: ступайте в Корте-Савелла и окажите помощь моей умирающей дочери!
– Я сегодня не дежурный, мой милый, и у меня много дела в банке; обратитесь к кому-нибудь другому.
Сказав это, он прошел мимо.
Немного погодя попался навстречу священник церкви св. Симеона. Палач обратился к нему и в голосе его было еще больше мольбы:
– Батюшка, моя дочь, моя единственная дочь, умирает. Ранами Господа нашего умоляю вас, окажите ей помощь!
Священник искоса посмотрел на него таким взглядом, как будто тот просил его сходить и дать причастие волку, и ответил:
– Ты шутишь, сын мой?… Это дело женское, а не мое…
Повернув за угол, он наткнулся на существо, более похожее на зверя, чем на человека, – босое, грязное, полунагое и едва опохмелившееся от пьянства, пролежав двадцать восемь часов замертво. В народе отозвали Отре. Он был полудурачок. Если какой-нибудь гражданин, возвращаясь домой поздно ночью, натыкался на что-то мягкое, отвечавшее ворчанием за толчек, то он отходил в сторону, не смущаясь ни сколько, и только бормотал сквозь зубы: «это Отре». Его считали таким гадким, низким существом, что почли бы за обиду животному уподобить ему Отре! Однако ж к нему обратился со своею просьбою бедный мастер Александро. Отре тупо и с испугом посмотрел на наго и закричал:
– Вина! вина!
– Поди, брат, помоги моей дочери и я одену тебя с головы до ног…
– Вина!
– Да дам я тебе вина, сколько хочешь! поди в дом, помоги Виржинии и потом выпей там все мое вино.
– Твое вино? нет… оно смешано с кровью. Я не хочу твоего вина…
И он прошел мимо, ворча что-то сквозь зубы.
Глава XXVII. Завещание Беатриче
Подойдя к отцу Анжелино, который на коленях и закрыв лицо руками, молился и плакал перед образом Божией Матери, Беатриче положила руку на его плечо и сказала:
– Батюшка, сделайте мне милость, попросите сюда братьев мизерекордии. Я желала бы им и вам передать мои последние просьбы.
Через минуту отец Анжелико ввел в тюрьму братьев мизерикордии. Капюшоны их были спущены на лицо и только два отверстия были оставлены для глаз.
Беатриче обратилась к ним с следующими словами:
– Братья во Христе! Я не могу выразить мою благодарность за те благодеяния, которые вы оказывали мне, как страждущей, – могу только молить Бога и молю его, чтоб он наградил вас так, как вы того заслуживаете. Но и хочу просить вас еще об одном благодеянии, вас и святого отца, духовника моего. Я сделала свое духовное завещание; и, так как я боюсь, что трибунал не допустит его исполнения, то я прошу вас всеми силами ходатайствовать перед папой и испросить его согласия на то, чтоб мое приданое было употреблено так, как я изложила в завещании. Прошу вас также заказать двести панихид за упокой моей души, из которых сто прежде похорон и сто после. Для этого прошу вас принят эти сорок пять червонцев – все, что я имею при себе, а если этого недостаточно, то вы потрудитесь обратиться к моему душеприказчику Франческо Скарпезио, который вручит вам нужные деньги. Я желаю, чтоб Андрей, Людовик и Асканий, солдаты, которые во время моего заключения оказывали мне сострадание, были щедро награждены Пускай это покажет им, что сострадание к несчастным не только на том свете, но и на этом вознаграждается, и пусть это побудит их быть сострадательными к тем, которые после меня будут находиться в этом месте отчаяния. Виржинии, – она служила мне с любовью более, чем сестринской, и утешала меня в самые тяжелые минуты, – я оставляю, кроме того, что назначено ей в завещании, все платья, белье и золотые вещи, какие есть со мною в тюрьме. Но где же Виржиния? Что значит, что её не видно?
Она обвела глазами тюрьму и, не видя своей покровительницы, продолжала:
– Бедняжка! У нее не достало духу быть свидетельницей тому, что суждено мне вынести. Бедное дитя! она по всему достойна была бы получить от неба или другую душу, или другое положение! Я не знаю желать мне или нет ее увидеть, но если я не увижу ее, передайте ей мой нежный поклон и скажите ей, что я надеюсь увидеть ее в раю. Когда это сердце перестанет биться, – прибавила она, приложив к груди руку, – похороните меня в церкви Сан-Пьетро-ин-Монторио: туда солнце посылает свое первое приветствие и хотя мертвые не чувствуют тепла и не видят света, но все же есть утешение, умирая, знать, что твою могилу будут освещать лучи солнца. Вот мои последние просьбы, братья во Христе, не откажите исполнить их и молите Бога за меня грешную.
Глава XXVIII. Помилование
Просперо Фариначчьо спал крепким сном. Вдруг он неожиданно был разбужен треском разбитого стекла и камнем, упавшими к нему в комнату. В то же самое время послышался на улице мрачный голос:
– Вставай! в то время, как ты спишь, всех Ченчи ведут на казнь!
Фариначчьо вскочил с постели и кинулся к окну. Заря едва занималась; на улице никого не было видно; только издали слышался тот же голос, повторявший горестное известие.
– Всех Ченчи ведут на казнь, а ты спишь?
Фариначчьо пришел в бешенство; наскоро оделся, бросился в карету и поскакал в тюрьму Корте-Савелла; там он услышал подтверждение того же и полетел в Квиринал.
Взбежав по лестнице, через две и три ступени разом, он достиг, передней и, обратясь к камерариям[50], вопросил их доставить ему доступ к святому отцу, по очень важному делу, не терпящему отлагательства.
– Дело идет о жизни или смерти. Ради Бога, торопитесь! Боже мой, никто; не двигается с места!
Один камерарий, взяв его с большою медленностью за руку и держа его перед собою, насмешливым, но вполне вежливым тоном сказал ему:
– Достойнейший господин адвокат, да будет вам известно, что его святейшество еще почивает.
– Да ведь я знаю, что святой отец встает очень рано.
– Могу вас уверить, что папа еще спит, – подтвердил другой камерарий.
– Святой отец еще не вставал, потому что не мог сомкнуть глаз во всю ночь, прибавил третий.
Фариначчьо выходил из себя. На его счастье в эту минуту вошел в переднюю папский камердинер с чашкой шоколада; он направлялся прямо к двери папских покоев.
Камерарии стали делать ему знаки, чтоб остановить его, но тот не понимал их, заявил:
– Я вас не понимаю; вы только-что звали меня так, как будто сделались светопреставление: «скорей шоколад! Его святейшество давно встал!» а теперь удерживаете меня!
– Тебе приснилось; мы даже еще не слышали его звонка. Его святейшество еще спит.
– Если вы не слышали звонка отсюда, то я вас поздравляю. Я слышал его издалека.
В эту минуту послышался нетерпеливый звонок.
– Я вам говорил. Пустите же меня! когда его святейшество взбесится, ведь мне первому придется отдуваться.
Камердинер, растолкав прислугу, подходил уже к двери. Но в эту самую минуту, Фариначчьо, пробившись вперед, выхватил у него из рук чашку, открыл дверь и вошел в комнату папы. Камердинер разинул рот от удивления и не знал, что и думать, когда святой отец сделал ему знак, чтоб он удалился.
Поставив на стол поднос с чашкой, Фариначчьо стал на колени и поклонился в ноги папе Клименту, говоря:
– На коленях прошу прощения у вашего святейшества.
– Встаньте….
– Нет, ваше святейшество! позвольте мне остаться в этом положении, оно идет к моему отчаянию.
Он ждал, что папа спросит о причине его отчаяния, думая из голоса его заключить, на что можно надеяться и чего бояться; но папа оставался молчалив и непроницаем, как гранитный сфинкс. Просперу пришлось продолжать самым плачевным голосом, какой когда либо приводилось слышать папе:
– Голос, роковой голос разбудил меня сегодня. «Вставай несчастный! – кричал он – пока ты спишь, всех Ченчи ведут на казнь». – Я не знаю, ваше святейшество, откуда взялся этот голос: из рая, или, скорей, из жилища духа тьмы….
– Отчего вы думаете, что это голос злого духа? Устами дьявола не говорится правда.
– Так, значит, голос говорил правду? Святой отец! молю вас, помилуйте! Не дайте пролиться невинной крови. Рим, с тех пор, как он существует, не видел еще такой страшной трагедии.
– Как невинных? Разве они не сознались сами в совершенном преступлении?
– Но лишь моей вине! – отвечал Фариначчьо, ударяя себя кулаком в грудь, – по моей вине, по тяжкой вине моей! Я уговорил невинную Беатриче взять на себя преступление. Она была готова умереть на пытке, стоя за истину; я же заставил ее переменить намерение; я уверил ее, что, взяв вину на себя и оправдав других, она спасет и их и себя: их, как невинных в убийстве, себя же потому, что она была поставлена в необходимость защищаться от насилия. Она не соглашалась, утверждала, что лучшее средство невинному говорить правду и одну только правду! О, святые слова, внушенные ей самим Богом! Но я убеждал ее именем добродетели; говорил ей о величии самопожертвования; по моей просьбе родные окружали постель, где она лежала с изломанными костями, вся измученная вынесенными пытками; мы вместе на коленях, со слезами, уговаривали ее и не оставляли ее до тех пор, пока она не согласилась назвать себя преступницей. Я обманул ее, я причиной её смерти! – с отчаянием восклицал Фариначчьо. – Сжальтесь, святой отец, помилуйте их! Если она умрет по моей вине, моей отчаянной душе нет будет надежды на спасение.
– Не приходите в отчаяние от этого, мы сумеем найти для вас дорогу в рай.
– А от моей совести кто сможет меня спасти?
– Ваша совесть.
Слова эти, произнесенные с чувством невыразимого презрения, как огонь упали на голову Фариначчьо. Он поднял глаза, чтоб видеть лицо Климента, и лицо папы Климента показалось ему каменным.
– Моя совесть говорит мне, что мир уже не посетит более души моей, – произнес Фариначчьо.
– Мир будет с вами, верьте мне, что будет, достойнейший господин адвокат. Вы исполнили вашу благородную обязанность с редкою ревностью и настойчивостью. Но так же, как вы исполнили вашу обязанность, не мешайте и другим исполнять свою.
– Ваше святейшество, я знаю, что справедливость не есть для вас только долг, она в то же время и потребность вашего сердца, нашей натуры; потому-то я осмелился высказать вам всё и именем справедливости умолять вас о помиловании.
– Мы уважали в вас обязанность адвоката, – произнес папа дрожащим голосом: – теперь вы должны уважать в себе долг судей.
Фариначчьо, лежавший всё это время у ног папы, был похож на одного из израильтян, ожидавших у подошвы горы Синая слова Божия, и так же, как он, услышал слово с громом и молнией. Но он ещё не потерял надежды и, прибегая к отчаянному усилию, произнес:
– Чего не может правосудие, может сделать милосердие….
– Они должны умереть!.. – наотрез объявил папа, прижимая ногой бархатную подушку.
– Должны! – воскликнул Фариначчьо, вскочив на ноги. – А! если они должны умереть, то это другое дело. Простите, ваше преосвященство: такая необходимость не была мне известна… А потому, позвольте мне удалиться со смертью в душе.
Папа видел, что сказал слишком много, и понял необходимость объяснить и оправдать неосторожное слово.
– Да, разумеется, вопреки моему желанию, они должны умереть. Голос народа, слава Рима, спокойствие граждан, уважение к папской мантии, всё это запрещает мне слушать голос милосердия….
– И всё это требует такой ужасной казни: терзания щипцами, размозжения головы и четвертования?
– Вы, господин советник, как человек большой учености, знаете, конечно, что египтяне присуждали отцеубийцу к тому, чтобы быть проколотым насквозь бесчисленным количеством острых игл и потом быть сожженным на костре из терновника; отец, убивший сына, должен был, по приговору, три дни сряду смотреть на труп убитого. Здесь, в Риме, во времена язычества; не было никакого закона против отцеубийств: после того испорченность людей дошла до таких размеров, что ужасная казнь, назначаемая законом Помпея, оказывалась уже слишком слабым наказанием. В наши времена потрудитесь взглянуть на Испанию, Францию и Англию, вы увидите, что там законы не мягче наших. Если обыкновенному убийце рубят голову, то справедливость требует, чтобы была разница между отцеубийцей и им. Мы же, снисходя к вашей просьбе, избавляем женщин от терзания щипцами и четвертования. Но им все-таки будут отрублены головы.
– И бедному ребёнку тоже отрубят голову?
– Какому ребёнку?
– Бернардино Ченчи, святой отец; вы знаете, что ему едва двенадцатый год, и он тоже будет наказан, как отцеубийца? Я его почти не защищал, полагая, что лучшая защита для него его свидетельство о рождении; оказывается, что я ошибся.
– А разве он не сознался в своем участии в преступлении?
– Сознался, конечно, сознался; но разве в его лета он может понимать, что такое убийство и что значит признание? От сознался для того, чтоб его перестали мучить, и потому что ему обещали спасение. Святой отец! послушайте хоть раз голоса сердца, который говорит вам о милосердии, послушайтесь его: ведь и нам в своё время будет нужно сострадание.
– Вы поколебали меня касательно Бернардино Ченчи, – сказал папа и склонил голову, как бы в раздумьи. После нескольких минут молчания он продолжал:
– Обыкновенно мера преступности не превышает возраста; но бывают примеры противного и иногда молодость не спасает от самых ужасных преступлений. Но как бы то ни было, так как вы уже возбудили во мне сомнение, и так как при малейшей возможности я рад исполнить вашу просьбу, достойнейший господин советник, то я в доказательство того, как дорожу вами, согласен даровать жизнь Бернардино Ченчи. Теперь ступайте с Богом, вы, кажется, можете быть довольны. А мы сейчас же отправим манифест о помиловании, чтоб он не пришел слишком поздно. Да будет мир с вами.
Фариначчьо казалось, что с ним повторилось то же, что случалось с патриархом Иаковом, который должен был благодарить своих сыновей-изменников, когда они принесли ему окровавленную одежду Иосифа. С поникшей головой, расстроенным голосом поблагодарил он папу и удалялся с растерзанным сердцем, между тем как папа повторял ему с притворным участием:
– Сейчас мы отправим манифест и позволяем объявлять всем и каждому, что мы сделали это из уважения к вашим заслугам….
– Ex ore leonis,[51] – бормотал про себя Фариначчьо, спускаясь по лестнице; – наши предки приносили в жертву богам ягненка, исторнутого из пасти волка.
Так думал Фариначчьо теперь и увидел, что не ошибся, когда узнал, какого рода помилование оказал папа Климент маленькому Бернардино Ченчи. – Тем не менее, впоследствии, слыша кругом, что он спас его, мало того, слыша то же самое с нескончаемою благодарностью от самого Бернардино и находя себе в этом утешение, Фариначчьо наконец и сам стал считать себя спасителем Бернардино. Легкие любовные связи, игра и веселая жизнь заглушили в нем угрызения совести. Большие деньги, которые доставляла ему его должность духовного советника, большое значение при дворе, убедили его потом отказаться от защиты Ченчи в процессе о возвращении наследникам состояния. Он оправдывал себя, говоря, что он уже сделал довольно; пускай теперь пробуют свои силы другие: сам Христос просил ученика помочь ему снести крест на Голгофу.
Он твердил это и многое другое, думая, что говорит правду; а в сущности он лгал. Правда была в жестоком предсказании папы Климента, когда на вопрос Фариначчьо, кто избавит его от совести, он сказал ему: «ваша совесть».
Глава XXIX. Последнее прощание
Любовь не спит. Гвидо имел случай узнать о смертном приговоре, как только он был подписан. С отчаянием в сердце он прибегнул к разбойникам, своим новым товарищам, прося их и почти приказывая им (потому что с каждым днем он приобретал всё больше и больше власти над ними) собраться ж назначенный час переодетыми в амфитеатр Флавиев[52].
За два часа, до зари разбойники начали собираться, кто одетый аббатом, кто патером, одни в крестьянском платье, другие в одежде дворянина. И тут, между прочим; было видно; как не верна поговорка, будто бы от одного платья не будешь монахом: бандитов наших, переодетых дворянами, никак нельзя было бы отличить от настоящих дворян. Пересчитав собравшихся, Гвидо увидел, что их не более сорока человек, число слишком ничтожное для того, чтобы похитить Беатриче из рук властей. Но Гвидо и товарищи его были такой народ, которого это не могло удержать от попытки, а особенно Гвидо, способного кинуться и в том случае, если бы он был даже один. Выслушав мнения всех, Гвидо велел им для отличия приколоть на шляпы или на капюшоны виноградную ветвь и, вооружась коротким оружием, вмешаться в процессию, когда она будет приближаться к эшафоту. Разогнав братьев мизерикордии, сбирров и солдат, они должны были схватить Беатриче и бежать с нею к тому, месту, где он будет ожидать их верхом на лихом коне, на котором он усядется вместе с нею. Они же, воспользовавшись сумятицей, должны будут постараться скрыться и бежать в Тиволи; он будет их там дожидаться. Разбойники с восторгом согласились на всё; это были люди, охотно кидающиеся в рискованные предприятия; притом, зная какую сильную любовь весь Рим питал к Беатриче и какое горячее участие принимал в её судьбе, они думали этим приобрести большую славу, что льстило их самолюбию; наконец награда, обещанная им, если они успеют спасти Беатриче, была истинно царская, как они сами впоследствии рассказывали.
Удивительно, что в то же самое время совершенно другого рода люди предпринимали в Риме то же самое, как говорит хроника. Полагают, что тайным главою этого другого общества был Маффео Барберини. Судьба Беатриче и её необыкновенная красота сильно поразили его. Старания, употребленные им для приобретения её портрета, достаточно говорят об этом. Может быть, это происходило от его доброго сердца, а может быть его подвигала на это дружба к Гвидо, вернее же всего, причиною тому была любовь, загоревшаяся в его сердце к несчастной и прекрасной Беатриче. Ни кардинальская мантия, ни дружба не могут удержать сердце человека от любви, которая проникает в него сквозь всякую одежду.
Этот второй заговор для спасения Беатриче был составлен художниками. К ним присоединилось множество молодых людей из знатнейших фамилий Рима, видевших оскорбление для самих себя в этом уничтожении знатной фамилии Ченчи. Самой горячей головой в этой шайке был Убальдино Убальдини, молодой живописец из Флоренции, подававший блестящие надежды, и который приобрел бы себе большую славу, если бы смерть преждевременно не похитила его. Он нарисовал портрет Беатриче так, как внушила ему его отчаянная любовь к ней: она была изображена в том виде, в каком ее вели на казнь. Предание говорит, что Гвидо Рени снял портрет Беатриче накануне её смерти. Но к счастью, это не верно, Я говорю, к счастью, потому что если б то было правда, это показывало бы в Беатриче тщеславие, недостойное её в те минуты, когда мысли её должны были быть обращены, как они и были обращены, к Богу и к чистейшим привязанностям на земле. Также точно был бы достоин порицания и Гвидо Рени, если бы рука его не дрожала и он мог передать на холсте черты несчастной девушки, идущей на незаслуженную казнь. Но, повторяю, это не верно. Из жизнеописания Гвидо Рени известно, что он тогда ещё не покидал своей родины Болоньи; в Рим же он приехал только в конце 1599 или в начале 1600 года. Дивный портрет Беатриче, работы Гвидо Рени, находящийся ныне во дворце Барберини, в Риме, был списан им с рисунка, набросанного остывающей рукой Убальдино Убальдини.
Заговор художников имел ту же цель – ворваться в процессию, похитить Беатриче и её родных, посадить их в приготовленную карету, запряженную надёжными лошадьми и скакать с ними к морю. Числом они были значительнее шайки Гвидо, но те превосходили их храбростью и навыком к подобным делам. Знак отличия второго общества был белый бант на шляпах. Убальдини должен был держать дверцы кареты. Править лошадьми вызвался один французский художник.
– Чорт возьми! – кричал Убальдини, стуча кулаком по столу – она не должна умереть…. нет, не должна…. Пускай лучше….
Он не договорил. Тогда один из товарищей спросил его:
– Лучше что?!
– Лучше разбить Аполлона Бельведерского и Лаокоона….
– Я отдаю и купол Петра в придачу, – прибавил третий.
– Тем более, что эти вещи мы можем сделать вновь, – заметил француз. Но Убальдини посмотрел на него и не то с гневом, не то насмешливо, сказал:
– Нет, брат-француз, эти вещи не делаются вновь. Только лучше пусть они погибнут, чем невинное создание Божие.
– О вандалы! – воскликнул один молодой художник, и вдруг остановился, желая найти в своей голове наиболее достойный эпитет. – О вандалы! – этим все сказано, и хуже этого слова я не могу найти. Вы хотите уничтожит наши модели… А что же вам останется делать и кого изучать?! Уж не вас ли?
– A! Если б Беатриче родилась в твоей коже, хорошо было бы для неё! теперь она не была бы в ожидании тяжелой минуты, которая ей предстоит.
– Какое это имеет отношение к моей коже? я не понимаю.
– Такое отношение, что, как слышно, ее казнят, чтоб завладеть её деньгами. А у тебя можно вырвать все зубы, но уж деньгами не поживишься.
– Замолчите ли вы? – Красота, которой мы поклоняемся, не есть красота куртизанки, но чистейшего, божественного создания, – и вы должны помнить это. Для того, чтобы такая красота снизошла в ваши души и сделала нас способными воспроизвести ее, надо принимать ее, как апостолы приняли сошествие Святого Духа.
Эта строгая речь, произнесенная Убальдино с подмостков, остановила разом пустую болтовню его товарищей, и легкомысленные молодые люди вдруг стали серьезны, как святые отцы на Тридентском соборе[53].
Первые лучи солнца, всплывшаго из за гор, осветили в тюрьме Тординона самую грустную картину. Джакомо и Бернардино, сведенные вместе, бросились в объятия друг друга….
– Поди ко мне, мой дорогой! обними меня…. так, мне кажется, будто я обнимаю своих детей…. Горе мне! Мои дети… мои бедные дети!.. сироты…о, дети…. отцеубийцы, преследуемые злыми людьми, которые властны сделать с ними что захотят, лишить их всего, даже куска насущнаго хлеба…
– Бедняжки! И их лишат всего, всего!
– Скажи мне, брат, ведь ты многого насмотрелся на свете, правосудие всегда бывает такое?
Джакомо отвечал ему только вздохом. Вдруг ребенок услышал звук колокола.
– Слышишь, Джакомо, слышишь! что это за колокол звонит у нас над головою? спросил он.
Джакомо крепко прижал брата у себя на груди и не отвечал.
– А тебе жаль умирать? – произнес он невольно.
– Да, жаль; я люблю птичек и бабочек, я люблю цветы, по которым они летают, я люблю смотреть за Тибр, когда в нем много воды и когда он быстро бежит; я все люблю. Здесь я вижу солнце, мне от него и светло и тепло, а там будет темно и холодно. Тут, где я живу, я знаю, что есть; а там что будет? Говорят, будет хорошо, и я этому верю, только я все-таки не знаю наверное, что там будет.
– Будь готов, брат мой: этот колокол звонит наши последние минуты… Он объявляет нам, что пора идти, вот мы и хотели бы остаться здесь…
Как бы в подтверждение его слов, у двери тюрьмы показались исповедники, и братья мизерикордии.
– Мужайтесь, братья, часть приближается, произнес мрачный голос.
– Пусть будет воля Божия, – ответил дон Джакомо, но Бернардино прервал его:
– Да разве это воля Божия, Джакомо?
– Конечно, потому что все делается по воле Божией, и, сомневаясь в этом, вы совершаете большой грех, – ответил исповедник, вместо Джакомо.
– Если это так, батюшка, то я раскаиваюсь; и для того, чтоб эта мне зачлось в раю, я буду верить, что меня по воле Божией невинного ведут на казнь.
– Кто из нас невинен? все мы преступны пред лицем Всевышнего.
– Отчего ж их всех ведут за смерть?
– Бог посылает испытание тем, кого любят; и ты, сын мой, благодари его за то, что он избрал тебя из тысячи для того, чтобы ты испытал его бесконечное милосердие.
– Батюшка, – наивно отвечал малютка, – не займете ли вы в таком случае моего места?..
Монах сложил руки в знак сокрушения сердечного и, поднял глаза к небу, отвечал:
– Я от всей души желал бы, сын мой, чтоб это было возможно; но это невозможно.
Появление мастера Алессандро, с его лицом, неподвижным, как у бронзовой статуи, прервало разговоры. Он надел на осужденным черные плащи с капюшонами, принесенные братьями мизерикордии; плащ, надетый на Джакомо был тот самый, который носил Франческо Ченчи, принадлежавший во время своей жизни к этому человеколюбивому обществу.
Потом все медленными шагами вышли в тюрьмы. Джакомо остановился за пороге комнаты, которую покидал навсегда и которая была свидетельницей его невыразимых страданий.
– Семьдесят семь раз да будет проклят человек, осуждающий человека на отчаяние в этой могиле, – сказал он – тот же, кто одним ударом низвергнет его в могилу, проклят только семь раз.
Погребальный звон колоколов продолжается; барабаны начинают свой несвязный бой. Во дворе было выстроено несколько эскадронов кавалерии и толпа пеших сбирров; за ними стоят братья мизерикордии, палач, его помощники, – одним словом, вся обстановка дикой силы, которою должно окружать себя правосудие, когда оно не есть правосудие.
Бернардино смотрел на все эти приготовления, как потерянный; и особенно привлекли его внимание две тележки, на которых в жаровнях, полных горячих углей, накалялись железные щипцы. От с детским любопытством спросил;
– Джакомо, а зачем эти щипцы?
Джакомо не отвечал, и большая часть братьев мизерикордии под своими капюшонами проливали слезы. Но малютка настойчиво допрашивал:
– Я хочу знать, Джакомо, скажи мне. Не думай, что ты напугаешь меня. Ведь я уж знаю, что умру.
– Это для нас – ответил Джакомо, и больше он не мог ничего сказать.
– О! я никогда не думал, что для меня нужно столько инструментов; со мной так легко покончить. Посмотри, у меня шея тоненькая, как тростник; палачу будет немного труда над нею.
Он заметил еще гвоздь, дубину и красный плащ. Все эти вещи, как обличители преступления были сложены на одной из тележек для того, чтоб их видела публика.
– Джакомо, посмотри, ведь это тот самый плащ, который носил наш отец!
Духовные ассистенты, для того, чтобы внимание ребенка не отвлекалось от религиозных помыслов, надели ему, а также и Джакомо на голову род ящика, внутри котораго было изображено Распятие и были наклеены разные молитвы; этим способом полагали достигнуть совершеннаго сосредоточения обвиненных за предметах не от мира сего. Но малютка принялся кричать, чтобы с него сняли ящик и не отнимали возможности видеть небо, где Бог. Вдруг у ворот произошло волнение в народе; солдаты стала сторониться, и между их рядами медленно въехала во двор карета. В толпе раздались крики, отражаясь от стен тюрьмы, как морския волны в бурю:
– Помилование! помилование!
Луч жизни блеснул в глазах Джакомо, и голова его поднялас, как верхушка тополя, когда пронеслась буря. Из кареты вышел синьор Вентура и, подойдя к осужденным, вынул бумагу.
– Дон Бернардино Чеичи, прочел он, – его святейшество дарует вам жизнь. Но благоволите однако последовать за вашими родными и молите Бога о душах их[54]. Далее ты увидишь читатель, что такое тогда называлось помилованием.
Духовные отцы сняли с Бернардино ящик, который закрывал ему лицо, а палач, просмотревши панский манифест, снял с вето цепи; не видя, во что одеть его для того, чтобы ребенок не имел вид осужденнаго, он взял красный плащ графа Ченчи и накинул ему на плечи. Таким образом устроила судьба; что последние сыновья этого злодея шли к эшафоту – один, одетый в черное платье, в котором он был изменником Богу, а другой – в тот самый плащ, которым он приготовил измену Марцио.
Увидевши открытое небо и узнав о своем спасении, Бернардино захлопал в ладоши, стал прыгать и кричать от радости. В первую минуту инстинкт жизни в ребенке взял верх над всеми другими чувствами; по он тотчас же вспомнил, сколько причин для слез осталось у него и как гадко с его стороны выражать так свою радость: он обнял колени Джакомо и умолял простить его.
Лучь жизни, блеснувший было в глазах Джакомо, заменился мраком смерти; глаза его стали стеклянные и потухли, он с трудом мог произнести следующия слова:
– Радуйся, брат мой; еслиб ты мог видеть мое сердце, то убедился бы, что я радуюсь еще более тебя самого. Господь сжалился надо мною и посылает отца моим детям. Возьми же их и заботься о них; я вручаю тебе свою плоть и кровь с тем же чувством, с каким вручаю душу мою Всевышнему.
– Джакомо, отвечал Бернардино, обнимая колени брата: – клянусь тебе, я дам обет невинности, для того чтобы другия привязанности не помешали мне иметь к детям, которых ты мне оставляешь, чувство отца.
– Да будет благословен Бог наш! Господа! теперь мы можем идти.
Процессия двинулась. Начались истязания… Описывать ли те страшные истязания калеными щипцами и другими орудиями палача, какия совершались над бедным Джакомо в течение всей дороги, от тюрьмы до самого места казни? Перо мое отказывается от этого. Довольно знать читателю, что все тело Джакомо представляло одну сплошную рану, когда он показался на эшафоте. И несчастный Бернардино должен был быть свидетелем этого зверства. Он кидался на колени, умолял пощадить брата, просил, чтобы его мучили самого, и хватался руками за горячие щипцы, и наконец упал от изнеможения в обморок.
Много улиц уже пройдено процессией и много площадей… Но вот она вступает на огненную почву; это площадь Ченчи. Джакомо, изнуренный физическими страданиями, не видит и не сознает, где он. Вдруг душераздирающие крики падают ему ни голову. Он поднял голову, и помутившиеся глаза его видят на террасе дворца Ченчи простертые объятия жены и детей.
От одной мысли, что он показался своему семейству истерзанным и доведенным до такого страшного унижения, всё внутри него перевернулось. Любовь однако взяла верх над стыдом, и он воскликнул раздирающим душу голосом:
– Мои дети! О! мои дети… дайте мне моих детей!..
Предводители шествия не хотели останавливаться; но толпа народа хлынула вперед и с ропотом приблизилась к колеснице. Тогда начальник сделал знак, чтоб остановились, и громким голосом объявил, что он от всего сердца готов исполнять общее желание, Джакомо сняли с колесницы и, набросив да него плащ, чтобы прикрыть раны, повели между двумя рядами солдат во двор дворца. Нечего и говорить, какую нестерпимую боль причинял израненному телу этот покров; но Джакомо удерживался от стонов из жалости к своему семейству.
По широкой лестнице бежала Луиза с распущенными волосами, с одним ребенком на груди и ведя другого за руку. Анджолино вел вслед за нею остальных. Луиза бросила мужу на шею ребенка, который с отчаянием вцепился в отца; сама она хотела обнять ему колени и упала без чувств к его ногам. Джакомо не мог этого видеть, потому что дитя, висевшее у него на шее, закрывало ему собою глаза. Голосом, на сколько возможно твердым, Джакомо произнес:
– Дети мои! скоро, скоро… удар топора… – и он не в силах был продолжать далее – Я оставляю вам горестное наследство, – начал он снова – эта мысль мучит меня более, чем моя казнь. Когда меня похоронят в этой церкви, – прибавил он, указывая на церковь св. Фомы, – помните, что если вас выгонят из дома вашего, никто не вправе закрыть вам дверей церкви, выстроенной вашими предками. Приходите туда вечером, чтобы вас никто не видел, молить Бога о душе отца вашего. Луиза, я не поручаю тебе наших детей; я знаю, что прежде, чем кто-нибудь до них дотронется, ты дашь умертвить себя, но защитишь детей. Моя Луиза, где же ты?…
На получая ответа, он наклонился и таким образом поставил дитя на пол. Тогда только он увидел Луизу, лежащую без чувств; подняв очи к небу, он воскликнул:
– Благодарю тебя, Господи, за то, что Ты послал мне утешение увидеть ее перед смертью и отнял у неё горе этого последнего расставания.
Он стал на колени, поцеловал ее в щеки, которые облил слезами и кровью. Потом перецеловал вцепившихся в него детей, старавшихся своими детскими ручонками удержать его и наполнявших воздух такими жалостными криками, от которых сердце разрывалось на части.
– Прощайте, дети мои… – говорил, рыдая, несчастный отец: – прощайте. Мы свидимся в раю. Бернардино, теперь это твои дети… не забывай этого.
Бернардино с отчаянием в сердце обнимал детей и успокаивал их, как мог, обещая им скоро вернуться домой.
– А отца, – скажи, ты приведешь с собою отца? – спрашивали его малютки.
– Я? нет… но его принесут вам… Прощайте.
Все плакали, и кругом слышны были неудержимые стоны; точно каждый из присутствующих хоронил сына или брата.
Процессии двинулась вперед, и за ней – рыдавшая толпа, еще несытая, искавшая новых впечатлений… Жестокие души! жестокие сердца!..
Глава XXX. Последний час
Процессия, сопровождавшая на место казни братьев Ченчи, остановилась перед тюрьмой Корте-Савелла.
Беатриче и Лукреция на коленях, тихо молятся. Отец Анджелико также молится, но до слуха его донесся шум, который всё более и более, приближается. Он поднимает глаза и видит сквозь отверстие двери человека, делающего ему знак рукою; он понял этот знак. Боже! как уже давно жизнь его протекает в непрерывном, горьком труде – напутствовать и утешать несчастных осужденных на последние страдания; но теперь у него не достает духу сказать Беатриче, что пора идти. Покуда он стоял, не зная сам, что делать, она вывела его из затруднения молитвою, произнесенною вполголоса.
– И если это беспредельное стремление покинуть жизнь и идти в твои объятия, о Боже, греховно, прости мне этот грех. Как мне тяжело ожидание! Я подобна изгнаннику, готовящему на выжженом солнцем берегу челнок, который должен провести его в отечество! Небо, ты отчизна всех страдающих! скоро ли, скоро ль я тебя достигну?
– Дочь моя, если твое желание так сильно, то знай, что Господь идет за тобою… он уже пришел. Идем во сретенье ему…
И встав, капуцин протянул свою жесткую руку к нежной руке Беатриче. Она поспешно встала.
– Здесь на земле страдание называется мученичеством, в раю оно зовется славой… – воскликнула Беатриче: – идемте… идем!
Из сострадания ли, или из любопытства, но здесь стелилось более всего народу; толпа была так велика, что мрачная процессия едва могла подвигаться вперед. Взрослые и дети карабкались на карнизы окон, на выступы стен и цеплялись даже за железные крючья, за которые привешивались фонари. То была толпа, слезливая, не чуждая истинной жалости, грубая без жестокости, горевавшая о событии и не способная протянуть руки, чтоб изменить его ход: напротив она даже и не захотела бы этого; подобные праздники тем приятнее для народа, чем сильнее дармовые ощущения, ими доставляемые.
Первая показалась донна Лукреция; черный вуаль покрывал её голову и спускался до пояса. На ней было черное платье из бумажной материи с широкими открытыми рукавами, и белая рубашечка из тонкого холста с мельчайшими складочками, с рукавами застегнутыми у кисти руки, как носили в то время. Вместо белого висячего пояса, бывшего в употреблении в Риме, она была опоясана веревкой, в которую были пропущены и её руки. Веревка была завязана не настолько крепко, чтоб она не могла правой рукой держать перед глазами распятие, а левой обтирать пот, заливавший ей лоб; на ногах были туфли из черного бархата, с черными же бантами. Вслед за нею показалась Беатриче.
Долгое горе не в силах было уничтожить её божественной красоты. Как пламя, готовое погаснуть, загорается ни мгновение ярким светом, красота Беатриче, казалось, вызвала наружу весь блеск свой, чтоб ярче засиять в последний раз на свет… Страдание осыпало ее росою, тою росой, которая каплет с пальмовых ветвей небесных мучеников. Беатриче явилась одетой иначе, чем её мачеха. На ней был белый вуаль; на плечи было накинуто белое глазетовое покрывало; платье из фиолетовой тафты; высокие башмаки из белаго бархата, с пунцовыми каблуками и бантами.
– Вот она! вот она! – Слова эти как молния пробегают из уст в уста, и всё внимание, и все глаза устремляются за Беатриче.
Как только она выступила из двери, её встретило распятие Мизерикордии, покрытое длинным черным крепом, который раздувал осенний ветер, уподобляя парусу, надутому попутным ветром.
Распятие склонилось веред ней; словно приветствуя ее, и обе женщины поверглись ниц. Беатриче громким голосом произнесла.
– Ты с распростертыми объятиями встречаешь меня, Спаситель мой! прими же меня с Тою ею любовью, с какою я иду к тебе.
Когда Джакомо и Бернардино увидели со своей колесницы прекрасную праведницу, они бросились с колесницы, прежде, чем успели удержать их и, упав перед нею на колени, умоляли о прощении.
– Прости нас, сестра! – кричала они: – ты, невинная, идешь на смерть из-за нас!
Увидев истерзанное тело брата, Беатриче пошатнулась и оперлась за руку отца капуцина; но скоро пришла в себя и с ясным выражением лица произнесла:
– Что мне прощать вам, братья мои? Ни ваше и не мое признание не стало причиною вашей смерти. Она была решена прежде. Что же мне прощать вам? Я счастлива, что оставляю этот мир, где для меня были одни страдания. Я счастлива, что иду туда, где нет ни притеснителей, ни угнетенных. Мужайся, Джакомо; теперь тебя еще могут заставить страдать, но уже не долго. Идемте, чего мы ждем? Поспешим укрыться на лоне Всевышнего, который давно ждет нес… Идемте вкусить вечный мир.
Полные нового мужества, которое вселили в них необыкновенная стойкость юной девственницы, они взошли на колесницу и с непоколебимым терпением вынесли продолжение и конец мучения.
Беатриче шла скорой, легкой поступью, точно спешила поспеть вовремя на приятное приглашение. Проходя мимо церквей, которых попадалось много на дороге, она повергалась на колени и молилась с таким благоговением и с такою любовью, что слышавшие её желали только одного: чтобы Бог сподобил и их оставить эту жизнь с такою же верою и с такою радостью.
Наконец печальная процессия достигла площади, на которой возвышается крепость святого Ангела.
Посреди площади эшафот, на нем плаха, на плахе топор. Лучи вечернего солнца падают на блестящее железо топора, который кажется огненным. Густая толпа волнуется, как нива, колеблемая ветром. Процессия дошла до капеллы Сан-Чельсо, где было приготовлено причастие: это была последняя станция осужденных; здесь они молились и ждали очереди идти на казнь. Народная масса начинает закипать при появлении колесницы… Горсть людей с виноградной ветвью на шляпах продвигается вперед тесно сплоченною кучкой, расточая удары кинжалов на право и налево. Невозможно описать того страха, давки и криков, какие были видны и слышны в толпе. Кавалерия пыталась броситься вперед, но перепуганные лошади не повиновались: сбирры, зная сколько ненависти сосредоточено на их позорных головах, спешили спасаться. Братья мизерикордии, священники, факельщики, распятие, знамена – всё опрокинуто… Страшны были крики. Много народу было задавлено, много задушено в толпе. Некоторые от страху, или от палящих лучей солнца, а вернее от обеих причин вместе, сошли, с ума. К дополнению смятения и ужаса, несколько подмостков, переполненных зрителями, обрушилось, увлекая за собою сидящих.
Гвидо видел всё это со своего бешеного коня и душа его изнывала от ожидании. Вот сподвижники его приближаются к Беатриче; вот они уже около неё; они берут её…. взяли…. уносят. Она спасена. В народе раздаются крики беспредельной радости; он со своей стороны тоже помогает похитителям.
Гвидо не в силах владеть собою; он протягивает руки, точно хочет этим сократить пространство, отделяющей его от Беатриче. К несчастью во время этого движения, он нечаянно прижал правую ноту. Конь, почувствовав шпору и перепуганный уже моей этой свалкой, закусил удила и помчался. Все, точно нарочно, скопилось для того, чтоб еще более раззадорить разъяренную лошадь. Как раз перед нею обрушился с ужасным треском целый ряд подмостков. После этого уже не было никакой возможности справиться с нею; она как вихрь понеслась сквозь толпу, которую топчет и кусает, – унося с собою и несчастного любовника;
Не смотря на эту беду, сподвижники Гвидо все-таки спасли бы Беатриче: всё это были люди, не способные потеряться. Они овладели бы первой попавшейся каретой и увезли бы Беатриче; но тут помеха явилась с другой стороны. Судьба всё так устроила в жизни несчастной Беатриче, что любовь приносила ей более вреда, чем самая ненависть.
Навстречу похитителям Беатриче бросается другая толпа вооруженных людей, с белыми бантами на шляпах, расчищая себе дорогу кинжалами с такою силою, что всякий, кто не поспешил бы дать им дорогу, остался бы на месте.
Беатриче посреди этой свалки казалась утлой ладьей среди бурного моря. Она то появлялась на этих волнах голов, то скрывалась, то подвигалась вперед, то назад – шаг к свободе, шаг к плахе.
Молодой Убальдини, видевший всё это со ступенек кареты, приготовленной для спасения Беатриче, понял, что обе партии хотят спасти Беатриче, но не понимая целей друг друга, вместо того, чтобы помогать, мешают одна другой, губя тем самым общее предприятие. Опасность была настолько неминуема, что он бросился бежать к своим товарищам, чтоб убедить их не пробиваться вперед и поскорее вернуться назад, если они не хотят погубить Беатриче. Но ему не удалось среди этой суматохи, ударов и криков, быть услышанным всеми; а те немногие, которые услышали его, не поняв, чего он хочет, и видя, что он покинул свой пост, решили, что всё потеряно, и сами потеряли присутствие духа.
Между тем, рассеявшееся войско и сбирры, пользуясь смятением, успели вновь соединиться. Командовавший войском велел ударить на народ и смять толпу. Это было тем легче сделать; что беспорядок уже и без того развеял её на половину. Юный Убальдини, не внемля ничему, кроме голоса пылкой страсти, решается один противопоставить своё сопротивление напору конницы. Он вонзает шпагу до самой рукоятки первому наскакавшему на него воину; но за первым наскакали другие, и один из них рассёк ему палашом череп, а другой плечо. Убальдини упал замертво на землю…. Пешее ополчение стало в каре плотною стеною, пробить которую уже не было возможности. Запертые с тылу и отбрасываемые назад напирающей конницей, товарищи Гвидо могли только спасаться, кинувшись в бок, что они и сделали с невообразимым ожесточением, видя, что попытка их проиграна. Беатриче; как тот же челнок, выброшенный наконец усиливавшейся бурей на острые утесы, где ему суждено разбиться в щепки, повергнута была противоположными и безрассудными порывами своих спасителей к самому подножию эшафота.
Что происходило в её сердце во время всех этих треволнений? Открылась ли грудь её надежде? стала ли она снова ласкать пленительные образы жизни? улыбнулась ли ей опять любовь? Ей любовь улыбнулась, но только она не желала более жить. Слишком много было сделано ею пути к могиле для того, чтобы возвращаться назад и начинать его снова… Ею успело уже овладеть не физическое стремление к смерти, но искреннее желание успокоить свою усталую голову на лоне Всевышнего. И все-таки, не взирая ни на что, любовь улыбнулась ей…. Так человек, а особенно женщина, находит отраду в любви даже на краю могилы. Беатриче увидела Гвидо и послала ему издали последнее прощанье. Гвидо видел Беатриче и, не взирая на пространство их разделявшее, они поцаловались взорами, и точно так же, как бывало в то время, когда он стоял подле неё, когда она перебирала своими пальцами его русые кудри, она говорила ему: «Гвидо! любовь моя! не унывай! Бог не захочет оставить тебя надолго томиться на этой земле. Плачь Гвидо и кайся! небо не отвергнет тебя….»
Отец Анджелико, пораженный тем, что слышал и, проклиная в душе злого духа, вселявшего в нее эти земные помыслы, назвал ее громко по имени и принялся увещивать сосредоточить все свои мысли на Боге.
– Беатриче! отгони от души своей всё, что от этого мира, и вознеси её к небу. На пороге вечности не оборачивайся назад, чтобы созерцать земное свое поприще….
– Батюшка! вы представитель божества на земле, а я – бедная грешница, но уверяю вас, что я не совершаю греха, думая о моей любви. Я жду духовного брака. Мои желания стремятся к одному – к соединению наших душ. Я обвенчаюсь с моим Гвидо на небе и мы поцелуемся в объятиях Всевышнего. Любовь есть Бог и Бог есть любовь….
Добрый капуцин не был особенно убежден этим применением теологии, но понимал, что тут было не время и не место вступать в диспут, и потому удовольствовался увещиваниями.
– Дочь моя! твой жених вот кто – сказал он, указывая на распятие: – к нему устреми свои помыслы; его облобызай всею душою твоею….
– О, да, разумеется…. всею душою: он сам был весь любовь к нам и за нас.
В это время осужденные приблизились к часовне, где они долго еще молились перед принятием святого причащения. Наконец, братство мизерикордии со своим распятием покрытым черным флером, пришли за Бернардино. Бедный ребенок отправился за ними ни жив, ни мертв и, когда ему велели взойти на эшафот, он воскликнул с отчаянием: «Боже! Боже! сколько же раз мне умирать еще? Вы мне два раза обещали жизнь и два раза обманули меня! Боже! что же это за мученье такое!»
Никакие убеждения не могли уверить его в том, что он останется жив, и успокоить. При виде топора, волосы у бедного ребенка поднялись дыбом, и он упал в обморок во второй раз.
Братья мизерикордии разными спиртами привели его в чувство и успели наконец уверить, что он не умрет, а только будет присутствовать при казни своих родных!
Братство мизерикордии, с обыкновенной в этих случаях церемонией, отправилось за донной Лукрецией. Добрая женщина, видя, что Беатриче углублена в молитву, встала тихонько и была уже почти у двери, когда Беатриче, подняв голову, заметила её отсутствие и воскликнула:
– Мать моя, зачем вы покинули меня?
Лукреция, окруженная братьями мизерикордии, с порога двери отвечала:
– Я не покидаю тебя, дочь моя. Я только иду первая указать тебе дорогу.
Лукреция была полная женщина, и потому ей было трудно взойти по лесенке эшафота. Ей велели снять туфли и карабкаться, как ни попало. Она повиновалась и вскарабкалась с большим трудом на возвышение. Палач снял вуаль с её головы и покрывало с плеч. Увидев свою грудь обнаженною перед бесчисленной толпой народа, она вспыхнула от стыда и потупила голову. Но при этом глаза её встретили топор, от которого она задрожала всем телом.
– Господи, будь милосерд ко мне! – простонала она: – час смертного суда настаёт для души моей. А вы, братья, молите Бога за меня! – обратилась она к народу.
После этого она спросила палача, что ей надо делать? Он сказал, что она должна лечь на скамейку плахи. Она исполнила это….
Бернардино закрыл лицо красным плащом. Глухой удар, от которого покачнулся эшафот, заставил его вздрогнуть. Это была отрублена голова Лукреции Ченчи. Палач взял её за волосы одной рукой, другою приложил к ней губку и, показывая народу, воскликнул:
– Вот голова донны Лукреции Петрони Ченчи…. – Потом, завернув голову в черный вуаль, на веревке спустил ее, вместе с телом, вниз. Братья мизерикордии уложили труп в гроб и отнесли в Сан-Чельсо, где он и оставался до окончания казни.
Работа кипит. Палач и его помощники обмывают кровь с эшафота, устанавливают плаху; топор опять готов и рука готова, чтоб пустить его в дело.
Братья мизерикордии идут за Беатриче. Завидев их, она спрашивает:
– Хорошо ли умерла моя мать?
– Да, она хорошо умерла, – отвечали ей: – и теперь ждет нас на небе.
– Да будет так.
Потом, обращаясь к распятию; она произнесла с невыразимою нежностью слова, которые благоговейно сохранились в памяти всех, кто их слышал:
– Возлюбленный Христос, Спаситель мой! ты пролил свою божественную кровь за род человеческий, и я верю, что хоть одна капля этой драгоценной крови пролита за меня. Если Ты, праведный, вынес столько страданий и оскорблений, то мне ли жаловаться на смерть? Господи, открой мне, по твоей безмерной благости, врата любви и спаси душу мою.
Один из помощников палача подошел, чтобы завязать ей назад руки, но она отшатнулась от него, говоря:
– Не надо!
Однако, когда ее стали уговаривать вынести это последнее унижение, она спокойно, даже с веселым видом согласилась.
– Хорошо, – сказала она, – связывай тело мое к тлению, но только торопись отпустить скорее мою душу в вечность.
Выйдя из часовни, она увидела семерых молодых девушек, одетых в белые платья и пришедших сопровождать ее на плаху. Никто не посылал их. Узнав, что Беатриче завещала всё свое приданое дочерям римского народа, они сами добровольно пришли, дать ей это последнее доказательство своей признательности. Их хотели удалить, но они не слушались и решилось, во что бы то ни стало, идти за Беатриче. Тогда им объявили, что, по приказанию монсиньора Таверна, губернатора Рима, все те, которые будут мешать словами, или каким-нибудь другим образом исполнению правосудия над злодейским семейством Ченчи, подвергнутся истязанию на веревке. Девушки, услышав это; не переменили своего намерения.
– Мы не пришли никому мешать, но утешать; если мы провинимся, пусть нас наказывают.
– Прошу вас, – сказала Беатриче, – не отнимайте этого грустного утешения, у меня и у них. – Тогда братья мизерикордии взяли всё под свою ответственность и позволили девушкам остаться.
Женское шествие направилось к эшафот. Беатриче звучным голосом запела молитву Богородице, а молодые девушки с благоговением отвечали ей хором: Ora pro nobis.[55]
Вот она уже на эшафоте. Она обращается к девушкам и, перецеловав их, говорит:
– Сестры! да наградит вас Бог за ваше участие. Я оставляю вам свое приданое: но это не стоит вашей благодарности! Тот жених, к которому я иду, довольствуется: раскаявшимся сердцем. Пусть для вас любовь будет источником радостей, как для меня она была источником бесконечных горестей. Храните память обо мне, пусть она будет дорога вам; и если кто-нибудь спросит вас обо мне, отвечайте с уверенностью: Беатриче Ченчи умерла невинною…. невинною, – перед очами Всемогущество Бога, пред которым я скоро предстану – не безгрешною, разумеется, но невиннейшею в том преступлении, за которое меня влекут на смерть. Прощайте!
Теперь сон Иакова повторился в глазах римского народа: ангел восходит по лестнице на небо. Самым отдаленным является сперва её голова, покрытая вуалем, потом плечи, наконец вся она.
– Ты обещал мне не дотрагиваться до меня иначе как топором, – обратилась Беатриче к палачу: – сдержи же хоть ты свое обещание и скажи скорей, что мне следует сделать.
Он сказал.
Бернардино стоял всё время, спрятав лицо в плащ; она подошла к нему потихоньку и напечатлела легким прикосновением поцелуй на его волосах. Дрожь пробежала по телу ребенка; он открыл лицо и увидел перед глазами глаза дорогой праведницы.
Он в третий раз упал в обморок.
Беатриче легкою ногою перешагнула через скамью и легла на ней. Даже палач потрясен и вспоминая о дочери, колеблется нанести удар.
Видя, что он мешкает; Беатриче сказала:
– Руби!
И рука палача опустилась. Толпа раскрыла глаза; в потрясенном воздухе раздался один раздирающий, протяжный крик.
Отрубленная голова не задрожала ни одной фиброй улыбка; с которой страдалица отходила к лучшей жизни; осталась на ней.
Палач протягивает дрожащую руку в этой голове, чтобы показать ее народу, но отец Анджелико и братья мизерикордии удерживают его. Один из них надел на нее венок из свежих роз и, завернув в белое покрывало, громко провозгласил:
– Вот голова Беатриче Ченчи, римской девственницы!
Гвидо, употребив всевозможные усилия для того, чтоб удержать свою лошадь, наконец справился с нею и прискакал на площадь, в ту самую минуту, когда отец Анджелико, подняв голову Беатриче, воскликнул:
– Вот голова Беатриче Ченчи, римской девственницы!
* * *
Уложив тело Беатриче в гроб и отнеся его в часовню Сан-Чельсо, братья мизерикордии сняли головы ее венок и обернули им шею. Таким образам рана, отделившая голову от тела, была скрыта ожерельем душистых роз, сорванных в то же утро: некоторые из них были краснее обыкновенного, они были окрашены кровью.
С эшафота смыли кровь, и он опять был готов. Голос могилы никогда не говорит: довольно. Плаха ждет третью жертву.
Братья мизерикордии идут за Джакомо Ченчи.
Изломанный, израненный, истекающий кровью, страдающий выше всякого описания, он ждет смерти как блага. Скорыми шагами идет он к эшафоту и торопливо всходит на его лестницу.
Бернардино, пришедший в чувство, дрожит всем телом, зубы его стучат, глаза устремлены тупо и в каком-то беспамятстве. Вид ребенка возбуждал невыразимую жалость, и на него невозможно было смотреть без слез. Но источник их иссяк у несчастного Джакомо; он пролил все слёзы, какие у него были: теперь ему осталось проливать одну кровь, да и ее было уже оставалось немного. Он подходит к брату и, наложив руку на его голову, громким голосом обращается к народу:
– Я объявляю в последний раз, что брат мой, дон Бернардино, совершенно невинен в каком бы то ни было преступлении; если он и призвал себя виновником, то он был вынужден к тому силою пытки. Молите Бога за меня.
Но тут мы и остановимся. Перо отказывается описывать возмутительную, унижающую достоинство человека казнь, какая была исполнена над Джакомо Ченчи. То была не казнь, а бойня….
Бернардино упал на этот раз замертво. Его отнесли в тюрьму и с большим трудом привели в чувство. Долго потом он не переставал бредить в сильнейшей горячке. Долгое время он был на краю могилы, но благодаря лучшим докторам Рима, остался в живых. Не на радость только!
Манифест папы Климента гласил: «Дону Бернардино даруется жизнь. Смертная казнь заменяется галерами навеки, и он должен присутствовать при казни своих родных».
Папа в душе своей думал так:
«Или Бернардино умрет при виде казни всего своего семейства, и тогда я выигрываю смерть его, и оказываюсь милосердным; или он выдержит, и тогда гражданская смерть имеет ту же силу в отношении к конфискации имущества, как и смерть настоящая».
Так прощали римские первосвященники.
К заходу солнца казнь была окончена.
Мастер Алессандро отправляется домой, окруженный жандармами и сбиррами, для ограждения его гнева народа, который, по своему обыкновению обрушивать этот гнев на камень, а не на руку бросившую его, готов был разорвать палача на части. В ту минуту, как он подходил к низенькой двери, в которую пролезал всегда как волк в свою берлогу, она открылась, и из неё высунулся гроб, движимый невидимой рукой. Палач должен был отскочить, чтобы не быть сбитым с ног. В появлении гроба не было ничего, удивительного; напротив, это была вещь самая обыкновенная; таким образом всегда спроваживали умерших в тюрьме от болезней или от пытки; но тем не менее кровь хлынула к глазам палача, и он точно видел огонь перед собою. Вслед за гробом показались лица тех, которые выдвинули его и между ними пьяница, дурачок Отре. Этот последний, увидев палача, оскалил зубы и сказал:
– Возьми! Бог не ждет субботы; он платит тебе сейчас.
И, приподняв саван, он открыл безжизненное тело бедной Виржинии.
* * *
Юный Убальдино Убальдини был тайно перенесен в дом сестры своей и находился в безнадежном состоянии. На другое утро болезнь его усилилась и он в бреду потребовал карандаш и бумагу. Чтоб успокоить его, ему дали всё, что он хотел. Тогда-то он и нарисовал портрет Беатриче, поразительный по сходству и по красоте рисунка.
Монсиньор Таверна открыл однако жилище Убальдини и послал арестовать его, не смотря за то, что ему говорили об его безнадежном состоянии.
Когда сбирры вошли к нему в комнату, он, приподняв голову, потухшим голосом обратился к ним:
– Скажите губернатору, что вы нашли покойника, который не захотел бы поменяться с ним судьбой.
Сказав это, он опустил голову на подушку и испустил дух.
Тела Беатриче и Лукреции и изувеченные останки Джакомо оставались выставленными у подножия колоссальной статуи св. Павла за мосту св. Ангела!..
Семь девственниц не покинули Беатриче и после её смерти; они отдали ей последние услуги: обмыли ее, одели в роскошное платье, обрызгали благовониями и всю убрали свежими цветами: один венок из белых роз, они положили ей за голову, другим окружили шею; первые розы, окрашенные кровью дорогой страдалицы, они разделили между собою.
Со всех сторон приходили толпы молодых девушек в белых платьях, чтоб отдать последние почести несчастной сестре… Пятьдесят факелов окружали гроб; и множество свечей горело везде на окнах в тех улицах, по которым проходило погребальное шествие, на гроб же сыпалось такое множество цветов, что простой народ находил, что процессия Corpus Domini[56] уступает этому шествию.
При грустном пении псалмов, процессия достигла до церкви Сан-Пьетро-ин-Монторио, где был приготовлен катафалк, на который поставили гроб. Отпели панихиду, окропили тело святой водой и в последний раз простились с покойницей. Но толпа не скоро оставила церковь: выходящие заменялись тотчас новыми посетителями, как это обыкновенно бывает у католиков в Страстной Четверг, при поклонении плащанице.
В шесть часов ночи привратник объявил, что церковь запирается. Мало-помалу толпа вышла, церковь опустела и привратник запер тяжелые двери. Эхо передавало от одного свода другому шум запираемой двери, и во всех углах церкви дрогнули древние гробницы: мало-помалу все замолкло и воцарилась мертвая тишина.
Одна только свеча горела у гроба и освещала небольшое пространство вокруг катафалка. Лампады, слабо мерцая кое-где у алтарей, делали еще торжественнее и страшнее густую темноту святого места.
Глава XXXI. Гробница
Вдали слышны шаги; эти шаги приближаются, чья-то тень направляется к катафалку, это отец Анджелико, бледный, как воск свечи, горящей у него в руках. Зачем пришел сюда этот монах?
Он садится на ступени катафалка и, опустив голову в колени, неподвижно молится и плачет.
В отдаленном углу церкви показывается другая тень. Шаги её не слышны: так легко ступает она по мрамору шаткими неверными стопами. От горящих кое-где перед образами лампад стелятся на полу и на стенах длинные тени, точно целая шайка людей собралась с каким-то мрачным замыслом. Но движется тень одного только человека…. Грудь его высоко поднимается, но он удерживает дыхание. Ноги его босы, глаза неподвижны и страстно открыты.
Человек этот Гвидо Гверро. С каким намерением пришел он сюда, вооруженный кинжалом, который сжимает его правая рука? – тем самым кинжалом, которым он заколол отца Беатриче, казненной за отцеубийство, кинжалом, который прежде секиры палача разрезал нить её молодых дней?
Он уже дотронулся до савана, уж откинул его….
– Я ждал тебя, – произнес тихий голос.
Отец Анджелико стоял перед ним, положив ему обе руки на плечи.
Долго стояли они неподвижно, молча перед гробом обезглавленной девственницы. Наконец отец Анджелико прервал молчание.
– Беатриче велит тебе жить. Её последняя мысль, – увы! последняя мысль была не о Боге…. но о тебе! Она умерла с радостью, в надежде увидеться с тобою в раю и завещала мне сказать это тебе; она также завещала мне напомнить тебе, что на душе твоей есть тяжкие грехи, которые божественное правосудие прощает только за большое покаяние. Неужели ты захочешь разрушить надежды возлюбленной девственницы? Неужели ты, несчастный, хочешь лишить себя навсегда возможности соединиться с нею в объятиях Всевышнего? Дай мне этот кинжал; я положу его в её гроб; ты же обязан жить. На место его возьми вот это…. это её волосы: несчастная посылает тебе их для того, чтобы ты носил их на сердце, и этот образ мадонны, перед которым она произносила свои последние молитвы, для того, чтобы ты также молился перед ним и получил прощение, о котором невеста твоя…. Беатриче теперь молит Всевышнего у престола Его. Теперь ступай, сын мой: не тревожь сна покойников. Беатриче не здесь….. возведи очи к небу, и ты увидишь ее там.
Кинжал выпал из руки Гвидо. Он взял волосы и положил себе на грудь; потом взял образ и, поникнув головой, горько заплакал.
Монах обнял его и силой отвел от этого катафалка.
Гвидо, с трудом передвигая ноги и бессмысленно удаляясь от гроба, дошел до дверей церкви. Монах открыл дверь и, выйдя вместе с Гвидо, начал с нежностью говорить с ним. Но Гвидо внезапно пришел в бешенство, оттолкнул монаха, не сказав ни слова, кинулся в поле, в ту сторону, где косвенные лучи заходящего месяца делали мрак еще страшнее.
Предание говорит, что Гвидо всю жизнь проклинал тот миг, в который ему помешали исполнить его намерение; говорил, что так как у него отняли право пролить свою собственную кровь на гробе возлюбленной девушки, то он клянется не щадить крови других в память её. Став предводителем разбойников, он наводил ужас не только в римской Кампанье, но даже в самом Риме, где много людей погибло от его руки.
Когда на папский престол взошел кардинал Камилло Боргеэе, под именем Павла V, тот самый, которому досталась большая доля имущества Ченчи, и в котором Гвидо видел одного из виновников казни, он дал ему знать, чтоб он писал свое духовное завещание, потому что, так или иначе, а он будет убит. Послание это, вместе с предсказанием астролога, что жизнь его будет очень не продолжительна, навела такой ужас на Павла V, что он почти не выходил из Ватикана; в редких случаях, когда ему необходимо было выезжать, его окружала со всех сторон вооруженная стража. Когда ему подавали просьбы, он не брал их к руки из боязни, что они отравлены.
Жажда мести еще не скоро улеглась в душе Гвидо; он неожиданно покинул Рим и отправился во Фландрию, где велась жестокая война за независимость и свободу. Но он прибыл туда слишком поздно и имел несчастье присутствовать при заключении мира. Тогда он оглянулся на прошлую свою жизнь и увидел, как каждый шаг в ней отдалял его все более и более от того пути, на который указывала ему перед смертью любимая им девушка. Вняв голосу совести и не желая проживать в монастырской праздности, но думая заслужить благость провидения, он отправился на высоты Сен-Бернара и там вскоре сделался известен самоотвержением, с каким он, пренебрегая все возможные опасности, спасал жизнь погибавших.
* * *
Вскоре после описанных казней, в день Воздвижения Святого Креста, братия Сан-Марчелло, пользуясь своей привилегией освобождать в этот день одного преступника, испросила прощение для Бернардино Ченчи….
….Сорок лет назад, перед римским трибуналом возник продолжавшийся столетия спор об имениях Ченчи, отобранных в собственность папы, – спор между князем Боргезе и графом Болоньети Ченчи.
Опубликовано как приложение к журналу «Современник», No№ 1–2, 1863Сноски
1
Пальма, итальянская мера длины, равняющаяся почти четверти аршина (аршин = 0,7112 м; пальма = ок. 18 см.).
(обратно)2
Рибалда – разбойник.
(обратно)3
Эчеленца (eccellenza) – Ваше превосходительство (итал.).
(обратно)4
Фульета – склянка, в которой продается вино.
(обратно)5
Террачина – место известное лихорадками.
(обратно)6
Тит Фла́вий Веспасиа́н (лат. Titus Flavius Vespasianus) – римский император из династии Флавиев, правивший с 79 по 81 год. Стал первым императором, унаследовавшим власть у родного отца. Проявил себя как покоритель Иерусалима в ходе Иудейской войны. Кратковременное самостоятельное правление Тита, продлившееся только два года, ознаменовалось стихийными бедствиями и щедрой социальной политикой императора. После смерти Тит был обожествлён, а в историографии идеализирован как гуманный правитель. Такой образ Тита вошёл и в европейскую культурную традицию.
(обратно)7
Бонифаций VIII (лат. Bonifatius PP. VIII), в миру – Бенедетто Каэтани (Benedetto Caetani; ок. 1235–1303) – папа римский с 24 декабря 1294 г., последний из пап XIII века, пытавшийся осуществлять доктрину верховенства церковной власти над светской. Враждовал с французским королем Филиппом IV, который послал в Италию Гийома Ногаре с отрядом, чтобы схватить папу и доставить его во Францию. Когда после осада папа отказался выполнять это требование, приближенный Ногаре Скьярро Колонна дал Бонифацию пощечину, не сняв с руки латную перчатку.
(обратно)8
Готовиться к смерти, значит пренебрегать жизнью.
(обратно)9
Если ты ищешь, милости и благодеяний, ты здесь найдешь их, Франческо Ченчи не неблагодарный хозяин: он поставил этот памятник в честь своей достойной собаки Нерона.
(обратно)10
лат. «между живыми», действующий при жизни участников
(обратно)11
Автор Франческо Гверраци был заключен в крепости Вольтерра и лежал в больнице, когда писал свой роман.
(обратно)12
Úrbi et órbi – буквально, «к городу (Риму) и к миру» – название торжественного папского благословения. С выражения Urbi et orbi начинались важные объявления в Древнем Риме.
(обратно)13
Древнейший оракул – в Трофониеву пещеру собирались страждущие за исцелением и ночевали там.
(обратно)14
omnia tempus habent et suis spatiis transeunt universa sub cael, – Всему свое время, и время всякой вещи под небом. Цитата из Библии, Экклезиаст.
(обратно)15
«Суета сует» – цитата из Эккезиаста.
(обратно)16
Ore favete omnes (лат.) – Держи язык на привязи.
(обратно)17
Древний обычай, по которому хозяин, по окончания празднества, дарил каждому из гостей платье и лошадь, а иногда даже и деньги, предоставляя им остаться или уйти – и это считалось самою утонченною вежливостью. (прим. автора).
(обратно)18
Древнеримский император, вошедший в историю, как бесчестный, лицемерный и жестокий правитель.
(обратно)19
Маснадьеры – люди, находящиеся вне закона, бандиты.
(обратно)20
Палача.
(обратно)21
В Италии до XIX века – судебный и полицейский стражник.
(обратно)22
Эпический древнеримский герой Гораций Коклес, притворным бегством разъединил, а позже перебил своих преследователей (прим. ред.)
(обратно)23
Et lux perpetua luceat eis (лат.) – И да сияет им вечный свет. – молитва, используемая в Римско-католической церкви, в которой просят Бога об освобождении душ верующих из Чистилища.
(обратно)24
Сыновья греческого царя Атрия, Агамемнон и Менелай, жизнь которых была наполнена бедствиями и преступлениями, как их самих, так и членов их семей; оба плохо кончили.
(обратно)25
Тальякоццо (итал. Tagliacozzo) – коммуна в Италии, расположена в регионе Абруццо,
(обратно)26
«Salus infirmorum» – первые слова католической литании
(обратно)27
Разбойничья скала.
(обратно)28
В Италии пользуются всяким происшествием, чтобы взять номер лотереи. Там для этого есть книжечки, в которых всякий предмет имеет свой номер: лошадь, например, No такой-то, понести лошадям – другой No; убиться – опять No, и т. д. (прим. перев.)
(обратно)29
Requiem aeternam dona eis, Domine, et lux perpetua luceat eis (лат.). – «Вечный покой даруй им, Господи, и вечный свет пусть светит им». Начальные слова католической заупокойной молитвы.
(обратно)30
Имеется ввиду Олимпия Майдалькини (итал. Olimpia Maidalchini; 1591–1657), также известная как донна Олимпия. Итальянская аристократка, невестка папы римского Иннокентия X (Памфили) (1644–1655), имевшая огромное влияние в период его понтификата, и прозванная при папском дворе «папесса». Одна из влиятельнейших женщин в истории папства.
(обратно)31
«На Монте Бове пустынная дорога» (итал.).
(обратно)32
Имеется ввиду Гораций Коклес, древнеримский герой, сражавшийся с врагами перед мостом.
(обратно)33
Имеется ввиду Нума Помпилий – второй римский царь, прославившийсяся мудростью и благочестием.
(обратно)34
Аналог латинского бога грома Юпитера.
(обратно)35
Авзония (Ausonia) – поэтическое название Италии. Жители Италии в поэтическом языке назывались иногда авзонами.
(обратно)36
Роман был опубликован в 1854 г., когда в Италии шла ожесточенная борьба за освобождение и объединение страны, а сам автор находился в тюрьме в ожидании приговора.
(обратно)37
Отцом является тот, на кого указывает брак (Павел).
(обратно)38
Байокко (итал. Baiocco) – итальянская разменная монета, выпускавшаяся с XV до XIX вв.
(обратно)39
Сбир, сбира, муж. (итал. Sbirro) – низший служащий инквизиции (ист.). || В Италии – полицейский стражник.
(обратно)40
Здесь: с пристрастием.
(обратно)41
Сиро́кко редко широ́кко, (итал. scirocco) – сильный южный или юго-западный ветер в Италии, а также это название применяется к ветру всего средиземноморского бассейна, зарождающемуся в Северной Африке.
(обратно)42
Имеется ввиду популярный в те времена рыцарский роман о неистовом Роланде.
(обратно)43
Впоследствии политическая секта, известная под именем карбонариев.
(обратно)44
Все, что сказано в описании тюрьмы и тюремных пыток Беатриче, списано с натуры, я все это испытал на себе и о многом еще умолчал, потому что читатель почел бы за преувеличение, если б я описал все пытки, которым подвергают заключенных.
(обратно)45
Illustrissimo – светлейший.
(обратно)46
За волосы! Повесить ее за волосы! (лат.)
(обратно)47
Виргиния – героиня ранней легенды Древнего Рима первой половины V века до н. э., описанная автором «Римской истории» Титом Ливием в 3-м томе «Истории». Девушка редкой красоты не соблазнилась подарками и обещаниями сенатора Аппия, и тогда тот, от страсти потеряв голову, решился на грубое насилие. Спасая свою дочь от позора, отец со словами: «Только так, дочь моя, я могу сделать тебя свободной» прилюдно зарезал девушку.
(обратно)48
Имеется ввиду римский император Тиверий, вошедший в историю своей жестокостью, развратом и беззакониями.
(обратно)49
Орден Pénitents Noirs de la Miséricorde был основан в 1586 году для оказания помощи заключенным.
(обратно)50
Камера́рий Римско-католической церкви (итал. Camerlengo, лат. Camerarius) – одна из высших придворных должностей при Святом Престоле.
(обратно)51
Слова Псалма 21 «salva me ex ore leonis et a cornibus unicornium humilitatem meam. – спаси меня от пасти льва и от рогов единорогов, услышав, избавь меня».
(обратно)52
Колизей.
(обратно)53
XIX Вселенский Тридентский Собор 1545–1563 гг стал одной из важнейших вех католичества.
(обратно)54
Подлинные слова, переданные нам хроникою.
(обратно)55
Ora pro nobis – молись за нас (лат.).
(обратно)56
Крестный ход в день празднования Тела Господня.
(обратно)






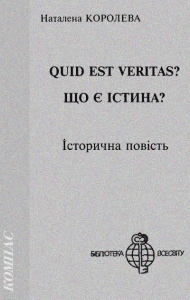
Комментарии к книге «Беатриче Ченчи», Франческо Доменико Гверрацци
Всего 0 комментариев