Виктор Вальд Проклятие палача
© Вальд Виктор, 2015
© ТОВ «Айлант»
Слово к «Моему» читателю
У каждого писателя есть «свой» читатель. У кого-то миллионы, а у кого-то десятки. Этому «своему» читателю нравится именно этот авторский стиль, создаваемые автором образы, сюжеты его произведений. Этот «свой» читатель будет ожидать следующей работы автора, чтобы убедиться в том, что он не ошибся в выборе «своего» писателя. Тем самым предоставляя кредит доверия, и призывая автора к постоянной, добросовестной работе.
Разленившийся и долго отсутствующий автор рискует навсегда потерять «своего» читателя. А значит потерять тот труд, в который он вложил душу и годы, необходимые для создания, стоящего внимания читателя, произведения.
Прошло пять лет, как был издан роман «Палач». Роман о палаче Гудо, неоднозначном образе, в котором я, как автор, хотел выразить мысль – человек многогранен, на одну грань можно положиться, а о другую жестоко израниться. Судя по тому, что за это время было продано около двадцати тысяч экземпляров романа «Палач», этот образ пришелся по душе читателю. Хотя и не всем, и не во всем.
Я старательно собирал рецензии, отклики, оценки, каждое слово читателей о моей книге. От «офигенный роман», до «…пусть редакция купит на те деньги, что я потратила на эту книгу, таблетки. Пусть автор полечит свою больную голову. Так описывать пытки и казни может только автор с больной головой». И еще меня упрекали в том, что «автор навесил в книге множество ружей, многие из которых не выстрелили».
Не в оправдание, а для уточнения скажу; «Палач» это жесткая книга о страшных временах. При этом как не удивительно, но большинство моих читателей женщины! Мой низкий поклон вашему невероятному мужеству.
А еще – роман «Палач» изначально писался как трилогия. Вот только продолжения работы с редакцией «Книжного клуба», г. Харьков не получилось. А мне так желалось, чтобы читатель узнал о дальнейших приключениях палача Гудо, и о том, чем они завершились.
Я не разленился. За прошедшие пять лет я закончил трилогию. Роман «Проклятие палача», вы, мой дорогой читатель, уже держите в руках. Летом (даст Бог) выйдет и окончание – роман «Месть палача». Еще готовы к изданию романы «Спарта» в 2-х томах, «Последний бой Урус-Шайтана», «Бордель «Большая Дора»», «Закон седьмого сына». Это все исторические романы. И смею вас заверить – они достойны вашего внимания.
Вот только одно «Но»!
Книга стала предметом роскоши. Не хочу, и не буду вдаваться в те причины, по которым это случилось. Некогда самая читающая страна в мире в отчаянии смотрит на цены любимых книг и печально вздыхает. Не хватает денег на самое необходимое. Куда уж до книг… Тем более что цены на них все растут и растут. Приходится просить прощение у тех, кто очень желает, но не может себе позволить купить мои книги. Но цена эта не для «поддержания штанов автора», а для окупаемости бумаги, оборудования, труда тех многих, чьи усилия позволили мечту автора превратить в печатное изделие. А еще ваши деньги позволят увидеть свет другим моим произведениям. Больше всего на свете мне хочется именно этого.
Будет чудесно, если у меня, как у писателя будет, хотя бы одна тысяча «моего» читателя. Это будут мои личные друзья! Даже если таких будет десяток, то я найду возможность в «ручном» тираже (100–200 книг) радовать вас. А вместе с «моим» читателем буду радоваться и сам.
Каждая открытая книга оживляет героев литературных произведений. Вместе с ними оживают города, страны и события, спящие в глубине веков…
Спасибо что вы со мной – МОЙ ДОРОГОЙ ЧИТАТЕЛЬ!!!
Искренне ваш Виктор Вальд.
P.S. Если у вас, МОЙ ДОРОГОЙ ЧИТАТЕЛЬ, есть время и возможность, пообщайтесь со мной на страницах моего авторского сайта: VICTORWALD.COM.UA
Пролог
1352 год. Небесный факел парил по небу.
Его видели многие, многие о нем слышали и рассказывали другим, как об увиденном собственными глазами. Милостью Божьей пережившие чуму старики и старухи, что пятнадцать лет назад видели растянувшийся на полнеба огненный хвост кометы, возликовали. Кара небесная за грехи вольные и невольные миновала.
Да, пока еще появлялись на грешной земле предвестники грядущих бед и несчастий.
Люди содрогались от нашествия невиданных ранее насекомых, странного вида червей, толстобрюхих жаб, хвостатых лягушек диковинного вида, множества жуков всевозможных форм, огромных чёрных листоверток, гигантских пауков и от комаров самых невероятных и пугающих расцветок и очертаний.
Но все это уже никак несравнимо с предвестниками Черной чумы – Великого мора!
А предвестники были преужаснейшие!
Проснувшийся на Сицилии вулкан Этна, покрывший серым облаком пепла юг Европы и добравшийся до Кипра. Снегопады и дожди, залившие на весь год Францию и Германию. Повальный мор среди домашних животных. Полчища саранчи, покрывшие землю вплоть до Голштинии. Землетрясения дважды за один год разрушившие множества домов в Ломбардии, Каринтии, Истрии, Швабии, Баварии, Моравии, Риме, Парме. Лютые холода, когда дикие звери, выгнанные из лесов бескормицей, нападали на людей, врываясь в их жилища, а что еще страшнее – выхватывали из рук матерей грудных младенцев.
Не пожелали тогда людишки задуматься над всем этим преужаснейшим. Грех грехом седлали и грехом погоняли. Что ж по делам их и воздалось! Закружила, завертела в смерче смертном Черная чума. Донельзя повеселилась…
Ползают по гигантскому кладбищу под названием Европа диковинные гады, летают в воздухе, пропитанном трупным запахом громадные кровососы…
За грехи, за грехи, за грехи!
Пусть лучшие из людей, кого помиловал Господь, смотрят на это и помнят о каре божьей и на земле и в мире ином.
Вот только…
Разве сравним факел с горящим небом? Пережившие преужаснейшее падут ли на колени при виде мерзких жаб и жутких насекомых? Смутят ли черви тех, кто видел ежечасно гниющие трупы родных, близких, друзей и соседей?
Лучшие из лучших…
Еще не выпроводив из собственных домов черную смерть, в слепоте человеческой глупости, они вновь взялись за оружие. Горячая кровь обильно окропила огромные могилы, в которых без имени и памяти гнили жертвы Великого мора.
Немногие живые, унаследовав богатства и имущества многих умерших, предались безумству пиршеств и убивающему человечность безделью. Молившие Господа на коленях о пощаде, едва миновала беда, вскочили на ноги и огляделись жадными глазами. Жадными до чревоугодия, насилия, разврата, богатства и власти.
Пережив гнев Господний, и перетерпев муки смертные, человек остался человеком!
Ведь человек это тело и душа. Болезней тела неисчислимое множество. У души одна болезнь – ГРЕХ!
Это единственная болезнь, с которой рождается человек, и единственная болезнь которую он может вылечить собственной волей. Следует только обратиться к Господу за помощью!
Но…
Упавший встает и идет, плачущий вытирает слезы и смеется, нашедший воду – пьет, сорвавший плод – насыщается. Ущербность человеческая благодарна за это самому человеку. И гордыня распирает его. И желает он поступать не во благо душе, а в усладу тела, забывая главный закон бытия – Как делал я, так и мне воздал Господь!
Это есть сущность всего…
Глава первая
– Чума тебя проглоти, проклятая Венеция!
Эти слова стоили того, чтобы выкрикнуть их в полный голос, но жизненный опыт, осмотрительность и (чего греха таить) мудрость Джованни Санудо приглушили их до едва различимого шепота. Парчовые занавеси балдахина на корме галеры это не толстые стены родового замка. Но и там, на острове Наксос, окруженном островами собственного Архипелага, он не позволил бы себе такую непростительную ошибку. Не позволит этому свершиться и на борту собственной галеры. Ведь самые большие уши на земле у дожа Венеции. Они даже больше чем у Папы Римского!
И все же он огляделся.
На море едва опустилась темень. Его свита, воины, гребцы и слуги спали. Или, по крайней мере, делали вид, что спали.
Так им велел Джованни Санудо – герцог Наксосский!
Только на носу галеры, прижатые к фальшборту лежащими на боевой платформе арбалетчиками, стояли несколько человек и смотрели туда, куда, скрепя зубами, бросал свой взгляд Джованни Санудо. Эти люди еще не осознавали, куда их направил венецианский сенат, и еще, пока, не знали, как суров и скор на сильную руку герцог.
Прибывшие с герцогом люди об этом хорошо осведомлены, и поэтому даже не смеют поднять головы. Хотя и им ой как хочется взглянуть на впечатляющее зрелище – огромный костер на глади необычайно тихой лагуны.
Джованни Санудо допил бокал великолепного вина своей родины, еще раз взглянул на пожарище и, вздохнув, уткнулся подбородком в широкую грудь.
– Вина, – едва шевельнул губами герцог, и в тот же миг в его руке оказался другой бокал, до краев наполненный волшебным напитком.
Джованни Санудо мутно посмотрел на скользнувшую голову мальчонки, подавшего вино, и уставился на бокал. Тяжелое венецианское стекло играло в его руке множеством веселых огоньков. Как какой-то огромный бриллиант, бокал отсвечивался гранями, наполненный внутренним огнем крепкого вина и повисшими на его краях искорками. Только внутренний огонь звал и подмигивал герцогу, а искорки приводили его в бешенство. Ведь эти искорки, несмотря на огромное расстояние, умудрялись отсвечивать проклятый костер.
«Проклятый бокал. Проклятые венецианцы», – опять прошептал Джованни Санудо и, несмотря на винную тяжесть в теле, приподнялся с роскошного кресла.
Ничего не изменилось. Ни одна голова не поднялась, ни одно тело не шелохнулось. Вот только эти венецианцы на носу галеры, все никак не находили себе место на досках платформы и продолжали стоять. А еще за высокой, богато украшенной резьбой и позолотой, спинкой кресла, в полном вооружении стояли два его ангела хранителя. Их имена – Арес и Марс.
Джованни Санудо ухмыльнулся. Крепкое вино разогрело кровь и призывало к веселию. Или к обратному проявлению своей силы – к философии. Но на поминках горящего корабля не приличествует скалить зубы. А философия… Ну, какая философия может родиться в голове, глядя на этих двух огромного роста, дышащих смертью воинов. Разве что ухмыльнуться собственному сравнению и выдумке.
Арес – бог войны у древних греков. Марс – его копия, только у римлян. А он их сравнил с ангелами. Ангелы верные слуги Господа. А тот гневается, когда людишки вспоминают о каких-то древних богах, которых никогда и не было. Просто Джованни Санудо от любопытства и склонности к учености знает многое. Его острова хранят память веков о мудрых греках и о предприимчивых римлянах. Поэтому он знает и о древних богах войны. Знает почти все. И даже о потомках этих богов.
Только у его собственных, названных им самим, Ареса и Марса потомков, как и у их господина, не будет. И никто о них ничего не узнает, кроме того, что они преданы Джованни Санудо, как выкормленные собственными руками псы. И даже больше. А почему? Но это уже не философия. Это уже тайна. А больше всего на свете герцог любит тайны. Наверное, так же как самого Господа Бога. А еще золото, вино, и оружие. А еще…
Еще Джованни Санудо до беспамятства любит свои галеры. И никакое вино не в силах унять его боль при виде пылающей «Афродиты». Даже за тысячу шагов от проклятого костра Джованни Санудо слышит, как стонет от боли огромная килевая балка, как кричат шпангоуты и рыдают доски обшивки. А еще мачты, паруса, канаты, весла… Вот только безмолвствует огромный герцогский флаг из дорогущего пурпурного шелка, да множество любовно вырезанных из ливанского кедра фигур тритонов, русалок, морских чудовищ, дельфинов и черепах, что в изобилии украшали галеру. И совсем в безмолвии капает с них в холодные воды венецианской лагуны позолота.
Да, умеет мстить Венеция!
«И почему чума вас всех не сожрала, проклятые венецианцы?!»
Джованни Санудо вновь ухмыльнулся. Он проклинал тех, кем в сущности был сам. Как не крути, и как ни мудрствуй, но он сам был венецианцем, как его отец, дед и великий предок Марко Санудо, который сто пятьдесят лет назад отнял у ромеев[1] Кикладские острова в самом сердце Греческого моря[2] и провозгласил себя герцогом Наксосским.
Герцог попытался удобно устроиться в кресле, но сегодня даже мягкое сиденье не радовало его. Роскошное кресло, превосходной венецианской работы раздражало его тело. Как и великолепный бокал из превосходного венецианского стекла. Удивительного стекла. Сказочного стекла со многими удивительными свойствами. Поговаривали даже о том, что если в бокал из такого стекла капнуть яда, он рассыплется на мелкие кусочки.
О, как желал Джованни Санудо, чтобы на его островах изготовлялось это стеклянное великолепие. Это была его страстная мечта. Тогда бы он стал баснословно богат. И счастлив! Тогда можно было бы оставить множество суетливых и опасных дел, которые, впрочем, сделали герцога наксосского богатым человеком. Но не настолько богатым, чтобы быть счастливым.
Но Венеция умела хранить свои тайны и секреты. Никто из тех, кто не был назначен к тому сенатом Венеции, не смел ступить на остров Мурано под страхом немедленно казни. Только на этом острове (одном из более ста островов, на которых располагалась сама Венеция) в день и в ночи пылали печи стекольщиков, и совершалось чудо рождения стекла и зеркал. Но Джованни Санудо найдет способ проникнуть на охраняемый как зеницу ока остров и похитит его тайны. Он был уверен в этом…
Впрочем… Еще в полдень он был уверен в том, что ныне пылающая «Афродита» отплывет на зоре рядом с его флагманской галерой. Отплывет, нагруженная оружием, припасами, воинами и золотом, с тем, что с готовностью предоставит герцогу Венеция.
«Афродита» пылала. Пылали сердце и мозг Джованни Санудо. Он с жадностью припал к бокалу с вином, желая осушить его до дна. Но этому не суждено было случиться.
Приглушенный удар в напряженной тишине остановил руку герцогу.
«Это на носу. Что-то ударило в нос моей галеры. О, Господи, что это?! – вскочил на ноги Джованни Санудо. – Может это Венеция решила добить меня. Она решила утопить мою гордость, мою любовь, мою «Викторию[3]»!
– Огня, огня! – раздались голоса с боевой площадки на носу галеры.
«Проклятые венецианцы! Как они смеют командовать на моем флагмане? Здесь только я имею на то право!»
Джованни Санудо с трудом оторвался от кресла, и, шатаясь, бросился по куршее[4] на площадку для арбалетчиков.
Заслышав тяжелые шаги герцога, воины на носу галеры тут же вскочили на ноги и подались к бортам.
– Что здесь? – гневно воскликнул Джованни Санудо.
– Кажется, лодка, – невозмутимо ответил один из посланников ненавистного венецианского сената.
* * *
«Ему наплевать на мою «Викторию». Выбросить его за борт. Взять за горло и пояс. Одним рывком. И пусть плывет в свою проклятую Венецию. Если он хороший пловец. Никто не смеет быть равнодушным, когда угрожает опасность моему флагману!»
Эти раздумья герцога спасли глупого венецианца. Молния гнева сверкнула в голове Джованни Санудо и погасла. К тому же венецианец мог действительно оказаться хорошим пловцом. Тогда он предстал бы пред сенатом в мокрых одеждах и поведал хитрющим отцам Венеции о помешательстве герцога наксосского. Можно было не сомневаться в том, что уже очень скоро его объявят лишившимся рассудка, и тогда Архипелаг будет не под покровительством республики Святого Марка, а станет его колонией.
«Как его имя? Кажется, он лекарь. Да, лекарь».
…Этим утром в зале большого собрания сенатор Пачианни, едва сдерживая удовольствие, печально кивал голой:
– Враги скоро покусятся на ваш Архипелаг, герцог. Ваши люди прольют много крови. Это печально! (Кивки головой участились). Примите хотя бы малую помощь. У сената есть для вас несколько весьма полезных и благородных помощников. Надеюсь, они заслужат вашу благодарность своими непревзойденными умениями…
– Юлий? – едва сдерживаясь, прошипел герцог.
– Юлиан Корнелиус, – в поклоне поправил своего нового хозяина лекарь.
Джованни Санудо тут же отвернулся от посланника Венеции и повис на фальшборте:
– Огня! – велел герцог, и тут же с двух сторон от него в темень протянулись два факела. – Вот это да! Тащите эту проклятую лодку к борту! Комит[5], командуй!
Как из-под земли, а точнее, из-под палубных досок, возник здоровяк Крысобой и до боли в ушах дунул в свой бронзовый свисток. Затем он взмахнул над головой огромным кнутом и громко щелкнул им по скобленым доскам боевой площадки:
– С первого по восьмое весло на правый борт! Лодку в абордажные крюки! И живее крысиные выводки!
Тут же команду повторили два его помощника – подкомиты, и, спрыгнув с куршеи, стали плетьми, кулаками и ногами ускорять пробуждение гребцов. Но действовали они выборочно и с пониманием. За первыми четырьмя парами весел работали вольнонаемные гребцы, которые в силу своих привилегий спали за бортом, на скрещенных над водой веслах. На их плечи никогда не опускалась плеть. А вот для невольников-мавров, турок и других пленников, что были прикованы от пятой до десятой банки[6], не пожалели ни своих рук, ни их тел.
Очень скоро весла были втянуты на палубу, а моряки абордажными крюками провели непрошеную ночную гостью к низкому борту.
Растолкав не успевших отклониться гребцов, Джованни Санудо повис над лодкой. То, что он желал увидеть, тут же было освещено все теми же двумя факелами.
«Они всегда рядом и рады услужить мне. Мои бесподобные Арес и Марс», – на мгновение отвлекся герцог, затем с интересом стал осматривать то, что посмело соприкоснуться с его «Викторией».
– Их преследовали пираты…
Джованни Санудо икнул от такой наглости. Опять этот паршивый лекарь смеет первым открывать рот.
– Все стрелы арбалетные и равной длины. Эту лодку обстреливали воины из одного отряда арбалетчиков…
Герцог опять икнул и медленно повернул голову вправо. Сказавший это был прав. Сенат прислал его, рекомендовав как знатока военных механизмов. Только как его имя?
– Не пожалели стрел для этих несчастных…
А вот имя сказавшего это, Джованни Санудо помнил. Пьянцо Рацетти. Великий знаток военных укреплений. Этот, пожалуй, мог понравиться герцогу. О нем уже раньше слышал властелин Архипелага. Такие мастера на вес золота. И как его только решился отпустить сенат?
Но все равно, это не дает ему право говорить без разрешения Джованни Санудо. Эти венецианцы всюду чувствуют себя как дома и едва ли не хозяевами. Люди с чувством высокого превосходства. Но, ничего! У них еще будет время и возможность узнать, что такое превосходство герцога наксосского! Пока следует присмотреться к этой троице и выяснить, кто из них будет доносить сенату обо всех делах Джованни Санудо.
А, впрочем, зачем выяснять? И так понятно – все трое!
– Кажется там женщина и дети, – взволнованно сообщил лекарь.
– Вот и посмотри – кто жив, а кто…, – Джованни Санудо напрягся и после долгой паузы выдал: – Diagnosis ex observatione[7].
Даже вино не отняло у герцога его ученую мудрость. Чистая латынь – язык науки и священнодействия. Это не «вульгарная латынь[8]».
«Заодно и проверим, какой ты лекарь. Не могла Венеция отпустить хорошего лекаря, когда чума еще бродит по городу. Может твоя Artium magister[9] выдана в тайных подвалах Совета десяти[10]?», – ухмыльнулся Джованни Санудо и пристально посмотрел на молодого лекаря.
Тот не отвел лица, выдержав взгляд герцога. Он только посмотрел на своих венецианских компаньонов и под их молчаливое согласие ловко перевалился с борта в лодку. После долгого осмотра он поднял голову и с усмешкой сказал, обращаясь к герцогу:
– Diagnosis ex juvant bus[11] в данном случае говорит: «Один мужчина мертв». И, как говорил мой наставник по медицине в славном университете Салерно: «Contra vim mortis non est medicamen in hortis[12]. Второй мужчина, это тот, что на веслах – Articulo mortis[13], и боюсь это Casus incurabilis – «неизлечимый случай». В его теле четыре стрелы. А вот женщина с младенцем и две девушки, кажется, не пострадали. Удивительно! В лодке стрел больше, чем иголок на еже.
– Casus incurabilis – неизлечимый случай… А ты вот возьми и излечи! – в раздражении выкрикнул герцог. – Слышишь! Я велю излечить! Венеция за тебя ручалась.
Затем Джованни Санудо повернулся к своему комиту, по прозвищу Крысобой, и строго велел:
– Проследи, чтобы лечил. Девушек и женщину в твою каюту. Завтра посмотрю. А ты смотри, чтобы никто на них не смотрел, и пальцем не тронул.
– А тот, что мертв? – в поклоне спросил Крысобой.
– Похоронишь, как брата родного, – зло улыбнулся герцог.
Ему нестерпимо желалось вина. Бокал. Нет, еще два. Может быть два больших бокала заставят уснуть Джованни Санудо и завершат этот проклятый день.
Дай-то Бог.
Потревоженный осмотром лекаря, а затем испуганный громкими разговорами, проснулся и взахлеб заревел младенец. Его тут же приглушила женская грудь. Мужчина на веслах встрепенулся и приподнял голову:
– Живы…, – едва слышно вымолвил он.
В ответ женщина тихо заплакала и положила голову на колени гребца.
Герцог пьяно хмыкнул, и погрозил пальцем лекарю:
– Слышал? Он жив! А ты говоришь – одной ногой в гробу! Лечи! Хочу услышать от него причину такой яростной атаки.
– Кажется, на это есть какой-то ответ, – склоняясь над убитым, загадочно произнес лекарь. – Кажется, я узнаю убитого…
– Ну, и? – с кривой усмешкой спросил Джованни Санудо.
– Пусть еще взглянут на него мои друзья венецианцы… Но, пожалуй… Мне кажется это Анжело – личный секретарь дожа нашей славной Венеции Андреа Дандоло.
«Одним проклятым венецианцем меньше, – внутренне возликовал герцог Наксосский. – За это нужно выпить!»
Но этого злорадства не должны были видеть другие, тем более эти три венецианских посланника. Джованни Санудо тяжело взобрался на куршею и направился в свою роскошную беседку на корме галеры.
– Герцог… Великий герцог! Оставьте надлежащие распоряжения! Если это секретарь великого дожа, то нужно сообщить дожу и Совету десяти! Это ужасное преступление против Республики Святого Марка!
Но на все эти возгласы венецианцев Джованни Санудо, не оборачиваясь, неопределенно махнул рукой. Ему нестерпимо желалось выпить бокал вина. А лучше два…
* * *
– Мой друг, в интересах нашей славной Венеции, ты должен вытащить с того света этого человека. Ты должен. Если нужна наша помощь и поддержка… Во всем располагай нами!
Юлиан Корнелиус медленно поднял голову и кисло улыбнулся. Чем может помочь в медицинском вопросе Пьянцо Рацетти. Говорят он великий знаток того, как из камня, дерева и земли возвести неприступные крепости. Это у него от Бога. Но в данном казусе[14] лучше был бы у него лекарский дар от Всевышнего. Да и от Аттона Анафеса, третьего венецианского посланника, разумного совета в столь сложном вопросе как внутренности человека не приходилось ждать. Ему, знатоку военных машин, были известны тысячи способов как разрушить, разорвать, испепелить, стереть в пыль человеческое тело. Но как вернуть в него душу, воспламенить и оживить, он, скорее всего, не знал. Может поэтому и молчал.
– Мы должны первыми допросить этого свидетеля. Я пытался говорить с его женщиной и девушками, но они или слишком испуганы, или не понимают венецианского словосложения. У нас нет возможности уплыть в Венецию и возвестить Совет десяти об этом преступлении. Проклятый комит подпер спиной двери этой каюты, а его помощники зорко следят за каждым нашим шагом. Ты уж постарайся, Юлиан Корнелиус. Венеция тебя отблагодарит! Утром мы внимательно осмотрим труп. И если это действительно Анжело… Герцог Санудо еще пожалеет о том, что не проявил внимания к столь щекотливому делу.
Последние слова Пьянцо Рацетти произнес шепотом, дважды оглянувшись на дверь.
Лекарь, оттягивая и с ответом и с делом, к которому его призывали, медленно осмотрел тесную каюту. Три шага в длину, и четыре в ширину. Все это, едва большее чем могила, пространство занимали мотки веревок, такелаж и всякая всячина, покрытая досками и тощим тюфяком, что служили кроватью для мрачного комита по прозвищу Крысобой.
Мгновением раньше палубные матросы бережно сняли с тюфяка капитана горящей «Афродиты» Пьетро Ипато. Тот желал сгореть вместе с вверенной ему галерой. Герцог проявил невиданное для него милосердие. Он приказал связать и мертвецки напоить капитана. Впрочем, их связывали многие годы доверенного общения и тайны многих дел.
Теперь на тюфяке лежал крупнотелый мужчина, до дикости обросший волосами и бородой. Но на его лицо Юлиан Корнелиус взглянул мельком. Так же, как и на торчащие в его теле стрелы и тугие повязки, почему-то выше ран. Взгляд лекаря медленно бродил по доскам стен и потолка каюты. Этот взгляд с готовностью останавливался на каждом крюке, на котором весели цепи, плети, одежда и мешки Крысобоя, все то, что нужно было комиту для жизни и работы на галере.
Юлиан Корнелиус с удовольствием осмотрел бы и стену, и дверцу в стене. Но в спину ему дышали Пьянцо Рацетти и Аттон Анафес. Дышали и ждали. Горячо дышали. С нетерпением ждали.
– Друзья, – едва слышно выдавил из себя лекарь. – Мне нужны еще два светильника, горячая вода и мои лекарские принадлежности…
– Да, да! – с готовностью выкрикнули оба стоящих за спиной венецианца, и поспешно вышли за дверь.
Оставшись наедине с раненым, Юлиан Корнелиус вдохнул на всю грудь. Но это ему не помогло. Голова сама опустилась, а руки сложились в молитвенном положении:
– Я не знаю, как зовут тебя, человек. Я дам тебе имя – Варвар. Так древние римляне называли всякого бородатого человека[15]. Это имя будет с тобой, пока ты умрешь. А умрешь ты скоро. Я знаю. Ведь никто не в силах тебе помочь. Особенно я. Я помолюсь за твою душу. Этому я точно учился.
Юлиан Корнелиус закрыл глаза и стал шептать молитвы. Он вдохновенно произнес Pater noster[16], Ave, Maria[17] и уже заканчивал Anima Christi[18]. Заканчивал вечными словами, что успокаивали душу умирающего:
– В час смерти моей призови меня. Прикажи, чтобы я пришел к тебе, и с твоими Святыми пел хвалу тебе во веки веков.
Оставалось произнести только «Аминь», но оно произнесено не было.
– Quis tu sis?[19].
Юлиан Корнелиус вздрогнул и открыл глаза. В них смотрели глаза того, кого он провожал в лучший мир.
– Я… Лекарь, – неожиданно перешел с латыни на венецианский Юлиан Корнелиус.
– Ненавижу лекарей, – по-венециански, но со странной растяжкой произнес умирающий.
Юлиан Корнелиус понимающе кивнул головой, но тут же встрепенулся и сказал:
– Мне приказали тебя вылечить. Это важно!
– Да, это важно, – с хрипотой ответил раненый. – Спасите мою жизнь, и Господь ответит вам тем же добром, и даже большим. Я уже говорил однажды эти слова. Другому лекарю. Пусть он живет и помнит, что его единственное проявление добра спасло ему жизнь. Помоги!
– Если бы я мог… Если бы не Casus incurabilis… У меня не было такого…
– «Неизлечимый случай». У каждого лекаря это впервые. И если он лекарь…
– Если… – едва вымолвил Юлиан Корнелиус, и тут же громко добавил: – Если Господу будет угодно.
– Вы сможете, – умирающий крепко схватил за руку лекаря. – Я помогу вам. И себе! Этой ночью вы многое узнаете о ранах и человеческом теле… И…
Дверь со скрипом отворилась, и в ее проем втолкнули среднего размера деревянный сундук, на котором горели два безопасных светильника.
– Скоро согреется вода, – сообщил голос за дверью и тут же ее прикрыл.
Раненый с напряжением приподнял туловище:
– Подложите мне под спину этот мешок. Теперь под ноги тот. Нет больший. Раненый в живот лучше переносит рану в полусидячем положении. А ноги… Потом объясню. Я должен отдохнуть. Возможно усну. Но как только принесут воду, прикоснитесь пальцем к кончику моего носа. Мне нужно вернуться в подземелье… К мэтру…
Последнее слово лекарь Юлиан Корнелиус не расслышал. Но он был рад тому, что раненый потерял сознание, и никто его больше не тревожил и не призывал к действию. Он бы и сам с удовольствием улегся бы рядом с этим «варваром» и предался сну.
Но в спину ему по-прежнему горячо дышали Пьянцо Рацетти и Аттон Анафес. Хуже того, за спинами этих двух истинных патриотов, раскаленной лавой дышала Венеция!
И зачем только Юлиан Корнелиус признал в трупе секретаря дожа. Лучше бы лекарь этого не делал. А еще лучше, если это просто ошибка.
* * *
Но он не потерял сознание. Такое не могло и не должно было случиться.
Он знал, что такое боль. Может быть, единственный среди живущих, который знал о боли все. И он точно знал – большинство раненых умирали от того, что не знали, что такое боль. Их тела вздрагивали и погружались в ужас когда разрывалась кожа, рвались мышцы, ломались кости и вываливались внутренности. Их мозг, ошпаренный болью, отказывался понять ее причину и снимал с себя всякую ответственность перед каждой частицей тела…
– …За все, что происходит с телом – ответственен мозг! Вот смотри. Внимательно смотри! Это мозг человека! Тоже находится и в твоем черепе, Гудо…
Нет, он не потерял сознание. Он только вынужденно вернулся туда, куда в последние четыре года мысленно возвращался. И каждый раз с отвращением и… благодарностью. Боль обратилась к сознанию. Сознание к памяти. А та, охотно, с кривоватой улыбкой, отворила дверь своего лабиринта.
Направо, налево, вверх, вниз, опять направо… И через каждый шаг – двери, двери, двери… А вот и та, за которую просились. Она отворяется. Медленно, как прошедшая жизнь, и также мгновенно, как она пролетела. И вот она открыта. Она приглашает бездной тьмы и леденящим холодом.
Но он знает – стоит ступить шаг, и окажешься в желанном месте и в нужное время. Желанное и нужное… Вот только эта бездна тьмы и леденящий холод… Как жутко, неприятно и страшно возвращаться к пережитому, к тому, что было назначено Господом за грехи, и определено сатаной за них же!
Подземелье Правды. Мрачное подземелье для пыток и казни человека человеком. Место, созданное людьми как прообраз, как догадка того, что ожидает грешников в аду. А если человеческие пытки и истязания просто щекотка по сравнению с сатанинскими муками ада? А почему, если? Если это так и есть! Вот он ад на земле для грешников.
И придумал его и правит в нем сатана в человеческом обличии, мастер пыток и казней – мэтр Гальчини. И он же – равный Богу врачеватель. Великий человек и омерзительное чудовище! Отнимающий и дарующий жизнь! Место его в аду, и… в памяти его единственного ученика. Ученика, с обличием, на которое нельзя было смотреть без содрогания. А имя ученика – Гудо!
Вот он Гудо. Вот он мэтр Гальчини.
Их разделяет узкий стол, на скобленых досках которого возлежит серо-голубая горка, в петлях и извилинах которой еще недавно бродили мысли и желания.
Голос мэтра Гальчини горячий. Говорит взахлеб. Таким учитель бывает в те часы обучения, когда предмет науки вызывает у него самого искреннее восхищение.
– Ты уже видел мозги человека. Я знаю, ты крошил человеческие головы, и видел, как из черепных дыр вытекала серо-кровавая каша. Тогда на это ты смотрел, в лучшем случае, с безразличием. Откуда тебе было знать, что это, не просто животный мозг, который ты любишь поджаренный с чесноком и луком. Это разум, что выделяет человека из животного ряда.
– Я не ел человеческих мозгов. Ни сырых, ни жареных, – обиженно произносит ученик.
Слова Гудо веселят учителя. Он сегодня на редкость в отличном расположении духа. Старый епископ Мюнстера, считающий себя хозяином Подземелья правды, отправился в Рим по делам веры. Путь туда долог. И обратно не ближе. Так что полгода мэтр Гальчини ни с кем не будет делить, даже условно, свою власть над созданным им земным адом.
– Ладно, ладно… Жизнь иногда преподносит неожиданные повороты… Как знать! Но бараньи, или коровьи мозги ты ел, и с удовольствием! Человеческие – по вкусу им не уступают, даже… (Учитель закашлялся, затем широко улыбнулся). У древних философов есть упоминание о племенах, в которых за особое достоинство считалось съесть мозги врага, чтобы овладеть его мудростью и силой. Но это не правда. Это я точно знаю.
Но сейчас я хочу сказать тебе о твоих же мозгах, как о божественном ангеле, который всегда с тобой, и который спасет от любых бед. Спасет, если правильно обратиться к нему. Мы уже говорили о философах. Ты помнишь, кто они?
Конечно же, Гудо намертво запомнил – кто они, философы. Запомнил, четверо суток проведя без воды и хлеба. Это учитель посчитал самым верным способом, который сработает, чтобы вдолбить в чудовищно большую голову Гудо самое светлое и чистое, что было в необъятных знаниях мэтра Гальчини.
– Философ – это человек жаждущий мудрости!
– Именно! Жаждущий! Как ты четыре дня жаждал пищи и воды. Достигший вершины мудрости видит не только то, что вокруг него, но и самое главное – он видит, что внутри его самого! А это значит, он способен жить сколько пожелает!
Учитель на мгновение закрыл глаза и сладостно улыбнулся:
– Ты еще пока не понимаешь, как тебе сказочно повезло. Но вернемся к этому величайшему дару Божьему. В философии сознания различают понятия разум и мозг. Указывают также на взаимопроникновение мозга и таких понятий, как сознание, разум, рассудок, дух, душа и память. Об этом мы еще будем говорить. Сейчас хочу сказать вот о чем. Ты помнишь, как определить повреждение внутренних органов со слов тех, кто ранен или покалечен? Хотя бы некоторые.
– Это… Это… Если повреждена печень – боли в правом подреберье с толчками в правое плечо. Травма селезенки сопровождается слабостью, головокружением, болями в левом подреберье, отдающимися в левой половине шеи, ключице и плече. Рвота с кровью говорит о повреждении желудка и…
– Достаточно. Все-таки мне удалось втолкнуть в твою омерзительную голову важное и нужное. Теперь впихнем в нее твоего собственного ангела хранителя. Надеюсь, это мне удастся. Призвав его, ты будешь бродить в собственных внутренностях, и видеть их, как сейчас видишь меня. А начнем мы с боли. Именно боль учит и приучает мозг! Многие виды боли ты уже испытал на себе. Теперь мы будем учиться ею владеть…
…О, как холоден палец этого венецианского лекаря! Этот холод гудящим сквозняком вытаскивает Гудо из лабиринта памяти и закрывает за ним дверь, за которой страдания и знания слились в одно тело.
* * *
– Я запомню – прикосновение к носу раненого возвращает ему сознание.
– Нет, лекарь, этого не нужно запоминать, – тихо ответил Гудо. – Вода парует?
– Я бы не решился опустить в нее руку.
– Хорошо. Позвольте взглянуть на ваши лекарские принадлежности.
Юлиан Корнелиус вспыхнул:
– Еще чего!
Но тут же жаром на него пахнула Венеция. Лекарь тяжело вздохнул и поднял крышку сундука. Освещая содержимое безопасной лампой, лекарь бегло сказал:
– Здесь все, что нужно лекарю с университетским образованием. Вот листы бумаги, на которых изложены первостепенные диспуты на предмет толкование текстов античных и некоторых арабских врачевателей. Гиппократ, Цельс, Гален, Авиценна… А еще рецепты лекарств. Не все конечно. Важнейшие из них хранятся в моей голове. В этих мешочках целебные травы. Их названия вряд ли тебе понятны, как и то, что смешивание их в разных пропорциях может оказаться и лекарством и ядом. Здесь полезные телу минералы и соли. Это ступка для растирания. Это колбы с насечками для дозирования. А вот это клистир. Видишь медная трубка с воронкой. На конце трубка запаяна и проделаны в ней отверстия. Этот конец вставляется в анус на две-три ладони, и через воронку больному подается лекарство. Это очень действенное средство, так как желудок человека, эта маленькая печка, чаще всего сжигает полезное свойство лекарства. А через низ живота лекарства попадают во всей своей целебной силе. Так же через клистир можно кормить больного.
Но я не думаю, что тебе это важно знать. Это дела ученые. Ах, да! Этот сосуд называется уржария. В нем собирается моча больного. А она, как известно главное в определении недуга и того как лечить болезнь. Что еще… Вот баночки с целебными мазями. Амулеты, освященные церковью. А так же разное, что имеет научное название, доступное только дипломированным лекарям.
– Значит, ни ножей, ни пил, ни зажимов, ни воротов, ни кусачек, ни клещей, – печально произнес раненый.
Юлиан Корнелиус выпрямился и надул грудь:
– Я доктор медицины, с дипломом Салернского университета, а никакой-то ремесленник-хирург или цирюльник!
– Простите лекарь. Я не желал вас обидеть. Только вот мои раны… Здесь без низшей медицинской помощи хирурга не обойдется. Стрелы нужно извлечь, а раны закрыть.
Юлиус Корнелиус печально вздохнул:
– Я же говорил Casus incurabilis. Я вообще не пойму, почему ты до сих пор жив? Эта стрела в животе… Она так глубоко вошла… Ее невозможно извлечь, если не рассечь всю брюшину. А это скорая смерть! А еще стрелы в ноге, плече, предплечье. Даже если стрелы извлечь сразу после ранения и раны обработать, то едва ли каждый второй доживает до следующего утра. От стрел кровь становится черной и убивает человека. Я слышал, что английские лучники, чтобы их стрелы были еще ядовитее, перед выстрелом в бою втыкают их в землю…
– И не только, – скрипнул зубами раненый. – Я готов. Нужно вытащить стрелы.
– Я… Я могу попробовать вырвать их из твоего тела. Раз уж это так необходимо Венеции. Что же, я готов на время стать ремесленником и поработать руками.
– Нет, лекарь. Это не поможет. Я уже осматривал одну такую стрелу. Ее наконечник не слишком крепко сидит на древке. Для прочности он посажен лишь на пчелиный воск. Те, кто стрелял в нас, и не думали эти стрелы использовать вновь. К тому же… Только на учебных стрелах наконечники крепко соединены с древком. На войне важнее, чтобы было невозможно вытащить смертельное жало стрелы.
– Да, да… Мне это известно. Хирурги и цирюльники погружают в такую рану щипцы и захватывают острие. Но у меня нет таких инструментов. Хотя я думаю, на галере что-то найдется.
– Та женщина… И девушки, что были в моей лодке, они здесь? Рядом?
– Думай о себе, – сердясь, произнес Юлиус Корнелиус. – Ты истечешь кровью и… Странно, но что-то вокруг твоих ран не так уж и сочится кровь. Или у тебя ее просто не осталось!
– Это повязки…
Но лекарь с нетерпением перебил больного:
– Какой же злой человек крепко наложил повязки не на саму рану, а возле них? Что за чудовищное невежество! Что за глупость, граничащая с преступлением!
– Эти жгуты остановили кровь, – тихо вымолвил раненый.
– Еще одна глупость! – в раздражении выпалил лекарь.
– Кровь пульсирует по сосудам, и если пережать крупные сосуды…
– И какой же глупец тебе это сказал? – качая головой, с кривой усмешкой спросил Юлиус Корнелиус.
Гудо на мгновение прикрыл глаза…
…Глупец… Глупец великий Гальчини! Его можно было назвать как угодно, но только не глупец!
Бывало такое в процессе многолетнего обучения, что мэтр не говорил, а показывал на самом наглядном пособии – человеческом теле! Живом человеческом теле!..
Гудо так же как и лекарь покачал головой, но от кривой усмешки воздержался.
Не смотря на пережитое и ужасные раны, на которых крайне необходимо было сосредоточиться бывшему ученику подземелья Правды, вдруг назойливо представилась невозможная картина. Столб, к которому привязан очередной несчастный, попавший в звериные лапы мэтра. Сам Гальчини возле него с набором ножей, заточек и жгутов. А так же множество ученых мужей и студентов, что на кафедрах расположились вокруг жуткого действия.
И действие началось!
Порез – брызги крови. Прокол – жуткий красный фонтан. Еще удар ножом, еще пронзенная мышца. А затем быстрое и умелое накладывание жгутов. И кровь едва сочится.
В первый наглядный урок учитель пожалел слов для Гудо. Впереди были долгие годы объяснений.
Но если бы такой урок для ученой медицины состоялся – он, пожалуй, сделал бы одолжение науке. А может, и нет. Слишком непредсказуем был мэтр Гальчини. Ведь невозможно одним действием убедить во многом. Особенно если ученые мужи множество веков считали, что в теле человека есть отдельные системы кровообращения. Отдельно для сердца, отдельно для мозга, отдельно для желудка. Понадобились бы многие годы и многие тела, чтобы убедить, что система кровообращения одна для всего тела. А переносится кровь от органа к органу через полые трубки. И трубки эти можно закрыть, чтобы избежать ненужной потери крови в то время, когда обрабатывается рана или пока нет возможности ее обработать. А главное, что благодаря циркуляции крови по единой системе действуют лекарства, которые принимает человек.
Скорее всего, он бы не стал убеждать во всем этом ученых мужей. Первые же его слова, противоречивые со всем, что известно науке, были бы встречены гневом или смехом. А Гальчини ни того, ни другого в свою сторону терпеть не мог.
Вот этих бы ученых мужей да в подземелье Правды. Да на долгие десять лет!
Гудо встряхнул своей огромной головой:
– Девушка. Ее зовут Грета. Скажите ей, пусть возьмет что нужно. Слава Господу у меня есть все, что нужно. А главное – у меня есть Грета!
* * *
…Гудо не узнал ее. Он почувствовал ее сердцем!
Стражники побросали на каменистый берег несколько мешков, перед тем выбрав из них достаточно того, что они посчитали за плату. Мясо, хлеб, понравившаяся одежда. Ровно половина от того, что родственники, друзья и знакомые передали для несчастных, судьба которых забросила их на зловещий остров Лазаретто. Это плата за рискованный труд доставки передачи на чумной карантин. Их совсем не волновало то, что остатки в мешках сразу же оказались не в тех руках кому они предназначались.
Пока четверо стражей закона славного города Венеции держали на изготовке свои арбалеты, голодная толпа, вероятно наученная предыдущим, смирно стояла в десятке шагов от берега. Но как только с борта на берег сошли последние несчастные, которых сослали на Лазаретто, и как только эта лодка, привязанная к лодке стражников, отошла на полсотни шагов от кромки воды, толпа качнулась и бросилась к мешкам.
Свалка была непродолжительной. С десяток все еще крепких мужчин кулаками и ножами разогнали стариков, женщин и детей. С веселыми шутками, смехом и довольным криком мужчины схватили то, что подвернулось им под руки из разорванных мешков, и разбежались в разные стороны. Те же, кому не досталось ничего, рухнули на камни, и, направив мокрые от слез лица на небеса стали громко взывать к Господу, чтобы тот покарал грешников. Некоторые из молящихся вскоре поспешили за счастливчиками в надежде выпросить, или отработать у добытчиков то, что могло утолить голод.
На невысокой скале справа стояли еще несколько мужчин при мечах в добротной, теплой одежде. Они с равнодушием посмотрели на быстро закончившуюся свалку, а затем перевели свой взгляд на вновь прибывших. Не торопясь эти мужчины спустились к берегу, на ходу обсуждая и деля между собой живой товар.
– Пойдем, Кэтрин.
Гудо взял за руку девочку. Кэтрин кивнула головой и последовала за тем, кто сказал, что обещал ее родителям заботиться о ней.
– Эй, постой!
Дорогу Гудо преградили двое «покупателей» живого товара.
– Это твоя дочь? – спросил тот, что постарше.
Спросил, улыбнулся и положил ладонь на рукоять меча.
– Ну, что ты мой дорогой друг Фарго, – усмехнулся стоящий рядом «покупатель» помоложе, и так же опустил руку на свой меч. – Разве может быть у такого урода, такая прелестная дочь. Он ее украл. Сознайся. Здесь, на этом проклятом острове, тебя никто не осудит и не покарает.
Гудо поправил перекинутые через плечо мешки, и локтем открыл полу плаща. Его рука поглаживала рукоять короткого меча.
Оба покупателя посмотрели на этот меч, затем на крупное тело мужчины в странной синей одежде.
– Мы дадим тебе за девочку пол мешка отличной пшеничной муки и бочонок соленого мяса. А еще ты сможешь приходить и брать у нас ежедневно кувшин воды, – деловито предложил Фарго.
Гудо отрицательно кивнул головой и продолжил свой путь.
– Ну, ничего. Скоро ты ее приведешь за лепешку и кружку пива, – мстительно в спину выкрикнул младший «покупатель».
– Никого и ничего не бойся. Пока я буду в силах и при памяти, с тобой ничего печального не случится. А я всегда буду в силе и при памяти. А пока нам нужно кое-кого разыскать на этом острове.
Кэтрин кивнула головой и поспешила за широкими шагами благодетеля, которого родители выпросили у Господа.
Песчаный остров с выступающими глыбами и с множеством мелких камней был просто клочком суши в Венецианской лагуне. Бесплодным и непригодным к жизни. Местом для отдыха морским птицам, и кладбищем для тех, над кем посмеялась судьба. Ни дерева, ни куста. А если и была трава, то она уже давно переварена в желудках узников карантина.
Гудо остановился и огляделся. Неподалеку от берега недостроенное здание. Два крыла. Левое едва поднялось от фундамента. А правое крыло было покрыто лишь на половину дощатой крышей. На второй половине ни досок, ни балок, ни перекрытий не было. Все это или уже сгорело в кострах, или превратилось в решетчатые хижины, что враждебно отстояли друг от друга на десятки шагов. Между этими убогими жилищами без цели и понимания шатались исхудалые люди. Им уже давно не было о чем говорить друг с другом. Да и сил на это тратить не хотелось.
Гудо с девочкой подошел к крайней хижине, решетчатую стену которой подпирал старик в длиннополой тунике, некогда благородного белого цвета, и небрежно накинутом рваном плаще, отороченном лисьим мехом. Сохраняя остаток жизни, старик сидел неподвижно, и только движущиеся глаза говорили о том, что у него все еще есть интерес к этому остатку.
– Да прибудет с тобой Господь, старик.
– Пусть лучше прибудет со мной сладкий окорок и бокал вина, – усмехнулся на приветствие старик.
– Я ищу женщину и ее дочь…
Но старик прервал Гудо:
– Ищи. На этом острове поиск не представляет труда. Проклятый кусок проклятой земли. Четыреста шагов в ширину и пятьсот в длину. Если твоя женщина не богата, и не прекрасна как утренняя роза, ищи ее среди этих хижин. А вот дочь ее сразу лучше искать в больнице святого Лазаря, исцелителя прокаженных и тех, кого коснулась проклятая чума. Но это совсем не святое место. В нем правят пиры демоны в человеческом обличии.
– Это здание с половиной крыши?
– На стенах половина крыши, а на телах тех, кто там живет половина головы…
– Да укрепит господь твое тело и душу, старик.
Старик засмеялся, закашлялся и замахал рукой:
– Иди. Если за твою девочку тебе что-то перепадет, не забудь обо мне. Кусок каши лучше укрепит мое тело и душу, чем забота Всевышнего.
Гудо не узнал ее. Но сердце… Оно не могло обмануться. Оно не могло не почувствовать родное, близкое, любимое. Самое дорогое, что было, есть и будет в жизни мрачного чудовища, которое через страх, боль, унижение, молитвы и спасение многих людей обретало человеческие черты. С этими чертами в тело того, кого все неизменно раннее называли демоном, возвращалась душа. Именно она теплом и божественной сутью не только отогрела сердце, но и оживила его, научив чувствовать, понимать и любить.
Такое сердце не может обмануть душу, ибо он не позволяет обмануть и себя.
Гудо на мгновение остановился перед сидящим у полуоткрытой двери юношей. Тот даже не поднял голову, чтобы взглянуть на подошедших. Юноша сжался в комок и был безучастен ко всему происходящему. Лишь покачивание куска одеяла, в котором всхлипывал младенец, отличало его от мертвеца.
Тень печали легла на уродливое лицо Гудо. Пряча эту ненужную гостью, мужчина в синих одеждах еще ниже натянул край капюшона своего огромного плаща. Ему захотелось крепко закрыть глаза, чтобы не видеть этого исхудавшего до кости, выстриженного под корень подростка с грязным как у угольщика лицом. А еще не видеть трясущихся от холода рук и синих ступней ног в ссадинах и кровоподтеках от острых камней негостеприимного острова.
Крепко закрытые глаза оборонительное оружие трусов. А также тех, кто готов в любое мгновение разрыдаться от жалости к себе и к другим. Рыдать и ничего не предпринимать. Такого за Гудо не водилось. Жизнь и люди ему такое не позволяли.
– Кэтрин, жди меня здесь.
Сердце Гудо рвалось из груди и не понимало, почему кости до сих пор не отворились, освобождая путь. Оно уже должно было быть за порогом этой полуоткрытой двери. Шаг, еще шаг…
В святом месте, которому покровительствовал друг самого Христа, воскрешенный самим сыном Божьим из мертвых Лазарь, святости не соблюдали.
Гудо медленно прошел с десяток шагов по огромной комнате пока заметил в углу тусклый светильник. Под ним, за досками, установленными на низких строительных козлах, восседало трое уже изрядно пьяных мужчин. Их из тонкой шерсти камзолы лежали тут же на досках вперемешку с остатками пищи, дорогими бокалами и глиняными кувшинами. Вспотевшие от горевшего в нескольких шагах очага, они мутными глазами наблюдали за тем, как на краю этого шаткого стола совокуплялся с женщиной их четвертый друг.
А тот рычал и зло отфыркивался, всем своим видом показывая, что этот сладостный грех ему не в радость. Он сделал еще несколько сильных толчков, грязно выругался и с силой сбросил женщину с досок:
– До чего ты холодна. Даже мертвая потаскуха была бы мне приятнее.
На эти слова, сидящие за столом пьяно рассмеялись.
– Я же тебе говорил.
– Вытолкай ее в шею.
– Я отсюда слышу, как от нее разит холодом. Слышишь, Тьеполо. Выброси ее.
Тот к кому обратились, как Тьеполо с трудом натянул на себя узкие кожаные брэ[20], и, пошатываясь, подошел к лежащей женщине:
– Убирайся и больше никогда не показывайся мне на глаза!
– Хлеба, – тихо простонала женщина, – Кусочек.
– Может тебе еще дать мяса и налить вина, – зло воскликнул Тьеполо, и замахнулся на нее рукой. Постояв с поднятой рукой, он все же передумал, и, взяв со стола твердый кусок каши, швырнул его в протянутые руки, – Не приходи. Пока не позову.
Женщина подползла к его ногам и стала горячо благодарить. Но этих слов Гудо уже не слышал.
Он стоял за дверью и громко дышал, обливаясь потом. Он ничего не видел. Его рука крепко сжимала рукоять меча, который уже несколько лет не окрашивался кровью. Тонкие губы исчезли, а зубы скрежетали как мельничные жернова. Гудо еще несколько раз вздохнул, затем с трудом оторвал руку от меча и посмотрел на свою широкую ладонь.
– Господи, укрепи меня, – пробормотал он, и встряхнул головой.
Его взгляд прояснился.
Гудо поспешно снял с плеча мешки и развязал один из них.
– Это хлеб. Он немного черствый, но ничего. Смотрите. Это мясо. А это колбаса. Ешьте дети. Ешь Кэтрин. И ты ешь, моя милая Грета.
Юноша вздрогнул и медленно поднял голову:
– Гудо, – едва шевельнулись губы, – Ты нашел нас. Слава Господу! Как я рада…
Слезы тут же залили грязное лицо. Слезы радости и великого душевного волнения.
– Гудо, – воскликнула вышедшая из дверей женщина, и, обмякнув, рухнула на холодный песок, выронив комок каши.
– И я рад, – растеряно пробормотал мужчина в синих одеждах.
И тут же невероятная боль пронзила его тело. Боль, с которой мгновенно справился приученный мозг, удержавший тело на ногах.
Сделав еще несколько глубоких вздохов, Гудо пошарил в своем мешке и протянул дрожащими руками Грете маленький стеклянный пузырек зеленого света:
– Открой его и осторожно поднеси к носу мамы. Мои руки…
Грета понимающе кивнула, и бережно положила младенца на песок. Затем она вытащила свинцовую пробку и поднесла пузырек к неестественно белому лицу матери. Адела втянула запах едкой жидкости и тут же открыла глаза.
– Хорошо. Молодец, – удовлетворенно кивнул головой Гудо, – С тебя Грета, получится настоящий лекарь. Я научу тебя всему, что знаю. Тебя будут благословлять люди, и благодарить небеса!
Грета улыбнулась, и обеими руками стерла с лица слезы. От этого оно не стало чище, но на появившихся губах Гудо вспыхнула улыбка счастья. Такой ее увидела Грета.
А Кэтрин, испугавшись, отступила на два шага.
Это было. И было всего лишь несколько месяцев назад…
* * *
– Вот так?
– Да, лекарь. Держите крепче, но не настолько, чтобы ложка Альбукасиса[21] соскользнули с обода наконечника стрелы. Грета, подай мне нож. Нет, тот, что с меньшим лезвием.
Юлиан Корнелиус сам себе удивлялся. Вначале он не мог поверить в то, что он действительно будет это делать. Но молчаливые венецианцы за дверью и огромная скала под названием Венеция, что способна раздавить даже без мокрого места, не оставляли возможности не делать этого. И он сделал первое движение. За ним второе, и незаметно для себя стал послушным ремесленником под очень умелым и убедительным присмотром мастера. И уж затем пришло удивление.
Нет. Не удивление тому, что его благородные руки, помимо его воли и убеждениям, выполняли подлую работу. Удивление тому, что у него получается, и получается хорошо! Об этом уже многократно сказал этот странный мужчина в странной одежде, странного синего цвета.
Конечно же, стрелы нужно извлечь из тела. И скорее прав этот раненый человек, что это не простая задача, которую можно решить простым вырыванием из человеческого мяса смертоносного железа. Нужно надрезать рану. Погрузить в нее это полезное устройство. Укрепить его на ободе наконечника стрелы. И только тогда проклятый наконечник можно извлечь из тела. И не рывком, а медленно, помогая и если нужно разрезая волокна мышц ножом. Все это слова. Слова, сказанные раненым. Более сложнее и мучительнее все это сделать.
А началось все с того, что Юлиан Корнелиус кисло улыбнулся, и обреченно сказал:
– Ты все равно умрешь. Мы извлечем стрелы из ноги, предплечья, плеча. Но стрела в твоем животе… Я, наверное, смогу раскромсать тебя, так как тебе будет угодно сказать. Да и не наверное, а точно смогу. Скажу правду, мне приходилось возиться с тушами свиньи и быка. Были у нас такие занятия в университете. Не для всех, а только для тех, кто этого желал. Резать не так уж и сложно, хотя и противно. Но что дальше…
Раненый попытался в разрыве клочковатой дикой бороды изобразить улыбку, но вспомнив о том, что от его изгиба губ отворачивались даже монахини, не стал этого делать. Он решил успокоить лекаря только убедительными словами. Словами, произнесенными тихим спокойным голосом, как можно более окрашенным благодарностью за помощь:
– Бог воздаст вам благородный лекарь за ваши старания. Сейчас мы вытащим ту стрелу, что в плече. Тогда мне будет свободнее, и я смогу помочь не только словами. А рана в животе… Ею мы займемся последней. Я не чувствую невозвратных осложнений. Во всяком случае, из моего ануса не хлыщет кровь. Хотя можно проверить, если погрузить в него палец…
Юлиан Корнелиус сглотнул слюну:
– Уж не хочешь ли ты, чтобы я погрузил свой палец в это самое место.
– Нет, лекарь. Я смогу сам, когда мы вытащим все стрелы. А с той, что в животе… Я сам справлюсь.
Лекарь вновь сглотнул слюну и едва слышно пробормотал:
– Любопытно будет посмотреть.
А посмотреть было на что.
– Этот нож подойдет, – беря левой рукой поднесенный девушкой тонкий нож с коротким лезвием, сказал раненый мужчина в синих одеждах, – Легонько потяните ложку, лекарь.
Юлиан Корнелиус сделал легкое усилие. Но мужчина в синих одеждах даже не застонал. Напротив, он скользнул вдоль стрелы ножом и погрузил его рядом со стволом ложки. Сделав несколько надрезов, раненый ровным голосом велел:
– Вынимайте осторожно. Наконечник показался? Хорошо. Теперь рывком. Вот и первая… Теперь сразу же займемся той, что в предплечье.
Эту стрелу вытащить оказалось легче. Дрожь в руках Юлия Корнелиуса исчезла.
«Не такая уж и сложная работенка у этих ремесленников хирургов. Первый раз – и мне уже все это понятно. Пожалуй, из бедра стрелу я смогу вытащить и сам», – подумал лекарь, чувствуя, как веселость разливается по его телу.
Но раненый настойчиво просил своего участия:
– В этом месте бедра проходит очень важный сосуд. Если его повредить, кровь остановить будет очень сложно. Я видел раненых в ногу, которые умирали от потери крови скорее, чем возможно было произнести слова молитвы Pater noster[22].
После этих слов мужчина в синих одеждах попросил девушку дать ему инструменты, названия которых лекарю ничего не говорили. Закругленные плоские узкие куски железа. Они, как и другие инструменты, лежали в кипящей воде. Так велел раненый. Все это время девушка безропотно держала котелок на палке над одним из светильников.
Было страшно смотреть, как эти куски железа рукою раненого входят в его тело. Входят, причиняя боль. Ужасную боль. Боль, которая никак не выражалось ни на лице, ни в стенаниях, ни даже в зрачках этого странного человека. Вслед за полосками металла в рану погрузился нож. После нескольких движений им, мужчина спокойным голосом попросил лекаря взяться за инструмент, придуманный мудрым арабским хирургом. И у ремесленников иногда появляются проблески мудрости.
Юлиус Корнелиус смотрел то на окровавленный наконечник стрелы, то на прикрывшего глаза странного раненого.
«Да человек ли он? Как можно не взвыть, не закричать, не застонать? Под силу ли это человеку. Как можно собственными руками резать собственное тело? Кто он? Святой или… Демон? Слуга сатаны? И я… Я помогаю демону?»
От этого открытия Юлиуса Корнелиуса бросило в жар, который необъяснимо перешел в озноб. Ноги лекаря задрожали, и он устало опустился на дощатый пол. Его голова затуманилась и забродила тысячью взаимоисключающих друг друга мыслей. Сколько это продолжалось, Юлиус Корнелиус не мог и сам себе ответить. Он очнулся только тогда, когда главная мысль разогнала все остальные.
«Мне приказали его вылечить. Я выполняю приказ. А спасаю ли я демона или человека… Это не важно. Пусть другие разбираются, но без меня. Я никому ничего не скажу. И все-таки это скорее демон, чем человек!».
Лекарь с трудом поднялся, посмотрел и опять уселся на пол.
Девушка, которую раненый назвал Гретой, с улыбкой на устах… сшивала рану на бедре. Сшивала запросто, как обыкновенная сельская девушка сшивает порванный мешок. Нет, скорее как прилежная белошвейка сшивает края дорогой одежды. Только белошвейки при этом еще напевают.
Слава Господу, эта не пела. Она просто и деловито вонзала дугообразную иглу в человеческую кожу, оттягивала ее и через рану вонзала ее в другой край кожи. И все это плавно и в тоже время быстро и точно.
Едва она закончила свое страшное шитье, мужчина в странных одеждах ласково сказал:
– Теперь уже можно и сверху покрыть мазью рану.
– Мазью? Рану? Зашивать рану как… Как…(Лекарь не подобрал нужного слова).
Он уже был на ногах, и с растерянностью смотрел на то, как девушка деревянной дощечкой достает из стеклянной баночки что-то желеобразное и растирает его по ране.
– Это только поможет мне, – с убеждением тихо сказал раненый, – Я знаю, и множество раз видел, как раны прижигают раскаленным железом или кипящим маслом. В молодости я был на войне. Такое лечение доставляет больше мучений, чем сама рана. Я знаю, у меня есть шрамы от такого прижигания. Но однажды я видел, как одному из сопровождавших отряд цирюльнику после большого боя не хватило масла для прижигания, и не было возможности разжечь костер, чтобы накалить железо. И тогда он взял, что у него оставалось. Помолясь, он стал прикладывать к ранам мазь из яичного желтка и розового масла. Таких раненых мы увидели поутру бодрыми и хорошо выспавшимися. Их раны были невоспаленные и не припухшие. А те, раны которых залили кипящим маслом, были измучены лихорадкой и с припухшими краями ран.
– Это дьявольщина какая то, – прошептал Юлиус Корнелиус.
Он сел у стены, твердо решив больше ни во что не вмешиваться. Ему хотелось уйти, но за дверями его с расспросами ждали венецианские посланники. Как им можно было объяснить, что три стрелы извлечены. Как объяснить, когда они не слышали ни единого крика, ни стона, ни проклятия.
А девушка продолжала смазывать, сшивать и опять смазывать раны. По всей видимости, это доставляло ей если не радость, то, во всяком случае, удовольствие. Странное удовольствие. Иногда раненый и его помощница переговаривались между собой. Но это был неизвестный лекарю язык. Но нет, не дьявольский. Скорее схожий с тем, на котором говорят люди, живущие в северных лесах Германии или Дании. Пусть болтают, лишь бы все это поскорее закончилось.
Закончилось, и можно было бы выпить огромный бокал вина. Найдется, скорее всего, такая радость у благодарных Аттона Анафеста и Пьянцо Рацетти. А может и у этого высоко задирающего нос герцога Санудо. Уж они должны отблагодарить Юлиуса Корнелиуса. Ведь он смог спасти…
Стоп. Спасти? А эта проклятущая стрела в животе?
В свете безопасных светильников Юлиус Корнелиус увидел оголенный торс мужчины, правое плечо и предплечье которого были туго перебинтованы полосами из выбеленной льняной ткани. Такая же повязка была и на оголенном бедре.
– Я готов разрезать твой живот, – твердо произнес лекарь.
Раненый тяжело вздохнул:
– Мне нужно подумать. Я должен отдохнуть. Совсем немного. Совсем.
Юлиус Корнелиус облегченно выдохнул. По крайней мере, некоторое время можно было ничего не делать. И это было замечательно. Можно усесться на краю лежанки, и, опершись на стену, прикрыть глаза. Так он и поступил.
Но только Юлиус Корнелиус прикрыл глаза (во всяком случае, ему так показалось), его тут же потрясли за плечо. Не смотря на то, что разбудившая его девушка премило улыбалась, лекарь готов был разрядиться громким проклятием. Но тихий голос раненого заставил замолчать.
– Лекарь, вы видите наконечник стрелы? Я протолкнул стрелу. Теперь возьмите клещи и потяните. Наконечник должен легко отделиться от древка.
«Протолкнул стрелу. Через собственные кишки, мышцы, кожу. Проклятая Венеция! Куда ты меня направила? Чем прогневал я Господа, что переживаю все это? Зачем ты послал мне этого… Этого…».
Юлиус Корнелиус так и не решил кого «этого». Он с гневом на самого себя отбросил всякие мысли, и с жадной решимостью покончить все это как можно скорее выхватил из парующего котелка клещи. Благо его руки были защищены замшевыми перчатками, которые лекарь, как особое, как и берет, отличие доктора медицины, от всяких там других людей, не снимал даже летом. Не дав остыть странному на вид металлу инструмента, Юлиус Корнелиус с готовностью повернулся к раненому.
Теперь лекарь увидел спину этого необычного человека. Увидел и отшатнулся. Ему никогда еще не приходилось видеть столь широкой спины со столь явно выступающими узлами мышц. Но не от этого вида отшатнуло лекаря. На этой широкой спине не было места, даже в два пальца шириной, на котором не присутствовал шрам. Эту спину многократно и с особым старанием били батогом, секли плетью, кромсали тонкой цепью и рубили железом. Во многих местах рассеченные мышцы срослись в жуткие бугры, в других – они отсутствовали вовсе, образуя ужасные ямы.
– Вы видите наконечник? Потяните за него, – напомнил раненый.
Ему, по-видимому, было неприятно, а точнее больно лежать на правом израненном боку. Но это было необходимо, так как он проталкивал стрелу неповрежденной левой рукой.
«Господи, верую в тебя и в твои деяния», – взмолился Юлиус Корнелиус и с усилием схватил клещами окровавленный треугольник кончика стрелы.
Все же ему не пришлось прилагать значительных усилий. Через мгновение лекарь уже рассматривал ненавистный кусок железа, а уже в следующее обессилено смотрел на окровавленное древко стрелы, которая левая рука этого странного человека извлекла из раны.
Глава вторая
Блистательный герцог Санудо очнулся едва небо начало светлеть. Именно очнулся. От пережитого и множества вина его тело было вялым и болезненным. Он совершенно не отдохнул. Для отдыха нужен сон. Но тот не мог достучаться в бессознательное тело, мозг которого пребывал в жестоком плену коварных винных паров. Пребывал он и сейчас.
– Вина, – не поднимая головы, тихо произнес Джованни Санудо.
Но вина никто не подал.
Герцог с трудом поднял голову и мутно огляделся. Его большое тело так и осталось в роскошном кресле. Никто не решился тронуть его, чтобы перенести вниз в капитанскую каюту. Это только усилило его гнев. Раздался зычный, густой, с характерной хрипотцой голос.
– Эй, мерзавцы! Дети тупых ослиц, глупых овец и грязных свиней! Весла на воду! Живее, живее!
Еще не утих грозный крик герцога, как раздались свистки комита Крысобоя и его помощников. Галера вмиг очнулась (ибо сон на море всегда был бессознательным), зашевелилась сотнями тел и загудела, как потревоженное осиное гнездо.
– Вина, – опять взревел властелин галеры.
Теперь его услышали. Но это уже было поздно. Настроение герцога испорчено на весь день.
Первым, от пинка ноги, отлетел к фальшборту мальчонок, подавший большой бокал вина. Далее зуботычины отведали трубачи и знаменоносец, которые на ходу застегивая камзолы, поднимались по лестнице, чтобы занять место возле хозяина. Затем Джованни Санудо стремительно прошел до середины куршеи и столкнул с нее на головы гребцов старшего над палубными матросами. А на носу галеры кулак герцога у своего носа понюхал старшина арбалетчиков.
Так же стремительно Джованни Санудо вернулся на свое резное кресло. Здесь он опять осушил бокал вина и почувствовал прилив сил. Он могущественный как бог. Его боятся как дьявола. Он в несокрушимой силе. С ним Арес и Марс, которые никогда не спят и не отстают от своего владыки ни на шаг.
Даже старшина арбалетчиков, которого все звали не иначе как Адпатрес[23], при всей его буйной строптивости вынужден вынюхать кулак повелителя. Не уступая ни в росте, ни в силе герцогу, убивший сотню людей (при этом непременно приговаривая Ad patres), этот грозный вояка не смел перечить Джованни Санудо, ведь за его спиной всегда находились два великолепных воина. С одним из них старшина арбалетчиков еще бы смог потягаться. Но против двоих шансов у него не было. А эти двое никогда надолго не разлучались, как и не отходили от своего хозяина. Да и где он найдет столь щедрое вознаграждение за свою службу. Герцог наксосский умеет ценить истинных мастеров. Во всяком ремесле. Особенно в воинском.
– Трубы, сигнал! Барабан, такт! – прокричал Джованни Санудо.
Над его ухом тут же пронзительно зазвучали трубы. На носу галеры гулко отозвался большой барабан.
– Якоря поднять» Весла на воду! – срывая голос, заорал Крысобой.
По обоим бортам, расплескивая воду, с шумом упали весла. Галера напряглась, качнулась и тронулась с места. Под удары барабана весла одновременно поднялись, на мгновение замерли и опять с шумом погрузились в пока еще темную воду.
Джованни Санудо обожал эти первые толчки корабля. Уже очень скоро галера наберет ход и пойдет плавно и стремительно. А пока она только начинала парить. Как царствующий орел, первыми взмахами подбирая под свои сильные крылья воздух, отрывается от земли, так и галера опирала свои крылья-весла в стремлении оторваться от волны.
Кто-то когда-то при Джованни Санудо сказал, что галера это деревянная бочка с веслами. За что и лишился передних зубов. Нет не бочка с веслами, а огромная деревянная бабочка с крыльями. И таких бабочек великий герцог желал иметь неисчислимое множество. Он мечтал увидеть, как одновременно вспорхнут его любимицы. Он еще в молодости видел на Паросе[24] удивительное по красоте зрелище. На небольшой поляне острова, носящей старинное название Петалудес, лишь несколько недель лета появляется огромное количество удивительных бабочек. И если с криком и свистом бросится через траву и кусты этой поляны, то в бескрайную синеву неба взметнется огромное облако, цвета и формы которого описать не сможет ни один из смертных.
Это было с Джованни Санудо в молодости. Тогда его душа была легка и взлетала вместе с бабочками. Теперь красота уже не поднимет ввысь душу герцога. А вот могучий, многосотенный флот боевых галер – без сомнений да!
Джованни Санудо помрачнел. Вспомнив о бабочках, он тут же вспомнил и о Паросе. На этом острове нужно перестроить и укрепить крепость. Очень быстро и надежно. Иначе случится непоправимое. Проклятая Генуя вышвырнет блистательного герцога с его же собственного Архипелага.
Проклятая Генуя… Проклятая Венеция…
Как часто Джованни Санудо употребляет в последнее время проклятие. Но на то есть обоснованная причина.
Два года назад, шестого марта 1350 года от рождества Христова венецианский сенат от имени республики святого Марка объявил войну извечной сопернице в политике и морской торговле Генуе.
Еще бушевала чума, умертвившая половину населения Венеции. Еще горели костры, пожирая имущество умерших. Еще рыдали родственники, не смевшие приблизиться и попрощаться с теми, кого, заподозрив в какой либо болезни, тут же отправляли на карантинный остров Лазаррето. Еще обходили каждое утро строгие лекари и стражники каждый дом в поисках трупов или ослабевших людей. И еще, и еще…
Но все это перевесила купеческая выгода великого торгового города. Не считаясь с огромной убылью людей и имущества, Венеция послала в моря боевые галеры для уничтожения врага.
Но случилось то, что случилось. Так же потерявшая в чумные годы половину населения Генуя разгромила венецианскую эскадру у стен Константинополя, и теперь жадными глазами осматривалась – чтобы отнять у поверженного врага. Ладно, уж богатые острова Эвбея, Кипр, Крит, но их жадность может покуситься и на мелкие острова Архипелага герцога наксосского.
Вот возьмут и высадятся кровожадные враги. И не будет тогда у Джованни Санудо великолепного дворца, сказочного вина и подданных. Ничего не будет. Только печаль, и прогулки на лодке по грязным венецианским каналам.
Этого никак нельзя было допустить. Не для этого рожден Джованни Санудо. Да и не переживет он этого. Нужно было принять упреждающие действия и защитить свой Архипелаг и свою счастливую жизнь. Своих сил, золота и воинов у герцога недостаточно. А надеяться можно было только на помощь республики святого Марка, чьим вассалом и являлся опечаленный будущим Джованни Санудо.
Вот только…
«Проклятый дож, проклятые сенаторы, проклятые купчишки», – вспоминая, прошептал герцог.
Едва только успел открыть рот Джованни Санудо, едва он только успел произнести слово, взывающее о помощи, раздутые от собственной важности сенаторы тут же прервали его. Еще до того, как ступил на землю Венеции ее колеблющийся во многом вассал, они уже знали с чем он прибыл и о чем его слова. Хуже того, дож и сенаторы в подробности напомнили герцогу о его собственных воинах, запасах продовольствия и оружия, о крепостях на островах Парос, Санторин, Милос и о знаменитом замке Хоре на его любимом Наксосе. А еще о том, что Джованни Санудо не пожелал присоединить свои три галеры к эскадре, участвовавшей в битве у стен Константинополя. И это едва ли не решающий фактор поражения Венеции в февральском морском сражении того года. А значит то, что генуэзцы нависли над его островами, прямая вина герцога.
Но печальнее всего было то, что сенатор Пьянцо, прищурив правый глаз, поинтересовался, насколько полон золотом, заветный сундучок из сандалового дерева, что хранится в укромном месте герцогского замка.
После этого удара в самое сердце Джованни Санудо закашлялся и лишился дара речи. Как сенаторы узнали о золоте одному Богу известно. Даже сам с собой герцог не говорил об этом семейном секрете, что передал ему на смертном ложе отец. Передал младшему из сыновей. Старшие к тому времени уже были мертвы.
О, как хотелось Джованни Санудо хотя бы на миг стать Господом. На самый крошечный миг, которого хватило бы на то, чтобы точно узнать, кто из его окружения шепчет на ухо дожа Венеции. Страдание этого шептуна не сравнилось бы ни с одним казнимым на земле.
Но вряд ли Всевышний сделает милость и обменяется с герцогом местами, даже на крошечный миг. Так что чудо не произойдет, и этого наушника нужно искать самому Джованни Санудо. А тут еще эти три навязанные ему помощника венецианца!
Герцог печально посмотрел на то место, на котором вчера горела его великолепная галера. Одна из тех трех, которыми больше жизни дорожил герцог Наксосский, и которые так и не успели к печальной битве в Босфоре, у стен Константинополя. Да и как они могли успеть, если мудрый Джованни Санудо предвидел разгром венецианской эскадры. Вот только печально то, что не хватило ему мудрости предвидеть то, что случится у морских стен Венеции.
Думалось о лучшем. Пройдет праздник Вознесения[25]. Решит сенат и утвердит дож, и вот на борт двух прибывших галер наксосского герцогства будет погружено оружие, сотня отличных воинов, и такое необходимое при обороне золото и серебро. А вместо этого унижение, и более того – явно выраженная месть. Не пожелал рисковать своими галерами на благо Венеции – получи урок и помни о нем!
Жестокий урок. Ведь не пожелал сенат просто конфисковать корабль, а решил сжечь его на глазах Великого герцога какого-то там незначительного Архипелага. Знай свое место, и не забывай, что величие Венеции прежде всего!
Формально сенат поступил верно. Верно тем жесточайшим законам, которые принял для спасения Венеции от проклятой чумы. Ни в одном городе Европы не приняли столь суровых и действенных законов. Один из них предписывал – входящие в гавань корабли подвергать досмотру, и если найдены будут «прячущиеся иноземцы», больные чумой или мертвецы – корабль немедленно сжечь!
В том, что случилось, была некоторая вина и самого Джованни Санудо. Нужно было привести галеры в Венецию вместе, и тогда, в присутствии герцога ни один досмотрщик не рискнул бы арестовать корабль. Но Джованни Санудо не предусмотрел коварства сената, и велел капитану Пьетро Ипато зайти в Афины. Там капитан должен был взять на борт Рени Мунтанери – одного из баронов герцогства афинского. Волею Господа и его путям неисповедимым барон Мунтанери скончался за день до прибытия в Венецию. Капитан Пьетро Ипато справедливо решил, что герцог пожелает попрощаться с покойным другом юности, и никак не предполагал, что его галера станет погребальным костром.
Хорошо еще, что Джованни Санудо удалось вырвать из лап сената сопровождавших Рени Мунтанери свиту в лице двух рыцарей, священника и нескольких слуг. Их ожидавших худшего (а что может быть хуже карантинного острова Лазаррето) напоили вином (так же как и капитана) и они всю ночь провалялись между банками[26] вповалку с гребцами. В этом ему помог крестный, старый друг отца, некогда великий воин, а теперь посланник Венеции в Риме Марино Фальер. Встреча с ним – единственно приятный день в печальном пребывании герцога в республике святого Марка. Но и влиятельный сенатор Фальер не решился вступиться за своего крестника.
И как тут оспаривать решение сената? Налицо все причины сжечь галеру – мертвец на борту, иноземцы не поспешившие заявить о себе в начале досмотра, а значит пытавшиеся укрыться, а еще несколько гребцов-галерников, как назло, разрывавшихся кашлем.
С галерниками проще. Многие из сгоревшего корабля были перевезены в гавань. Герцогу, слава Господу, не придется им платить. Пусть с вольнонаемными гребцами разбирается сама Венеция. Хотя вряд ли она заметит этих несчастных. Разве что они пойдут в сенат, или затеют другой какой бунт. Но на это у сенаторов одно решение – убить самых отчаянных, а остальных отправить на галеры. Там они уже не будут вольными гребцами. Там их посадят на цепь и за каждую провинность или непослушание накажут треххвостым бичом с острыми крюками на кончике каждого хвоста.
Осенило же венецианских сенаторов! А может Господь подсказал? Нет скорее сам дьявол! Но вот уже два года на галеры отправляются убийцы, воры, насильники, бунтари и всякий сброд, что решением скорого на расправу суда республики Святого Марка за всякое преступление или нарушение законов Венеции наказываются пожизненным сроком. И отбывать его до конца дней с тяжелым веслом в руках. Если, конечно, друзья или родственники не пожелают вытащить его оттуда при помощи его всемогущества золота! Проклятая чума слизала с бортов галер большую часть гребцов. Как тут было поступить Венеции, которая могла выжить только при условии, что ее корабли будут перевозить торговые грузы и поддерживать свои фактории на побережьях Средиземного, Черного и Азовских морей. Вот и родилась в мудрых головах сенаторов мысль, которая тут же стала законом. А когда те же головы осознали, что теперь не будет уходить уйма серебра на оплату труда вольных гребцов, то они от счастья и вовсе затуманились. Хватали и заковывали в цепи даже нищих. Чего им попрошайничать? Пусть гребут и будут иметь горсть каши, а по воскресеньям и солонину, и даже глоток вина.
Вот только после великого мора и преступников и попрошаек осталось до обидного мало. Так что, скрепя сердцем, венецианским купцам все же приходилось едва ли не половину гребцов команды нанимать. Так что пусть и нанимают вольных гребцов со сгоревшей по желанию Венеции галеры Джованни Санудо. А вот те три десятка гребцов, что обречены на цепи, герцог перевез к себе на галеру. Так же два десятка воинов и десяток умелых матросов.
Так что сейчас на борту «Виктории» около пятисот человек. Пятьсот человек на столь малом пространстве. Всего то – сто шагов в длину и двенадцать в ширину. И всех этих людишек нужно кормить и поить. А самое главное – крепко держать в кулаке!
* * *
Джованни Санудо посмотрел на свой огромный кулак и согласно кивнул головой.
Поговаривают, что при дворах многих правителей происходят перемены. Началось это более ста лет назад, когда император Фридрих по прозвищу Барбаросса[27] возвестил о некоем кодексе рыцарства. Заговорили о чести и благородстве. А так же о том, что знатные по рождению должны разительно отличаться от ремесленников и землепашцев, от того быдла, что рождено для того, чтобы сделать жизнь своих хозяев приятной и безопасной. Значит, благородным ходить нужно медленно, с гордо поднятой головой. За столом не чавкать и не заталкивать в глотку огромные куски пищи. С высокородными советниками и помощниками вести себя дружелюбно и милостиво их выслушивать. В общении с благородными дамами не ругаться и не грубить. Некоторые из правителей даже кланяются дамам. А есть и такие, что унижаются до сочинения стихов и даже баллад.
Но, и это известно герцогу наксосскому, большинство из этих размягчившихся правителей уже потеряли свои короны и земли. А некоторые и головы.
Джованни Санудо своих людишек держит в крепком кулаке. В мощном кулаке!
Герцог наксосский еще покажет эту мощь раздувшейся от гордости Венеции. И не только покажет, а и нанесет чувствительный удар в самое сердце. Хотя сердец у города на морской воде множество. И каждое бьется силой золота и серебра. Благодаря этому богатству оборота, гигантский спрут Венеция протянула свои щупальца от того края земли из-за которого поднимается солнце, и до того, за которым оно скрывается.
Опять и опять в голове герцога наксосского всплывает проклятая Венеция. О, Господи! Как зол и гневен Джованни Санудо на этот город торгашей, менял и спекулянтов[28]. Так бы взял всякого венецианца за одну ногу, а на вторую наступил, да и разорвал.
«Дьявол вас проглоти!» – скрипнул зубами герцог и сорвался со своего роскошного кресла.
Заслышав тяжелые шаги своего повелителя, старшие и младшие командиры, что толпились у кормовой лестницы, сминая друг друга, подались в стороны. Подкомиты с плетьми и матросы, с мотками веревок, заметив носорожий бег хозяина, попрыгали с куршеи на головы гребцов. Гребцы как можно глубже втянули головы и мысленно обратились к заступнице деве Марии.
Но все они в этот миг не существовали для Джованни Санудо. Его глаза были устремлены на троих венецианцев, что жались у дверей каморки Крысобоя. К ним и спешил герцог, крепко сжав губы и поигрывая желваками.
В нескольких шагах от своей цели герцог наксосский резко остановился. Точнее его остановила рука знатока военных механизмов Аттона Анафеста. Рука, в которой были зажаты четыре стрелы.
– Посмотрите на эти стрелы, герцог. Они с великим мастерством вытащены лекарем Юлианом Корнелиусом из тела несчастного лодочника, что перевозил личного секретаря великого дожа Венеции. Это никак не разбойничьи стрелы, которые негодяи делают как им придумается. Это, с большим умением изготовленные, посланники смерти. Тот, кто их изготовил, хорошо знает механику. Смотрите, как сбалансирована эта стрела.
Аттон Анафест поместил стрелу на вытянутый указательный палец.
Джованни Санудо с тоской посмотрел на то, как накрест пальцу недвижимо лежит изумительной работы арбалетная стрела. Острый, четырехгранный наконечник с втулкой, тщательно обработанное древко, окрашенное лаком, оперение из пергамента под точно выверенным градусом к основанию стрелы. И все это зловеще черного цвета. Такая стрела летит на большое расстояние и с достаточно высокой точностью попадания. А вид ее действительно устрашающий!
– Это очень дорогая стрела. А ими была просто утыкана вся лодка. А сколько еще утонуло в воде! Нападавшие не жалели стрел. Им очень нужна была смерть секретаря великого дожа! Вы можете сами убедиться сколько стрел… Сколько стрел…
«Может… очень нужна смерть секретаря… А может… То, что находилось в лодке… Что из этого верно?» – сразу же пришло в перенасыщенную интригами голову Джованни Санудо.
– Убедиться? – вскинул брови герцог.
– Да. Лодка привязана к корме, и…
Но герцог уже не слушал слов венецианца. Он стремительно пронесся по настилу куршеи и вихрем ворвался в свою адмиральскую каюту. В нетерпении сорвав крюк, Джованни Санудо распахнул небольшое окно из узорчатого венецианского стекла. Затем он с трудом протиснул в оконный проем свое большое тела, и, уперев руки на богато украшенный фриз кормы, уставился на непрошеную ночную гостью.
Лодка, простая лодка, которых в Венеции сотни, а может и тысячи. На таких перевозят грузы и людей, ловят рыбу и отправляются друг к другу в гости на соседние острова.
Только на дне этой лодке находится труп, а ее деревянное тело щедро утыкано черными стрелами. Дорогими стрелами.
«Проклятый комит. Я же сказал…»
Но Джованни Санудо не смог вспомнить, что же он велел Крысобою сделать с этой лодкой и этим трупом? Вино сыграло с герцогом злую шутку. Хотя комит мог и догадаться. А мог и взять деньги у проклятых венецианцев, чтобы те имели возможность наутро представить глазам великого герцога…
А что представить? Ах, да! Проклятого секретаря проклятого дожа!
Джованни Санудо еще подался вперед. Но огромный личный флаг герцога наксосского, что в длину имел пятнадцать шагов и спускался от беседки кормы к самой воде, повинуясь ветру, то и дело закрывал обзор лодки.
На всех галерах были личные флаги властителей или капитанов кораблей. Из дорогущих тканей, с богатой золотой и серебряной вышивкой они были особой гордостью и любовью их владельцев. Их вторым, а иногда и первым лицом. По ним встречные и попутные корабли судили, кто хозяин галеры и как с ним держаться – с почтением, равнодушием или призрением. Но мало у какой галеры был флаг такого огромного размера и такой чудовищной стоимости, как у «Виктории» герцога наксосского. Разве что больший флаг был у главной галеры Венеции «Бучинторо[29]».
«Бучинторо» – государственным символом Венеции. Это официальный корабль великих дожей, на котором те совершали один из главнейших праздников Венеции – церемонию обручения дожа с Адриатическим морем.
Каждый год в праздник Вознесения великий дож отправлялся на «Бучинторо» от площади Сан-Марко к крепости Сан-Андреа вблизи острова Лидо. За ним двигалась огромная флотилия празднично украшенных галер и лодок всех влиятельных лиц Венеции и особо важных гостей.
В этом году, всего лишь неделю тому, присутствовал на этом священном действии и Джованни Санудо. Поправ приличия и правила, герцог наксосский вывел свою галеру в число первых следовавших за «Бучинторо». Может это действие заносчивого герцога довершило гнев дожа и сената, и поднесло факел к несчастной «Афродите»? И опять же… Об этом Джованни Санудо нужно было задуматься тогда.
Но тогда герцог был горд за себя и свою галеру. Ведь на него смотрели лучшие люди, владычествующие на морских просторах. Он был близок в этот важный момент к самому дожу. Близок настолько, что прекрасно видел и слышал, что происходило на «Бучинторо».
Джованни Санудо слышал, как воскликнул дож Андреа Дандоло: «Desponsamus te, mare[30]» объявляя, что Венеция и море являются неразрывным целым. И видел, как на бархатной подушечке молодой человек подал дожу освященный золотой перстень. Море приняло перстень, как и множество других за сотни лет.
…Молодой человек…
Флаг «Виктории» то выпрямляло, то ветром относило влево, то он опять повисал. Но в этих движениях полотнища на короткое время открывался неподвижный труп, бережно усаженный на днище лодки. Голова убитого была запрокинута к небесам – дому Господнему. Лицо спокойное и умиротворенное.
«Дьявольщина! – пробормотал Джованни Санудо, – Как там тебя? Анжело? Пропади ты пропадом».
Герцог изловчился и вытащил из ножен длинный кинжал. Затем он с трудом дотянулся до веревки, что была закреплена ниже, из отверстия рулевой балки, и перерезал ее. Лодку, потерявшую движение развернуло на борт, и она стала стремительно уменьшаться в размере.
«Вот и хорошо. Вот и ладно. А сейчас…»
Джованни Санудо вытиснулся из оконного проема и осмотрел свою адмиральскую каюту. Решение пришло скоро. Герцог схватил большой кувшин своего любимого вина и не спеша вышел из помещения.
У решетчатой двери стояли преданные Арес и Марс. В нескольких шагах от них – комит Крысобой. Голова старшего надсмотрщика над гребцами была низко склонена. Но не почтение к хозяину так ее согнуло. Скорее это была попытка спрятать глаза. Виноватые глаза.
«Это потом», – решил герцог, и ткнул комиту кувшин с вином:
– Следи за моим сигналом.
Не спеша, медленным величественным шагом, как это принято теперь при новоустроенных дворах королей, великий герцог вернулся к венецианцам. Все трое с напряжением на лицах ожидали приближения повелителя Наксосского герцогства. Каждый его шаг усиливал напряжение. В этом состояние все трое даже подались назад, когда Джованни Санудо слишком близко к ним подошел. А когда на толстых губах герцога вдруг возникла улыбка, то отступили еще на шаг. Отступили бы еще, но за их спинами была дверь в каюту комита.
– Позвольте взглянуть.
Улыбка, учтивые слова, приятный тон настолько поразили венецианцев, что они, пробормотав что-то несуразное, расступились в поклоне.
– Благодарю, – мягко произнес Джованни Санудо и медленно открыл дверь.
Солнечные лучи с невероятной щедростью ворвались в тесную коморку Крысобоя. Их с избытком хватило на то, чтобы все внимательно и даже тщательно осмотреть. И если на теле раненого глаза герцога почти не задержались, то женщина в это мгновение кормящая грудью младенца, вызвала его неподдельный интерес. Но больший интерес и даже что-то похожее на восторг вызвали в груди Джованни Санудо две девушки.
И женщина и девушки, ослепленные ярким светом, поморщились и прикрыли лица ладонью. Но до этого быстрый и опытный глаз герцога успел увидеть то, от чего его душа возликовала.
Джованни Санудо медленно прикрыл дверь и довольным голосом обратился к Юлиану Корнелиусу, при этом внимательно осматривая лекаря. Всего. От замшевого берета благородного черного цвета, до остроконечных пулен[31] на ногах.
– Ты славный лекарь. Ты сумел вытащить ногу этого пройдохи лодочника из гроба. Теперь постарайся поставить его на эти самые ноги. (Взгляд герцога отправился в обратный путь). Мне нужно будет с ним поговорить. За это я тебя награжу. А пока… Пока, мои венецианские друзья, выпейте вина. Дорога наша долгая, и если говорить честно, то скучноватая.
Герцог махнул рукой и тут же рядом с ним возник комит с большим кувшином вина.
– Великий герцог, а что же вы скажете о лодке, стрелах… И о…
Но Джованни Санудо тут же перебил начинающегося горячиться знатока военных механизмов сладко улыбаясь:
– О лодке, стрелах и о… я ничего сказать не могу. Наверное, лодка оборвалась при первых движения галеры. Такое бывает, если не сделать правильный двойной узел. В начале плавания я так лишился собственной лодки.
Не ожидая дальнейших вопросов, герцог повернулся и величественным шагом отправился к своему роскошному креслу. Его голова просто бурлила от добавленного крутого кипятка под названием интрига.
Пьянцо Рацетти тронул плечо своего озадаченного друга и указал рукой на стремительно удаляющийся по правому борту предмет, в котором при желании можно было узнать злополучную лодку.
* * *
После полудня неожиданной радостью подул северный ветер. Палубные матросы под громкие команды протрезвевшего капитана сгоревшей «Афродиты» Пьетро Ипато быстро поставили прямоугольные латинские паруса на обеих мачтах. Гребцы облегченно выдохнули и втащили на борт свои тяжелые весла. Их неспешные беседы то и дело прерывались раздачей горячих бобов с сухарями и мальчишками, подносящими широкие деревянные лоханки. Гребцы с жадностью ели и тут же справляли нужду с кряхтениями и натугами.
Вытянутые руки – вот и все личное пространство в невероятной скученности, в которой можно укрыться от других только закрыв глаза. Ни стеснений, ни обид, ни упреков, ни брезгливости. Съедено, переварено, опорожнено в лоханку. Суть основы жизни. Его древо. А разогревшийся от пищи живот, звенящие от усталости мышцы, крики палубных старшин, воспоминания, беседы о прошлом и сегодняшнем, ласковое солнце и соленый ветер – это ветки и листья. Могут быть, могут и не быть. Могут принести пользу, а могут и оторваться от ствола, чтобы уступить место новому бодрящему или памятному удручающему.
Дверь каюты комита приоткрылась, и из-за нее выдвинули посудину. Осторожно, чтобы не выплеснуть вонючую жижу. Терпеливо ожидавший мальчонка тут же подхватил ее, и, отвернув от благородных венецианцев, осторожно отправился в трюм, где имелось отведенное отверстие для слива за борт. Герцог строго следил за чистотой своей любимой галеры и не прощал появления неприятных следов при любом ветре, качке и спешке.
Венецианцы, сидящие на раскладных стульчиках вдоль борта в нескольких шагах от выпустившей лоханку двери, провели взглядами спину мальчонки, и продолжили беседу. Тяжело начавшийся разговор, как следствие неприятных чувств вызванных потерей вещественных доказательств, а именно лодки и мертвого тела, ко дну кувшина стал приятнее и оживленнее. Этому способствовали так же наблюдения за тем, как давятся бобами и сухарями гребцы, матросы и всякая вспомогательная мелкота. Воины довольствовались прибавкой к этому обеду куска солонины. На фоне этой скудости было приятно поглощать сочные окорока, сальную колбасу и копченую птицу, поданные по указанию герцога, и при этом чувствовать свою важность и обособленность.
Сладкое вино и приятная пища были приняты как должное, но никак не согласие поступиться святым – служению Венецианской республики. Поэтому разговор вновь и вновь возвращался к прибившейся лодке и к находившимся в ней.
Еще вчера утром не знавшие друг друга венецианцы сошлись в крепком союзе. А укреплял этот союз необъяснимо крепкое вино.
– О! Это прекрасно действующая молитва! – продолжил свою мысль лекарь. – Я четырежды произнес: Святой великомученик Пантелеймон[32], кроткий и свято живший, принявший муки во славу Господа! Моли Бога о нас грешных! Помоги нам во врачебных делах. Как извлекал ты из рук и ног христианских занозы, и как легко выходили эти занозы, так пусть легко выйдет из тела этого христианина стрела. Да поможет в этом сын божий, принявший за нас смерть на высоком кресте! Эту молитву нужно повторить три раза, и в третий раз взять безымянными пальцами стрелу и вытаскивать ее.
Пьянцо Рацетти и Аттон Анафест, многократно участвовавшие в войнах, с сомнением посмотрели друг на друга.
– Молитва – дело важное. Но все-таки вытащить стрелу не так просто, – покачал головой знаток военных механизмов и многого, что бывает на войне, Аттон Анафест.
Юлиан Корнелиус медленно провел ладонью по короткой рыжей бороде и согласно кивнул головой:
– Что ж. Придется признаться. Пришлось поработать и руками. Во имя великой Венеции я пренебрег строгим правилам врачебной этики и вынужден был стать на время хирургом. Если кто-либо из медицинской корпорации Венеции, или других городов, узнает о том, что мне пришлось опуститься до ремесленничества… Скажу более – бакалавры от медицины дают клятвенное обещание даже не производить кровопускание, а не то, что резать плоть и кости. То, что уж мне – магистру науки… Да что там говорить…
– Заверяю тебя, славный лекарь Юлиан Корнелиус, эта тайна останется между нами, – поспешил заверить лекаря Пьянцо Рацетти.
Аттон Анафест согласно кивнул головой:
– Чем только не поступишься во имя служения великой Венеции!
Знатоки военных искусств, они по сути своей оставались ремесленниками. И хотя их услуги были хорошо оплачены, а их мастерство вызывало уважение даже у отцов города, но им никогда не суждено подняться до больших высот.
Им хорошо были известны правила и устои городской жизни. Этого фундамента, на котором незыблемо стояло здание республики святого Марка. Множество корпораций, цехов, общин жили согласно своим уставам, свято соблюдая их и жестоко карая тех, кто нарушал порядок жизни в этих объединениях.
Если ты принадлежишь медицинской корпорации, то знай свое место, свои права и свои обязанности. Знай и строго соблюдай.
Если ты сумел пройти нелегкие дебри науки и получил соответственный диплом и статус – соответствуй ему. Лучшие из лучших врачевателей займут свое место при дворе дожа и при тех, кто вершит судьбу города. Те, кто не дотянулся до этой высокой ступени, станут городскими лекарями. Они будут за счет городской казны посещать на дому чиновников города и малоимущих. От этих не дождешься значительного вознаграждения, но жалование от города даст стабильность и уверенность в завтрашнем дне.
Вольные лекари могут на свой страх и риск завести практику. Вылечил – обогатился. Умер больной – что же на то воля Господня, а лекарю – пустой желудок на ночь. А можно наняться и в санитарные лекаря. Проверять прибывшие корабли и держать на них сорокадневный карантин. А можно пристроиться и в городской больнице. Но заработок и жизнь при этом заведении способствуют ранней седине и морщинам.
И все же врачевание – благородное занятие. Некоторые из лекарей даже становились рыцарями за свое умение и знание. С учеными врачами считались, уважительно отдавая им должное в их научной работе.
А как же еще иначе! Только лекарь умеет поставить больному диагноз, основываясь на данных осмотра и исследовании мочи и пульса. Только он может приписать полезную дозу кровопускания и очищение желудка. Только его знания позволят составить оздоровительную микстуру. Обширные знания, в которых более сотни целебных трав, а так же полезные металлы и минералы. Из этого изобилия нужно в точнейших пропорциях составить лекарство. В некоторые из порошков или микстур входило до трех десятков составляющих. Как тут не удивиться мудрости лекаря. Хотя и понятно, что многое из этой мудрости подчеркнуто из научных книг и трактатов. Но ведь их тоже нужно прочесть и понять!
Это великая ученость, что не скажешь о ремесленной медицине – о хирургах. И хотя потребность в них была велика во время войн, в мирное время к ним обращались в крайнем случае, когда боль невозможно перетерпеть, или жизни больному угрожала неминуемая смерть.
Никто другой кроме этих ремесленников не занимался лечением ранений, переломов и ушибов, отрезанием конечностей, а так же зубодерганием, камне– и грыжесечением. На войне они были сверх востребованы. Но оплату получали только с благодарных выздоровевших. А иной, которому в обмороке или горячке отпилили руку или ногу, мог и не оценить труда хирурга. И даже попытаться убить его.
В повседневной жизни было и того хуже. Того, кто занимался лечением руками, звали только после того, как больной принял причастие и был готов к смерти. Мало кто из больных или раненых выдерживал адскую боль. Не помогали обезболивание внутрь бутылью вина и удар деревянного молотка внешне. А потеря крови при операции чаще всего была смертельной. Вот и приходилось хирургам основной свой заработок получать разделкой мяса в собственных мясных лавках, а то и отправляться подзаработать на ярмарки.
В такой праздничный торговый день на площади то там, то тут раздавался дикий крик. Хирурги в окружении родственников и любопытных выдергивали у больных зубы, вырезали грыжи, ломали и вправляли кости, и даже умудрялись при помощи хитроумных щипцов извлечь из мочевого пузыря через канал камни. Но куда удачнее у них получалось излечивать кожные болезни, наружные повреждения, опухоли, и вырезать глубокие гнойники.
Получив договоренную оплату, хирург спешил на другую ярмарку, оставив больного на попечение родственников и в милости божьей.
Лекарей уважали. Перед ними заискивали. Больному верилось – придет добрый лекарь, даст свои горькие порошки, и все недуги как рукой снимет. Хирургов боялись, как самой смерти. Их презирали и ненавидели. Но без них обойтись не могли. Нельзя до бесконечности корчиться от зубной боли и смотреть, как до кости гниет рука. Сама боль звала злых хирургов. Выжившие не прославляли хирургов, и трижды на день молились, чтобы Господь отвел от них встречу со слугами боли и нестерпимых мук. И все же некоторые из хирургов добились значительных успехов. И даже спасали больше людей, чем губили. Поговаривали о том, что во Франции хирурги с согласия короля даже основали коллегию святого Косьмы. Вступить в нее было трудно и почетно. Хирурги из этой коллегии имели даже определенные привилегии, почти такие, как и ученые врачеватели.
К медикам примыкали так же банщики и цирюльники, которые могли поставить банки, пустить кровь, вправить вывих, сложить перелом, обработать и перевязать рану. Но в основном они парили мозоли, стригли волосы и брили бороды. Иногда практиковали и аптекари, хотя им это строжайше было запрещено.
Практиковали и палачи, но об этой говорили шепотом и не в каждое ухо.
– А мочу раненого нужно будет посмотреть, – пьяно кивнул головой Юлиан Корнелиус. – Уроскопия[33] – это искусство! Я изучил множество трактатов на эту тему. Не без гордости скажу, что мой глаз различает несколько сот разновидностей мочи. Двадцать только по цвету! Я вижу шесть оттенков белого цвета!
– Великая мудрость, – согласно кивнул головой Аттон Анафест.
– Большая ученость, – поддакнул охмелевший Пьянцо Рацетти.
– Да! Именно так! Уринария – аналог организма человека. Смотришь на мочу в уржарии… такой сосуд… Для мочи… В верхней трети ищу присутствие болезней головы, в средней – в области туловища; в нижней – болезней нижней части тела. Смотришь и ставишь диагноз. Мне даже не нужно обследовать больного. Достаточно того, чтобы кто-нибудь из родственников или друзей принес мне мочу больного… ко мне домой.
– Вот как! – изумился знаток военных механизмов.
– Велика сила науки, – вздохнул знаток военных укреплений.
* * *
«…Наука это наблюдение, познание, осмысление и уложение в стройную систему своих и приобретенных у других знаний. Для философов и людей эмпирических знаний, а эти знания получают в результате применения эмпирических методов познания – наблюдения, измерения, эксперимента, наука цель и смысл жизни, полезность которого даже не обговаривается. Но в жизни простого человека наука и полезна и вредна.
Вот посмотри… Эй! Смотри сюда…»
Гудо встрепенулся и открыл глаза.
Нет, он не спал. Просто лежал с закрытыми глазами. Так проще и легче. Его бесценные сокровища, дорогие сердцу, и родные души Адела и Грета, а так же ставшие кровными Кэтрин и младенец Андреас более спокойны, когда их Гудо отдыхает, погрузившись в оздоровительный сон. Они сидят у ног человека, ставшего для них всем, что дарует жизнь, спокойствие и уверенность, и тихо беседуют, часто прерываясь, чтобы услышать, ровно ли его дыхание, нет ли в этом дыхании хрипоты и стона, вялости и болезненности.
Гудо долго лежал, не смея потревожить их. Они и так слишком многое пережили за последние месяцы, а особенно за вчерашний день. Их жизнь весела на волоске и многократно. Они могли умереть от голода, болезни и издевательств на острове Лазаретто. Могли быть брошены на поклевку чаек, как те несчастные на том же Лазаретто, кого отравил хрупкий юноша Анжело по приказу дожа. Могли попасть в руки безжалостной инквизиции и умереть от жесточайших пыток. Могли погибнуть от дождя проклятых стрел.
Могли.
Но с ними был Гудо. Он всегда будет с ними. Ведь он бросил вызов той, чьим орудием был многие годы. Он бросил вызов самой смерти. И он спас самых дорогих ему людей.
Вот только сейчас Гудо почти беспомощен. Но это временно. Очень скоро он станет на ноги. Его раны затянутся, и он будет полон сил и здоровья. Еще хотя бы три-четыре дня спокойствия. И главное – чтобы рядом с ним были его девочки. Это самое главное лекарство, о котором никогда не говорил учитель и мучитель, наставник и враг, бесподобный мэтр Гальчини.
Гальчини…
Гудо не желал открывать глаза. Но его успокоенность, перешедшая в дремоту, ослабила господина в синих одеждах. Его мысли потеряли устойчивость и мгновенно оказались на дне чудовищного обрыва, в объятиях человека с душой демона.
И демон Гальчини холодно велел:
– Вот посмотри… Эй! Смотри сюда.
«Эй»! Это его имя. Только так к Гудо обращался великий мэтр Гальчини. Наверное, он знал настоящее имя своего ученика, но никогда не обращался к нему по имени. Для Гальчини имя Гудо умерло вместе с тем человеком, что был до того, как стал его учеником. Тот, кого он взращивал, был человек «ниоткуда» и «ни от чего». Вчера его не было, сегодня он есть. Как написанное слово на куске пергамента, как мазок краски на холсте, как узор на вышивке. Но все это только начало, не имеющее названия. Значит, человек, не имеющий имени.
Просто «Эй».
– «Эй! Смотри сюда. В этой стеклянной колбе моя моча. Для меня, как человека науки, она многое может рассказать. Мой опытный глаз может увидеть в моче кровяные нити, белые хлопья, помутнение, кристаллики и многое другое. Я могу в моче разглядеть некоторые признаки болезней, а потом, при тщательном осмотре больного, убедиться в своей правоте. Это польза науки для простого человека. А если не осматривать больного, а ставить ему диагноз только взглянув на его мочу – это вред от науки для простого человека.
И все по-научному. И умер потом больной по-научному. Наука одна и та же, вот только используют ее по-разному. Это уже на сердце, на душе и на совести ученого человека.
Хотя и здесь можно призвать к порядку. До меня дошли слухи, что лекари Королевской коллегии медиков в Англии предложили запретить членам коллегии давать советы больным без их обследования, на основании одного лишь вида мочи»…
Что же случилось? Почему память Гудо вытащила из ада злого гения Гальчини. Неужели это вызвано пьяной похвальбой этого венецианского лекаря?
Да, Гудо отчетливо слышал каждое произнесенное за тонкой деревянной стеной слово. Но в них не было ничего, что могло чем-то навредить или чем-то оскорбить его и любимых им людей.
Так что же заставило Гудо открыть глаза? Неужели это леденящее повеление великого Гальчини. Повеление из ада, единственного места, где может пребывать душа губителя и истязателя. Повеление, переданное слугами ада – демонами. И оно без спроса проникло в сознание бывшего ученика жуткого подземелья Правды. А это означает одно – душа бывшего узника подземелья Правды вновь открыта для повелителя ада – сатаны!
После стольких молитв, после стольких благих дел, после стольких покаяний, казалось, душа Гудо под надежной защитой Господа. Ведь не может Всевышний не заметить, сколько добра и пользы принес людям врачеватель Гудо за последние три года скитаний по стонущей от смертей Европе. Десятки стран, сотни городов и селений, тысячи спасенных жизней.
Неужели Господь не принял его благих дел? Неужели Господь не простил его грехов?
Нет, этого не могло случиться с тем, кто справедливее самой справедливости, кто добрее самой доброты, кто сама любовь. Господь есть необъятная любовь, которая не может не почувствовать, какая все побеждающая любовь живет в сердце несчастного Гудо.
Значит что-то другое. Значит что-то, или кого-то господин в синих одеждах сам впустил в свою душу. Приоткрыл этому «что-то – кого-то» узкую лазейку. Приоткрыл и не заметил, как это леденящее вползло, расширилось и стало овладевать святой сущностью человека – его бессмертной душой.
И вдруг мозг Гудо пронзила страшная догадка. Настолько страшная, что его тело покрылось холодным потом, а из груди вырвался невольный стон.
* * *
– Болят раны, Гудо? Скажи, что мне сделать, чтобы облегчить твои страдания?
Милая, добрая Грета. Она бы многим пожертвовала, чтобы ее Гудо был здоров. Чтобы он, как и в прошедшие месяцы на острове Лазаретто, говорил с ней о странах и городах, в которых побывал, о лечебных травах, ранах и болезнях, о звездах, что определяют жизненный путь человека, и о Боге, который дал людям ценнейшее – жизнь! И она, не отрывая своих прекрасных глаз от его уродливого лица, будет внимательно слушать странного человека, взвалившего на себя необычную миссию оберегать ее и ее маму от столь страшного и тяжелого бремени – жить во времена чудовищных испытаний. Она не отведет своего взгляда, даже когда ее Гудо будет рассказывать о каких-то рыцарях, что сражались за гроб Господний, об ученых людях, что жили так давно, что и непонятно, о хитроумных механизмах, и даже об оружии, которое когда-то кто-то придумает.
И хотя он не отвечает на вопрос, почему ему так важно быть рядом с Гретой и Аделой, отводит глаза, когда девушка спрашивает, почему Гудо столь добр к ним и готов отдать за позволение быть рядом все что имеет, – это не настораживает и не печалит ее. Пусть не отвечает, лишь бы был здоров и рядом. И тогда не страшен завтрашний день, и можно будет думать о послезавтрашнем.
– Бедненький Гудо. Тебе больно? Скажи, милый Гудо!
А это несчастная Кэтрин. Волею судьбы и людской злобой, оторванная от родителей, она была обречена на голод, унижение и скорую смерть. В жутком, демоническом, на первый взгляд, образе Гудо она нашла второго отца, желающего, а главное способного защитить. И вторую мать, готовую отдать последние крохи пищи своему ребенку. Мать, возле которой спокойно и приятно засыпать, зная, что открыв наутро глаза, день рядом с ней будет легким и радостным.
Адела… Она не промолвила и слова, но Гудо знает, что сердце ее встрепенулось от стона раненого, а глаза увлажнились. Он знает потому, как Адела положила свою нежную руку на его голову и робко расправила волосы. Ради этого простого движения Гудо согласился бы быть пронзенным еще одной стрелой.
Стрела!
Страшная догадка, пронзила мозг ученика мэтра Гальчини.
Именно стрела натолкнула Гудо на зловещее открытие.
Это «что-то – кого-то» проникшее в душу Гудо был злой дух демона Гальчини. А лазейку для этого злого духа открыл, не кто иной, как сам несчастный Гудо!
Гудо почувствовал, как новый комок стона подкатил к горлу. Огромным усилием воли он остановил то, что могло взволновать его дорогих девочек. У Гудо не было сил растоптать и разорвать этот комок, но затолкнуть его как можно глубже он все же смог. Достаточно глубоко внутрь себя, едва ли не до той пронизывающей раны, что сейчас откликнулась пронизанным мозгом и холодным потом.
– Все хорошо, мои дорогие, – тихим, но ровным голосом отозвался Гудо. – Просто заснул и во сне неудачно согнул раненую руку. Грета, ты сменила повязку на ноге мамы?
– Да, Гудо. Я даже нашла дощечку здесь в каморке. Я крепко привязала ее к ступне мамы, как ты учил. Теперь маме не будет так больно ступать на ногу. А мазь твоя просто волшебная!
– Да, Гудо, моя рана уже почти не болит. Спаси бог тебя, Гудо!
Адела вновь погладила по голове мужчину, которого пришлось ей узнать и как демона, и как почти святого.
Адела.
Гудо почти умер, когда увидел проклятую черную стрелу, пробившую ступню Аделы. Но он бы точно умер, если бы позволил себе слабость, и сразу же бросился ей на помощь. Гудо смотрел в широко открытые от боли глаза любимой женщины и продолжал грести, выводя лодку из зоны дальности полета проклятых черных посланников смерти. Он даже не нашел, как и прежде, нужных в этом случае слов поддержки. Единственное, на что он уповал, так на попытку улыбкой подбодрить страдающую от боли Аделу. При этом ему и не вспомнилось, как люди содрогались и отворачивались от его изгиба губ. Не вспомнилось потому, что на его жуткую улыбку Адела ответила своей воистину божественной улыбкой, в которой сияло все счастливое, что может случиться с человеком на земле и на небесах.
Уже потом, когда стрелы со злобным шипением погружались в нескольких десятках шагов, не долетая до лодки, Гудо протянул руку и принял в нее окровавленную ступню той, что стала ему дороже жизни. Он сразу же попробовал, как закреплен наконечник стрелы и легко отделив его от древка, одним сильным рывком освободил рану от посланницы инквизитора.
– Грета! Возьми в мешке все, что нужно и перевяжи рану. Сейчас нужно остановить кровь. Все остальное я вылечу потом.
Так он тогда сказал, мысленно возблагодарив Господа за то, что Всевышний подсказал ему, что нужно передать дочери как можно большее из тех знаний и умений, которых с избытком имелось у бывшего ученика мэтра Гальчини.
Сказал и грустно покачал головой. Чтобы соединить раздробленную кость ступни и сделать все возможное, чтобы Адела не хромала всю оставшуюся жизнь, ему самому нужно было выжить. А легко отделяющийся наконечник стрелы просто вопил о том, что сделать это очень сложно. Особенно печалила стрела, глубоко вошедшая в живот.
Чтобы избавиться именно от нее Гудо впервые в жизни горячо и искренне призвал своего учителя. Горячо и искренне.
Сколько же раз за последние годы ученик вспоминал о своем наставнике. И с добром и с горечью. И с благодарностью и с ненавистью. И тот возникал в памяти то ученым советом, то наставлением, то подсказкой. И это помогало и Гудо и тем, кого он брался лечить. Тогда ученик, сжав губы, коротко благодарил великого человека.
Возникая, дух мэтра Гальчини кроме полезности приносил с собой чувство тревоги, неприятные воспоминания, и даже ощутимую боль тела, ту которую забыть невозможно.
Врывался дух Гальчини и не прошенный. Коротким воспоминанием. Как молния, блеснувшая и исчезнувшая во тьме. Но прошедшей ночью все было иначе.
Гудо, избавленный от трех стрел, попросил венецианского лекаря дать ему время подумать. Совсем немного. Столько, сколько нужно было, чтобы призвать великого врачевателя Гальчини. Призвать на помощь всем сердцем и душой. Не во имя своего тела и смертельной раны, а во имя дорогих ему людей, безусловно веря, что только живой Гудо способен сделать жизнь любимых легкой и радостной.
Вначале Гудо тщательно вспомнил все, что касалось чрева человеческого. И даже тот страшный день, когда мэтр Гальчини заставил его смотреть на ужаснейшую казнь.
…В тот день в подвал подземелья Правды какой-то знатный вельможа притащил своего слугу, обвиняя его во множестве злодеяний, последнюю точку в которых несчастный якобы поставил, украв у своего господина несколько драгоценных камней из рукояти его меча. Священных драгоценных камней, вывезенных из священной земли Иерусалимской.
Ни тщательный обыск, ни чудовищные пытки, которым подверг слугу лично сам Гальчини, не помогли установить местопребывание священных камней. И тогда старый епископ Мюнстера, не пропускавший возможности поприсутствовать при работе своего любимого палача Гальчини, предположил, что слуга проглотил свою добычу. Тут же было решено проверить это предположение. Тем более что в подземелье Правды был механизм, который наматывал на ворот кишки жертвы.
Гудо, не смея ослушаться учителя, видел этот ужас с самого начала, когда мэтр Гальчини вспорол живот несчастного до его мучительной кончины. Он видел, как медленно вытягиваются из утробы сизо-голубые колбаски человеческих кишек, как прощупывает их окровавленными пальцами мэтр, и как они наворачиваются на круглый брусок, точно веревка на правильно устроенный колодец.
Камней не нашли. Но это был урок, которым потом воспользовался учитель Гальчини, чтобы преподнести своему ученику наглядный пример того, как устроен кишечник человека.
После долгих разъяснений Гальчини добавил:
– Помучили мы, конечно, этого малого. Эту пытку и казнь привезли на континент славные воители викинги. Только делали это проще и быстрее. Привязывали жертву кишками за ствол дерева и кололи копьем, заставляя идти вокруг дерева. Так что жертва сама вытягивала из себя внутренности. Как ты видел, кишечник человека около девяти локтей. Когда-нибудь ты, наверное, сможешь их увидеть не только снаружи, но и у себя внутри. Свои, я могу.
И мэтр Гальчини самодовольно усмехнулся…
Именно это заставило Гудо призвать великого учителя всем сердцем и душой в сопроводители, который провел бы внутренний взор ученика к месту ранения. И не только призвать, но даже в некотором роде взмолиться.
И мэтр Гальчини откликнулся.
Какой-то непостижимой реальностью он погрузился вместе с учеником в его плоть, и, пройдя пищевод, желудок маленькими шажками проследовал по человеческим «колбаскам» к тому месту, где они были повреждены черной стрелой.
Он вел, рассказывал и показывал. Искренне радовался тому, что в кишечнике ученика не было пищи, а стрела так удачно угодила, что не задела ни важных жизненных органов, ни главных артерий крови. И даже тому, что наконечник стрелы остановился у нижнего края правой почки. Значит, ничто не мешает правильно направить ее дальше, осторожно обходя незадетые участки кишечника, и далее, через кожу наружу. А там уже можно освободиться от наконечника, а затем медленно вытащить само древко стрелы. И как можно скорее, пока вокруг наконечника не образовался мешочек, в которое железо выделяет яд. Если медлить, то мешочек разорвется, и яд вместе с кровью попадет в сердце и печень. Тогда смерть неминуема.
Так что нужно не спеша торопиться. Вот так – проталкивая стрелу ниже почки. Затем чуть выше, правее кровяного сосуда. Далее минуя сочленения кишок к границе внутренностей. И наконец, через кожу наружу.
И все это, превозмогая жуткую боль Гудо проделал, всем сердцем и душой благодаря своего великого наставника.
Вот только…
Открыв сердце и душу Гудо не подумал о том, что дух Гальчини, находящийся во власти ада, – злой дух. И цель его овладеть душой человека, до конца последних его дней поселившись в ней. А поселившись, приобрести над ним власть и использовать его мысли, поступки и тело в угоду сатане.
Гудо закрыл глаза. Ему было страшно. Теперь он понял, что злой дух Гальчини может помимо его воли проявлять себя и напоминать о печальном предназначении Гудо. Прошлое никогда не оставит в покое несчастного ученика подземелья Правды. И возможно придет время, когда восстанет из пепла страшный палач Гудо. Помимо своей воли и убеждений.
О, как он не желал возвращения прошлого. Прошлого, где он был слугой ада и оружием смерти. Только Господь может спасти его. На него упование и надежда.
На Всевышнего и на чудодейственные снадобья мэтра Гальчини. Нужно выжить, вылечит тело, а уж потом и душу. Он сможет и то и другое.
– Грета, вы покушали?
– Да, Гудо. Люди на этом корабле очень добрые люди. Нам дали даже хлеб и окорок.
– Это хорошо. Не может судьба все время нас испытывать. Уже должно настояться снадобье с бобровой струей[34]. Пусть половину выпьет Адела. Придет время, и заживем мы в достатке и в удовольствии. Ведь Бог есть любовь и судия праведный!
Глава третья
– Садись Пьетро. Налей мне и себе. Вот так. Давай выпьем за «Афродиту». Славная была галера. Вовек ее не забуду.
Джованни Санудо в два глотка осушил бокал, и, сузив глаза, с легкой усмешкой стал наблюдать за тем, как капитан сгоревшей галеры поминает свой корабль. Это наблюдение до боли сжало горло Пьетро Ипато. Сжало, но все же позволило дышать, и даже тоненькой струйкой пропускать терпкое вино.
Знакомые с юных лет, объединенные любовью к морю и кораблям, спаянные многими сражениями, тайными и грязными делишками, эти мужчины так и не стали друзьями. Да и какая может быть дружба между господином и слугой, равно как и между волком и собакой.
– Что скажешь Пьетро? – с легкой усмешкой спросил господин.
Капитан Ипато растерянно и жалко посмотрел на герцога. Так смотрит собака, когда у самого ее носа внезапно из темноты выдвигается волчья пасть. Уже не убежать, страх забрал ноги, но поскулить еще можно.
Капитан поскреб в своей черной с широкой проседью курчавой бороде и медленно стал докладывать обо всем, что произошло на переданном ему во временное командование «Виктории». Наблюдая за тем, как согласно кивает головой герцог, Пьетро Ипато взбодрился, и уже более твердым голосом закончил:
– Господь и ветер по-прежнему благосклонны к нам. Если будет на то ваша воля, сегодня ночью я отойду на милю от берега, и поведу корабль под парусами. Это сократит время нашего пути на два дня.
Джованни Санудо удовлетворенно кивнул головой.
– А скажи мне, Пьетро, как там наши неожиданные гости?
– Этот несчастный лодочник и его живой груз?
– А что у нас появились еще гости? – сердито засопел на явно расслабившегося капитана его господин.
– Нет. Не появились, – опустил глаза Пьетро Ипато. – Как вы и велели, их хорошо кормят, дают по просьбе горячую воду и все такое… Вот вчера лекарь попросил собрать для снадобья крысиный помет и паутину. Кажется, этот лодочник поправляется. Так что наш комит скоро с удовольствием вышвырнет его и этих «Евиных дочек» из своей коморки.
– Наш Крысобой просто в нетерпении, – рассмеялся Джованни Санудо.
Смех господина капитан Ипато дополнил своей широчайшей улыбкой. Им обоим было хорошо известно, что свирепый комит тайком, глубокой ночью затаскивает к себе в каюту палубных мальчишек. То ли Крысобой запугивает, то ли подкармливает, то ли дает подарки или деньги – неизвестно. Но из дощатой коморки не исходят настораживающие звуки, и мальчишки никому не жалуются. Сам комит догадывается о том, что герцогу известно о его ночных проделках. Ведь от Джованни Санудо не возможно ничего скрыть. И если господин изволит не замечать маленьких слабостей своего слуги, то тот должен с особым рвением служить своему повелителю.
Что собственно и делает комит Крысобой. В преданности своей он, пожалуй, не многим уступает Аресу и Марсу.
А что знает о слабостях самого Пьетро Ипато великий герцог? Только ли то, что капитан выказывает явное презрение к женщинам. Он даже избегает этого слова, как и женских имен. Они все для него «Евины дочки». Греховодницы, рожденные от первой грешницы Евы. А некоторые юноши, что рядом с Ипато, это не грех. Это необходимое покровительство, без которого на море не обойтись.
И все же это опасная греховная слабость, за которую можно и на костер угодить. Если того пожелает герцог Санудо. А еще герцог платит за службу серебро, предоставляет жилье, вино и многое другое. Так что в глазах старого капитана Ипато господин не прочтет ничего другого как только преданность и готовность исполнить любой приказ и пожелание.
– Ты сам выводишь «Евиных дочек» на прогулку? – усмехнулся Джованни Санудо. Усмехнулся от того, что его капитан как обычно, когда употребляли его «Евиных дочек», нервно осмотрелся по сторонам.
– Как вы и велели. Только ночью, когда все спят. Разве что Крысобой рядом. Но я же говорю, он не отходит от дверей своей коморки. Под нею и спит.
Об этом Джованни Санудо уже говорил со своим комитом. Но тот ничего интересного не смог сообщить. Ведь раненый говорит очень мало и очень тихо. К тому же часто на незнакомом Крысобою языке. Женщина и девушки поступают так же. А если что и слышит комит, то это касается лечения ран лодочника, в котором одна из девушек по имени Грета принимает большее участие, чем сам венецианский лекарь Юлиан Корнелиус. А еще Крысобой в подробностях рассказал о том позднем вечере, когда волею проведения галера и утыканная стрелами лодка столкнулись нос к носу. Все рассказал, не утаив и того, что венецианцы предлагали ему четыре золотых дуката. Невероятные деньги, от которых комит отказался. Лодку привязал лишь только по той причине, чтобы поутру получить ясное повеление от великого герцога. А не с каким либо умыслом. Господи сохрани от такой глупости!
Может, взял золото, а может, и нет. Путь долог, еще успеет Джованни Санудо в этом разобраться. А пока…
Герцог наксосский повернул голову налево. В сотне шагов от борта он с удовольствием осмотрел старый городок Сплит. Много сотен лет назад римский император Диоклетиан построил здесь свой дворец. Здесь, среди живописной природы Далмации[35], под защитой высоких стен, он отдыхал душой и телом от горячей жизни вечно бушующего Рима. Он возлегал на шелковых постелях, утопая в лепестках роз, и с высоты открытой террасы любовался ласковыми волнами Адриатического моря, причудливыми изгибами прибрежных скал и роскошью многоцветной растительности. Император пил вино из своих глубоких прохладных подвалов и знать не знал, что живет в раю.
Впрочем, и того, что есть на небесах Господь Бог и созданным где-то им рай. Тогда у людей были другие боги. Да и сам император, если желал, мог быть богом.
Джованни Санудо богом не быть. Он достаточно умен, чтобы понимать людскую тщетность уподобляться Создателю. А вот императором… Повелителем…
Над этим можно поразмыслить. И не только. Можно что-то и предпринять.
– Некоторые богословы утверждают, что рая на земле нет. Господь в наказание за грехи человеческие вознес его на небеса. Но глядя на эту землю, я верю, что райские уголки все же есть на земле.
Пьетро Ипато, многократно бывавший в порту и в окрестностях Сплита, согласно кивнул головой. Подтверждая слова герцога, с гигантской высоты городской колокольни[36] мерно зазвучал колокол.
– Так вот, мой дорогой Пьетро. Господь Бог и ветер нам благоприятствуют. Нужно избавиться от наемных гребцов. Так что возьмешь с собой в порт вольных гребцов, кроме тех, что на двух первых загребных банках. Не скупись. Пусть хорошо выпьют за мое здоровье. Скажешь, что за это они утром займутся погрузкой воды и зерна на борт. Сам не пей с ними. Ночью мы уйдем.
Капитан Ипато только руками развел. Ни в какие пререкания с господином он не желал вступать. Хотя и следовало. За герцогом Наксосским уже давно тянулся шлейф грязных слухов, и с каждым годом нанимать моряков на его галеры становилось все сложнее. Брошенные в порту Сплита гребцы молчать не станут. К тому же им не заплатят вообще никаких денег. Будут жалобы в сенат Венеции и герцог об этом знает. И все же он идет на этот неприятный шаг. Значит, есть тому причина.
– А еще Пьетро, придется не поскупиться на приличные одежды для двух юных девушек, кормилицы и порученного ей младенца. И еще… Расходы. Проклятые расходы. Что еще нужно благородным девушкам? Зайди к Гершу на портовой улице. Ну, ты знаешь. Пусть он все подберет.
– Герш больше не даст без денег.
Джованни Санудо поморщился и отцепил от пояса увесистый кошель.
– Расходы. Проклятые расходы.
Пьетро Ипато сглотнул слюну. Если герцог платит Гершу, то он замыслил что-то невероятное и очень стоящее.
* * *
Гудо повернулся на бок. Уголек внутри живота уже не жег его внутренностей. Режущая боль других ран притупилась, расслабляя изрезанные мышцы. Этому нельзя было не радоваться. Вот только…
Мужчина в синих одеждах приподнялся и с нарастающим беспокойством осмотрел свое временное убежище. Через мгновение он застонал. Ни Аделы, ни ее ребенка, ни девочек в тесной коморке не было. Их, как и в последние три ночи, вывели подышать морским воздухом, хотя и за стену, но все же прочь от просмоленных канатов, кислого от пота и крови матраса, от прелых мешков с зерном и всякой всячиной. Вывели. И они не вернулись. Их не вернули.
Гудо заскрежетал зубами. Беспокойство быстро сменила тревога. Та уже была готова уступить свое место отчаянию.
Необходимо было подняться. Там, за дощатой дверью, и только там, он мог и должен был узнать, где его родные и любимые. Что с ними? Не угрожает ли им опасность? Не брошены ли они людскими пороками на эшафот оскорблений и унижений? Оберегает ли их Господь, когда временно это не под силу раненому Гудо?
Тяжело дыша и обливаясь потом, раненый приподнялся, спустил ноги на доски пола и мотнул своей чудовищной головой. Нестерпимо захотелось воды. Холодной до синевы и бодрящей, как крепкий эль. Такой, как испил Гудо в швейцарских Альпах в своих недавних странствиях. Но, ни воды, ни обычно приносимой поутру пищи, ни тех, кому предназначалась эта пища, ни даже их вещей, ни мешков самого господина в синих одеждах, ничего не было.
Гудо засыпал счастливый и умиротворенный. Проснулся несчастным и обессиленным от рвущей душу тревоги. Он расслабился. Он позволил дать себе слабину. Он просто уснул, как требовали его раны. Его сердце не почувствовало подступающей беды.
Вырвать из груди это самое сердце и спросить его – почему? Шагнуть за проклятую дверь и спросить людей – почему? Поднять взор к небесам и спросить Господа – почему? А главное – за что?
Гудо с трудом ступил шаг и толкнул дверь.
Яркое солнце безжалостно ослепило мужчину в синих одеждах. Опираясь левой рукой о косяк, Гудо тут же заслонился правой от щедрот небесного светила.
– День начался с приятного события.
– Поздравлю Юлиан Корнелиус. Ты не только вытащил беднягу с того света, но и удивительно скоро поставил на ноги.
– То, что я вижу – это не чудо. Это славное умение нашего лекаря. Как говориться – не единой милостью Господней…
– Спасибо друзья. Но не будем забывать все же и о милости Господней.
Гудо отнял руку от лица, и медленно открыв глаза, посмотрел на трех мужчин, что с удовольствием и радостью пожимали друг другу руки. Традиционная мантия доктора, обозначающие профессию лекаря, замшевый черный берет и носимые даже в жару замшевые перчатки лишь на мгновение задержали взгляд раненого на фигуре расплывшегося в улыбке Юлиана Корнелиуса. Но двое других, в шелковых коротких жакетах, туго стянутых на талии и расходящихся веером на бедрах, в плотно тканых шоссах, с остроносыми пигашами[37], и в контраст этой втянутости, в свободно свисающим по телу расстегнутом таперте[38], неприятно насторожили Гуду. Ведь он уже успел сложить свое мнение о лекаре. И не только о его знаниях и умениях, а и о том, что он для Венеции человек новый, пришлый, многий из тех, для которых ревнивый город только в годы чумы открыл свои ворота.
Но эти два господина и по одежде и по выговору и по манере всегда и во всем выделять себя, были, без всякого сомнения, венецианцами из рода в род, и по крови, и по сути. А в данный момент именно венецианцы были наиболее опасны для Гудо и его девочек. Успев за короткий срок пребывания на острове Лазаретто в подробностях изучить граждан этого города, господин в синих одеждах сделал для себя неутешительный вывод – они слишком умны и слишком упрямы, они не знают слово «нет» и всегда добиваются того, чего желают. При этом их хитрость может на время прикрыть лисьим хвостом природную алчность волка добытчика. Они способны отступить, но только лишь за тем, чтобы напасть вновь, с лучшей позиции. У них напрочь отсутствует понятие дружбы, всю ее с лихвой поглотила преданностью своему городу, как всемогущему защитнику, кормильцу и благодетелю.
Все это Гудо неоднократно испытал за те тяжелейшие три месяца, в течение которых пришлось в день и в ночи бороться за существование, а часто и за жизнь свою и девочек, на острове слез, смерти и незамолимого греха.
Так и должно было произойти.
Вдоволь пожав руки, венецианцы, под вялое беспокойство лекаря тут же затащили раненного внутрь коморки, и, не мешкая, приступили к допросу.
Нет, конечно же, он не венецианец. Он плохо понимает и мало говорит на языке их города. Чума и голод привели его на острова республики святого Марка. Сам он из северных Балкан. Его хозяин тоже не венецианец. Он приплыл недавно на своей лодке и подрабатывал перевозками. Чума проглотила почти всех лодочников венецианцев, так что для прибывших из других мест есть работа, и власти города их не прогоняют. Сам он носил тяжести, был гребцом, выполнял всякую тяжелую работу.
В тот день хозяину лодки понадобился помощник. Он выкрикнул желающего, и раненый первым успел на его зов. (Лучше собаки откусили бы ему пятки, чем пережить все это!) На каком-то острове в лодку сели женщина с ребенком, две девушки, и приятный юноша. Куда им было нужно, он не знает. Ему велели грести, чтобы заходящее солнце все время было по правому борту. Значит на юг.
Под вечер их окликнули с какой-то высокой лодки. Но юноша испугался и велел грести как можно быстрее. Ему кричали и угрожали. Но он приставил нож к горлу хозяина лодки и велел быстрее уходить от погони. Гребли вдвоем с хозяином. Но потом на лодку обрушились стрелы. Еще и еще. Хозяин упал за борт. Юноша не двигался. А он все греб и греб.
Потом он очнулся в этой коморке, где добрый лекарь вытащил из него стрелы.
Нет. Кто этот юноша, и как его зовут, он не знает. Что это за женщина и девушки, тоже. Нет. Он не знает… Уже спрашивали… Не знает где и куда… Нет. Не знает… Уже спрашивали… Не знает.
Через час Пьянцо Рацетти и Аттон Анафест разочарованно посмотрели друг на друга. Конечно, можно было еще продолжить. Но этот сын тупой коровы, вряд ли что-нибудь добавил бы к уже с трудом выжатому из него. Нужно отдохнуть и подумать. Может предложить этому ослу деньги? А может подвергнуть его пыткам? Эти меры могут дополнить скупой рассказ лодочного гребца. Они всегда помогают. Нужно подумать.
Венецианцы коротко переговорили между собой, и, оставив изможденного допросом раненого на его постели, поспешили на свежий воздух.
– Воды. Лекарь, Богом прошу, воды!
Юлиан Корнелиус встрепенулся.
– Дай ему воды, – положил на плечо лекаря руку Пьянцо Рацетти. – Пусть еще поживет.
Из пустоты в руках лекаря оказался кувшин с водой. Юлиан Корнелиус протянул его раненому, и, почувствовав слабость в коленях, присел рядом.
– Где они? – чуть отпив, прошептал раненый со сколоченной варварской бородой и такими страшными глазами.
Еще мгновение назад, с трудом очнувшись от тяжести взора этого странного лодочника, Юлиан Корнелиус почувствовал, что вновь впадает в какое-то странное оцепенение. В то весьма неприятное чувство, которое овладело им, едва начался допрос. Лекарь имел несчастье грозно, подобно венецианцам, уставиться на допрашиваемого, и тут же, что называется, напоролся на меч ответного взгляда. Почти сразу же ученый лекарь ощутил слабость в теле, которая постепенно перешла в такую вялость, что полностью исключила Юлиана Корнелиуса из списка тех, кто задавал вопросы. Затем в голове стал клубиться туман, и в нем, как в природном тумане, стали искажаться не только лица и тела, но и слова, и даже ощущения.
И если в начале допроса лекарь еще раздумывал о том, сообщить ли (сейчас, скоро, или в скором будущем) о странностях этого лодочника (а их было более чем достаточно: знание ученой латыни, венецианского языка, хирургии и даже основ практикуемой медицины!), то всего лишь после нескольких ответов (глупых и на едва произносимом венецианском) Юлиан Корнелиус напрочь отказался от этой мысли. Да и самой мысли в его голове уже не было.
«Это глаза демона. Нет самого сатаны. Не смотреть в них», – на мгновение тогда напрягся ученый лекарь, но, не сумев отвести своих глаз, подчинился и погрузился в плен безразличия к происходившему допросу.
Благо Пьянцо Рацетти и Аттон Анафест были настолько увлечены своим важным делом, что и не заметили странного молчания лекаря. А возможно и заметили, но сочли разумным поведение своего друга. Не дело лекаря лезть в государственные дела. Это привилегия городских чиновников и военных. А они как раз и были и первыми и вторыми.
А еще, возможно, за несколько дней общения уже смогли составить свое мнение о лекаре как о гражданине города без отца и деда. То есть о пришлом человеке. А таким всегда есть, что скрывать от Венеции, или, по крайней мере, не договаривать. Им нет, и не может быть полного доверия. Их сердца не принадлежат республики святого Марка.
И это верно. Ведь не сказал Юлиан Корнелиус правду о жестоком самолечении этого странного лодочника. Не упомянул и о том, от чего ему стало до жути страшно. Даже умалишенные кричат, когда режут их тела. Даже святые громко возносят свои слова к небесам, не в силах терпеть муки пыток и казни. И только сатана, и его дети демоны безразличны к телесной боли. Ибо они и есть телесная боль.
А теперь еще это отуманенное подчинение…
Юлиан Корнелиус почувствовал, как ручеек пота нестерпимым холодом заструился между лопаток. Крепко закрыв глаза, лекарь скороговоркой выпалил:
– Герцог держит их при себе. На них хорошая одежда. Они сыты. На их лицах улыбки.
– Слава тебе Господи, – подняв глаза к дощатому потолку промолвил странный лодочник.
– Господи… Господи? – удивленно прошептал лекарь и боком вывалился в распахнутую для щедрот солнца дверь коморки.
* * *
«Они живы. Они здесь, рядом, на галере. Они сыты и… Улыбаются. Значит все хорошо. А если что не так… Еще бы дня три. Да, хватило бы и двух… Эх…»
Гудо сделал большой глоток воды и с волнением стал ожидать, как на это отзовется кишечник, почки и мочевой пузырь. Если не будет явно выраженной рези или жжения, то он прав – через два – три дня Гудо сможет встать на ноги. Вот только нужно продолжать пить горькие настойки и смазывать раны волшебными мазями мэтра Гальчини. Они, без сомнения, у Греты.
А самое важное то, что жизненные органы Гудо имели значительный запас крепости. Он был исключительно здоровым и крепким мужчиной. И это не смотря на то, что ему уже около сорока лет. Так, во всяком случае, считал сам Гудо, не знавший ни дня, ни года своего рождения.
Не многие его сверстники дотягивали до таких многих лет. А если и дотягивали, то их тела терзались многочисленными болезнями и последствиями травм и ранений. Но жестокая судьба, вдоволь потешившаяся над телом и душой ученика подземелья Правды, каким-то чудом не разрушила физической крепости организма. Гудо не знал болезней. Раны на его теле заживали скоро и без особых осложнений. На его уродливом лице было не так уж и много морщин. Волос лишь слегка коснулась седина и то у висков. Но больше всего радовало то, что у него были здоровые зубы, хотя и отсутствовали два коренных зуба слева, утраченных в пьяной драке еще в молодости. А крепкие и здоровые зубы это залог здоровых и крепких внутренностей. Так учил великий Гальчини.
А еще у него была дочь. Умница и прелестница Грета. Она обязательно приготовит нужные снадобья. Те, о которых они много и часто говорили на острове Лазоретто, и особенно в последние дни. Какое счастье, что у Гудо есть дочь. Она будет еще более сведущим и умелым лекарем, чем ее отец. Может даже превзойдет волшебника Гальчини. Она так умна и прилежна. К тому же все запоминает с первого раза. Не то, что тугодум отец, знания которого равноценны перенесенной боли и мучений.
«Все будет хорошо. Господь не оставит нас своей милости. И никакие…»
Но тут Гудо почувствовал, как вокруг раны в животе образовалось волнение, волнами отдающее в кишечник и желудок. Неприятное чувство обволокло сердце и начало стучаться в мозг.
Нет, это не было последствием огромного глотка воды. Это было что-то другое. Но чтобы разобраться в этом, нужно было отставить мысли о дорогих ему девочках и настойчиво заглянуть внутрь себя, чтобы понять – это волнение рождено физической или духовной сущностью. Да нужно было разобраться. Но так не хотелось даже в мыслях расставаться с родными ему людьми.
И он думал о Грете, Аделе, о ее продолжении – маленьком Андресе, и о приёмной дочери Кэтрин. Он думал и мечтал, строил дом для них и высаживал сад. Он крепкий и сильный. Его знания с честью послужат ему. У него есть зашитые в плаще золотые монеты, заработанные богоугодными стараниями. Во многих городах у него были знакомые и даже несколько человек, которых он мог назвать друзьями. Все это стойкий фундамент для счастливой жизни.
Гудо даже увидел себя в глубокой старости в каменном доме у сытного очага в окружении внуков и правнуков. Он сладко зевнул и прикрыл веки.
* * *
– Да чтобы его черти в ад утащили! Сколько он еще будет вылеживаться на моем матрасе? Он что принц кровей или паршивый лодочник на грязных венецианских каналах?
– Не принц, конечно, но… А может и верно. Простые люди привыкли к сену, голым доскам, к земле. На них они лучше высыпаются. И раны лучше затягиваются…
– Ладно, лекарь. Пусть до утра еще воспользуется добротой комита Крысобоя. Завтра лодочника желает видеть его светлость герцог. А это ему от щедрот его светлости.
«Завтра. Значит завтра. Значит у меня еще полдня и целая ночь. Это хорошо. Это очень хорошо», – улыбнулся Гудо.
Дверь приоткрылась. В узкую щель рука лекаря втолкнула сверток и небольшой оловянный кувшин с подпружиненной конической крышкой. На большее Юлиана Корнелиуса не хватило. Дверь со вздохом закрылась.
Вздохнул и Гудо.
Время еще есть. Это хорошо. Но…
Еще полдня и целую ночь он пробудет в этой коморке и скорее всего не узнает, что с его Аделой и детьми. А еще всенарастающее беспокойство, что возникло утром внизу живота, и теперь, со скоростью улитки добралось до желудка.
Гудо посмотрел на щедроты его светлости герцога и нахмурился. Нет, совсем не так нужной ему милости герцога. Он еще раз представил спешащую руку лекаря. Лекаря, который уже то что не желал, а скорее боялся увидеть своего больного.
Именно боялся. Теперь Гудо это ясно понимал.
Он не желал этого. Но так случилось. Так произошло.
Едва напористые венецианцы приступили к допросу, Гудо сжался в комок и стиснул зубы. Ему в одно мгновение припомнилось все, что произошло в этой коморке. О, как он был неосторожен и непостоянен! Гудо выдал свое знание латыни и венецианской речи, свои знания и умения. Показал удивительный набор хирургических инструментов, многие из которых не имелись даже на медицинских факультетах. Хуже того, Гудо не сумел, а скорее не пожелал, построить правильную линию поведения с лекарем. То льстил, то не замечал, то пытался поговорить по душам, то смотрел как на пустое место.
Какое впечатление должно было сложиться о раненом в мозгу и в душе лекаря? Что должен был ученый человек подумать о простом лодочнике с багажом хирургических инструментов и набором лечебных трав и чудодейственных мазей? Что должен он был решить, увидев способности простого человека, а в особенности то, что этот человек с непонятной стойкостью переносил боль, и не позволил себе даже приличествующего стона.
Чтобы сам мог подумать Гудо, если бы под его хирургическим ножом больной не закричал, не застонал и не проклял его, как бывает всегда, когда острое железо рассекает плоть? В уме или в сознании раненый человек? Да и человек ли он в обычном понимании? А если и человек, то не под властью ли он сатанинских сил?
Почему Гудо просто не обмолвился, что не желал своими стонами причинить боль дорогим ему людям?
Что скажет Юлиан Корнелиус в первые мгновения допроса? А сообщил ли он своим венецианским друзьям что-либо ранее? Промолчит или погубит Гудо?
Погубит Гудо и тем самым обречет на погибель его семью.
Да именно семью! То единственное для чего стоит бороться за жизнь и завтрашний день!
Вот только сейчас пережить этот допрос и не выдать себя, не дать венецианцам ни малейшего повода посеять в своих душах зерна сомнений. Только бы лекарь молчал. Только бы не проронил ни единого слова, ни сейчас, ни позже. Позже Гудо сумеет уговорить его. Часто золото самый надежный замок на человеческие губы.
А сейчас?
Гудо из всех направленных на него строгих взглядов увидел только один – взгляд Юлиана Корнелиуса. Он увидел и пропустил его внутрь себя. Гудо почему-то был уверен, что именно там эта строгость глаз увязнет, потеряет силу, и обратным действием обезволит своего хозяина.
Ведь такое часто выходило у великого Гальчини. Он неоднократно указывал на это своему ученику, для примера, то заставляя преступников во всем признаваться даже не подвергая их пыткам, то насмехаясь над монахами, дерзнувшими посетить его земной ад, то даже под видом просьбы добиваясь от скупого Епископа золота для своих бесчисленных экспериментов и изысканий.
Силой взгляда и движением рук мэтр Гальчини добивался от людей желаемого для себя. Но этого никогда не получалось у Гудо. От его взгляда люди просто зеленели, отворачивались и пытались сбежать. Тогда учитель просто смеялся и говорил, что большего его ученику и не нужно.
Но теперь Гудо нужно было большее. И это случилось. Как? Этого Гудо не знал и не понимал. Просто он смотрел в глаза лекаря и страстно желал, чтоб тот не проронил и слова. Конечно же, за этот час допроса он неоднократно обращался к своему учителю, умоляя его о поддержке в столь нужном деле.
Помог ли мэтр? Нет, на этот раз Гудо не ощутил его присутствия. Но что было очевидным, так это то, что воля и сознание Юлиана Корнелиуса были в полном его подчинении. И лекарь без сомнения, опираясь на свою ученость, осознал это. Осознал и пришел в ужас. Ведь так повелевать человеком могут или Бог или его враг сатана!
Как дальше поведет себя лекарь? Что будет завтра? Будет ли послезавтра? А будущее? Будут рядом Адела и дети? Будут. Обязательно будут!
Другого будущего мужчине в синих одеждах и не нужно!
Вот только что-то беспокойство набрало силу, и уже почти добралось до сердца…
* * *
С зари погода не заладилась.
Так со смехом говорили между собой палубные матросы. Удивительное в это время года полное безветрие оставило их без работы. Не нужно было под пронзительные свистки старших по команде, под ругань и кулаки палубного старшины, под свинцовым взглядом и проклятиями самого герцога вытягивать паруса, тянуть жесткие и колючие реечные канаты, крепить концы и с тревогой ждать перемены ветра или его силы.
Согласно контракту, в штилевые дни палубные матросы занимались починкой парусов и такелажа. Этому они радовались от души. А что может быть приятнее, чем подставить задубевшую от пота и морских брызг, навсегда почерневшую от загара спину ласковым лучам солнца, что так приятно в последние дни весны. Руки вроде и при деле, но не нужно бегать, суетиться, подставляться под кулак старших и бояться наказания за малейшую неточность в работе с парусами.
Теперь галера, как и положено ей, в полном распоряжении гребцов. Вот пусть и гребут, отрабатывая бобы, сухари и кружку теплой вонючей воды. Пусть старательно работают веслами, ритмично и с полной отдачей сил. Для ритмичного и плавного хода на галере имеются по два флейтиста и барабанщика. Сменяя друг друга каждый час, они будут задавать ритм, согласно которого весла опустятся в изумрудную волну, упрутся в нее, и выйдут из воды уже в белых кружевах пены. Потом согласно такту поднимутся на положенный уровень, замрут на положенный такт и опять обрушатся в изумруд следующей волны.
Итак гребок за гребком, час за часом, без отдыха, до изнеможения. Ибо так пожелал герцог.
Вначале он пожелал избавиться от многоопытных наемных гребцов, что сидели на первых и последних двадцати веслах галеры. Им, свободным людям, не было дела до тех рабов, что размещались на средних банках[39] для гребцов. Свободные они получали за свой труд деньги, хорошее питание и имели смену каждый час. Так можно грести и день и два, и месяц и полгода, как обычно и длился переход от черноморских степей до Венеции, или от города Святого Марка до туманных берегов Англии.
Нанятые гребцы хорошо знали свое дело. Им и не нужны были барабан и флейта. Перекликаясь старинными морскими словами, не понятными даже старым палубным матросам, они легко увеличивали или уменьшали скорость скольжения по воде галеры. Ложили корабль на поворот, или во время боя табанили, уклоняясь от гигантских камней катапульт врага.
Но почти все эти многоопытные гребцы перепились в прохладных подвалах Сплита, а выйдя поутру на пирс порта, с удивлением не обнаружили красавицу галеру «Викторию». Что случилось потом, догадаться не сложно. Редкий человек на земле не был обманут и обворован. Но это не важно.
Важно то, что рабы галеры, без опытных наемных гребцов, делали все не так, как было нужно. И длилось это уже третий день.
Вот только если в прошедшие два дня был попутный ветер и паруса спускались лишь на несколько часов, чтобы растормошить проклятых гребцов галерной наукой, то сегодня с зари погода не удалась. Значит «Виктория» до неизвестного часа должна была идти на веслах.
И она шла. Но рывками, наклонами, зигзагами.
Не помогали загребные вольнонаемные. Не помогали перемены мест тупоголовых невольников, значительное количество которых были рабы северного побережья Африки и пленные турки. Не помогали плети подкомитов и кнут самого комита Крысобоя. Более того – не помогали даже ни звериное рычание самого герцога ни его угроза перетопить всю гребную команду галеры.
Лишь после полудня «Виктория» на слабом ходу выровняла корпус и обрела плавный ход. Взмокший до самой души капитан Пьетро Ипато широко перекрестился, и устало поплелся к кормовой беседке, где вот уже час, с бокалом вина, отходил от ярости герцог наксосский. Отвернув голову от ехидно улыбающихся палубных матросов, и с пониманием кивнув сидящему на краю куршеи Крысобою, Пьетро Ипато с трудом взобрался по крутым ступеням лестницы.
– Ну и денек, – устало приветствовал своего старого капитана Джованни Санудо.
Тот только скрипнул зубами, проглотив горячие слова о том, как не прав был герцог, освобождаясь от множества умелых гребцов. Проглотил и правильно сделал. На то он и герцог, на то и его воля. Да и «Виктория» тоже его. Среди этих волн, на этой мастерски сложенной куче древесины он владыка и даже бог!
Вот он какой владыка. На золоченом кресле, в голубом с золотом шелковом камзоле, с тяжелой золотой герцогской цепью, с огромным бокалом золотистого вина. По обоим бокам, оберегая тело, высятся два закованные в броню воина, под стать своим именам – боги в бою. А теперь, еще радуя душу, медленно прохаживаются вдоль фальшборта миловидные девушки в синих с зеленым бордюром[40] бархатных нарядах и в таких трогательных барбетах* ((фр.) – женский головной убор 13–14 вв. из белого полотна, покрывающий часть груди, шею, уши, подбородок и окружающий лицо белизной.), что нельзя не вспомнить о божественных ангелах.
А тут еще, как мадонна с младенцем, на скамеечке восседает, хотя и несколько грустная, но не лишенная привлекательности женщина, согласно ее возрасту и положению, в старинном соркани[41]. Ее декольте прикрыто вставным полукругом из глазета* (парча с цветной шелковой основой и вытканными на ней золотыми и серебряными узорами) и укреплено шнуровкой из красного шелка. Она уже дважды за сегодняшний день освобождала свою большую грудь, из такого удобного для кормилицы наряда, и давала ее младенцу. Тихому и удивительно спокойному малышу. А впрочем, почему ему таким не быть. В большой груди матери достаточно молока, а в ее объятиях тепла и заботы, чтобы быть счастливым ребенком. Даже в такое страшное время. Даже среди чужых ему людей.
Несмотря на возраст, у этой женщины все еще приятная кожа лица. Вот только круги под глазами и глубокая складка между ними. Но кто не испытывал в последние годы голод и страдание. Пьетро Ипато догадывался и о том, что если снять с ее головы омюсс[42], то в волосах женщины уже много седины, а на шее, выдавая возраст, сетка морщин. Но это ничего. Это все понятно. Этого можно и не замечать. Как и у всякой женщины, которая нравится мужчине.
Эта женщина нравилась Пьетро Ипато.
Нравился и ее тихий голос. Хотя капитан и не понимал ни единого произнесенного ею слова. Их понимал младенец, тянущий к лицу матери ручонки и время от времени радостно восклицавший, и тихо, с переливом, смеющийся. Ну чем не мадонна с младенцем!
Слуга-мальчонка подал капитану табурет, и, по кивку головы герцога, бокал сладкого вина. Потягивая кровь земли, как любили говорить греки, всего сотню лет назад еще хозяева островов герцога, мужчины отдали должное аромату, крепости и насыщенности пьянящего напитка. Разговор перешел на виноградники, что были так малы и плохо устроены на скудных землях островов, на их полив, что было еще печальнее, и на то, что уже почти не осталось старых виноделов с их секретами и тайнами приготовлении вина, доставшимися им от предков.
Как естественное, разговор перешел на погоду, со всегда ожидаемым дождем и на ветра, что должны пригнать тяжелые облака. От ветра перешли к парусам и к самой галере. Постепенно лицо герцога стало бордовым, а глаза налились кровью. Он встал и прошелся вдоль беседки. Отсюда ему отлично было видно все, что происходило на «Виктории». Ему припомнилось утро, и гнев вернулся к нему.
Еще бы. Вымотанные гребцы все чаще не попадали в барабанный такт. Слышались удары запоздавших весел о те, что еще пытались соблюдать правильную траекторию движения. Гребцы дышали тяжело с хрипотой.
Джованни Санудо тряхнул головой и громко велел:
– Весла на борт, – а затем уже тише подлетевшему комиту Крысобою. – Дьявол их сожри. Ладно, корми.
Умолкли барабан и флейта. Зазвучали бронзовые свистки и команды подкомитов. Над банками гребцов прокатился вздох облегчения и деревянный стук втягиваемых весел. Забегали мальчишки с деревянными лоханками и корзинами с едой.
Крепко сжимая кольца кнута, к лестнице подошел Крысобой.
– Чего тебе? – округлил на него глаза Джованни Санудо.
– Вы велели…
– Что я велел?
– Лодочник. Этот раненный… Венецианцы его вчера допрашивали.
Герцог поманил Крысобоя пальцем и тот, легко взлетев по крутой лестнице, припал губами к уху его светлости.
– Вот как, – протянул герцог, – Что ж. Давай и мы с ним побеседуем.
Комит улыбнулся и с радостью бросился к своей коморке. Ему так не хватало уединяющих дверей.
* * *
– Вставай, свиное рыло. Его светлость зовет.
Гудо уже был готов к этому.
Проснувшись с первыми лучами солнца, он увидел на краю лежанки несколько свертков. Кроме куска каши и мягкого окорока, Гудо обнаружил оловянную кружку со снадобьем, пузырек с мазью и полоски выбеленного льня для перевязки.
– Грета. Моя дорогая Грета, – улыбнулся мужчина и, прежде чем подкрепиться, занялся своими ранами.
Потом он с напряжением, но все же с удовольствием, надел на себя одежду. Она лежала в дальнем углу, застиранная и зашитая в местах повреждений. Об этом позаботились его девочки еще в первые дни на галере. Они были уверены – Гудо обязательно победит смерть, а значит, ему скоро понадобятся ставшие его второй кожей синие одежды.
Гудо прощупал низ своего огромного плаща. Золото все так же было крепко и умно зашито в потайные швы. Оставалось ждать.
– Пошевеливайся. Живее, живее…
Крысобой уже схватил за плечо с трудом поднявшегося раненого, но тут же отнял руку. Комит впервые всмотрелся в лицо того, кто причинил ему жизненные неудобства, заставив спать на досках трюма. До этого мгновения ему не было дела до того, кого смело можно было назвать навозной кучей, тем, кто ничего не стоил и ничего собой не представлял. Человечек из толпы. Навозная куча для поля, на котором вызревают и благоухают благородные люди.
– Ну, ты, приятель, и урод, – хихикнул комит. – А с бородой ты еще веселее. Тебя надо на нос галеры прибить. Вся нечисть морская разбежится. А впрочем… Может и наоборот… Сбежится. Ладно, пошли.
Посмотрев в спину этого страшного на лицо человека, Крысобой порадовался, что убрал руку. Огромное тело мужчины, его длинные руки, а в особенности чудовищная голова в низко натянутом капюшоне вселяли недобрые чувства. Вплоть до страха.
Перед его светлостью герцогом Гудо опустился на правое колено. Медленно, с трудом, низко опустив голову, совсем скрыв лицо в объемном капюшоне.
– Храни вас бог светлый герцог за ваше христианское милосердие…
– Встань и открой свое лицо. Подними голову, – строго велел Пьетро Ипато, стоящий правее от герцога на середине лестницы.
Гудо, пошатываясь, поднялся. Медленно, очень медленно, он стянул укрытие своего дьявольского лица.
Герцог рассмеялся. Его смех подхватили все, кто стоял возле кресла Джованни Санудо, передвинутого на край беседки, и те, кто толпился у лестницы и за ней. Смеялись старшие по командам, смеялись трубачи и знаменоносцы, палубные матросы и арбалетчики. Смеялись все те, кто смог поместиться в предвкушении зрелища на этом небольшом пространстве. Смеялись даже венецианцы, как будто впервые увидевшие свидетеля страшного преступления против республики святого Марка. Смеялись даже слуги-мальчишки, обезьянами повисшие на мачтовых распорках. Гул интереса прокатился над банками гребцов.
Гудо поднял голову. Поднял настолько, чтобы увидеть тех, кого нестерпимо желал увидеть.
Адела с младенцем на руках, Грета и Кэтрин стояли на правом краю беседки. Их увлажненные глаза и улыбки на губах говорили сами за себя. Они радовались возможности увидеть своего Гудо. Их совершенно не трогал издевательский смех, что потряс галеру и водную гладь вокруг него. Они видели за жуткими чертами лица этого мужчины добрую, светлую и преданнейшую душу своего многократного спасителя.
Адела ранее видела и большее. То, как золотом вспыхнули странные синие одежды этого человека. Человека, который своими поступками и огромным добрым сердцем преобразовал себя в глазах женщины из демона в того, кого она действительно видела – в явление святости. Ведь только тот, кого посещает дух Господний, вспыхивает божественным светом.
«О, Господи всемилостивейший! Они сыты и одеты. Богато одеты. У Греты и Кэтрин даже есть женские пояса с зеркальцем, четками, амулетами… И даже с зубочисткой из соколиного когтя. О господи, почему я им ничего об этих женских важностях не рассказал? Ничего. Сами поймут и разберутся. Главное в их глазах радость. Значит они под твоей великой защитой наш отец спаситель. Никто не смеет их обидеть. Храни и защищай их Господи. Еще немного. Скоро это будет под силу и мне. Если будет на то воля твоя. Даже если и не… До последнего вздоха моего. Я буду с ними. И никто. И никто…»
Гудо с трудом оторвал свой взгляд от любимых и дорогих сердцу девочек и медленно перевел глаза на того, кто восседал на золоченом кресле и мог стать в этот миг для него и его семьи или Богом или сатаной.
«Лучше уж богом. Добрым и справедливым. Одним решением, одним словом сделавшим Гудо счастливым навсегда».
Гудо с надеждой посмотрел на растирающего по лицу слезы от раздирающего смеха его светлость, а потом невольно посмотрел на право и налево от герцога. Как то странно и притягательно было узреть среди десятков скорченных в сомнительном удовольствии рож, два строгих лица в откинутых на шлемах забралах. Таких строгих, сосредоточенных, лишенных чувственности лиц, что казались искусными масками. Если не сказать больше и печальнее. Такие лица бывают или у покойников, или у тех, у кого сатана выжег все душевное. Это не люди. Это оболочка из мышц и костей, для крепости еще более укрепленная броней доспехов. А внутри этой оболочки нет ничего. Совсем ничего.
Гудо неуклюже поклонился и тут же быстро выпрямился. Спасительная мысль вдруг обожгла его мозг.
«А если действительно… Чего не бывает. Может сам Господь направил меня…»
Гудо поднял левую руку и сотворил из пальцев тайный знак тамплиеров, который он несколько раз видел на рисунках в книгах из черного мешка – наследия таинственных рыцарей и самого таинственного из них мэтра Гальчини.
Ни раззолоченный герцог, ни кто из его окружения не поняли, не приняли и не ответили на тайный знак. Гудо со вздохом опустил голову.
– Тебе же сказали – подними голову! Слышишь ты, сын сатаны и дьяволицы! – раздался грозный, с явно выраженной хрипотцой голос, резко перешедшего от веселья к ярости.
Услышав голос герцога, Гудо застонал и схватился обеими руками за свою огромную голову.
Если бы молния в это мгновение угодила в Гудо, это было бы меньшим ударом, чем тот, что испытал мужчина в синих одеждах, услышав хрипотцу этого человека. В глазах потемнело и в лицо дыхнуло жесточайшим холодом и жутким зловонием подземелья Правды. Окаменевшее сердце придавило легкие и сразу же стало невозможно дышать. А откуда-то из глубины души раздался дьявольский смех. Смех, который Гудо слышал лишь однажды. Ибо лишь однажды смеялся в присутствии своего ученика мэтр Гальчини.
«О, Господи! За что ты так наказываешь меня. Почему ты послал ко мне этого… Это не бог. Это сын сатаны!» – последнее, что шевельнулось в мозгу Гудо, и он без памяти рухнул на доски палубы.
* * *
«Тра-та-та-та та-та тра-та-та та-та. Тра-та-та та-та тра-та-та та-та. Тра-та-та-та та-та тра-та-та та-та. Тра-та-та та-та тра-та-та та-та…»
Гудо почувствовал сильный удар в лицо и глубоко вздохнул.
– Очнулся, дьявольская блевота. О, как ты уже надоел своим та-та-тами… Сил нет терпеть. Всю ночь из-за твоих «та-тат» не смог заснуть.
– И я почти не спал. Нужно же было дьяволу Крысобою столкнуть этого сумасшедшего именно на нашу банку. Чтобы он уже вернулся к себе домой. В ад.
– Да. Пусть там себе и «та-та-тит»…
– Я говорю о комите. Проклятом Крысобое. А этот что… Этот бедняга просто подвинулся умом. Я как увижу и услышу нашего дьявола герцога, тоже холодею, и мозги в пятки стекают.
– Это точно. Но если это дитя шлюхи опять забубнит свою песню, я ему опять дам ногой по его жуткой роже.
– От этого рожа у него не станет похожа на людское лицо.
– Это точно. И создал же Господь такую жуть. А еще церковники говорят, что человек по образу и подобию сотворен Всевышним.
– Нет. Этого по своему образу и подобию сотворил сам сатана…
Гудо с трудом открыл глаза. Сильный удар ноги пришелся в переносицу. От этого из носа пошла кровь, а на глаза стала наплывать опухоль.
Он лежал на досках палубы между босыми грязными ногами и стеной адмиральской каюты. Значит, возле последней банки галеры, куда обычно усаживали самых сильных гребцов. Но Гудо не было дело до обидчика, разбившего его нос. Ему ни до кого не было дела. Он повернулся на спину и без всякой мысли уставился в розовеющее небо, на котором еще заметны были точки удаляющихся звезд.
«Тра-та-та-та та-та тра-та-та та-та. Тра-та-та та-та тра-та-та та-та…», – вновь вырвалось из его горла. Глухо, басисто и… мрачно.
«А ведь мелодия веселая. Под нее плясали. Хотя песня совсем не о веселом. И даже очень».
Гудо едва улыбнулся. Он начинал думать. Значит, он возвращался из бездны пустоты. Ему очень нужно вернуться оттуда. Очень.
Но… «Тра-та-та-та та-та тра-та-та та-та. Тра-та-та та-та тра-та-та та-та»…
– Я его задушу, – послышался гневный голос сверху, и оттуда же добавили:
– Пожалуй, я тебе помогу дружище Ральф. Когда-то у меня это хорошо получалось.
– Да уж, Весельчак, помоги. Боюсь, я сам с таким медведем не справлюсь. Вот только…
– Что только?
– Что потом скажем, если герцог его увидеть пожелает? Тогда уж запляшут наши ребра под кнутом проклятого Крысобоя.
– Тогда пни его еще раз. Да хорошенько!
Сильный удар затемнил дребезжащий рассвет, и Гудо, разжав пальцы, едва ухватившиеся за край, вновь полетел в пропасть беспамятства.
Только до самого дна он не долетел. Два ангела схватили его за руки и весело подхватили: «Тра-та-та-та та-та тра-та-та та-та. Тра-та-та та-та тра-та-та та-та.»
Гудо посмотрел на того, что был справа и удивленно воскликнул:
– Ты? Как же ты и ангел? Твое место в аду Стрелок Рой. Ты убил столько людей, что в ином городе столько и не живет! За тобой река из слез и крови. Кто же и за что дал тебе крылья?
– Эти? – взмахнул черными крыльями Стрелок Рой, – За что? Это не моего слабого умишка дело. Ты лучше посмотри туда!
Гудо смотрит вниз и видит осажденный частокол в литовских лесах. Именно частокол, за которым неизвестно есть ли хотя бы единый похожий на жилье дом. Но эти дикари литовцы в вонючих шкурах вместо доспехов со звериным упорством защищают свое логово. Вот и топчутся вокруг остроконечных деревянных стен три доблестных тевтонских рыцаря со своими копьями[43], и отряды наемных лучников. Самый многочисленный состоял из искусных стрелков далекой Англии.
Осада затягивается. Уже сожжены и разграблены все поселение на два дня конного пробега. Убивать, насиловать и брать в плен уже некого. Но еще есть достаточный запас хмельной медовухи, что после пыток выдали жители лесных селений. Поэтому до позднего вечера горят костры и слышатся песни на многих языках Европы.
Много песен. И грустных и скабрезных и веселых.
Самая веселая и громкая доносится от английских костров, что традиционно далеко отстояли от основного лагеря. Но за множество вечеров одна и та же песня так надоела соседним кострам, что уже вызывает желание метнуть в исполнителей пару другую копий. Получалось, надутые гордецы с туманных островов, не желавшие общаться с воинами других отрядов знают только одну мелодию. А какие они в нее вталкивают слова – кто их разберет. Разве что рыцари тевтонцы. Те знают все, и понимают все. Может поэтому, и не пытаются заглушить осточертевшую всему лагерю английскую песенку.
А вот Гудо не выдерживает. Самый сильный и самый пьяный из наемников нижнегерманских земель, размахивая огромным топором, он с ревом врывается в самую середину песни:
– Ну, кому снести голову и поставить на ее место другую? Может быть, другая голова на чужой шее вспомнит парочку других песен.
Англичане дружно смеются, и еще громче и дружнее продолжают свое бесконечное «Тра-та-та-та та-та тра-та-та та-та. Тра-та-та та-та тра-та-та та-та.» Кажется, что все эти вечера они только и ждали Гудо, чтобы повеселиться за его счет. Но не того они ждали. Гудо кружит над головой свой жуткий топор и с чудовищной силой опускает его на большой котел, в котором кипит мясо для английских лучников.
Брызги кипятка, куски мяса, пар и клубы дыма перемешиваются и, оттолкнувшись, летят во все стороны. Лишившиеся ужина воины, казалось, должны были разорвать обидчика. Но… Вместо справедливого гнева и яростного нападения стрелки громко смеются и еще громче затягивают:
– «Тра-та-та-та та-та тра-та-та та-та. Тра-та-та та-та тра-та-та та-та.»
Гудо вновь поднимает свой незнавший жалости топор и оглядывается в поиске цели для следующего разрушительного опускания. Палатки, стойка для оружия, коновязь, лошади, головы безмозглых англичан…
– А попробуй на мне свой топор.
Гудо оборачивается и зло смеется:
– Думаешь, пожалею тебя коротышка.
Но происходит нечто невозможное. Топор в длинных и умелых руках Гудо со злобным свистом рассекает место, где должна была быть голова коротышки, отсекает то, что мгновением назад было руками и ногами, скользит по земле там, где только-только был этот человечек.
«Да человек ли он. А может сказочный гном, что заговорил мой топор?»
Гудо бледнеет, но продолжает рубить топором.
Вокруг Гудо все смеется, свистит и воет от восторга. Ко всему этому гном еще начинает петь свою проклятую песню на уже понятном Гудо нижнегерманском наречии:
«Чьей кровию меч ты свой так обагрил? Эдвард, Эдвард? Чьей кровию меч ты свой так обагрил? Зачем ты глядишь так сурово?» Гудо чувствует усталость. Но он все еще продолжает бой с тем, кого смело можно было назвать призраком. Удар, еще удар… И опять в пустоту. А человек-гном продолжает свою издевательскую песенку: «То сокола я, рассердяся, убил, Мать моя, мать, То сокола я, рассердяся, убил, И негде добыть мне другого! Его друзья лучники подхватывают: «У сокола кровь так красна не бежит, Эдвард, Эдвард! У сокола кровь так красна не бежит, Твой меч окровавлен краснее!»…Гудо со всего маха рубит и, конечно же, мимо. Только этот удар был крайне неудачен. Боевая секира глубоко уходит в мягкий лесной грунт, и тянет за собой хозяина. Гудо падает и больно ударяется грудью о пенек. Хорошо, что тот древен годами и рассыпается прежде чем выломать кости груди. И все же удар вырывает из глотки Гудо дикий крик боли.
Его тут же с радостью подхватывают проклятые стрелки и возносят к звездам, что украшают верхушки деревьев. Хуже того. Человечек вскакивает на спину Гудо, обхватывает его горло железными пальцами:
…«Мой конь красно-бурый был мною убит, Мать моя, мать! Мой конь красно-бурый был мною убит, Тоскую по добром коне я!» А торжествующая толпа англичан лучников подхватывает: «Конь стар у тебя, эта кровь не его, Эдвард, Эдвард! Конь стар у тебя, эта кровь не его, Не то в твоём сумрачном взоре!»…Это еще слышит Гудо и проваливается в придушенное беспамятство или сон…
Это тогда, в черных литовских лесах. А сейчас Гудо… То ли опять во сне, то ли в забытье. Как понять?
– А помнишь что дальше?
Гудо посмотрел в насмешливое лицо стрелка Роя с черными крыльями за спиной и кивнул головой:
– Потом ты поил меня хмельной медовухой, и мы подружились.
– Нет, не то…
– Потом ты учил меня стрелять из лука, и хитро сражаться мечом и копьем.
– Нет, не то…
– Ты учил убивать, не зная жалости, и…
– Не то, не то, не то… Я учил тебя петь и плясать… Одну единственную песню. Мою песню. На всех языках, которые я знал. Ты помнишь?
– Я помню, как бесила она других воинов, и как мы издевались над ними…
– Опять не то… Песню, песню… Вспоминай… Вспоминай…
– Вспоминать? Зачем?
– Потому что никто, кроме тебя, тебе не поможет!
Стрелок Рой взмахнул черными крыльями и исчез. Но Гудо не падал. Он с удивлением посмотрел на второго ангела, поддерживающего его, и ахнул.
В бескрайнем пространстве неизвестно чего несчастного Гудо поддержал… сам Гудо. Только крылья этого Гудо мгновенно из белых превращались в черные и опять ставали белыми.
– Вспоминай Гудо, вспоминай, – ласково сказал «ангел-Гудо» растерявшемуся Гудо, и Гудо, вздохнув, кивнул головой.
Глава четвертая
– И что, он все это время так?
– Да. Уже вторые сутки. Только вначале он все время напевал, а теперь у него вырываются слова и даже куплеты песни. Вот прислушайтесь, ваша светлость.
Джованни Санудо чуть наклонил тело и выставил правое ухо:
– Действительно он напевает. Я даже могу разобрать несколько слов. «Эдвард, Эдвард. Конь стар у тебя…» Только поет он на верхнегерманском языке. Мне хорошо знаком этот язык.
– А утром он пел на французском. Я жил некоторое время в Орлеане. Мне кажется, я разобрал несколько слов и на английском.
– Да, лекарь ты прав. Все это странно. Но все же твои слова о том, что в этого лодочника вселился дьявол, мне, кажется, лишены основания. Может он много странствовал. Есть такие бродяги, которым не сидится на одном месте. А то, что он в бреду и так понятно. Ведь раны его были очень серьезны. Тебе удалось их залечить, но… Господу виднее – нужна ли ему жизнь или душа этого человечка.
– А мне кажется, ваша светлость, просто он еще не окреп. А тут и вы с вашим… Властным голосом. Вот и струхнул этот малый. Да со страху еще и умишком тронулся. У меня на галере… Простите на вашей галере «Афродита» был такой матрос. Я на него гаркнул крепко, он и в обморок. А потом и совсем, сдавалось, ума лишился. Так я его по старинному морскому порядку привязал под руки и в море бросил. Полдня тащили его на привязи. Вытащили всего синего. Думали – отмучился. А он ничего. Отошел и к службе годен был вполне. Но я его все же ссадил на берег. У тех, кто долго в море и так умишки в расстройстве. А что от этого ждать?..
– А ты знаешь, мой друг Пьетро, это хорошая мысль. Давай и этого лодочника окунем. Может и впрямь поможет. Хочется мне все же с ним побеседовать. Как, лекарь, думаешь – поможет?
– В медицинской практике случалось, что сумасшествие лечили ледяной водой. Были случаи полного восстановления рассудка. И все же, как ученый лекарь, хочу внести некоторую ясность. А эта ясность чаще всего, и является диагнозом. То есть, нужно установить, какой род сумасшествия постиг больного. В человеке есть четыре природы: черная желчь, желтая желчь, флегма и кровь. Когда они в согласии между собой – человек здоров и рад жизни. Нарушение каждой из указанных мною человеческих природ приводит к болезни.
Великий философ и врачеватель Платон в диалоге «Федр» указал на два вида безумия, оно же и сошествие с ума: болезнь и божественный дар. Божественный дар – это форма полезного безумия: магическое, мистическое, поэтическое и эротическое. Неучеными людьми понимаемые как экстаз, восторг, видение – это тоже безумие. Безумие полезное, делающее человека счастливее. Но нарушение четырех природ – вызвавшее сумасшествие человека как болезнь – печальное зло. Но оно не идет ни в какое сравнение с тем, когда в человека вселяется демон. Это уже крайняя степень сумасшествия.
Простите, благородные господа, за столь долгое вступление к простым словам; чтобы вылечить сумасшедшего нужно понять фактор, вызвавший это состояние. И тогда уж нужно браться за дело.
– Может он в поэтическом видении?..
– Глупости говоришь Пьетро. Посмотри на его рожу. Об нее хорошо убивать щенков. Где уж тут до тонкостей чувств. Скорее тут болезнь. Что в таком случае помогает, лекарь?
– Методов множество, ваша светлость. Прежде всего, это тяжелый труд или жестокое телесное истязание, чтобы ослабить внимание больного к своему горящему разуму. Полезны также вдыхать пары ртути и сурьмы, или как чаще его называют – рвотный камень. А так же принимать настойки из белладонны, мака, мандрагоры. И, конечно же, отворить кровь и освободить тело от мрачных настроений…
– А если же человеком овладел демон?
Лекарь многозначительно кивнул головой:
– Это сложное лечение. К тому же в этом нужно быть уверенным. Ибо только тогда помогают молитвы и божественные заклинания. Их обычно читают над дырой, просверленной в черепе, из которой и должен изойти демон…
– Пробить голову?
– Есть и более простой способ. Обрить голову. Накрест разрезать кожу до кости и стянуть лоскуты. Хорошо бы перед молитвой посыпать открытый череп ржаной мукой. Но лучше солью. И тогда…
– Довольно, лекарь. Это все еще успеется. А пока что подвяжите этого больного под руки и бросьте за борт. Посмотрим, прав ли ты капитан Пьетро Ипато.
* * *
Да, бесконечное бормотание стало приносить свои плоды.
Гудо припоминал слова, и даже целые строфы. Но из всего этого песня никак не желала складываться. Тогда он стал ее сшивать из слов на разных языках. Стрелок Рой настойчиво вбил ему в голову песенку на верхнее и нижнегерманском наречии, на франском и английском, на швейцарском и общескандинавском. Других народов, что осмелились держать в руке меч и копье он не знал. Но и воинов из этих стран в избытке хватало для его издевательств.
«Да, да… Верно. Мой конь красно-бурый был мною убит. Мать моя, мать! Дальше… Знаю, знаю. И это знаю… У сокола кровь так красна не бежит… Твой меч окровавлен краснее… А дальше? Дальше? Ах, да!»
И Гудо радостно затянул:
«Отца я сейчас заколол моего, Мать моя, мать! Отца я сейчас заколол моего, И лютое жжёт меня горе!»– Ты слышишь, как распелся! – рассмеялись с куршеи.
Гудо поднял голову. Все еще плотный туман в голове и заплывшие опухолью глаза не позволили ему в подробностях осмотреть всех тех, кто собрался на досках куршеи потешиться над ним. Но некоторые голоса он все же разобрал.
– Крысобой! Надеюсь, канат не прогнил, и наша рыбешка не сорвется?
Это голос герцога. Дьявола-герцога.
– И канат, и узел на нем, все будет надежно, мой господин.
А это Крысобой. Этот тоже не от семени людского.
– Что вы так долго с ним возитесь. Снимите скорее с него одежды…
И этот голос Гудо слышал. Это он велел сбросить капюшон и поднять голову. Сейчас велит раздеть Гудо. Но это не возможно. Особенно стянуть с него единственную надежду на спасение – огромный плащ с потайными швами.
Двое гребцов и два палубных матроса пытаются в тесном пространстве между банкой и стеной оторвать руки от туловища медведеподобного мужчины. Но они больше мешают друг другу, чем выполняют порученное.
– Я встречал сумасшедших, в теле которых дьявол легко разбросал десятерых крепких селян. Таких не грех огреть чем-то тяжелым по голове.
А это голос лекаря Юлиана Корнелиуса. Не друга. Врага.
– Да, и впрямь силен как дьявол. Вяжите канат так. Пусть полощится в одежде.
Еще мгновение и крепкая веревка стягивает грудь Гудо. Только сейчас он, кажется, пришел в себя. И это его совсем не утешило. Ведь он почувствовал внутри своего тела жар. А это уже было весьма печально. Сильный жар в теле способен иссушить его. А иссушив – убить.
Гудо огляделся и согласно кивнул головой. Он перестал сопротивляться и восемь рук подняли тело в синих одеждах над бортом.
Уже в полете Гудо услышал, как громко воскликнула женщина, и как резко оборвался ее крик.
«Адела. Моя милая Адела! – едва не вырвалось из его сердца, но холодная вода покрыла Гудо с головой. Но этому мужчина лишь улыбнулся – из небес и в другую субстанцию – в воду. А есть еще и земля. Туда я точно не желаю».
* * *
Крысобой со злобной улыбкой вытравлял канат. Этот урод в синих одеждах никак не желал хлебать воду по самую макушку. Он то и дело вытягивал себя из воды, крепко схватившись за канат. Но каждый раз комит на пол-локтя отпускал его, погружая сумасшедшего во все еще холодные воды моря.
– Если и вовсе упустишь веревку, то этим весьма порадуешь морского царя, и не только, – послышался шепот над его ухом.
– Ага, – ухмыльнулся Крысобой повисшему рядом на борту лекарю. – А так же русалок, тритонов и другую морскую нечисть. Я бы и не против. Этот ублюдок своими мазями и кровью пропитал всю мою каюту. Медуза бы ему в глотку и три морских ежа!
– Так зачем же дело стало?
Комит тихонько рассмеялся и спустил канат сразу на три локтя.
– Эй, ты! – услышал странный голос Крысобой и озадаченный медленно повернул голову, – Тебе велели окунуть этого человека, а не утопить.
Комит икнул и странно посмотрел на лекаря. Нет. Тот молчал. Конечно же, этот голос не мог принадлежать венецианцу. Голос раздался сзади, с куршеи. И говорить с Крысобоем мог только тот, кого комит считал немым от рождения. И не только комит, все кто долгие годы наблюдал за спиной великого герцога две молчаливые статуи в бронированных доспехах. Они и сейчас стояли вдвоем, крепко сжимая рукояти огромных мечей.
Крысобой встряхнул головой. Что же это? Герцог поспешил на женский крик, а его два верных пса не последовали в силу многолетней выучки за хозяином. В это не верилось. Неужели эти два гиганта нашли более интересное зрелище, чем спина его светлости герцога? Что за важность в том, чтобы наблюдать как комит выполняет простое задание властелина. Им этого не велели. Это Крысобой помнил точно. Значит, они остались по своему умыслу. Что за дело этим, не знающим ничего человеческого, жестоким воинам до лодочника в странных синих одеждах?
Но все эти мысли, в одно мгновение пронзившие мозг комита, тут же были выбиты другой, желавшей спасти голову того, кто ее порождает. Эта мысль стальной хваткой задержала, а потом и вовсе удушила громадное желание разразиться в неудержимом… Смехе.
Именно смехе! Ибо голос одного из тех, кто внушал животный страх во многих видевших, а еще больше слышавших, как эти две машины смерти разделяют людей одним ударом на две половины, вызывал неудержимый смех. Таким голосом говорят заплаканные дети, уроды-карлики, и гнусные комедианты на подмостках ярмарочных балаганов. По меньшей мере, странный голос для грозных воинов, если не сказать правдивее – недопустимо нелепый голос, которым лучше не пользоваться, а продолжать оставаться молчаливым как крепостная башня.
Крысобой посмотрел на лекаря. Юлиан Корнелиус зажал нос рукой и отвернулся к борту. Он также не желал познакомиться с мечом железного гиганта, но не имел той силы воли, которой гордился комит, и не мог себя сдержать.
– Хватит. Вытаскивай его! – велел второй железный человек.
И это было произнесено таким же немыслимо уродливым голосом и с той же, вызывающей смех интонацией.
«Пожалуй, если им надоест махать мечом, то они не пропадут. На ярмарках и при дворах властителей им цены не будет», – едва не сорвался в хохоте Крысобой.
В немом припадке он закивал головой и, чтобы как-то себя успокоить, стал вытаскивать из морских волн жертву в синих одеждах.
– Все, хватить набивать свои утробы моим сытным обедом и чесать задницы. Весла на воду. Где этот проклятый комит? Вынимай это синее чудовище. Подавай команду. В путь! В путь!
На громовой голос герцога тут же отозвались бронзовые свистки подкомитов, сигнальная труба и громкие выкрики старших по командам. Галера задрожала от топота босых пяток, заскрежетала уключинами весел, задышала сотнями человеческих грудей.
Тех, кто наблюдал за ныряниями сошедшего с ума лодочника, как ветром сдуло. Крысобой, при помощи двух гребцов последней банки, с трудом перевалил через борт огромного мужчину, отяжелевшего еще и от того, что его синие одежды впитали множество ведер морской воды.
Эта тяжелая работа не на шутку разозлила комита, и он в сердцах пнул ногой обмякшее тело, что грудой лохмотья легло на доски палубы.
– Мне гораздо легче было тебя убить. Скажи спасибо этим…
Крысобой не договорил, но красноречиво кивнул головой в сторону двух огромных воинов. Гудо приподнял голову и так же посмотрел на них. Но он не увидел лиц. В открытых забралах все так же бледнели бесстрастные маски, ко всему безучастных людей.
* * *
Прошлую ночь Гудо почти не спал. Тысячи мыслей придавили его мозг и требовали их осмысления. Слишком долго он был в беспамятстве и в безызвестности.
Такое с ним случалось. В юности, после ранения в голову, часто. С годами все реже, но во времени дольше. Это состояние, когда Гудо все слышал, двигался, приседал, вставал, но при этом ничего не видя пред собою, и никак не отзываясь на голоса других, сразу же было замечено мэтром Гальчини. Он с интересом наблюдал за поведением своего ученика и делал заметки на серых листах бумаги. Наверное, мэтр, если бы пожелал, мог многое и весьма забавное рассказать своему ученику о его болезненной странности. Но он ограничился лишь тем, что нехотя, вполоборота бросил несколько слов и то, скорее для себя:
– Периодичность провалов памяти есть. Есть и другое – провал и при всплеске чувств. Особенно когда тревога хватает за сердце. Наверное, мозг и сердце имеют какую-то связь. Скорее печальную. Любопытно будет понять. Любопытно…
Гудо не было любопытно. Ему было печально. И в тоже время приходилось признать, что учитель скорее ошибался, считая провалы в памяти ученика физической сущностью связи сердца и мозга. Его ученик в последнее время пришел к другому выводу.
Господь! Его дух святой! Вот кто милостью своей спасают пылающий мозг раба своего в те мгновения, когда серые извилины разогреваются до красна. Спасители Гудо не дают силам зла совершить ужасный грех. И в тоже время святостью своей они указывают путь, по которому он должен следовать, чтобы получить прощение. Значит, Господь подправляет жизненный путь человека, которого он создал как физического и духовного урода.
Почему? Разве кто сможет за Господа ответить, или даже предположить сделать это? И не стоит вопрошать его, ибо ответ невозможно услышать. А тем более понять. Просто нужно жить. А понимать можно только то, что уже произошло.
Бог милостив и справедлив. Чтобы он не сделал – это во блага человека и человечности. Его дела важны и нужны. Он погружает Гудо в беспамятство, чтобы исправить его путь.
Ведь привел Господь бессознательного Гудо к порогу Аделы. Остановил Гудо у проклятой виселицы и вернул за тайным наследием тамплиеров. Дал ему Аделу, отнял, чтобы потом опять отдать.
А что же сегодня? Адела рядом и не с ним. А что будет завтра? Мысли, мысли, мысли…
Тысячи мыслей давят мозг, превращая его в лепешку. Вот только бы еще не думать о чудовище герцоге, и о том, на что он способен. Тогда точно можно сойти с ума.
* * *
Джованни Санудо со скукой осматривал берега Эпира, от которых поднимались горы Пинда[44]. Их голые, суровые скалы навивали ему неприятные чувства. Такое бывало с ним каждый раз, когда за кормой оставались сказочные берега Далмации, и начинались неприветливые огромные камни родины самого знаменитого из царей-полководцев, горе известного Пирра[45].
Ах, как прекрасна Далмация с ее многочисленными островами, щедро покрытыми вечнозелеными деревьями, кипарисами, кустарниками лавра. На них тысячи трав, а еще больше цветов. Даже отстоящие далеко от берега и едва сбрызнутые дождями острова благоухают и буйствуют разноцветьем. В их прозрачных голубых водах нескончаемый запас ракообразных, моллюсков и рыбы, которыми лакомятся верткие тюлени-монахи и благородные дельфины.
А горы! Они как воины стоят на защите плодородных долин и дают начало полноводным рекам. Их смешанные хвойно-лиственные леса полны зверья и дичи. Бурые медведи, волки, лисы, лесные коты жиреют от изобилия оленей, косуль, серн, зайцев и барсуков. А в густых кустах, на болотцах и ручьях тысячи и тысячи глухарей, куропаток, гусей, аистов, журавлей. На них, с высоты сосен и кедров, спокойно созерцают всегда сытые коршуны, соколы и белоголовые орлы. С таким изобилием пищи, хищным птицам безразличны тысячи ящериц, змей и черепах, которые с наслаждением греют свои тела на прогретых солнцем прибрежных склонах.
А там за горами столетние оливковые рощи, ряды мандариновых и лимонных деревьев, растянувшиеся виноградники и плодородные поля. Изобилующие рыбой полноводные реки тихо несут свои воды в густой тени лесов из ивы, тополей, дубов, липы и кленов.
И над всем этим раем чистейший воздух, сладостно пропитанный ароматом лаванды и цветущей мирты!
Конечно и в горах Пинда есть свои прелести, но все же больше в них серо-черных тонов, густых молочных туманов, опасных пропастей и злобного завывания неутомимых ветров.
Эх, если бы не срочные дела, если бы не нужно было посетить двор сербского короля Стефана, находящегося сейчас в Арте[46], в связи с задуманным им грандиозным планом, то Джованни Санудо не спеша проплыл бы вдоль неприветливых скал, а не подвергал свою жизнь возможным опасностям.
Свою и жизнь тех, кого Господь послал ему в подарок на утыканной стрелами лодке. Этим девчушкам, женщине и ее ребенку еще предстоит сыграть большую роль в драме, которую задумал, написал и решил представить миру великий герцог наксосский.
Пусть мир удивиться, наградит Джованни Санудо аплодисментами и назовет его божественным.
И чего им плакать, этим глупышкам? Их ждет интересная, содержательная и богатая жизнь. Это конечно если все получится, как задумано Джованни Санудо. Хорошо, что герцог их предупредил всего за час до того, как были поданы с берега лодки. А не то, эти глупышки рыдали бы всю ночь. И чего спрашивается? Сыты, одеты в прекрасные наряды, под надежной охраной. Живи и радуйся. И, конечно же, поступай так, как велит их хозяин Джованни Санудо.
А может им просто дать выпить по большому бокалу вина? Пусть так и будет.
Джованни Санудо, попивая мелкими глотками сладкое вино, отдавал последние указания капитану Пьетро Ипато:
– Надеюсь, ты меня услышал правильно, и сделаешь все, о чем я велю с наибольшим старанием.
– Да, мой господин, – в десятый раз склонил голову тот, кто с отъездом герцога ставал господином галеры «Виктория».
– Держи среднюю скорость. Помни, мне нужны будут здоровые и крепкие рабы. Им предстоит тяжелая работа. По прибытию на Парос проследи за тем, чтобы венецианцы не бездельничали и сразу же брались за свое ремесло. Лекаря беру с собой. Кажется, он все же что-то знает и умеет. В моей свите должен быть ученый лекарь. Через десять недель ты должен привести «Викторию» на Наксос. Если не будет других повелений. Все важное я сказал. Вели грузить на лодки мои вещи, охрану, свиту и моих прелестных дам.
Джованни Санудо подошел к краю кормовой беседки и с ее высоты осмотрел галеру. Все было так же как обычно на якорной стоянке. Люди с наслаждением подставляли лица и обнаженные спины ласковым солнечным лучам. Они радовались возможности отдохнуть, а еще более тому, что знали – суровый герцог покидает галеру. Работы не убавится, но дышать станет легче. Это читалось на всех лицах, которые на мгновение поворачивались к нависшему над ними герцогу. Плохо скрытая радость была и на лице Пьетро Ипато.
«Дьявол с вами со всеми. Это ненадолго. Вы все в моей крепкой ру…»
Резкий детский крик прервал мысль Джованни Санудо. Его взгляд устремился к месту того действия, что вызвало крик, а затем захлебистый плач ребенка.
– Мой малыш! О, Господи.
В мгновение ока он спустился по лестнице и остолбенел. Его женщина держала на руках плачущего малыша, левая сторона лица которого была залита кровью.
– Что здесь произошло? – взревел герцог.
Трясущийся Крысобой указал рукоятью кнута на лодочника в странных синих одежда:
– Это он. Этот сумасшедший… Он посмотрел своими дьявольскими глазами на женщину, и та протянула ему малыша. Даже я подумал, что он желает его поцеловать на прощание. Но… Этот… Он не поцеловал ребенка. Он откусил ему полуха. Это не человек. Этот сумасшедший – людоед. Я убью его. Мой кнут выпьет всю его кровь.
Джованни Санудо побледнел:
– Мой малыш… Я на него рассчитывал. Ты!.. – герцог рванулся было спрыгнуть с куршеи, но только крепче ухватился за поручни лестницы. – Что ты натворил! Я не знаю, слышишь ли ты меня, понимаешь ли… Но твои мучения будут настолько ужасны, что содрогнется ад. Тебя разденут, обтянут самой крепкой рыбацкой сетью. Каждый день я буду лично срезать по десять кусков кожи, что будут выпирать из ячеек сетки. Потом оболью эти места кипящим маслом, чтобы ты не истек кровью. А когда на тебе не останется кожи, то сеть еще более натянут, чтобы выступало твое мясо. Тогда я буду срезать мясо и вновь заливать его маслом. И так до самого скелета. Ты слышишь? Так тому и быть. А пока… А пока Крысобой выбей ему зубы, чтобы он еще кого не съел. Береги его жизнь. Она нужна мне. Очень!
* * *
Морская плоть бурлила, гневаясь тому, что тяжелые весла беспокоили ее, раз за разом погружаясь в нее. Она шумела поднятой волной и шипела падающими с поднятых деревянных рук галеры сотнями струй и тысячами капель. Она сердилась белыми хлопьями пены, остающимися за кормой корабля.
Там же за кормой всплывали глупые, любопытные и ленивые рыбешки, что были оглушены веслами. Они сами себя наказали. Теперь они корм для сотен чаек, буревестников, тяжелокрылых пеликанов и стремительных рыбаков-соколов. Птицы ссорятся между собой, роняют добычу, вновь опускаются на воду и кружат, кружат, кружат. А устав, садятся на мачты, оснастку, перила и борта галеры. Им нечего опасаться людей. Мясо морских птиц отвратительно. Но более их защищает древнее поверье – убивший морскую птицу обязательно утонет. А уж там, в глубинах, морской царь спросит сполна, а потом превратит в мелкую рыбешку, которую потом и сожрут морские пернатые.
– И не думай об этом, дружище Ральф.
Ральф с трудом оторвал взгляд от крупной чайки, что тяжело шлепала перепончатыми лапами по доскам куршеи.
– Ну, как не думай? Смотрю я на эту тварь морскую, а вижу курицу. Тоже птица, но тварь располезнейшая. И тебе яйцо, и перья и пух. А мясо? Мясо! Как я любил зажарить на вертеле жирную курицу, потом обвалять ее в муке и в котелок. Одним бульоном сыт будешь до третьего дня. А мясо… Ароматное и просто тает во рту. И зубов ненужно, чтобы от кости отделять…
Весельчак предупредительно крякнул и потянул на себя весло. Ральф чуть замешкался, выходя из приятных воспоминаний, но вовремя приложился к ненавистной деревяшке. Описав дугу, гребцы на миг расслабились. На единственный миг в этом цикле, когда весло само по себе опускается в воду.
Ральф чуть наклонился к своему другу по галерной банке:
– Насчет зубов не нужно было… Но я думаю, наш беззубый людоед спит. Он и так две ночи не спал. Когда же ему спать? Он знает – днем мы его не станем душить. А уж ночью…
Мускулистая спина Ральфа напряглась, зубы стиснулись, голова запрокинулась. Ход лопасти весла в воде – наивысшее напряжение для мышц гребцов.
– Ну, ну… – в сомнении покачал головой Весельчак.
Он был старше Ральфа, и в отличие от его простого ремесла разбойника на дороге, имел в прошлом более умную работенку. Весельчак крал лошадей. А это значит, что кроме людей ему часто приходилось иметь дело с самыми благородными из животных. А с ними нужен и ум, и знания, и опыт, и деликатный подход. Но самое главное – конокрад должен иметь большой жизненный опыт. При этом не важно, сколько лет ты прожил. Важно как!
За долгую, почти тридцатилетнюю жизнь Весельчак правильно расставил всех на свои места. Выше всех – рыцарский конь. Умный, сильный, знающий себе цену. Потом боевые лошади. За ними верховые, запряжные, тягловые. И всякая другая кляча.
Потом шли люди. Владыки, рыцари, церковники, купцы, ремесленники, селяне, и всякая другая сволочь. Где-то между рыцарями и купцами находились воры, главные из которых конокрады.
И лошадей и людей Весельчак повидал немало. Поэтому знал как вести себя и с теми и другими. Кроме того, где в его теле находилась «чуйка», подсказывающая как подстроить нужную ситуацию, как использовать ее. А еще она подсказывала, когда нужно зарыдать, а когда рассмеяться. Чаще он смеялся. Растирающих по лицу слезы в последние годы царствования чумы было предостаточно. А вот улыбка на лице незнакомца радовала и вселяла доверие. Ведь доверие людей, а особенно лошадей, это залог успеха в его сложном ремесле.
Глядя на сумасшедшего людоеда в синих одеждах, Весельчак желал одного – как можно скорее избавиться от него. Ведь его «чуйка» настойчиво одной палочкой барабанила – избавься. Желал избавиться, но не хотел в этом принимать участие. Потому что вторая палочка барабанила еще громче, – и не пытайся причинить ему вред. А как можно избавиться от этого страшилища, не причинив вреда?
Пусть Ральф его ночью и придушит. Если сумеет, конечно. Уж больно силен этот сумасшедший. Вчетвером не могли стянуть с него даже плаща. Помня об этом Крысобой, чтобы выполнить приказ герцога, упросил себе в помощники крепких вояк арбалетчиков. Неизвестно сколько им капитан и комит выставили вина, но сил приложили они немало.
Навалились, насели, голову к небу вывернули. Только тогда Крысобой рукояткой кнута по зубам хрясь. Потом еще раз хрясь. И еще хрясь.
Людоед сразу все передние зубы проглотил. Потом кровью их долго запивал. А потом еще дольше губы разорванные зализывал.
Может, кому и жутко было на это смотреть, но не Весельчаку. Поведал он на своем веку и более жуткие страсти. Это уж потом его дрожь проняла, когда этот малый в синих одеждах прекратил мычать, выпрямился из того клубка, в который свернулся после наказания, и уставился на гребцов.
И Ральф, и Весельчак едва весла не бросили. Пересилили себя. Ко всему привыкнуть со временем можно. Даже к этой чудовищной роже, что с провалом во рту еще больше отошла от понимания человеческого лица. Привыкли даже к дьявольским не мигающим глазам, смотрящими в самую душу сверкающими золоченым стеклом зрачками.
Весь день просидел этот сумасшедший и даже не пошевелился. Всю ночь горели огоньками его глаза. И опять полдня. Только когда подали обед, его рука ожила и погрузилась в общий котел, в котором мальчишка разносил кашу. Мальчишка тут же обделался, и, бросив свою ношу, сбежал. Вместо него за кашей пришел комит.
Крысобой долго смотрел за тем, как беззубый людоед тщательно пережевывает все еще кровоточащими деснами комки каши. Но, так и не дождавшись того, чтобы на его глазах сумасшедший взял вторую пригоршню пищи, не выдержал и воскликнул:
– Едят те, кто работает. Кто ворует, знакомится с моим кнутом. Лучшим кнутом под небесами. Гляди, урод! Все глядите! Глядите и не шевелитесь!
Комит завертел головой. В предчувствии дармового зрелища, что было редчайшим гостем на галере, все встали и вытянули шеи. Потому, как замерли люди, и прекратился даже шепот, можно было судить – они уже ранее видели нечто похожее и желали увидеть еще раз.
Из поясного мешочка Крысобой выудил кусок копченого мяса, и, оторвав часть зубами, поднял ее над головой. Дождавшись того, что глаза всех наблюдавших сосредоточились на пахучем кусочке пищи, комит пристроил его на изогнутом кончике периллы лестницы. Затем отошел на три шага и окаменел.
Ждать пришлось недолго. Из-под досок куршеи, вздрагивая носом, выползла крыса, одна из сотен, что считали себя хозяевами корабля. Уверенные в этом серые твари юркали по палубе даже днем. Редко кто из гребцов мог проспать положенное время, чтобы хотя бы раз за ночь не проснуться от крысиного писка возле уха, и от того, что дьявольское отродье обнюхивает нос и губы. А чтобы сохранить пищу и воду от этих хитрющих воров, приходилось сколачивать крепкие бочки и ящики, часто проверяя их на наличие прогрызенных дыр.
Мерзких грызунов ненавидели все. Поэтому, все с напряжением смотрели за происходящим.
А взрослая, опытная крыса вовсе не спешила. Она долго прислушивалась, еще дольше присматривалась, и если бы не кружили над добычей быстрокрылые птицы, пожалуй, отложила бы рискованный бросок на некоторое время. Но птицы уже узрели легкую дармовщину. Их круги сужались и становились все ниже.
И крыса не выдержала. Уж очень могуч был запах копчености, уж слишком призывно выглядело это вкуснотище. Она стремительно пересекла доски куршеи, взобралась на первую ступень лестницы, а оттуда по стойке на периллу. Оставалось лишь схватить лакомство и быстро утащить его в трюм. Там еще придется побороться за него с сородичами, но это не беда.
Верно не беда. Беда для крысы была в руке комита. Едва крыса потянулась к приманке, он взмахнул кнутом. Описав петлю в воздухе, железный крючок на конце бычьего шнура просвистел положенное ему расстояние и погрузился в крысиное тело. В следующее мгновение, крючок, подчиняясь движению кнута, разорвал серую воровку на две части.
Разорванная крыса разлетелась в стороны, оставив после себя кровавое пятно. Пятно тут же стал затирать мальчишка, заранее приготовив воду и тряпку.
Свист, крик, хлопанье в ладоши и удары босыми пятками по доскам отогнали птиц далеко от галеры. Никто не любил комита, но Крысобой вызывал в такие мгновения восторг. Подлинный восторг.
Комит широко усмехнулся и победно расставил руки. Затем он потряс своим грозным оружием и повернулся к стоящему на ногах сумасшедшему в синих одеждах:
– Теперь ты знаешь, почему меня называют Крысобой. Моя крепкая рука не знает промаха. Не советую тебе с ней знакомиться. Как и с моим главным помощником. Под этими небесами еще не родился человек, лучше меня владеющий кнутом. Если такой найдется, я сам брошусь в море и утоплюсь. Но морской царь никогда меня не дождется. Так что слушай, меня как Господа. Хочешь есть – работай. На этой банке как раз не хватает третьего гребца. Берись за весло, дьявольская рожа!
Но сумасшедший уселся под стеной и завернулся в свой огромный плащ.
– Не кормить и не давать воды, – рявкнул комит, и еще громче: – Весла на воду! Хватит набивать утробы, грязные свиньи.
* * *
И опять стертые руки схватились за полированный человеческой кожей валик весла. И опять заныла проклятая флейта. И опять молотком в голове загремел ненавистный барабан.
Выдержать, опустить лопасть весла в воду. Напрячь все силы. Оттолкнуть толщу воды. За два движения вывести весло в точку опускания. Выдержать… Опустить… Оттолкнуть…
И так гребок за гребком, час за часом пока капитан решит, что пора дать отдых несчастным гребцам. Ведь заменить их некому. Это вольные гребцы меняются каждые два часа. Для невольников замена должна быть через четыре. Но нет на «Виктории» вольных гребцов. Да и невольников хватает не на все банки.
Но отдых должен быть. Короткий отдых, за время которого можно вздохнуть чуть свободней, перекинуться парой слов, и, конечно же, с жаждой испить теплой водицы с привкусом дубового экстракта.
Мальчишка с опаской протягивает деревянную лоханку. Его руки дрожат, вода плескается через край. А вдруг людоед прыгнет на него, вцепится деснами и оставшимися зубами, да и вырвет глотку. Жуть. Страх. Не помогает даже то, что глаза мальчишки видят надежную цепь на ноге сумасшедшего человека в синих одеждах. Шаг, два еще ступит, но на куршею никак не влезет. Такая цепь на ногах у всех невольников гребцов. Но те нормальные люди. Разве что ударят, рванут за волосы, схватят за нос или уши. Они понятны и к ним привыкли все мальчишки. А что от этого ожидать?
Поэтому, к последней левой банке, к этому людоеду никто из разносчиков идти не желает. Только самый младший из разносчиков. Не желает, но идет. Ведь ко всем побоям и унижениям может добавиться еще и дружная неприязнь мальчишек, назначивших его на эту страшную работу. Старшие мальчишки злые. Отвергнут от компании, и тогда хоть за борт бросайся.
Мальчонка стал на колени и протянул вниз лохань с водой. Чтобы не видеть страшного людоеда он закрыл глаза и даже отвернул голову. И правильно поступил. Если бы он увидел, что воду приняли руки, на которых были синие рукава, он бы без сознания упал бы с куршеи прямо под ноги страшилища. И почему комит велел закрепить его цепь подальше от борта? Наверное, чтобы легче было плетьми достать его огромную голову и плечи с куршеи.
Разнощик едва успел отползти, когда к последней банке подлетел подкомит и стал хлестать плетью пьющего большими глотками сумасшедшего:
– Велено тебя не кормить… И не поить… Не поить… – задыхаясь от усилий, заорал помощник Крысобоя.
Очень скоро удары ослабели и вовсе прекратились. Страшилище в синих одеждах продолжал пить воду, как будто ничего не случилось и ничего ему не мешает. Как будто не выдержанные в соленой воде концы плети обрушились на его голову, шею и плечи, а ласковые шелковые кисточки, которыми пажи отгоняют надоедливых мух от благородных господ. И это не кровь стекает с рассеченного лба в наклоненную ко рту лохань, а струйка красного вина, в озорстве пира вылитая на голову.
Подкомит отступил и в сердцах сплюнул на доски куршеи. И тут же получил удар в лицо.
– Его светлость герцог запретил плевать на палубу. Еще раз и испробуешь собственную плеть на своей шкуре. Как полноправный капитан и за борт могу тебя выбросить.
Капитан Ипато тут же забыл об отползшем подкомите, и с отвращением посмотрел вниз.
– Что здесь произошло? – спросил подбежавший Крысобой.
– Распорядись, чтобы гребцов на этой банке еще раз напоили. А сам не смотри туда. И сказал святой апостол Петр пастве своей: «Но с ними случается по верной пословице: пёс возвращается на свою блевотину, вымытая свинья идёт валяться в грязи». Мы его вылечили, откормили, а он гадит нам прямо на палубу. Наверное, он все же сумасшедший.
– А кто же еще? – удивился комит.
И все же, морщась от гадливости, Крысобой дождался посмотреть, как это животное в синих одеяниях копалось пальцами в собственной куче дерьма.
Видели это гадкое дело и Ральф и Весельчак и те из гребцов соседних банок, кто пожелал это увидеть.
– Сегодня ночью, – шепнул Ральф, и Весельчак нехотя кивнул головой.
* * *
«Эй, Гудо! Где ты? Где же ты запропастился? И здесь нет. И здесь. Ума не приложу, где же тебя сыскать? …»
Гудо передернуло. Его лицо скривилось, а едва зажившая кожица на верхней губе лопнула. Тонкая струйка крови свободно стекла в беззубый рот. Инстинктивно Гудо зализал ранку, и прикрыл ее кончиком языка.
«Что это за сказки наяву? Это пусть матушки рассказывают своим деткам сказки, чтобы они в лес сами не ходили, остерегались чужих людей, не доверяли монахам и даже собственным отцам. Сказки полезны, многому нужному деток учат. Особенно тому, что все будет по справедливости. Все сказки… Ну, почти все… Заканчиваются тем, что плохому человечку палач отрубает голову. Палач в сказках – символ справедливости! Вот как!
А ты прячешься… Это в сказках можно запрятаться, стать невидимым, укрыться на дне моря и ждать. И никто тебя не найдет. Если захочешь в сказку поверить…
В жизни так не бывает. И во власти смерти не укрыться.
Эй, боженька! Гудо не у тебя? Нет… А может у сатаны под крылом? Эй, сатана!.. Тоже нет. Тогда ты, мой единственный ученик, еще жив и еще на земле. Только где ты?»
Гудо старательно натягивает свое многолетнее спасение на лицо. Только он знает – плащ не сделает его тело невидимым, капюшон не скроет его уродливую голову. Ибо от «этого» скрыться невозможно. Невозможно, потому что «это» внутри самого Гудо. Он сам «это» просил внутрь себя, и теперь вынужден жить с «этим».
«Ах, вот ты где! Живой! Живой? Таки живой!… или живой? Да очнись ты. Ну, посмеялся я немного. Да и ты мог бы просто посмеяться, если уж вспомнилось далекое прошлое. Чего от этого в обморок падать, как девица безмозглая? Да еще в бездну беспамятства бросаться.
Тебе же так повезло! Да каждый бы за такое везение в каждой встречной церквушке свечи ставил бы! Я же из тебя, из той кучи дерма, что миллионами по земле зловонят, ЧЕЛОВЕКА вылепил! Я ведь тебе не только мастерство величайшего из палачей передал. Я тебя искусством непревзойденного лекаря одарил.
А ты… Что ты наделал Гудо, Гудо, Гудо?»
«Ты никогда не называл меня по имени. Подумать не смел, что ты знаешь мое имя, – тихо отозвался Гудо и едва не задохнулся. Он мысленно беседовал с собственным демоном в собственном теле. И при этом он знал истоки всего. Но страшнее было то, что он обращался к самому мэтру, даже в образе демона, на «ты», да еще как к равному! – Какую мне произнести молитву, чтобы ты покинул мое тело и отправился к себе домой в ад?»
«Глупец ты, Гудо! Не огорчай меня. А не то я решу, что напрасно провозился с тобой десять лет. Ни один отец, ни одному ребенку не дал так многого за десять лет, как я тебе! И что же? От тебя требовалось так мало. Всего лишь отдать черный мешок тому, кто тебя разыщет. А дальше… С твоими знаниями и умениями весь мир открыт. Ты мог стать кем захотел бы. Но что наделал ты?.. Ни бог, ни сатана предвидеть не смогли…»
«Не решили…»
«Кто не решил?»
«Ни бог, ни сатана. Не решили спор – кому я все же принадлежу. Поэтому и я не решил – божьи или сатанинские слуги твои рыцари-тамплиеры. Книги и знания у них от святого духа, или от испражнений дьявольских? На гибель они людскую, или на здоровья тела и спасение души человека?»
«Да, здесь я, наверное, ошибся. Я ничего не говорил тебе о братьях своих тамплиерах. Может быть…»
«Не говорил. Но мои уши слышали, а глаза видели… От такого наследия твоих братьев не то что девица чувственная, не то что я убийца многоопытный, даже ангелы крепчайшие в обморок падут. Не зря отец Вельгус требовал сжечь дотла тебя, меня и все что в подземелье Правды о нас напоминает. Он чувствовал. А может, и Господь надоумил».
«Отец Вельгус, старый кровопийца Епископ и его монахи – это всего лишь черви, ползающие по земли до назначенного времени. Им ничего не дано, и нечего передать после себя. Они распадутся в тлен, и никто, и никогда о них не вспомнит.
А братья-тамплиеры? Они властвовали на земле, на небесах и в аду! Они и сейчас властвуют, и всегда будут властвовать! Ибо только они смогли понять и соединить в себе божье и сатанинское. Но это не твое предназначение. У тебя лишь было маленькое задание. Пустяк. Сохранить и отдать. А этого ты пока не выполнил. Так что не надейся – ни ад, ни небеса тебя с распростертыми объятиям не примут. Так что берись за ум. Возвращайся к предназначенному и…
Слаб ты стал. Ох, слаб. А все эти женщины! От них твои страдания и скитания!
Выбрось из своей огромной головы этих мерзких существ, что являются ни чем иным, как коварным оружием, сокращающим жизнь мужчины. Я говорю не только о ней. Обо всех. Ибо все они одно и то же – родительницы греха!
Вспоминай! Вспоминай!»
Гудо не желает, трясет головой и глухо мычит. Но сейчас память – это меч в руках демона Гальчини. Этим мечом он рассекает мозг. Каждый удар – новое воспоминание о забытых временах.
Удар…
Гальчини щипцами вырывает кость из грудной клетки все еще живого пивовара, по наущению дьявола мочившегося в собственно изготовленное пиво:
– Смотри. Из такого ребра Господь создал женщину. Смотри, кривая кость, в которой даже нет костного мозга. Как не верти – она отклоняется от мужчины. Из этого явного недостатка следует, что женщина всегда обманывает. Она животное несовершенное. Только вот церковники решили, что в ней есть душа[47]. Но разве может быть душа у той, кто стал причиной первородного греха. А еще Ева стала преградой между Богом и Адамом. Если бы не было ее дочерей – мужчины и сейчас напрямую общались бы с Всевышним, как было это в Эдемском саду!
Еще удар… Гальчини взмок, добиваясь признания от старой ведьмы:
– Твое колдовство родилось вместе с тобой. Ибо ты женщина, а значит, скорее подвержена воздействию противника божьего, вследствие естественной влажности своего тела. Слезы женские не от боли, а от коварства. Ведь когда женщина плачет, она желает ввести в заблуждение и тут же обдумывает козни и месть. Она слаба и умом и телом. Поэтому отомстить может только коварством. А как обманывать, лукавить, выдумывать и выполнять задуманное? Только призвав дьявола влажностью того отверстия в своем теле, что никогда не говорит «Довольно»! Своим влагалищем! Его-то сейчас я и прижгу…
И еще… Гальчини проводив за дверь благородную даму, вернув ей красоту, что значительно поблекла после того, как сердитый муж своротил ее носик на бок.
– Красота женская от дьявола и во вред мужчине. Всякая красивая женщина беспутна, так как ее сопровождает дьявол. Ее волосы – сети, в которые она ловит грешников. Ее руки оковы, их не разорвать. Ее губы мед, от них не отлипнешь. Ее глаза бездонные колодцы, из них не вынырнешь. В притчах Соломона сказано: «Красивая и беспутная женщина подобна золотому кольцу в носу у свиньи». Красиво блестит, но всегда в грязи порока и греха. За женской красотой нужно видеть ее сущность. А сущность ее – химера! Верно Валерий писал Руфину: «Ты не знаешь, что женщина – это химера, но ты должен знать, что это чудовище украшено превосходным ликом льва, обезображено телом вонючей козы и вооружено ядовитым хвостом гадюки. Это значит: ее вид красив, прикосновение противно, сношение с ней приносит смерть».
Ты забыл мои слова, мой мальчик Гудо… Но, может, ты помнишь это? Свое недавнее прошлое. Проклятый меч памяти, в проклятой руке демона Гальчини.
Удар…
Монастырь в Северной Тюрингии. Монах Вильям. Молодость и Гудо спасли его, единственного в божьем доме от «черной смерти». Теперь он аббат (он так решил) – настоятель монастыря. Вернее то, что от него осталось – камни, ворота, двери, столы, свечи, книги:
– Ты хороший человек, Гудо. Ты божий человек! Иди по земле и твори добро. Славь Господа и храни его в сердце своем. Та женщина, которую ты разыскиваешь… Мне кажется, что ты любишь ее. Но как можно любить женщину? Любить можно только Господа нашего. Это и есть любовь человеческая. А любовь к женщине это ложная любовь, навеянная дьяволом для сотворения греха! Не могу благословить твои поиски. Это поиски греха и поклонения дьяволу. Подумай о том, что женщина – это вселенское зло! Она лжива, алчна, коварна, похотлива, жадна, мстительна, зла, сварлива, подступна, расточительна. Женщина была создана только с одним умыслом – подчеркнуть доброту, набожность, порядочность, щедрость, и бескорыстие мужчины. Это тебе скажет каждый монах, каждый священник, каждый аббат, и сам папа Римский! А эти люди не обманывают ни себя, ни паству свою.
Удар, еще удар… Будет ли конец этом метким ударам, что так необходимы демону-мучителю…
Лето… Сбор урожая. Плодороднейшие земли Бургундии. На холме Гудо и располневший от добра тех, кого забрала чума, селянин Манц:
– Смотри в моей руке плеть. А там мои женщины, покорные этой плети. Их три главных порока: неверие, себялюбие и жажда плотских утех погубили их славных мужей. Их не черная смерть унесла, а то, что они не сумели рассмотреть нутро женское, и не слушали слова божьего. А ведь сказал апостол Павел: «Христос есть глава мужчине. Муж есть глава жены!» Что жена?
Жена есть имущество семьи. Вот и досталось мне в имущество еще четыре жены. Только им со мной не справиться, ибо я вижу нутро их. А нутро их лживо. Женщина лжива в разговоре. Лжива, когда молчит в одиночестве, ибо в это время она обдумывает, как обмануть мужа. Лжива, когда смеется и когда плачет. Смех ее – притворство, нужное чтобы усыпить бдительность мужчины, а слезы – чтобы заставить жалеть и этим ослабить мужа. А еще я не расстаюсь с плетью. Ведь сказано в святых книгах: Муж имеет право наказывать свою жену и бить ее для исправления!..»
«Не то и не так… И не те…»
«Что ты бормочешь, Гудо? Что мотаешь головой? Ты слышал и другие слова? Эти?»
Опять отворяется мозг по велению демона…
Грязная харчевня на какой-то тысячной дороге, по которой прошагал Гудо. Зверски пьяный Армисий уже перестал плакать над порванной струной. Сегодня его лютня не заработает и на ночлег в хлеву:
– Кто я?.. Кто? Жалкий жонглер[48], который так же сочиняет и исполняет собственные поэмы. А что такое поэма? Это жизнь, которую поэтически подняли над ее правдой. А что в этой поэзии? О чем она? В основном о женщине… Кокетство, изменчивость, легковерие и легкомыслие, глупость, жадность, завистливость, богопротивная хитрость, коварство… И это далеко не полный список нелицеприятных женских черт, которые используют и поэтами при королевских дворах, и глупыми вилланами[49] в их пьяных песнях. «Цветок любви – роза. Ведь под ее пурпуром скрываются шипы». Красиво! Правда?
Говорят более двухсот лет назад, при дворе герцога Аквитанского собралось благородное общество, которое (представь себе хотя бы на мгновение) боготворило «прекрасную даму» и отделило кусочек любви к Господу для того, чтобы передать ее рыцарям. Такие нашлись. Они даже привселюдно заявляли, что любят ту или иную благородную даму. Даже соглашались ради своей возлюбленной жертвовать жизнью. Тогда и песни трубадуров посвящались прекрасным дамам и верным данному обеду рыцарям. Сейчас… Сейчас. Ах, вот вспомнил:
«Когда я ложусь, всю ночь и на следующий день, Всё думаю: как мне услужить вашей милости. Моё тело ликует и полно радости оттого, что думаю о вас! Моё сердце принадлежит вам!..»Говорят, благородные дамы даже создали «суд любви», на котором разбирались дела любовные с полным соблюдением всех норм морали и судебного права. Вот как было.
Было, но не долго. Со временем с этой и другими ересями разобрались. Когда под копытами французских крестоносцев пал погрязший в ересях Прованс, последний оплот «прекрасной дамы», трубадуры перестали сочинять песни о любви между женщиной и мужчиной, об их высоких отношениях, клятвах и страданиях.
Почему? Просто нужно оглядеться вокруг себя и все станет понятно. Даже короли бьют своих венчанных жен, а те благодарят и говорят: «Когда вам будет угодно, можете повторить ваше величество!» Может еще где-то, и кто-то как исключение и проявляет уважение к своей женщине, но это действительно исключение. Отношение к женщине крайне жесткое, неуважительное и грубое. Как бы высокородна женщина не была, ее удел рожать детей и быть вечным учеником у своего мужа, без права на шедевр.
Вот как! А ты говоришь она вторая половина твоего сердца. А может тебе песни сочинять. Хотя с такой… Разве что под маской петь. Пойдем вместе. На пропитание добудем. Я буду петь, а ты… Если кто-то платить не станет… Выбрось ее из головы, вон смотри, какие шлюхи нам машут из того угла….»
Гудо качает головой, и что-то неразборчиво говорит. Он не согласен. Ни тогда, ни сейчас.
* * *
«Ты пытаешься стать мне непокорным. Это же смешно, мой мальчик Гудо! Все, что есть нужного и полезного в твоей чудовищной голове от моих знаний и стараний. Даже после своей смерти я всегда был с тобой. Вспомни, сколько раз я спасал твою жизнь. А кто лечил твои руки, ноги, внутренности! Я никогда не покидал тебя. Я живу в тебе и тобой!
Я всегда даю тебе правильные советы и указания. Спроси себя – правда ли это? Правда! Благодаря мне ты избавился от проклятых стрел и залечил раны. А когда вследствие твоей душевной слабости и отчаяния (а кто в этом виновен, как не твои девочки?) у тебя родился жар, что мог убить тебя, кто посоветовал тебе воспользоваться единственной доступной возможностью – принять холодную морскую ванну? Ведь она помогла. Ты сбил пламя, лизавшее тебя изнутри. Верно? Не будь меня с тобой, ты бы не дал швырнуть себя в море, и скорее всего погиб».
Гудо согласно кивает головой и тут же пытается качнуть ее в знак несогласия.
«Я знаю все, что ты хочешь мне возразить. Твои возражения смешны, а поступки… Мягко говоря, когда ты отворачиваешься от меня, то поступаешь как сумасшедший. Ну, зачем ты откусил хрящик на верхнем кончике ушка младенца? А что это за песня, которую ты бесконечно напеваешь? И зачем? Ну, зачем ты вытащил из кучи дерьма свои зубы? Ты же знаешь – их приживить невозможно! И чему ты улыбаешься, мой мальчик Гудо? Твоя улыбка всегда была страшнее страха. А теперь еще и без зубов…»
«Я радуюсь».
«Радуешься? Чему? Не пойму…»
«Вот этому и радуюсь! Радуюсь тому, что ты не понимаешь и даже не догадываешься. Значит моя душа и мой разум еще не полностью в твоей власти. Я могу тебе препятствовать. Я способен себя защитить. Я не дам тебе воскреснуть в моем теле. Ведь именно этого ты желаешь. Вернее тот демон, который вышел из твоего мертвого тела и теперь желает возродиться во мне.
Но этому не бывать. Твое место в аду…»
«А мои знания, умения?»
«Доброе приумножится, злое изгинет…»
«Как и чем приумножится?»
«Кое-что ты вспомнишь. Кое-чему научишься, и даже удивишься. Так что вспоминай и удивляйся!»
Гудо не нужен меч памяти. Ему незачем рубить бестелесный дух. У него есть оружие пострашнее, ибо его слова это многочисленные стрелы, не знающие промаха.
«Эй! Так ты всегда обращался ко мне. А когда произносил «Эй!» погромче, значит, я должен был слушать тебя, как самого Господа. «Эй! – сказал ты. – Смотри! Хорошенько смотри. Что ты видишь во внутренностях этого мужчины и этой женщины? Пока твоя тупая башка соображает, скажу: ты видишь Бога! Ибо сказано в Книге Бытия: «В день шестой Бог создал человека по своему образу и подобию и сделал человека мужским и женским».
Где здесь слова о более позднем сотворении женщины? О каком кривом ребре ты говорил? Какие твои слова вернее? Твои, как и других, кто святое писание читает разными глазами! А кто неоднократно указывал на то, что кости, мускулы, сосуды, органы для мужчин и женщин одинаковы. Вот она мудрость Господа нашего, давшего лекарям значительное облегчения в трудах медицинских. Верно?»
«Это так, но…»
«Но принимай и другое… – «… нет мужского и женского во Христе». Так писал сам апостол Павел в Послании к галатам…»
«Этого я тебе никогда не говорил».
«Не говорил. Но научил читать и понимать. Я обошел сотни полумертвых городов и селений. Жил во многих монастырях. Везде я находил книги и читал их. Сначала чтобы приутишить собственную боль. Затем чтобы понять страдания еще живых и немой укор уже умерших. А еще в пути я встретил сотни мудрых и добрых людей. Так что знания мои приумножались. Они есть везде. Их только нужно впитывать, раскладывать по полочкам и передавать другим.
Но я тебе, мэтр, не все еще ответил…
Ты говоришь: женщина зло и низшее существо. Ты говоришь это не от себя. Не можешь ты не знать очевидного. Ведь Адам несет большую ответственность за грехопадение. Ева первая поддалась соблазну, но ведь и Адаму Бог дал заповедь, которую тот нарушил. Святой Амвросий указывал, женщине может быть найдено оправдание, а мужчине нет: ведь она сопротивлялась могучей силе дьявола, а мужчина не сопротивлялся даже ей, слабой Еве.
У тебя же Гальчини я видел книгу с проповедью «Ко всем женщинам». Она от мудрости Хумберта Романского. И что писал уважаемый тобою монах-доминиканец?
Он утверждает, что женщине Богом даны многие преимущества над мужчинами: по природе, по благородству и по славе. По природе она превосходит мужчину своим происхождением: мужчину Бог создал на презренной земле, женщину же – в раю; мужчина сотворен из праха земного, женщина же – из мужского ребра. По благородству женщина выше мужчины. Страдания Христа пытались предотвратить женщины: жена Пилата и Мария Магдалина, в то время, как ничего неизвестно о подобных усилиях мужчин. И наконец, она превосходит мужчину по славе. Богородица расположена в иерархии сил небесных над всеми, в том числе над ангелами. В ней женская природа поднялась над мужской в достоинстве и власти своей.
Разве это не понятные, а самое главное – не верные слова?
А вспомни Новый Завет. «Жена, облеченная в солнце» спасает человечество в Апокалипсисе…
Даже если и верно суждение о первородстве греха от слабости Евы, то его в полной мере искупила другая женщина. Пусть Ева и погубила мир, но его спасла святая Мария, подарив жизнь самому Спасителю! С женщины Евы началось зло, с женщины Марии началось добро!»
«Да, Гудо… Кое в чем ты разобрался и без меня. Но и в этом труды мои. На невспаханном поле не взойдут полезные колосья».
«Одни поле вспахивают затем, чтобы получить урожай, вторые, чтобы трудней было пройти вражеской коннице, третьи – засеять его костями, камнями и солью, чтобы ничего враги не могли на нем вырастить. Меня ты вспахивал и тут же перепахивал, не давая взойти росткам. Не все они погибли. Многие дождались своего часа. Они взошли не только знаниями, но и осмыслением прожитого, увиденного и услышанного. Я бы мог еще многое сказать. И о ведьмах, и о том, как мужская сущность желает раболепия от женской, и многом, многом другом.
Но этого больше не будет. Я понимаю – ты желаешь утвердить беседами свое присутствие во мне. Я о тебе забуду, и ты возвратишься в ад».
«Ты меня никогда не забудешь. Ты от меня никогда не избавишься. Все и вся имеет обратную сторону. Зла и добра в мире поровну. И во мне того и другого поровну. И вовсе я не демон, а… Поговорим позже. Сейчас знай мою доброту. Ты думаешь, почему тебе стало тяжело дышать? Ты чувствуешь, как обвисли легкие, и замедляется кровь. Я тебе подскажу – тебя душат. Тебя пытаются убить. Но я не позволю этому.
«Эй!» очнись! Защищай свою и мою жизнь»…
* * *
Молния пронзила мозг Гудо, от него ломаными блестящими нитями вмиг растеклась по всему телу. И тело ответило своему владыке множественными жалобами. Вот только если ноги выли от того, что их с усилием прижали, то легкие, а за ним и сердце уже кричали от нехватки воздуха и сгущающейся крови. А сдавленное горло постепенно затихало, немея от сильного захвата.
И все же боли в нем не чувствовалось. Значит, крепкие мышцы шеи Гудо пока еще не позволили сломать рожковую подъязычную кость, хрящи гортани и свернуть кадык. Только шея уже деревенела от недостатка крови и от того сверх усилия, с которым она противилась стальным пальцам душителя. Это уж почувствовал сидящий на груди Гудо человек и в предвкушении желаемого приподнялся, чтобы усилить свою хватку массой тела.
Именно это и спасло Гудо. Теперь предплечье правой руки освободилось от тяжести груза. Оттопыренный большой палец с силой вонзился между анусом и мошонкой. Дикая боль выпрямила тело душителя и настолько сдавила горло, что он упал на бок, даже не издав не единого стона.
– Ты что, Ральф? – еще успел произнести шепотом, державший ноги мужчина, и в свою очередь безмолвно рухнул на доски палубы от сильнейшего удара в висок.
Предотвращая крик душителя, Гудо ударом кулака в голову отправил его в глубокий и долгий сон.
* * *
Пьетро Ипато проснулся как всегда – с первым солнечным лучом. По-другому не бывало. Ведь почти вся его жизнь прошла в море. Более того – на галере, для которой утренние часы наиболее благоприятные для движения по спокойной водной глади. К тому же ветер еще не разобрался, куда и как ему дуть, а солнце еще не раздышало свой огненный шар. Да и перед завтраком куда легче грести, чем перед обедом.
Об этом, не понаслышке, знает капитан Ипато. Ему уже несколько раз приходилось садиться за весло, спасаясь от погони. Даже сам герцог Санудо садился на банку, спасая свою жизнь и галеру. Особенно памятен Пьетру Ипато бой десятилетней давности с египетскими мамлюками[50]. Тогда от стрел метких воинов-рабов погибло половина гребцов. Так что, спасая свои жизни, гребли все: и сам великий герцог наксосский, и слуги мальчишки впятером на одно весло.
Пьетро Ипато крепко потянулся и едва не свалился с широкой скамьи. Даже в отсутствии герцога он не решился возлечь на его золоченое ложе, устланное дорогим бархатом. А вот от хозяйского вина капитан не отказался. Щедро до краев налив в тяжелый венецианский бокал игривого напитка, Пьетро Ипато вышел из адмиральской каюты.
Устремив курчавую бородку в густую синеву утреннего неба, капитан сладостно вдохнул его свежесть. Затмив на мгновение розовое солнышко, мелькнула с коротким криком первая чайка. Ей отозвались с прибрежных скал сердитые бакланы, туго растягивая крылья. В камышах речушки, впадающей в море, заревел медведь, подняв на крыло стаю серых уток.
Пьетро Ипато осмотрел правый борт галеры. Уставшие за многодневный бессменный переход, гребцы спали в самых невообразимых позах. Кто на банках, кто под ними, а чаще друг на друге. Только вольным гребцам позволялось спать на выдвинутых веслах. Но таких на «Виктории» волею герцога почти не было. Поэтому все весла были втянуты на борта, создавая дополнительные неудобства для сна.
На боевой площадке носа в жуткой тесноте спали воины арбалетчики. Им еще долго спать. Сколько захотят. Им нет работы. И не приведи Господь их кровавую работу, пока Пьетро Ипато капитан этой галеры.
Слева от носовой лестницы распахнулась низенькая дверца. Из нее выскользнул мальчишка, а вслед него появился в короткой тунике Крысобой. Комит тут же увидел капитана и низко поклонился ему.
«Рано еще», – решил Пьетро Ипато, и сделал вид, что не заметил голоколенного комита.
Взгляд капитана скользнул по банкам левого борта.
«Все в порядке», – кивнул он головой и уже повернулся, чтобы по лестнице подняться на беседку над адмиральской каютой. И тут взгляд Пьетро Ипато уперся в последнюю банку левого борта.
Вопреки здравому смыслу, а сон для гребцов здоровее здравого, на узкой лавке в ожидании команды уже сидели три гребца. Но более всего удивила капитана фигура в синих одеждах. Сумасшедший сидел прямо, с готовностью положив огромные кисти рук на лежащее на коленях гребцов весло. Два других гребца пьяно шатали головами, но их руки так же лежали на круглой деревяшке.
Капитан хмыкнул и быстро поднялся по лестнице. С высоты беседки галера просматривалась как ладонь. Пьетро Ипато еще раз хмыкнул и заорал во всю глотку:
– Заспались грязные свиньи! Где этот проклятый комит? Якоря поднимать. Весла на воду. В путь. В путь…
Тут же открылась дверца на носовой стенке, и из нее удивленно выглянул Крысобой. Затем она закрылась, чтобы вскоре выпустить уже одетого комита с кнутом в руке.
Крик, свист бронзовых свистков, глухое и недовольное бормотание гребцов, звук трубы, свист плетей, щелканье кнута. Утро продолжилось как обычно.
Уже перед коротким завтракам капитан взмахом руки подозвал Крысобоя. Тот тут же взлетел по лестнице в роскошную беседку. После короткого разговора о ходе галеры, Пьетро Ипато кивком головы указал на последнюю банку:
– Как тебе этот сумасшедший? Гребет на совесть. Его сидельцы на банке радуются – не нарадуются.
– С первого гребка затылок чешу. Хотя чему удивляться? Голод лечит всякий недуг.
– Так не забудь его накормить. А то он еще и деснами кого загрызет. Ты посмотри, как старается. Если бы он понимал, что каждым гребком приближает собственную жуткую смерть. Герцог слов на ветер не бросает. Сетью обмотать… Даже и не слышал о такой казни. А ты? Тоже нет?.. Я и венецианцев спрашивал. Люди они бывалые. Пожимают плечами. Не видели и даже не слышали. Интересно, откуда нашему господину о ней известно?
Глава пятая
Джованни Санудо взвесил на ладони свой кошель, привязанный к его роскошному поясу. Его убавившийся вес заставил печально вздохнуть. Как всегда в таких случаях, герцог почувствовал, как внутри него забродила желчь. Значит, очень скоро гнев овладеет им и тогда…
Герцог наксосский огляделся. Проклятые лодочники Перевеза, в силу многовековой опытности, сразу же после высадки людей, отвели свои суденышки в море на полет стрелы. Их никакой гнев уже не достанет. Да и ранее, запросив немалые деньги и получив их, они были уверены в себе. Случалось, что заказчики отдавали деньги, а потом, приставив ножи к горлу, требовали их половину, а то и всю сумму. Тогда гребцы прыжком оказывались на краю одного из бортов, а в следующее мгновение в воде. Прекрасные пловцы они без труда доплывали до деревянных помостов порта Перевез, а вот из коварных заказчиков не многие могли спастись с перевернувшейся от отработанного прыжка лодки.
Гневаться на тех, кто высадился на шаткие доски пирса порта, было все одно, что на самого себя. Разве что можно было поймать мальчишку слугу за ворот и надавать ему пинков под зад. Но это не успокоило бы герцога. К тому же неизвестно как отнеслись бы к этой детской выходке великого герцога наксосского священник и два рыцаря покойного Рени Мунтанери. Своих Джованни Санудо вовсе не постеснялся бы. Но для задуманного будущего лучше было держать себя в руках. Благоразумие, рассудительность, подобающие манеры и иногда даже улыбка на губах вот его первое оружие для великой победы.
– Пошли, – махнул в сторону кривых домишек из камня, дерева и камыша великий герцог Санудо.
Не оборачиваясь больше, он медленным тяжелым шагом, с высоко поднятой головой, с наброшенным на правую руку краем дорогого плаща, прошествовал между суетящимися рыбаками, лодочниками, мелкими торговцами и купцами Перевеза, как едва ли не властитель этого городишка, этой земли и всего, что лежало за ней. За ним, ровный как доска, с герцогским стягом в вытянутых руках шел знаменосец. На шаг далее, холодно отблескивая доспехами, грозно высились Арес и Марс. Далее девушки в благородных одеждах, к которым совсем не приличествовали простецкие полотняные мешки, женщина с младенцем, из-под чепца которого выглядывала плотная повязка, и три арбалетчика во всеоружии, да еще со щитом, доспехами и огромным мечом герцога. Им еще пришлось по велению господина тащить сундук венецианского лекаря. Да и самому ученому не легче от объемного мешка с пожитками. Замыкал своих едва поспевающий мальчишка-слуга с множеством корзинок, кувшинов и мешочков.
Священник, рыцари и их слуги держались в стороне, но не отставали от герцога, привезшего их на земли непредсказуемого круля[51] сербов Стефана Душана по прозвищу Сильный. Теперь только через суровые и опасные горы Эпира они могли добраться до своих замков в землях Афинского герцогства. Без Джованни Санудо сделать это было чрезвычайно сложно. Всего четыре года назад воинственный круль сербов мечом и небывалой жестокостью присоединил к своим владениям огромный край, населенный племенами перед которыми когда-то трепетал сам Рим. Теперь вырезанный, выжженный и опустошенный Эпир затаился, но его высокие горы, дремучие леса, бурные реки дышали холодом смерти.
Велев арбалетчикам отправиться на поиски коней и повозки, Джованни Санудо подумал и о людях своего старого друга.
«Сами себе найдут лошадей. Наверняка прихватили с собой с горящей «Афродиты», не только свои вещи и оружие, но и золото моего дорогого друга Рени. Моего друга, а значит мое золото. А кому же еще завещал наследство барон Мунтанери, как не старому другу. Он об этом всегда говорил. Доберемся до Афин и узнаем волю барона Мунтанери. Несчастный Рени. Без наследников, без семьи. А сколько всего пришлось пережить нам вместе…»
Это была печальная мысль. Печальная вдвойне. Так как и сам Джованни Санудо не имел наследника. Но это была старая и никогда незаживающая рана, которая сегодня привела его в суровые и негостеприимные горы Пинда.
* * *
А еще герцог похвалил себя за то, что не подпустил к себе близко этих наследников жуткой славы каталонской компании[52], детей тех, кто прибыл на земли Византии, как воины веры против кровожадных турок, а стали самыми известными убийцами и грабителями христианских святынь в Греции. Теперь на земле древних эллинов нет и, наверно, не будет ругательства горше, чем слово «каталонец[53]».
Но «каталонцы» нужны герцогу Наксосскому, как и все те, кто помогут ему осуществить задуманное. Поэтому Джованни Санудо, держа людей своего покойного друга на вытянутую руку, не жалел для них вина и мяса весь путь до Перевези. Только тут он объявил священнику и рыцарям, что галера идет на Крит. Так что если они желают, то скорее и значительно дешевле будет добраться до собственных замков по суше. Для этого только нужно пересечь Греческий полуостров. А вместе с герцогом наксосским это вовсе не опасно. Он не обещал своей помощи, ни лошадьми, ни оружием, ни деньгами. Но защищал своим словом, связями и нужными советами. Так что «каталонцы» будут привязаны к Джованни Санудо вплоть до афинских земель. А там, герцог рассчитывал и на них в своих далеко идущих планах.
Вот только эти потомственные разбойники, подчиняясь своей испанской крови, не отводят взгляда от его девушек. Особенно тот, что выше ростом. Да и его друг, с неуместной для рыцаря пышной бородой. Но девицы предназначены замыслом герцога вовсе не для бедных рыцарей, которых неизвестно кто и не известно за что возвел в столь обязующее звание. Кажется, придется Ареса приставить для охраны тех, кого Господь послал Джованни Санудо на лодке утыканной стрелами.
Да, а еще и это чудовище в синих одеждах!
При мысли о нем, герцог яростно скрипнул зубами.
* * *
Лошади и повозки прибыли лишь утром.
Весь предыдущий день и весь вечер Джовани Санудо провел в жалкой хижине владельца градского[54] по имени Стешко. Он и его два десятка подчиненных были сербами, обязанными по «Законнику» их круля отбывать государственные повинности на границах. Кроме сбора царины[55] Стешко больше не желал знать ничего.
Выяснив жестами и несколькими венецианскими словами, что надутый от собственной важности чужеземец не купец, которому все тем же законником разрешалось свободно торговать по всему королевству Стефана Душана, заплатив сбор, владелец градский потерял к нему всякий интерес. Пришлось Аресу и Марсу уже в сумерках взять Стешко за суконный ворот его дикарского одеяния и силой усадить за грубо тесаный стул. Рванувшиеся на помощь сербу его земляки вмиг рассыпались, увидев огромные мечи в руках ангелов-хранителей великого герцога.
Иначе поступить было нельзя. Арбалетчики вернулись без лошадей и повозки. Более того, с ними никто не пожелал беседовать, а многие просто убегали при первом их слове. Так что…
Герцог уже в десятый раз говорил мычащему владельцу градскому:
– Даже если ты тупее всех ослов вместе взятых, ты не можешь не понять простых слов, одинаково звучащих на всех языках подвластных Господу нашему. Я Джованни Санудо – великий герцог наксосский. Я еду к крулю Стефану Душану. Он меня ждет. Мне нужны лошади и повозка. Хотя бы слово круль, ты понимаешь?
– Ладно, чума тебя забери. Будут тебе лошади и повозка.
От дерзости и отличного выговора на венецианском языке этого сербского олуха Джованни Санудо остолбенел. Он пришел в себя только после того, как коренастый владелец градский без видимых усилий сбросил со своих плеч крепкие руки Марса и Ареса. Ангелы хранители уже готовы были применить более действенные методы, чтобы удержать хозяина Перевеза на скамье, но герцог отрицательно кивнул головой:
– Так значит, ты меня с первых слов понимал?
– Почему не понять? Я властелич[56] самого воеводы Прилупы. Слышал о таком?
Герцог наксосский, молча, кивнул головой.
– Мой пронияй[57] находится возле Дубровника[58]. А как жить и торговать на побережье не зная вашего прокл… Венецианский язык мне даже очень знаком. Только лошадей и повозку я вам не продам. И никто не продаст. Все это для армии нашего круля Душана. Залог за них дашь в золоте. Доедим до Арты, а там круль решит, как быть. А чтобы ничего с лошадьми не случилось, поеду с тобой и я со своими воинами. Да и не безопасно в этих горах. Может, круль и действительно ждет тебя.
Джованни Санудо улыбнулся краешком губ:
– С нами еще два рыцаря из Афин и священник. Они дадут в залог перперы[59].
– Каталонцы, – скривился Стешко, – дети сатаны. Ладно. Будут им и лошади, и повозка. Не годится рыцарям в пешем строю. Их мечи могут нам пригодиться. Славные воители… А вот католический священник пройдется пешком, или протрясется на повозке. Не велика птица, хотя и гадит на наши православные кресты.
Утром сборы затянулись, так что от Перевеза тронулись в десятом часу. К полудню уже были глубоко в горных лесах. Здесь, несмотря на яркое солнце и теплый день, было мрачно и влажно. Влажно от множества ручейков, речушек и болот, от дышащих ночным дождем деревьев и кустов, а так же от молочного тумана, что клубился в глубоких пропастях и ущельях. Высокие пики гор ломали солнечные лучи и сколами отбрасывали их в собственные тени и в чащобу лесных зарослей. К тому же гигантские деревья кронами, как щитами, хранили скальную суровость некогда проклятой древними богами земли от щедрот солнца истинного бога.
Герцог наксосский кивнул головой. Ему припомнилось старое предание, вычитанное из книг мудрецов греков. Было время, когда неподвижный из-за страшных телесных мук Джованни Санудо, находил утешение своему горю в прочтении всего, что было под рукой. В том числе и в познании мифов тех, потомками которых он владел. Ведь подавляющее большинство жителей его герцогства были греки.
Древний, как и земля, народ. Много знающие и много философствующие. Только жили они очень давно, когда и земля была очень маленькой. Настолько маленькой, что горы Эпира были краем этой земли. Именно от ее берегов текла печальная река Ахерон[60]. Получается, что земли за Эпиром – это царство мертвых. А еще, что более значимо, это то, что Венеция – сама преисподняя этого царства. Проклятая Венеция. Город оскорбления и… надежды Джованни Санудо.
Джованни Санудо с высоты довольно сносного жеребца осмотрел окрестности. Он только что, вслед за Стешко и его воинами, взобрался на очередной горный перекат. Темно-зеленая стена леса отступила перед серостью и желтизной вершин гор. Дальше виделись все такие же, возвышающиеся над лесами, горы, только все темнее цветом. А там, в едва виднеющейся дали, горы были и вовсе черными. Там было сердце Эпира – земли, проклятой Зевсом.
Если вдуматься, то проклятие главного олимпийского бога просто смешно, до глупого смешно. Вечно возбужденный божественный фаллос Зевса не давал покоя своему повелителю. (Джованни Санудо усмехнулся. Кто в таком случае повелитель?) Вот и потащился Громовержец[61] на край земли, в Эпирские леса и горы. Наверное, перенасыщенный богиней-женой, родственницами богинями, лесными нимфами и морскими нереидами, а также чуть божественной красотой земных девственниц, повелитель всего живого и мертвого пожелал совокупиться с чем-то неизвестным, что обитало на границе жизни и смерти.
Ничего такого необычного не сыскав, но чтобы все же не ссориться со своим божественным фаллосом, Зевс окинул всевидящим оком Эпир и, конечно же, узрел… А как не узреть? Чудовищ, гидр и страшилищ греки-герои уже давненько возвели во славу его же Зевса и его божественной родни. А вот дочерей лесных божков, а еще больше – презренных смертных было видимо невидимо. Куда не посмотришь.
Вот и узрел Громовержец то ли нимфу, то ли прекрасную крутобёдрую девственницу. По устоявшейся привычке бросился он с торжествующим криком на предмет вожделения. Порывисто, мощно, как обычно.
Но произошло что-то невероятное. То ли нимфа, то ли пастушка так налегла на свои крутые бедра, что даже Зевс не смог догнать. Такое бывает. Если лошадь сильно испугать, она и через крепостную стену может перепрыгнуть вместе с всадником. Такое также случалось. Такое записано в рыцарских балладах.
Остановился вспотевший бог и в сердцах плюнул на камни Эпира. С тех пор разгневанный, непривыкший к непослушанию, властитель Олимпа не прекращает войну с этим краем. Он беспрерывно посылает на Эпир то мелкий дождь, то ливень с грозами (земля Гроз, улыбнулся, вспомнив Джованни Санудо. Ему бы такие грозы на его жаждущие влаги острова). А в иные годы снег и заморозки, что убивают урожай. Но чаще всего тяжелые облака тумана, которые будто замершие, полдня держатся на верхушках гор, скрывая от глаз прилепившиеся к ним гнезда-домики дерзких людишек, а потом оседают в леса, окутывая своей холодной местью лесных обитателей.
А еще мстительный Зевс заставляет своего брата Посейдона штормами омывать берега печальной земли, а другому брату Гелиосу велит до красна нагревать колючие камни Эпира.
Но это не меняет Эпир. Он так и остается массивным, неподвижным, сердитым и непокорным. Слишком глубоко он ушел в себя, в собственные законы и обычаи, что выразились скупостью слов людских и низкой мелодией местных напевов, которые неподготовленным ушам даже трудно воспринимать. Но мелодии льются от селения к селению и отражаются в гладких, как зеркало, озерах, купаются в бурунах непослушных горных речушек, шелестят ветерком в кленовых рощах, скрипят морозцем в снегах окостенелого Пинда, звенят зноем в полях Феспротии, свистят порывами бурь от морского побережья.
Таинственно молчалива земля Эпира. Но ей не скрыть всего богатства. Она – родина всех значительных рек Греции. Сосны, буки, дубы – лучшие для строительства кораблей. Самые крупные медведи, волки, рыси, кабаны, олени, серны на Балканах водятся именно здесь. А на озерах и в реках столько рыбы, выдр и водоплавающих птиц, что ими можно накормить весь христианский мир.
Вот только нет счастья и покоя на этой земле…
– Что это? – догнав сербского властелича, спросил Джованни Санудо.
Тот и сам внимательно приглядывался к нескольким черным столбам дыма, что поднимались из нижнего леса.
– Там селение Айхо. Оно покорно крулю. К тому же через него должен был пройти отряд властелича Вайки. Он шел в Арту по приказу Стефана Душана. Может Вайка баранов жарит? У него много воинов. Если к ним присоединиться, то можно по сторонам не оглядываться.
– Хорошо бы, – согласился герцог. – Да и баранина нам не помешала бы.
– Я уже послал воинов посмотреть, что и как.
Джованни Санудо одобрительно посмотрел на серба. Тот в его глазах, хотя и медленно, но перевоплощался из осла в… Пока еще мула.
Скоро прискакали и посланные воины. Еще издали один из них что-то выкрикнул.
– Все в порядке. Это Вайка веселился. Нужно поспешить, чтобы его нагнать.
Узкая горная дорога, щедро усыпанная крупными камнями, вывела на широкую поляну, из края в край любовно вспаханную и забороненную под зерновые. На краю поляны, прижавшись к вековому лесу, чернело с десяток больших домов до половины выложенных из камня, а далее из почерневшего дуба. Крыши домов были покрыты маленькими дощечками, заменяющими в этих краях глиняную черепицу. Вокруг домов множество пристроек для животных, а так же для хозяйственных нужд. За жердяными овинами еще сохранилось прошлогоднее сено. Все говорило о том, что селение простояло в этой благодатной низине сотни лет. Была ли на то воля Господня, щедрость природы, или трудолюбие и воинское искусство его жителей, можно было только гадать, ибо ни единой души ни в поле, ни возле домов не было.
Зато все еще дымился перед селением столб с приплавленным к нему обугленным человеческим телом, дымилась струйками выгоревшая земля, и набирали силу три огромных языка пламени, пожирая два ближайших стога сена и по ветру первый из добротных домов. И хотя в нескольких десятках шагов от огня весело струился полноводный ручеек, никто не пользовался его силой, чтобы уничтожить ненасытное пламя. А оно только и ждало сильного порыва ветра, чтобы перекинуться дальше и, уничтожив все селение, углубиться в лес. Там уже было где разгуляться и приобрести силу, могущество и необъятное тело самого жуткого из чудовищ – красного дракона пожара!
* * *
Джованни Санудо поморщил нос. Он неудачно остановил своего коня с подветренной стороны, и на него несколько раз подуло смрадом обугленного человеческого мяса.
– Не будем задерживаться! – громко воскликнул герцог.
Он любил собственный громкий голос. При нормальном голосе, его хрипотца раздражала герцога. Раздражала от того, что появилась она в самое жуткое время его жизни. Время, которое нельзя было забыть и невозможно без содрогания вспоминать. Поэтому окружающие чаще слышали крик Джованни Санудо, чем его плавную речь.
Властелич Стешко что-то так же громко прокричал на своем языке и его впереди стоящие воины тронули коней.
– Это что еще?! – удивленно воскликнул лекарь Юлиан Корнелиус, который весь путь настойчиво держал свою лошадь у правого плеча герцога.
Джованни Санудо оглянулся и на миг одеревенел.
Его собственность, его планы на будущее в образе девственницы, посланной самим Всевышним, спрыгнула с повозки и устремилась к жадным языкам пламени.
– Эй! – прокричал герцог и глупо захлопал глазами Джованни Санудо видел, как девушка спешит туда, где ей совершенно не нужно было в это время находиться. Видел и желал остановить эту бессмысленную выходку. Но для этого нужно было, по меньшей мере, гневным голосом окликнуть дерзкую девчонку и приказать вернуться в повозку. Но как раз этого герцог сделать не мог. Он так и не удосужился за множество дней соседства с женщиной с младенцем и двух девушек узнать их имена.
Да и не нужны ему были эти самые имена. Как и его телу и сердцу эти «Евины дочки», через которых дьявол может подобраться даже к самому папе римскому. Они нужны были его разуму и плану. Но не сейчас, позже. Тогда можно было бы и назвать их каким-либо походящим к случаю именем. Пока они только мелкие фигуры на его шахматном поле. Пешки, что выстроились в ряд и ждут, когда их повелитель начнет большую игру.
Только сейчас Джованни Санудо припомнил, что за все время нахождения «Евиных дочек» в его адмиральской каюте они не промолвили в его присутствии и слова. Да и сам герцог ни разу не обратился к ним ни единым словом. Да и о чем было говорить с этими глупышками? Достаточно того, что выяснили венецианцы и доложил Крысобой. Да и что тут непонятного? Здоровую женщину с младенцем нанял кормилицей какой-то благородный господин для своей сухогрудой жены и его вечно кричащего сына. Девушки ему также нужны. И по хозяйству днем и для утех ночью. Кто этот благородный господин? Уже не важно. Может и сам дож Венеции Андреа Дандоло. А может кто-то из его сыновей или родни. Не стал бы личный секретарь самого дожа заниматься этим вопросом для кого-то другого. А если занимался сам секретарь, то можно быть спокойным. Вопрос государственной важности! Значит женщина, ее молоко и ребенок здоровы, а девушки, вне всякого сомнения, девственницы.
Это все, что нужно от них герцогу наксосскому. Пока. А дальше он придумает и распишет их роли и правила поведения на шахматном поле под названием жизнь.
Только как ее остановить? Как окликнуть…
– Да что вы стоите, олухи! – загремел на своих людей Джованни Санудо.
Арбалетчики тут же побросали оружие и бросились к огню. Вслед за ними поспешил знаменоносец и мальчишка слуга. А глупая девчонка нашла в ближайшей хозяйственной пристройке большое деревянное ведро и уже возвращалась с водой от ручья. Она с пониманием выплеснула спасительную влагу на верхнюю часть стены дома и поспешила опять за водой.
«Селянка. Она обыкновенная селянка», – усмехнулся Джованни Санудо.
Как тут было не понять.
Нет для селянина худших бед, чем голод и пожар. И то и другое несчастье громко зовут смерть. А правильнее – и голод, и пожар, и смерть – это одно и то же. Хотя. Под крышей дома, при каких-либо, даже скупых пожитках, еще можно держать смерть на вытянутую руку. А вот если пожар сожрал и дом, и имущество, тогда лучше самому накладывать на себя руки. Ибо твой пожар проглотит дома, скот и все нажитое соседей, а то и всего селения.
Это в городе легче бороться с огнем. Горожане живут по цеховым правилам. А они очень строги. Хочешь-не хочешь, а обязан бросаться в огонь соседа. Ведь квартал принадлежит цеху, а значит, горит его имущество. Не спас имущество цеха – можешь подвергнуться огромному штрафу, а затем еще и исключению из состава мастеров. А это жизнь на собственное усмотрение и на собственный риск. Опасна жизнь одиночки, за которого некому заступиться. Так что, кем бы ты ни был – кузнец, бондарь, седельщик, пекарь, или ювелир, бросай свою работу и туши пожар соседа. Хотя пожары в городе дело частое, а бывает и такое, что за час-два выгорает весь город. Но горожане на пожаре все ж дружнее. А что не так, быстро разберутся. Может поджог и с умыслом. Решил сосед соседа наказать. То ли за украденную вещь, то ли по торговым делам, то ли жену приревновал. Вот и случился пожар. Такого быстро найдут, забьют в промасленную бочку и подожгут на удовлетворение всем погорельцам. В городе есть порядок.
Это селяне еще ковыряются в носу, а вдруг ветер не понесет на их сторону пламя… А может, выгорит у соседа, да я у него по дешевке землицу выкуплю… Вот теперь соседушка не будет таким строптивым. Придет на сеновал за краюхой хлеба…
Именно поэтому в семьях селян с первых дней жизни приучают бросаться телом на любой язык, не предусмотренного в хозяйстве, пламени. Только ты спасешь свой дом, свою семью и собственную жизнь. Это в крови селянина и селянки, как и крестное знамение при ударе колокола.
– Дьявольщина! Да что же это такое! – громогласно заревел Джованни Санудо.
Да и было от чего. На платье этой селянки прыгнул язычок пламени. Еще мгновение и одежда превратится в костер. Дорогая одежда. Очень дорогая. А еще на девчонке множество всяких безделушек. И так же в немалую стоимость.
Герцог в растерянности завертел головой. Он растерялся еще больше, когда к пожарищу устремилась вторая девчонка. А вслед за ней…
А вслед за ней на битву с красным драконом бросились оба рыцаря-«каталонца» и их люди. И совсем уже невероятно то, что с лошадей слезли и взялись лопатами присыпать ползущий по земле огонь воины-сербы во главе с самим владельцем градским Стешко.
Напоследок всем удивлениям из леса показалось множество народа. В основном это были женщины и дети, но их действенное участие очень скоро ограничило пожар, а затем и уничтожило его.
– Впечатляющее зрелище, – раздалось за спиной герцога.
Джованни Санудо в раздражении скосил голову направо. Там, неизменно в этот день, находился Юлиан Корнелиус. Получалось, что ученая степень лекаря, священный сан служителя бога афинских «каталонцев», забота о младенце и высокий титул великого герцога – только они не участвовали в спасении этого горного селения. Но если даже рыцари не погнушались этой неблагородной работенки, то уж лекарь все же мог бы взять ведро воды в руки. Не велика птица ученая.
Да, рыцари проявили себя с лучшей стороны. Их даже можно назвать благородными. Несмотря на то, что они «каталонцы». Особенно того, что первым бросился тушить пламя на одежде глупой девчонки. Тушил руками и, кажется, немного пострадал. Но ничего, на войне и не такое бывает. К тому же, в свите герцога наксосского есть лекарь. В свите великого правителя всегда должен быть лекарь. А то зачем бы Джованни Санудо кормил ненужное чрево? Пусть пока побудет справа.
И все же чувство раздражения по отношению к ученому лекарю продолжало расти.
* * *
Она уже успела умыть лицо и руки от грязи и копоти. Смущенное, виноватое, но такое милое и притягательное личико. Нужно было бы наорать, а то еще чего посерьезнее, но эта чертовка, заботливо завернутая в рыцарский плащ, невольно вызывала даже у Джованни Санудо добрые чувства и даже немного уважения. Вот только нужно было посмотреть, насколько пострадала одежда и женские побрякушки на поясе. Но и так видно – в правом ухе недостает серьги с жемчужиной.
Да и как тут покричишь, когда по обеим сторонам от девушки возвышаются рыцари. А они народ странный. Что им в голову сбредет. Могут неправильно понять герцога. Им в поединке Джованни Санудо отказать не сможет. Это позор и гибель всего задуманного. А драться с кем-нибудь из них – задача сложная. Воинская сила и храбрость «каталонцев» известна во многих землях. Вот Арес и Марс могли бы их успешно порубить. Но впереди много дел и ссориться с теми, кто держит земли Аттики[62] – непростительная глупость.
«Нужно что-то сказать. Мое молчание не в мою пользу. Эти рыцари ждут моего слова», – подумал герцог наксосский и без особой надобности поправил широкополую шляпу.
– Что там, Стешко? – обрадовался возможности оттянуть «слово» Джованни Санудо.
– Да вот, говорю со старостой этого селения. Выясняю что и чего.
– Так что и чего?
– Я же говорил – мой друг, властелич Вайка здесь проходил.
– Так это он устроил пожар? – зевнул во весь рот герцог.
– Нет. Он только сжег того глупца. А ветер уже разнес искры. Ему не было времени за всем приглядеть. Уже завтра ему нужно быть в Арте.
– А что это за глупец? – еще раз широко зевнул Джованни Санудо.
– Знакомый мне человек, – чуть улыбнулся Стешко. – Ювелир из Дубровника[63]. Я ему говорил… А эти из Дубровника… Гордецы! Ни до конца выслушать, ни золотого за умные слова дать. Посмеялся. Говорит, спешу в Арту. Там ваш король большой праздник затевает. А какой праздник без ювелира? Кому браслет, кому кольцо или цепь. А может, кому чего из драгоценностей и починить нужно. Вот и починил.
– Так это твой друг Вайка его сжег? – прищурив глаз, усмехнулся герцог.
Стешко кисло посмотрел на лица повернувшихся к нему рыцарей и замахал рукой.
– Нет. Нет. Даже не подумайте. Ни один сербский властелич не позарится на добро прохожих. Мы не разбойники какие-то. Тут дело великое, государево! А оно требует во всем следовать слову круля нашего Стефана Душана. Его мудрость и советы многих властелей[64] создали великий закон, что записан в книгу «Законник[65]». Ему мы властеличи и следуем строго. А сказано в «Законнике»: Если в каком-либо селении, – вне городов и торгов, будет обнаружен золотых дел мастер, пусть это селение будет разграблено, а сам мастер сожжен.
– Значит, этому селению… Как его – Айхо? (Стешко кивнул головой) не повезло. Именно здесь нагнал ювелира твой друг, а заодно и разорил селение. А это значит, что даже за перперы[66] мы не вкусим свежей баранины и сыра, – вздохнул Джованни Санудо.
Стешко раздвинул плечи и раздул грудь:
– Это почему же?.. Как раз и не так. Вот старик, староста селения, желает вам высказать свою благодарность и не только. Он в молодости плавал на торговых кораблях, поэтому хорошо знает франкский язык[67]. (Лексика лингва-франка была в основном итальянской, в особенности венецианской, в меньшей степени – испанской и провансальской; также использовалось большое число заимствований из греческого, арабского, персидского и турецкого языков). Вы его хорошо поймете.
– Ну, пусть благодарит, – благосклонно разрешил великий герцог.
Старик в длиной холщовой тунике, из-под которой выглядывали мешковатые наножники, заканчивающиеся кожаными сандалиями, тяжело опустился на одно колено. Он устало стащил с желто-белой от многих лет головы большой войлочный колпак и коснулся лбом сгоревшей земли:
– Мне сказали: вы наш высокородный спаситель. Ваше сердце христианина, открытая Богу душа и благородство разума первыми откликнулись на наши страдания. А поступок ваших благородных дочерей, может быть сравним лишь с деяниями святых угодников. Мы все видели. Мы, наши дети и наши потомки будут молиться за ваших храбрых и великодушных дочерей. Мы сделаем деревянные статуи, подпишем их именами наших спасителей и поставим у входа в святой женский монастырь Феотокиу[68]. А сейчас просим вас быть гостями нашего селения Айхо. У нас найдется немного мяса, сыра и вина.
– Хорошо. Ступай старик и вели, чтобы побыстрее и побольше жарили мяса. Переночуем здесь. Солнце скоро сядет за горы. А в горах, даже в сумерки, намного опаснее. Праздник в Артах начинается через два дня. Успеем. Верно?
Стешко радостно кивнул головой. Если Вайка торопился, то может еще есть чем поживиться. Эти горцы народ смышленый. Главные их кладовые в горных пещерах. А за спасение селения эти люди не поскупятся на угощение. К тому же среди них так много молодых и привлекательных женщин. И почти нет мужчин. Еще во время тушения пожара многие женщины говорили с его воинами. Двое даже улыбались самому Стешко. Ночь будет славной на веселье и телесные утехи.
И владелец градский известного города и порта Перевез поспешил за старостой, чтобы приложить свое хозяйское умение к тому, чтобы вечер был приятен и памятен ему, его воинам, и гостям круля Стефана по прозвищу Сильный.
* * *
Вечер и впрямь удался на славу.
Первое что порадовало великого герцога, так это то, что селяне отыскали в пепле и грязи его жемчужную серьгу. Отыскали и вернули. Странные людишки. Под счастливые лица этих простолюдинов, Джованни Санудо собственными руками вставил дорогую находку в ушко девушки. Любопытно, как эта золотая штучка выскользнула из маленькой мочки, прикрытой барбетой. Наверное, селяночка так разошлась со своим ведерком, что головной убор каруселью вертелся на ее милой головке.
Герцог прошелся ладонью по седеющей бороде. Он начинал любоваться своей вещью.
А и в правду девица была хороша. Даже уже изрядно подпорченная копотью и грязью барбетка казалась церковной ризой, обрамляющей воистину ангельское личико. Чистое личико, которого не коснулись страшные болезни, что уродовали троих из пяти женщин. На белой коже девушки не было рытвин от оспин и гнойников, не было красных пятен и шелушений, не говоря о морщинах, что появлялись у простолюдинов еще в детском возрасте от тяжелого труда, недоедания и болезней. К тому же у нее были все зубы, ровные, белые, мелкие, какие не часто увидишь и у благородных дам. А в эти пухлые губки, тонкий носик и большие синие глаза хотелось целовать, целовать и целовать…
Все это мгновенно увидел Джованни Санудо еще в тесной конуре Крысобоя. Увидел и мгновенно решил использовать такой подарок судьбы. Тогда он еще не все смог сложить в своей голове. Не все еще сложено и сейчас. На это еще нужно время и обстоятельства.
Но, а то, что девица еще и похорошела за последние недели, это только радует. А как не похорошеть на окороках, хлебе и вине от стола самого герцога. Отъелась, отоспалась, забыла о невзгодах и трудностях своей прошлой жизни. Это все, что нужно девице на выданье. Тем более, что ей, пожалуй, уже лет четырнадцать, а то и все пятнадцать. В селениях вилланов такие уже по двое детей носят на руках. А этой повезло, что судьба отдала ее в руки герцога наксосского. Он с ней добр, и ничего для нее не жалеет. Вот и хорошеет «подарок Господа». Приятно глазу глянуть.
Вот только не нравится Джованни Санудо, что тот рыцарь-«каталонец», который так и не снял своего плаща с плеч девушки, приклеился глазами к его «подарку». И следит он вовсе не за своим благородным рыцарским плащом. Странный рыцарь. За столько дней совместного пути не произнес и слова. За него говорит и отвечает на вопросы его товарищ-«каталонец» с пышной бородой, а так же священник. Может он немой от рождения, или получил рану. Лучше бы его ранили в глаза бесстыжие. Смотрит и смотрит…
Ну, ничего. Пускай ест девицу глазами. Дело молодое. Но на большее рассчитывать он не сможет. И все же придется приставить к девушкам Ареса. Тем более, что и другой рыцарь нет-нет, да и взглянет на вторую девицу. Та конечно не так хороша, ведь больше в ней от простоты народной. Но все же свежа молодостью, а, значит, интересна, как и всякий бутон розы, что вот-вот распустится. И важно это мгновение не упустить. Это уже потом сорванная роза на короткое время порадует своей пышностью и очень скоро завянет. Но пока роза на стебельке, и ничья похотливая страсть не украла ее девственности, она умиляет и притягивает своей непорочностью и таинственностью.
«Могла бы и моя жизнь сложиться иначе. Полюбовался бы я этими розами, а, налюбовавшись, сорвал бы их девственность. Но так уж было угодно Господу… Или сатане?»
Очень часто этот вопрос задавал себе герцог наксосский, и каждый раз не мог его решить. И всегда он огорчал Джованни Санудо и даже приводил в бешенство.
А этим вечером великий герцог был на редкость спокойным и рассудительным. Через несколько дней предстоял тяжелый разговор с суровым императором Сербии и Греции[69]. Так что на многие благодарности селян, на учтивые слова рыцарей, на льстивые слова лекаря, на добрые слова священника, и на уже дружеские восторги опьяневшего Стешко Джованни Санудо почти не отвечал. Он рвал мясо руками и отправлял жирную баранину в собственную утробу, почти не разжевывая. В этом ему помогало местное вино, хотя и кисловатое, но весьма пьянящее. Оно и привело великого герцога в отличное расположение духа:
– Эй, ты!.. Как тебя? А, Стешко! А спроси ты у этого старосты, почему они в лесу прятались и даже не пытались тушить пожар.
Стешко пьяно, но с пониманием кивнул головой и отправился на дальний угол стола, на котором разрешили присутствовать старосте и еще нескольким старикам селения. И хотя это был дом старосты, самый большой и вместительный в Айхо, его стол едва уместил благородных гостей селения. Слуги и воины рыцарей и герцога веселились прямо у костров, на которых тушами жарились сочные бараны. Исключение, как впрочем и всегда, составили Арес и Марс, столбами возвышающиеся над плечами своего владыки. Вина они не пили вовсе. А вот когда и что ели – трудно было сказать. Как и то – спали ли они когда-нибудь. Вот только Арес ступил на несколько шагов вправо и занял позиции между герцогом и его девицами. Он уже начал зорко следить за жизнью и честью «подарков» Джованни Санудо.
Рядом с девушками и женщиной с младенцем скромно ограничивался лепешками, сыром и молоком священник «каталонцев», пастор еще довольно молодой, но строгих правил. Весь путь до селения он проделал собственными ногами, отказавшись от лошади и места в повозке. Не замечая трудностей дороги, он ступал старыми поршнями[70] на острые камни, оступался во впадинках и несколько раз едва не упал, споткнувшись об корни деревьев, дерзко выползших на проторенный человеком путь. При этом он ни разу не оторвал глаза от небольшой книги, которую читал нараспев в полголоса. К пище священник прикладывался не часто, так как весь вечер вел тихую беседу с ученым лекарем. Хотя если уж быть точнее, тихой эту беседу назвать было трудной, так как час от часу Юлиан Корнелиус громко возражал служителю бога, а то и вызывающе смеялся.
Почти не заметными весь вечер оставались рыцари «каталонцы». Находясь в плену каких-то причуд, они не ели мяса и не пили вино. Таким поведением они показывали свое желание покинуть застолье и предаться отдыху. Вот только их глаза не позволяли встать от стола и распрощаться с попутчиками до утра, ибо глаза рыцарей не принадлежали им. Они уже были преданными вассалами храбрых девушек. К этому счастью прибавилось и прикосновение молчаливого рыцаря к собственному плащу. Ведь его только недавно вернули ему, прикрыв обгоревшую одежду девушки шерстяной накидкой от щедрот старосты селения.
Несмотря на такую скучную компанию, Джованни Санудо был рад этому вечеру. Он уже успел многое обдумать, а теперь ему хотелось немного поговорить ни о чем:
– Так что там староста говорит? – крикнул он через стол шатающемуся властеличу Стешко.
Тот допил вино из глиняной кружки и улыбнулся:
– Староста правильный старик. Толковый. Жизнь повидал со всех сторон. Как только начался пожар, велел он всем брать лопаты и идти в лес…
– В лес? – не понял герцог.
– Ну, да! Там у них ямы с дубовыми желудями. Нужно их было забросать землей и окопать.
– Странно как-то. Что же им желуди дороже домов собственных? – не удержался Юлиан Корнелиус.
Этот вопрос желал задать и герцог, но ученый выскочка его опередил. Кулаки Джованни Санудо помимо воли сжались.
– А что тут странного? – пожал плечами сербский властелич. – Говорю же, староста на своем месте. Он знает повеление круля Стефана – половина всех желудей в окрестностях, прилегающих к селению – собственность самого круля! И не приведи Господь, если с ними что случится. Тогда не только дома сгорят…
Глаза Стешко блеснули огнем, а рука до половины вытащила меч.
– Это что, на всех землях подвластных королю Стефану Душану собирают половину желудей для него? – подал голос рыцарь-«каталонец».
– Не для него, – замотал головой властелич. – А для его свиней. У круля нашего такое количество свиней, что счета им нет. Воинам нужно много мяса и жира. А воинов у Стефана Сильного очень много. Храбрых и сильных воинов. Скоро все земли будут принадлежать славным сербам…
Сильный удар кулака по столу остановил расхрабрившегося серба. Стешко глянул на стол и увидел гневно сжатый кулак молчаливого рыцаря-«каталонца». Струйка пота скатилась со лба воина круля Стефана.
Все замерли в ожидании грозового разряда, что, казалось, сгустился под высоким потолком.
И тут неожиданно к грохнувшему молоту потянулась девичья ладонь. Она успокаивающе легла на большой рыцарский кулак, и так же неожиданно легко разжала его. В свете нескольких факелов на стене и доброго десятка свечей на столе все увидели, как сильно обожжена ладонь рыцаря. Именно ею молчаливый «каталонец» сбивал пламя с одежд храброй девушки.
– Ладно, – с усилием выдавил Стешко. – Скажу крулю, тот решит.
А пока все приходили в себя, девушка выскочила из-за стола и бросилась в угол дома, где лежали вещи всех гостей. Она недолго искала в своем мешке и скоро вернулась со стеклянным горшочком странной формы. Не произнося и слова, девушка подошла к раненому рыцарю и с улыбкой на устах протянула к нему свою руку.
Рыцарь в странном безволии тут же отдал ей свою обожженную ладонь. Все в том же напряженном молчании все уставились на то, как быстро и умело девушка смазала рану мазью, а затем плотно забинтовала ее чистой полоской выбеленного льна.
Рыцарь молча кивнул головой в знак признательности и спрятал раненную руку под плащ.
– А ты что, лекарь, не мог посмотреть у кого какие раны? – с усмешкой спросил великий герцог.
Юлиан Корнелиус непонимающе пожал плечами:
– Ели бы кто обратился ко мне… Собственно это не тяжелый случай. На свежем воздухе такие раны у настоящего рыцаря быстро заживают. К тому же у меня нет сейчас необходимой мази. Да и не нужна славному рыцарю никакая мазь. Достаточно в таких случаях не утруждать руку, вознести молитву святому Лазарю и не горячить себя вином и мясом. Впрочем, они и так себя ничем не горячат. Святой отец говорит, что сегодня у них пост и….
– Нам не нужно соблюдать этот необязательный пост, – прервал лекаря Джованни Санудо.
– Соблюдение поста, указанного священным писанием – богоугодное дело, очищающее не только душу, но и тело человека от греха и излишеств, – тихо произнес священник. – Как говорил святой Исаак Сириянин: «Пост есть оружие, уготованное Богом… Если постился сам Законоположник, то как не поститься кому-либо из обязанных соблюдать закон?» Пост есть сугубое воздержание, чтобы восстановить утраченное равновесие между телом и духом, чтобы вернуть нашему духу его главенство над телом и его страстями. Впрочем, вы правы – этот пост короткий и только для священнослужителей и лиц особой духовности. Сегодня пятница – это день терпения издевательств, мучительные страдания и крестная смерть Искупителя человечества Иисуса Христа. Вспоминая о них, как может христианин не ограничить себя путем воздержания?
– А я говорю ему, – Юлиан Корнелиус пьяно тыкнул пальцем в грудь священника. – Пост – это лечение, а последнее бывает часто нелегко. И лишь в конце всего лечения можно ждать выздоровления, а от поста ждать плодов Духа Святого – мира, радости и любви к Богу…
– Ладно, для воинов этот пост не обязательный и… – примирительно сказал великий герцог.
– А я говорю… – икнул ученый лекарь. – Честно говоря, мази у девушки этой спасительные и…
– Марс, выведи ученого человека на свежий воздух. Он уже дважды меня перебил, – наливаясь краской гнева, велел Джованни Санудо.
К Юлиану Корнелиусу тут же подошел гигант Марс и легко как ребенка поднял лекаря за шиворот из-за стола. Не давая касаться ногами пола, ангел-хранитель великого герцога легко вынес опьяневшего ученого за дверь. При этом Юлиан Корнелиус так комично дергал ногами, что рассмешил всех.
Даже Стешко потеплел и хохотал от души. Потом он выпил кружку вина и обратился к великому герцогу:
– Староста сказал, что от этого вина у многих и часто не ходят ноги…
Эта шутка опят вызвала веселый смех:
– А еще староста спрашивает, какие имена вырезать на тех статуях, что будут поставленный у монастыря.
Еще не успевший досмеяться герцог указал рукой на лечившую рыцаря девушку и ответил:
– Это Афродита.
А затем указал на вторую девушку:
– Ее младшая сестренка – Венера.
– Интересные имена. Где-то я такие слышал. Давайте выпьем за прекрасных и храбрых дочерей достойного властелина, – воскликнул властелич Стешко.
– Это странные имена, – тихо сказал священник и сложил руки в молитве.
* * *
Джованни Санудо завернул за угол дома. Здесь его никто не увидит, здесь он втайне сможет сделать свое дело.
Герцог достал из кармашка поясного ремня то, что он берег пуще зеницы ока – тонкую серебряную трубку в полтора пальца длиной.
«Кому же это было все же угодно – Господу или сатане», – тяжело вздохнул он и снял с крючков гульф на своих кожаных бра.
Еще раз вздохнув, Джованни Санудо привычно и быстро вставил трубку в то, что осталось от мужского фаллоса, продвинул ее дальше в мочевой пузырь и напряг его. Из конца трубки, на угол дома полилась освобожденная моча.
В третий раз вздохнув, великий герцог посмотрел на костры, что все еще полыхали под котлами и вертелами с мясом. Несколько десятков шагов отделяло его от веселящихся воинов, слуг и бойких селянок. Всего несколько десятков шагов… И как много отделяло герцога наксосского от простых плотских радостей, которыми вскоре займутся эти мужчины и женщины.
«Плодитесь и размножайтесь!» – именно эту священную заповедь люди запомнили первой и навсегда. Какие беды и несчастья, какие войны и голод, какие болезни и природные катастрофы не случались, человек выживал, плодился и размножался. Ведь так угодно Господу.
Мать желает родить сына или дочь. Это сущность ее природы. И что поделаешь, если богом данный муж сложил свою голову на поле битвы, утонул в бурном море, или его задрал медведь. Помолись об упокоении его души, оглянись и выбери мужа способного зачать сына или дочь. Да и этот «муж на час» будет рад утешить свою сущность природы, а потом будет потягиваться и вспоминать о сладостных мгновениях соития. А может даже и вернется. Бывает и такое. Если, конечно, и сам он не сложит голову, не утопнет, или промажет на охоте.
По женским восклицаниям и смеху можно было судить о том, что плотские утехи для многих из сопровождающих великого герцога удадутся на славу. Скорее всего, мужчины этих селянок погибли в недавних боях с сербами. А может с византийцами или турками. Их не вернуть. А селение должно жить криком новорожденных, на роду которых написано: пахать, сеять, жать, рубить лес, воевать и зачинать детей.
Наверно женщинам и не важно, что этой ночью они отдают свои тела тем, кто возможно вонзил свой меч или копье в того, кто привел их к церковному алтарю, кто заботился о них, кто с умилением качал на руках первенца и гордился своей трудолюбивой женой.
Это жизнь. Это угодно богу… Или сатане?
В который раз, горько сплюнув после этого проклятого вопроса, Джованни Санудо спрятал спасительную трубку и поправил золотой с тремя драгоценными камнями массивный гульф, гордость состоятельных мужчин, и маскировка для герцога наксосского.
«А все-таки я смешно придумал с Афродитой и Венерой», – подумал Джованни Санудо и настроение его немного улучшилось. Он даже усмехнулся когда представил себе как эти темные и забитые селяне приволокут к монастырю свои деревянные шедевры. Как будет озадачены не слишком умные и образованные монашки, прочитав странные имена. Как долго они будут искать эти имена в списках святых угодников. И как будет разгневан местный православный митрополит, когда своими учеными глазами прочтет имена древних богинь распутниц.
«Они просто людишки», – еще раз усмехнулся герцог.
Он вдохнул горного ночного воздуха и отправился обратно в дом, где староста и его женщины уложили на дощатый пол множество сена и поверх него шкуры и домотканое полотно. Нужен был крепкий сон перед завтрашней дорогой.
Но сон, как назло, не спешил с оздоровительным отдыхом. В голове бродил винный туман, а в животе неприятно булькало и урчало.
Ближе к полуночи заплакал младенец.
– Что, мой маленький, ушко болит? – тревожно зашептала женщина.
– Нет, мама. Кровь уже давно не идет. Мазь Гудо действительно чудодейственная. Он просто хочет твоего молока.
– Сейчас, сейчас, мой милый Андреас.
Джованни Санудо удивленно приподнялся на локте и тут же опустился. Он понимал, что говорили эта женщина и ее дочь. Да, ему был хорошо известен тот язык, на котором они перешептывались. Что-то далекое и неприятное кольнуло в сердце великого герцога.
Да, герцог не ошибся – в трех шагах от него тихо беседовали на верхнегерманском наречии. На языке северных германских земель и славном говоре грозных рыцарей-тевтонцев. Пять лет молодости отданы этому великому ордену. Пять долгих и незабываемых лет.
– Ну, вот он и успокоился. Мама, я хочу все же тебя спросить; почему Гудо так поступил с маленьким Андреасом? Ведь он так любил его. Ведь он так любил нас, и так заботился о нас.
После долгого молчания женщина прошептала:
– Мне трудно ответить на этот вопрос. Но ты помнишь. На том проклятом острове наш Гудо сказал: «Может случиться так, что вы мои дорогие девочки будете ошеломлены моим жестоким и непонятным поступком. Как бы вы не думали, помните самое важное – чтобы я не сделал страшного и безумного, это только для спасения вашего и во благо вас. Я готов умереть, лишь бы вы были живы и счастливы». Я верю ему. Он трижды спас нас от смерти и позора. Он обязательно разыщет нас и спасет, чего бы это ему не стоило. Бог простил его за страшные злодеяния в прошлом. Простил и сделал праведником. Он спас жизнь многих людей, поэтому Бог не позволил ему и нам умереть и от этих черных стрел. Мы должны сохранить то, что в его мешках. Это ему еще пригодится.
– И мне пригодится, мама. Гудо так сказал. Он многому меня научил. Лучшего человека я не встречала и не встречу. Я так хочу, чтобы он жил. И… Чтобы он нас скорее нашел.
– На все воля Господа.
– И Гудо…
– Спи.
– Хорошо, мама.
Женщина и ее дочь умолкли и вскоре уснули.
Теперь сон напрочь покинул Джованни Санудо. В его голове возникли тысячи непростых вопросов. Бог продолжал посылать ему подарки. Вот только как решить, как разобраться к добру они или во вред.
Через час герцог наксосский тихо позвал:
– Арес.
От стены качнулось тело.
– Отыщи мешки этих женщин. Вынеси во двор и прихвати факел со стены.
Джованни Санудо при ярком свете факела долго и старательно раскладывал на весенней траве множество блестящих инструментов, баночек, горшочков, полотняных и кожаных мешочков, а так же бинты и неизвестные ему предметы. Отдельно он положил несколько книг и пергаментных свитков. Но при этом правая рука герцога наксосского до боли сжимала странный тонкий нож с длинной железной рукояткой.
И когда осмотр был закончен, Джованни Санудо кивнул странному ножу головой и тихо прошептал:
– Вот мы опять и встретились, мэтр Гальчини. Мне очень нужен этот Гудо…
Глава шестая
Был ли счастлив Гудо? Да был!
От этого ответа самому себе Гудо улыбнулся. При этом он и не заметил, как отшатнулись и едва не сбились с ритма гребли его соседи Весельчак и Ральф. За многие дни совместной работы на веслах они впервые увидели ожившее лицо их страшного товарища по банке. В его улыбке эти несчастные только разглядели изуродованные губы и торчащие по их краям уцелевшие клыки. Что им до мыслей и воспоминаний того, кого они считают безумным людоедом. Им никогда не объяснить, и даже рассказывать не стоит того, как был счастлив Гудо.
Не долго, всего-то несколько месяцев. Но этого хватило, чтобы понять – какое оно, счастье! Выстраданное, найденное и защищенное!
С кем бы из пленников острова Лазаретто не разговаривал Гудо, все к слову остров добавляли «наш проклятый».
Сейчас, вспоминая о недалеком прошлом, добровольный пленник острова в странных синих одеждах с тоской и нежностью прошептал: «Лазаретто»…
…– Старик, нам нужна крыша над головой.
Старик в некогда дорогой, изысканной и благородно белой тунике и укутанный в рваный плащ с лисьей подбивкой, усмехнулся:
– Я вижу, ты нашел свою женщину и…
– Эту девушку зовут Грета.
– Все на этой земле по воле Господа. И волосы отрастут, и мальчишечье тряпье женским платьем заменится. А если Господь пожелает…
– Пожелает, старик. Вот хлеб, а вот и мясо. Как быть с водой и вином?.. Пока еще не знаю. Но буду знать.
Старик со вниманием посмотрел на крепкого мужчину в странных одеждах, затем на женщину с ребенком и девушек, укрытых одним огромным синим плащом, и кивнул головой:
– Моя хижина – не самое достойное жилье на нашем проклятом острове Лазаретто, зато его хозяин – самый высокородный из обитателей этого клочка суши. Мое имя Энрико Пальмери. Здесь я по милости самого дожа Андреа Дандоло. И если вас не пугает личный враг дожа, то его жилище к вашим услугам. Прошу!
Порадовав свое тело вкусной пищей, к вечеру старик ожил:
– Странно Господь устроил внутренний мир человека. Еще утром я желал для себя скорой, а главное не мучительной смерти. А сейчас… Сейчас по моему телу разливаются приятные соки от сытой утробы. От этих соков размягчился мой окаменевший мозг, и вот я уже думаю о своем дворце Фондаки на Гранд канале[71]. Вы когда-нибудь плыли вдоль этого величайшего творения рук человеческих? Я так и думал. Вы чужеземцы, и понимаю далеко не благородных кровей. Ну, ничего. Может так случится, что я буду рад приветствовать тебя… Как тебя? Гудо?! И твоих женщин на мраморных ступенях моего дворца, достойного для проживания великих королей! Вот что сотворил ты со мной, Гудо. Накормил, и этой малостью дал пищу мозгу для мечтаний. Хотя я предчувствую, что мои кости останутся здесь, на нашем проклятом острове Лазаретто. А мой дворец отберут у моих детей ненасытные дожи и устроят в нем свои склады под пшеницу. Это из мести мне. А может все же у них хватит здравого ума и используют они мой дворец для величия Венеции[72].? Я жил, трудился и воевал во славу Венеции. А умру…
И старик обреченно махнул рукой.
– Как быть с водой? – не отрывая своего взгляда от Аделы, кормящей грудью младенца, спросил Гудо.
– С водой? Может, выпадет дождь. Тогда и наберем воды. У меня есть несколько кувшинов и тазов. Это все мое богатство. На дне одного из кувшинов есть еще два глотка воды, – со вздохом ответил благородный Энрико Пальмери.
– А если не будет дождя?
– Тогда станем на колени и поползем к тем дьяволам, что правят в помещении лекарни. Туда каждые три дня привозят несколько бочек воды, немного пищи и лекарства. Там заправляет негодяй Тьеполо и его разбойники. От них добра не жди. Совсем в своей гордыне свихнулись. Когда еще был жив отец Артензио, все было по другому, по совести и слову божьему. Но три недели назад святой отец не вернулся на наш проклятый остров. Я точно знаю, что он умер, хотя говорят разное. И с тех пор главным в лечебнице назначен сенатом Венеции Тьеполо. С таким же успехом можно было назначить и саму смерть. Впрочем, это одно и то же. Вот только смерть сразу разит человека своей холодной косой, а Тьеполи оттягивает время, чтобы вытащить из своих жертв деньги, драгоценности и полезные ему пожитки. А еще он за глоток воды и кусок каши пользует женщин, а тех, кто не обращается к нему за помощью – просто насилует. Для всего этого злодеяния Тьеполи собрал шайку разбойников себе подобных. Ты еще с ним обязательно встретишься. А может и уже повидал.
Гудо, молча, кивнул головой. Заметив этот жест, Адела отвернулась к занавешенной холстом стене.
– Оно бы еще ничего, – продолжил старик. – Вот только на нашем проклятом острове есть еще две три своры разбойников. Самая многочисленная и вечно грызущаяся между собой это моряки…
– Это они забирают передачи родственников на берегу, – нахмурился мужчина в синих одеждах.
– Это их главный промысел. Многие из них не венецианцы, и им не приходится надеяться на помощь друзей и родни. На этом острове до черной чумы была стоянка кораблей. Так что они считают этот клочок проклятой земли своей территорией. Когда был жив отец Артензио, все было по-другому, но и тогда старикам и женщинам жилось не сладко. А теперь и вовсе жизни нет. Из-за них стражники не пристают к берегу. С ними уже нельзя передать весточку родным и друзьям. Поэтому многие из них уже похоронили в своей душе и в сердце несчастных узников проклятого острова Лазаретто. И мне уже более двух недель не было передач. Хотя я уверен, что мой старший сын все еще прячется в самой Венеции и готов мне помочь. Как бы я хотел передать для него записку через благородных друзей.
– Пиши, – твердо сказал Гудо.
Глаза всех присутствующих с надеждой устремились на этого мужчину. Только в глазах Аделы кроме надежды была тревога, граничащая со страхом.
А еще… А еще Адела долго не ложилась спать. Наверное, женщина, к которой судьба была воистину немилосердной, радовалась тому счастью, что она и ее дети сыты. Что у них есть крыша над головой и старые матрасы, которые все же не холодная земля. Что есть несколько кусков тряпья и огромный, такой знакомый, синий плащ. А в них прижавшись, можно плотно укутаться. И тогда, впервые за множество дней можно спокойно проспать до самого утра, а не подниматься по нескольку раз, чтобы согреться ходьбой и бегом. А еще тому, что рядом с детьми спал огромный и сильный мужчина, от которого исходило тепло и уверенность в завтрашнем дне.
А еще… Этот мужчина не пожелает за свой хлеб и теплый плащ ее истерзанное тело. В этом она была уверенна, и за это бесконечно благодарила этой ночью необычного человека, которого ей послал Господь за перенесенные муки и страдания. Как и отца Артензио, разумно предложившего переодеть Грету в мальчишку.
Если бы только знала Адела, как долго этой ночью не спал сам Гудо. Он молился и благодарил Господа.
После полудня Гудо обратился к старику:
– Я иду на берег. Пусть мои дорогие девочки не покидают твое жилище.
Он оторвал от стены огромную и удобную жердину. Описал ею несколько кругов в воздухе и удовлетворенно кивнул головой.
– Безумец, – со вдохом произнес благородный Энрико Пальмери. – Их не менее двух десятков. Они тебя…
Увидев нахмуренный взгляд огромного мужчины в синих одеждах, он запнулся и умолк.
– Я вернусь. Все будет хорошо.
Уже в спину уходящему Гудо, Адела с тревогой и участием сказала:
– Возьми свой плащ.
– Укутайтесь в него поплотнее. Мне не придется долго мерзнуть.
Он вернулся через два часа. На камзоле в нескольких местах виднелись порезы и пятна своей и чужой крови. Его руки и лицо так же были в крови.
Гудо положил у входа свое грозное оружие и улыбнулся:
– Адела, это башмаки и накидка для Греты. Немного хлеба и кружок колбасы. Это благодарность тех, кто сегодня получил причитающуюся им одежду и пищу. А ты старик, будь добр, выполни мою просьбу. Ступай в лекарню и скажи, чтобы тебе дали воды и побольше бинтов. Тьеполо со своими людьми все видел. Не откажет. А когда принесешь, мы подкрепим свои силы и пойдем с Гретой на берег.
– На берег? – с тревогой воскликнула Адела, прижимая к груди столь необходимые для дочери башмаки.
– Надо будет помочь морякам. А Грете будет полезно узнать, как вправлять вывихи, складывать кости, сшивать и перевязывать раны.
– О, Господи… – только и выдавил удивленный Энрико Пальмери.
Гудо отвернулся, увидев слезы на щеках Аделы. Хотя это были счастливые слезы, вызванные тем, что башмаки пришлись дочери по ноге. Башмаки матери Грета отказывалась носить, боясь того, что босоногая Адела заболеет и погубит себя и младенца.
* * *
– Весла поднять! На рулях смотреть! Весла крепить! Обед раздать!
Для всех гребцов галеры это были самые ожидаемые и радостные приказы капитана. В след за ними раздались команды подкомитов и резкий свист их бронзовых свистков. Умолкли, наконец, опротивевшие на все оставшиеся годы флейта и барабан. Послышались торопливые шлепки босых ног несущихся по куршеи мальчишек-разносчиков. Палубные матросы, беззлобно ругаясь, полезли на мачты проверять крепление парусов. Послышались громкие голоса и даже смех.
Гребцы были рады возможности отдохнуть и хотя бы на короткое время успокоить свои вечно подсасывающие желудки. Радовался и Гудо. За множество дней он привык очень медленно и тщательно жевать маленькие комочки каши, запивая их водой. Он уже чувствовал, что рана в животе хорошо затянулась, но все еще не беспокоил кишечник грубой пищей. Поэтому сухари и кусочек солонины Гудо отдавал своим соседям. Те, в первые дни, удивлялись и даже отвергали подарки людоеда. Потом решили принимать эту пищу, как извинение за побои, а еще как компенсацию того, что им приходилось делить банку и весло с чудовищем в синей одежде.
Весельчак даже решил, сообщив шепотом:
– Потом, на острове его распотрошим.
И Ральф, размачивая в воде кусок сухаря, согласно кивнул головой.
Пять дней Гудо в полсилы работал на весле. Затем он убедился, что его раны на теле, а в особенности внутри него, в кишечнике, отлично зажили и зарубцевались. Теперь он греб во всю мощь своего сильного тела, давая возможность отдохнуть своим несостоявшимся убийцам. Те, в свою очередь, не поворачивая голов к соседу, принимали усилия на себя, если тот на некоторое время отдыхал, просто держась за весло.
Как бы ни было неприятным присутствие чудовища рядом с ними, но Весельчак и Ральф вскоре смирились с этим и даже не обиделись, когда вчера чудовище в синих одеждах само сжевало свой сухарь. Ведь оно честно заслужило эту радость моряка своим напряженным трудом.
Сегодня Гудо отдал свой каменистый хлеб соседям, а сам впервые после ранения съел несколько горстей отварных бобов.
Съел и укутал голову своим огромным плащом.
Ведь Гудо не хотел, чтобы его соседи и гребцы с ближайших банок видели улыбку на изуродованных губах. А не улыбнуться он не мог. Ведь он каждый раз улыбался, когда вспоминал тот день на острове Лазаретто.
…Это был солнечный день. На удивление безветренный, удививший даже чаек, которые многоголосно криком обсуждали эту диковинку на западном краю острова. Этот день еще нельзя было назвать весенним, но было настолько тепло, что несчастные узники Лазаретто сбросили с себя часть тряпья.
– Сегодня мы сварим бобы, – просто сказал Гудо.
Просто, обыденно, как будто это было и в правду просто и обыденно.
Из проема двери высунул голову благородный Энрико Пальмери. Высунул, покачал седой бородой и втянул ее обратно. А сидящие у стены хижины Адела и дети оторвали лица от ласкового солнца и улыбнулись Гудо, как доброму волшебнику из детских сказок.
Гудо пожал плечами и отправился на берег.
Вернулся он через час. На его правом крепком плече высился в обхват его руки деревянный бочонок, а в левой руке был большой парусиновый мешок.
– Адела, помоги мне.
Женщина с готовностью бросилась помогать снимать с плеча бочонок.
– Нет, – ласково остановил ее Гудо.
Без видимых усилий он поставил свою плечевую ношу на песок с выступающими камнями, а на крышку бочонка положил мешок:
– Нужно собрать у берега сухие водоросли и попросить у соседей что ни будь для костра. Мы дадим им немного воды. Старик, я видел у тебя в углу хижины, из песка торчит медное ушко. Уж не котел ли ты там закопал?
Из хижины боком вышел погрустневший старик:
– Котел. Ты глазастый, Гудо. А может я просто плохо прикопал свою драгоценность? Драгоценность благородного Энрико Пальмери – медный котел! То, что ты принес, ты выменял на него?
– Нет. Он нам нужен чтобы сварить бобы.
– Бобы? – растерянно развел руки Энрико Пальмери.
– У нас есть все что нужно. В бочонке вода. В мешке бобы, соль, травы. Еще хлеб, оливковое масло, уксус… Да много чего!
– Ты святой! Слышишь Гудо, ты святой! – воскликнул старик, а затем в сомнении закачал головой, – А может мне все это сниться? А может за все это ты вырезал пол Венеции?
– Нет, – чуть дрогнул губами «святой». – Это прислал твой сын Сильверо. А это письмо от него. Мне пришлось дать стражникам два коленопреклоненных дожа[73], чтобы они доставили твое письмо по назначению. Так что мы имеем право на часть твоей посылки. А вот и ответ от сына…
Старик с неожиданным проворством выхватил бумажную трубку из руки Гудо. Его губы задрожали, а глаза помутнели:
– Все это твое, Гудо. Ты вернул мне не только жизнь… А-а-а…
Старик отбежал в сторону и развернул бумагу. Его лицо светилось тем же теплом и добротой, что и солнце в этот день.
Светились лица и у хлопочущих над костром Греты и Кэтрин.
Прикусывала нижнюю губку, все еще не веря в происходящее, хозяйничающая Адела. Она часто перекладывала в мешке множество горшочков и мешочков, развязывала и завязывала их. А потом отсыпала и отливала из них по самой малости, затем слушалась Гудо и опять и опять отсыпала и отливала необходимое в парующий котел над потрескивающим пламенем. Адела часто оборачивалась к сидящему у стены Гудо, с младенцем Андресом на коленях. У нее было сотня вопросов. А потом когда они закончились, она все равно продолжала оборачиваться и смотреть на мужчину, старательно, хотя и очень неумело, качающего и без того уснувшего ребенка.
А этот странный во всем мужчина смотрел на нее и, памятуя о своем лице, пытался не улыбаться ей. Но сдержаться Гудо не мог. Хоть руками держи эти проклятущие губы. Хотя и это невозможно, ведь руки были заняты младенцем. Вот и плыли эти жуткие нитки как им хотелось, устрашая и без того ужасное лицо.
Только женщина все продолжала и продолжала оглядываться на Гудо. Оглядываться и улыбаться. Улыбаться ему, тому, от кого отворачивались все. Отворачивались бы и камни, но они не имели глаз. А у нее глаза есть. Добрые, милые, притягательные глаза. Глядя в них, даже камни улыбаются. И не важно, что у них нет глаз.
* * *
– Эй, как тебя зовут?
Этот вопрос прозвучал так неожиданно, что даже Гудо, вслед удивленном Ральфу посмотрел на вопрошавшего Весельчака.
После долгой паузы Гудо тихо ответил:
– Зови меня «Эй». Так меня звали многие годы. И тебе будет так легче запомнить.
– Мы не будем тебя убивать. Ты и так долго не проживешь. Может и наш конец близок. Ты, наверное, спал и не слышал, что сейчас говорили между собой этот дьявол Крысобой и капитан?
Гудо отрицательно покачал головой.
– Завтра мы будем у Пароса[74]. Всех невольников-гребцов загонят в пещеры горы Марпес. Им нужны камни для укрепления стен и башен крепости. Я слышал, в тех пещерах живут страшные чудовища…
– Страшнее человека я не встречал чудовища, – промолвил Гудо.
– Это точно, – расхохотался Ральф.
На смех соседа людоеда прибежал один из помощников Крысобоя. С соседних банок приподнялись гребцы невольники.
– Этот рассмешил, – указал рукой Ральф на соседа в синих одеждах.
Подкомит пожал плечами и, помахивая плетью, ушел на нос галеры.
– Дружище Весельчак, зачем ты говоришь это людоеду, которому наш герцог обещал ад на земле? Для него пещеры – это сад райский. Мне даже представить страшно эту рыбацкую сеть и торчащие из нее окровавленные куски мяса. Б-р-р-р. Я бы сам себя удавил, чтобы в ней не оказаться. И где это такое герцог увидел? А может до того, как набросить на грудь герцогскую цепь он был палачом? Вид у него и впрямь, как у палача. Без содрогания и не взглянешь.
Гудо сбросил с головы капюшон и посмотрел, как высоко в небе парит сокол-рыбак.
Что отделяет человека от человека-палача? Какая каменная или бумажная стена? А может, роднит? Ведь в каждом живет частичка палача. Даже не ранивший другого человек, – человек все же палач. Ведь просто, чтобы питаться, человек должен убивать. И не суть важно кто его жертва – олень, корова, свинья или курица. Чтобы добыть мясо нужно убить. Убивают женщины, чтобы накормить своих детей. Убивают палками птиц и зайцев дети, не подозревая, что их игры и развлечения – это подготовка к взрослой жизни, в которой каждый должен быть готов убить, чтобы накормить себя и близких ему людей.
Конечно, другое дело это убийство человека. Не каждую руку поднял для этого смертного греха сатана, но и не так уж и много остановил Господь. Убивали люди людей на войне и в пьяной драке, на большой дороге за несколько монет. Убивали, приревновав жену к соседу, убивали из мести и даже чтобы получить в наследство железную лопату. Большинство убийц такими стали случайно. Другое дело особые люди – воины и палачи. Они убивают, потому что это их работа. Только воины для того чтобы убить сражаются и рискуют собственной жизнью. Палач же ни чем не рискует. Ведь за ним закон, а перед ним жаждущая зрелища толпа.
Не так уж и сложна на первый взгляд, и достаточно оплачена работенка палача. Но редкий человек не обидется, если его назвать палачом. Тем, кто законно и публично отнимает жизнь у себя подобного. Кто не вытрет брызнувшую на его лицо кровь и не зачахнет от кровавых пятен на совести.
Кто же становился палачом? Кто добровольно пятнал свою совесть? И всегда ли добровольно ли?
Да еще можно понять, когда мастерство палача передается от отца к сыну. Это наследственное дело, когда у сына нет другого выбора. Он презираем и отчужден от рождения. Его не примут ни в один из ремесленных цехов. Сын палача не женится на девушке из обычной семьи. Его будущая жена – дочь палача, могильщика, живодера, а то и вовсе шлюха. Как говорится – трудно жениться королю, а сыну палача еще труднее. Первый не ведет под венец кого попало и кого желает, со вторым не идет та, которую он желал бы.
Трудно понять тех, кто ищет выгоды и привилегий от городов и властителей. Тех, кто спасает свою жизнь, согласившись отнять чужую. Тех, кто становится палачом в силу вековых традиций и местных обычаев. Например, как последний из жителей, поселившийся в городе. Или как в Швабии – последний избранный городской советник. Или, уж совсем уму непостижимо, как последний женившийся. И такое придумали во Франконии. Множество может быть принудительных обстоятельств.
Но понять, почему человек добровольно становится палачом – это не возможно. Как и тех, кто страстно и увлечено интересуется пытками и казнями. А особенно тех, кто дружит с палачами.
Таких людей Гудо знал. Он тяжело вздохнул и сказал:
– Увидеть не мог. Это очень древняя казнь, о которой забыли. Но слышать – он слышал. И только от одного человека. Нет не человека – демона! Я знал его…
– А я думал ты единственный демон на земле, – усмехнулся Весельчак.
– Каждый человек наполовину демон, наполовину ангел. И то, что в нем побеждает, то он и есть на этот миг. Сегодня он радуется рождению своего первенца, завтра он же разбивает голову о камни ребенку своего врага. Только что он страстно молился у алтаря Господу, а через мгновенье ломает его, чтобы украсть драгоценные рубины – кровь Христа. Он получает раны, защищая своих родных и близких, и тут же бежит от них прочь, узнав о том, что их настигла чумная болезнь. Здесь – человек добрый христианин, любящий отец и муж, уважаемый человек, а через шаг – вор, убийца и насильник. Мудрецы говорят, что нет добрых и злых людей. Есть обстоятельства, в которых человек проявляет свою сущность. Но это не так. Человек сам выбирает, кем ему быть. И это бывает страшно. Нет, кровавей битвы, чем сражение с самим собой!
Гудо устало натянул на свою огромную голову синий капюшон. Скоро подадут команду, и галера полетит к острову Парос, где выбросит своих гребцов в пасть страшных пещер. Только не об этом сейчас думал Гудо. Он сейчас был не среди волн Греческого моря, и ему уже не были слышны слова Ральфа:
– Мне кажется он не совсем сумасшедший.
– Наверное, людоеды тоже бывают мудрецами, – с усмешкой ответил Весельчак.
* * *
Слова, слова, слова…
Давно Гудо не говорил так много слов. Но о чем они, и прав ли Гудо, произнося их? И зачем он говорил людям, которым в лучшем случае не было дела до него и им любимых людей.
Просто кто-то говорил его голосом. Говорил после того, как ему припомнился странный вечер в подземелье Правды….
– …Эй, возьми эту кружку. В нем крепкое вино. Славное вино. Дорогое! Ты удивлен? Ты еще не видел мэтра Гальчини пьяным? Смотри! Вот Гальчини каков. На самом деле все девять прошедших лет, когда ты был здесь… В один и тот же день… Один раз в году… И больше никогда. Ни вина, ни медовухи, ни даже пива! Нет, нет, нет… Все девять лет в этот день я уходил из подземелья, чтобы в одиночестве помянуть… Запомни этот день – Восемнадцатое марта!
В этот день на костер взошел самый великий из людей. Его звали Жак де Моле[75]. Ты узнаешь, кто этот человек, когда покинешь подвалы подземелья Правды. Да, да! Через два месяца я умру. Еще через полгода ты станешь свободен и будешь предоставлен сам себе. Знай, там за порогом подземелья Правды тебе не станет легче. Ибо на твоих плечах две тяжелейшие ноши: от Господа – проклятие, и от меня – знания. Ты будешь чувствовать себя хорошо, только если эти две чаши будут в равновесии. И только так.
Ты и не злой, но и не добрый. Ты не ангел, но ты и не демон. Ты не тупица, но и не гений. Ты не господин, но и не раб.
Ты все это вместе. Все это сваленное в одно корыто под названием жизнь, перемещенное и запеченное. На всем этом толстая корка, через которую ничего не видно, но под которой все бурлит и вызревает. И я уж не узнаю, каков этот запеченный хлеб. На пользу ли он людям, или отрава для их тела и души. А любопытно было бы посмотреть на тебя лет этак…
Ладно, это все слова, слова, слова… Но при помощи их можно зачать ребенка, а можно и убить человека. Слова закона сожгли Жака де Моле, а его слова проклятия убили короля и даже папу Римского[76]. Слова много значат, но часто за ними ничего и нет. Часто произносят слова, как клятву. И часто понимают, что клятва это всего лишь слова, которые бессильны перед обстоятельствами…
Мэтр Гальчини… Вспомнив его сегодня, Гудо уже внутренне не содрогнулся. Его весы медленно, но приходили в равновесие. Для этого понадобилось множество дней и ночей. Дней и ночей, которые проведены в диалогах с самим собой, в долгих и многочисленных воспоминаниях, в коротких, но очень ярких мечтаниях о неминуемо счастливом скором будущем. Это все были лекарства и снадобья от тяжелейшего состояния, в котором оказался Гудо, позволивший себе расслабиться и от того не успевший защититься от очередного жестокого поворота судьбы. Это были лекарства, придуманные самим Гудо и способные вылечить только самого Гудо. Особенно полезным были снадобья, в котором присутствовали Адела и дети.
О, если бы только можно было вычеркнуть из памяти неприятное и болезненное, что тянулось из мрачного подземелья. Тогда бы было больше времени на доброе и оздоровительное. На то, что заставляет сейчас Гудо готовить свое тело к скорым испытаниям, а разум к быстрому и правильному решению всяческих проблем. В том числе и тех, которыми судьба, повинуясь тяжести проклятия, еще непременно и жестоко ударит в самый неожиданный момент.
Что поделать, когда прошедшая жизнь преследует Гудо сотнями проклятий тех, кого он убил, изнасиловал, ограбил и избил. Все эти проклятия были услышаны Господом, собраны в один могучий кулак, и отданы судьбе Гудо, как оружие возмездия. Оружие, которое бьет наотмашь и в самое неподходящее время. Наверное, его невозможно остановить, так как уже не вымолишь прощение у мертвых, не повстречаешь униженных и оскорбленных живых. Но эти удары судьбы можно и должно смягчить. Во имя тех, о ком думает Гудо, о ком заботится, и с кем мечтается быть рядом до конца своей жизни.
Оставив за спиной пылающий Витинбург, Гудо дал слово Господу и самому себе – чтобы не произошло, чтобы не случилось, не убивать людей и не причинять им зла. А еще помогать больным и обездоленным. Всем конечно не помочь, но каждое их доброе слово может притормозить и смягчить кулак проклятия.
Дал слово и многие годы не нарушал его. И не нарушил бы. Вот только не хватило Гудо слов, чтобы убедить несчастных моряков на берегу острова Лазаретто оставить свой разбойничий промысел. Направить свои усилия и помыслы на наведение порядка, а так же на окончание строительства лечебницы. Только так можно получать помощь и от родственников, и от властей Венеции. Показать и доказать всем, что пребывающие на острове – не заживо похороненные, а всего лишь пребывающие в карантине, по истечению которого они могут вернуться в семьи и к труду. И первое это то, что ответственные за карантин должностные лица должны безбоязненно ступить на землю Лазаретто. Ступить и увидеть здоровых, трудолюбивых и достойных людей, а не шайку нищих и грабителей, которым лучше сгнить на проклятом острове.
Очень трудно заставить прислушаться тех людей, которые уже стали рабами воющего пустотой желудка. Их мозг – это голодная утроба. Можно ли их винить за это? Конечно, нет! Но вернуть мозг на место – да!
И пусть это жестоко. И пусть это немилосердно. И пусть порадуется сатана тому, что Гудо нарушил данное Господу слово. Но то, что сильное и умелое в обращении с дубиной чудовище в синих одеждах навело порядок на берегу – польза всем несчастным узникам проклятого острова Лазаретто. Польза тем, кого еще привезут на холодный песок карантина. Польза самому Гудо. А главное – это путь к спасению Аделы и детей.
Но сколько бы ни придумать оправданий, а вот оно то, что в действительности есть – слова клятвы нарушены!
Господь лишь слегка качнул головой, и судьба опять сбила с ног несчастного Гудо. Именно сбила с ног, опрокинула на спину и наступила тяжелой ногой гнева. Ведь могла же лодка пристать к другому кораблю, капитан которой добрый христианин и справедливый человек. Хотя…
Можно ли такого сыскать в страшное, жестокое время, когда человек, засыпая, радуется, что прожил этот день, и совсем не уверен, что встретит завтрашнее утро. Когда, отправляясь в дальний путь по торговым делам, купец просит священника отпустить все его грехи, ибо в дом родной он может и не вернуться. Когда дети, не послушав наставления старших, выбегают поиграть в душистых лугах за городской стеной и навеки пропадают для семьи и близких. Когда, томимый жаждой путник может выпить воды из придорожного колодца, а на вечер умереть в жестоких болях и страданиях.
А разве мало бывало случаев, когда пилигримы, отправляясь на святую землю, платили золотом и брали клятву с капитана, а высаживались в жарких землях Африки уже рабами? Разве не говорили тогда святые странники друг другу: утром честный капитан, вечером – пират!
И все же мир не без добрых людей. И многие искренне молятся Господу, и призывают свою судьбу быть добрее с ним.
Гудо молился часто, еще чаще просил свою судьбу быть чуточку добрее. Так верилось – случится счастье… Но из нескольких десятков кораблей, стоявших на рейде в лагуне, судьба выбрала галеру страшного демона – герцога Санудо. И поделом Гудо! Не греши! Ибо клятвоотступничество – грех великий!
А ведь если предаться философии, то клятва – это всего лишь слова, слова, слова…
* * *
Джованни Санудо намеренно не ступил после захода солнца в пределы столицы еще недавно могучего Эпирского деспотата[77], а сейчас – местопребывание его захватчика и владыки, короля сербов и греков Стефана Душана.
К такому государю, как Стефан Душан, нельзя явиться в потемках и постучаться в двери. Конечно, он впустит во двор. Впустит и укажет с вечерней зевотой на кучку сена в углу сарая. А то и еще хуже – разведет руками и скажет: «Видишь, сколько вокруг меня, таких как ты, набежало. Чего они от меня желают, что мне с ними делать – ума не приложу. Растолкай себе место между ними и ложись спать. А там, утром… Нет, лучше завтра… А еще лучше…»
Какой интерес королю, по прозвищу Сильный, перед которым склоняют головы соседи короли и даже император Византии, с которым вежливо говорит сама Венеция и не смеет укорять сам папа римский, до какого-то герцога с каких-то островов. Тем более, что первый из рода Санудо принял герцогскую цепь, сидя на купеческой скамье. На это не раз указывали Джованни Санудо сильные мира сего. Непременно укажет и круль сербов. Когда будет разгневан. А он непременно будет разгневан, когда узнает, что с ним настойчиво желает говорить герцог наксоксский. Поэтому нельзя просто постучаться в дверь на ночь глядя, имея виды на грандиозное будущее. Нельзя сразу оказаться в числе всех прочих гостей. Нельзя быть облезшим котом, нырнувшим в чуть приоткрытую хозяином дверь.
А гостей должно быть много. Ведь Стефан Душан объявил большую королевскую охоту. Объявил еще зимой и с большим умыслом!
С одной стороны это действительно охота – любимейшее, кроме войны, занятие и увлечение благородных правителей. И на каких еще землях подвластных королю сербов и греков ей состоятся, как не в богатейших горах Эпира. Только в этих горах, густо поросших лесом и кустарником, пронизанных сотней речушек и ручейков, изобилует такое количество зверья и дичи, что куда не выстрелишь из лука – попадешь в птицу или мелочь пушистую, а куда не брось копье – угодишь в медведя или оленя. Только здесь есть места, где волк с удивлением остановится при виде сидящего на коне человека, где лисы не слышали заливного лая охотничьих собак, а рыбы в тихих озерах столько, что можно ловить руками.
Ни в каких других горах и лесах Греческого полуострова не осталось столь изобильного места для охоты. Постоянные войны, нашествие чумы и, как последствия их, – голод, уже почти полностью истребили дичь и на равнинах Фессалии и в горах Парнаса, и на Аркадийской возвышенности, и на холмах Мессении, и даже в лесах Македонии.
Только суровые и малодоступные горы Эпира сохранили свои богатства из-за малочисленности населения и непригодности ее ландшафтов для перемещения войск и сражений.
Но главная в этой охоте вторая сторона – главенствующая, политическая!
Когда на охоту зовет государь, владеющий почти всей Грецией, опытный военачальник, под рукой которого огромное, испытанное в боях войско, властолюбец, хищно посматривающий на соседние земли, гордец, советчик которому только Бог, то волей-неволей приходится ехать в дальние земли, чтобы попытаться все разнюхать и узнать. А еще лучше пристроить нос по ветру и не ошибиться в выборе друзей, и не попасть в число врагов тех, кто может стереть с лица земли и память о глупце, поленившегося явиться на великую королевскую охоту.
Так что лучше подождать в лесу до утра, а там, как Бог подскажет.
Тем более, что никто не торопит герцога наксосского. Все сопровождающие Джованни Санудо, как будто в предчувствии больших событий, решили отдаться отдыху в лесу недалеко от реки, за которой располагался город Арта. Более того, благородная часть сопровождающих, с подачи легкой удачи властелича Стешко, уселась возле большого общего костра.
Сам Стешко, будучи уже два дня, после ночи в Айхо, навеселе, устроил пирушку от щедрот селян, а точнее селянок, оставшихся довольными пребыванием гостей в селении. Он то и дело приносил от своей повозки варенное и копченое мясо, лепешки, сыр и, конечно же, вино. Это давало ему видимое право нависать над молчаливыми девушками Джованни Санудо и беспрерывно призывать их к веселью.
Он даже положил ладонь на плечо старшей из них. Но тут же рука властелича была силой отстранена сидевшим рядом молчаливым «каталонцем». Шаг к сербу сделал и закованный в железо Арес. Стешко тут же вспыхнул, но, встретив твердый взгляд рыцаря и оценив готовность телохранителя герцога, виновато улыбнулся. Что-то сказав на своем языке, Стешко отправился за новым кувшином веселящего напитка.
«Чисто молодые петушки из-за курочки, – усмехнулся Джованни Санудо. – Знали бы они, из каких кровей эта курочка. Вот смеху-то было»…
Вернулся Стешко, как ни в чем не бывало, и, налив вина в кружки всех желающих, уселся напротив Греты:
– Четыре года назад мой отряд стоял на этом же месте. Византийцев с их наместником Никифоросом от нас отделяли лишь воды Арахтоса. Завтра мы перейдем эту реку по знаменитому мосту, по которому я первым бросился в бой за нашего круля.
– Так вот чем знаменит этот мост, – с усмешкой произнес бородатый «каталонец».
Стешко крепко сжал рукоять меча и зло блеснул глазами. Он что-то опять произнес на своем языке, отпил вина и, стараясь сохранить равновесие в голосе, ответил:
– Я просто воин нашего великого круля. А мост знаменит тем, что он единственный на Арахтосе. Говорят, что эта река была создана древними богами, чтобы ни один из тех, кто попал в подземное царство мертвых, не мог вернуться к живым. И живым она не позволяла заглянуть в мир теней. Ее непредсказуемые воды лишили жизни многих глупцов, желавших похвастаться тем, что говорили с мертвыми.
– Бог един! – громко воскликнул священник. – И негоже христианину вспоминать об идолах язычников.
– Оно верно, – сразу же согласился сербский властелич. – Только я хотел сказать об этом мосте…
– Говори! – все с той же усмешкой предложил бородатый рыцарь.
Серб скрипнул зубами, но увидев, что лица всех присутствующих повернуты в его сторону, тут же улыбнулся:
– Было такое. Арахтос не терпел мостов. Коварная река ждала, пока люди соединяют ее берега. Она даже позволяла некоторое время переходить себя. Но не долго. Только один день. Ночью ее бурный поток сметал мост. И не важно из чего его возводили. Из дерева или камня. Утром река спокойная, а моста как не бывало. Так было до тех пор, пока на берега Арахтоса не пришли могучие римляне. Они решили Арту сделать торговым городом. Ведь он лежал на перекрестке многих торговых путей. Но для этого нужен был мост. Они согнали тысячи людей. Сотни из них утонули или были убиты римлянами, разгневанными неудачами. Но построенный мост каждую ночь разрушался. И тогда к римлянам пришел седовласый старик, потомок додонских жрецов[78]. Желая спасти множество жизней своих земляков, он выдал тайну реки…
В горле Стешко от долгих слов пересохло. Он встал, чтобы принести из повозки полный кувшин.
– А какая тайна у реки?
Серб тут же уселся на место. Впервые за три дня путешествия старшая из девушек нарушила необязательное для нее молчание. Ее нежному, мягкому голосу улыбнулись все сидящие у костра. А еще тому, что она так странно говорила на венецианском языке. Странно и неправильно, но понятно для всех.
– Тайна?
Стешко выпрямился. Теперь все смотрели на него. А более всех любопытством горели глаза девушек. При других обстоятельствах он бы потребовал за продолжения своего рассказа, как самое малое, поцелуй. Молоденькие девушки любят россказни о страшном и таинственном. А Стешко любит и умеет рассказывать. Так что поцелуй – это малая плата за его умение. Если бы не эти проклятые «каталонцы», священник и герцог со своими закованными в железо псами, он бы и вина в девушек влил, и рассказал, что повеселее и полезнее для тела…
– Это тайна древних богов. Это были злые боги, трепетно оберегающие свои тайны от смертных. И только жрецы Додона могли проникнуть в них. Но и жрецы оберегали тайны богов, страшась их кары. Но римляне были злее богов. Их кара настигала строителей моста сразу же после его обрушения. Чтобы спасти многих, жрец решился предать богов…
Стешко опять встал, оглядываясь на свою повозку.
– Тебе, серб, на ярмарке сказки сказывать. Говори, в чем тайна и тогда уж иди за вином.
Властелич хмуро глянул на опьяневшего рыцаря бородача и не довольно вздохнул. Стоя и не отрывая глаз от старшей из девушек, он закончил рассказ:
– Жрец сказал, что река позволит стоять мосту, если в каждый из ее каменных опорных быков замуровать девственницу. Живую! Говорят, что когда по мосту проходит девственница, души замурованных просят ее спеть песню, чтобы освободит их из каменного плена.
– А какую песню нужно петь? – живо поинтересовалась младшая из девушек.
– Не песни петь, а молиться нужно Господу нашему Вседержителю. Не слушать глупых россказней на ночь, а семь раз по три раза повторить Pater noster. А целомудренной девушке еще нужно вознести молитву Деве Марии, оберегающей ее девственность, – громко и поучительно произнес священник.
Он помолчал и уже мягче продолжил:
– Девушка всегда должна иметь в душе образ Богоматери. Только тогда она будет чиста помыслами и полезна своему будущему мужу. Будьте верны Деве Марии, и тогда она поможет в трудное время, послав вам в помощь двенадцать своих служанок. Их имена хорошо знакомы благочестивым женам: Умеренность, Замкнутость, Стыдливость, Внимание, Благоразумие, Робость, Честь, Усердие, Целомудрие, Послушание, Смирение. И старшая из них – Вера!
Мне были по сердцу ваша скромность и молчаливость. Это признак благородного воспитания. Сказано в святых письменах: «те девушки, которых в детстве не учат быть молчаливыми, вырастают лживыми, что приводит к разрушению дома»…
– Убором женщины молчание служит! – вдруг выкрикнул изрядно охмелевший Юлиан Корнелиус.
Священник неодобрительно глянул в его сторону.
Лекарь смутился, и пробормотал:
– Это слова самого Аристотеля[79]. Самого мудрого из живших!
– Сказано в Писании: «Если кто из вас думает быть мудрым в веке сём, тот будь безумным, чтоб быть мудрым. Ибо мудрость мира сего есть безумие перед Богом».
Юлиан Корнелиус посмотрел на строго произнесшего эти слова священника, потом на нахмурившегося герцога и смиренно склонил голову:
– Это всего лишь слова из книги о древних мудрецах.
И на это у достойного слуги божьего был достойный ответ:
– Сказано: «Составлять много книг – конца не будет, и много читать – утомительно для тела. Выслушаем сущность всего: бойся Бога и заповеди Его соблюдай, потому что в этом все для человека!»
– Это тоже сказано в книге. В священной книге Екклесиаста. Стих двенадцатый, – глухо пробормотал ученый лекарь.
Джованни Санудо в сердцах сплюнул.
Священник же сложил руки у чрева своего и тихо сказал:
– Говорил пророк Исайя: «Горе тем, которые мудры в своих глазах и разумны перед самими собой!»
* * *
– Трогай, – громко велел Джованни Санудо и по корабельной привычке махнул рукой.
Знаменоносец поднял выше большой герцогский знак и затрубил в рог.
Напряглись и зафыркали кони, лязгнул металл оружия и доспехов, заскрипели дощатые колеса повозок.
– In nomine Patris, et Filii, et Spiritus Sancti[80]! – громко воскликнул священник, благословляя, хотя и короткий, но путь.
«И это путь. Опять путь. Вечный путь. От колыбели до могилы. Шагать, шагать, шагать…»
Джованни Санудо провел рукой по лицу. О чем это его мысль? Что-то засело в его голове. Когда? Да, когда?
Герцог оглянулся.
Действительно, это то, чего и желалось. Несмотря на личную скудость средств и возможностей, въезд в Арту герцога Наксосского будет выглядеть подобающе. Все же герцогский стяг, три повозки, закованные в броню Арес и Марс (которых можно принять за рыцарей), два истинных рыцаря «каталонца» со своими значками на копьях, священник, конные и пешие воины. И пусть конные воины это сербы Стешко. И пусть они сразу же после въезда в город отделятся. Но они пока есть в колонне, и это будет замечено теми, кто обязан следить со смотровой башни за пребывающими гостями.
Ах, да! Еще две прелестные и благородные (Джованни Санудо широко усмехнулся) девицы на выданье. Еще кормилица с младенцем…
Герцог тут же нахмурился. Младенец… Испорченный младенец. Проклятое чудовище в синих одеждах вырвало дитя из планов Джованни Санудо. На что теперь пригодится младенец с таким видимым изъяном? Ладно, время покажет.
Воспоминание об испорченном мальчонке заметно подпортило настроение герцога, но следующая мысль заставила Джованни Санудо сжать кулак. Он вспомнил то, что занозой застряло со вчерашнего дня в его мозге. Точнее несколькими занозами. Нет, не слишком и болезненными, но все же раздражающими.
…А началось с того, что в полдень походная колонна Джованни Санудо вышла из чащобы леса на открытую поляну. Просто черный лес разжал свои объятия, расступился вековыми стволами, поросшими мохом, поклонился густо сплетенным кустарником, и уступил свое мрачное гостеприимство светлым краскам открытого пространства.
Невелико оно это открытое пространство. Но после темных серо-зеленных тонов бесконечного леса, салатовый от щедрот солнца травяной ковер поляны радовал глаза не только мягкостью цвета, но и изобилием первых цветов, что искорками переливались под нежным ветерком. Эту красочность не портили несколько узких дорог, расходящиеся в три стороны от небольшой каменной стелы, оберегающей эту развилку.
Этот каменный столб был так стар, его пористая, черная поверхность казалась старше самих гор. Будто эта стела не была воздвигнута волей и руками людей, а сама поднялась из недр земных еще до того, как стали расти сами горы. Время, ветра, дожди и снега округлили ее грани и изрядно подпортили верхушку столба, но глубоко высеченный в теле стелы рисунок был весьма заметен и понимаем.
– От этого столба пойдем направо! – громко воскликнул едва державшийся на коне и никак не трезвеющий Стешко.
– Это не столб! – так же громко воскликнул также хмельной Юлиан Корнелиус, – Это охранник перекрестков в античной Греции. Это Герма[81]. Статуя! Я видел ее на картинках в древних книгах, что были доступны студентам в хранилищах университета. А видел и запомнил, потому что… Посмотрите. Все посмотрите! Вы видите, какой у него высечен огромный и возбужденный фаллос! Если прикоснуться к фаллосу бога, то будешь весь путь под его защитой.
Ученый лекарь, то ли под действием вина, то ли от того, что вспомнил бурные студенческие годы, соскочил с коня и подбежал к каменному столбу. Он тут же положил руки на срамное изображение и, повернув голову, радостно сообщил проезжающим:
– Теперь с нами удача и защита древних богов.
– Стыдись, сын мой! – гневно воскликнул священник. – Ты прикасаешься к идолу. Тьху, тьху! Изыди он в пекло.
– На тебя девицы смотрят, – хмуро отозвался с седла бородатый рыцарь-«каталонец».
– Эй, лекарь! Конь убежит травку щипать, – весело засмеялся Стешко.
Юлиан Корнелиус поспешно догнал своего идущего в строю коня и проворно вскочил в седло. Ему хотелось говорить. Вернее вину, бурлящему в его теле:
– И никакой это не идол. Слышите, святой отец? Это преклонение давних народов. Я бы сказал обожествление мужского органа. Древние ученые мужи указывали, что только тот, у кого большой и сильный фаллос может стать правителем достойным царствовать над своим и другими народами. И напротив! В сарацинских книгах говорится о том, что есть племена черных людей, в которых вождей убивают, если они не могут удовлетворить за раз трех женщин! Еще хуже тем, кто оскоплен. Их и в войско не берут, и за общий стол не сажают, и в храм не пускают. Смешно. Да?
– Нет, сын мой, не смешно. Язычники, не познавшие слова божьего, – единственно откликнулся священник.
– Язычники! – рассмеялся Юлиан Корнелиус. – Да в Библии… Если я не ошибаюсь, во Второзаконии сказано: «У кого раздавлены ятра, или отрезан детородный орган не может войти в Царство Божье». Тот даже с Богом говорить не может!
Стешко так же рассмеялся и протянул ученому мужу кувшин с вином:
– На, лекарь, выпей вина! Чтобы у нас и сыновей наших были каменные фаллосы. Смотри! Стоят ведь века и стоять будут эти… Как их?
– Гермы, – с трудом тогда оторвался от кувшина Юлиан Корнелиус…
Вспомнив вчерашний полдень, Джованни Санудо твердо решил:
«Проклятый лекарь. Глупец и болтун. Такому не стоит доверять… Только тот, у кого большой и сильный фаллос может стать правителем достойным царствовать над своим и другими народами… Ничего не стоит ему доверять. Ни тело свое, ни мысли. От него нужно избавиться. А еще? Да, еще…»
Нужно было разобраться и с другими занозами. Более задиристыми, и оттого более мучительными.
…Уже через несколько часов после светлой поляны на узкой горной дороге, путь Джованни Санудо преградило множество повозок, на которых и вокруг которых было более сотни вооруженных топорами и копьями мужчин. Все они, несмотря на теплый весенний день, были в бараньих полушубках и высоких овчинных колпаках. Их лица с характерными длинными усами и бритым подбородком выражали холодную решимость держаться дороги и не сделать шага назад.
Из повозок густо, как гроздья винограда, выглядывали женские и детские головы. Их масленые глаза также не предвещали ничего хорошего. Казалось, крикни кто-то из этого застывшего на дороге племени овечьих шкур, что-либо крикни, и мужчины в ледяном безмолвии станут колоть и рубить встречных путников, а их жены и детишки тут же примутся снимать с раненых одежду и добивать их ножами.
– Арнауты[82], – почему-то шепнул герцогу Стешко, и оглянулся на своих всадников, – Много их. Придется уступить дорогу.
Джованни Санудо вспыхнул:
– Слон не уступает дорогу муравьям.
– Не знаю, кто такой слон, но в наших краях говорят, что только глупый медведь с муравьями сражается. Мы их пропускаем на всех дорогах. Пусть идут куда желают. Так их меньше на западной границе. Меньше, а значит спокойнее. Дикие люди, и нравы их дикие.
– Но голова у них есть на плечах. Они не слепые и видят мой благородный флаг.
– Не уступят. Они, как горная река. Расшибается о камни, бурлит, крутит, но не останавливается.
– Арес, Марс! – подозвал герцог наксосский. – Пусть попробуют эти камни.
– О, Господи! – вмиг протрезвел Стешко.
– Постойте, постойте! – воскликнул также протрезвевший лекарь. – Там всадники. И кажется благородные!
Медленно раздавливая густую толпу, из-за повозок выехало несколько всадников в богатых одеждах. Они издали помахали своим флагом и, дождавшись сигнала знаменоносца герцога, пришпорили коней.
Вскоре они остановились в пяти шагах от Джованни Санудо.
– Я правитель Мореи[83] Мануил.
Услышав достойное уважения имя, герцог склонил голову:
– Джованни Санудо. Герцог наксосский.
– Наксосский? – явно потешаясь, призадумался Мануил. – Это… Это… Да, да! Припоминаю. Острова, острова, острова. Что же вы здесь делаете? Среди гор? Здесь морские свинки[84] не водятся. И здесь, конечно же, не море, чтобы спокойно разойтись двум кораблям. Младший уступает дорогу старшему. Наверное, даже на островах знают, что деспот Мануил сын византийского императора. Ему и первому дорога.
Джованни Санудо нахмурил брови. Этому молодому правителю Мореи было не более двадцати пяти, может, чуть старше лет. Но слава о нем как о великом воине и правителе, облетела средиземноморье. Второй сын византийского императора Иоанна Кантакузина и Ирины Асень, правнучки величайшего из болгарских царей Ивана Асеня, Мануил за несколько лет навел порядок в землях Пелопоннеса.
Эта земля, некогда непобедимых спартанцев, была совершенно опустошена. И не только турками, которые, уже имея значительный флот, беспрерывно атаковали берега, но и христианами Ахайи, с севера нападавшими на владения своего господина. По сути на Пелопоннесе шла междоусобная война тех, кем Мануил назначен был править.
Города опустели. Неукрепленные селения были полностью сожжены и разграблены. Каждый убивал каждого. Греки, славяне, цыгане, валахи, албанцы резали друг друга и радовались, если соседнее селение ночью уничтожили безжалостные турки.
Скорее от безвыходности и отчаяния византийский император отправил в эти кровавые земли своего сына. А оказалось это действие угодным Господу.
Уже через год Мануил принял от отца титул деспота[85] – титул, даруемый императором наиболее приближенным лицам (Территория, управляемая деспотом, называлась деспотат), и принял по достоинству. Внутреннее кровопролитие прекратилось. Архонты[86] склонили головы и согласились дать деньги на постройку флота, чтобы охранять берега Пелопоннеса от набегов пиратов. Но собравший эти деньги, по велению Мануила, архонт Лампудиос поднял восстание против своего господина.
Имея большую армию из мятежных архонтов, Лампудиос потешался над отрядом из трехсот всадников и двухсот арнаутов, что привел с собой на бой Мануил. Но уже через час всадники Мануила разбилили и рассеяли мятежников. Говорят, что большинство из этих всадников были презираемые жителями Балкан рыцари-«каталонцы».
С некоторой надеждой на копейные значки своих попутчиков рыцарей-«каталонцев» Джованни Санудо и обернулся. Ведь ему совсем не желалось продолжать разговор, который ранил оскорблениями его сердце и душу. Ведь Мануил не просто так решил показать свое старшинство. Он наверняка многое знает о делишках островного герцога. Недоказанных и невыявленных. И все же не весьма лицеприятных. Скорее всего, деспот Мореи желает избавиться от темной личности, рисующей свои круги на глади Ионического моря. Вот и желает кровопролития. Может даже вызвать на поединок.
Сражаться с молодым и храбрым всадником – дело не предсказуемое. Даже если сбросит герцог заносчивого мальчишку с коня, или даже убьет, это совсем не на пользу Джованни Санудо и его плану. Поединка совсем не желалось. А еще более не желалось вступать в групповой бой на лесной дороге, где быстрые и жестокие арнауты имели значительный численный перевес.
Мануил усмехнулся и, приподнявшись на стременах, также бросил свой взгляд на копья приближающихся на разговор рыцарей.
– Что я вижу?! – в восторге воскликнул деспот Мореи. – Желтые и красные цвета Барселоны и Каталонии! И они же цвета моего флага! Это рыцари из Испании?
– Нет. Это рыцари из Афин. Истинные каталонцы. Мои гости, – вежливо ответил герцог.
– Вот как! Друг моих друзей… – несколько поостыл Мануил. – И кто же это?
Деспот Мореи не удержался и поспешил навстречу «каталонцам». Через миг он бурно приветствовал афинских рыцарей и для беседы отвел их назад по дороге.
– Куда Мануил ведет этих арнаутов? – в голос задал себе вопрос Джованни Санудо.
На вопрос тут же отозвался властелич Стешко:
– Известно куда. На свои земли. Не может земля быть без людей. Зачем она тогда нужна? Одни погибают, другим от этого польза.
– Польза… Какая польза греческой земле, когда на ней осталась горстка греков с их высокой духовной культурой и умением растить виноград и пшеницу едва ли не на камнях? Что этой земле дадут полудикие народы?
Стешко пожал плечами:
– А что поделать, когда самих греков еще меньше чем горстка? Одних убили соседи, других унесла чума.
– То-то и оно… – печально закивал головой герцог насоксский.
Неужели придется и на свои острова завозить арнаутов? Ведь на Архипелаге с каждым годом население убывает. Стремительно убывает.
Да это еще не так печально, как в первые годы правления первого из Санудо Марко Санудо, близкого родственника самого великого из дожей – Генри Дандоло. Когда Марко объезжал свои острова сто пятьдесят лет назад его печали не было конца. Пустынные клочки земли среди волн моря, на которых хозяевами были дикие животные. Куда поделись коренные греки – создатели великолепных храмов и террас для земледелия? Почему в городах и селениях только кошки и собаки? Как получилось так, что могучие греки исчезли с островов?
Только ли бесконечные войны и страшные болезни стерли их с благодатных островов? Или сами греки стали настолько мелки и бессильны, что не смогли противостоять нашествию врагов и кары небес? Где вы потомки Геракла и Ахилла, Кимона и Перикла, Аристотеля и Александра Македонского?
Марко Санудо тогда решил проблему. Решил чисто по-купечески, ибо купцом он был от Бога! Он приглашал, а точнее покупал греков из Европейского и Азиатского материков. Освобождал от налогов, закупал зерно для посевов, лозу для виноградников и множество рабов в помощь поселенцам. Тогда он мог это себе позволить. Ведь в его руках было золото из Константинополя. То золото, что он получил после взятия столицы Византийской империи крестоносцами, как арматор[87], на своих кораблях доставивший едва ли не половину войска Христового. Так устроил сам дож Генри Дандоло!
Из-за этого золота христиане из многих уголков Европы вырезали сто тысяч христиан Константинополя! А потом нашли в домах убитых и в храмах столько серебра, золота и драгоценных камней, что даже самый нищий из крестоносцев стал богаче своего феодала, нежелавшего отпускать его в поход.
Еще бы! Только в храме Святой Софии было столько золота, что для его вывоза пришлось в святое место пригонять ослов и мулов. Изрубив в куски один только святой престол, слитый из золота с драгоценными камнями, они нагрузили с десяток мулов. Да так нагрузили, что вьючные животные не могли подняться, скользили и падали на мраморном помосте. Тогда их стали поднимать копьями. От этих ран скотина опорожнялась, и этим и своей кровью оскверняя святилище.
Но разве горящим от жадности христианам было до этого дело? В их глазах и руках было золото, золото, золото!
Эх, были славные и выгодные времена!
У Джованни Санудо нет столько золота, как у его предка, чтобы заселить колонистами греками поселения своего Архипелага. Более того, у него не так уж и много воинов, чтобы защитить тех, кто есть. А подданных становится все меньше. Половину сожрала проклятая чума. А остальных методично вывозят с островов проклятые турки-османы во время своих пиратских набегов.
Проклятые османы! Проклятие всей жизни Джованни Санудо. Заноза, которую невозможно вытащить из мозга. Она постоянно сверлит разум герцога наксосского и требует отмщения!
А тут еще и мелкие занозы…
– Езжайте, герцог. Путь для вас сегодня свободен! – воскликнул возвратившийся деспот Мореи.
Одной занозой меньше.
А еще… Неужели все же придется завозить на острова арнаутов? Это если план герцога провалится и придется ему остаток дней провести на островах Архипелага. Эту занозу пока не вытащить. А сколько их еще в голове Джованни Санудо!
* * *
«Что это? Ах, да! Это знаменитый мост через Арахтос. И что в нем знаменитого?»
Джованни Санудо с огорчением посмотрел на длинный, узкий, арочный мост, сложенный из дикого камня, на котором едва умещалась повозка.
– Ну, чего стал?! – закричал Стешко на возчика.
Тот проворно соскочил, на выложенную камнем, дорогу перед мостом и взял правую лошадь под узду. На место возчика тут же уселись девушки.
– Шагом! – велел герцог и мельком глянул на девушек.
Те быстро опустили головы, но едва его светлость отвернулся, продолжили свой спор:
– Мы же хотим помочь этим несчастным душам?
Кэтрин кивнула головой:
– Хотим. Давай все же споем «Ave Maria[88]».
– Я не слышала эту песню. В нашей маленькой церкви только молились, – огорчилась Грета.
– А я пела ее в соборе. Знаю. Тогда вот что; ты пой свою песню, а я свою. Хорошо?
– Хорошо.
Едва кони ступили на камни моста, Джованни Санудо услышал:
Девочкам маленьким самим без причин Ходить в лес нельзя, нельзя. На тропинках встречается много мужчин Говорить с ними нельзя, нельзя…И тут полголоса Греты покрыла своим высоким распевом Кэтрин:
Радуйся, Мария, благодати полная! Господь с тобою; Благословенна Ты между женами, И благословен плод чрева Твоего – Иисус. Святая Мария, Матерь Божия, молись о нас, грешных, Ныне и в час смерти нашей. Аминь.Хорошо пела младшая из девушек, высоко, на чистой церковной латыни. Пела так, что душа открывалась. Заслушаться можно. Если бы ей только не мешала глупая детская песенка на жестком германском наречии:
Коварных речей не слушай, беги Оглядываться помни нельзя, нельзя. Оглянешься, волком станет он Убежать от него нельзя, нельзя…«Дети… Какие они все такие еще дети. Глупые дети, наслушавшиеся глупых россказней».
Джованни Санудо даже улыбнулся. Жаль, что он никогда не сможет улыбнуться песням своих детей.
«И кому это было угодно… Господу или сатане?», – в который раз прозвучал в душе герцога проклятый вопрос. Нужно было уйти от него, чтобы вновь не завести его в болезненные уголки сердца.
– Ну, чего опять стал? – громогласно спросил едущий сзади повозки Стешко.
Джованни Санудо повернулся в седле.
Пара коней повозки остановилась на середине моста, и, вытянув передние ноги, упрямо задирала головы верх.
– Чего стали? Пошли, пошли! – закричал возчик, и стал ладонью бить по конским губам.
Кони мотали головами, дергали ушами, взмахивали хвостами, но упорно не желали двигаться с места.
– Я вам сейчас…
Стешко соскочил со своего коня, протиснулся между повозкой и поручнем моста. Он сердито глянул на девушек:
– В лесу нужно было петь.
Едва девушки скрылись в шатре повозки, властелич дал волю своей плетке.
– Пошли, пошли, пошли!..
– Не нужно их бить. Они же живые! – выкрикнула, на миг высунувшаяся Грета, и что-то сердито добавила на языке своих земель.
Ответить ей Стешко не успел. Сильный порыв ветра, сорвавшийся с вершины ближайшей горы, запутал серба в плаще, затем поднялся ввысь и оттуда всем невидимым телом ударился о проезжую часть моста. Потеряв на мгновение силу, ветер утих, но еще через мгновение собрал пыль и погнал ее вдоль правого перила. Достигнув края моста, ветер нырнул под него. И тут…
Мост мелко задрожал, как человек, не смеющий, но желающий заплакать. Такой человек помимо воли начинает тихонько скулить, жалобно для окружающих и незаметно для себя. Каменный мост не скулил, он вначале тихо, а затем более отчетливо завыл. Завыл болью воздушного потока, трущегося о шершавые от времени арки моста. Завыл, угодив на время своей плотностью в пустоты каменных быков. Завыл, коснувшись холода горной реки. Завыл тысячью мелких причин, слившихся в протяжный звук, что заставил стоявших на мосту и возле него людей перекреститься трижды.
– Девы плачут, – тихо вымолвил возчик.
Стешко мрачно посмотрел на него и что силы хлестанул под брюхо ближнего коня. Тот заржал от боли и с силой потянул повозку и второго коня.
* * *
Джованни Санудо был вне себя. Будь он на «Виктории» уже давно бы летели во все стороны от его мощных ударов слуги и те, кто подвернется, не успев спрыгнуть с пути его светлости.
Еще бы не гневаться. Во всем проклятом городишке не нашлось достойного места для великого герцога наксосского. Все дома и домишки, хозяйственные постройки и хлева, грязные таверны и даже храмы были забиты сотнями благородных гостей, их воинами, слугами, оружием, утварью, мешками и корзинами. Лошади, тягловые быки, мулы и ослы загромождали прямые, еще римские улицы, беспрерывно жуя сено и вываливая кучи навоза под собственные копыта.
А еще эта людская сутолока. Кто-то бежал с пустым кувшином, кто-то раскачивался, припадая к горлышку полных. Кто-то злобно ругался и махал кулаками, кто-то преспокойно сопел в глубоком сне возле лишенных окон стен домов, выходящих на улицу. Кто-то разносил горячий хлеб и тыкал каждому встречному его под нос, кто-то застыл в холодном поту, в сотый раз хватаясь за пояс, на котором весел кошель с деньгами.
В этом Вавилоне, который возникает всякий раз, стоит могущественному правителю объявить большую охоту, рыцарский турнир, собственную свадьбу или коронацию, не было порядка и быть не могло. А как установить порядок, если каждый граф, барон, герцог, а то и просто рыцарь готов с мечом в руках доказывать свое благородное право не делать того, что его притесняет, или ущемляет?
Джованни Санудо уже более часа седел в седле, ожидая известий от посланных на поиски пристанища своих людей, а еще более не желая испоганить превосходные сафьяновые сапожки с длиннющими, загнутыми к небу носками в уличной каше из грязи, навоза, сена, обглоданных костей, битой керамики и другого хлама.
Гнев, душивший великого герцога, не позволил сразу же узреть склонившегося перед ним маленького человечка в ничем непримечательных одеждах. Наконец Джованни Санудо тяжело выдохнул и опустил голову:
– Чего тебе?
Человечек еще ниже поклонился и в этом поклоне приподнял голову:
– О, достойный герцог, вы узнаете старого торговца и банкира[89] из Сплита?
– Герш! – герцог изумленно уставился на купца, не гнушавшегося зарабатывать на расширении торговли и скользким ремеслом менялы. – Ты то как здесь? Если ты о долгах…
Герш, все в том же поклоне, категорически замахал руками:
– Нет, нет… Не сейчас. Об этом поговорим, когда достойный герцог устроится подобающим образом!
Джованни Санудо пристал на стременах и тоскливо огляделся. Опустившись в седло, он даже наклонился вперед:
– Говори.
– Когда счастливое известие о том, что король Душан приглашает на большую охоту благородных гостей, достигла стен древнего Сплита, я сказал себе: «А почему бы и мне не быть там. Почему я должен сидеть дома, когда во мне и в моих товарах нуждается так много благородных людей»! И я собрал в путь десять повозок… Всего по мелочам и не только. И вот уже второй день я брожу по этим улицам (Герш с неприязнью посмотрел на свои густо облепленные грязью сандалии на пробковой подошве), и что?
– Герш, говори то, что я желаю услышать.
– Шатер, – тут же выпалил купец. – Шатер достойный самого короля Душана. Есть еще шатры, чуть скромнее, для ваших благородных дам и рыцарей.
Уже через час Джованни Санудо сидел на мягком табурете за небольшим столом и с наслаждением потягивал превосходное вино из виноградников Монемвасии, приложение к весьма удобному и представительному шатру.
– Вы довольны старым Гершем?
Джованни Санудо снисходительно кивнул головой:
– А что там король Душан? Когда начнется охота?
Старый купец тяжко вздохнул:
– Это моя печаль последних дней. Никто ничего не покупает. Все ждут, когда кто-то первым покинет Арту.
– Вот как? – изумился герцог.
– Король несколько дней назад неудачно спрыгнул с коня и повредил колено. Печаль. Такая печаль… А как хорошо думалось. Сколько всего нужно благородным господам для охоты… И надо же такому случиться. А тут еще множество купцов из Венеции, Дубровника, даже из Константинополя. И все толкают старого Герша. Кто ему поможет? Кто его защитит? Тяжелые времена. Как тут без покровителя? Одна надежда – ваша светлость…
– Колено, – задумчиво произнес Джованни Санудо. – Кажется, я смогу помочь…
– Старому Гершу? – в волнении склонился купец.
Герцог наксосский взмахом руки велел ему удалиться.
Глава седьмая
– Это Парикия, – со вздохом произнес Весельчак и, вопреки своей привычке, не улыбнулся.
Гудо посмотрел на впереди сидящих гребцов. Головы всех их без исключения были повернуты направо, где за синими водами широкого залива от береговой кромки поднимался в один этаж, выбеленный до рези в глазах небольшой город. Изредка эту белую стену зубцами поднимали двухэтажные дома, крытые бурой черепицей, над которыми главенствовала большая церковь с той же черепицей и контрастирующими с остальными зданиями города едва ли не коричневыми стенами.
А уж над всем этими сине-бело-бурыми полосами возвышалась на холме крепость, стены и башни которой, сложенные из мрамора и известняка, единым драгоценным камнем, переливались, гранями ломая щедрое солнце. И все это на фоне плавных очертаний лесистых гор, на которых кривые стволы сосен, мохнатые пики кипарисов, и бессчетные руки-ветви всевозможных кустарников колыхали небесную лазурь.
– Глаз бы радовался таким чудесам, если бы не знать, что в горах этих, – грустно вымолвил Ральф.
– Это хорошо…
– Что хорошо, Весельчак?
– А то хорошо, дружище Ральф, что жизнь наша не скучная. Вот по морю поплавали, теперь в прохладе пещер отдохнем, а там, может, что еще веселее случится.
– Смотрю я на тебя и удивляюсь; ты на самом деле такой, или прикидываешься? Все у тебя хорошо и весело. А я слыхал, что в этих лазах и тоннелях так страшно, что редкий человечек выходит оттуда с тем цветом волос, с которым туда его затолкали. Даже мальчишки возвращаются седые и с морщинами на лице. Если вообще кто-нибудь оттуда выползает. Эй! Ты как думаешь?
Гудо не хотелось отвечать ни на этот, ни на какой либо другой вопрос. Но в последние дни между товарищами по веслу установились вполне человеческие отношения. Более того. По мере приближения к неотвратимым ужасам, что готовила гребцам-невольникам жизнь на Паросе, их сердца становились мягче, а разговоры более уважительными.
– Неплохо было бы вместе, – тихо ответил Гудо.
– Вместе в рыбацкой сетке? – рассмеялся Ральф, – Нет уж… Лучше поседеть в пещерах и разрисоваться морщинами.
Весельчак усмехнулся, но при этом пожал плечами.
Высаживали невольников-гребцов уже на закате солнца.
Маленький, но удобно устроенный на венецианский манер пирс порта первым принял немногих свободных гребцов, что тут же отправились в хорошо знакомые им харчевни, цирюльни, бани и гостиные дома. Там их уже с полудня поджидали служанки, помощницы цирюльника, мойщицы, массажистки, вдовы и отпущенные мужьями на счастливый заработок разбитные молодицы. С этими людьми капитан Ипато рассчитался быстро и безоговорочно, при этом строго велев держать язык за зубами по поводу оставшихся в Сплите их товарищей. Пьетро Ипато еще могли понадобиться вольные гребцы. Кто знает, сколько останется рабов после работы в пещерах Марпеса?
Остальные сотни палубных моряков, воинов-арбалетчиков, мальчишек-слуг, и прочих, тоскливо поглядывая на счастливчиков, беспрерывно перемещались по делу и просто так, не решаясь приблизиться к адмиральской каюте, у дверей которых в нетерпении толпились корабельные старшины. Сквозь решетчатые двери они сурово смотрели на капитана, схватившегося за голову над кучкой серебра, что оставил ему на расходы его светлость герцог.
Старшины, не очень надеясь на вознаграждение, совсем оставили свои обязанности, переложив их на комита Крысобоя и его помощников. Помня о том, что комит ответственен не только за гребцов, но и за общий порядок на галере, Крысобой взмок от чрезмерного напряжения. Он носился вдоль куршеи, нырял в трюм и соскакивал на пирс, пытаясь не допустить того, чтобы мечтающие о плотских утехах моряки и воины не припрятали у себя под одеждой и в мешках что либо, что могло сойти за плату продажным девкам.
А тут еще пришли местные кузнецы в помощь корабельному, для того, чтобы расковать гребцов невольников. Естественно, между кузнецами и капитаном возник непростой разговор об оплате работы, вскоре переросший в крик и насмешливый смех. Вокруг Пьетро Ипато и кузнецов собрались многие из состава галеры. К этому зрелищу добавились портовые зеваки, некоторые из которых успели спрыгнуть в трюм.
Наконец о чем-то договорившись, кузнецы принялись за свое ремесло. Договорился капитан и с командиром арбалетчиков Адпатресом. Половина воинов сразу же побежала в город, а вторая, завистливо глядя им в спины, выстроилась в два ряда, между которыми подкомиты стали загонять плетями раскованных невольников гребцов.
Так как вначале расковывали левый борт, Гудо и его новые друзья оказались в середине колоны. К ним спешно подбежал Крысобой, волоча за собой огромного Адпатреса. Взмокший от множества забот, комит показал кнутом на невольников и строго велел:
– Этого в синем отведешь в крепость. Герцог приказал. Его светлость желает его лично казнить. Не рассердите нашего господина.
Командир арбалетчиков, не отрывая взгляда от выбеленных домов города, молча кивнул головой.
Вскоре колонна невольников под конвоем нахмуренных воинов оставила небольшой, но весьма удобно устроенный порт и втянулась в узкие улочки Парикии.
Островная столица встретила прибывших маленькими арочными домиками на узких кривых улочках. Все выкрашенные в голубой цвет деревянные ставни широких окон были открыты на венецианский манер, обнажая домашнюю жизнь местных жителей.
Парикийцы оказались народом любопытным и весьма приветливым. Они не только не захлопнули ставни, а напротив высунулись из окон вместе с улыбающимися женами и большеглазыми детишками. Заслышав от жильцов крайних домов, что невольников ведут в каменоломни, мужчины, выглядывавшие в окна, сокрушенно кивали головами, а женщины протягивали лепешки и сушеные фрукты. И хотя большая часть подношений попала в руки арбалетчиков, посчастливилось и многим невольникам.
– Чисто-то как, – улыбнулся Весельчак, пряча под одежду еще свежую лепешку.
Гудо сразу же после вступления в город заметил, что на каменных плитах улиц почти не было грязи и отходов. А во встречающихся через каждые двадцать шагов каменных решетках посредине улицы время от времени журчит вода. Решетки были ни чем иным как стоками для дождевой воды, а также допуском для чистки уложенных под плитами керамических труб, по которым и спускались нечистоты с понижающихся к морю улиц.
Вспомнив погрязший в грязи Витинбург, Гудо улыбнулся. Ему представился бюргермейстер Венцель Марцел с надушенным платочком у большого носа. Наверное, он был бы счастлив, если бы Господь удостоил его главенствовать в этом чистеньком городе. Да еще и со столь добрыми, честными и открытыми людьми. Чего только стоили богато украшенные резьбой и другими причудами лестницы, поднимающиеся прямо с улицы на вторые этажи домиков. Здесь рады гостям и совсем не страшатся воров. Скорее всего, воров на острове и нет. Да и какие воры, когда вокруг ласковое море, щедрое солнце, тянущиеся по горам виноградники и на холмах густые фруктовые сады? Немного труда, немного помощи соседям и помощь от них, и щедрые урожаи земли позволят навсегда забыть о голоде – главной причине воровства.
«Здесь палача его ремесло не прокормит», – усмехнулся Гудо.
Улица заканчивалась перед холмом, на котором возвышалась крепость с высокими стенами.
– Где этот в синем? – послышался с головы колоны раздраженный голос Адпатреса.
– Здесь, здесь! – громко воскликнул Весельчак.
Так громко и так радостно, что даже Ральф посмотрел на него с осуждением.
Но Весельчак и не думал смущаться от взора друга. Он тут же с улыбкой обратился к идущему рядом Гудо:
– Эй, давай один раз поступим по-моему. Поверишь мне один раз?
Гудо внимательно посмотрел в искрящиеся глаза Весельчака и медленно кинул головой.
– Вот и хорошо.
Весельчак хорошо отработанным движением вора в мгновение ока развязал плащ Гудо и в следующее мгновение ока повесил его на плечи впереди идущего сарацина[90].
– Это очень дорогая вещь, – с участившимся дыханием сказал Гудо.
Весельчак с усмешкой осмотрел видавший виды кусок синей ткани и согласно кивнул головой:
– Я вижу. Но она не дороже твоей жизни. Верно?
Гудо согласно кивнул головой.
На немой вопрос удивленно повернутой головы сарацина Весельчак подмигнул:
– Подарок. Понимаешь? Кроме сарацинского языка другого не знаешь? Плохо. Вернее очень хорошо. Это подарок на всю оставшуюся тебе недолгую жизнь…
* * *
К подножию горы колонна невольников приблизилась уже в сумерках. Дальше уже пришлось идти по склону вверх, не долго, но утомительно. По обе стороны веками истоптанной узкой горной дороги лежали куски мрамора величиной от человеческого кулака и до лошадиной головы. У деревянных ворот частокола, прикрывающих вход в горный туннель, куски мрамора были гораздо крупнее. Многие из них вытесаны под прямоугольные блоки и аккуратно сложены в пирамиды.
Еще на подходе колонны ворота широко открылись:
– Добро пожаловать в норы, кроты, крысы и другие грызуны, – встретил прибывших у ворот огромного роста мужчина в короткой, выше колен тунике красного цвета. Его толстые, густо поросшие черными волосами бесстыжие ноги первыми привлекали внимание. А уж затем нельзя было не задержаться на огромном вислом животе, и особо удивиться тройному подбородку и свисающим гладковыбритым щекам.
– Я Гелиос. Так было угодно назвать меня его светлости герцогу. Гелиос – бог солнца. Большой и добрый. Я здесь бог! Потому что я большой. А еще добрый, потому что кормлю, даю воду, а иногда и вино. Но добрый только к тем, кто хорошо работает. А для тех, кто плохо работает, я последнее солнце, которое он видит в своей жизни. Такие до конца своей никчемной жизни видят свет только от язычков лампад на стенах туннелей. Солнце уже скрылось. Так что посмотрите на меня, запомните и полезайте в свои норы грызть камни. Чем больше выгрызете, тем больше получите того, чем набить свои утробы. И пусть вам помогает демон пещер, злой дух проклятых пещер. Вы с ним подружитесь!
И Гелиос громко рассмеялся.
Когда арбалетчики загнали в овальный вход пещеры последнего невольника, к местному богу неспешно приблизился Адпатрес:
– Я их не считал.
– А кто их когда считал? – пожал плечами Гелиос.
– Это гребцы с галеры. На два месяца работ, может больше. Как герцог распорядится.
Гелиос опять пожал плечами.
– Нужно было их как то пометить.
– Один глаз выколоть? – рассмеялся толстяк.
Командир арбалетчиков пожал плечами и, махнув рукой своим воинам, поспешил назад в город.
– Господин.
– Чего тебе, Мартин?
– Чем кормить их будем?
– Завтра будем думать.
– Завтра… Да, завтра.
– Ты чего так обмяк? У тебя жар? Даже на губах пот.
– Мне кажется, господин. Нет, этого не может быть. Но мне кажется…
– Ты что, обнялся с демоном пещер?
– Нет. Мне, кажется, я узнал одного человека. Из тех, кого сегодня пригнали. Страшнее его я в своей жизни не встречал. Не хотел бы с ним встретиться даже во сне.
– Если это и в правду твой страх, то можно его и уничтожить. А может и подчинить. Ты хороший помощник, Мартин. Тебе я могу помочь. Я же здесь Бог! А пока иди, посчитай сегодняшнюю выработку.
* * *
– Не пропадем, не пропадем, – радовался Весельчак.
Ральф пожал плечами.
– Говорю тебе, не пропадем. Ты же тоже узнал нашего дружищу Мартина. Вор вора не предаст и не обидит. Ведь так?
– Люди меняются. Ты же видел, что стражники выполняют его команды. Значит он здесь при должности. А должности…
– Да брось ты, Ральф. Все будет хорошо. И мы пристроимся. А то здесь мне как то не по себе. Мрачное местечко. Как-то не хочется засыпать рядом с демоном пещеры. Слышишь? Ведь слышишь?
Там, в мире людей, уже было далеко за полночь. Уставшие невольники уже давно должны были спать после долгих и тяжелейших весельных трудов. Но никто из них не спал. Проглотивший их мир пещер давил чернотой и пугал звуками. Невольники не решились ступить вглубь туннеля дальше, чем их потеснили братья по несчастью. Они легли на холодный пол узкого туннеля, по возможности максимально убрав из-под себя, и подсунув соседу множество мелких и острых камешков. Те передали их дальше, а при невозможности, выложили все, что мешало вдоль себя и рядом лежащего.
Подавленные низким потолком и узостью прохода, а более всего густой и, казалось, даже липкой темнотой, невольники очень скоро прекратили беседы. Чуть позже они потеснились, прижались друг к другу, уже не замечая давящих камешков. Но это только усилило страхи. Дыхание двух сотен людей чуть согрело узкое пространство между их телами и зазубренным потолком. Но теплее не стало. Напротив, из глубин пещер потянуло холодом, а вместе с ним принесло жуткие звуки и отвратные запахи.
И тех и других было во множестве. Очень скоро они освободили из людских сундучков осязания страхи, что петлей сжали сердце, крюками растянули душу и терновыми прутьями стали хлестать по разуму.
В этом мире все было по-другому. Сочащиеся с камня капли воды падали звонкими шагами приближающегося чудовища. Струящийся сквознячок, зацепившийся за острый выступ твердой породы, завывал пастью жаждущего добычи подземного хищника. Растрескавшаяся от ударов добытчиков мраморная глыба, освобождала себя осколком. Но тот не просто падал на камень пола, а ударял молотом. Многочисленные петляющие туннели и лазы тут же многократно усилили этот звук протяжным эхом.
А еще израненная проникающими многометровыми выработками гора стонала от свободно гуляющих ветерков, скрипела трущимися оседающими пластами, ныла засыпающим пустоты песком и шептала проклятия крыльями летучих мышей.
А еще она дышала гноем своих ран. Этой многовековой плесенью, грибком, разложившимися многообразными издохшими тварями, пометом ползающих и летающих, забродившей водой и испражнениями пещерного демона. А может даже и многих демонов. И они были где-то здесь. Даже рядом. Ведь они не могли не быть. Ведь это другой мир.
Но через несколько часов прибывшие пленники печальной горы все же провалились в желанный сон. Просто их мозг устал от содроганий тела и от собственной напряженной работы. Слава Господу, что именно так он создал телесного руководителя. Иначе, человек погибал бы всякий раз, попав в плен саморожденных страхов.
И хорошо, что тяжело дышащая, хрипящая, храпящая, присвистывающая и во сне говорящая свалка человеческих тел не узрела и не сплюснула сама себя при виде выдвигающихся из узости туннеля двух огненных мерцающих глаз, один из которых остановился, а второй наклонился ниже пламенем факела:
– Их много. Очень много. Нам придется еще труднее, и еще голоднее.
– Может, им оставить факел?
– Еще успеют привыкнуть к этому проклятому свету. Скорее бы Господь освободил наши несчастные души.
* * *
– Он нас не видит.
– Просто не желает нас замечать. Он уже дважды прошел мимо.
– Я позову Мартина.
– И получишь букет из плетей, кнутов и палок. Ведь велели, молча слушать эту гору мяса и жира. Будем слушать.
– Ладно, – кивнул головой Весельчак, все еще с надеждой следя за частыми перемещениями располневшего за последний год Мартина.
– Если есть среди вас, ублюдки, те, кто умеет работать скарпелем[91], тесалом, пилой – шаг вперед. Те, кто умеет обращаться с циркулем, ватерпасом, отвесом, линейкой, угольником, натянутым шнуром, окрашенным в красную охру – шаг вперед. И всякая другая сволочь, которая умеет обрабатывать камень – шаг вперед.
По приказу начальствующего над каменоломней Гелиоса скученной толпы невольников с усилием вытиснулось три десятка каменотесов. Счастливчиков тут же стража прижала к деревянному забору.
– А я тебе говорю, что зря мы не вышли, – во второй раз прошептал Весельчак. – Так было бы легче договориться с Мартином.
Ральф, придерживая приятеля за руку, процедил:
– Слушай толстяка дальше.
Гелиос сурово осмотрел невольников у забора и с усмешкой громко сказал:
– Если кто из вас осмелился меня обмануть, лично отрубаю тому обе руки, привяжу обрубки на шею и заброшу лжеца в пещеры. Есть такие глупцы? Нет? Ладно. Ваша жизнь будет послаще. Остальных заталкивайте обратно к демонам. Чего тебе, Мартин? Ах, да!
Огромная глыба из мяса и жира, удивительно легко оторвалась от того места, где стояла, и быстрым шагом направилась к невольникам. За ним едва успевал его помощник и несколько надсмотрщиков с короткими мечами и хвостатыми петлями.
– Я же говорил, – счастливо усмехнулся Весельчак.
Он тут же перестал улыбаться, когда его и Ральфа надсмотрщики грубо оттолкнули в стороны.
Гелиос желал говорить с мужчиной в странном синем камзоле. Он с аппетитом осмотрел большое тело Гудо, надолго задержавшись на его звероподобном лице.
– Так, значит, ты и есть палач из города Витинбурга? Мартин кое-что веселое о тебе рассказал. Мартин!..
Начальствующий над каменоломнями «бог» оглянулся. Мартин стоял в десяти шагах, переминаясь с ноги на ногу. Его лицо было белее снега, а дрожащие руки он завел за спину.
Гелиос криво усмехнулся:
– Слышишь ты, синее чудовище, я готов тебя испытать. Ты можешь мне пригодиться. Таким как ты у меня есть подходящая работенка, мясо, вино и даже женщины. Для начала загони это стадо в пещеру.
Толстяк вырвал плеть у одного из надсмотрщиков и протянул ее Гудо. Тот опустил голову и отрицательно покачал головой:
– Как ты смеешь ослушаться меня? – взревел толстяк. – Ты даже не представляешь, что случается с теми, кто не выполняет моих приказов. Бери плеть!
Гудо не поднимая головы, упрямо качнул головой:
– Ах, так?!..
Сильные удары плети обрушились на голову и лицо неповиновавшегося. Лицо Гудо тут же окрасилось кровью. Но он не отступил ни на шаг.
– Глупец! Какой же ты глупец! Не такие палачи. Они злые собаки, готовые по приказу господина разорвать в клочья всякого, на кого указано. А ты… Ого, да ты еще и без зубов! Мне не нужна беззубая собака. Подыхай раздавленным червем! Мартин, ты ошибся. Это не твой страшный сон наяву. Это куча бесполезного дерма. Пусть издохнет в пещере. Гони его в ад!
Тут же Мартин принял от своего господина окровавленную плеть и с остервенением стал хлестать свой былой ужас. Из его открытого рта летели злобные слюни, а из глаз непрошеные слезы:
– Это еще не все, проклятый палач. Мой несчастный зад почти ежедневно напоминает мне о твоей «колыбели Иуды». Ты частый ужас моих снов. Теперь я стану твоим ужасом. Тебе не поможет ни твой господин дьявол, ни даже сам Господь Бог!
– Потом, потом, Мартин. Я устал и хочу вина. Гони их на работу. Крепостям нужны камни. Гони, гони…
Гелиос замахал руками, и цепь вооруженных щитами и копьями стражников надвинулась на невольников. Толпа подалась назад, ручейком втискиваясь в узкий проход.
– Мартин, ты нас узнаешь? – с надеждой воскликнул Весельчак.
– Узнаю, – криво усмехнулся Мартин и с силой ударил его плетью. – И ты получай дружище Ральф.
– Вор вора? – гневно воскликнул Ральф и тут же подался назад под градом ударов бывшего дружка.
– Ты вор и прах земли. А я Мартин. Для тебя и тебе подобных – господин Мартин!
* * *
– Осмотритесь повнимательнее. Это и есть ад пещер Марпеса!
Весельчак криво усмехнулся. Его голова была далеко запрокинута, чтобы видеть высокий край той площадки, с которой их троих спустили на деревянной платформе в огромную яму. Там виднелась голова довольного Мартина:
– Смотри, смотри, Весельчак. Мы не скоро свидимся. А когда я приду, ты не сможешь подняться даже с колен. У тебя хватит сил только на слезы и слова о помиловании. Я их послушаю и напомню тебе, как ты избил меня в первый день моего прибытия в тюрьму Венеции.
– Я всех новичков бил, Мартин. Такой там был порядок. Ты же знаешь!
– Никто не смеет безнаказанно прикасаться к Мартину, – завизжал удаляющийся голос сверху. – Никто! Никто! А уж как пожалеет палач…
«Палач, палач, палач…» – прозвучало удаляющееся эхо.
– Похоже из огня да на кострище. Да, палач? Только ты к нам больше не подходи и не смотри в нашу сторону. Вор – благородное дело, а палач… Палач есть палач! И ничто не изменит этой сущности.
Гудо усмехнулся, затем отвернулся и, прошагав с десяток шагов, уселся под стеной.
Ну вот, в который раз в своей горемычной жизни Гудо отвергнут людьми. В который раз, едва успевшие познать его, открестились и отсторонились. В который раз и сосчитать невозможно. Да и нужно ли? Он привык к одиночеству, а редкие моменты жизни, когда кто-то соизволит проявить к нему интерес, это всего лишь передышка, которая нужна печальной судьбе несчастного Гудо, чтобы перевести дух, удивиться, что тот все еще жив, и начинать опять терзать, швырять, рвать и раздавливать.
Даже как-то и смешно от того, что все происходящее в жизни возвращается на круги своя. Смешно и то, что оказавшись вновь в начале пути, опять идешь по нему. Вот, кажется, и хуже некуда, и уже готов вымолить у Господа кончину скорую и легкую. А нет! Блеснула дальняя звезда надеждой, распрямились плечи, и чуть поднялась голова. Но вот потускнела, отдаляясь, звезда, в последний раз вспыхнула и погасла. И опять одиночество, множество печальных вопросов самому себе, которые накрутив круги в лейке мозга, сочатся с узкого носика редкими каплями горечи, а зачем мне завтрашний день? Что ему до меня, а мне до него? Разве стоит ждать того, что завтра будет хуже, чем сегодня?
Сколько же печальных лет прожил в одиночестве Гудо? Сколько кругов разочарований намотал на собственную душу? Сколько раз думал о смерти и откладывал эту мольбу к Господу? Сколько это будет продолжаться? Ходить ли остаток жизни по кругу, или все же что-то случится и путь, пусть и ломаной линией, но поведет вперед.
Да и этот и любой другой путь, чего перед собой лукавить, неизбежно приведет к могиле. Это может быть завтра, а может и через множество счастливый лет.
Но одно дело – погребение мертвого тела, а другое – живого.
В годы странствований с отрядом наемников Гудо стал очевидцем показательного урока жизни. Просто он проснулся с тяжелым похмельем от редких, но весьма звонких ударов колокола старой церквушки всего в нескольких сотнях метров от того хлева, где он уснул, так ничего и не сумев сделать с плачущей девчушкой худосочного гончара. Не обнаружив в доме ни хозяина, ни его слезливой дочери, ни вина, ни хлеба, до крайности обозленный Гудо пошел на звон колокола. Там непременно должны быть люди. Ведь у Гудо пересохло горло, а кулаки так чесались!
Он угодил на похороны. Единственное действие, которое утихомиривало его и даже заставляло обнажить голову. Но это не было почтением к покойникам, скорее это была привычка детских лет, когда в его селении и в соседних хоронили часто и многих тех, кого Гудо знал.
Происходящие под звон колокола похороны в тот день ничем не отличались от множества им видимых, когда погребали людей бедных, а то и просто нищих. Четверка исхудалых селян с трудом несли деревянные носилки, на которых лежало покрытое дерюгой тело. Впереди носилок шел старенький священник, тихо отпевая на ходу умершего. Сзади – десятка два оборванцев, преимущественно стариков и детишек. Их лица ничего не выражали, будто смерть близкого человека их не касалась. Путь их был короток – селение заканчивалось кладбищем с множеством черных, покосившихся крестов.
Проклиная себя за то, что последовал за процессией, Гудо все же решил поучаствовать в этом обряде. Кто знает, как закончит свою жизнь наемник Гудо, и будут ли рядом желающие выкопать для него яму и сбросить туда тело, чтобы покрыть его локтем земли. А так может ему и зачтется.
Гудо сменил одного из удивившихся носильщиков и донес тело умершего до его могилы и даже спустил в яму. Можно было и уходить. Священник пробормотал последние слова молитвы, а могильщик по его знаку набрал полную лопату земли и бросил на умершего. Все присутствующие перекрестились, и с видимой поспешностью отправились в обратный путь. Только священник печально кивал головой и совсем не спешил торопить усевшегося на соседний холм могильщика.
Гудо даже успел удивиться столь непродолжительной работе могильщика. Бросил одну лопату земли и уселся отдыхать. Нет, таких похорон для себя он явно не желал. Гудо даже шагнул к ленивому хозяину лопаты. Шагнул и застыл как вкопанный.
Из могилы тогда медленно поднялся мертвец. Он поправил на своей голове огромный капюшон, закрывающий все лицо, отряхнул с жалких одежд могильную землю и, порывшись в сумке, висевшей через плечо, стал доставать из нее маленькие колокольчики. Закончив обвешивать их на своем тряпье, «покойник» с трудом стал выкарабкиваться из ямы.
Как в каком-то жутком сне ошеломленный Гудо протянул ему руку, которую с силой отстранил старичок священник:
– Ступай, сын мой, ты ему уже ничем не поможешь.
– Все равно спасибо, – прошипел «покойник» и приоткрыл свое лицо.
Тело Гудо похолодело. Он едва не подал руку прокаженному! Он едва не стал прокаженным, тем, над кем еще при жизни совершали похоронный обряд. После лопаты могильной земли, такой человек уже не существовал для своих близких, родных, соседей и знакомых. Теперь он мог найти себе приют лишь в лепрозории, добывая на жизнь исключительно выпрашиванием милостыни у большой дороги. И все это, исходя из библейских заветов – изгонять и гнушаться прокаженных! А кто такие прокаженные, как не отверженные, наказанные Господом за прегрешения вольные и невольные.
Прокаженный – это человек проклятый и заживо погребенный.
Проклят и Гудо. Единственно, что на него еще не брошена лопата земли. Но вместо нее на Гудо проклятая печать палача! А это ничуть не легче чем судьба гниющего заживо прокаженного. И от палача будут всегда сторониться и бежать от него, как убегает всякий встречный, едва заслышит колокольчики прокаженного.
Вот только звезда надежды… Надежды, что нет-нет да и подкинет в пламя жизни несколько хворостинок. То тоньше, то толще. То теплее станет на душе, а то и вовсе хорошо. Ведь это так и есть. Ведь это правда, которая заставляет усмехнуться возвращению на круги своя и оглядеться по сторонам – а есть ли другой путь, где звезда надежды поярче и не так предательски непостоянна.
Только нужно пережить несколько крайне неприятных мгновений (часов, дней, но не приведи Господь долгих месяцев и многих лет), когда ты отвергнут, когда знаешь, что есть люди, страшно желающие твоей смерти, когда остаешься сам на сам с тяжелейшими трудностями и обезволивающими собственными мыслями сожаления о себе и о своей судьбе. Нужно пережить и попрощаться с неприятными мгновениями, так как они непременно уступят место другим мгновениям (лишь бы они не пришли слишком поздно), которые уже охапками будут бросать в пламя твоей жизни воспоминания о приятном прошлом, а еще важнее мечтания о непременно счастливом будущем.
Хотя и короткое, но все же было в жизни Гудо приятное прошлое, когда рядом с ним была Адела и дочь. Что касается счастливого будущего, то мечтания о нем прерывали лишь сон и неприятные события, требующие присутствия в них. А мечтания это и есть звезда надежды. И чем больше мечтать, тем ярче светит она, а значит, более освещен дальнейший путь. Только нужно пережить, остаться жить и жить, чтобы счастливы были те, кто и есть твоей звездой надежды.
* * *
Гудо медленно осматривал то, что негодяй Мартин назвал адом. Осматривал долго и внимательно, то хмуря брови, то едва улыбаясь изуродованными губами.
То он чувствовал себя в холоде подземелья Правды, то радовался тому, что здесь в аду Марпеса на нем не было тяжелых цепей. То он огорчался, понимая, как будет трудно выбраться отсюда, то удовлетворенно ощупывал свои замечательно зажившие раны. То он проклинал людей за их жестокую изобретательность, придумавшую ад в самом аду, то хвалил свою наблюдательность и умение мыслить, которая непременно помогут выжить и вскоре увидеть вместо желто-бурых огней маленьких светильников большое и щедрое солнце.
Радовался Гудо и тому, что в этой каменной яме есть люди, и огорчался, понимая, что ад без убийц, насильников, воров и других грешников не бывает. Они не оставят в покое даже палача.
Он не ошибся. Уже через час Гудо обступили четверо обитателей этой преисподни. Их почти черные лица, густо заросшие не знавшими гребешков бородами, не предвещали ничего приятного. А жилистые руки, сжимавшие древки с короткими железными кирками на конце, заставили Гудо подняться на ноги.
– Пошли. С тобой желает говорить Философ.
– Кто? – не поверил своим ушам Гудо.
– Пошли, – строже приказал самый крепкий из обитателей и даже сделал попытку схватить новичка за шиворот.
Он вовремя отдернул руку, то ли что-то вспомнив, то ли почувствовав напряжение в мышцах человека в непривычном для этих мест синем одеянии, что при свете светильника казался пурпурным.
Гудо шел в окружении своего конвоя и с удивлением качал головой. Одно дело бесконечные наставления мэтра Гальчини о философах, как о каких-то невероятно таинственных и мудрых людях, хранящих знания едва ли не от сотворения мира, другое – увидеть собственными глазами и услышать собственными ушами того, кого, если уж правдиво, то Гудо считал таким же сказочным героем, как леший, водяной, русалка и все те, кто умнее и сильнее человека.
Какие только жизнь не готовит подарки. И приятные и неприятные, ожидаемые и неожиданные, понимаемые и те, в которые просто не верилось. Что было толку несчастному ученику подземелья Правды от каких-то высоких человеческих размышлений? Зачем ему было нужно четыре дня голодать, чтобы до конца своих дней усвоить, что философ – это человек жаждущий мудрости? Что за польза вообще в том, чтобы слушать и поступать так, как решил какой-то человек, решивший стать учителем, едва ли не вровень с Христом? Дано ли человеку познать себя и окружающий мир? От кого эти размышления – от Бога или от сатаны? Истинно ли философы – мудрецы, когда сам первый назвавший себя философом Пифагор говорил: «Мудрецом может быть только Бог, а не человек!»
И все-таки сердце немного замирало до того самого мгновения, когда Гудо увидел человека, которого обитатели ада Марпеса называли «Философ».
И ничего в нем не было ни сказочного, ни таинственного, ни загадочного, ни просто чего-то такого, что заставило бы заметить его среди идущих по дороге, или выделить в толпе.
То же немногое, что можно назвать одеждой, что и у тех, кто привел новичка. Те же черные от пещерной пыли разработок лицо и руки. Те же вялые движения, как и у многих, кто долгое время пробыл под землей. Может быть только огромная залысина, сверху приметная как поляна среди леса да широко расставленные глаза со скошенными к скулам краешками. Да еще нос. Огромный нос, едва ли уступающий размером носу Гудо.
Только сам Гудо предпочитал не притрагиваться к выступающей части своего лица, чтобы не привлекать к нему и к своему уродливому обличию лишнего внимания.
Философ начал беседу с того, что тщательно размял свой мясистый нос:
– Я никогда не беседовал с палачом.
– Я никогда не встречал философа.
– Нет, нет! Философ это мое предназначение в этой жизни. А имя мое так сложно звучит, что вы, люди с севера, все равно не сможете его правильно произнести. Твое имя, думаю, более краткое, но ты все же отзываешься на имя «Эй»!
– Зови меня как пожелаешь.
– Если человек не желает слышать своего имени – это его право или тайна. Пусть будет так, господин Эй.
– Никто не разговаривает с палачом без необходимости и будучи в здравом рассудке.
– Это условность, принятая внешним устройством государства или системой общественных отношений. Но здравый рассудок, он же и здоровое начало человека, не только составляющая общее, но и явление индивидуальное, претендующее на исключительность. Так что, если я желаю с тобой говорить, то это моя собственная условность. Я говорю с каждым, кого жизнь бросает в это место.
Губы «брошенного жизнью в это место» сами по себе растянулись в горькой усмешке.
– Мне знакомы подобные места.
– Я это чувствую. Обычно я утешаю новичков долгой беседой. Без нее несчастный узник ада Марпеса впадает в глубокое уныние, а то и в сумасшествие. А то и очень скоро погибает. А это случается когда глупец не желает слушать разумные слова Философа.
Гудо наклонился вперед и внимательно посмотрел на сидящего у подобия стола из куска мрамора человечка едва ли не в половину его самого. Что должно быть внутри этой мелюзги, которое управляет людьми, переступившими порог отчаяния? Какая внутренняя сила? Ведь только сила подчиняет людей. Сила мышц у «философа» отсутствовала явно. Так что же? Сила воли, мысли, убеждения, красноречие? Или что-то еще? Должен он опираться на какую-то силу. Ведь не демон же он пещеры.
– Пошли, – выдержав взгляд палача, велел Философ.
Он достал из-за спины факел и поднес его к старинному бронзовому светильнику в нише стены. От яркого пламени успевший привыкнуть к мраку Гудо отступил на несколько шагов.
– Пошли. Я уже сотни раз водил новичков по аду Марпеса. Сотни раз говорил одни и те же слова. Скажу и тебе. Покажу и тебе, где тебе жить и работать столько, сколько ты пожелаешь. Ибо человек сам здесь выбирает, когда ему умереть. Но умереть непременно здесь, ибо еще никто живым не покидал этого ада. А ад и есть то место, которое никто покинуть не может. Так было при старых наших богах. Так и при новом боге. И тогда, и сейчас люди поместили в понимании своем ад в глубине земли. Почему? Потому что мир пещер совсем не похож на тот, в котором обитают люди. Это сказочный, мифический, фантастический мир с нереальными красками, причудами камня и неестественными звуками. Смотри!
Философ поднял факел над головой и Гудо увидел на высоте пяти вытянутых рук живописную картину, в странно ярких красках. И краски эти были странными, которые нельзя назвать ни зелеными, ни синими, ни красными. К тому же они казались не освещенными огнем факела, а оживленными каким-то огнем, питающих их от самого камня. Внутренний огонь от холодного камня! А то, что это огонь, сомневаться не приходилось. Только его языки могли колебаться и переливать в красках сюжет невероятной картины, в которой можно было увидеть все, чего не пожелаешь. Ведь она жила, а значит видоизменялась.
И даже когда Философ последовал с факелом дальше, природная картина продолжала свою жизнь, данную внешним светом. Еще долго – восемь шагов Гудо.
– Только в мире подземелья можно увидеть каменные сады, которые не придумать самым талантливым из художников и скульпторов. Смотри хотя бы на эти.
Философ шел мелкими шагами и плавно водил светом факела, знающе, много раз повторяемо, и оттого ошеломляюще выгодно выставляя каменный сад.
Гудо не знал и не понимал, как могли камни причудливыми спиралями сосулек спускаться сверху, что заставляло камень шпилями расти снизу, почему со стен выползали окаменевшие скрюченные водоросли самых странных окрасов?
А более удивляли участки стен пещеры, над которыми без сомнения потрудились люди. Только они могли снять известковый налет веков и отшлифовать мрамор, изобразив бегущую лошадь, гордо запрокинувшего голову оленя, странный дом с колонами, женщину, кормящую ребенка. И за этими реальными картинами, созданными руками людей, дышал светом огня живой камень.
– За множество веков здесь были разные люди. И художники были. Эта яма самое древнее место добычи мрамора. Самого лучшего из всего, что боги позволили найти человеку. Этот мрамор из древности называется «лихнитис». Это от названия тех маленьких бронзовых светильников, что ты видишь повсюду вдоль стен. Этот мрамор прозрачен наполовину твоего указательного пальца. Ты, наверное, видел мраморные статуи древних мастеров?
– Да, я был в больших городах.
– Ты видел спустя много веков, после того, как великие мастера изваяли их. Статуи поражают своим совершенством и ослепляют белизной камня…
Гудо, молча, кивнул головой.
– Только знай, эти статуи после их рождения окрашивались. Одежда, волосы, цвет глаз и даже открытые части тела. Только изделия из лихнитиса не нуждались в красках. Руки, ноги, шея, лицо оставались в естественном цвете камня. Только чтобы подчеркнуть эту красоту пририсовывали одежду и придавали цвет волосам и глазам. Паросский мрамор – император среди мраморов. Из него были сделаны величайшие творения человечества: храм Зевса Олимпийского, Галикарнасский мавзолей, афинская сокровищница в Дельфах и множество скульптур, что известны сейчас, и я уверен, еще будут добыты из тайников, чтобы радовать потомков великих ваятелей: Праксителя, Аристиона, Фидия, Калимаха…
– Тебе это интересно, господин Эй?
Гудо пожал плечами.
– Ладно. У нас еще будет много времени поговорить.
– Философ!
– Слушаю тебя, господин Эй.
– Эта сказка из камня и есть ад?
– Ад это мрак вечного огня. Пребывание в нем не вечная жизнь, хотя бы и в страдании, но мука вечной смерти. Это не образ самой пытки человеческой плоти, а образ умерщвления, где страждущий уже есть труп. В вашем Ветхом завете сказано о таких: «Червь их не умрёт, и огонь их не угаснет».
– Так ты не христианин?
– Все мы будем в мире пещер. Рано или поздно. Во всех религия уход из жизни это вход в пещеру, над которой огнем написано: «Оставь надежду каждый, кто сюда приходит!» Туда и никогда оттуда!
– Я выйду из этой пещеры, – упрямо мотнул головой Гудо.
Философ усмехнулся:
– Ступай, отдохни. Услышишь звук рога, приходи. Будем говорить и кушать то, что наши боги послали в день этот. Привыкай к новой жизни. Здесь под землей нет дня и ночи. День может казаться месяцем, а может и часом.
– Мне это знакомо.
– А что ты хочешь сказать о тех людях, с которыми тебя спустили в ад Марпеса?
– Они воры. Но я знал одного вора, который в силу сложившихся обстоятельств едва не стал честным христианином. Смерть не позволила сделать этот шаг. Натура человеческая изменчива, как открытая вода подвластная ветру, дождю и солнцу. Вор родился человеком. А кем умрет?..
– Смерть не управляема. Человеческая жизнь всего лишь цепочка случайностей. Каждое звено в ней – счастливый или несчастливый шаг, а то и последний. Сама по себе жизнь – дело случая. Люди живут случайно, потому что им сегодня повезло. Они добыли воду, пищу и разминулись со своим убийцей. Подавляющее большинство человечков живет в нужде и голоде. И не потому что они глупы или ленивы. А потому что случай отобрал у них урожай, здоровье, свободу. Прилетела саранча, не выпал дождь, град уничтожил всходы, значит твоя пища – трава и кора деревьев. Заболевший сосед поздоровался за руку, съел найденного обессиленного зайца, упавший камень раздробил ногу – и ты уже не можешь в полную силу трудиться. А куда хуже, когда ночью в твой дом ворвутся пираты, или господин решит продать тебя за долги, или, отправившись к знакомым, тебя выкрадут разбойники. Неволя, нужда и голод обесценивают человека. Даже жен своих рады подложить под другого за кусок хлеба, чтобы утолить свой голод и накормить детей. И женщины рады случаю, что их тело пока еще способно прокормить. Множество не нужных для будущего человечества людей живет шаг за шагом, от случая к случаю. Но ты прав, в определении места человека в этом мире важен всякий шаг их жизни, а особенно последний. Всякая цепь чем-нибудь заканчивается. Ступай. Слушай рог.
Огромное тело Гудо растворилось в темноте. Оттуда же возник огонек. За ним показалась рука и половина тела.
– Интересная особь этот палач.
– Он может пригодиться в нашем святом деле? – тихо спросила половина тела.
– Скоро узнаем. Палач, людоед, человек уже переживший ужас подземелья. Всеми отверженный, никому ненужный, обреченный на одиночество, но упрямо чего-то жаждущий. Одним словом – философ!
* * *
Гудо остановился в нерешительности. Ему показалось, что он сделал всего несколько шагов от мраморного стола Философа, к которому они вернулись после непродолжительного (Или продолжительного? Ведь время в пещере не имеет измерения) ознакомления с новым обиталищем. Всего несколько шагов и уже не видно ни самого стола, и уже не слышно и самого его хозяина. Гудо овладело чувство, будто он вознесся в ночное небо. Холодное, звенящее тишиной, с крохотными звездочками, что были и рядом, и где-то в невероятной дали.
«Нужно было взять факел. Со светом оно как то…»
Но куда вернуться, Гудо не знал. Тогда он мелким шагом направился к одной из звездочек, которая показалась ему не так уж и бесконечно далека. Неровный пол, то в продолговатых ямах, то в ступенчатых подъемах, замедлял путь. Но, как и любое расстояние, которое можно пройти, этот путь Гудо одолел. Он с явным удовольствием протянул руку и снял с каменной ниши древний бронзовый светильник, на вытянутом носике которого плясал веселый язычок пламени.
Теперь Гудо мог видеть что у него под ногами и даже на несколько шагов вокруг себя. Дальше уже можно было догадываться и присматриваться. А это уже не липкая темнота, которое уродует даже собственную вытянутую руку.
Нерешительность исчезла, но и ясность не наступила.
Маленький язычок мерцал и грозился исчезнуть при каждом широком шаге его нового хозяина. Поэтому Гудо, даже при видимости ровного пола, засеменил и уже готов был вовсе остановиться. К тому же у него теперь не было цели пути, а попасть в какой-нибудь из туннелей, имеющий ответвление – это явный шанс заблудиться и оказаться в смертельной опасности.
Остановившись, он огляделся в поиске чего-то удобного для отдыха и успокоения внутреннего волнения. Хотя, что может быть удобного в мире камня, темноты и настораживающих звуков. Разве что…
Гудо подался вперед, заведя светильник за спину. Так и есть. Где-то там он увидел что-то похожее на маленький костер. Явно костер, а не крошечный язычок светильника. Никогда прежде Гудо не тянуло к людям. Но в этом мире пещер все было иначе. Прав Философ – это другой мир, и попавший в него моментально становится другим. Здесь не увидеть уродства лица, не определить с первого взгляда породу человека, не понять – это друг, враг или никто и ничто.
– Я могу подойти? – тихо спросил Гудо в нескольких шагах от этого источника жизни.
– Подойди, добрый человек.
– Не…
«Не называй меня добрый человек», – едва не вырвалось из глубины души Гудо.
Ему тут же вспомнился маленький купец на лесной дороге. На той самой дороге, что привела Гудо к его дорогим сердцу Аделе и Грете. Тогда он тоже просил не называть себя «добрым человеком».
Ах, как давно это было! В совсем другой жизни. В одно мгновение перед ним пронеслись воспоминания. Грязные улицы Витинбурга, постылый дом умершего палача, проведенные им казни и пытки, бюргемейстер Венцель Марцел, его дочь Эльва, судья Меркель, несчастный Патрик, горожане и пришлые люди Альберта. А еще ненавистный злодей Мартин. Тот, которого палач Гудо должен был задушить тогда в лесу, едва его подозрения насчет этого зверя подтвердились. Не задушил, не убил во время пыток, не сжег на справедливом костре, и теперь жизнь вернула Гудо в его, неоплаченный перед нею, долг. Страшно вернула мраком ада и нестерпимым желанием как можно мучительнее лишить жизни это скользкое и мерзкое творение сатаны. Страшная мысль вдруг пронзила мозг палача Витинбурга. А что если это сама справедливость толкнула его лодку к галере ужасного герцога, чтобы именно так подготовить встречу с исчадием ада Мартином. Встречу, которая должна закончиться лишь одним – смертью негодяя.
Только… Гудо дал Господу и себе слово – не убей, не обижай, помоги. Но действительно ли оно в отношении дьявола в человеческом обличии? Разгневается ли Господь, если Гудо еще раз в жизни нарушит свое слово? Ведь уже было – покалечил он моряков на острове Лазаретто. И наказан за это расставанием с его любимыми девочками и пребыванием в мире жутких пещер.
Не прав Философ. У каждого своя жизнь. Жизнь для Гудо не цепочка. Его жизнь круги. Возвращающие и возвращающие в прошлое…
Маленький купец Арнульф… Его слова «добрый человек» и дорога, изменившая жизнь палача Витинбурга…
– Я посижу у костра.
– Присаживайся, добрый человек.
Гудо промолчал. Он скользнул взглядом по облику старика в истрепанной сутане священнослужителя, по лежащему возле него телу, что едва подавало жизнь пульсирующим дыханием, и тут же с отвращением уставился на костер.
– Это человеческие кости, – глухо произнес Гудо.
– Этим костям уже много веков. Если к ним подложить сухой мох, немного древесины, того, что осталось от древней добычи мрамора, и полить маслом, которое я украдкой сливаю со светильников, получится то, что помогает понимать – я жив, я еще человек. Еще Господь бог оберегает меня и придает сил не поддаться силам зла и искушениям.
– Ты священнослужитель?
– Я был священником. Теперь я просто раб Божий, Матвей. У меня есть вода. Я знаю места, где она накапливается. Я уже давно здесь. Полгода. А может быть год или больше. Только помоги мне вначале напоить этого молодого человека. У меня не хватает сил.
Гудо опустился на колени возле лежащего тела. Знающе, он зажал нос молодого человека и в образовавшееся отверстие в густой бороде тонкой струей из знакомого ему светильника стал сливать воду. Гудо отпустил нос, почувствовав, как ожил человек и потянулся к спасительной влаге. Потянулся и тут же стал откашливаться.
– Светильник тоже украден?
– Здесь не приходится мучиться совестью и из чего-то выбирать.
– Вода это начало жизни. А как здесь с пищей?
– Как Господу будет угодно. Но иногда те, кто ломают камень в этой яме приходят ко мне за словом божьим и кое-что оставляют на пропитание. Но моя основная пища это общение с Господом.
– Его нужно поить понемногу и часто. А еще нужна хорошая пища. Хорошо бы мясная. У него голодная болезнь. Сужен пищевод. Даже воду с трудом пропускает. Этот человек без правильного ухода не проживет и двух дней.
– На все воля Господня.
– Это так, – согласился Гудо и все же голова его несогласно кивнула.
Он повернул голову умирающего к огню и вздрогнул.
Не веря своим глазам он тут же расправил космы волос и краем рукава отер лицо.
– Не может быть! О, Господи! Ты испытываешь меня? Патрик! Неужели это ты?
– Уверяю тебя незнакомец, ты ошибаешься. Этого молодого человека зовут Франческо Гаттилузио. Я знаю горестную историю его жизни.
Но Гудо, казалось, не слышал слов старого священника. Он гладил по голове едва живого человека и продолжал шептать:
– Патрик. Мой дорогой друг Патрик. Как же так… Что же это… Патрик…
Перед его мысленным взором стоял улыбающийся Патрик. Дорогой сердцу несостоявшийся помощник палача города Витинбурга.
* * *
Сколько прошло времени, Гудо не знал. Он смотрел на крохотные язычки пламени и видел большие голубые глаза Патрика, его улыбку на полноватых губах и в бесчисленный раз вспоминал слова того, кого сейчас называл дорогим другом.
«Воры говорят, что тот, кто обнялся с палачом, остался жить и не стал калекой, будет жить долго».
Тогда, после этих слов, Гудо, и сам не понимая почему, с сомнением покачал головой. Знал ли он, что бывший вор будет убит вором за предательство своего ремесла? Понимал ли, что ремесло вора губит своего хозяина чаще, чем наемника на войне? Подсказал ли ему бог, или что-то то, что внутри самого Гудо?
Но уже в первую встречу с несчастным Патриком, Гудо почувствовал – молодому вору долго не жить. И вина в этом, большей частью, лежит на нем – господине в синих одеждах, палаче, которого обходили даже уличные кошки и облетало черное воронье. Одичалая от одиночества душа Гудо потянулась к тому, чего ему всегда в тайне желалось – к настоящей мужской дружбе. Дальше большее – он почувствовал себя старшим братом. Ему было о ком думать и даже чуточку заботиться.
О эта судьба, жестокая судьба проклятого людьми и наказанного Господом! Насмехаясь, судьба вырвала из сердца немного тепла, что подарила дружба с Патриком, а Господь этого не пожелал заметить и пожалеть многократно кающегося Гудо. Всякий, сблизившийся с палачом Гудо, человек был обречен судьбой на страдания и даже смерть. Судьба, насмехаясь, сблизила палача и вора. Смеясь, она отобрала у палача друга. И теперь судьба еще раз криво усмехнулась. Используя волнующие воспоминания о прошлом, она предала неизвестному человеку черты лица дорогого друга, чтобы еще раз больно сжать сердце, растянуть душу и взбрызнуть горечью мозг.
Умирающий тихонько застонал. Гудо скорее машинально, чем от желания, тут же принялся его поить. Маленькими каплями, медленно и с пониманием.
– Спасибо тебе, добрый человек. А когда Франческо поправится, он сам тебя отблагодарит. Он славный молодой человек, но ему так много пришлось пережить. Ведь он поправится?
Гудо уже готов был произнести «Нет», но размягчившееся сердце, не желающее горя никому, произнесло:
– Если будет на то воля Господня.
Старик-священник тут же благодарно положил морщинистую ладонь на руку своего гостя и радостно сказал:
– Да, да! Так и будет. Господь не желает смерти этого молодого человека. Ему еще жить и жить. Ведь верно? Ведь так?
– Верно, – с натугой выдавил Гудо и вздрогнул.
Протяжный звук охотничьего рога застал его врасплох.
– Это Философ созывает свою сатанинскую рать. Тебя тоже звали?
– Да.
– Что же ступай. Но помни, это язычник. Его слова обман, а предлагаемая им пища – яд! И пусть хранит тебя Господь. Ведь ты добрый человек. Я это чувствую.
Гудо поднялся и остановился в нерешительности.
– Иди налево. Отсчитаешь у стены пять светильников, сверни направо. Иди на светильники, что образуют треугольник. А там уже услышишь и голоса. А еще тебе поможет сатанинский рог этого язычника. И еще…
– Слушаю тебя старик.
– Принеси немного хлеба. Это не мне.
– Хорошо, – кивнул головой Гудо.
* * *
Дороги в этом королевстве тьмы все же существовали. Они были так же просты, как направления в море, плыви куда желаешь, но и весьма опасны, плыви, пока не наскочишь на риф или отмель. Можно было просто бежать по ровному полу, но можно было угодить в яму или удариться ступней о выступ. В мрачной черноте это творение рук человеческих, казалось, не имеет берегов, но, то тут, то там вдруг поднимались и уходили вверх стены. Их невозможно было сразу узреть, и даже светильник в руке Гудо не мог предупредить заранее.
Но и в этом мире, как и в оживленном торговлей и рыбной ловлей море, человек создал себе помощников на случай, когда ночь застигнет корабль у неизвестных берегов. Крохотные язычки древних светильников, как маяки на побережье, указывали и путь и предостерегали от опасностей.
Гудо точно выполнил наставления старого священника, отчитывая светильники. Он также сразу сообразил, почему на полу мерцают огоньки, требующие остановиться, чтобы не угодить в расщелины и ямы. Пленник ада Марпеса даже потрогал такой светильник и убедился, что он накрепко закреплен теми, кто множество веков назад прокладывал дорожки в этом ином мире.
Раздался протяжный и необычайно звонкий в отражении стен звук охотничьего рога. Едва он умолк, Гудо услышал в нескольких шагах от себя голос:
– Мы ждем тебя. Иди за мной.
Тут же вспыхнул факел, облегчая и путь, и душу. Такой яркий огонь был роскошью в подземелье. Им явно дорожили. Оставалось лишь догадываться о том, как умело передвигались в темноте люди Философа. С одной стороны им отлично были известны знаки светильников, порой образующие сложные фигуры. С другой – было какое-то чувство, сродни летучим мышам, что позволяло ориентироваться и быстро перемещаться в любом направлении.
Так решил Гудо, когда из темноты возникали люди, невооруженные огнем, и там же растворялись.
Над тщательно отполированном веками столом Философа властвовали два факела в закрепленных на стене металлических подставках. Их подрагивающий свет отражался от столешницы и играл отблесками на глиняных мисках, горшках и кувшинах, в которых горками лежали лепешки, каша, сыр, морковь, сушеные фрукты, а также в горлышках чернело вино.
«Щедро для ада», – подумал Гудо и осмотрелся, пытаясь разглядеть всех участников пира. Но у стола сидел лишь Философ и хорошо знакомые Весельчак и Ральф. Всех остальных скрывала проклятая тьма.
– А это ты, господин Эй? Садись вон на тот камень. Ешь, пей вдоволь. Такое у нас случается. Но редко, очень редко. А вы ешьте, ешьте… – мягко сказал Философ, заметив, как воры отодвинули от себя миски. – Знаю: вкусить хлеб вору за одним столом с палачом – несмываемое пятно на чести вора. Но знаю, что есть и другое…
– Вор, обнявшийся с палачом и не ставший калекой, будет жить долго, – удивляясь сам себе, пробормотал Гудо.
– Есть такое, – примирительно откликнулся Весельчак.
Ральф только фыркнул и тут же запил неудовольствие вином. Посмотрев на опустевшую кружку, вор опять наполнил ее веселящим напитком и попытался пододвинуть для наполнения кружку Философа.
– Нет, нет! – засмеялся хозяин стола. – Философы живут не для того, чтобы сладко есть и пить, а едят и пьют малость для того, чтобы жить. Налейте гостям медового настоя. А мне тот напиток, за который человек готов душу отдать, если его мучает жажда, но который он небрежно проливает, если его имеется вдоволь.
В руке Гудо тут же оказалась большая чаша с золотистым густым напитком. Он отхлебнул. Приятная сладость размягчила рот и господин в синих одеждах, не отрываясь, выпил чашу до дна.
– Что жизнь человеческая, как ни дни за днями. И все же жизнь не те дни, что прошли, а те, что запомнились! Этот день вам запомнится. Хотя… Что такое земная жизнь, как не посмешище для того, кто испытал ее на себе в полной мереф?
– Как это верно, учитель, – раздался тихий голос из темноты. – Но зачем тогда живет человек?
Философ принял из темноты кружку с водой и отпил:
– Вечный вопрос, на который вечно пытаются ответить смертные. И простые и владыки земные. И глупцы, и философы. Расскажу вам одну притчу любопытную…
Гудо выпрямился. Из мрака выдавились людские тела и замерли, едва обозначив себя. Философ провел ладонью по своей огромной плеши и чуть повысил голос:
– Когда молодой царь царей взошел на трон, он уже очень многое знал. Но ему хотелось знать еще больше. Он посмотрел на свою огромную библиотеку и понял, что все эти книги ему не удастся прочесть. У него было много дел и множество походов. Ему стало жаль, что так коротка человеческая жизнь, и задумался он о жизни, а более всего над вопросом – зачем живет человек?
Тогда царь царей позвал мудрецов и приказал им прочесть все книги библиотеки, выбрать самое главное, что может ответить на вопрос – зачем живет человек? Мудрецы трудились долго – годы, десятилетия. Уже немолодому правителю они принесли сто книг, в которых было самое важное о человеке и его предназначении. Но слишком мало было времени у царя царей, чтобы осилить эти книги. И тогда он велел оставить самое главное. Но и на это главное ушли многие и многие годы.
Повелитель совсем состарился, когда ему принесли пять книг – сокровище над сокровищем. Опечалился уже старик Повелитель. Он понимал, что уже не успеет прочесть и эту малость. Поклонились мудрецы и вновь принялись за работу. Уже на смертное ложе они принесли всего одну книгу. Повелитель с трудом открыл обложку и попросил: «Напишите коротко и сейчас – зачем живет человек?» Мудрецы переглянулись и отступили на шаг. И тогда самый дряхлый из них решительно написал: «Человек живет, чтобы выжить!»
Философ выпил воды и обвел взглядом своих гостей.
Весельчак, неизвестно чему улыбаясь, маленькими глотками отпивал вино. Ральф, пододвинув глиняную миску, с увлечением, рукой, заканчивал кашу. Господин Эй опустил голову на грудь и, казалось, крепко уснул.
Но это только казалось. Гудо не пропустил ни единого слова. Но странное дело – слова Философа к концу рассказа стали длиннее и тяжелее, а движения руки Ральфа, отправляющие комки каши в рот, медленнее и даже отрывисты.
«Я устал. Я, кажется, опьянел. Я долго был голоден и ослабел. Нужно…»
Гудо потянулся и взял большую лепешку. Она была еще свежей.
«…язычник! Его слова обман, а предлагаемая им пища – яд!..»
Старик-священник, умирающий, чье лицо так схоже с лицом несчастного Патрика, огоньки светильников, люди тьмы за спиной, голоса, голоса, голоса…
– Вечная тревога, тяжелый труд, перенесенные болезни, лишения, борьба всегда и везде – только в таких условиях крепнет человек, и только крепкий человек выживает!
– Учитель, – голос из тьмы. – Как же выжить?
– Освободите свое сердце от ненависти – простите всех, на кого были обижены. Освободите свое сердце от волнений – почти все они бесполезны. Живите в простоте – цените только то, что имеете. Отдавайте больше – ожидайте меньше. То, что ты не хочешь иметь завтра, отбрось сегодня, а то, что хочешь иметь завтра, приобретай сегодня…
– Сегодня… – глухо повторил Гудо слова Философа и, отломив кусок лепешки, стал медленно жевать.
– …Очень легко проверить, окончена ли твоя миссия на Земле: если ты жив – она продолжается и ведет тебя по ступеням вверх. Человек живёт до тех пор, пока карабкается вверх. Он не замечает того, что жизнь уходит от человека еще быстрее, если человек не интересуется ею.
– Учитель, кто по-настоящему умен?
– Тот, кто не радуется жизненным благам…
«…жизненным благам» – почти одновременно с Философом закончил и Гудо.
– Кого можно считать бестолковым?
– Того, кто не умеет толком ни поругать, ни…
– Похвалить, – первым выкрикнул Гудо. Не успев остановиться, за ним повторил и Философ:
– …остановиться.
В наступившей тишине было жутко слышать, как Гудо стал коренными зубами грызть сочную морковь. После паузы из темноты выплыл еще один подготовленный вопрос:
– Чем может утешиться человек, попавший в беду?
Философ искоса глянул на мужчину, чьи синие одежды в мерцании факелов отливались пурпуром, и медленно стал отвечать:
– Умный человек утешает себя тем, что сознает неизбежность случившегося…
– …Глупец утешается мыслью, что с другими произошло то же, что и с ним! – Гудо сам того не желая рассмеялся. – Правильно я закончил? Ведь это слова греческого мудреца Платона.
– Верно, – ничуть не смутившись, ответил Философ, подливая в чашу, где был медовый напиток, пенистого вина, – Повторить мудрости древних, значить оживить их.
– А мой учитель… Из подземелья… Там далеко на севере… Говорил: «Любой человек источник мудрости, и только ленивые негодяи, не желающие черпнуть из колодца своего разума, учат других словами философов, выдавая их за собственные мудрости. Нужно всегда говорить – этот мудрец сказал, этот мудрец написал»…
Гудо пьяно качнулся и, расстегнув камзол, с трудом затолкал под него две лепешки. Он посмотрел на обнявшихся и покачивающихся от смеха воров и сам громко рассмеялся:
– Величайшее наказание ада заключается в том, что его обитатели знают, что их страдания будут длиться вечно. Точно такое же величайшее благо рая заключается в том…
Философ рассмеялся еще громче, чем его гости. В порыве смеха он и закончил начатое Гудо:
– … Что его обитатели знают, что их блаженство будет длиться вечно!
– Здорово, Философ! Ты тоже знаешь наизусть «Книгу замечательных историй», что для мук моих ученических написал Абуль-Фарадж[92]. Ох, и бит я был моим… Если не мог закончить мысль из притч этой самой книги…
Гудо более всего на свете желал прекратить свой дикий смех и вообще удалиться от глаз людских. Но у него не было ног, а в груди его сидел смешливый дьяволенок, что щекотал его изнутри гусиным пером. Палач Гудо знал, что казнить человека можно и птичьим пером, проводя ими в нужных местах, особенно по ступням и под мышками, не прерываясь долго. Веселая и очень страшная смерть. Но он не мог удержаться. Уж очень смешная плешь была на голове Философа. А его рожа…
– Мало тебя бил твой учитель, – состроил новую рожицу хозяин стола.
Гудо зашелся продолжительным смехом. Он с трудом застегнул несколько пуговиц камзола, чтобы не потерять лепешки. Затем он с усилием ударил по собственным ногам и свалился на бок. С трудом став на четвереньки, веселый гость стал уползать прочь в темноту.
Там за границей факельного света люди тьмы расступились, давая ему дорогу в неизвестность. И даже что-то говорили. То ли мудро напутствуя, то ли насмехаясь над ним. Но Гудо было все равно. Он тащил свое тело по каменному полу, не замечая камешков, что ранили кисти рук и колени. Наконец он остановился и с трудом затолкал в свой рот три пальца. Его тут же вырвало и он отправился в дальнейшее странствование на унизительных четвереньках.
Гудо еще дважды успел вырвать, хотя попыток предпринимал немало, прежде чем его ушей настиг странный шум. Затем он увидел то, что к нему приближалось, и в бессилии крепко закрыл глаза.
«О, мои дорогие девочки! Господи, покажи мне их… Скажи, суждено ли мне выжить и увидеть их наяву?.. Нужно выжить… Зачем живет человек? Господи, помоги мне перед смертью увидеть их… Сжалься…»
Глава восьмая
Джованни Санудо отчетливо слышал каждое слово. Мать и дочь говорили на своем северогерманском языке, не подозревая, с каким интересом их беседу подслушивал великий герцог. Не подслушивал, а просто находился в нескольких шагах от матерчатой стены шатра, за которой Герш трудился над их нарядами.
«Они должны привлечь внимание. Именно для этого я тащил их за собой. В моей свите все должны выглядеть достойно и богато. С привлекательного вида начинается уважение. А там…»
Джованни Санудо довольно провел рукой по своему новому шелковому камзолу в голубых и желтых тонах и поправил огромную золотую герцогскую цепь на груди.
«Нужно было сказать Гершу, чтобы не слишком… Девушки должны смотреться не вызывающе, а зовуще. Чтобы каждый остановил на них свой взгляд. А потом уже будут с интересом рассматривать их владыку».
Что будет дальше с девушками, герцог еще не решил. Он просто чувствовал, что они ему пригодятся. Может нужно будет кому-то подарить, продать или подложить в постель. Поэтому и взял этих селянок с собой. Поэтому и тратится на то, чтобы они выглядели подобающе.
«Золото, женщины, вино – вот то, что из юноши делает отчаянного мужчину, и они же из мужчины делают раба».
Кто это сказал? Ах, да! Друг Гальчини. Дорогой друг его юности мудрец Гальчини.
Джованни Санудо прикусил нижнюю губу. Что это ему вдруг вспомнился тот, кто годился в отцы, но был искреннейшим другом. Ах, да! Эти сороки говорят о странном чудовище в синих одеждах, который, без всякого сомнения, каким-то образом связан с Гальчини. Тут же герцог машинально провел рукой по низу живота и тяжело вздохнул. То, что он ежедневно должен пользоваться серебряной трубочкой, тоже связано с Гальчини.
– Наверное, Гудо улыбнулся бы, увидев вас в таких прекрасных одеждах. Может даже и рассмеялся, радуясь, что у него такие славные девочки.
– Я никогда не видела, чтобы Гудо смеялся. А улыбка его… Знаешь, мама, я так боялась его улыбки… Давно. Тогда еще в его страшном доме, в котором он нас лечил от чумы. Я помню, как боялась и его улыбки, и его лица, и его огромных рук. Теперь, я так хотела бы, чтобы он мне улыбнулся и погладил ладонью по волосам. У меня уже отросли волосы. Я ведь уже не похожа на мальчишку?
– Ты, Грета и на острове была не очень похожа на мальчишку. Только короткие волосы и грязные пятна скрывали твое милое личико. Век, пока живу, буду молиться за покойного отца Морани, который спас тебя от позора, придумав так.
– И за Гудо тоже…
– Да, да и за Гудо тоже будем молиться. За нашего спасителя и верного друга.
– Ведь мы еще встретимся. Ведь он жив? О чем я спрашиваю. Он жив. Он найдет нас.
– Да, да, милая Грета. Он обязательно найдет нас. Только нам пока не о чем беспокоиться. Мы сыты и вот какие чудесные наряды на нас. А вот Гудо… Что с ним? Где он? Кто с ним рядом – Господь или…
– Конечно же Господь, мама. И Господь приведет его к нам. Он еще должен многому меня научить. Он обещал. Он сдержит свое слово. Ведь он самый надежный и верный друг!
– Друг…
Как-то странно и очень грустно произнесла женщина. Произнесла с тяжким и продолжительным вздохом. Как будто приподнимая тяжелейший камень на душе, что прирос к этому дару божьему.
– А знаешь, Грета, эти чужие волосы на твоей голове как будто твои родные. Они так хорошо смотрятся. Особенно в этой золотой сетке. А как хороша наша Кэтрин! Просто загляденье.
«Какие еще чужые волосы? – встрепенулся герцог, – Может Герш надел на нее парик? Совсем разорить меня решил проклятый еврей».
– Выходите! – нетерпеливо воскликнул Джованни Санудо. – Нам пора идти.
«Да они и впрямь хороши, дьяволицы», – чуть усмехнулся герцог.
Женщина одета в скромный наряд, подобающий кормилице знатного младенца. Разве что это новомодное декольте, несколько углубленное и расширенное к плечам. Но это вовсе не те «адские окна» как говорили церковники, что портные некоторых грешниц опускают едва ли не к талии. Тем более что платье Герша имело вставку и шнурованный сбоку и сзади лиф. А еще под платьем была, без сомнения, нижняя рубашка со специальными кармашками, которые поддерживали большую кормящую грудь. И все же отороченная мехом полупрозрачная вставка вызвала некоторое неудовольствие герцога. Хотя… Подумав, Джованни Санудо согласился и с ней. Пусть жадные мужские взоры посмотрят туда с желанием и удовольствием. Младенец кормится сытно, как и должно быть у великого герцога наксосского.
Хорошо, что младенца с его изуродованным ухом не увидать в атласном широком одеяле с соболиной каймой.
А вот девушки загляденье.
Особенно младшая. Ну такое приятное и чисто ангельское личико. А какое оно еще должно быть у почти еще ребенка? Хотя изящный котт[93], заниженный к талии, с покатыми плечами и большим овальным вырезом проймы подчеркивал девичью хрупкость и красоту юной девушки, тяжелые и дорогие ткани, а особенно веерообразный шлейф сзади делали ее старше. Но именно этот контраст и вызывал умиление и даже восторг. Особенно притягательны были густые черные волосы девушки, тяжесть которых едва сдерживала серебряная сетка в редких, но крупных жемчугах.
Старшая из девушек казалась не так притягательна рядом с младшей. Но это лишь до того мгновения, когда первый взгляд, сменялся вторым, более внимательным. Черты лица ее нельзя было назвать правильными, но любой художник выбрал бы именно ее из сотен и сотен других, чтобы попытаться выразить на холсте странную особенность, когда отдельно рассматриваемые губы, подбородок, щеки, брови, носик, желали некоторого усовершенствования, но собранные воедино поражали гармонией и строгой красотой. Именно такие лица были у древних статуй богинь и первых красавиц античного мира. А еще глаза – удивительно огромные, добрые, в несколько прохладной синеве которых было приятно оставаться, как у озера в жаркий полдень.
«А этот парик ей к лицу, – удовлетворенно хмыкнул герцог. – Только бы не узнали…»
Конечно, париком никогда не удивишь. Носили его древние римлянки и гречанки, царицы Египта и жрицы восточных богов. Вот только сейчас парик вызывал тревогу и сомнение. Ведь им во время повальных болезней, а особенно сифилиса, от которого очень редеют волосы, пытались скрыть приобретенные уродства и травмы. Но искусно сплетенные волосы от знатока женских одеяний Герша были даже лучше природных, отливая блеском свежей соломы и сияя благородством чистого золота. К этой короне как нельзя подходило кертле[94] в красно-желтых тонах.
«Дорогой товар. Да, дорогой товар, – мелькнуло в голове Джованни Санудо, но он так и не решил, к чему это относится: к самим девушкам или к их нарядам. – Как расплачиваться? А расплачиваться придется. Герш может на смех поднять, а для моего великого плана это смертельное ранение. Неплохо было бы на моих людей одеть сюрко[95] с моим герцогским гербом, но это время и деньги. Того и другого у меня в самой малости. Да и как расплачиваться?».
Герцог с грустью посмотрел на улыбающегося из-за спин девушек Герша и кивнул ему:
– Ладно, ладно… Постарался. Вижу. Только денег…
Герш в мгновение ока оказался возле герцога:
– Деньги это да! Конечно! Но и милость великого герцога многого стоит.
– Да? – чуть удивился Джованни Санудо. Герша он знал давно, но все же чуть удивился.
– Можно деньги не сейчас. Не сегодня.
– Да и завтра не получится. И даже…
Герцог оглянулся на свою свиту. Знаменоносец, арбалетчики, мальчишка-слуга, все это очень нужные люди. А вот лекарь…
Джованни Санудо даже улыбнулся:
– А может, я тебе лекаря отдам. Ученый человек. Нужный!
Герш поморщился:
– Кого другого… Вы же знаете – мои торговые дела в основном на Востоке. А там европейских лекарей не ценят. Разве что на галеры веслом махать…
«Старого лиса не проведешь. Точно нос по ветру держит».
И тут же великий герцог вспомнил своего дорогого друга юности, великого врачевателя Гальчини. Когда это было? Да, пожалуй, лет двадцать назад. Они пили вино. Джованни Санудо с интересом слушал старшего по возрасту друга о его путешествиях по землям сарацин и о многом другом.
– …Ты думаешь, у меня есть возможность разбогатеть на Восточных землях? Нет, мой дорогой друг Джованни. Христианский лекарь никогда не сможет себя прокормить среди сарацинов. И не только потому, что он неверный. А скорее от того, что никто не пойдет просить помощи у лекаря европейца. Таких считают неучами и ангелами смерти. По большей части так оно и есть.
– Гальчини, друг мой, ты столько лет провел в святых землях, столько лет учился у лучших врачевателей Востока…
– Это так. Но… На мне печать презрения, как на всяком лекаре-христианине, изучавшего медицину в Европе. И ее не смыть. По крайней мере, при моей жизни и сотни лет после моей смерти.
– И что же это за печать?
– Печатью этой зовется «Книга назиданий». Вот она. Я купил ее за пять золотых монет. В школе врачевателей Дамаска. А составил ее Усама ибн Мункыз[96].
– Сарацин.
– Великий мудрец и великий воин. Сейчас я тебе кое-что прочту. Дело было давно, когда крестоносцы еще владели землями на святой земле. А вот оно, это место! Слушай:
«Властитель аль-Мунайтыры написал письмо моему дяде, прося прислать врача, чтобы вылечить нескольких больных его друзей. Дядя прислал к нему лекаря-христианина, которого звали Сабит. Не прошло и двадцати дней, как он вернулся обратно.
“Как ты скоро вылечил больных”, – сказали мы ему. “Они привели ко мне рыцаря, – рассказывал нам лекарь, – на ноге у которого образовался нарыв, и женщину, больную сухоткой. Я положил рыцарю маленькую припарку, и его нарыв вскрылся и стал заживать, а женщину я велел разогреть и увлажнить ее суставы. К этим больным пришел франкский[97] лекарь и сказал: “Этот мусульманин ничего не понимает в лечении. Что тебе приятнее, – спросил он рыцаря, – жить с одной ногой или умереть с обеими?” – “Я хочу жить с одной ногой”, – отвечал рыцарь.
“Приведите мне сильного рыцаря, – сказал лекарь, и принесите острый топор”. Рыцарь явился с топором, и я присутствовал при этом. Лекарь положил ногу больного на бревно и сказал рыцарю: “Ударь по его ноге топором и отруби ее одним ударом”. Рыцарь нанес удар на моих глазах, но не отрубил ноги; тогда ударил ее второй раз, мозг из костей ноги вытек, и больной тот час же умер. Тогда лекарь взглянул на женщину и сказал: “В голове этой женщины дьявол, который влюбился в нее. Обрейте ей голову”. Женщину обрили, и она снова стала есть обычную пищу франков – чеснок и горчицу. Ее сухотка усилилась, и лекарь сказал: “Дьявол вошел ей в голову”. Он схватил бритву, надрезал ей кожу на голове крестом и сорвал ее с середины головы настолько, что стали видны черепные кости. Затем он натер ей голову солью, и она тут же умерла. Я спросил их: “Нужен ли я вам еще?” И они сказали: “Нет”, и тогда я ушел, узнав об их врачевании кое-что такое, чего не знал раньше”…»
Вот такая печать, известная во всех странах Востока. Так что, мой дорогой друг Джованни, мне легче на Востоке обогатиться, предав себя искусству палача. Палач-христианин с особыми знаниями этого ремесла особо востребован!
– Палач? Да ты шутишь. Ты великий лекарь и искусный хирург!
– В Европе хирург и палач – два брата близнеца. Только палач зарабатывает солиднее, а смертных случаев в его ремесле немногим больше, чем у хирурга. У того, если больной не умрет от боли, то вскоре скончается от грязной крови. А палач он и есть палач. Тем более, что палача никто не смеет ни судить, ни казнить. А вот лекаря обвинить в колдовстве и сжечь – пара дней! Тем более того, кого разыскивает вся папская свора…
* * *
Всезнающий Герш провел герцога наксосского и его свиту правильным путем. Он был действительно более удачно выбранный, хотя пришлось обогнуть весь город за стенами, чтобы оказаться возле акрополя, возвышенности, на которой стояла бывшая византийская крепость, а теперь местопребывание ее завоевателя – короля сербов и греков Стефана Душана.
Возможно, короче, как расстояние, но никак не по времени, путь через сам город грозил долгими остановками из-за людской толчеи, множества скота, повозок, а также грязью, что непременно бы испортила одежды людей герцога, и собственно, его настроение.
Весь путь, искушенный в торговле, а значит, в политике и быту, старый еврей скороговоркой рассказывал о том, что представляет двор круля Душана и о его многочисленных гостях, съехавшихся на неудавшуюся охоту. Большинство из того, что поведал Герш, было известно герцогу наксосскому, но кое-что и ускользнуло от внимательного к таким делам Джованни Санудо. Особенно то, что произошло в последние месяцы при дворе Душана Сильного и его властвующих соседей за время путешествия герцога в Венецию.
Перегруженный новостями двора короля Душана, герцог велел помолчать старому купцу, но ни на шаг не отставать от него в крепости.
Ворота некогда грозной византийской цитадели были распахнуты. Не было смысла их держать на засове, так как через них почти безостановочно входили, выходили, въезжали и выезжали многие – от старушки с непослушной козой, до отряда молчаливых воинов, обвешанных оружием. Гостей никто не останавливал и ни о чем не спрашивал до тех пор, пока они не просились во внутренний двор главной башни.
Здесь уже все было по иному – начиная от недоверчивых взглядов огромного роста стражников, до необычных для этих мест нарядов приближенных короля.
– Сойди с коня! – сквозь зубы велел еще совсем юноша в белой византийской тунике с красной каймой, возле узких ворот из крепкого дуба, укрепленного железными полосами.
– Я великий герцог наксосский Джованни Санудо! – едва сдерживаясь, громко провозгласил владелец столь высокого титула.
– Да хоть папа римский, – пьяно икнул юноша и отошел на шаг вправо.
Отсюда ему было хорошо видна вся свита прибывшего чужестранца. Но едва скользнув по людям герцога, ненадолго задержав внимание на грозного вида каталонских рыцарях, он просто впился глазами в миловидных девушек сидящих на смирных мулах.
– Ну, – после долгой паузы напомнил о себе герцог.
– Что, ну?
– Я желал бы выразить свое почтение великому королю Стефану Душану и…
– Наш великий круль болен, – печально вздохнул юноша.
– Со мной знаменитый лекарь, который…
– Лекарь!? – громко воскликнул юноша и весело рассмеялся, – Сейчас. Жди.
Юноша в византийских одеждах кивнул головой, и стражники открыли ворота, в которые он с поспешность и нырнул.
Проводив взглядом грубияна, позволившего себе дважды прервать знатного гостя, Джованни Санудо с некоторой тревогой стал наблюдать, как на стенах внутреннего двора стало прибывать все более и более голов любопытных зрителей. Эти зрители безо всяких церемоний и довольно громко стали обсуждать… девушек герцога.
«В конце концов, к этому я и стремился. Хорошо, что девчонки не принадлежат к моему роду, а то бы пришлось отвечать этим негодяям на их соленые слова и похотливые взгляды».
Ждать пришлось недолго. Из ворот в сопровождении дерзкого юноши вышел тщательно выбритый толстяк, также в тунике и в красном плаще, изящно переброшенном через плечо.
– Сойди с коня! – строго велел толстяк. – Ты находишься у ворот двора царя сербов и греков Стефана Душана.
Джованни Санудо тяжело сполз с седла. Вслед за ним последовала вся его свита.
– Я – Матиош. Магистр официорий[98] нашего славного короля. Прошу следовать за мной. За вашими животными присмотрят. И не забудьте своего знаменитого лекаря, – с усмешкой закончил самый могущественный человек при дворе.
Так, во всяком случае, посчитал Джованни Санудо, отлично знакомый с государственным устройством и порядком при дворе Византийских императоров. Теперь, зная со слов Герша, что король Стефан настойчиво внедряет при своем дворе византийские порядки, ему будет легче и много быстрее разобраться в ситуации, услышав наградные и должностные звания придворных. Хотя это выглядело несколько и смешно.
«Уж очень самонадеян король Стефан Душан. Он уже видит себя на константинопольском престоле. Христианин желает трон христианина. Но его еще нужно завоевать и пролить множество крови. А это не театр, который он устроил в собственном доме с переодеванием и раздачей ролей комедиантам».
Перед низкими дверями башни Матиош очень громко возвестил:
– Герцог наксосский к его величеству королю сербов и греков Стефану Душану со свитой и знаменитым лекарем.
Это известие привлекло большое внимание множества народа, толпившегося во внутреннем дворе и на его стенах. Раздался громкий говор, и даже смех. Люди возбужденно обсуждали свиту герцога и бесцеремонно тыкали в нее пальцами. Ждать пришлось долго, стоя на ногах под пристальными взглядами неизвестно чему улыбающихся людей короля Стефана.
Джованни Санудо собрал всю свою волю, чтобы не разразиться гневом и сохранить самообладание. Занятый этим, он даже не заметил, как отошел от него Герш, и как тихо он, спустя время, оказался у правой руки:
– О-хо-хо! – вздохнул старый еврей.
– Чего ты? – едва скосил взгляд герцог.
– Тяжко будет. Ох, тяжко.
– Говори.
– Стоит ли?
– Говори.
– Посмотрите налево. Туда, на стену.
Джованни Санудо медленно повернул голову. Те две головы, что были нанизаны на копья, возвышающиеся над зубцами стены, уже никогда не повернутся.
– Это два лекаря, чьи руки не смогли справиться с коленом короля Стефана. Других трех, чьи мази, примочки и растирки также не помогли – оскопили. Теперь они пополнили ряды эктомиал. Евнухов так мало было при дворе короля Стефана…
Джованни Санудо глянул через плечо. На лице лекаря Юлиана Корнелиуса лица не было. Вместо него было белое полотно, густо орошенное мелкими каплями пота.
* * *
В другом случае Джованни Санудо искренне и громко рассмеялся бы. Наверное, так, как сейчас потешались многие вельможи, воины и слуги короля Стефана, уже выделившие из свиты герцога лекаря. Но сейчас герцогу наксосскому было не до смеха и потехи. Дело касалось не только венецианского лекаря, но и его самого, притащившего и представившего сомнительные достоинства Юлиана Корнелиуса как знаменитого врачевателя.
Но в это мгновение Джованни Санудо более гневался на императоров Византии, многое перенявшие у владык Востока, а особенно веру в то, что евнухи самые надежные и преданные слуги, часто возводимые в высокие государственные ранги.
Герцог был частым гостем при дворе византийских императоров. Ребенком он присутствовал при беседе отца герцога Никола Санудо с императором Михаилом Палеологом. Уже взрослым сам Джованни Санудо имел аудиенции у императора Андроника Палеолога, а затем и у сменившего его сомнительным способом ныне властвующего императора Иоанна Кантакузина. И даже едва не дружил с соправителем Кантакузина, императором и сыном Андроника Иоанном Палеологом.
Только хорошо знающий императорский двор человек мог столько лет быть у высокого христианского трона, некогда владевшего половиной мира. Из сложнейшей и запутанейшей системы придворных званий и рангов, Джованни Санудо знал, что ниже императорских титулов выделялись две категории чинов – наградные, исключительно почетные придворные сановники, и чины жалуемые посредством приказа, то есть государственные люди. Но первые чины были важнее, потому что были рядом с императором. Именно их разделили на три категории: женщины, барбати[99] и эктомиалы, евнухи.
Последних всегда не хватало для всех должностей византийского двора, предусмотренных для самых верных и надежных служителей. И это при том, что дети, превращенные в евнухов, постоянно поставлялись в Константинополь по веками сложившимся путям и традициям.
Что было в голове короля Стефана, трудно было понять. Особенно то, как он решил добиться преданности от только что кастрированных взрослых лекарей. Одно дело кастрировать и воспитать ребенка, совсем другое лишить мужчину его главенствующего начала. Ничего хорошего, а тем более преданности от этого не приходилось ждать. Это точно знал искалеченный Джованни Санудо.
Воспоминание о своем горе и это странное и жестокое подобие византийского двора заставило дрожать левую руку Джованни Санудо.
– Матушка, у тебя болит раненая нога?
– Болят косточки.
– Гудо смог бы их правильно сложить, и ты бы никогда не хромала от боли. Дай я подержу Андреса…
– Не смей! – резко повернулся к дамской составляющей свиты герцог наксосский.
Джованни Санудо едва сдерживал себя. Особенно его раздражала трясущаяся левая рука.
«Нужно успокоиться и собраться. Нужно. Я уже сделал неправильный шаг. Теперь эта девчушка и ее мать знают о том, что я понимаю их язык. Я видел их испуганные лица… А этот Гудо мог правильно сложить кости… Его учил мэтр Гальчини. Мэтр Гальчини… Друг Гальчини…»
Мысли герцога были прерваны резкими звуками труб и ударами барабанов.
«Нет. Под такую музыку византийские императоры никогда бы не вышли к народу».
Стефан Душан не вышел. Вместо него, пошатываясь и облизывая жир с губ, появился хорошо знакомый герцогу сводный брат короля Симеон Синиш, одновременно и близкий родственник одного из византийских императоров:
– Я сево… Севастро… Севастократор[100], будь он неладен, Симеон рад приветствовать… Прости Джованни, выпил лишку. Мы тут все скорбим… О здоровье нашего короля. Пойдем. Только старик не в духе. Он в главной зале башни и велел ложе подтащить к окну. Он впечатлен твоей свитой. Никто из правителей не додумался порадовать глаз короля своими дамами. И напрасно. Королю уже не до них. Даже с лошади и то соскочить затрудняется. Пошли.
По тому, как безвольно болталась голова короля, прозванного Сильным, Джованни Санудо понял – боли в ноге замучили огромного и мужественного мужчину.
Королю Душану еще не было сорока пяти лет, но его лицо, вытянутое, с кожей цвета старого пергамента, на котором сеткой лежали морщины, невыгодно выставляло его древним старцем. И неудивительно. Сколько же ему пришлось провести лет в седле в бесконечных воинских походах, страдая от жары и холода, следовать под проливным дождем и просыпаться под снегом, есть в седле и пировать на залитом кровью поле сражения! Так было долгие годы великих завоеваний, когда славный король в привычках едва отличался от своих выносливых сербов.
И вот сейчас, на старости лет, он решил изменить свое отношение к жизни. Почувствовать сладость власти и богатства. Но изящное ложе с огромной периной и покрывалами, окрашенными в пурпур, украшенная золотом, личная стража короля, многочисленные придворные, неумело кутающиеся в роскошные византийские наряды, драгоценная посуда, что стояла на столике рядом с ложем, никак не подходили суровому воителю, украшением которому более приличествовал стальной меч.
Король и герцог были едва ли не однолетками, и Джованни Санудо знал об этом. Но сейчас, глядя на измученное лицо Стефана, герцог назвал бы его старшим братом, даже скорее отцом. Как к таковому и были произнесены первые приветственные слова герцога наксосского. Но они длились недолго. Король устало махнул рукой, велел замолчать.
– Давно не виделись, Джованни. Где твой знаменитый лекарь?
– Вот он. Ученый лекарь Юлиан Корнелиус.
Джованни Санудо с трудом вытащил из-за спины ужасно вспотевшего доктора медицины.
– Какие эскулапы[101] учили тебя, лекарь? – тихо спросил король.
Герцог подтолкнул в спину едва дышащего Юлиана Корнелиуса. Тот, очнувшись, недоуменно уставился на пьющего вино короля.
– Ч-что, ваше в-в-величество? – заикаясь, переспросил лекарь.
– А! Заика! Не говорили ли древние: Medice, cura te ipsum[102]!
– Non quaerit aeger medicum eloquentem, sed sanantem[103], – вдруг очень здраво ответил Юлиан Корнелиус. Видно опыт студенческих дискуссий отрезвил лекаря. – Не могу блеснуть красноречием, но я не заика. Это просто волнение в присутствии столь великого короля. Мои познания в медицине от профессуры Салернского университета.
– Откуда ты?
– Из Венеции…
– Да, да… Герцог наксосский, ведь ты тоже из венецианцев?
– Нет, ваше величество, – как можно мягче возразил Джованни Санудо. – Герцогство Наксосское это… Э… Я следую из Венеции с поручением…
Король Стефан махнул на герцога рукой. Глаза больного были сурово направлены на лекаря, а рука в окно на копья с головами:
– Там голова генуэзца, предложившего отрезать мне ногу, и грека с какого-то маленького, как и у твоего герцога, острова, который лишил меня чувств, выкручивая колено. Надеюсь, ты искусный лекарь, и тебе не придется сушить рядом с ними свою голову. Да и с другими бывшими горе-лекарями тебе не захочется знакомиться. Ведь так?
Юлиан Корнелиус опять побледнел. Отрезвление постыдно бежало. Пот опять выступил на его лице.
– Вот мое колено.
Король с вызовом откинул покрывало, бесстыдно оголив голое от пояса тело.
Юлиан Корнелиус мелкими шагами приблизился к ложу и бессмысленно уставился на густо поросшие седыми волосами низ живота и ноги грозного правителя Греческого полуострова. Тут же он почувствовал легкий толчок в спину и оказался возле распухшего правого колена короля. У ступни этой ноги невозмутимо занял место сам герцог наксосский.
– Однажды, при штурме одной из крепостей я неудачно спрыгнул с лестницы…
– Я неудачно спрыгнул с лошади, – морщась, прервал герцога Стефан Душан. Но ему было приятно, что когда-то кому-то было также больно и неприятно. – Продолжай!
– У меня были смешены в коленном суставе кости голени и бедра. Колено чудовищно опухло. Нога похолодела и совсем онемела…
– Так и есть. Проклятая лошадь. Проклятый комит[104], подсунувший эту лошадь. Пусть теперь прыгает на одной ноге. Нужно было отрубить обе. Продолжай!
– Тогда пришел искусный лекарь…
– Такой как твой?
– Да! Он положил руки на опухшее колено и стал нежно ощупывать его…
Герцог пристально посмотрел на Юлиана Корнелиуса. Тот, подчиняясь словам и грозному взгляду, положил обе ладони на ужасно опухшее колено короля и стал медленно водить ими по превратившемуся в желе сочленению ноги.
– Лекарь нашел такое место у моего поврежденного колена. Король позволит? Я покажу.
Не отрываясь от золотой чаши с вином, Стефан Душан кивнул головой. Герцог отодвинул лекаря, и, быстро перебирая пальцами, ощупал колено, несколько раз больно надавив.
– Сатана тебя проглоти, герцог! – взревел король. – Ты думаешь, твоя голова на железной шее?
– Простите, ваше величество. Beata stultica[105]. Блаженная, но простительная глупость. Я переживаю вашу боль, как собственную. И даже больше. Мне все так памятно о той моей травме ноги. Господи, как я страдал. Все. Предадимся знаниям лекаря.
– Скорее, – сквозь зубы процедил Стефан Душан.
Герцог с одобряющей улыбкой смотрел на бессмысленные движения рук Юлиана Корнелиуса.
«Лишь бы лекарь не свалился на пол в беспамятстве. Тогда все пропало. Но не об этом… Так! Друг Гальчини, сейчас ты меня или убьешь, или сделаешь великим владыкой!»
– У лекаря для вас, ваше величество, есть к счастью спасительная мазь. Эй!
Два арбалетчика, пропущенные вместе с герцогом и лекарем в башню, поднесли ящик лекаря и открыли крышку. Юлиан Корнелиус тоскливо посмотрел на герцога, но встретив суровый взгляд Джованни Санудо, со вздохом стал перебирать свои склянки и горшочки.
– Скорее! – воскликнул король.
Лекарь открыл ту из склянок, что попала ему в это мгновение под руку, и вскрыл ее. Наполнив руку слизистой массой, Юлиан Корнелиус стал втирать ее в опухшее колено.
– Под коленом. Особенно тщательно под коленом, – напомнил герцог, оказавшийся вновь у стопы больного.
Лекарь приподнял сочленение ноги и стал втирать в этом месте свою «спасительную мазь».
«О, Господи помоги сделать все правильно. Господи… И ты, мой друг Гальчини. Великий лекарь Гальчини…»
Джованни Санудо обхватил руками стопу и голень больного. В следующее мгновение, заслоняя короля своей огромной спиной от стоящих в пяти шагах придворных, он потянул ногу Стефана Душана к себе и повернул ее вправо.
– А-а-а-а! – закричал король и тут же умолк.
– Это чудесная мазь. В этом случае только она и способна спасти вашу ногу, ваше величество! – громко воскликнул герцог наксосский.
Почувствовав неладное, к ложу стали медленно подходить особо приближенные к королю вельможи:
– Что произошло?
– Что с королем?
– Он, кажется, не дышит. Проклятый герцог, твой проклятый лекарь убил короля!..
– Это проклятый герцог убил короля вместе с лекарем…
– Джованни, ты решил убить короля? – едва ли не с восторгом выкрикнул сводный брат короля Симеон.
– Нет, нет, – громко воскликнул Джованни Санудо. – Король жив. С ним все в порядке. Это мазь так действует. Сейчас король сам вам скажет.
Проворно, как кошка, герцог оказался у изголовья Стефана Душана и подсунул под его тонкий и изогнутый, как у ястреба нос, открытую склянку. Король мотнул головой и тут же открыл глаза. Он мутно посмотрел на стоящего рядом герцога и тихо велел:
– Лекаря в подземелье. Завтра… я сам сдеру с него кожу. А ты Джованни на это посмотришь, а потом я решу, заодно ли ты с лекарем.
Десяток вельмож набросились на несчастного Юлиана Корнелиуса. Мешая друг другу, они принялись бить его и рвать одежды.
– Завтра! – крикнул король, и стража выхватила ученого доктора из рук разгневанных придворных и уволокла его за дверь.
«Пожалуй, и при дворе византийского императора с лекаря содрали бы кожу…» – решил Джованни Санудо и с поклоном покинул королевские покои.
* * *
Посланник Венеции при дворе короля Стефана Душана щедро подливал в бокал Джованни Санудо превосходное фессалийское вино. Наливал в великолепный венецианский бокал, превосходящий по красоте своей тот бокал, через стекло которого герцог наксосский еще недавно горько созерцал горящую галеру «Афродиту».
Это неприятное напоминание отразилось неприязнью, с которой Джованни Санудо беседовал с молодым, но весьма ловким венецианцем Джокомом Палестро.
А каким еще должен быть посланник Венеции. Ненапыщенно, но дорого одет. С чувством высокого достоинства, но с любезной учтивостью. С умением слушать с уважением старших, но не позволяющий слишком отклониться от нужной ему темы беседы. Достаточно прост, и слишком умен. Достойный своих предшественников и учителей тайный доносчик Совета десяти. Благодаря ему и сотням других посланников Венеция знает все, обо всех и больше всех вместе взятых.
Говорят, многие короли и императоры пытались подкупить приставленных к ним посланников Венеции, чтобы иметь полное представление о мире, в котором они властвуют, о соседях, добрых и не добрых, а главное о том, кто при их собственных дворах замышляет противное против них самих.
Дорого, ох дорого дали бы владыки за малую часть известий, что ежедневно получает дож республики Святого Марка от своих явных и тайных посланников.
«И где их только выращивают? Как их готовят к столь сложной миссии и как поощряют? Что это за люди, которые способны из воздуха черпать тайную информацию», – не переставал задавать себе вопросы Джованни Санудо в течение всей беседы.
Джокомо Палестро прибыл едва ли не сразу же после того, как герцог наксосский возвратился в тяжелых думах в свой шатер. Прибыл и, не спрашивая позволения, тут же выставил на стол лакомства, сладкое вино и волшебные бокалы своей родины. С одной стороны, да, посланник не мог не поприветствовать своего земляка. Хотя и номинально, но герцог наксосский все же и корнями своими и обязательствами и делами принадлежал республике Святого Марка. А значит, был венецианцем. А если венецианец, то никак не проплывет мимо сети венецианского посланника. Обязан побывать в сетях, в таких густых, что не пропускали и бродягу с тощей сумой. Даже мелкая рыбешка на суп годится. А герцог наксосский не мелкая рыбешка!
– Что там за шум? – раздраженно выкрикнул Джованни Санудо.
Тут же в полог палаточной занавеси просунулась голова купца Герша:
– Это прибыли воины вашего старого знакомого Стешко.
Герцог гневно махнул рукой и голова скрылась.
Мало того, что старый еврей решил спать у палатки, охраняя вложенные в Джованни Санудо свои финансовые средства. Теперь еще король Стефан прислал стражу, чтобы герцог наксосский и не думал ускользнуть от его гнева и расправы. Интересно, защитит ли его могучая Венеция, если дело примет опасный оборот? Но об этом нельзя спрашивать посланника Венеции, ибо тот мгновенно схватится за нить и распутает своими хитрыми вопросами весь клубок мыслей и планов Джованни Санудо.
Тем более, что герцог уже стал пьянеть от крепкого дармового напитка.
Молчать, молчать и молчать!
Но это не так-то и просто в присутствии этого диковинного зверька, помеси льва, лисы, куницы, совы и еще дьявол знает чего и кого. Прислала его нелегкая в такое нелегкое время для герцога наксосского. Хорошо, что беседа ни о чем и ни о ком. И не так-то и просто споить Джованни Санудо.
– Просто немыслимо, как бывают иногда обстоятельства сильнее желания и воли. Даже великих правителей земных. Как казалось правильно и удобно устроить большую королевскую охоту. Съехались многие правители и ближние люди тех, кто не смог или имел другие причины не предстать перед могущественным королем сербов. Даже явные враги не посмели не услышать Стефана Сильного, не то, что друзья, – Джокомо Палестро со вздохом наполнил бокалы и продолжил, учтиво заглядывая в глаза герцога. – Где и когда можно встретить во дворе крепости тех, с кем вчера сражался на смерть и тех, против кого затачиваешь меч сегодня. Хотя жизнь и политика учит: утром враг, в обед союзник, вечером вассал. Но скажу о себе. Иногда правильно в мыслях… Подчеркиваю! Только в мыслях! Надеть на себя корону и мантию владыки и посмотреть вокруг себя. И что же в таком случае увидел бы я глазами короля Стефана Душана?
Джованни Санудо притворно зевнул и припал к бокалу с вином. Но это ничуть не смутило прожженного ученика тайного Совета десяти самой всезнающей державы на земле:
– Я автократор[106] многих земель, под началом которого многочисленное и закаленное в боях войско, которое существует в силе, пока сражается и побеждает. Мне нужна война, чтобы содержать это многочисленное воинство, а значит свое могущество. Куда направить свой поход? Кто мои союзники, а кто возможные союзника моего врага?
Но нужно помнить; у великих правителей нет врагов, как и нет друзей. Есть только политика, превращающая врага в друга, а если нужно и наоборот. Но только на нужное время! И каждый, враг или друг, желает знать на какой он сейчас стороне, по моему желанию, согласно моему решению.
Кого приблизить к своему коню во время охоты? Кому послать лучшую часть добычи после нее. Кому дать знать рогами, копытами и костями, что я им не доволен, и предлагаю хорошенько подумать, как себя вести в той или иной ситуации. А вы как думаете, уважаемый герцог?
– Да. Охота это важно, – многозначительно поднял указательный палец левой руки Джованни Санудо.
Венецианский посланец терпеливо выждал огромную паузу, но герцог так и ничего не добавил к своему многозначительному персту. Огорчительно крякнув, Джокомо Палестро продолжил:
– Я смотрю глазами Стефана Душана на Стефана Твртко. Без сомнения, через год-два он станет баном[107] Боснии. С ее нынешним баном Степаном Котроманичем я воевал долго и с переменным успехом. С его наследником, моим теской Стефаном, я договорюсь. Он еще молод и всего боится. Договорюсь и с прибывшим на охоту посланником венгерского короля Людовика, который точит зубы на Далмацию, что никак не отвечает интересам Венеции. Венеция готова поддержать меня, но на многих и сложных условиях. Тем более, что она несколько ослабела после войны и заключения не очень выгодного договора с Генуей…
– Договора? – выкрикнул, едва не захлебнувшись вином, герцог наксосский.
Венецианский посланник отметил про себя эту излишне эмоциональную вспышку герцога:
– Да, увы! Десять дней назад, шестого мая, такой договор был заключен. Что вы об этом думаете?
– Да я… Собственно… Что и сказать? – пьяно залепетал Джованни Санудо и замолк.
Джокомо Палестро опять выдержал глубокую паузу, опять не дождавшись продолжения мысли (или отсутствие мысли) герцога наксосского, уже нехотя продолжил:
– А тут еще прибыл деспот Мореи Мануил Кантакузин…
– Дьявол его притащил, – вспомнив встречу на лесной дороге с Мануилом и арнаутами, процедил сквозь зубы герцог.
Посланник Венеции короткой ухмылкой отметил эти слова собеседника.
– Прибыли посланники византийского императора Иоанна Палеолога. А вот посланника его соправителя и ярого врага Иоанна Кантакузина до сих пор нет! Посланники болгарского царя есть. Хорватии и Австрии есть. Даже турки старого врага Умур-бея из Смирны есть. И новые враги – турки-османы из Бурсы есть. Старик бей Орхан даже сына своего Мурада прислал! (Джокомо Палестро увидел, как при упоминании имени Орхана побелело лицо герцога, и как крепко сжался его правый кулак, лежащий на столе. Это выражение ненависти тут же легло на память молодого посланника). А вот от императора Византии Иоанна Кантакузина, повторяю, никого нет. Как тут мне, то есть Стефану Душану не отметить столь неприятное пренебрежение моей власти над Греческим полуостровом. Как тут не направить свой гнев против Константинополя. И только лишь в поддержку молодого императора Иоанна Палеолога, воюющего со своим соправителем? А может, и для захвата совсем прогнившей Византийской империи. Вернее то, что от нее осталось. Что вы думаете о таких умозаключениях?
– Мне бы день завтрашний пережить, – со вздохом произнес герцог наксосский.
– Да, да. Верно, – сочувственно покачал головой посланник Венеции и уже хотел добавить несколько слов, но вовремя умолк, понимая, что каждое его слово будет воспринято как выражение готовности поддержки Венецией правителя маленьких островков. От таких действий, без полномочий, лучше воздержаться.
Теперь Джованни Санудо с надеждой смотрел на своего гостя. Но Джокомо Палестро выдержал огромную паузу, запив ее двумя бокалами вина.
* * *
«Проклятые венецианцы. До чего длинные у них носы. Не сболтнул ли я чего лишнего? Нет. Кажется, нет. Ну, до чего пронырлив этот мальчишка Джокомо. Из шкуры вылезет во имя своей проклятой Венеции…»
Джованни Санудо долго не мог уснуть, многократно вспоминая и обдумывая беседу с венецианским посланником. Кажется все хорошо. Ведь разговор ни о чем и ни о ком, каким должен быть разговор с посланником Венеции. Ведь стоило бы только оговориться, и весь мощнейший механизм дознания и слежки могучей Венеции душу бы вытряс с герцога наксосского. И тогда покатилась бы голова Джованни Санудо по площади Святого Марка, а вслед за ней и множество других.
Ну, ничего. Все обошлось. Даже с пользой. Можно будет через венецианскую почтовую галеру отправить распоряжения капитану Пьетро Ипато на Парос.
Хотя Джованни Санудо и не упоминал Венецию без слова «проклятая», но все же отдавал должное ее организованности и деловитости. Особенно настойчивому внедрению во все интересы республики системы быстрой и надежной связи. Именно она обеспечивала торговый город обилием новостей из всех уголков мира.
Основывая государственную почту, Юлий Цезарь допустил огромную ошибку. Его древнеримская почта не предназначалась для частных лиц, а только для решения государственных задач огромной империи. Неслись по суше гонцы на быстрых лошадях, томились они на медленных кораблях и не догадывались, сколько же можно было заработать денег, если вовремя привезти известие о снижении цены на ткани в Египте, о подорожании зерна Северного Причерноморья, об уменьшении добычи меди на Кипре и о многом, многом другом. Получали они направление – «Statio posita in…», которое означало «станция, расположенная в…» и мчались, сломя голову, и ни о чем собственно и не задумываясь.
А вот мудрые венецианцы posita[108] научились использовать с наибольшей выгодой, ведь государственные, купеческие и частные дела граждан были направлены на обогащение республики Святого Марка. Именно для этого Венеция и жила, живет и будет жить. А значит, будет действовать отлично налаженная почта, единственно регулярная и надежная, которую не прервала даже черная чума.
Проснулся Джованни Санудо довольно поздно. Вяло поев холодной телятины с сыром и через силу залив ее большим количеством местного горького пива, герцог наксосский только в полдень вышел из своего роскошного шатра.
Небрежно кивнув властеличу Вайке, что как пес сидел у полога шатра, отогнав рукой бросившегося на встречу купца Герша, отругав знаменоносца, что прислонил герцогский стяг к какой-то пыльной повозке и неодобрительно посмотрев, как мирно рядком беседуют его девушки с рыцарем-«каталонцем» (при этом Грета не сводит глаз со второго «каталонца»-молчуна), Джованни Санудо велел своим телохранителям Аресу и Марсу приготовить оружие для упражнений. Необходимо было размять мышцы, разогреть кровь и развеять тяжкие мысли, что грозились перерасти в страх.
Закованные в броню гиганты тут же принялись надевать на своего хозяина доспехи и осматривать оружие. Их поспешные и уверенные действия говорили о том, что упражнения с оружием это то немногое в их жизни, что имеет смысл и которым стоит заниматься с любовью и вдохновением. Но едва через час они уже готовы были упражняться между собой и с герцогом, как у шатров его светлости поднял на дыбы коня гонец короля Душана.
Первым делом он шепнул на ухо поспешившему на его зов властеличу Стешко, а уж затем под бой барабана у его правого колена громко воскликнул:
– Всемилостивейший король сербов и греков Стефан Душан приглашает его светлость герцога наксосского Джовани Санудо с его свитой ко двору его величества. Немедленно! – еще громче выкрикнул гонец и с поспешностью умчался в своих важных делах.
Джованни Санудо попробовал в руке тяжесть своего меча и с одобрением посмотрел на то, как сжали рукояти своих мечей его верные псы-телохранители.
Герцог не стал снимать с себя добротные тевтонские доспехи, что всегда были в поклаже герцога. Ведь «немедленно» означает прибыть как можно скорее, не мешкая. Он с одобрением похлопал по надежной броне и несколько раз взмахнул мечом. Тут же герцог с усмешкой осмотрел окружавших его воинов Стешко и со смехом сказал властеличу:
– Эй, как там тебя? Стешко! Поедем через город. Распорядись, чтобы воины твои расчистили путь герцогу наксосскому. Его немедленно желает видеть твой король Стефан.
Весь путь к византийской цитадели, над которой возвышался стяг сербского правителя, улыбка не покидала губ Джованни Санудо. Герцог улыбался, когда рассерженные необходимостью воины Стешко прогоняли с тесных улиц множество зевак-простолюдинов. Когда они вступали в перепалки и даже в стычки с воинами других отрядов. Когда Стешко с потом на лице объяснялся с благородными господами, прося прощение за причиненные неудобства. И едва не смеялся, когда хозяева перевернутых повозок, преграждавших путь, тихо проклинали сербских наглецов. Его потешали шум и ругань, остававшиеся за спиной его свиты, веселили мрачные лица встречных, что вынужденно теснились к каменным стенам домов Арты, и приводили в восторг камни и гнилые овощи, летящие в воинов Стешко.
Чуть герцог помрачнел, когда увидел грозные стены и башни крепости, добротно сложенные со знанием всех тонкостей защитных сооружений.
«Если этот знаток военных укреплений Пьянцо Рацетти не приведет в порядок мои крепости на Архипелаге, я его высеку и засыплю раны солью. А потом отправлю в Венецию. А по дороге прикажу показать эти башни, стены и крепчайшие ворота».
Крепость и в самом деле была восхитительна. Опираясь на древний фундамент, состоящий из огромных циклопических глыб, она вознеслась ввысь точно подогнанным камнем на крепком растворе, стараниями и знаниями мудрых строителей-византийцев. Каменная твердыня была строга в своей неприступности и изящна в кладке и архитектурных формах. Теперь ее еще украшали одежды из множества флагов, стягов, полотнищ и балдахинов на стенах, под которыми коротали час в винных беседах знатные гости короля Стефана.
Много гостей, для которых любое развлечение было в радость, будь то пир, или пытка, или даже казнь. Может поэтому приезд герцога наксосского встретили с таким интересом и даже восторгом.
«Если что… Я вам устрою зрелище. Вы меня запомните!» – мысленно пообещал герцог, крепко сжимая рукоять меча.
У крепостных ворот его светлость со свитой встречал сам Симион Синиш. Такая честь, оказанная сводным братом короля, совсем стерла улыбку с уст Джованни Санудо. Ведь его ждали. Ждали с нетерпением. Вот только чего ждать самому герцогу? Почета и уважения? С чего бы это? А вот насмешек, шутовства и быть может издевательств и даже казни – это более вероятно.
Ну, что же… Если уж провалился великий план Джованни Санудо, так и не начавшись, то… Стоит ли дальше жить? Он не станет терпеть унижений, а жизнь свою герцог отдаст дорого. Очень дорого. Ведь с ним Арес и Марс, а значит, убитых и искалеченных будут горы, между которыми кровь будет течь рекой. К тому же и рыцари-«каталонцы» не дадут просто так в обиду девушек. Ведь герцог видел, как смотрит на Грету этот «немой» рыцарь.
– Нет, не сюда, – учтиво отворотил герцогского коня Симион Синиш. – Брат ждет тебя на большой площади крепости.
«Значит, будет просторней моим славным Аресу и Марсу», – не словами, а принужденной улыбкой ответил Джованни Санудо.
Внутренние стены крепости были обильно украшены гирляндами весенней листвы и венками первых цветов. От зубцов к земле свисали яркие ткани и крашеные мотки шерсти. Медленно и упруго колыхались длинные полотнища стягов. Неизвестно зачем, днем были зажжены факелы. Множество людей в праздничных одеждах смотрели со стен в ожидании предстоящего.
– Праздник какой-то? Или какие торжества?
– Сейчас узнаешь, – хитро улыбнулся в ответ Симион Синиш.
– Значит зрелище, – закивал головой герцог.
Еще чаще Джованни Санудо закивал головой, когда увидел посреди площади невысокий помост, в котором без труда узнавался эшафот. Разве что на нем не было позорного столба или виселицы. Но то и другое установить – дело одного часа.
За эшафотом, в окружении стражи и близких сановников на лежанке, покрытой дорогим бархатом, полусидел король Стефан, по привычке своей с золотым кубком вина. Одет он был в белую шелковую тунику с глубоким вырезом, через которую буйно клубились седые волосы, пряча большой золотой нательный крест.
Вопреки вводимым византийским обычаям, все сановники были одеты в привычные наряды своих земель дорого и красочно. Особенно выделялась стража в позолоченных нагрудниках и высоких шлемах.
– А, Джованни! Иди ко мне. Стань рядом, – весело на венецианском языке воскликнул король.
Герцог наксосский тут же повиновался, с некоторой горечью заметив, как быстро увели всех лошадей и выстроили в ряд его свиту. Между королем и герцогом заняли назначенное место трое грозного вида стражника.
– Джованни, ты думал обо мне этим вечером и ночью?
– Да, ваше величество, – не моргнув глазом, ответил герцог.
– Хорошо. И я о тебе думал. Думал до самой полуночи. А потом заснул. А потом проснулся. И знаешь что, Джованни?
Джованни Санудо вытер пот с лица:
– Что, ваше величество?
– Ладно. Это потом. Скажи мне, Джованни, что это за люди с тобой в крепкой броне? Кажется, их мечи испили много крови.
– Те, что ближе к вам мои ангелы-хранители, что не раз спасали мою жизнь в бою и охраняют мой покой и в день, и в ночи. Справа Марс, слева Арес…
– Ха-ха-ха! – рассмеялся король. – Значит римский и греческий боги войны. Сам их так назвал? Наверное, они стоят этих имен. Интересно будет на них посмотреть в бою. А те рядом с ними? Рыцари?
– Да, ваше величество. Это рыцари из Афин…
– «Каталонцы»! Сатана их проглоти! Вот смелость какая. Явиться на глаза православного короля! Их отцы разрушили множество христианских церквей и монастырей. А их дети… Воистину дети сатаны. Ничего не боятся. А может… Дай-ка я внимательней присмотрюсь… Да это же красавицы. Юные и очаровательные создания. Не они ли источник храбрости «каталонцев»? Что ж… Посмотрим, посмотрим… А это никак старый пройдоха Герш? Священник… Арбалетчики… Знаменоносец, мальчишка слуга… Кормилица с младенцем. Твой младенец? Ах ты, старый греховодник! Ведь у тебя нет жены. Я знаю. Мне многое о тебе за это утро рассказал мой братик Симион. А девочки прелестны! Ох, прелестны! Даже как-то и жаль мне…
– Чего вам жаль, ваше величество?
– Ну, ты же знаешь, моя нога… Ни на коня сесть, ни на девицу влезть. Было мне плохо… А тут ты со своим лекарем. Эй, ведите лекаря!
Уныло пропела одинокая труба. За ней глухо с долгими перерывами ударил барабан, сопровождаемый грустным напевом нескольких местных флейт.
Маленькая дверца башни открылась и через нее двое стражников боком выволокли несчастного Юлиана Корнелиуса. Лекарь был одет в широкий балахон из мешковины затянутый под горло. Его тело бессильно свисало на руках стражника, а на вспухшем от побоев лице нельзя было прочесть ни единого чувства.
Стражники почти бегом вытащили тело лекаря на эшафот и замерли в ожидании приказа короля.
– Ты ничего не хочешь мне сказать, Джованни?
Джованни Санудо закрыл глаза. Он почувствовал, как из его мочевого пузыря потекла струйка, хотя этот сосуд герцог тщательно перед выездом освободил.
– Не хочешь? Тогда посмотри, что вы со мной сделали!
Джованни Санудо с трудом открыл глаза и скосил взгляд.
Король отбросил покрывало. Герцог пошатнулся и дрожащим голосом спросил…
– Что это, ваше величество?
– Это? Это так нужно. Так сказал и сделал сегодня на зоре твой лекарь. Помогите лекарю. Освободите его тело и душу…
Джованни Санудо смотрел то на лекаря, то на ногу властелина греческого полуострова. Смотрел и не верил своим глазам. Искалеченная нога короля Стефана Душана была крепко, и умело обездвиженная при помощи дощечек и полотняного жгута. Самое необходимое действие при излечения сложного вывиха. А лекарь, после того как с него сорвали мешочный балахон, предстал в богатых шелковых одеждах.
Вернее не предстал. Юлиан Корнелиус тут же свалился с ног, едва отступила от него стража. Он был смертельно и сладко пьян.
– В полночь я почувствовал облегчение. Колено уже не так противно ныло, и даже слегка стухла опухоль. Наутро я был рад, что твоего лекаря не задушили ночью мои… Бывало такое. А после того, как он перевязал ногу и наложил мазь, боли совсем прекратились. Вот такой у тебя славный лекарь. Вот такая у него волшебная мазь. А теперь… А теперь проси!
Джованни Санудо бессмысленно осмотрелся. С трудом приходя в себя, он увидел стоящего на коленях и державшегося за сердце старика Герша. Сам не зная почему, герцог тихо сказал:
– Твои воины сожгли ювелира. С ним было немного золота, которое принадлежало…
– А! – весело воскликнул Стефан Душан. – Узнаю истинного венецианца. Со страха готов обделаться, но о золоте не забывает. Понимаю, это золото твоего пройдохи Герша. Не о том ты должен просить. Впрочем… Но я же сам своим «Законником» велел сжигать всех ювелиров, что без позволения и стражи разгуливают по моей земле. Ты же знаешь, как много моих вассалов тайком желают чеканить золотые монеты, нанося этим вред моей державе. Я их сжигаю, а ювелиры все равно ползут на прибыльное дело. Так что не наказывать, а награждать я должен тех, кто выполняет мой закон. Но с твоей просьбой я разберусь. Обещаю. Пусть Герш живет. Он еще и мне пригодится. Как и его друзья, ювелиры Дубровника. Но не о том ты просишь…
Герцог устало снизил плечами. Потом тряхнул головой и уже тверже сказал:
– Мне нужно поговорить с вашим величеством. Но не сейчас… И тайно без свидетелей.
– Это уже серьезней, – кивнул головой король. – Хотелось бы сейчас устроить пир в честь скорейшего выздоровления. Но мне мешает нога, а тебе твои доспехи…
– Я занимался воинскими упражнениями, когда получил повеление немедленно прибыть к вашему величеству. Рыцарь должен каждый день упражняться с оружием. Я не посмел медлить и сразу же сел на коня.
– Похвально. Похвально и то, что герцог не только от рождения рыцарь, но и удостоен этого звания по заслугам. Брат говорил мне, что тебя посвятил в рыцари сам магистр тевтонского ордена!
– Это было еще в дни моей молодости.
– Ну, раз так, то… А почему бы мне не устроить рыцарский турнир? В честь моего правого колена. Нет, нет… Шучу. Просто турнир в честь прекрасных дам. В честь Девы Марии и ее непорочности. А твои красавицы – девственницы? Шепни мне на ушко. После славных побед моего войска на этой земле не осталось ни одной девственницы. Спасибо, что хоть бы ты порадовал глаз непорочной чистотой. Быть турниру, если охота пока откладывается. Все решено! Готовьтесь все к рыцарскому турниру!
* * *
Вечером Джованни Санудо в полной мере отыгрался на венецианском посланнике.
Расчувствовавшийся до слез старый Герш целовал руки его светлости герцогу и укрыл стол лакомствами и превосходным вином. Снисходительный в этот вечер Джованни Санудо даже позволил старому еврею разделить его дары в достойном обществе. Стремительно опьяневший от потрясений этого дня Герш быстро свалился под стол, так и не закончив свои бесконечные жалобы и просьбы к Джокомо Палестро, то есть к Венеции. Вторым, кто не выдержал полных бокалов, наливаемых собственной рукой герцога, был сам венецианский посланник. Огромное количество вина и частые беседы в его парах со многими прибывшими на охоту к королю Стефану ослабили молодое тело.
Джованни Санудо со злорадством смотрел, как безвольно болталась голова венецианца, как он пытался руками придерживать самую важную часть своего тела, и как направлял Джокомо Палестро глаза и уши, силясь уразуметь печальный рассказ лекаря.
А Юлиан Корнелиус говорил очень тихо и медленно. Ночь, проведенная в ожидании пыток и казни преобразила болтуна лекаря и состарила его на двадцать лет. Странно еще, как он смог наложить на колено короля добротную повязку. Его руки тряслись, а левый глаз все время поддергивался.
После утреннего насильственного опьянения Юлиан Корнелиус к вечеру отошел и излагал свои ночные страхи и телесные боли от побоев весьма детально и ярко. Потрясенный организм вечернее вино принимал как воду, и лекарь казался единственно трезвым участником обильного застолья. Но это только казалось.
Приковав к себе внимание, Юлиан Корнелиус почувствовал себя очень важным человеком и стал медленно, но уверенно приближаться к тому собственному образу, что был ему присущ. Он уже трижды перебил самого герцога и дружески обнимал венецианского посланника. Он рассказывал о своих бесстыжих студенческих выходках и об обманах деканов и профессуры на зачетных испытаниях. Наконец он договорился до того, что его лекарское мастерство удивительно в своем совершенстве и что он, наверное, единственный медик который может и мертвого вытащить из могилы.
Для примера, Юлиан Корнелиус стал рассказывать, как он лечил лодочника в странных синих одеждах, утыканного стрелами как несчастный от рождения ежик. Поглощенный своими мыслями и предстоящей беседой с королем Джованни Санудо не сразу сообразил, отчего вдруг стал стремительно трезветь венецианский посланник и почему его вопросы приобрели смысл.
– Еще раз повтори, кто был тот труп, что лежал на дне лодки?
– Какой лодки? А той, где был лодочник!
– Ну да. В той лодке, в которой был жуткий лодочник в странных синих одеждах…
– Я же говорю… Секретарь нашего великого дожа. Я видел его несколько раз в Венеции на собраниях и торжествах. Я даже знаю его имя – Анжело…
– Быть не может! – схватился за голову венецианский посланник, – В секретных… Это вам не нужно знать. В них ничего не указано о столь важном деле. Ведь убийство ближнего человека дожа… Почему мне не сообщили? Ума не приложу!
– А-а-а! – безразлично пьяно махнул рукой Юлиан Корнелиус. – А вот когда я резал этого странного лодочника, то он…
Могучая рука герцога наксосского подняла за ворот лекаря:
– Пора отдохнуть. Нам всем пора отдохнуть.
– Верно, – согласился Джокомо Палестро и стал укладывать непослушную сегодня голову на доски стола.
– Марс! Арес!
Тут же возле Джованни Санудо выросли два его верных пса.
– Доставьте венецианского посланника в целости и сохранности в его жилище. А то он еще устроит по дороге пьяную драку. Эти венецианцы такие забияки, хвастуны и задиры… А в городе множество пьяных. Таких же забияк, хвастунов и задир. Лекаря и этого старого еврея вынесите и положите под повозку. Чтобы дождь их не намочил. Положите рядышком. Один другого стоит… Да сено под них положите. Ночи холодные еще…
Оставшись наедине, Джованни Санудо налил себе большой бокал вина и высоко поднял его над головой:
– За тебя и твою великую науку, мой дорогой друг Гальчини!
Осушив до последней капли бокал, герцог даже всплакнул, припоминая прошлое. А особенно короткое время в Мюнстере перед отбытием в Мариенбург[109], главный город тевтонского ордена.
Тогда будущий герцог и не надеялся стать повелителем Архипелага. Перед его наследованием стояли два старших брата, крепких и умных, достойных заменить их отца – герцога Николо Санудо. К тому же страшное уродство, лишившее Джованни возможности иметь собственных наследников, еще более удаляло его от престола отца, передавая старшинство еще одному, младшему за ним брату. Так что, не имея никаких шансов на престолонаследие, оставалось попытать счастье на чужбине, где можно было добыть славу и золото мечом и яростью.
Таким местом были земли литовцев и русичей, с которыми в непрерывной войне находился могучий Тевтонский орден. В его рядах, на правах «гостя ордена[110]», Джованни Санудо рассчитывал добиться славы и богатства, а возможно и клочка земли, на котором можно будет возвести собственный замок.
Путь к побережью Балтийского моря Джованни Санудо выбрал долгий и опасный – через земли многих государств, удлинив его еще отклонением в земли епископа Мюнстера. Именно в Мюнстере скрылся от глаз людских, а, что более важно от ока инквизиции папы римского, спаситель и друг мэтр Гальчини. К нему, через всю Европу, вез молодой Джованни, в наглухо закрытой повозке, жестокую месть за уродство, лишившее его более половины мужского счастья.
Да, еще оставались пиры, вино, война, охота, морские путешествия и, хотя малая, но власть над людьми. Но для молодого мужчины все это вместе взятое лишь половина счастья. Вторая половина – телесная близость и возможность иметь детей – была убита двумя суровыми братьями-мусульманами, ревностно следующими обычаям своего азиатского племени. Но придет время, и эти братья еще содрогнутся, узнав какую месть для них приготовил тогда еще совсем молодой Джованни Санудо. А скульптором, художником, величайшим творцом этого шедевра жесточайшей мести вызвался стать великий врачеватель и к тому времени палач – мэтр Гальчини!
Более трех месяцев гостил Джованни Санудо у своего друга. Почти каждый день он бывал в подземелье Правды. Присутствовал при первом шаге мести и услышал все подробности того, что намеривается проделать великий врачеватель и палач во имя мести друга. Еще многому учил. А чтобы пребывание было еще более насыщенным, Мэтр Гальчини ежедневно преподавал своему другу уроки, которые непременно пригодятся на войне. Владение оружием, хитрости, уловки, тактику и стратегию великих полководцев, а самое важное это наука о лечении болезней, ран и травм. Особое внимание Гальчини уделил складыванию костей, остановки крови и сшиванию ран. И все это на примерах живых людей. Вернее тех несчастных, что угодили в подземелье Правды в руки палача Гальчини.
Вспомнив о том, как Гальчини учил вправлять вывихнутое колено, Джованни Санудо четырежды усмехнулся. Именно столько раз Гальчини выворачивал колено у несчастного гончара, чтобы его друг правильно смог, и с одного раза, вправить сустав. Гончар орал, молился, рыдал и проклинал своих мучителей. Но разве ему простолюдину было дано знать, что его адские муки через многие годы спасут герцога наксосского и помогут самому могущественному королю Европы Стефану Душану!
И все же великий врачеватель и великий мудрец мэтр Гальчини был бессилен вернуть своему другу Джованни Санудо вторую половину счастья.
А скорее – первую!
Низ живота герцога напомнил о себе не только этим, но и жгучим желанием освободить мочевой пузырь от множества выпитого вина. Джованни Санудо со вздохом отстегнул свой шикарный гульф, и вставил в отверстие серебряную трубочку. Напрягшись, он стал сливать жидкость в широкий деревянный таз.
Почувствовав беспокойство, Джованни Санудо поднял голову и вздрогнул. У входа в шатер, округлив глаза, стоял проклятый лекарь.
– Я… Сказать слова… Поблагодарить за чудесное спасение…
Юлиан Корнелиус не договорил. Сжавшись от желания стать невидимым, лекарь выскользнул из шатра.
«Проклятый лекарь. Ты сгниешь, прикованный к веслу галеры. Завтра же Герш тебя получит. Заодно освобожусь и от части долга».
Джованни Санудо с горечью посмотрел на выдернутую от неожиданности трубочку, а затем на свободно текущую по ногам мочу.
* * *
«В предыдущем письме я подробно докладывал уважаемому Совету Десяти великого города Венеции о событиях при дворе короля Стефана Душана и о сложившейся политической обстановке.
Произошедшие в последнюю неделю события были столь важны, что я, ваш смиренный слуга Джокомо Палестро, посчитал необходимым направить к вам внеочередное донесение. Поистине эти события требуют скорейшего их рассмотрения и принятия неотложных мер.
События эти связаны с герцогом наксосским Джованни Санудо, вначале ставшего заметной фигурой при дворе короля Стефана, а затем заточенного вместе со своей свитой в стенах монастыря Феотокиу.
После чудесного излечения, в котором принял участие названный герцог и его лекарь, король Стефан объявил о рыцарском турнире в честь святой девы Марии, весьма им почитаемой. Но короткое время, отпущенное королем для подготовки и несколько по-варварски понимаемое это событие, превратило турнир в балаганное зрелище, где рыцари больше пили, чем сражались, а дамы прибывали в потаенных местах на утеху плотских потребностей, как своих, так и им выгодных.
К тому же поле для схваток было слишком мало, а вместо избранных судей все решения принимал король Стефан. В отсутствие лупленого оружия, что спасает участников турнира от ран и смертей, а так же турнирных копий без наконечника или в три железных наконечника, многие безрассудные храбрецы получили серьезные травмы и увечья. Также в турнире приняли участие множество участников, что не могли подтвердить свое рыцарское звание и благородство рождения. У них напрочь отсутствовали щиты с гербами и одетые, согласно расцветок господина, в необходимом количестве слуги и оруженосцы.
Множество дикого вида зрителей, сбежавшиеся с соседних гор, устраивали пьяные потасовки и оргии, некоторые из которых закончились пожарами. К счастью пожары быстро потушили жители города Арты, а затем, взявшись за оружие, прогнали дикарей в горы. Король Стефан очень этим потешался.
Из всех состязаний более-менее правильно прошли два: конный поединок и стрельба из лука на дальность и меткость.
В конном ристалище победу одержал рыцарь-«каталонец», открывший свое имя, звание и герб только после того, как сбил с коня достойного его соперника. Свою тайну он объяснил обетом, что дал после того, как умер его отец. Обет гласил, что рыцарь по имени Рени, будет хранить молчание по усопшему родителю барону Рамону Мунтанери, пока не сразится с достойным соперником и не победит его.
Как по мне, это очень попахивает пыльной сединой древних рыцарских подвигов на святой земле. Но, по-видимому, рыцари-«каталонцы» все еще бережно относятся к традициям и кодексу рыцарской чести.
Примечательно в этом событии два факта. Первое (незначительное для политического понимания) – барон Рени Мунтанери преподнес врученный ему за победу королевский кубок из золота с драгоценными камнями девице, что состоит при свите герцога наксосского, по имени Грета. При этом сам герцог настолько разволновался, что проронил слезу. Перед этим он едва не лишился чувств, услышав имя и титул «каталонского» рыцаря.
Совсем другие чувства вызвало у герцога наксосского преподнесение в честь своего преклонения дорогого ожерелья его второй девице из свиты по имени Кэтрин. Это преподнесение на глазах сотен и сотен зрителей, самого короля и его приближенных окончилось скандалом. Герцог Джованни Санудо с гневом отверг подарок, смиренно преподнесенный победителем стрельбы из лука. Им оказался, намного опередив и в точности и в дальности полета стрелы, один из сыновей турецкого бея Орхана из Брусы.
Герцога не смягчила даже просьба самого короля Стефана – проявить понимание и христианскую любовь, что равно принимает в сердце и друзей и врагов.
Кажется, король обиделся на то, что Джованни Санудо не уступил его просьбе.
Более того, король был явно рассержен и не оказывал уже знаки внимания к герцогу наксосскому после тайной беседы, что состоялась между ними на следующий день после праздничного пира. О чем была беседа, мне, к сожалению, пока не удалось выяснить. Но я приложу все усилия, чтобы прояснить этот вопрос. Если говорили двое, то слова их должен был кто-то услышать. А если нет, то у меня есть два свидетеля этой беседы – герцог и король. Но пока мне не удалось побеседовать ни с тем, ни с другим. Но король отбыл в Сербию, а с герцогом не состоялся разговор по причинам тому весьма важным и сложным.
Еще во время турнира и после него я множество раз пытался вызвать герцога наксосского на тайный разговор и всякий раз он находил множество причин не остаться со мной наедине, а то и просто избегал меня. Мне, кажется, он знает, какой вопрос я желаю ему задать первым.
А вопрос вот какой: где находится его лекарь Юлиан Корнелиус, и когда я смогу его допросить в связи с важнейшим государственным делом – убийством Анжело, личного секретаря нашего великого дожа Андреа Дандоло?!
Не имея сообщения от вас о столь важном политическом убийстве, произошедшем на территории республики святого Марка, я вначале не поверил сообщению какого-то простого лекаря. К тому же, приношу повинную голову, был весьма пьян от руки герцога во время разговора с указанным венецианским лекарем Юлианом Корнелиусом. Прошу скорейшего подтверждения от Совета Десяти о насильственной смерти секретаря дожа, или опровержения этого вопиющего преступления, чтобы я знал, идти ли мне по этому следу, или не тратить на него время и средства.
Но следующая новость ошеломила меня.
Через несколько дней после турнира неустановленные разбойники напали на Мурада, упомянутого сына турецкого бея Орхана. Многие из людей турецкого посланника были убиты, а он сам лишь чудом спасся. Король Стефан Душан, как простой христианин, просил прощения за то, что у его руки состоялось столь зловещее преступление. Затем он отправил Мурада на его земли под усиленной охраной.
А еще через день чудовищной силы дожди, пролившиеся в горах, наполнили бурным потоком реку Арахтос, которая обрушила два пролета моста через нее. Как ни странно, но это природное событие явилось причиной сопровождения герцога наксосского и его свиты в монастырские стены. Даже было объявлено о том, что дочери герцога наксосского своим колдовским пением явились причиной падения моста. Скорее эта варварская выдумка должна была скрыть истинную причину пленения Джованни Санудо. Сейчас я выясняю, а не герцог ли наксосский организовал нападение на сына турецкого бея? Предварительное расследование склоняет меня к этому выводу.
А что касается девиц, то они и вправду пели песни, переезжая мост, и мост якобы им ответил жуткими сатанинскими звуками. Правда ли то, что эти девицы ведьмы – весьма сомнительна, но и то, почему они возле герцога, тоже вызывает вопрос. Несмотря на то, что многие, даже в присутствии герцога, называли их дочерьми герцога, сам Джованни Санудо не подтвердил, и не опроверг такие слова.
А вчера жители селения Айхо привезли под монастырские ворота две деревянные скульптуры, названные святыми Венерой и Афродитой. При этом они утверждали, что посвящены статуи дочерям герцога наксосского, спасших их селение от пожара. Настоятельница монастыря матушка Пелагея с гневом прогнала святотатцев, осквернивших святые дары именами языческих богинь.
Эта история еще более разгневала короля Стефана, и он велел выставить стражу при особе герцога, а монахиням исповедать девиц на предмет их колдовского умения и служения сатане.
В довершение прилагаю письмо герцога наксосского к его капитану, прибывающему на острове Парос, которое Джованни Санудо просил передать нашей почтовой галерой. Копия снята тайно с сохранением герцогской печати. Прошу особо обратить внимание о беспокойстве герцога о некоем «господине в синих одеждах» и о желании с ним встретиться непременно. Мне так думается, что эта особа и есть лодочник, который может пролить свет на тайну смерти секретаря Анжело. Если его смерть все же имеет место быть.
Жду с нетерпением ваших указаний и разъяснений по указанным происшествиям.
Ваш покорный слуга и сын великой Венеции Джокомо Палестро».
Глава девятая
Гудо открыл глаза, но ничего не увидел.
«Я мертв. В лучшем случае, я слеп».
Он попробовал пошевелить руками, а затем ногами. Ни то, ни другое ему не удалось.
«Значит, я все же мертв. Но почему же тогда я думаю, что я мертв?»
– Я слышу, что ты затаил дыхание. Ты уже пришел в себя.
«Я слышу голос. Я жив!»
– Сейчас я вытащу из твоего рта кляп, но ты не должен кричать. Вот так. Хорошо.
– Я узнаю твой голос, старик. Ты тот священник…
– Верно.
– Почему на мне нет одежды? И… Я связан?
– Это я тебя раздел и связал. Раздел, чтобы ты не испортил свои одежды испражнениями и блевотиной. После того, что с тобой случилось, ты многое извергнул из себя. Но ничего. Я тебя уже отмыл. Ведь я знаю, где можно взять воду в этих темных пещерах. А связал я тебя и заткнул рот, чтобы ты не кричал и не наделал глупостей. То, что ты выпил, человека превращает в животное.
– Я ничего не почувствовал. Хотя… Должен был. Сладкая медовуха… Да, да… Сладость притупила мои чувства.
– Я тебя предупреждал, что слова Философа обман, а его пища – яд.
– Со мной так нельзя. Он дорого поплатиться…
– Это твое дело. Но не сейчас. Вот твоя одежда. А это немного мяса. Ты должен окрепнуть. Мне нужна твоя помощь. Ведь ты палач? Так говорят… О чем ты сейчас думаешь?
– Многим нужна была моя помощь, но никогда, как помощь палача. Только как работа палача.
– Нет, нет! Я не так хотел сказать. Вернее… Я знаю, что к некоторым палачам обращаются как к лекарям. А этот молодой генуэзец… Франческо Гаттилузио… Он умирает. Ты должен его спасти. Я спас тебя. Укрыл от Философа и его сатанинской братии…
– Я твой должник. Я помогу…
– Нет, нет… Человек не может быть в долгу у человека. Только у Господа нашего, ибо только ему он обязан жизнью, которая невозможна без души. А душу Господь дает в долг, который нужно оплачивать жизнью праведной, безгрешной!
– Немного найдется таких людей. Господь всегда будет в убытке!
– Дарованная Господом жизнь бесконечна. Пройдут страшные века, и жизнь будущих людей окупит грехи предков. Наступит время праведников, живущих в полном согласии с законами божьими. Они искупят грехи тех, кто жил, когда по их вине в мире царила нищета, а правил голод!
– Что это за мясо?
– Крысиное. Я хорошо его прожарил, до хрустоты. Тебе нечего опасаться. Я его ем уже полгода… А может и год. Есть еще немного хлеба, которое я нашел на твоей груди. Но его нужно поберечь, чтобы приманить крыс. Если на него капнуть немного крови, крысы сбегаются десятками. Одевайся. Я приготовил воду и мясо для Франческо. Но он даже рот не открывает…
– Откроет, – твердо пообещал Гудо.
* * *
– Ну что? Что?
Гудо отложил со своих колен голову молодого генуэзца и тяжело вздохнул:
– Я проталкиваю пальцами пищу в его горло. Но он ее отрыгивает. Я могу кое-что сказать тебе, священник.
– Говори, – почти обреченно промолвил старик.
– Его пищевод сужен. Но не голод этому причина. Мне неизвестны случаи, когда голод стягивал мышцы пищевода. Болезни, травмы, а еще… Еще большие переживания могут стать тому причиной.
– Вот, вот! Я же говорил ему – не мучь себя, не мучь! А он все горько убивался, что является первым грешником на земле, равному которому не сыскать. Говорил, что он убил на земле столько людей, что все вместе взятые люди не смогли за века такого сделать.
Но, казалось, Гудо не слышал слов священника.
– Конечно, более точнее я мог бы сказать, если бы вскрыл пищевод и посмотрел при дневном освещении…
– Отец Матвей, – послышался тихий голос молодого человека.
– Да, сын мой, – тут же наклонился к больному старик.
– Кто этот человек?
– Он поможет тебе.
– Мне поможет только Господь. Если пожелает как можно скорее призвать меня к себе.
Гудо, не обращая внимания на больного и его покровителя, продолжал рассуждать:
– Он мог поранить пищевод костью. Скажем – рыбной или другой…
Гудо тут же надавил в известном ему месте. Генуэзец застонал.
– Особой боли нет. Это, скорее всего, от болезней нерва. Как давно он не ел?
– Уже третий день не принимает пищи, – со вздохом сказал священник, – Сюда, в этот пещерный ад, сбрасывают тех, кто не может работать. У кого смерть стоит за плечами. Он и сам сказал, что желает умереть и просил исповедать. Я исповедал его и выслушал его печальный рассказ. Но греха за ним особого нет…
– Третий день… Хочет умереть… Священник, тебе нужно будет говорить с ним о жизни. Много говорить. Твои слова помогут обрести веру в себя и в то, что Господь не желает смерти искренне кающимся. А я… Я помогу. Я отрежу пищевод от желудка и буду вдавливать пищу прямо в отверстие желудка. Пищевод подошью к стенкам живота и…
– Отец мой! – в страхе воскликнул больной. – Кто этот человек? Неужели в мой последний час ты привел ко мне палача?
– Это палач. Да. Вернее… – в волнении быстро пролепетал священник. – Но он ничего такого… Он поможет. Ведь ты поможешь, палач? О Господи, что я говорю…
– Еще я могу вставить в горло трубку до самого желудка и вливать через нее… Камышинка подойдет. Правда она может повредить пищевод и будет кровь. Но это не страшно. И не так больно для того, кто желает умереть. А еще я могу давить на грудь и колоть ножом сбоку в тех местах… Старик, ведь у тебя есть острый нож?
– О святой отец! Не отдавайте меня в его руки, – взмолился умирающий.
– Не отдаст, если ты сейчас не отвергнешь этой воды, в которой немного мякоти хлеба. А если… Я положу тебя на свое колено и так придавлю…
– О дьявол! Умереть спокойно не даст.
– Не дам, – согласился Гудо. – Я подарю тебе такую боль, что пищевод твой раскроется и пропустит целого жареного цыпленка. Ты умрешь только тогда, когда я тебе позволю. Так что? Подарить тебе жуткую боль? Или…
– Я выпью твоей проклятой воды. И ты оставишь меня в покое.
– Пей! – с угрозой велел Гудо. – Вот так. Хорошо. Я же говорил, что это от болезни нервов, которую он сам к себе призвал. Теперь пусть полежит. Позже я займусь его телом и заставлю его двигаться.
– О, Господи, кого ты ко мне послал? Святой отец, кого ты ко мне привел? Моя жизнь и так полна страданий. Так нет. Еще и смерти предшествуют муки.
– Еще какие муки будут, если не будешь делать так, как я велю. О боли я знаю все, и даже больше! И даже то, что часто боль излечивает человека. И не только телесно, но и духовно. Узнав настоящую боль, ты научишься любить и уважать жизнь. Это говорю тебе я – человек, во второй раз родившийся благодаря телесной боли. А третье мое рождение от боли душевной. Когда-нибудь я расскажу тебе об этом, и ты согласишься со мной, что искупление грехов более угодно Господу, чем смерть даже самого ужасного грешника на земле. Через два дня ты станешь на ноги. Через месяц ты будешь благодарить меня, что я не дал тебе умереть.
– Этого никогда не будет, – тихо рассмеялся больной.
– Как тебя?
– Франческо, – быстро подсказал священник.
– Так вот, Франческо, еще и другом назовешь…
– Я не могу никому быть другом. И никого другом не назову. Особенно палача!
* * *
– Мне нужно поговорить с этим Философом.
– Сейчас тебе это не удастся. К тому же нам нужно пока посидеть тихо. Пусть думают, что ты свалился в какую-нибудь трещину и свернул себе шею. Наверное, ты пожелаешь неожиданно посетить Философа. По-другому будет трудно. У него двенадцать крепких служек. Прямо как у Христа двенадцать апостолов. Они сыты и оттого сильны. А еще они давно в этих пещерах и знают их тайны. Некоторые из них даже перемещаются непостижимым способом. Им не нужен свет. Они как летучие мыши ходят быстро и не натыкаются на преграды.
– Мне бы одного такого в руки. Он бы отвел меня к своему хозяину.
– И я тебя отведу, но позже. Сейчас не знаю пути. Люди Философа переместили светильники. Нужно время чтобы понять их сигналы. А если не пойму, то помогут мои прихожане. Их немного, и слово божье единственная их утеха. Они приходят на короткое время. Этим несчастным нужно много работать. Философ дает им пищу только за определенное количество камня или по количеству шагов, которые они пробивают в новых туннелях. Работа и мои проповеди – это все, что у них есть до конца их дней.
– Значит, ни кто отсюда не вышел? Их жизнь закончилась в этом аду?
– Так говорят. Во всяком случае, никто при моей памяти не поднялся с этой ямы в те проходы, где добывают камень другие несчастные. И все же те люди наверху счастливые, потому что, закончив добычу камня для стен крепостей герцога, они увидят свет. О Господи! Как я желаю увидеть солнце, море, зеленую траву… А теперь я понимаю, что готов увидеть даже своих врагов и простить их. Исстрадавшаяся душа великодушна!
Особенно тогда, когда есть простая человеческая мечта…
– Не думал, что у священников бывает еще одна мечта, кроме как увидеть наяву Господа.
– Эта мечта появилась недавно… Или давно? Как понять время, которого нет. Но я скажу о своей мечте. Я был священником местной церкви, которую в народе называют стодверной. Я был ревностным священнослужителем и ничего, кроме служения Господу, не желал знать. Но был у меня прихожанин… Как же его звали? Тодорес или…? Тодорес. Он из местных. Он уговаривал меня пойти на поляну в отдаленном уголке острова и посмотреть чудо наяву, что бывает каждый год в одно и то же время. Он говорил, что это природное чудо и не имеет в своем начале ничего божественного. Я запретил ему приходить в церковь. А теперь, после стольких страданий… После этой тьмы… Наверное, я стал чуточку другим. Я желаю, я мечтаю… Кажется, эта местность называется Петалудес. Да, да! Педалудес по местному и означает – бабочка. Редкая по красоте бабочка. Тодорес говорил, что когда войдешь в травы этой поляны, то тысячи… Нет! Миллионы разноцветных бабочек, как облако, тихо и ярко поднимаются вверх. Но не улетают, а висят над головой странной круглой радугой, по краям которой ослепительно пылает солнце…
– Ты расскажешь мне об этом. Позже. А сейчас я должен заняться этим Франческо.
– Окажи милость этому молодому человеку. Ты не сказал своего имени. «Эй» – это не имя для человека.
– Мое имя желанная добыча для многих. Рядом с ним лучше не находится. А еще лучше его не знать. А милость окажу. Сейчас окажу, – то ли от души, то ли с угрозой сказал господин «Эй».
Гудо на ощупь выбрал ровное, без камешков место. Затем без лишних слов он начал снимать с генуэзца то немногое, что было из одежды на нем.
– Святой отец, что желает этот страшный человек от моего тела? – дрожащим от страха голосом спросил Франческо.
– Я не вижу, сын мой, но думаю, что это на пользу тебе.
– Ой! – тихо застонал генуэзец. – Ты мерзкое существо, палач! Ты желаешь воспользоваться моей слабостью, чтобы надругаться над моим несчастным телом? Пусть тебя Господь испепелит, как испепелил он грешников Содома[111]. О Господь! Дай мне частицу былой моей силы и острый камень, чтобы я мог покончить с этим развратным существом.
– Я не вижу, что происходит. Но скажи мне, господин «Эй»…
– Не беспокойся старик. С твоим прихожанином сейчас ничего не произойдет. Я только ощупаю его тело…
– Постыдись! Ты же христианин! – в ужасе воскликнул священник.
– … И выясню, нет ли на нем повреждений, которые могут мне осложнить массаж, – как будто не слыша упреков, закончил свою мысль «господин Эй».
– Массаж? – в один голос воскликнули старик и Франческо.
– Вам знакомо это слово? – невозмутимо спросил Гудо.
– Мне нет, – честно сознался генуэзец.
– Да, – после некоторой паузы, выдавил священник. – Я грек. Мои предки греки. Я знаю греческое слово «masso», которое означает – тереть, мять, сжимать руками… Это древнее… языческое действие, которое сейчас осуждает церковь и объявляет страшным грехом! Эти все прикосновения сравнимы с утехами плоти, что дозволены лишь мужу и жене, и то только в те дни, что разрешены церковью! Сын мой, то, что ты желаешь сделать – это страшный грех!
– Грех? – улыбнулся Гудо.
Улыбнулся и подумал, – очень хорошо, что стена мрака не позволяет увидеть его жуткую улыбку, ставшую наверное еще более зловещей после того как были изуродованы его губы и выбиты зубы. А еще он подумал, как будут напуганы этот священник и его молодой прихожанин, когда они выберутся отсюда и на свету впервые увидят его страшное обличие. Этот молодой генуэзец уже сейчас бы отдал душу богу, если бы к своим страхам прибавил звериную личину палача.
– Ты лежи спокойно, Франческо, и не вздумай мне мешать. Я ощупаю твои мышцы и суставы, чтобы понять в каком массаже ты нуждаешься. Ты очень одряхлел. Я готов отдать свои старые пулены в заклад, что если тебя поднять, то ты и шагу не ступишь. Хотя ты ничего и не весишь, но я против того, чтобы тащить тебя на себе, когда мы выберемся отсюда.
– Выберемся? Ты шутишь? А! Я догадался. Шутки палача! Ой, мне больно, палач!
– Я запомню этот сустав, генуэзец. А ты хорошо говоришь по-венециански.
– На восточной половине Средиземноморья все хорошо знают этот проклятый язык. Я думаю, это правильно знать язык врага, чтобы…
– Если у человека есть враги и он думает о них, то ему еще рано желать собственной смерти. Еще теплится в твоей душе огонек жизни.
– Ты ошибаешься, палач. Я не достоин жить. И я расскажу тебе об этом, когда высохнут слезы моего стыда от того греха, что творят твои жестокие пальцы.
– Греха? – вновь усмехнулся Гудо. – Сейчас я займусь твоим хребтом. А ты пока слушай. Я редко беседую с людьми. Еще реже что-то им рассказываю. В моей жизни был только один человек, с которым я желал беседовать и которому готов был кое-что рассказать. Твое лицо очень схоже с его… Того человека уже нет в живых. Но в память о нем, я позабочусь о тебе. Даже против твоего желания.
А что касаемо греха…
В поисках своей семьи… Да, да! У меня есть семья! Вы еще увидите мою жену и дочь… Хотя мы не венчаны… И дочь не знает, что она дочь… Но я не об этом. О чем я? Ах, да! О грехе!
Однажды, не зная пути в швейцарских горах, я наткнулся на одинокую хижину. Лютовала зима, а я уже два дня как съел последний сухарь. Мои силы поддерживал только снег, который я топил в ладони и пил капля за каплей. Но мне нужно было преодолеть горы, за которыми надеялся отыскать след моих родных.
Так вот! В той убогой хижине, укутавшись в овечьи шкуры, тяжко мучилась женщина. Она еще не была старухой, но тяжелейший ревматизм согнул ее пополам и одряхлел тело. Она даже слова не могла сказать, когда я вошел в это убежище от ветров и снега. Она смотрела на меня, плакала и пыталась плевать в меня.
Я разломал какой-то деревянный ящик, разжег огонь и поднес ее тело к теплу. Когда она отогрелась, то стала проклинать меня за тот грех, которого она наиболее страшилась, как беззащитная женщина. Я согрел воду и сварил в ней немного зерна и овощей, что нашел в мешках. Она поела и ее слова стали слышнее и понятнее. И это были слова проклятий за грех, которого я с ней не совершал…
Ну, вот… Теперь займемся твоими ногами, Франческо… Хорошо. И здесь хорошо. Скоро ты встанешь на ноги и сделаешь первый шаг. Клянусь, ты будешь бегать быстрее ветра. А если сейчас возразишь, то…
– То ты сломаешь мне эти ноги, – фыркнул генуэзец. – Добавишь к своим неисчислимым грехам еще один. К тому, что в хижине…
– Да, в хижине… Грех! Грех и грех. И многочисленные страшнейшие проклятия слышал я несколько дней и ночей. Костер согревал ее, а приготовленная мной пища наполняла силами. Тогда к ее проклятиям добавились размышления. Но все они заканчивались проклятиями в мою сторону. И я не выдержал…
Гудо умолк, заслышав тяжелый вздох священника:
– О люди! В грехе рожденные, грехом гонимые и…
Но Гудо прервал вздохи старика:
– Я раздел, обнажив все ее тело…
– Мерзкий палач. Гореть тебе вечно в аду, – гневно воскликнул Франческо.
– И о чудо! Она умолкла. Она отклонила голову и крепко закрыла глаза…
– Прости его, Господи! Прости его, Господи! Прости его, Господи! – запричитал священник.
– Я опустил руки на ее тело. Согнутые от страшных болей руки и ноги женщины не дрогнули. Опухшие и воспаленные до красноты суставы не позволяли прикрыть рукам и ногам тело. Я прощупал эти суставы и убедился в моих первых предположениях. И я начал…
– О Господи! Замолчи, палач! – строго велел священник.
– …Лечить ее, – невозмутимо продолжил Гудо. – У меня было множество необходимых в этом случае трав. Были готовые мази. Даже был гусиный жир, который я берег и не позволил себе его съесть даже в злой голод. Я согрел гусиный жир с солью и горчичным порошком. Разогрев массажем суставы я протер их этим составом и крепко укрыл, замотав в шерстяные вещи, что были в хижине. Затем я составил и согрел настой из облепихи, сосновых почек, тысячелистника и корня сельдерея.
Я заставил ее пить маленькими глотками весь день. Она пила и весь день проклиная меня за тот грех, который я не совершил. Две недели я согревал и кормил ее, растирал и массажировал суставы и мышцы тела, поил отварами и прикладывал мази. Через две недели женщина уже ходила по дому и даже приготовила мне похлебку.
Я ел и слушал, как она проклинает меня. Особенно громкими эти проклятия были перед сном. Менее слышны после пробуждения.
Слава нашему Господу, что наступила хорошая погода, и я мог продолжить свой путь. Я оставил ей мази и лечебные травы. Объяснил, как беречься от ревматизма. Вместо прощания она сказала: «Я проклинаю тебя за то… (Она чуть улыбнулась) Сам догадаешься. И все же будь ты проклят за то, что лишил меня как женщину двух самых верных защитников: моего мужа и моего гроба. Гроб, который я сама себе сколотила, ты сжег. А мужа моего я так и…»
Она опять чуть улыбнулась и горько заплакала. Я посмотрел на молчаливые скалы, укрытые снегом и сказал:
– Женщина, нет свидетелей, готовых рассказать твоему мужу…
Но она закрыла двери и громко разрыдалась, предавшись своему полюбившемуся занятию – проклятиям!
Согрешил ли я, святой отец?
– И да, и нет сын мой. Мне тяжело отделить… Особенно когда это касается женщины… Тут многое можно сказать. И сказать, кажется, и нечего… С одной стороны… А если быть справедливым, то…
– Неужто ты, палач, много дней невозмутимо выслушивал незаслуженные проклятия? – прервал неуверенные слова священника Франческо.
– Проклятие для палача все одно, что крестное знамение для священника. К этому привыкаешь…
– Разве к этому можно привыкнуть?
– Ко всему можно привыкнуть. Даже к виселице. Поболтается в петле человечек, поболтается и успокоится… Прости, святой отец за шутку палача. Но не я ее придумал, а мой учитель. Палачами ведь не рождаются…
– И все же я удивлен и не могу понять эту женщину…
Но священник прервал Франческо:
– Многие удивляются, зачем Господь создал женщину. Величайшие из мыслителей додумались до того, что в женщине Всевышний скрыл великую тайну! А мне тайна кажется простой: тому, кто до конца познает женщину – явится Бог! Но найдется такой, пожалуй, лишь в доброе для людей время. А пока будем удивляться и не понимать женщин. Ведь мы живем в жуткие века, когда непонимаемая женщина в лучшем случае удивляет!
* * *
– Я не могу сказать, что пища неприятна моему телу, хотя я чувствую ее режущими камешками. Но все же она придала мне сил, и я хочу рассказать тебе, палач, свою печальную историю. Ты услышишь ее и решишь, стоит ли тратить на мое грешное тело свои силы и то немногое из пищи, что есть у святого отца.
– Говори, Франческо. Я буду слушать. А что еще остается делать в этом царстве мрака, где самым важным из человеческих чувств есть слух.
Гудо прислонился к холодной стене и без надобности во тьме закрыл глаза.
Где-то в неясной дали, неопределенной глубине и в замкнутом камнем окружении бродили звуки. Можно было догадаться – удары молота о деревянные и железные клинья, грохот отделяемого камня, людской говор и даже крики. Но все это многочисленно отразившееся от стен, усиленное эхом и приглушенное поворотами туннелей и значительными расстояниями превращалось в странное подобие. Прислушавшись к этому подобию можно было услышать шелест листвы, журчание воды, прибой морской волны, токование птицы и всякое другое, что желало услышать человеческое ухо. Неясные, едва различимые звуки, рождали в голове и поддерживали иллюзию другого мира – мира поверхности земли, такого желаемого и такого недоступного в физически ощутимой плотности подземного мрака.
И голос Фанческо, без сомнения молодой и яркий, в этой густой тьме глухого склепа, казался голосом ветхого старика, от долгих лет едва разлепляющего губы.
– Мне едва исполнилось тринадцать, когда мой отец взял меня в дальнее путешествие в своих торговых делах. Из Генуи отцовская галера направилась с грузом тканей, стекла, ремесленного и военного металла, а так же изделий из серебра и золота в Каир. Там, в Египте, отец быстро распродал большую часть товара и узнал на базаре, что наиболее выгодным и прибыльным делом было поставка в ряды мамлюкского войска мальчиков из Северного Причерноморья. Половцы, кипчаки, татары – основная воинская сила мамлюков[112].
Да и взрослые рабы вошли в немалую цену. За черкеса давали сто двадцать дукатов[113], за грека – девяносто, за албанца, серба или славянина – семьдесят дукатов. Наиболее ценились татары. Ведь они были намного выносливее и более понятливее, чем славяне, что быстро умирали на чужбине от тоски и всегда бунтовали, если не были в цепях. За татар готовы были заплатить до ста сорока дукатов, не торгуясь! К тому же молодые женщины-рабыни стоили еще дороже. Спрос на них был выше, чем на мужчин. А девственницы и вовсе были на вес золота!
После удачной распродажи в отцовской каюте было много мешков с золотыми дукатами и серебряными динарами. Время позволяло до осенних штормов добраться в Кафу – генуэзский город в Крыму. Там за зиму и половину весны можно было купить множество молодых рабов и рабынь. Еще отец надеялся за бесценок скупить пленников на рабовладельческих торгах, что устраивали пираты. Это на обратном пути, если в Крыму будет недостаток товара, или его дороговизна.
Никто не скажет, что торговля недостойное дело. В том числе и рабами. Благодаря рабам из Причерноморья вокруг Генуи поля заколосились небывалыми хлебами, а мастерские города завалены добротными и полезными товарами. Да и совесть никогда не терзала католических купцов. Ведь продавали мусульман-татар. А христиан… Греки, славяне… Их православная вера проклята истинной церковью – католической.
– Еще ни один мусульманин не продал в рабство своего брата по вере. Ислам настойчиво запрещает это. Только христиане продают христиан, прикрываясь церковными раздорами! – в гневе воскликнул отец Матвей. – Хотя ваш папа римский запретил своей буллой торговлю христианами, но для ваших купцов православные не являются единоверцами. Это от наущений сатаны! Все в торговле людьми от сатаны и его козней. Душа в человеке – это имущество Бога. Продавая человека, одновременно с его телом продается и божественное имущество. А это преступная торговля. Работорговцы – слуги сатаны и преступники. Гореть им в аду.
– И я пришел к этому выводу через многие испытания и горести.
Наказал Всевышний моего отца. Наказал и меня – сына работорговца. Не успели мы после зимы отплыть с сотней рабов из Кафы, как ее стены осадил татарский хан Джаныбек. Он пришел из диких степей за теми детьми, которых продали его соплеменники. Продали потому, что в степи свирепствовал голод. Чтобы спасти старших детей, родители продавали младших.
Грех ли в том, что превратив одних в рабов мы спасли и их и других от смерти? Как вы думаете, святой отец?
– У Господа есть правильные ответы на все вопросы. Я буду молиться и услышу его ответ.
От неожиданно прозвучавшего голоса из темноты, даже Гудо вздрогнул:
– Святой отец, это я, Дион. Я хочу сказать…
– Говори, Дион.
– Когда король сербов Душан пришел с войском к нам в Акарнанию[114] и разорил ее, почти все жители еще недавно благодатного края от нестерпимого голода вышли на побережье. Они добровольно отдали себя, как легкую добычу, торгующим рабами варварам, предпочтя быть невольниками на чужбине, чем погибнуть от голода в своих домах. Я сам отдал в руки пиратов себя, свою жену и троих детей.
Велик ли грех мой, святой отец? Простит ли меня Господь? Позволит ли на том свете увидеть мою Милу, сына и двух дочерей?
– Я буду молиться за тебя, Дион, – только и ответил отец Матвей.
После долгого молчания Франческо продолжил свой рассказ.
– Генуэзцы, которые правили Кафой, не пожелали вернуть товар. За него уже было дано зерно, оливковое масло, рыба и скот. Стены крепости высоки и надежны. Воинов и продовольствия было достаточно. Тем более что прошел слух: в войске хана множество больных и слабых воинов.
Началась осада. Вскоре слух подтвердился. Обессиленное болезнью войско Джаныбека не решалось на штурм, но и отступать не желало. Оно уже примерно наказало в степях тех, кто продал своих детей. Теперь желало вернуть своих соплеменников и будущих воинов. А смерть собирала свой урожай. Множество обреченных нашла она в войске непобедимых татар. На них обратил свое коварное внимание и хан Джаныбек. Воинов хоронили, а трупы конюхов, слуг и животных хан велел забрасывать при помощи катапульт в осажденный город.
Вначале мы смеялись над этим и жгли трупы. Но отделившиеся при падении части тел, приносимые катапультами, съедались собаками и кошками. От них заболели домашние животные и вездесущие крысы. Потом люди. Они перестали выходить на улицы. А трупы продолжали и продолжали падать на город. Вскоре весь воздух был заражен, отравленная и испорченная вода стала загнивать. Усилилось нестерпимое зловоние.
Хан Джаныбек и его войско ушло, оставив Кафу пиршественным залом для смерти. И черный пир удался на славу. Люди крепко заперлись в домах, но болезнь просачивалась в щели. Люди убили всех животных, чтобы их смрадом заглушить вонь, что исходила от трупов, лежащих на улицах и в домах, и которых уже не было сил и желания хоронить. Жгли костры на улицах, окуривали себя и дома ароматными травами и дорогущими специями. День и ночь звонили в колокола, а люди молились, молились и молились…
Но болезнь нельзя было остановить. Эта болезнь была чумой, и она же кара Господня!
Болезнь начиналась сильными колючими болями, за которыми следовал сильный озноб, а потом появлялись очень твердые бубоны под мышками и в паху. Лишь после этого развивалась чрезвычайно сильная гнилостная горячка со значительной головной болью и глубоким оглушением. На груди появлялись опухоли, а по телу кровавые мокроты. Ко всему этому присоединялся невыносимый запах от больного. И от несчастного, еще утром любимого человека, уже спешили уйти и мать, и отец, и жена, и дети. Было страшно. Очень страшно.
Как только стало возможным, отец с половиной команды и рабов, что избежали болезни, погрузился на галеру и, помолясь, уплыл прочь от смертных ужасов чумы. К нему присоединились еще два десятка кораблей. Оставив за горизонтом Кафу, он весело смеялся и торжествовал. Но он не знал – на нем, как и на всех покинувших чумной город, лежит черная печать проклятия, что наложил хан Джаныбек на тех, кто увозил детей его племени.
Попутный ветер и ужас пережитый гребцами гнали галеры по волнам Черного моря с небывалой скоростью. Всем было весело и празднично. Мы избежали смерти, а теперь еще очень скоро окажемся дома, в Генуе. Мы и не подозревали, что наши корабли подгоняет древнее проклятие степи, по которой в бешенстве бродит татарский хан и его кровожадное войско, что днем и ночью желают нашей мучительной смерти.
Первое беспокойство мы ощутили уже при входе в Босфор. Мальчонку-слугу ночью укусила крыса. Днем он уже горел в пламени проклятия. Но он прятался от людей, а когда чума полностью овладела его телом, то мальчонка в страхе выбежал из трюма и, целуя у всех руки, стал просить помощи. Отец немедленно приказал выбросить больного в принявшее нас Мраморное море. Тонущий ребенок просил смилостивиться над ним, но взрослые, дрожащие за собственную жизнь, отвернулись и отошли от борта. Последние слова утопленника были слова проклятия тем, кто не имеет бога в сердце, а душу продал дьяволу.
Уже вечером, в тавернах Галаты[115] мы праздновали свое спасение. Мы пили и угощали всех желающих. Танцевали и обнимались с первым встречным. Толпы гулящих девок бродили с нами по ночным улицам, отдавая свои тела прямо на мостовых. Уже к вечеру следующего дня болезнь охватила многих. Византийские лекари с ужасом признали сотни случаев чумы. Ночью тысячи жителей Константинополя бросились в порт, желая знать, кто привез в столицу Византийской империи бич смерти – неизлечимую чуму. Но наши галеры уже выходили из пролива Дарданеллы в Эгейское море.
Мы плыли от острова к острову и с ужасом замечали, как замедляли ход и останавливались галеры, на которых вовремя не приняли мер карантина. Но могли ли они помочь…
Я хотел бы выпить воды. Мое горло пересохло от многих слов и волнения.
– Сейчас принесу, – ответил кто-то из темноты.
Гудо завертел головой, но ничего и никого не увидел. Он скорее почувствовал, как в нескольких шагах от него произошло движение. Легчайший ветерок скользнул по длинной бороде господина «Эй» справа.
– Я продолжу?
– Говори, Франческо, – ласково предложил отец Матвей.
– Отец не мог выбросить за борт заболевших гребцов и воинов из Генуи. У каждого из них были друзья и родственники на галере. Он просил их спуститься в трюм, где к ним был приставлен лекарь. Через день больных стало так много, что некому стало грести. Тогда за весла отец посадил рабов-мужчин, женщин и даже детей. Я забивался в угол и тихо плакал от того, что мальчишки, мои сверстники и младше, быстро сохнут у весла и как скоро их съедает болезнь. Вскоре и могучего отца свалила с ног еще более могучая чума.
Он умер на рассвете, приказав мне привести галеру в Геную, рассчитаться с его кредиторами, и позаботиться о семье. А еще он приказал…
Я выполнил его приказ. По пути в каждом порту я ссаживал больных, и пополнял команду, не скупясь на серебро, и даже золото. Несколько дней вновь нанятые гребцы удаляли мою галеру от проклятия. Но проклятие, чуть отстав, вновь нагнало корабль. Из отплывших со мной из Кафы генуэзцев осталось всего три десятка человек. Я говорил с ними через закрытую дверь отцовской каюты, которую они охраняли и в день и в ночи. В маленькое окошко сбоку я выбрасывал кошели с деньгами. Эти оставшиеся генуэзцы были очень сильными людьми. А еще они были очень преданы нашей семье. Поэтому они долго не желали бросать труп отца в море. Но взбунтовавшиеся гребцы, среди которых уже были заболевшие чумой, заставили сделать это, а потом сбежали, пристав к какому-то острову.
Быстрее ветра слух о корабле смерти распространился по всем островам Эгейского моря и побережью Греческого полуострова. Никакие деньги уже не могли привлечь на мою галеру гребцов. Но мы все же шли, когда был подходящий ветер. Так доплыли до Крита. К этому большому острову пока еще не добралась новость о моем корабле смерти и о тех галерах генуэзцев из Кафы, что как жуткие призраки носились по воле ветра и волн, отпугивая встречные корабли зловонием разложившихся трупов их многочисленных мертвых команд.
Правда, все же трем галерам из Кафы удалось добраться до Крита. Мы объединили наши усилия и поклялись сохранить нашу тайну бегства из Крыма. Но как можно было сохранить тайну, когда множество людей проследили путь смерти, проложенный нашими галерами? Проследили смертями десятков тысяч уже умерших и еще большим количеством бросивших свои дома и бежавших подальше от гигантской волны чумы.
А она день ото дня становилась все выше и шире. С высоты небес она шагнула в Анатолию и Египет, на Балканы и в Святые земли. Но она…
Франческо неожиданно умолк. Причину этого Гудо понял, когда по его бороде слева скользнул ветерок.
– Вот вода.
– Благодарю, – ответил молодой генуэзец и долго не отзывался из своего места.
– Я закончу свой печальный рассказ, – наконец зазвучал голос Франческо, – и ты палач поймешь, как ты неправ, решив спасти мою проклятую людьми и небом жизнь.
– Говори, – глухо ответил Гудо.
– Говори, говори, говори… – послышалось многоголосье из разных сторон.
Хотя имеет ли стороны непроглядная тьма…
– Тогда, в октябре проклятого 1347 года от рождества Христова я еще и не мог осознать всего ужаса происшедшего. Мой мозг отказался верить в то, что со мной нет моего мудрого и сильного отца, и того, что я никогда не смогу прийти на его могилу, так как тело его никогда не уляжется в беспокойном море, а душа никогда и нигде не упокоится, гонимая душами, умерших по его вине…
В октябре того года наши проклятые галеры прибыли в сицилийский порт Мессина. Нам нужен был отдых и хорошая пища. Мы долго не решались ступить на берег в страхе, что слух о нас достиг острова. Но голод сильнее любого страха. Самые сильные и здоровые из нас спустили шлюпки и отплыли на рынок. Они вскоре вернулись со свежей рыбой, мясом, овощами и фруктами. Они успокоили нас тем, что все ужасное позади, и что проклятие, насытившись многочисленными жертвами, вернулось к злому татарскому хану рассказать и порадовать его черное сердце. На нашей галере уже не было ни единого раба. Все они, включая татарских детей, обугленными комками качались на морской волне. Вместе с ними сотни генуэзцев, сполна расплатившись за свою купеческую алчность. Но…
На следующий день умер торговец рыбой, у которого покупали дары моря. Умер мясник, и те, у кого мои люди покупали продукты. Они умерли. Вместе с ними умерли их семьи. Соседи в ужасе смотрели на их почерневшие, как бы обугленные тела и ничего не могли понять. И только на следующий день, прослышавший об этой странной смерти, правитель города прислал знающего лекаря. И тогда весь город вскрикнул от ужаса – это чума, столь свирепая чума, что сжигает до черноты свои жертвы. Это не просто болезнь – это черная смерть, от которой нет спасения.
А еще жители Мессины увидели несколько черных тел, которых прибили волны к берегу. На этих телах были генуэзские одежды. Ведь мы все продолжали сбрасывать в воду своих умерших несчастных соотечественников. С яростным гневом и с ужасными проклятиями наши галеры были изгнаны из порта. Но гнев нас уже не страшил, а проклятия жителей Мессины не шли ни в какое сравнение с тем, которое нас вело по своему страшному предназначению.
Проклятие татарского хана не спешило убить всех тех, кто увез с его земли детей. Оно ослабило их тела, и напрочь лишила рассудка. А как еще можно объяснить то, что мои люди, обманом пополнив команду галер, перекупив гребцов встреченных кораблей и соблазнив рыбаков из прибрежных поселений, направили суда в родную Геную?
Родной город не пожелал принять галеры смерти. Огненными стрелами и камнями катапульт наши братья и отцы отогнали нас от родного порога. Горько сожалея о жестокости наших родных и близких, мы укрылись в порту Марселя. В ту же ночь, не выдержав бремени тяжкой судьбы, я тайком бежал с отцовского корабля. Я даже обрадовался этому своему проявлению трусости. Трусости, потому, что я бросил своих верных людей, которым обязан своей жизнью. Ведь они не жалея собственной, умирая один за другим, не покинули меня и проклятую галеру. Так они поклялись отцу и свое слово сдержали до конца.
А конец их был печален.
В третий раз изгнанные, уже из Марселя, мои верные отцы и братья (только так я должен их называть) отплыли в море. Они были лишены смысла жизни. Ведь я, тайно радуясь, наблюдал с берега за их изгнанием. Они ушли в свое последнее плавание, чтобы присоединиться к уже десяткам кораблей, которые носились по волнам, скрипом дерева и такелажа, горюя об умерших в мучениях командах….
Я слышал о том, что еще несколько лет потому на морских волнах качались огромные корабли, весла которых крепко держали обглоданные птицами скелеты…
Так что теперь скажешь, палач? Неужели ты не видишь, как необъятен и насколько тягостен мой грех? Несравним ли он по своему вселенскому ужасу с поступком Иуды? Может ли жить тот, кто убил больше людей, чем ранее убитые все вместе взятые? Разве моя жизнь не страшнее смерти? Присудил бы ты мне самую мучительную из всех казней на земле?
Что скажешь, палач?
В царстве непроглядной тьмы, наступившая тишина неприятно тревожила тела всех присутствующих. Печальный рассказ, окончившийся горьким вопросом, сдавил сердца. Все живое и неживое замерло в ожидании ответа. И было странным это ожидание. Странное и в том, что мир подземелья, желая не пропустить ни слова ответа, заглушил всяческие звуки своей жизни. Странно и то, что, не смотря на очевидность вины рассказчика, люди не спешили выразить своих чувств. Странно и то, что в судьи этого преужаснейшего дела призвали палача. Странно и то, что палач не спешил с ответом.
А ему ли не знать? Всякому палачу известно – есть вещи, страшнее самой смерти.
– Кем бы я ни был, я всего лишь человек, – наконец вымолвил палач, и все присутствующие с облегчением выдохнули. – Не мне судить. Сказано многократно святым словом: «Не суди, и не судим будешь!» Я не вижу, но чувствую, что рядом с нами десятки людей. Людей с разной судьбой. Я думаю, среди них есть убийцы, разбойники, воры и насильники. Обязательно кого-то из их родных и близких убила чума. И если бы ты поведал свою печальную историю где-то под солнцем или луной, они бы разорвали тебя. Но здесь они живут в другом мире. Они научились думать и жить по-другому.
Ты спрашиваешь: вижу ли я, как необъятен и тягостен твой грех?
Мне не дано этого увидеть. Но я вижу другое!
Я вижу неокрепшего телом и помыслами юношу, оказавшегося помимо своей воли в осажденном городе, в котором алчность затмевает ум, а корысть толкает на грешные поступки. Я вижу испуганного мальчишку, для которого мир перевернулся, когда город оказался завален гниющими трупами. Я видел такие города и видел многих, кто сошел с ума от страха заболеть и умереть. А еще я вижу доброе сердце готовое разорваться при виде тонущего мальчонки и мучительных смертей его сверстников. Вижу любовь и уважение сына к отцу, и какое потрясение испытал он, лишившись родителя и надежнейшего щита перед смертельной опасностью. Вижу глубокое уважение и преданность людей этого отца, не покинувших галеру смерти и желавших ценою собственной погибели спасти его сына и имущество семьи господина.
Да, я вижу! Вижу измученного и испуганного юношу, который догадывался, что от него ничего не зависит, что он бессилен перед обстоятельствами и волей тех, кто наверняка так же поклялся перед смертью своему господину довести галеру в родной город. Сотни смертей на борту галеры и тяжкие мысли иссушили тело юноши, поселив в его душе муки вины за то, что он не сделал твердый шаг и не приказал сжечь галеру со всем ее имуществом. Но ему бы и не дали этого совершить. Ведь он всего лишь неокрепший юноша. Еще совсем мальчишка.
А трусость бежавшего с корабля… Не думаю, что после всего случившегося этот юноша мог здраво рассуждать. Скорее он боялся своего корабля как того гроба, в который кладут человека, чтобы усилить его муки во время пыток… Мне ли палачу этого не знать!
Если кто-то желает еще сказать, то…
Но никто не пожелал сказать ни слова.
* * *
Сколько же прошло времени – час, день или более?
Тьма, ненасытная тьма сжирает время еще до того, как оно проявляет себя. Короткие беседы, сон, долгое пробуждение, растянувшийся обед, когда каждая крошка тщательно пережевывается и, несмотря на сопротивление мозга, с силой втягивается в воющий желудок.
А еще люди, подающие голоса и немного пищи из тьмы, и оттуда же слушающие долгие проповеди православного священника, которые изобилуют примерами аскетической и праведной жизни святых великомучеников. Люди задают отцу Матвею различные вопросы. Иногда рассказывают и сами. Но их рассказы больше похожи на исповеди, иногда настолько откровенные, что приходится удивляться. Только чему? Погребенные заживо и обреченные на верную и скорейшую смерть говорят правду и только правду о своей прошедшей жизни, ибо нет смысла в утайке, лукавстве и в шельмовании, перенеся одну ногу за порог смерти.
– Франческо! – бодро воскликнул Гудо и потянулся своим огромным телом, прогоняя остатки сна. – Не молчи. Я знаю, что ты не спишь. А если и спишь, то пора просыпаться.
– Просыпаться, потому что ты так желаешь, палач, – скорбно отозвался молодой генуэзец.
– Отец Матвей, у тебя еще осталось масло?
– Добрые люди принесли немного оливкового масла. Но…
– Я много не возьму. Знаю, с какими опасностями твои прихожане сливают из светильников это масло. Но без него телу Франческо будет немного неприятно.
– С маслом, без масла… Мне все равно больно. Ты родился с руками палача, – обреченно выдохнул генуэзец.
– Твоему изленившемуся телу нужен именно болезненный массаж. Сегодня ты станешь на ноги, – улыбнулся Гудо и в который раз порадовался, что этот ужас скрывает тьма. И это хорошо. Неизвестно пожелал бы подняться на ноги больной, если бы имел возможность увидеть улыбку своего лекаря. – Теперь приступим к твоим вялым мышцам.
Гудо нащупал исхудалые ноги генуэзца и за них с силой притянул тело к себе. Франческо тихо «ойкнул» и сердито засопел:
– Я же не тряпичная кукла. Тем более во мне кровь благородного рода Гаттилузио!
Гудо тихо рассмеялся:
– Мускулы римских патрициев разминали рабы и переворачивали благородные тела как… Как ты говоришь – куклы тряпичные? А ты думаешь с египетскими фараонами и царями Эллады поступали по-другому? Им так же с усилиями мяли икроножные мышцы, растирали стопы, поколачивали ягодицы и спины. Массаж – наука древняя и необходимая. Растирали воинов перед сражениями, чтобы предать мускулам упругость и эластичность. Растирали и после битвы, чтобы убрать усталость и разогнать плохую кровь в местах ссадин и ушибов. Отец Матвей должен знать о своем великом соотечественнике и врачевателе Гиппократе…
– Как и всякий истинный грек, – отозвался священник.
– Так этот великий учитель всех поколений врачевателей говорил, что лекарь должен быть искусен во многом, в том числе и в массаже. Сейчас я даже скажу точнее… Только не стони так громко, как будто тебе действительно больно…
– Мне больно! Этот сустав…
– Ага! Вспомнил! «Сустав может быть сжат и расслаблен массажем. Искусное трение стягивает или расслабляет ткани, ведет к исхуданию или полноте. Сухое и частое трение стягивает, а мягкое, нежное и умеренное утолщает ткани». Знаешь, когда это было написано?
– Ой-ой-ой! – стоном ответил Франческо.
– Да, больно. Но через час ты почувствуешь себя значительно лучше.
– Это ты говорил в прошлый раз.
– Сегодня ты станешь на ноги. Молчишь? Ну и правильно. Попробуй только не стать…
– …И ты их мне сломаешь. Это ты уже говорил.
– Ладно, не скажу. Мой учитель… Мой наставник. Он говорил, что для усиления действия массажа очень хороши термы…
– Я слышал о термах, – с охотой отозвался Франческо. – В этих купальнях язычников обнажали тела и впадали в тяжкий языческий грех удовольствия плоти…
– А так же смывали с себя грязь и пыль, – прервал генуэзца Гудо. – Чистые тела язычников почти не ведали о блохах и клопах, что терзают наши христианские тела, Франческо. И даже тело святого отца Матвея. Верно священник?
– Страдания плоти возвеличивают дух, – несколько мрачновато откликнулся святой отец.
– У язычников римлян тоже был дух. Великий дух воинов, завоевавших половину мира. И везде на завоеванных землях они строили термы. В них для сохранности стройности, изящества и красоты тела купались в бассейнах и ароматических ваннах, здесь же они принимали массаж, и занимались гимнастикой. Массаж и вода лечили почти все заболевания. В этот мир чистых тел не смогла бы так убийственно вторгнуться черная смерть…
– Ты говоришь ересь, сын мой, – едва сдерживая гнев, воскликнул святой отец. – Чума – наказание Господне за грехи человеческие! Не в чистоте тела, а в чистоте души – спасение от всех болезней и невзгод!
– Я это слышал и неоднократно. Мне не удалось никого убедить в пользе того многого, что было в повседневной жизни мудрых римлян и греков.
– Да, мудрость древних греков… Она существует, – смягчился отец Матвей. – Она и сейчас есть в церкви Христа!
– Да, да. Что-то я заговорился. А все потому, что желаю заглушить стоны этого молодого лентяя. Слышишь, Франческо! Будешь так стонать, то сам Философ к нам пожалует.
– Его люди уже были здесь, – тихо сказал священник. – Мне так сказали.
* * *
– Еще пять приседаний и можешь отдохнуть, Франческо.
– О Господи, пошли мне избавление от мук земных! – застонал от усилий молодой генуэзец.
– Можешь отдохнуть. А когда я вернусь, то ты должен быть на ногах. Так тебе будет удобней слушать рассказ святого отца о его поляне с неисчислимым количеством бабочек.
– Куда ты? – с тревогой спросил отец Матвей.
– Хочу проведать моего должника.
– Не ходи. Ты даже не знаешь, насколько опасен Философ.
– Он тоже не знает насколько… Тем более мне кажется, что мы съели всех крыс этой пещеры. И… Мне не по душе крысиное мясо.
– Подожди. Тебя отведут прихожане.
– Отведут и другие. Эй, вы там! Я желаю говорить с Философом!
На громкий крик Гудо ответил не менее громкий голос:
– Иди!
И тут же в нескольких десятках шагов вспыхнул факел.
Едва Гудо ступил, позади него, освещая путь, вспыхнул еще один факел. От давно не видимого света мужчина в синих одеждах пошатнулся и прикрыл ладонью глаза. Немного постояв, он пошел на свет удаляющегося впереди пламени факела.
Как не силился Гудо, он так и не смог понять указаний расставленных светильников. Вначале он еще пытался сосчитать шаги и определить расстояния до маленьких лепестков огоньков светильников. Но вскоре сбился и тут же всеотрицающее кивнул головой. Сам он не найдет обратного пути к священнику и Франческо. Но этого и не нужно. Все должно измениться надлежащим и положительным образом. Только бы оказаться на расстоянии вытянутой руки от зловещего Философа.
Но это оказалось невозможным.
Как будто заглянув в мозг господина «Эй», Философ надежно отсторонился от палача, взобравшись каким-то образом на выступ стены. Этот искусственно вырубленный выступ поднимался на высоту двух человеческих ростов и, скорее всего, предназначался в древние времена для главного надсмотрщика, или устроителя работ.
Когда-то с этого выступа было удобно наблюдать за сотнями рабов и вольными мастерами, что ломали при свете тысяч факелов удивительный по красоте и прозрачности мрамор. Ломали осторожно, со знанием дела, чтобы не повредить природный рисунок и не вызвать внутренних трещин. Огня не жалели. Вон сколько железных держаков для факелов все еще осталось на стенах пещер и проходов. Люди добывали камень, чтобы любоваться вытесанными из него скульптурами и возведенными храмами. Теперь были другие времена. Драгоценный камень, вывернутый из чрева пещеры, как придется, шел на кладку крепостей. Сооружений, которые должны были устрашать, а не восхищать.
И за этим варварским уничтожением уникального камня наблюдал человек по имени Философ. Наблюдал с высоты, до которой Гудо не мог достать даже своими длинными руками.
– Пришел – говори, – громко воскликнул Философ.
– Хотел отблагодарить за угощение…
– Обнять. Прижать к сердцу, – ехидно закончил человечек на выступе. – Объятия палача! Как много в этом философского. Как-нибудь попозже я об этом поразмыслю. Философ и палач. Есть что-то в этом глубокое, что с первого взгляда и не осознать. То ли они в сущности своей антиподы, то ли едва не братья близнецы.
– Так может для начала обнимемся как братья, – усмехнулся Гудо.
– Побывать в объятиях палача… Хм! Для меня в этом нет начала. Скорее… Нет, я ошибся. Ты не философ. Твоя душа приземлена. Она придавлена человеческим бытием. Особенно меня разочаровало твое жизненное устремление. Мне рассказали. Я-то думал, что ты гоним по свету мыслью и терзанием души. А ты… А ты всего лишь гонишься за тенью сбежавшей от палача женщины. Я так понял. Ведь какая нормальная женщина пожелает жить с палачом? Но мне это не интересно. Мне не интересен ни философ, ни палач, который жизнь свою желает посвятить химере[116] – семье!
И как только в твою чудовищную, но необычайно светлую голову, вползла мысль о женщине? Твои знания и рассуждения подняли тебя над множеством простого люда. Тебе бы подниматься и выше. До самого солнца…
– Эта женщина мое солнце, – прервал Философа палач.
– Это заблуждение. А скорее помрачение мужского ума, в который проник женский яд. Прав ваш проповедник Экклезиаст. Сказано им в седьмой главе: «И нашел я, что горче смерти – женщина, потому что она – сеть, и сердце ее силки, руки ее – оковы, добрый пред богом спасется от нее, а грешник уловлен будет ею».
– В той же проповеди, тот же проповедник говорит: «Наслаждайся жизнию с женою, которую любишь, во все дни суетной жизни твоей, и которую дал тебе Бог под солнцем на все суетные дни твои: потому что это – доля твоя в жизни и в трудах твоих, какими ты трудишься под солнцем».
– Да, да… Противоречивы ваши учителя. Бог предостерегает от женщины и сам дает ее на «все суетные дни». Ваша религия – абсурд. Лишь древним эллинам была открыта правда жизни.
– В этой правде есть место для женщины и понимания ее?
– Ты только послушай себя самого! Понимания женщины… Понимание чего? Мужской прихоти? Вожделения? Или жизненного круга мужского разочарования? Нужна для плоти женщина – достану звезды для нее с небес. Когда страсть удовлетворена – вижу в женщине ничтожество и неполноценность. Отворачиваюсь и проникаюсь отвращением к ней. Затем силы восстанавливаются, похоть греет кровь, и мужчина опять лезет на небо за звездами для «любимой». Страсть удовлетворена, и женщина опять опостылела. Чего же ищут мужчины в женщинах? Ведь прекрасно осознают, что вновь познают не женщину, а жестокое разочарование в ней. И оттого в жизненных устоях и в законах многих народов женщина не является родственницей мужчины, то есть родной ему! Дети, родители, родственники до третьего колена – да! А вот жена – не родня!
А знаешь, как относились к женщинам самый мудрый народ на земле – древние эллины? Я тебе прочту. Я изложил это в собственном стихе. Слушай:
Мудрец известный, грек Паллад Низвергнул откровенья водопад: «Что женщина зло – ручаюсь за это. Но дважды бывает прекрасной она: На ложе любви, воспета поэтом, И в ложе холодного вечного сна».Что скажешь?
– Между ложем любви и ложем смерти еще есть жизнь. Человек может и должен ее устроить счастливой. В сердце мужчины кроме Бога есть место и женщине, и детям. Женщине – потому что это его выбор и желание. Детям – потому, что это продолжение его самого во множестве поколений. Любовь к ним, как и любовь к Богу, наполняет жизнь смыслом. Человеческая жизнь без смысла – это жизнь животного.
– Значит, любовь к женщине равна по смыслу любви к Богу?
– Пусть каждый мужчина решит это сам. Для себя этот вопрос я решил. Я люблю свою женщину, как люблю Бога.
– Любовь к женщине, к человеку, ты поставил перед любовью к Богу. Божественное во всем должно быть главенствующим. Хотя… Может быть это предназначение ныне живущих. Возможно, в будущих веках человек будет важнее. Как-нибудь подумаю над этим. Даже интересно. Как там, в ученой латыни: Homo, humanus, humanitas[117]… А таких как ты назовут гуманистами – одержимые идеей человека, как высшей ценности! О, Боги, что я несу… Палач – ценящий людей. Засиделся я что-то в пещерах. Пора на свежий воздух. А тебе палач следовало бы подумать о себе, а не о своей женщине. И тогда твоя жизнь, возможно, сложилась бы счастливо.
– Об этом я недавно говорил с одним человеком. Вернее с его духом. Его философия, как и твоя, пропитана презрением к женщинам. Свою жизнь он посвятил познанию и мучению человека. В час его смерти рядом с ним присутствовал только один человек – палач, его ученик. Этот палач был его семьей. Он так и сказал. А еще он сказал: обрети семью. Этим палачом был я. Но в моей семье не будет палача. И умру я в окружении тех, кого люблю, а они, даст Бог…
– Не даст тебе этого твой бог, – зло вымолвил Философ, – Обстоятельствам угодно другое. Эти обстоятельства иногда сильнее и меня. Если бы не они, возможно, ты бы и умер в том окружении, о котором ты говорил. Но… Но… Но… Ведь ты пришел сделать мне зло. У тебя большое тело, но ты маленький человечек. А я большой. И зло мое огромно.
Философ выкрикнул на незнакомом Гуде языке команду и из стены мрака на границу факельного света выдвинулись его служки.
Семь, десять, двенадцать… Может и больше. Но Гудо только усмехнулся и расправил плечи.
– Господи, не вина в том моя. (Гудо с силой оттолкнул первого приблизившегося). Не их вина, что живут глупостью другого. (Удар, еще удар и двое напавших покатились под стену). Человек сам и есть творцом греха. По вине собственной. (Гудо напрягся и сбросил со спины вскочившего на нее человека). Кто мы, что живем волей нам подобных? (Поворот вокруг своей оси, и Гудо повалил сильными ударами четырех служек Философа). Думали так просто?
Раздался крик Философа, все на том же непонятном языке и его служки тут же исчезли за границей света. Не успел Гудо оглянуться, как быстро, один за другим стали гаснуть факела и рядом находящиеся огоньки светильников. Плотная тьма окружила его. А еще полная тишина. Настолько полная, что придавила Гудо к стене пещеры.
«Стена. Вдоль стены. Никто не нападет сзади. Не вижу, но я слышу каждый шорох. Слушай, Гудо, слушай!»
Холодна стена благородного камня. Остры его камешки под истончившимися за многие годы подошвами пулен. Но от стены лучше не отходить. Это надежный союзник. Только бы дотянуться до шеи Философа. Вот только где она? Эта хрупкая часть маленького человечка, что так удобно поместилась бы в огромной ладони знающего свое дело палача.
Шея хрупкая часть. Так было угодно Создателю. Даже такая толстая и сильная как у Гудо.
Непостижимым образом верный союзник стена раскрылась. Ловкие человеческие руки набросили на шею Гудо веревочную петлю и туго сдавили мышцы и сосуды. Инстинктивно мужчина схватился руками за жесткую веревку и тут же по его телу прошлись сильные палочные удары. Пересиливая боль, Гудо вытянул из стены душителя, но освободиться не смог. Множество рук повалили его на каменистый пол и очень скоро обездвижили тело, крепко связав лодыжки и кисти.
– Множество часто побеждает. Даже самых сильных и умелых, – хихикнул над головой Философ. – Влейте господину «Эй» мертвой воды. Пусть пока побудет в стране теней.
* * *
«Я бы лучше справился. У палача это бы получилось лучше. Мертвая воды не для живого тела. Со мной это не пройдет. Не пройдет…»
Гудо в сотый раз напряг внутренности, но уже ни единой капли мертвой воды выблевать не смог. Хорошо, что сатанинского напитка у Философа оказалось не так уж и много. Тем более что половину служки пролили мимо рта сопротивляющегося господина «Эй». И все же какое-то количество попало в желудок, и не все удалось выдавить из него. Но и того малого количества хватило для того, чтобы тело обмякло, а в мозг вгрызлись зубастые черви.
«Из таких же червей, там за стенами пещеры, под ласковым солнцем и при свежем ветре, получаются удивительной красоты бабочки. Они не вечны эти черви. Приходит срок, и застывают они в волосяных коконах. А потом из коконов выпархивают радующие глаз создания. Говорил священник… Да говорил! Волшебная поляна. Бабочки… Облако… Огромное разноцветное облако. Я иду по волшебной поляне… Я поднимаюсь вместе с облаком… Застывают черви… Застывают в волосяных мешочках…»
Был ли Гудо в забытье, в стране теней? Он и сам не мог бы ответить на этот вопрос. Как и на тот, сколько прошло времени с того мгновения, как ступил он в королевство разноцветных бабочек. Да и нужно ли об этом сейчас думать. Думать нужно о веревках. Только все еще болит голова, и так мешают злые человеческие голоса. Злые от того, что Гудо знает, кому принадлежат эти голоса. Злым людям.
Мартин! Должно быть именно за ним, за своим верным слугой послал сатана палача Гудо. Давно он уже должен был предстать перед своим господином с кровавым отчетом. Но все ускользает и ускользает. И поэтому противник Господа послал за ним самого лютого врага, который не должен больше упустить того, кому в потустороннем мире уже готов облик демона. И не Господь продлевает проклятие и разделяет семью Гудо, а антихрист требует выполнить его волю. А может, все же Господь? Может, он велит убить зло. Ведь всякое зло должно быть наказано! И все творящееся с несчастным Гудо сейчас это только из-за того, что он не довел до конца дело справедливости. Долг палача – уничтожать зло, что преступило закон божий!
Но зло все еще живет. Оно творит зло.
– Сладкое вино у тебя, Философ. Я не буду спрашивать, откуда оно у тебя, как и то, кто приносит тебе свежее мясо и козье молоко. Ты исправно выполняешь наш уговор…
– И мне не приходится жаловаться на соблюдение этого уговора с тобой, Мартин…
Еще один злой голос. Философ. Эх, были бы свободны руки. Только кто поможет? Как не вспомнить ангела с черными крыльями. Как не вспомнить стрелка Роя?
«Потому что никто, кроме тебя, тебе не поможет!»
Именно так. Голова Гудо уже ясна и у него есть помощники. Помощники, от которых кровь у многих стынет в жилах.
– Ладно. Теперь покажи мне друзей моих сердечных. Как они? Мне говорили, что крики тех, кого терзал демон пещеры, были слышны во всех уголках подземелья. Я думаю, что в твоем аду даже камни ужаснулись.
– Да, Мартин. Демон их терзал жестоко. А вот и они. Положите их рядом. Ну что скажешь, Мартин.
– А что скажешь ты, мой друг Ральф? Ты помнишь тюрьму в проклятом городе Венеции. Ты помнишь, как ты забирал у меня последний сухарь и лишал воды? Молчишь? Ах да, я вижу. Ну-ка поднесите ближе факел. У тебя свернута челюсть, вывернута рука. А крови, крови сколько! Просто загляденье. А ты чего не смеешься? Или тебя уже не зовут Весельчак? Какой ты теперь Весельчак. Ты кусок отбитого мяса, на котором нет и клочка кожи. Кровью отлились тебе мои тюремные слезы. Что и глазика нет? Демон вырвал. Пещерный демон он такой. Человека не съест, но пожует и выплюнет.
– Ты доволен, Мартин?
– Я почти доволен, Философ. А теперь покажи мне мой ночной кошмар. Моего истязателя и почти убийцу.
– Вот он. Но он в стране теней.
– Пусть возвращается и встретится с демоном пещеры. А завтра я приду еще раз на него взглянуть. Я уже дрожу от того ужасного зрелища, что будет представлять собой мой палач. Слышишь, палач? Завтра я тебе плюну в твое изувеченное лицо. А впрочем, вряд ли оно станет ужаснее того, что тебе подарил сатана при рождении. Молчишь? А я в твоих руках кричал от ужаснейшей боли. Когда тебя поламает демон, ты будешь кричать от даже ласкового прикосновения моих рук. Но они не будут ласковые. Ты узнаешь, что такое настоящая боль. Так что до завтра, чудовище палач. А пока я ухожу. Проклятый толстяк Гелиос и часа без меня не может обойтись.
– Проводите Мартина.
После долгой паузы изрядно охмелевший Философ тяжело опустился рядом с лежащим Гудо.
– Я бы дал тебе вина и кусок мяса, но это тебе уже не нужно. Скоро ты вновь повстречаешься с демоном. Ты уже видел его. Огромные кровавые глаза, оскаленная пасть с острыми клыками в три ряда, ядовитая слюна, пылающая огнем шерсть… Так чаще всего описывают его те, кто уже вынимал его из себя. Да, да! Твой демон в тебе самом. Его нужно только разбудить и он предстанет во всей своей мощи.
Демона не понимают. Говорят о нем разное, но ничего доброго. Да, демона не понимают, путают с дьяволом. А демон по-гречески означает душа! Слышишь – душа! Так что ты повстречаешься с собственной душой. И не моя вина, если твоя душа так ужасна и страшна, что ты готов будешь биться о стену и бросаться в расщелины. Мой напиток только разбудит твою душу, а ты сам ее вытащишь, чтобы узнать, что же вдохнул в тебя твой бог.
– Мой бог есть добро. И каждому дает добрую душу. Как душе мучительно тяжело, если она находится в злом сосуде сотворенном из грехов. Пусть простит меня мой бог и забудет на мгновенье о моей клятве. Ведь нужны и ему палачи, сокрушающие особенно грешные сосуды. Говорил мой учитель: люди в сущности своей создания злые, и добрыми становятся лишь по принуждению или в силу происходящего. И все-таки, как прекрасно облако из порхающих бабочек… Наверное, я был в раю… Как этот рай называется?…. Священник говорил… Кажется… Да, да… Петалудес…
– Ты бредишь, палач? Ты все еще в стране сказочных снов? Но ничего. Сейчас немного ласкового зелья, а завтра ты получишь злой напиток. И тогда ты будешь рвать свое тело руками, бросать его на острые камни и орать, как будто от тебя отрезают куски мяса. Ты искупаешься в собственной крови, а из твоей плоти будут торчать расколотые кости…
– В этой крови?
Философ содрогнулся, увидев перед своим большим носом две огромные окровавленные ладони палача. Свободные ладони, которые должны были крепко соединять веревочные узлы.
– Как это? – едва пролепетал Философ и задохнулся.
Его горло безжалостно сжимали сильные руки палача.
– Это крысы. Я растер о камни ладони, что бы они почувствовали кровь. Крысы с наслаждением грызли веревки, пропитанные кровью, и даже пытались есть меня. Веревки им понравились больше. Душить я тебя буду медленно. Умирать ты будешь долго. Я знаю дело палача. Ты в этом убедишься. Еще один шаг твоих рабов и я просто оторву твою голову. Я это уже делал.
– Назад. Все назад. На сто шагов назад, – прохрипел Философ и тут же, почувствовав, как чуть разжалась железная хватка, предложил – Я выведу тебя из этих пещер.
– Выведешь? – чуть улыбнулся Гудо.
– Выведу. И с острова вывезу, куда пожелаешь. Я могу. Это мой остров. Я его тайный господин.
– Но если ты, хоть на шаг отступишь от меня…
– Я должен остаться в пещерах и охранять их тайну. Дай продышаться. Умоляю! Я спрячу тебя в надежном месте.
– Что помешает тебе подослать своих служек или направить в «надежное место» Мартина?
– Ты увидишь священную тайну пещер. Если служки узнают, что я нарушил священную клятву… А если кто-то узнает… Тот же Мартин, или люди герцога… Но ты должен будешь поклясться сохранить великую тайну. Иначе убей меня сейчас и умри тоже сейчас.
– Мне не нужна твоя тайна. Мне нужно найти свою семью.
– И в этом помогу…
– А еще я хочу забрать с собой несколько человек. Боюсь они не переживут встречи с пещерным демоном.
– Да отпусти же мое горло. Ладно, пусть будет по-твоему. Это же надо такому случиться – Философ и в руках палача! Мои боги не предупредили меня об этом… И напрасно. Слышите боги? Напрасно!
Глава десятая
Зацепившееся за вершину горы огромное облако то ли от боли, то ли от досадной помехи разразилось продолжительным дождем. Дождь сменила матово-водянистая пелена, отдающая холодом.
«Это уже осень. А дальше зима, снега, холода. Тоска… И что дальше?»
Задав себе столь сложный вопрос, мужчина и не думал на него отвечать. Будет, что будет. Богами этой древней земли уже все решено, и не дело простого смертного пытаться заглянуть в будущее. Жить нужно сегодня, если хочешь просто жить. А если простая жизнь не устраивает, нужно что-то делать, готовя день завтрашний.
Именно этого мужчина и не желал. Он сидел на гладком валуне, а у его ног, обутых в грубые селянские поршни, кипел мутный ручей. Еще совсем недавно, при летней жаре это было тихое движение голубой ленты. Так приятно было находиться в тени огромной ивы и наслаждаться свежестью протекающей воды. Так приятно, что ни о чем не желалось думать и (вот оно счастье!) ничего не вспоминать. Напрасно суровая женщина звала его в свою убогую хижину к опостылевшему грубому столу, на котором обедом был неизменный овечий сыр и жидкая ячменная каша. Мужчине было гораздо приятнее коротать дни в блаженном безделье у ленивого ручья, чем поспешно глотать грубую пищу, а потом пытаться ее отработать, запасая сено и дрова. А как только на него не смотрели суровые глаза этой горянки, он сбегал к ручью, который все лето был душевным лекарем для этого мужчины, некогда гордо именовавшегося доктором медицины Юлианом Корнелиусом.
Теперь же ласковый ручей, насыщенный осенними дождями, стал мутным и бурлящим. Его вода уже не столь приятна на вкус, а серая пена от брызг и вовсе отворачивает взгляд. Но что обиднее всего, так это то, что ускорившееся течение воды вызывает внутреннее волнение и тревогу, заставляющие оглядываться по сторонам и даже принимать решения.
– Мне нужна вода!
Опять голос этой суровой женщины. Он уже не столь приятен, как несколько месяцев назад и Юлиан Корнелиус со вздохом черпнув в деревянное ведро мутной воды, повесив голову, не попрощавшись, уходит от летнего друга ручья.
– Там на столе, – отрывисто говорит женщина и с той же интонацией добавляет: – Зарежешь овцу и отнесешь в селение мясо. Так староста велел.
Со старостой встречаться не хочется. Не хочется сухих комков сыра и жесткой лепешки. Не хочется и тела этой женщины. Она требовательно прижималась этой ночью к Юлиану Корнелиусу, но ничего не добившись от него, что-то прошипела на своем языке и отвернулась. Утром ее опять рвало и она пила много воды. У нее будет еще один ребенок. У этих трех мальчуганов, что сурово смотрят за тем, как медленно мужчина пережевывает пищу, будет еще один братик. А может, сестренка. Во всяком случае, еще один рот. К весне женщина родит, а на следующий день опять примется за работу по хозяйству. Рожать и работать. А что ей еще остается в этом мрачном лесу. Так было всегда. Мужей убила война. Но через селение проходят воины, а то и просто всякие приблудные.
Такие, как Юлиан Корнелиус.
Нужно было все-таки этой ночью удовлетворить ее желание. Этого требовало чувство благодарности, но возрастающее с каждым днем отвращение к этой убогой жизни, лишало лекаря даже малейшего возбуждения.
Не думалось еще несколько месяцев назад Юлиану Корнелиусу, что придется резать овцу и свежевать ее как простому селянину. Таскать камни с огорода, косить траву, рубить лес и еще множество всякой всячины, без которой не пережить зиму. Вот только не хотелось провести зиму в этих диких горах. Не хотелось думать об этом, да и о чем-нибудь другом. Не хотелось спускаться вниз, в селение и опять прятать глаза под суровым взглядом противного старика. Ведь староста никак не может забыть о своей исполосованной кнутом спине, к которой отчасти причастен и лекарь герцога наксосского.
Кто же мог подумать, что все так обернется. Вот так мучительно тяжко. Хотя…
Могло все сложиться гораздо хуже.
Даже вспомнить страшно…
* * *
– …Что, открыл глазки? Рожа твоя, венецианская… Как ты мне противна. Так бы и дал по зубам…
– Отойди Иосиф от него. А то чего доброго и выбьешь ему зубы. Тогда цена его вдвое упадет. Беззубый раб всегда подозрителен. То ли он болен, то ли слишком строптив. Герш приказал доставить его в целости.
О ком говорят эти люди? И почему они говорят… Юлиану Корнелиусу знаком с детства этот презираемый христианами язык. Но лекарь превосходно знает язык тех, кто погубил Христа. Потомки тех, кто терзал сына божьего, теперь желают зла и самому Юлиану Корнелиусу. Ведь они говорят о нем!
Проклятая голова просто разрывается от винных паров. Во рту жжет пустынный песок, а внутренности готовы низвергнуть тошнотворное брожение. Но ни выпить воды, ни выблевать, ни даже пошевелить руками и ногами. Он крепко связан, а во рту вонючий комок шерсти.
Вот оно – похмелье от угощений и щедрот сильных мира сего. Вино короля Душана, а затем и герцога наксосского не только лишили разума, но и воли. И кого! Славного доктора медицины, вылечившего самого короля сербов и греков! Обласканного им новым шелковым платьем и пригоршней золотых дукатов!
Юлиан Корнелиус с трудом приподнял налитую свинцом голову. Его связанное тело небрежно одето в домотканые брэ и короткую тунику. Одежда местных селян. Где в ней могут сохраниться золотые монеты? В каком потайном кармане? Да и могут ли сохраниться дукаты у того, кто связан по рукам и ногам.
Что же произошло? Что случилось? И как это могло статься?
Ведь пошлет за великим лекарем король Душан или понадобиться он герцогу наксосскому, а Юлиан Корнелиуса нет! Его похитили люди проклятого еврея Герша и желают продать в рабство. Да за такое Гершу головы не снести!
От возмущения кровь ударила в голову лекаря и сразу же ее прояснила.
Юлиан Корнелиус помрачнел.
Нужен он королю сербов. Как бы ни так. Не мог же король не понять, что вывих вправил вовсе не ученый лекарь, а сам Джованни Санудо. Обманом вправил, но своего добился. Не награждать же за ремесло великого герцога. Подойдет и лекарь, а с его наградой герцог разберется.
А герцог… А что герцог?.. Можно положить голову на плаху, что герцог самое заинтересованное лицо в том, чтобы сгинул его пустоголовый лекарь в рабской неволе. Особенно после того….
Да, да и да! Юлиану Корнелиусу не померещилось и не привиделось. Так оно и есть. Глаза лекаря видели, как мочился Джованни Санудо через серебряную трубочку. Через трубочку, потому что… Это тайна. Великая тайна большого человека. Если об этом узнают, герцог лишится множество друзей и союзников! А враги… Всем известно особое отношение на Востоке к мужскому фаллосу… Это гибель для герцога наксосского. И не только политическая.
Так кто же придет на помощь несчастному Юлиану Корнелиусу? Люди? Боги?
Люди его похитившие, язык и обычаи которых он знал? Нет, их нечем ни купить, ни заинтересовать.
Боги? Какие из них? Тот, от которого он отрекся давным давно. Тот, которому он сейчас для видимости обращается, чтобы оставаться для окружающих христианином? Или другие боги – покинувшие этот мир, или еще не пришедшие для утверждения себя?
– Пить, – едва расклеил опухшие губы Юлиан Корнелиус.
– Привыкай, – ответили тогда ему. – На галерах вода в цене!..
Юлиан Корнелиус вложил освежеванную тушку овцы в полотняный мешок и, не сказав своей женщине и слова, направился вниз по каменистой тропинке.
Он не будет спешить. Но все же нужно вернуться в домишко женщины еще засветло. Даже зная тропинку можно ошибиться. В темноте горы другие, и путь они указывают другой. Даже не заметишь, как горы закружат тебя и подведут к гибельной пропасти.
Такое уже было с Юлианом Корнелиусом, когда его сопровождающие, допив остатки вина, погрузились в крепкий сон. Они даже не связали, как следует, своего пленника. Так – накинули петли на руки и шею и строго велели спать. До этого, похитители, развлекаясь, заставили Юлиана Корнелиуса весь день бежать за повозкой. Они не могли подумать, что страх перед грозящим рабством окажется гораздо сильнее смертельной усталости, измотанного долгим переходом человека.
А может быть, жажда свободы придала сил ученому лекарю? И он, освободившись от веревок, бросился в черные чащи густого леса, не страшась глубоких расщелин, не замечая, как колючие кусты срывают с него лоскутки кожи, и не обращая внимание на то, как хлещет кровь из израненных камнями голых ступней.
Несколько дней, запутывая своих возможных преследователей, а скорее сам себя, бродил лекарь по девственным лесам, в которых, к счастью, было множество воды и птичьих яиц. А леса все не кончались и не кончались. Не было ни селений, ни хижин, ни дорог, ни тропинок.
Ночами ветер гнул вековые деревья, а зверье выло так, что немели опухшие ноги. К тому же лекаря потащило по склону горы, и он едва не свалился в пропасть. Одинокий куст спас его, глубоко войдя колючками в ладони. Юлиан Корнелиус потом долго молился всем богам, о которых знал и просил только об одном – вернуться к людям, услышать их речь и согреться теплом их душ.
Кто-то из богов услышал молитву лекаря. Уже в полдень следующего дня Юлиан Корнелиус увидел сквозь вековые сосны убогие домишки и возрадовался им как вратам рая. Но домишки были разграблены, а растасканные части человеческих скелетов указывали на то, что это мертвое селение часто посещаемо хищниками, которым по нутру пришлась человечина.
После тщательных поисков лекарь нашел огниво, старый медный котелок, ржавый нож и обрывки полотна. Особенно он порадовался старым поршням из бычьей кожи. Теперь он мог согреть воды, сделать бинты и подлечить начавшие гнить ступни ног. Два-три дня и можно будет тронуться в путь. Теперь не придется страдать от колючей хвои и камней. Старые поршни все еще были крепки. Да и возле костра всегда чувствуешь себя уютнее. Особенно если на его языках жарится подбитая палкой крупная птица.
Скорее на запах этой птицы и пожаловал старый волк. Но увидев спящее человеческое тело, он вспомнил о сладости человеческого мяса, которое с избытком вкусил на этом месте несколько лет назад и, не раздумывая, вонзил клыки в бок добычи.
Юлиан Корнелиус дико закричал от боли. Потерявший от многих лет нюх и почти ослепший волк удивленно отскочил. Это тело оказалось живым. Но человеческая кровь, попавшая в пасть, прибавила силы и дерзости. Только бы вонзить клыки в шею. Но человек подбородком прикрыл шею, жертвуя своим лицом.
Удар. Еще удар, и волк отлетел от лежащего человека с глубокими ранами от ржавого ножа на брюхе. Раненые человек и животное, воя от боли, бросились в разные стороны. Старый волк чтобы умереть. Юлиан Корнелиус чтобы жить.
Лекарь изорвал на бинты половину своей туники, но кровь все продолжала сочиться через повязки. Раны нужно было зашить, или прижечь. Но, ни того, ни другого Юлиан Корнелиус с собой сделать не мог. Ему нужна была помощь. Любого человека, который встретиться на пути. Но где эти пути в проклятых густых лесах, разрываемых только голыми выступами скал, холодными озерами и колючими кустарниками.
И когда Юлиан Корнелиус уже проклял не только похитителей, виновных в его скорой смерти, но и всех известных ему богов, лес расступился разноцветьем в лучах заходящего солнца широкой поляны. Более того, на поляне лекарь почти сразу ступил на дорогу, хотя и успевшую порасти травой, но весьма различимой по колее проехавших на ней множества повозок.
Случилось и другое чудо. Что-то подтолкнуло Юлиана Корнелиуса свернуть направо, и через несколько десятков шагов он увидел чудо!
Именно чудо. Хотя это священное слово совсем не вязалось со старым столбом, изуродованным годами, ветрами и дождями, но лекарь не переставал повторять: «Чудо, чудо, чудо!»
Да, это была та самая Герма, посвященная древним богам. Тот самый охранник перекрестков с глубоко вырезанным фаллосом, на который положил свои руки опьяненный доктор наук Юлиан Корнелиус.
– Со мной удача и защита древних богов. Все остальные боги прочь от меня. Зевс и его боги указали мне правильный путь! – воскликнул христианин Юлиан Корнелиус и поспешил знакомой дорогой в знакомое ему селение Айхо.
* * *
Теперь Юлиан Корнелиус так же спускался с вершины горы в знакомое ему селение Айхо. Но теперь он не торопился, осознавая, что ничего приятного там с ним не произойдет. А будут косые взгляды селян, нагло улыбающиеся мальчишки готовые бросить ему в спину камни, и, конечно же, хмурый, давящийся кашлем старик староста.
Лекарь Юлиан Корнелиус не может облегчить этот постоянный кашель, как и залечить не желающую рубцеваться спину старика. Известно, у людей преклонного возраста, тем, кому за пятьдесят, очень плохо заживают любые раны. Да еще в вечно влажных лесах. Да еще если эти раны нанесены кнутом, который долго выдерживали в бычьей моче.
Кнутом старосту попотчевали по приказу самого короля Душана. Старосту да еще пятерых селян, которые притащили свои шутовские деревянные статуи в монастырь и просили принять как святые изображения покровительниц Афродиты и Венеры. Долго пришлось селянам объяснять монастырским сестрам то, что благодаря этим покровительницам их Айхо не слизал огонь, и они, слава Господу, имеют крыши над головами. Только вино и свежее мясо вразумили сестер, и те согласились открыть ворота и даже написать на статуях имена спасительниц селения.
А наутро в монастырь вернулась матушка настоятельница. Воспитанница константинопольских ученых монастырей она сразу же разразилась бранью. Еще бы! Во дворе святой обители стояли два языческих идола, посвященные распутным богиням древней Греции и Рима! Тут же ничего не понявших селян отправили в Арту.
Король Душан долго смеялся над простонародной глупостью. Смеялся до тех пор, пока при пытках не всплыли имена герцога наксосского и его дочерей. Король задумался. Потом велел все подробно записать, а селян выдрать кнутом и отправить с запретом покидать свое селение более чем на тысячу шагов.
Исполосованные спины селян так же плохо заживают, как и у их старосты. Они много моложе, но и им Юлиан Корнелиус не может помочь. Ведь с ним нет его лекарского сундука с мазями и важными медицинскими записями.
И зачем только в ту первую ночь после тушения пожара Юлиан Корнелиус гордо распинался о своей ученой степени лекаря. И кому? Этой хмурой селянке. За ее кислое вино и костлявое тело, от которого за десять шагов разило овчиной. А это все вино, что со студенческих лет заменяет Юлиану Корнелиусу кровь. Кто тогда знал, что это хмурое создание понимает, как и ее отец, франкский язык, а значит и немного венецианский. Да, да! Она еще оказалась и дочерью старосты, вдовствующей уже более года. И если не кривить душой, нужно быть немножко ей благодарным. Ведь это она приняла в отсутствии отца чужака в селение, да еще и выходила его.
Жизнь-то женщина спасла и раны, как знала, закрыла. А вот лицо… Трудно будет Юлиану Корнелиусу с такими шрамами пристать к богатенькой невесте. Даже в Венеции, в городе, в котором более половины мужчин всегда в море, а вторая половина готовится к отплытию.
– А-а-а, это ты, – вместо приветствия простонал староста. – Мясо подвесь к потолочной балке.
И все. Старик отвернулся от своего, можно сказать, зятя и продолжил чинить лошадиную упряжку.
– Так я пойду? – после очень долгого ожидания спросил Юлиан Корнелиус.
– Жди, – строго велел староста.
Сколько ждать? Чего ждать? Зачем ждать?
Что случилось с весельчаком и балагуром, зачинателем всех студенческих пьянок и половины налетов на курятники горожан Салерно Юлианом Корнелиусом? Как его ошпарила жизнь. Как ударила его о твердую землю. Как умыла холодным дождем реальности.
И все это из-за проклятого герцога наксосского. Урода оскопленного, который толкнул блистательного Юлиана Корнелиуса в отхожее место, и еще ногой притопил в испражнениях. Ничего, еще придет время. Еще будет случай. Еще увидит Юлиан Корнелиус унижение и уничтожение ненавистного герцога. Еще…
– Едут! – закричал ворвавшийся в дом мальчонка и исчез скорее, чем затих его крик.
– Эхе-хе, – закряхтел староста, и бережно уложив в корзину упряжь, поманил рукой: – Пойдем. Пойдем! И мясо прихвати.
На окраине селения у дороги стояли, сбившись в плотную толпу, все старики и старухи селения. Вокруг них стайками кружились мальчишки. Мужчины стояли в стороне, опираясь на дубовые палицы. Женщины и их дочери еще в полдень поднялись в горы.
Но в этом предостережении не было большой необходимости. Это Юлиан Корнелиус понял сразу, как увидел вышедших из леса воинов.
Впереди идущие лучники едва передвигали ноги. Всадники валились из седел. И те и другие были в повязках, уже успевших стать серыми полосами на которых отвратно смотрелись ржавые пятна крови. Многие были без оружия и шлемов.
Юлиан Корнелиус сделал шаг за спину старосты, когда к ним приблизился первый всадник.
– Помнишь меня? – устало спросил всадник.
– Ты был в нашем селении. Да, припоминаю. Мне не забыть того, кто был с тобой и его (ругательство на местном языке) дочерей. Ты – властелич Стешко.
– Верно староста. Только… Вернее то, что осталось от властелича… Три стрелы вытащили у меня из груди и плеча. А голова до сих пор гудит от турецкого меча. Побил наше войско бей[118] Орхан на проклятой Марице[119]. Едва ноги унесли. Из моего отряда только половина ушла. А из них в пути умерло от ран еще половина. Но краль Душан велел на море мне возвращаться. Портовые сборы теперь очень важны. Помню твое гостеприимство… (Стешко чуть улыбнулся, увидев как крепко сжали мужчины свои палицы.) Сейчас спешу. А это кто у тебя за спиной? Неужели… Ба-а-а! Да это же наш славный лекарь Юлиан Корнелиус. Хотя… Сильно тебе лицо порвали, но… Как мне и тебя не узнать. Я тебя по приказу нашего великого краля несколько дней искал по околицам Арты. А ты вот где! Пойдешь со мной в Перевезь? Там меня подлечишь, и людей моих. А потом сам тебя к кралю Душану отвезу. Может, опять на меня владыка наш ласково глянет. Сам пойдешь, или привязать к коню?
– Сам, – с готовностью ответил Юлиан Корнелиус.
Лекарь с презрением посмотрел на кашляющего старика, с ненавистью на черные домишки селения и с равнодушием на спешащую к нему дочь старосты.
«Тяжело ей будет. А еще этот малыш к весне прибавится».
Не оглянувшись на крики женщины, Юлиан Корнелиус поплелся за крупом коня властелича Стешко.
Весь путь к морю, о чем бы ни думал, всякий раз лекарь возвращался к печальной мысли о том, что он никогда не увидит своего первенца. Мальчика или девочку – не важно. Важно, что первенца. Хотя… Настолько ли это важно…
* * *
«Неприятный денек. Ох, неприятный, – и после продолжительной пустоты в голове опять: – Неприятный денек. Ох, неприятный».
Мало того, что воины властелича Стешко избили его, так еще и холодный дождь истязал худющее тело Юлиана Корнелиуса.
Утром умер еще один серб, из тех, кого турки не дорубили на поле битвы под Димотикой. Умер он не от ран, а… Бог его знает, от чего он умер. Видно пришло его время и призвал его… Да конечно же, сатана! В самое жаркое место пекла, на вечные мучения. Этого так желалось Юлиану Корнелиусу. Ведь из-за этого сербского грешника так жестоко избили его. Как-будто лекарь сам Господь бог и одним желанием может вылечить всякого. Ну, не получилось. Не те снадобья и не те мази. А где взять другие? Корабли не желают приставать к Перевези. К их капитанам уже донесся слух о жестоких сборах местного правителя Стешко. Так что ни купить лекарств, ни спросить кого сведающего.
А из того, пожухлого и прогнившего от дождей сена, что собрал в осенних лугах Юлиан Корнелиус и быть не может прока. Тем более что травы здесь какие-то странные и незнакомые.
Умер, да и умер. Каждый рожденный смертен. Так за что так сильно избивать? Ведь старался лекарь. Какие дикие люди эти сербы. Никто бы и не посмел тронуть пальцем доктора медицины в просвещенной Венеции. Там понимают и ценят старания лекаря. А эти проклятые дикари… Был бы у Юлиана Корнелиуса яд, честное слово, рука бы не дрогнула.
Рука не дрогнула бы… А тело дрожит. От холода, голода и справедливого негодования.
Да и с властеличем Стешко не хорошо вышло. Открылись раны на груди. Гной пошел. Так это верный признак скорого выздоровления. Так указывал сам Ги де Шолиак, знаменитый хирург, которого даже допустили прочитать несколько лекций в университет Салерно. А в знаменитейший университет глупцов и бездарей не приглашают читать лекции. Юлиан Корнелиус сам слышал и даже кое-что записал от учения признанного ученого. Только вот что-то не так. День ото дня этому Стешко становится все хуже. Еще умрет. И тогда…
Забьют до смерти лекаря Юлиана Корнелиуса. Забьют.
Да и умер бы властелич. Сил нет терпеть его издевательства и побои. А еще более неприятно подбирать с пола кости, что бросает со своего стола сердитый Стешко. Как собаке, как рабу, как…
«А ведь помрет – действительно убьют».
Юлиан Корнелиус с тоской посмотрел на молочное осеннее небо, где, наверное, уже готовится место для его души, а затем перевел взгляд на серую рябь ждущего зиму моря. В нескольких сотнях шагов к северу, обходя Перевезь, спешили несколько галер. Они шли в Венецию, в город, который мог бы спасти и тело, и душу Юлиана Корнелиуса. Если бы знал. Если бы хотел. Но нужен ли великому городу несчастный Юлиан Корнелиус, пришлый человек, случайно оказавшийся в услужении его правителей. И то, только потому, что чума проглотила почти всех лекарей Венеции. Да о нем, наверняка, уже и позабыли. Так что…
Но что это?
Юлиан Корнелиус глубоко вдохнул и затаил дыхание. Так и есть. Небольшой купеческий галеот[120]. Его глубокий, округлый и более короткий, чем у галеры корпус, не оставляет сомнения – это купец спешащий покинуть море, уже готовое разразиться зимними штормами. И о чудо! Навах повернул к пристани. Видно есть в этом суровая необходимость. А может капитан еще не знает о возросших пошлинах жадных до золота сербов.
Как ни хотелось Юлиану Корнелиусу отправиться в порт и посмотреть, а может, даже поговорить с хозяином галеота, он не решился. Там будут воины и сборщики подати Стешко. Может им захочется еще раз пнуть ногой несчастного лекаря. А этого избитое тело Юлиана Корнелиуса перенести не сможет. На нем и так с избытком синяков и кровоподтеков. Лучше остаться здесь на берегу. Слушать рокот набегающей волны, крики опечаленных бескормицей чаек и бросать гладкие камешки, привлекая к брызгам глупых морских птиц.
Но сколько не сидеть на морском валуне, голод и надвигающая ночь заставят вернуться в дом властелича. Тем более Стешко не уснет, не пнув ногой своего пса. Или раба… Или шута…
И что поделать? И как быть?
Может эти люди скажут? Странно видеть в надвигающихся сумерках маленькую лодку. Тем более плывущую от моря. Нет, не от моря, а от борта того самого купца, что на свою беду пристал в порту Перевези. Не долго купец там пробыл. А впрочем уже вечер. Как долго в безразличии к жизни Юлиан Корнелиус бросал камешки в набегающие волны.
– Эй, ты! Не убегай! – раздалось с лодки.
Зачем и куда убегать несчастному доктору медицины, весь день просидевшему у берега моря.
– Ты рыбак? Селянин? Ты здоров? Нам нужны гребцы. Мы заплатим. Там… В Венеции. По прибытию. У нас хорошая еда. И даже вино! Ты понимаешь по-венециански?
– Венеция… Вино… Да, да! Венеция… Вино!
* * *
– Имя?
Не все ли равно. Не называться же тем, что имело громкую приставку – доктор медицины.
– Маркус.
– Ладно, будь Маркусом. Так и запишем в судовой журнал. Цвет глаз – карий, волосы на бороде черные с проседью…
Юлиан Корнелиус содрогнулся. Черные с проседью. Когда же у него появилась седина?
– Губы…
– Простите, господин…
– Я палубный старшина Фарацио. Я заношу в журнал твои приметы. Так положено. Так тебе выдадут деньги. А если бы ты был осужденным, по этим приметам тебя, в случае побега, разыскивали. Так что я занимаюсь важным делом.
– Господин старшина, я хотел спросить. А волосы на голове… Тоже с проседью? В этих проклятых краях нет зеркал.
– Волосы на голове? Пусть они тебя не тревожат. Ты вольнонаемный. Брадобрей снимет одним махом волосы с головы. Так положено. Вольные – с бритой головой, но с бородой и усами, купленные невольники, в основном это турки и мавры, – с клочком волос на темени, а те, кто по суду, вовсе без волос. Не спутаешь никого ни с кем. Да и помощникам комита легче различать, кому и сколько следует всыпать кнута, если ленятся работать или не держат ритм. А говоришь на венецианском ты хорошо.
«Признаться? Нет. Нет! Потребуют плату за проезд и пищу. Пусть будет так, как есть. О, судьба моя несчастливая».
– Я жил в Венеции.
– Да-а-а? – протянул старшина и со вниманием посмотрел на нового гребца.
– Давно, еще мальчишкой.
– Ладно. Так что у нас? Губы… Не зачем все это писать. На правой щеке глубокий и длинный шрам. Такой же на лбу. И этого достаточно. Вот тебе шерстяной мешок. Это твоя постель на все случаи. Если умрешь, то в него зашьем и бросим в море. До Венеции десять дней. Так что греби, как следует. Все остальное расскажут другие.
* * *
Рассказали многое.
И как только Юлиан Корнелиус не видел и не понимал всего разнообразия и в тоже время величайшей слаженности, что позволяли большому кораблю преодолевать коварную волну и огромные морские просторы? Это была наука. Великая морская наука, опирающаяся на вековые навыки и бесчисленные жертвы моряков. А еще на правильную организацию труда всей команды. Хотя эта полезность уже неоднократно сказалась на спине многострадального Юлиана Корнелиуса.
Вначале никак не удавалось начать работу по свистку комита. Трижды прозевав, Юлиан Корнелиус получил удар валком весла от гребца, сидящего за его спиной. Дважды, задумавшись, лекарь сбился с такта, что неутомимо отбивал барабанщик, и получил по плечам жгучий удар кнута. А сколько раз его обидно обзывали опытные гребцы за бесчисленные промахи. Ведь гребля – наука строгая и всякая ошибка, даже одного гребца, заставляет всю команду напрягать силы для того, чтобы выровнять ход корабля.
А сколько всякого нового познал доктор медицины Юлиан Корнелиус! Оказывается, каждая деревяшка на судне имеет не только свое предназначение, но и название! И их нужно как можно быстрее выучить ибо все разговоры гребцов, а на галерных судах они носили общее название – шиурма, начинались и заканчивались этой торговой галерой. А в этих разговорах каждое второе слово для гребца новичка было незнакомо. Пришлось загнать глубоко в себя всякое понимание гордости и собственной важности, и с жалкой улыбкой на всегда сухих от жажды губах просить разъяснить то или другое название предмета. И это была наука не менее сложная, чем академическая, но более жестокая из-за того, что не давала времени на заучивание, и спрашивала знания, не дожидаясь экзаменов.
Нужно было молниеносно реагировать на просьбы гребцов, приказы комита и его помощников, на сигналы палубных моряков. А еще быстрее и даже предугадывая, на веления капитана и корабельных старшин. За медлительность или тупость (она же незнание) тут же следовал хлесткий удар кнута, а то и вовсе зверская расправа – лентяя и глупца могли протянуть под днищем корабля. От носа до кормы. Мало того что холодная вода сжимала даже кости. Мало и того, что днище, щедро утыканное всякой морской колючей тварью, от ракушек до морских звезд, резало тело тысячью ножей. Мало того, что страх всякую рыбешку превращал в монстра, так еще подкомиты старались медленно идти вдоль левого и правого борта, заставляя до невозможности глотнуть горько соленой морской воды. А то еще и поддергивают наказуемого каждый за свой конец веревки. И от этих рывков становится еще страшнее страшного.
Услышав об этом жестоком наказании, Юлиан Корнелиус выбросил из головы все лишнее и теперь ненужное и с тройным усилием принялся запоминать и усваивать морской язык.
Уже через два дня он знал очень многое. Он, как вольнонаемный, работает на загребном весле. Таких весел шесть – два на кормовой скамье (называемой банкой), два на восьмой и два на шестнадцатой. Все они возглавляют работу следующих за ними гребцов. На своей банке Юлиан Корнелиус – планширный, то есть сидящий посредине. Ближе к проходу – гребец называется вогаванто. У борта – просто третий гребец.
Балка, возвышающаяся над бортом, на которой устанавливаются в уключинах весла – постица. Она лежит на поперечных балках – бакалярах. Защита для гребцов от вражеских стрел, поставленная на постницу – импавесата. А еще: куршея[121], мужлуки[122], фок и грот-мачты, паруса, канаты и сотни других названий.
Знал бы всю эту науку Юлиан Корнелиус на борту «Виктории», то наверняка завоевал бы расположение не только капитана, но и самого герцога наксосского. И тогда бы не пришлось пытаться выглядеть в глазах Джованни Санудо ученым человеком и нести всякую всячину, выпячивая себя. Сидел бы сейчас лекарь за столом великого герцога и ел свежую оленину, запивая сладким вином.
Но разве все выучишь за столь короткую человеческую жизнь. Разве знаешь, что пригодится в этой изменчивой жизни. На что положить саму жизнь свою, чтобы она удалась. Верно уж – не на служение проклятому Джованни Санудо. Пусть будет проклят он до седьмого колена!
А впрочем, он и так проклят, и не будет у него и первого колена. Но этого мало! Юлиан Корнелиус накажет своего обидчика, превратившего блистательного ученого в жалкое подобие человека – в гребца, толкающего по злой волне деревянный ад.
Именно ад!
Герцог наверняка сейчас запихивает в рот сочный медвежий окорок, и промывает свою звериную пасть фессалийским вином. А у Юлиана Корнелиуса, как и все дни позади, на обед варенные пополам с червями бобы, и каменные сухари, из прогрызенных окон которых так же выглядывают черви. А еще не повернуться, ни прилечь в редкие часы отдыха. В лучшем случае вытянутые руки – вот жизненное пространство гребца. А вонь от тел и испражнений гребцов!? Да еще приходится смотреть, как испражняются соседи. Закрой только глаза и тебя вмиг поднимут на смех, как некоего тайного принца, которого злая фея превратила в урода гребца.
А еще вечная толкотня, суета, крики и пыль, что весь день весит над кораблем от более чем сотни беженцев с восточных островов. Они спасаются от невероятно быстро растущей морской силы турок-османов. За много недель путешествия многие из них крайне обессилили от морской болезни, плохой пищи и воды. А многие и совсем превратились в ходячие скелеты от частого приема слабительных, что ежедневно приписывает им корабельный бездарь лекарь. Слабительное помогает от тошноты и рвоты, непременных спутников всякого, кто впервые в долгом плавании, но нельзя же доводить больных до потери сознания на деревянных лоханках.
У кого-то еще хватает сил играть в кости, карты, шахматы. Это много лучше, чем одновременная безумная игра одуревших людей на лютнях, флейтах, клавикордах, цитрах и на особо тягучих волынках.
Но истинный ад начинается с наступлением темноты. Шум и толкотня усиливаются. Часто громкая ругань, а то и жестокие драки за место в трюме. Ведь гребцам и самим мало место для сна. Многие из них спят на скрещенных веслах, выдвинутых за борта. Так что к своим банкам не допустят гостей галеота. Разве что обокрасть или, зажав рот, изнасиловать глупую жену глупого мужа.
А из трех трюмов отпущен для сна только средний. В кормовом лежат бесценные мешки с шелковыми нитями. В носовом трюме – еще более ценные мешки с пряностями и пурпурными красками. Так что приходится спать друг на дружке. А сверху еще всю ночь бегают огромны крысы и пронырливые мыши. Они грызут мешки с продуктами, обувь, ремни, подушки. И тут же гадят в пищу, воду и на лица спящих людей.
Ко всему этому ужасу прибавляется суровая необходимость перед сном поохотится за клопами, вшами и червями, раздевшись догола. Без этой, вызывающей отвращение, охоты не уснуть. Ни беженцам, ни воинам, ни гребцам, ни даже самому капитану. Женщины уже давно не прячутся за спины друг дружки. Да и на их грязные, ссохшиеся тела уже не осталось охочих посмотреть.
Да и сам Юлиан Корнелиус уже забыл, что такое стыд своего обнаженного тела. Только ему все еще было любопытно, до чего еще может скатиться человек и есть ли этому предел?
И куда же подевалось благородство Юлиана Корнелиуса?
* * *
– Маркус, ты плохой гребец. Но ты многое хватаешь на лету. К старости ты сможешь стать палубным старшиной. Приходи к концу зимы.
– Храни вас бог, старшина Фарацио. А мне дай бог дожить до конца зимы.
Юлиан Корнелиус взвесил на руке несколько кружочков гроссо[123], все, что причиталось за вычетом червивых сухарей, бобов, воды и мешка, и с сомнением покачал головой. Нет, он твердо решил дожить до конца зимы, но не знал, как можно этого добиться, имея столь жалкое содержание.
Как быть? Как жить? Кто поверит, что седой оборванец с изуродованным лицом, Юлиан Корнелиус. Кто поверит, что Юлиан Корнелиус – ученый доктор медицины. Ведь святая святых, его Artium magister на дорогущем пергаменте с серебряной печатью, подтверждающая его ученую степень, сейчас в руках ненавистного герцога наксосского. Если уже не брошена в огонь, как и душа самого Юлиана Корнелиуса. Что ж, пусть пылает душа и ни на миг не забывает о коварстве Джованни Санудо.
Вот только что может поделать Юлиан Корнелиус? Пойти в сенат? В Совет десяти? К самому дожу Венеции? Да, кто станет слушать грязного оборванца. Скорее его бросят в тюрьму за бродяжничество, а оттуда отправят на галеры. И не быть уже вольным гребцом, а быть выбритым осужденным с кандалами на ногах. Таким нет даже шага за борт галеры. Их судьба вязать на стоянках в порту носки на продажу и ждать, когда смерть смилостивиться и его тело бросят в беспокойную волну по ходу корабля.
– Эй, Маркус, пойдем в таверну. Я знаю здесь в порту знатное местечко. И вино там не дорого, и девки еще при зубах.
Юлиан Корнелиус с тоской посмотрел на соленым потом обретенных друзей гребцов и безвольно поплелся за ними в поисках, хотя и одного, но счастливого дня.
Счастливым оказался не только день, но и ночь. А вот утро было привычно печальным, как и все прошедшие за полгода.
– Что, морячок, есть еще монетка? Нет! Эй Джакони, проводи!
Юлиан Корнелиус успел только натянуть свою тунику. Так, с голыми ногами, здоровяк Джакони и спустил несостоявшегося жениха с верхних приемных комнат в грязный общий зал таверны. А ведь шлюха вначале показалась лекарю вполне приличной женщиной. Подавала она вино, пиво, вяленую рыбу и солонину с милой улыбкой. Но при этом была строга и не позволяла опьяневшим гребцам шлепать по ягодицам. Она не пила вина и весьма скромно отхлебывала из общего кувшина черное пиво. Она даже не отворачивалась от изуродованного лица Юлиана Корнелиуса. Более того, трижды легла на его плечо упругой грудью.
Лекарь мало ел, зато не пропустил ни единой налитой кружки. Его глаза туманились, а в них девка из таверны становилась все изысканнее и благороднее. Он даже прослезился от такой красоты и порядочности. Он даже сказал, что мечтал о такой невесте. Гребцы дружно смеялись, подливали вина и поочередно уводили «невесту» в верхние комнаты. Совсем опьяневшего Юлиана Корнелиуса дружки занесли в постель девки последним.
Наверное, все было хорошо. Лекарь чувствовал себя даже счастливым на голой женской груди. Счастливым до тех пор, пока не позвали здоровяка Джакони.
Впрочем, Джакони весьма учтиво прислонил расплатившегося сполна гостя таверны к каменной стене у пылающего камина. Не идти же сразу разгоряченному мужчине с голыми ногами на холодный ноябрьский ветер, что с силой ломал дождевые стрелы.
Немного подумав, мужчина решил, что оставив в этом убогом месте все свои монеты, он может напоследок рассчитывать на большую кружку вина, с чем и обратился к хозяину таверны. Но тот, казалось, не слышал своего гостя. Не просто гостя, а ученого лекаря с университетским образованием. Наконец он повернулся лицом к «благородному» гостю:
– Я в этих стенах слышал множество историй. Не поверишь, даже от принцев крови и рукоположенных кардиналов. За эти сказки я не наливаю вина, – устало улыбаясь, ответил хозяин.
Наверное, ему все же стало немного жаль глупого гребца, который за день и ночь спустил заработанное серебро. Поэтому он кивнул головой в дальний угол таверны:
– Иди за тот стол. Там любят слушать различные истории. Особенно если эта история о страшилище в синих одеждах. Уже более полугода о нем спрашивают всякого входящего в таверну незнакомца. Гору серебра выложили эти слушатели за угощения многих рассказчиков. Может и тебе повезет. Но могут и рожу набить. Хотя… Твоему… э-э-э… лицу уже ничем большим не навредишь.
– Страшилище в синих одеждах? – распутывая мозговые узлы, промычал все еще пьяный Юлиан Корнелиус. – Знал я одного такого. Лодочник. Я спас ему жизнь. А еще в его лодке был труп…
– Иди к ним, – махнул рукой хозяин таверны. – Мне твои выдумки не нужны. Меньше знаешь, больше живешь. Мне некогда тебя слушать.
Сидящие за столом в дальнем углу таверны, напротив, долго и внимательно слушали ученого человека. Слушали и не забывали подливать веселящий напиток. Затем бережно взяли под руки бесчувственного от выпитого вина рассказчика и бережно вынесли за порог.
Больше эти люди, как и ученый доктор с бесстыже оголенными ногами в таверну не заходили.
* * *
– Подойди. Присядь в это кресло. Ты помнишь его? Да! Это мое любимое кресло, в которое я не позволял до этого мгновения садиться никому. Я буду говорить, а ты слушай меня со всем почтением и подобострастием. Так, как полагается доброму христианину слушать наместника бога на земле!
Я сейчас подумал… Я никогда не произношу вслух своей первой мысли, но это уже не важно. Я скажу. Даже взобравшись на самый высокий трон на земле, человек все равно сидит не на нем, а на своем человеческом заду. Смешно, да? Не отвечай! Слушай!
Я уже не встаю. Моя смерть близка. Я знаю, что, почувствовав запах смерти, к святому престолу уже слетелись почти все кардиналы. Но я ни с кем не желаю говорить. Только с тобой. Ты мне неприятен, хотя, как и я, вырос на восхитительном французском вине и возмужал на крепких французских девицах. Этьен Обер! Знаменитый профессор гражданского права в Тулузе! Епископ Нойонский! Епископ Клермонский! Кому как не тебе стать моим приемником. Ты уже избрал себе имя? Молчи. Я знаю. Я говорю с тобой потому, что большинство епископов на конклаве подадут свои голоса за тебя. И тебя вознесут как Иннокентия… Какой там по счету? Ах, да! Папа Римский Иннокентий Шестой!
Ты будешь достойным папой. Умирающим часто правильно видится грядущее. А еще… Еще они могут чуть подправить это будущее. Разумеется, с условием, что они правильно все сделали. Я сделал правильно, подкупив, запугав, пообещав, и многое другое, епископов. Они будут голосовать за тебя. Ты мой выбор. А знаешь почему? Молчи. Я скажу!
В первый день моего восшествия на святой престол я, уже папа римский Климент Четвертый, сказал Господу. Не удивляйся, скоро и тебя ждут эти нелегкие беседы. Я сказал Господу: «Давай договоримся, Господи, я верю в Тебя, Ты в меня!». Не мне Господа, ни ему меня не в чем упрекнуть. Молчи, молчи… Ты можешь привести множество примеров всякого и всяческого. Но скоро ты на это будешь смотреть с большой высоты и сам себе удивляться – не все, что проще простого, так просто!
Я даже слышу твой внутренний вопрос: как мне взбрело в голову в самый разгар черной чумы объявить очередной Святой год[124]. И даже издать буллу[125], приказав ангелам немедленно доставлять в рай любого, кто умрет на дороге в Рим или возвращаясь домой. Ты, как и многие, негодовал, зная, что в Риме собралось более миллиона человек. А на Пасху к ним присоединился еще миллион паломников, ищущих защиты от чумы. Ты проклинал меня, узнав, что только один из десяти паломников вернулся домой. Остальных погубила черная смерть. Ты наверно с особым удовольствием повторял слова какого-то остряка: «Господь не желает смерти грешника. Пусть себе живет и платит далее!»
Но сейчас твое негодование исчезнет. Я скажу тебе, за тот год прибыль римской курии[126] составила невероятную сумму – семнадцать миллионов флоринов[127]. Эти деньги я оставляю тебе! За исключением ста тысяч монет, что были похищены при перевозке золота из Рима в новую обитель святого Петра[128]. Сюда, ко мне, в Авиньон[129]. Их ищут.
Золото, золото…
В раю, где я скоро окажусь, деньги не значат ничего. Зато на земле – они все! Вера, власть, право и порядок. Без всего этого люди вернутся в состояние зверья с единственным законом – кто сильней – тот сыт! А Господь желает добра людям, поэтому он дал святой церкви право заставлять людей быть людьми. Золото – это меч и щит нашей святой церкви. А значит закона и порядка. Ты как правовед это знаешь даже лучше меня. Ты скоро найдешь способ договориться с собственной совестью во имя всех живущих и их потомков.
Но… Но!
Щит не должен слабнуть, а меч истончаться. Слишком много врагов у святой католической церкви. Мы обязаны во имя будущего нашей паствы увеличивать золотой запас церкви. Нас еще ждут великие потрясения, и мы должны быть к ним подготовлены.
Я устал. Болезнь ослабила меня. Я не буду говорить тебе о делах церковных. Многое знаешь, многое узнаешь. Главное – приведи православную ересь Константинополя и на нее смотрящих в лоно истинной католической церкви. Это единственный способ не пустить ислам в Европу. И здесь главное это золото. Да, да, я слышу… Ты готов сказать о том, что вера могущественнее золото. Но молчи. Молчи! Вера не помогла нам удержаться в святых землях. Только одна вера не остановит сарацин.
Золото, золото и золото!
Как я устал. Нет, сиди и слушай!
Я возлагаю на твои плечи то дело, которое я не сумел закончить. Дело о золоте тамплиеров! Тебе все расскажут в малейших подробностях. И о том, что после ареста магистра и его братьев по ордену так и не были найдены неисчислимые золотые клады. И это не смотря на жесточайшие пытки братьев рыцарей. И о том, что так и не удалось выяснить происхождение несметного богатства тамплиеров. А ведь до них в Европе было в десятки раз меньше золота. Откуда, из каких недр, из каких приисков черпали они сотни миллионов золотых монет? Где та земля, что поделилась богатством с рыцарями храмовниками?
Вот тайна, на которую ты должен будешь ответить.
Мне не удалось. Я так и не смог выследить, в каких землях нашли пристанище те восемнадцать кораблей, что отплыли из порта Ля-Рошель в первый день ареста тамплиеров. Было ли на них золото? Куда они бесследно исчезли? Мои лучшие люди побывали во всех известных землях, вплоть до Японских островов. Но нигде… Даже слухов! А может, есть еще другие земли, неизвестные даже нам – святой церкви? И именно они полны золота и серебра!
На этот вопрос может ответить только один человек! Гудо!
Ремесло его пугающе и презренно – палач! Но так уж угодно было силам нам не подвластным. Он знает… а может, и нет. Но при нем есть тайные записи тамплиеров. Не может тайна просто исчезнуть. Ведь тогда она не тайна, она фантом[130].
За этим «господином в синих одеждах» охотятся самые знающие люди церкви. Один из них, инквизитор, святой отец Марцио, третий год идет неустанно, несмотря на дряхлый возраст, след в след. Отец Марцио едва не схватил этого Гудо в северогерманских землях. Потом в швейцарских горах, и уже держал в своих руках в Венеции. Но, но, но…
И вот чудо Господне! Одна из расставленных ловушек отца Марцио сработала. И опять в Венеции. Его люди похитили ученого лекаря Юлиана Корнелиуса. Ты прочтешь записи о его допросах. Интересный случай. Окрестившийся иудей. Любопытный народ эти евреи. Престранный. Но они дали нам Библию, Евангелие, святые писания. Как не признаешь, что это самый великий народ. Хотя если уж поразмыслить… Приходишь к выводу, что самый великий народ тот, у кого самые гениальные писатели. Великими были греки, римляне. Почему? Потому что мы читаем то, что они хотели написать для потомков!
Особенно обрати внимание на убийство личного секретаря венецианского дожа. Этот дож Андреа Дандоло – заноза в теле святой церкви. От него нужно избавиться. Дожем Венеции должен стать Марино Фальер, венецианец, но верный сын нашей церкви. Он же крестный отец некоего Джованни Санудо, герцога наксосского. В руках этого герцога палач Гудо. Отец Марцио уже в пути к герцогу.
Не упусти этого Гудо. Именем Господа призываю, не упусти! Нет сейчас у папского престола важнее дела. Если справишься с ним, на земле останется только одна церковь, наша святая католическая церковь!
Глава одиннадцатая
Гудо проснулся поздно. Он никак не мог высвободиться от крепких объятий странного сна. Вдвойне странного и оттого, что он до мельчайших подробностей помнился, и после того как его обладатель умылся холодной водой и прошептал на коленях несколько очищающих молитв.
Гудо взял с общего стола лепешку, несколько фиг, морковь и ушел на берег моря.
Поначалу ему было странно и непонятно, почему он приходит на скалистый утес и подолгу пребывает на нем, устремив взгляд на морские дали. Ему, жителю лесов, видевшего лишь однажды белые воды суровой Балтики и подуматься не могло, что его будет тянуть на морское побережье. После трагического путешествия на галере чудовища герцога Гудо, казалось, и смотреть не будет на волны, разлучившие его с семьей, лишившие зубов и бросившие в объятия демона, печально определенного Философом как его собственной душой.
Но его тянуло к свежему ветру, крикам чаек, шелесту мелкой волны о прибрежную гальку. А еще он всматривался вдаль, желая не пропустить корабль, который непременно привезет Аделу и детей в порт этого острова. И пусть только привезет. Гудо обязательно освободит их, даже если понадобиться убить множество злых людей. Именно злых. За их убийство Господь менее строго спросит. Может быть, даже на время забудет данную ему клятву палача. Ведь знает Всевышний, что есть чудовища в человеческом обличии, которые ему, как Создателю не удались.
Нет, нет! Господь не ошибается. Может он просто отвлекся, и получились такие, как этот герцог, его Крысобой, Гелиос и самая большая ошибка – Мартин. Должно быть, сатана особенно досаждал Создателю именно в момент, когда души этих нелюдей помещались в их оболочки.
А еще море наполняло мужчину в синих одеждах жизненной силой. Да такой, что порой хотелось взлететь со скалы, взметнуться в небо и оттуда нырнуть в голубые воды, чтобы вынырнув опять взлететь навстречу солнцу. Так действует море на тех, кто долго всматривается в него. Отсюда неукротимость живущих на его берегах и островах. Отсюда жажда путешествий и познавания мира. Отсюда смесь фантазий и реальности, что породили веру в то, что так тщательно хранит в тайных пещерах Философ.
От Философа и его тайных пещер и начался столь запомнившийся сон Гудо. Он как будто вновь и наяву идет по извилистому лабиринту. Гудо крепко держит за шею своего проводника, во избежание всевозможных козней Философа, а тот выхватывает огнем своего факела все новые и новые тайны из ниш, вырубленных в стенах.
Вот чья-то окаменевшая голова, волосы которой заменили змеи. Золотые сандалии с изящными золотыми крылышками. Огромный рог исполинского животного. Щит, что даже через толстый слой пыли отзеркаливает свет факела. Серебряный посох с золотым шаром наверху. Шкура в странных золотых завитушках. Множество статуй и статуэток. Из золота, серебра, бронзы, камня и даже дерева. А еще груды старинных золотых и серебряных монет. Россыпи драгоценных камней в золотых кубках, а то и просто сваленных в уголках ниш.
Философ говорит и показывает, но Гудо плохо слушает его. Мужчине в синих одеждах не понятно – как какой-то бог летал, надев на ноги сандалии с малюсенькими крылышками. Как другой бог мог достать из рога обилие всевозможной пищи. И как он мог поразить посохом кого-либо, даже тогда, когда он не видел свою жертву. Все это тайны, непонятные Гудо. Это не его тайны и ему совсем не нужные. Может, и нужны золото, серебро, драгоценные камни. Они бы помогли найти и освободить его семью.
Но Гудо не воспользуется ими. И потому, что он сам никогда не сможет найти путь к этим таинственным пещерам. И потому, что поклялся именем своего Бога никогда не вспоминать о них. И потому, что он опасается гнева старых богов, которые укрыли на земле свои вещи, к которым они вскоре вернуться.
Так сказал Философ. Старые боги вознеслись очень высоко в небо, оставив Землю на младшего из них. А тот возомнил себя верховным богом. Единственным богом, которому должны поклоняться, и в которого должны верит все люди на земле. Он приказал уничтожить храмы и даже память о старых богах, назвав их идолами. Люди – стадо, стадным умом и выполнившие это зло.
Но есть те, кому старые боги поручили сохранять их вещи. Такие как Философ и его просвещенные братья. Старые боги скоро вернуться и накажут глупого божка, заставившего людишек воздвигать в честь него соборы и церкви, а также поклонятся крестам. И тогда люди всей земли узреют могущество истинных богов и разрушат дома бога-обманщика.
Пусть Философ и дальше верит в своих греческих богов. Гудо нет дела до этих выдумок. А то, что хранится в тайных пещерах – это зло. Золото, серебро, драгоценные камни погубили множество душ жадных до тех грехов, что на свою вечную погибель можно купить за них. Гудо и сам убивал за золото и за него же приобретал грехи.
Если миром правит золото, то миром правит зло. Не нужны Гудо старые боги и их ненавистное золото. Его бог гневается, когда люди убийством и обманом собирают сокровища на земле. Истинные сокровища только на небесах.
Об этом говорит другой человек. Говорит, что Господь первому ему сообщает свою волю. В этом сне он накладывает крест на Философа и тот исчезает вместе с сокровищами старых богов. Затем человек ведет Гудо на ту самую поляну, что рождает радужное облако из крылышек порхающих бабочек. Здесь радостно и светло. Легко дышать, потому что видны небо и солнце. Но Гудо не чувствует себя счастливым. Этот человек сильно сжимает могучую шею мужчины в синих одеждах. Сжимает и молчит.
А бабочки поднимаются все выше и выше. Вот они и совсем исчезли в опускающемся посеревшем небе, что продолжает свое падение и становится все темнее и темнее. Неужели небо желает раздавить Гудо? Но этого не может случиться. Ведь с ним рядом человек божий, изгнавший старых богов земли! Кто он?
Почему он рядом с Гудо? И почему он так больно сжимает шею? Что желает он от Гудо? Почему причиняет боль? Разве мало в жизни Гудо было тех, кто причинял ему боль? Почему этот незнакомый лично с ним человек также желает его страданий?
Странно, Гудо так и проснулся, ощущая боль на своей шее. Проснулся, но так и не смог понять, что и отчего. Конечно, ему было известно, что в сон приходят мысли тех, кто думает о спящем. Так сказал мэтр Гальчини.
Понятна тревога Философа. Он не может не думать о том, кто заставил его открыть страшные тайны, цена которым жизнь и вечные муки после нее. Но может ли незнакомый святой человек думать о каком-то незнакомом человечке?
Кого спросить об этом? Кто мог бы разгадать тайну сна? Да и спросить нельзя никого. Ведь толкователи снов уже давно преследуются церковью, как колдуны и ведьмы. Такие люди хранят свой дар так же тщательно, как хранит свою тайну Философ.
И почему все же принял Гудо человека, схватившего его за шею, за наделенного святостью? Что же это за сон? Может это предостережение? От самого Господа? Или от сатаны? Только они могут наслать сон. А может и не только они. Может и прав мэтр Гальчини, утверждая, что сон простых людей от слабости и глупости самого человечка? Только избранные видят вещие сны. Гудо просто человек и сон его глупость.
Да, это всего лишь глупый сон. Его нужно забыть.
Но он забываться не желает. Одно лишь утешение – этот святой человек с могучим крестным знамением – не мучитель Гальчини.
* * *
И хотя еще стояли ласковые солнечные дни, порывистый холодный ветер напоминал о том, что наступила осень. Да и море потемнело и перекатывалось большими волнами. Оно уже не звало в свои объятия, и только неугомонные чайки, не желая замечать его перемен, все еще радостно перекликались, опускаясь на предупреждающие воды.
Гудо вздохнул и отправился на несколько сот шагов вглубь острова. Здесь, на широкой поляне, озаборенной вековыми дубами, тополями и ивами, все еще благоухали полезные травы. Именно полезные, ибо Гудо, не очаровываясь красотой и гармонией множества цветов и соцветий, безжалостно топтал их в поисках ему необходимых.
Там в большом гроте на берегу моря уже были припасены высушенные и приготовленные на спирту целебные травы и ягоды. Именно они всего лишь через месяц помогли стать на ноги изувеченным Весельчаку и Ральфу, восстановили силы генуэзца Франческо Гаттилузио и просто омолодили отца Матвея.
Велика сила трав, особенно когда они собраны с великим знанием, в определенное время и смешаны в правильных пропорциях. Господь мудро поступил, дав людям лекарства от всех болезней, поместив их в шалфей, валерьян, чабрец, пустырник, чертополох, шиповник и в сотни и сотни других даров земли. Пользуйтесь люди и радуйтесь, и не забывайте славить имя Божье. А если человек настолько ленив и глуп, что не может понять дара небес, то и на этот случай великодушный Господь ниспослал знания избранным людям-лекарям, вложив в их души сострадание и желание помочь всем страждущим, чьи греховные тела мучают их. Такие избранные и сами мучаются, близко к сердцу принимая болезни часто и не знакомых им людей. А если пришлось с больными совместно перенести тяготы и лишения, то желание помочь значительно возрастает.
Вот и сейчас, собирая последние пригодные травы этого года, лекарь в синих одеждах думал о тех, кто ожидает его у входа в грот. Ожидает по разному, но всех их объединяет одно – благодарность человеку, что оживил их тела. Даже многократно гневавшийся Франческо уже не называет Гудо палачом. А неделю назад он даже обратился к нему, начав со слов «Любезный господин Эй»!
Так на генуэзца подействовала встреча с волшебным поляной Петалудес, каждый шаг по которой рождал дивное зрелище поднимающихся один за другим облаков, сливающихся в одно огромное и сказочно волшебное – то самое облако из порхающих бабочек, что этой ночью снилось Гудо. Наверное, это зрелище глубоко запало в душу мужчины в синих одеждах, раз оно так красочно отобразилось в его «глупом» сне. А что самое странное это зрелище наяву мало чем отличалось от видений, которые уже присутствовали в растревоженном мозгу Гудо. Как они могли попасть в его сознание еще до того, как были увиденными? И почему они вызывают больше интереса, чем безусловная красота цветка. Ведь бабочка в сущности своей бесполезна, а вызвала восторг в душе Гудо. Цветок прекрасен, но лекарь Гудо видит в нем лишь полезность.
Этого Гудо объяснить не мог. Но он был рад, что сдержал свое слово и привел Франческо его собственными ногами на то место, о котором говорил отец Матвей. Этим он сдержал данное в пещерах слово и был рад тому, что глаза генуэзца заблестели от удовольствия, и теперь в них навсегда поселилась жизнь, напрочь изгнав некогда очень желанную смерть.
В этом походе за дивным зрелищем Гудо, Франческо и других своих «гостей» сопровождал Философ. Вначале он наотрез отказался проводить нежеланных гостей своего тайного грота почти в сердце острова. Но Гудо настоял, как и множество раз до этого. Благодаря этим настояниям, жизнь в мрачном гроте была вполне сносной. Хорошая пища, вино, вода и даже спирт для настоек. А затем старания местного брадобрея и новая одежда до неузнаваемости преобразили узников ада Марпеса. Они не узнавали себя, не узнавали друг друга и от этого по-ребячески хохотали. Не сменил, но тщательно выстирал и починил свои странные одежды лишь Гудо. Над этим тоже хохотали, но очень недолго. До тех пор пока Гудо не посмотрел на каждого из обитателей грота из-под нахмуренных бровей.
Разве смогут они понять, да и стоит ли это объяснять?
А мог ли сам Гудо вразумительно объяснить это свое совсем не умное решение. Странные синие одежды с головой выдавали врагам самого разыскиваемого палача всех времен и народов. Но с другой стороны, ни одна, даже самая богатая одежда, не способна изменить характерное тело и уродливое лицо. Его невозможно было не узнать даже тому, кто видел палача со спины. Так стоит ли менять, ставшую уже второй шкурой синюю одежду.
Но главной в этом вопросе была другая мысль. А точнее, видение.
…Еще издалека Адела и девочки замечают своего Гудо. Даже в огромной толпе он выделяется странностью своего синего наряда, и они тут же выхватывают его взглядом… Нет. Все же лучше – Гудо спускается с зеленого холма и его еще за сотни шагов видят милые сердцу девочки. И вот Адела и дети спешат ему навстречу. Они бегут и кричат. Радостно кричат. На их щеках слезы. Слезы радости. Такие, как и на щеках самого Гудо…
Гудо удивленно вытирает щеку. Он так страстно желает этого, что даже опередил время. Да, это непременно будет. Только не правильно пускать слезу в присутствии семьи. Даже в миг наивысшего счастья, когда человек совсем не в силах собой управлять. Гудо будет только улыбаться. А они… А они пусть плачут. Ведь Господь так создал женщин. Слезы по-всякому тревожат мужчин, но никогда не оставляют равнодушными. Слезы – это женские слова. Может, его дорогие девочки и не найдут первых слов при встрече. Скорее всего и Гудо не найдет этих слов. Но плакать он не будет.
Он будет только улыбаться.
В нескольких шагах треснула ветка, и зашатался потревоженный куст.
Гудо закивал головой. У него не было сомнения – это один из соглядатаев Философа, которые днем и ночью тайно кружат вокруг него и обитателей грота. Это полезно. Это охрана от чужих глаз и она же предупреждение не нарушать соглашения с Философом. Надежная охрана. Только этот соглядатай, наверное, увидел улыбку Гудо. Что ж, мужчине в синих одеждах не привыкать, что люди бегут от его улыбки.
Наверное, Гудо не стоит улыбаться при первой встрече с семьей. А вдруг они отвыкли от его улыбки.
И все же, как правильно встретить Аделу и детей?
* * *
У входа в грот на валуне сидел и чесал свой огромный нос Философ. В нескольких шагах от него, опираясь на дубовые палицы, стояли четверо служек в привычных на греческих островах коричневых шерстяных туниках. Сколько бы раз Гудо не видел этих крепких мужчин, всякий раз отворачивался от их обнаженных, поросших густыми черными волосами ног в сандалиях с многочисленными ремешками.
Философ никогда не входил в грот, если в нем отсутствовал Гудо. Даже многочисленная и опытная охрана не внушала ему спокойствия при виде свирепых лиц Весельчака и Ральфа. Только присутствие Гудо несколько расслабляло хранителя секретов древних богов, и он присаживался на краешек скамьи за общим столом. Сколько бы добра в будущем Философ не сделал бы для этих воров, но правый глаз Весельчака не вернуть. Так же не вернуть трех пальцев на левой руке Ральфа. И хотя со скрипом в сердце их отнял лекарь Гудо, но в том, что их нельзя было спасти, была вина Философа. А многочисленные переломы! А лоскутки кожи, что свисали лохмотьями на рубище нищего. Как долго с этим возился Гудо, которого теперь воры, вместо палача, величали наш великий лекарь.
– А травы, травушки, настойки, – вместо приветствия воскликнул Философ. – Ими уже можно было вылечить всех паросцев. Да и жителей соседних островов. Эх, если бы все сложилось иначе, ты, господин «Эй», стал бы самым уважаемым и богатым человеком на Кикладах. Но на все воля богов! Не станешь. Боги указали твой путь.
– Пошли, – коротко сказал Гудо и, пройдя в грот, уселся за стол.
Посмотрев на сосредоточенное лицо своего лекаря и на смущенную улыбку робко усевшегося на краешек скамьи Философа обитатели грота так же заняли места за столом.
– Сегодня галера герцога по его приказу отбывает на север. В Константинополь.
После этого сообщения Философ замолк и продолжил тщательно чесать нос.
– Ну! – грозно подстегнул Гудо.
– Ну, ну… Давно был этот приказ. Его привезла венецианская почта. Есть у меня люди в крепости. Читал я этот приказ. Капитан Пьетро Ипато все выполнил в точности. Эти венецианцы достроили и укрепили крепости здесь и на соседнем острове, что в пяти стадиях[131] через пролив от Пароса. Им не хватило камней из пещер. Эти проклятые венецианцы приказали выломать последние камни из храма Деметры[132]. От древнего святилища остался только фундамент. Я запомнил имена проклятых венецианцев – Пьянцо Рацетти и Аттон Анафест. Боги очень скоро покарают этих варваров.
В глубокой печали Философ повесил голову.
– Говори дальше, – беспокойно погладил ладонью по доскам стола Гудо.
– Дальше… А дальше вот что! Три дня галеру грузили припасами и водой. Потом принялись за команду. Паросцы в зимние месяцы не желают идти в море. Они знают, как к поздним плаваниям относятся боги. Посейдон[133] своим трезубцем часто карает тех, кто нарушает законы наших богов. На весла посадили невольников и тех, кого покарал закон. Но все равно не хватает гребцов. Как и палубных моряков. Потом отправились, согласно письма, за «господином в синих одеждах». Так и сказано в письме о тебе, господин «Эй»! О господине! Об очень важном и нужном герцогу человеке.
– И что же?..
– Здесь бы рассмеяться. Ведь все эти месяцы «господин в синих одеждах» провел в подземной тюрьме крепости. Там есть одиночные комнаты, куда ненадолго попадает тоненький луч солнца. Его хорошо кормили, поили и совсем не беспокоили. Мало того, «господин в синих одеждах» свел странную дружбу со стражей. Поэтому он получал жареных цыплят, маслины, финики и прочие радости. Многие из гребцов, что прибыли вместе с ним на «Виктории», покалечились и погибли под завалами туннелей Марпеса. А он, получается, благоденствовал и набирал жирок.
Вот и подошли к смешному.
Галера уже готова была отплыть, когда к ней подвели этого узника в синем плаще с огромным капюшоном. И капитан Пьетро Ипато и его старшины и проклятые венецианцы Пьянцо Рацетти и Аттон Анафест глазам своим не поверили, как похорошел их странный гребец, что так досадил самому герцогу. Они даже велели его выбрить. Но это не помогло. Вместо человека со звериным ликом на них смотрело лицо невольника-турка. Мало того. Во рту этого турка были почти все зубы. Во всяком случае, передние, которые напрочь отсутствовали у «господина в синих одеждах».
Что потом началось трудно передать словами. Но разобрались быстро, призвав Гелиоса и Мартина. Те видели требуемого герцогом человека и отправили его за строптивость в ад Марпеса. Множество людей стали обыскивают пещеры и самым тщательным образом хорошо известный вам ад. Они даже на время забыли страх перед демоном пещеры. И напрасно. Демон очень разозлился, обвалив несколько туннелей. Так что ко мне они не добрались. Позже доберутся. Я не уйду. Я должен остаться и будить демона пещер, чтобы всякий страшился и не лез в ад Марпеса.
Множество непрошеных гостей погибло в последние дни. И труппы их невозможно отыскать. Даже отыскав – опознать. Я и мои люди подтвердят – «господин в синих одеждах» был, но его погубил демон пещер. Как и многих! Так что вы все свободны. Вас никто не будет разыскивать…
– Они поплывут к герцогу. У герцога моя семья. Во всяком случае, если я доберусь до герцога, я буду знать где моя семья, – радостно воскликнул Гудо. – Я наймусь гребцом, моряком… Кем угодно… Что? Что?
Гудо огляделся. Все присутствующие с безнадежностью на лицах смотрели на него.
– Было такое. Давно было. Богов изгоняли и призывали других. Придумали и другое – отрубывали головы у изображений старых богов и на их плечи крепили головы новых…
– Ты о чем это Философ? – все еще пребывая в возбуждении спросил Гудо.
– Даже если тебе заменить голову, то твое тело не узнать невозможно. И наоборот. К тому же за все провинности наш знакомец Мартин угодил опять за весло. Рядом с ним сидит Гелиос. Им предстоит давать ответ герцогу, где они подели «господина в синих одеждах». Представляешь, как они обрадуются твоему появлению. Да все будут рады до слез, если ты только воскреснешь из мертвых.
– Как быть? – впервые за многие месяцы Гудо тепло и с надеждой посмотрел на ненавистного ему человека, мысленно повторив слова мэтра Гальчини: «Нет врагов, нет друзей. Есть обстоятельства…»
– Вас ждет небольшое суденышко. На нем доберетесь до малоазийских портов. До какого пожелаете. На суденышке запас пищи и воды на пять дней. Дальше поступайте, как пожелаете. Но прежде поклянитесь, что никогда не ступите ногой на Парос. Только после этого мои люди проводят вас к месту, где ожидает корабль.
В гроте гулко, одно за другим, раздалось пять слов «Клянусь».
* * *
Они долго, хмуря брови, смотрели друг на друга, не сказав и слова. И на них долго и, едва сдерживая смех, смотрели все, кто отчалил от острова Парос. И спутники Гудо и гребцы суденышка Философа.
Давно прошли те времена, когда древняя земля эллинов славилась красотой и изяществом во всем. Великолепные мраморные храмы, глядя на которые замирали сердца. Грациозные и анатомически точные скульптуры, от которых глаз не оторвать. Картины и мозаики, удивляющие сочностью красок и нереально застывшей на мгновение динамикой сюжета. Удивительные по красоте и в тоже время полезностью произведения древних мастеров – от глиняной амфоры до золотого гребешка. И, конечно же, люди, рожденные от потомков богов и сами себя совершенствующие ежедневными заботами о теле и душе.
Мужчины упражняли тела, вычерчивая каждый мускул. Не появлялись на улицах, не отдав себя на несколько часов опытному каламистру[134]. И те, с творческим вдохновением, укорачивали и завивали на манер черепичного перекрытия волосы на голове. Затем склинивали и спускали горячими щипцами в виде спиралей с мелкими кольцеобразными локонам на конце подкрашенные хной бороды. А после, выщипав из ноздрей и ушей все излишнее, умилялись своей искусной работой. Окончив дневные труды и физические упражнения, заботясь о душевном, мужчины сходились на симпозиумы, где, попивая вино, говорили с равными себе о многом и, в основном, о важном.
Женщины стремились достичь мужского совершенства. Но их упругие и гибкие тела, после частых родов, обволакивались жиром, головы лысели, а зубы просто выплевывались. Но об этом невозможно было догадаться, если женщина в сопровождении подруг, служанок и рабов выходила в единственно дозволенное ей общественное место – на рынок. Их тела, даже запрятанные во множество складок пеплоса[135], двигались соблазнительно. Белила и румяна на лицах усиливали привлекательность классических форм носа и губ. Восхитительно уложенные под золотую сетку, выбеленные бычьей мочой, волосы притягивали как солнце и тут же заставляли опускать взгляд от понимания того, что среди богов тоже есть женщины, и не всякому позволено ими обладать, пусть даже и взглядом.
Потомки богов рождали потомков богов. Но мир неизбежно меняется. Границы понимания жизненного пространства раздвигаются, и часто (увы, увы) разрываются. В древнегреческий мир вторглись варвары со всей ойкумены[136]. Это вторжение, как грязная вода с камнями гор, прошлось по всему – от храмов до рождения кровосмешанных младенцев. Красота стала редкостью. К этому привыкли. Как привыкли и к уродливым чертам лица в которых азиатское и северное варварство сгорбило и расширило носы, растянуло и пополнило губы, выдвинуло скулы и подлобные дуги.
Но как бы ни свирепствовало варварство на земле эллинов, оно не могло исхитриться и создать преуроднейший облик с телом истинного великана, которыми обладал капитан судна, на котором беглецы покидали Парос.
Именно на ужасное обличие капитана долго и хмуро созерцал Гудо. Он никак не мог вспомнить, что из многочисленных уроков мэтра Гальчини сейчас ему хочется вспомнить. Он так и не вспомнил до самой ночи. И только когда звезды заставили корабль о шести веслах причалить к маленькому каменистому острову, Гудо, глядя на те же звезды, вдруг услышал, как гребцы между собой называют капитана: Минотавр!
И «господин в синих одеждах» вспомнил легенду о Минотавре: человеке с головой быка. «Было такое – отдалась царица в отместку царю Крита, могучему быку в царских стойлах. От этой мести родилось чудовище с телом человека и головой быка, страшный облик которого пришлось укрыть в знаменитом подземном Лабиринте».
Еще, засыпая, Гудо подумал: хорошо, что Адела и дети не видят этого ужасного моряка, по сравнению с которым сам Гудо еще имеет возможность взглянуть в зеркало.
Может быть, еще до того, как он оказался в подземелье Правды, Гудо и порадовался бы, что есть на божьем свете еще более ужасный звериным обликом человек, но, претерпев многое и многое поняв, ученик мэтра Гальчини только вздохнул, не вспомнив ни о Боге, ни о сатане.
О чем думал сам капитан суденышка, глядя на Гудо? Об этом не узнать, так как по своей воле к нему никто никогда и ни при каких обстоятельствах не обращался. Да и самому Минотавру лучше таких вопросов не задавать. А было бы интересно!
Зато долго, почти все плавание, отворачиваясь и прячась, потешались над встречей двух демонов в человеческом обличии команда судна и попутчики Гудо. Впрочем, отец Матвей и Франческо быстро успокоились и предались духовным беседам.
А через два дня произошел случай, который едва не стоил жизни Гудо.
Это был радостный солнечный день. Почти летний, если бы не сильный северо-западный ветер, холодком бьющий по вспотевшим лицам. К полудню ветер переменился, и капитан подал сигнал втянуть на борт весла. Его слова были тяжкими валунами, заслышав гул которых и взглянув на говорившего, человек вдавливался и уменьшался в росте. Даже, привыкшая к необычному облику своего капитана, команда гребцов делала все возможное, только бы не слышать этого глухого голоса, отдающего могильной глубиной. Они с особым вниманием следили за руками капитана, изучив каждое их движение как утреннюю молитву.
В силы какой-то не понятной привычки, капитан, перед тем как отдать приказ, предшествовал его жестами. Приказов на таком маленьком суденышке было немного: суши весла, весла на борт, табань[137], спустить парус, поднять… И еще несколько десятков. Так что те, кто многие годы ходил на этом корабле с капитаном, знали его жесты и первым делом приучали к ним новичков.
Так что едва капитан поднялся с кормовой скамьи и посмотрел направо и налево, весла уже были на борту. Протянутая кисть правой руки и два моряка тут же взлетели на рею отвязывать парус. Капитан не успевал сказать, а концы паруса уже были подтянуты с поворотом к ветру. Так что ему оставалось сесть на скамью, и, не слишком утруждая свое сильное тело, держать рулевое весло по курсу.
Гудо несколько часов до этого греб на одном весле с Франческо. На соседних веслах сидели Весельчак и Ральф. Чуть далее отец Матвей. Гудо еще с первого дня настоял на том, что, для полного выздоровления и восстановления сил, будет очень полезно сменять гребцов по нескольку раз на пару часов. Гребцы суденышка с радостью восприняли такое послабление их труда и весьма тепло относились к своим гостям, развлекая их морскими рассказами и песнями.
Во время гребли Гудо, как и во всякое свободное время, думал о приятном. Он уже сочинил сотни вариантов встречи со своими милыми девочками, но все продолжал и продолжал придумывать новые. Гудо совершенно не беспокоился о тех сложностях и трудностях, что будут непременно сопутствовать их освобождению. Придет время, и сложности и трудности Гудо решит и устранит. В том он не сомневался. Сомнение вызывало другое и важное: как и каким должен предстать перед Аделой и детьми «господин в синих одеждах». Передумав многое, он уже сомневался, что, хранящая память о нем, как о палаче, синяя одежда, будет правильно принята семьей. Возможно ее все же нужно будет сменить. Возможно даже на дорогую, возможно шелковую одежду. Пусть увидят и радостно рассмеются, теперь их дальнейшая жизнь с Гудо будет благополучной и обеспеченной. А он заработает много денег, ведь его знания, приобретенные в подземелье Правды, не только не утрачены, они возросли и в чем-то даже переросли мудрости мэтра Гальчини.
Взять хотя бы этот мешок из грубого холста. В нем столько целебных трав, мазей и настоек, что этим можно вылечить небольшой городок от множества болезней. Сколько труда и знаний вложил в содержимое мешка неутомимый Гудо. Теперь он на вес золота. А точнее – много дороже. Но и от настоящего золота господин в синих одеждах не отказался.
На прощание Философ, раздраженно почесывая нос, все же вручил тайком своему душителю пятьдесят дукатов золотом. Это немного за жизнь такого человека как Философ. За эти деньги не купишь и половины здорового и крепкого раба. А ведь могло и случиться. Но Гудо внимательно, перед посадкой на суденышко, посмотрел на Весельчака и попросил его отдать нож. Еще никто не посмел ни выполнить «просьбу» Гудо. Не посмел и Весельчак. Он протянул припрятанный нож с гневными словами:
– Если бог создал палачей, значит, так ему было угодно. Позволь хотя бы глаз ему вырезать. А потом мы захватим суденышко и навсегда о нем забудем.
Но «господин в синих одеждах», покачав головой, ответил:
– Сегодня я во второй раз поклялся этому демону пещер. Нарушение клятвы – смертный грех. Мы убьем его тем, что будем думать о нем как об умершем человеке.
– Я так не смогу. Позволь, я хотя бы плюну ему в глаза.
– Это его не убьет и не оскорбит, но может затруднить наш путь. Его боги вдохнули в него столько коварства и злобы, что хватит на десятерых демонов. А вот о душе и вовсе не побеспокоились. Пусть живет в своих пещерах и вдыхает трупный запах тех, кого он погубил под завалами. Это верная смерть. Я знаю.
Слышал ли этот разговор Философ, или читал его по губам, но он отозвал в сторонку «господина в синих одеждах» и тайно вложил в его руку кошель с золотом. Едва сдерживаясь, прошептал:
– Это плата за твою память обо мне, как об умершем, и за жизнь, которая важнее и нужнее всех живущих на земле. Этих денег хватит на многомесячные поиски и на новые наряды для твоей семьи. Жаль, из тебя мог бы получиться Философ!
Философ что-то еще хотел сказать, но повернулся и поспешил в свои жуткие пещеры. Не каждому дано возвращаться в собственную могилу, тем более по собственной воле. Не каждый способен спать на золоте, а ходить в рубище и питаться лепешками. Не всякий решиться погубить себя во мраке. Не каждого ослепляет золото. Это люди из другой глины!
Именно о новых одеждах думал Гудо, когда поднялся со своей банки. Он был так поглощен этим вопросом, что не сразу услышал окрики моряков. А когда услышал, то не понял предупредительные голоса. «Господин в синих одеждах» лишь краем ока заметил размахнувшийся кнут оторвавшегося от борта каната и огромное полотнище паруса, что, как рука палача, направляла удар в его сторону. Уклоняясь от удара, Гудо спиной склонился над бортом. Но низкий борт и не мог стать опорой. Несколько раз взмахнув руками, Гудо опрокинулся в воду.
Обрыв или плохой узел частенько заставлял жесткие канаты извиваться змеями. К этому моряки и их капитаны относились по-разному. Но чаще со смехом, так как канат справедливо наказывал нерадивого моряка, не осмотревшего его или сплоховавшего при креплении. Бывало такое, что от удара или испуга моряк падал на палубу, а то и под веселый крик и хохот за борт. А если упавший при этом еще смешно размахивает руками и испуганно кричит, то веселья только прибавляется.
Смеялись и на этом суденышке. Особенно над выражением наивного удивления и даже, возможно, испуга, что успело мелькнуть на выбритом и от того еще более выразительном лице огромного мужчины. Эти детские движения мускул лица никак нельзя было ранее даже предположить на суровом до дикости обличии человека, о котором всем было известно как о безжалостном палаче.
И тут общее веселие было прервано громким криком Франческо:
– Да он же тонет!
Люди, родившиеся на побережье и всю сознательную жизнь проведшие на воде, переглянулись.
– Чего же молчит? – несколько поостыл Весельчак.
– Видно воды уже глотнул, – предположил Ральф и стал поспешно стягивать с себя тунику.
– Канат, канат! Бросайте конец! – закричали и заметались моряки.
Тут же, лишь сбросив с ног пулены, в бурлящее осеннее море бросился Франческо. Упругие волны встретили генуэзца тысячами леденящих тело иголок. Тело съежилось, сокращая мускулы и связки. Но привыкший к воде с младенчества Франческо тут же заставил руки и ноги подгребать под себя воду и быстро всплыл.
Приподняв голову над водой, молодой генуэзец огляделся. Справа от него, в десяти шагах, огромные руки «господина в синих одеждах» хватались за воздух. Голова же его находилась под водой, как у всякого кто понятия не имеет о том, как заставить тело всплыть. Несколькими сильными гребками рук и ног Франческо доплыл до утопающего и, легко перевернув его к себе спиной, обхватил туловище левой рукой. Казалось, так можно продержать и себя и утопающего достаточно долго, но генуэзец с ужасом почувствовал, как сильные руки Гудо железными кольцами обхватили его плечи, лишая возможности движения.
Франческо стал отчаянно болтать ногами, но спасаемый был слишком тяжел для еще не совсем окрепших мышц генуэзца. К тому же вырваться из крепчайших объятий было невозможно.
«Вот и все. Не под землей, так под водой. Смерть не обмануть», – еще успел подумать Франческо перед тем, как его голову накрыли волны.
И все же он успел хватануть достаточно воздуха и запереть его в легких. Еще немного, но можно было прожить, что трудно было сказать о Гудо, отчаянно глотавшего воду.
«Что же я Господу скажу? Умер в объятьях палача? И что…»
Но последнюю мысль оборвали чьи-то огромные и сильные руки.
* * *
Гудо несколько раз приходил в себя, открывал глаза и опять проваливался в черную пустоту. Он чувствовал, как переворачивали его тело, давили на живот и грудь, сгибали и разгибали по очереди руки и ноги. Но все это было как бы не с ним. Все это он внутренним взором видел со стороны и был абсолютно равнодушен к издевательствам с его телом. Но вот он увидел, а затем почувствовал, как человек с бычьей головой с размаху бьет своей огромной ладонью по щекам его.
Стало больно и стыдно. От боли и стыда Гудо окончательно пришел в себя.
– Все, будет жить, – как через трубу сказал этот «Минотавр» и даже попытался улыбнуться.
Эта улыбка не понравилась Гудо и он отвернулся.
Потом Гудо долго сидел и смотрел на гибкие языки пламени костра. Его правая рука, выдавая слабость, предательски тряслась, и он ничего не мог с ней поделать. Гудо ел левой рукой то, что ему подавали, но все время отказывался от воды и даже вина.
А еще «господин в синих одеждах» вначале растерянно, но затем все с большим вниманием слушал рассказы тех, кто сидел одной большой семьей у костра, на маленьком скалистом острове, одном из тех, которые никто не мог и сосчитать за все века, что моряки бороздили просторы Эгейского моря.
Ясное ночное небо – это огромное черное атласное полотнище, щедро вытканное серебром созвездий и украшеное бриллиантами ближайших звезд. Они приковывают взгляд и умиротворят. Там бесконечная жизнь. Вечный полет. Тишина и спокойствие. Где-то там рай для счастливчиков. Недоступный Гудо. Уже сегодня он мог оказаться в аду на радость сатане и сотням тех, кого он казнил, убил и изувечил. Это жуткое место не пугает Гудо, но очень печалит. Хотя и должно радовать. Радовать тем, что ни Адела, ни дети никогда и ни за что не окажутся в преисподней. Их место в раю. Печалит то, что в жизни после смерти Гудо никогда не увидит своих милых девочек. Только это. А боль и муки ада?.. Вряд ли они болезненнее и мучительнее тех, что перенес Гудо на своем земном веку.
Об этом лучше сейчас не думать. Лучше слушать слова отца Матвея. Хоть он и православный священник, но его молитвы мало чем отличаются от католических. Разве только тем, что произносятся не на церковной латыни, а на греческом языке. К тому же, приспособившись в аду Марпес, к множеству своей паствы из различных уголков Европы, Азии и Африки, отец Матвей часто повторяет молитвы на франкском, венецианском и даже сарацинском языках.
Да, да! И даже среди сарацин в мраморных пещерах было множество христиан и тех, кто просто желал послушать слово Божье. Но в эту ночь отец Матвей больше говорил о добрых христианах, заботящихся о жизни и благополучии других христиан, при этом часто прерываясь молитвами и нравоучительными историями о пустынниках и других святых людях. А еще он много говорил о тех, кто желает гибели православной церкви или подчинения ее ложным догматам.
Гудо слушал, но чаще не слышал отца Матвея. Его совсем не беспокоили церковные распри и угнетения, что принесли на Кикладские острова потомки венецианского купца Санудо. И то, как достойный своих предков нынешний герцог Джованни Санудо не только превратил в нищих греков своих островов, но позарился и на священные храмы, желая служить в них католические мессы. А особенно великого герцога интересовали имущество и тайны церкви Успения Богородицы, известной на многих островах как храм Панагия-Экатонтапилиани – церковь Ста Дверей.
Отец Матвей множество лет был священником этой старейшей в Византийском мире церкви. За несколько месяцев проведенных в гроте, отец Матвей множество раз говорил о своем церковном доме. И всегда с восхищением, радостью и умилением. Однажды эта церковь даже приснилась Гудо, так подробно и красочно рассказывал о ней священник.
Гудо прямо как наяву увидел на корабле святую Елену, мать Византийского императора Константина[138], спасшуюся на Паросе от жесточайшей бури на пути к святым местам. Вот она велит соорудить в честь этого спасения церковь. И она встает, как по волшебству, из разноцветного камня с колоннами цветного мрамора, украшенными роскошными резными капителями, с удивительным по красоте резным иконостасом, в центре которого икона Богородицы, прикосновение к которой излечивает от всех болезней, а так же с крестильней, резервуар которой вырублен в форме креста. А еще множество дверей и окон. Девяносто девять дверей и окон. Есть еще сотая дверь. Дверь, которая ведет к тайнам и богатствам главной церкви Пароса. Но отец Матвей не желает указать на эту скрытую дверь, и герцог раскаленными щипцами пытает священника. Но человек божий не выдает священной тайны и возносится в руках ангелов на небо.
Так было во сне. А наяву – отец Матвей оказался в аду Марпеса. Наверное, его Господь послал во мрак пещер, чтобы он спасал души мучеников ада, созданного руками людей. И, конечно, для того, чтобы спасти душу и тело самого Гудо. Ведь его жизненный путь на земле не мог закончиться в каменном мешке. Как не мог закончиться и в холодной воде, что коварно свела в судороге ноги «господина в синих одеждах».
Да и без этого Гудо был обречен. В тех краях, где он рос и жил, редкий глупец окунался в воду с головой. Да и церковь настоятельно запрещала купание в реках, озерах и в ручьях. И не только потому, что от купания смывалась святость воды, данная при крещении, но в желании спасти множество жизней, которые забирали коварные воды.
Так что если бы не Франческо, то не суждено было бы «господину в синих одеждах» продолжить свой важный путь. Именно его доброе лицо увидел последним Гудо, перед тем как потерять сознание.
Вот он, Франческо, рядом. Сидит и слушает долгую проповедь отца Матвея.
Гудо, не решаясь коснуться руки молодого генуэзца, тихо шепчет:
– Спасибо Франческо. Ты спас не только мою жизнь… Выполню любое твое желание, что в моих силах.
Но Франческо, кажется, не слышит этих слов. Он даже голову не повернул, так ему важны слова священника.
* * *
– Вечером я вас высажу в Милете[139].
– Почему в Милете, сын мой?
– Такой был уговор с человеком из пещер.
Отец Матвей хотел еще что-то сказать, или спросить у капитана с бычьей головой, но только грустно покачал головой.
Вопрос задал Гудо:
– А это далеко от Константинополя?
Капитан кивнул головой и широко развел руками.
– Да, сын мой, – вместо капитана ответил отец Матвей. – Это побережье Азии и от него до великого города святого Константина двадцать дней пути. Опасного пути, ибо уже вся Малая Азия принадлежит туркам. Всякого христианина на дорогах турки считают бродягами. Таких они приписывают к селениям и велят возделывать землю.
– А морем?
– Морем можно доплыть до Константинополя за десять дней. В это время года ветер попутный большую часть дня. Да еще если налечь на весла. Только вот пираты…
– В бурное море они редко выходят, – вставил свое слово капитан.
– Значит нужно плыть морем. Я хочу с тобой говорить, капитан.
Не дожидаясь ответа, Гудо пошел вдоль кромки воды, что этим утром спокойно накатывала на галечный берег. Пожав плечами, за ним неспешно отправился и капитан.
– Куда они? – спросил подошедший Весельчак, с тревогой всматриваясь в широченные спины мужчин.
– Я думаю, Гудо решил уговорить капитана, чтобы он доставил его поближе к Константинополю. Во всяком случае, на христианский берег. На европейский, – ответил священник.
– А куда это чудовище-капитан желает нас доставит?
– Философ велел ему высадить нас на сарацинское побережье.
– Проклятый Философ. Если Господу будет угодно, чтобы я его еще раз встретил…
– Господу не угодно пролитие человеческой крови.
– То-то я смотрю, что год от года ее льется все больше и больше. Что-то быстро они договорились. Палач умеет убеждать.
– Не называй его палачом, сын мой.
Весельчак неопределенно махнул рукой и крикнул приближающимся гигантам:
– Решили нас в рабство продать? Или вы все же христиане?
Гудо исподлобья хмуро посмотрел на криво улыбающегося вора. А еще более неприятный взгляд капитана и вовсе заставил его отступить за спину священника.
– Каждый из вас свободен и может отправляться, как кому желаемо и куда желаемо. Я плыву на этом корабле до византийских земель. А дальше мой путь в Константинополь. Мне думается, вам спокойнее будет на христианских землях. Если так, то все мы гребцы, и Никос наш капитан.
– А кто такой Никос? – спросил только что подошедший Ральф и пожал плечами. – А я думал, что его имя Минотавр.
– Я капитан Никос. Мои приказы – закон. А если что… – человек с бычьей головой протянул вперед два огромнейших кулака.
– Капитан, так капитан, – решил присоединившийся Франческо – Мне бы добраться до Галаты[140], а там я разыщу друзей отца.
– Я должен рассказать патриарху Константинопольскому о бедственном положении нашей церкви на островах. А грести… Мне не привыкать. До того, как принять священный сан я был моряком.
– Принимайте и нас с Ральфом в команду. Все же ближе к родным землям.
– Плата за доставку на христианские земли – ваш труд. А вино и продукты лучше купить на острове Лесбос. Так сказал капитан Никос, – сказал Гудо и с уважением посмотрел на гиганта моряка.
– Купить? – усмехнулся Весельчак. – Мы что, ограбим первое встреченное судно?
– Не грабить и не воровать. А голодать не придется. Нужно добраться до Константинополя скорее галеры герцога. Если так случиться, то получите на прощание еще и по два дуката. А теперь в путь. Благословите наш путь, святой отец.
Гудо стал на колени. Рядом с ним опустились его спутники и поспешившие к благословению моряки Никоса.
* * *
– А это что за городишко? – всматриваясь в низкие каменные домишки, над которыми возвышалась почерневшая от времени крепость, с интересом спросил Весельчак.
– Это Цимпе! – радостно сообщил отец Матвей. – Последний городок на Галлиполийском полуострове. Вернее крепость. А домики, прижавшиеся к ней с моря – для сборщиков морской подати и портового люда. А те, что повыше слева – купеческий квартал. Там много складов. Цимпе – важная крепость. Мимо нее без подати не проплывешь в Пропонтиду[141]. Через четыре дня мы будем в городе святого Константина.
– Скорее бы. А то этот Галлиполийский полуостров не пришелся мне по душе, – криво усмехнулся Ральф.
Соглашаясь с ним, Гудо и его спутники кивнули головами. Слишком памятен для них был случай в Галлиполи, что произошел несколько дней назад.
Не приветлив, ох, не приветлив оказался город Галлиполи, в порту которого капитан Никос высадил гостей своего суденышка, и они же добровольные гребцы, что до седьмого пота стремились к византийским берегам.
Уцепившись за южный край узкого носика Галлиполийского полуострова Галлиполи, этот город-порт был всегда на военном положении. Ключик, открывающий двери в Пропонтиду и далее, через Босфор в Черное море был для многих желанным. Не проходило месяца, чтобы эскадры военных кораблей с хищным взором не посматривали на древние стены этого стратегически важного города. Венецианцы, генуэзцы, крестоносцы, мавры, турки более всего на свете желали откусить у одряхлевшей Византийской империи этот лакомый для торговли и ее контроля кусочек каменистой суши. А уж пираты терзали Галлиполи едва ли не каждую неделю с первых дней весны и до поздней осени.
Постоянная военная угроза, кровавые стычки, а то и многодневные штурмы стен озлобили жителей Галлиполи. Они уже давно утратили веселую удачу, что подарили их предкам древние боги Эллады. За грозными стенами давно не играла музыка, не пелись песни и не слышался веселый смех. Граждане Галлиполи спали в обнимку с оружием, часто в крепостных башнях. Ежедневные и многочасовые молитвы заменили им радость общения и дружеский разговор. С их лиц никогда не исчезала строгая маска подозрительности, недоверия и ожидания наихудшего.
Часто, очень часто, те из чужаков, кто желал остановиться на ночлег или просто пройтись по городу, не допускались за его стены. Для них были открыты лишь несколько тесных харчевен и маленький рынок у крепостных ворот, ведущих в порт. Но и там жители Галлиполи, торгующие скудными товарами, неохотно беседовали с незнакомцами, видя в них пиратских лазутчиков и тайных посланников могущественных морских соседей.
Не стали исключением и спутники Гудо. При виде самого Гудо торговцы и вовсе отворачивались. Так что, наспех купив немногое из пищи и помахав руками капитану Никосу и его команде, беглецы острова Пароса поспешили вдоль побережья на север, внимательно осматривая воды, на которых уже могла показаться галера герцога наксосского.
В редких и почти всегда разоренных рыбацких поселениях почти не осталось жителей. А те, кто еще, надеясь на милость божью, продолжал существовать в них, спешили укрыться в своих хижинах при виде пятерых мужчин, во главе которых шагал ужасный ликом гигант в странных синих одеждах.
Так, испытывая голод, холод и враждебность, Гудо и его спутники добрались на окраину последнего населенного пункта неприветливого полуострова Галлиполи с одноименным городом на его южном окончании.
– Может, хотя бы здесь я истрачу золотую монету, – мечтательно произнес Весельчак. – Странное твое золото, господин Эй. Оно должно меня поить и кормить. Но мой живот присосался к спине, а горло потрескалось от жажды. Боюсь я тебя спросить: откуда оно у тебя взялось? А то еще ответишь, и мне придется выбросить его.
– А я пойду в эту Цимпе и выброшу оба дуката… На целого жареного ягненка и большую амфору вина. Зачем мне золото, если кишки мои превратились в нитки? Ох, и наемся, – облизываясь, заявил Ральф.
Он тут же повернул от моря в сторону города. За ним поспешил Весельчак, что-то тихо и горячо нашептывая на ухо.
– И я пойду. Принесу поесть. Да и за этими глаз нужен. Отец Матвей и ты, Франческо, посматривайте на волны. Чувствую приближение галеры.
– Не волнуйся, «господин в синих одеждах». Я не упущу твою надежду, – усмехнувшись, пообещал молодой генуэзец.
– Ступай, сын мой. Молитвы – наиважнейшее в жизни христианина. Однако и святым желудкам иногда нужна земная пища. А мы присмотрим за морем. Будь уверен. Здесь корабли всегда держатся берега. Ступай, ступай…
Отец Матвей перекрестил скошенный, как у зверя, лоб Гудо и улыбнулся ему.
Гудо поправил за курткой камзола изрядно похудевший после расчета с командой суденышка и спутниками кошель Философа, и широким шагом отправился вслед дружески обнявшимся и чему-то радующимся ворам.
* * *
Полуденное солнце огромным белым шаром качалось на молочно серых осенних облаках. В память о минувшем лете оно еще пыталось дыхнуть на камни рыночной площади жаром, что завершал торговый день. Но осеннее солнце – уставший боец, дыхание которого едва заметно. Этим дыханием уже не испугать торговцев и покупателей. Наоборот, нежась в лучах уходящего в зиму последнего тепла, люди толпятся на уложенной камнем площади, уже не покупая, но желая общения в вечной жажде приятных и не очень, но все же новостей.
Гудо внутренне порадовался тому, что жители Цимпе приятно отличались от хмурых обитателей Галлиполи. Хотя на него и смотрели привычно для Гудо с особым вниманием, но в нем было больше любопытства, чем отвращения, сочувствия, чем презрения, христианской добродетели, чем суеверной дикости. С «господином в синих одеждах» торговцы почти не разговаривали, но показывали товар, соглашались на скидки и не скупились на добавки с охотой и даже с некоторым подобием улыбки. Особенно охотно с Гудо прощались и, едва он поворачивался, показывали в его спину пальцем, призывая соседей торговцев зазвать его к своему товару.
Очень скоро холщовый мешок Гудо наполнился пушистыми лепешками, кругами твердого сыра, жареной на вертеле и соленой рыбой, вяленым мясом, хрустящей капустой и необычайно сладким луком. Руки же «господина в синих одеждах» оттягивали два огромных кувшина с вином и оливковым маслом. И все это изобилие за один дукат, что с удовольствием был обменен одним из торговцев на пригоршню местных серебряных монет, что едва уместились в огромной ладони Гудо.
Одно лишь несколько огорчило Гудо: более часа он прохаживался по небольшому рынку, но так и не увидел Весельчака и Ральфа. Можно было спросить о них стражу или заглянуть в харчевни, особенно в порту. Только стоило ли? Они свободные люди, честно заработавшие деньги и могущие потратить их как заблагорассудится. Может им здесь и понравилось. Им незачем спешить в Константинополь и до боли в глазах всматриваться в морские дали в надежде увидеть огромный флаг на корме герцогской галеры.
Бог дал им свой путь, пусть они им и следуют. А Гудо поспешит на берег моря, накормит священника и Франческо и без промедления отправится в путь. Возможно в тумане или в сумерках Гудо и его спутники все же не увидели огромный корабль. Но ему никак не укрыться от поисков «господина в синих одеждах» на рейдах и в портах Константинополя. В этом он был абсолютно уверен.
Гудо еще раз огляделся. Порадовавшись столь удачным последним продажам этого дня, торговцы махали ему рукой, второй укладывая непроданный товар в корзины и мешки. Покупатели заканчивали свои беседы, приглашая друг друга продолжить разговор в их доме за чашей вина. Сборщик торговой подати присел у своего стола и, высыпав на него серебро, принялся заполнять отчетные столбцы на восковых дощечках. Урвав за торговый день свой кусочек счастья – кость или лепешку, местные псы широко зевали и чесали бока о шершавые стены домов окружавших рынок.
И вдруг в это обычное окончание торгового дня ворвался обнаженный мужчина. Вначале Гудо даже не поверил своим глазам. Но верить им приходилось.
На высоком, необычайно мускулистом, загорелом до цвета бронзы теле этого возмутителя порядка не было и клочка одежды. Густые черные волосы на ногах, в паху, на животе и на груди, густо смазанные оливковым маслом, блестели в свете солнечных лучей. Особо подчеркивая бесстыдство, гениталии мужчины были перехвачены ярко алой шелковой лентой. Такая же лента поддерживала густую копну волнистых черных волос на голове.
Его можно было принять за пьяного озорника. Но обнаженный мужчина не кричал, не ругался, не распевал гнусных песен. Он только улыбался, сверкая необычайно белыми зубами в завитушках черной бороды, и быстро перебегал с места на место, не задерживаясь более чем ему было необходимо.
А необходимо ему было лишь одно. Пользуясь тем, что увидавшие его люди в полной растерянности застывали на месте, бесстыдник обнимал, все равно, мужчину, женщину, ребенка и по мере возможности целовал их в губы. Если это ему не удавалось, он тут же бросался к другой жертве своей непристойной прихоти. Обнаженного мужчину не пугали уже громко звучащие грозные крики негодования. Он быстро поднимался после толчков в грудь, которыми его несколько раз сбили с ног. Он перепрыгивал столы, корзины и повозки, настигая уже убегающих людей. И все время пытался обнять и поцеловать как можно больше присутствующих.
Очень скоро бесстыдник оказался в кольце разъяренных торговцев и пятерых стражников. Но усилия окруживших обнаженного мужчину в начале не дали своих плодов. За его густо смазанное оливковым маслом тело нельзя было ухватиться. Десятки рук скользили вдоль мускулистого тела и его конечностей и не могли повалить его на камень площади. И только удар стражника щитом в голову безумца свалил его с ног. Тут же по его телу с остервенением стали бить ногами и руками множество желающих, охваченных справедливым гневом.
– О, люди, дети Господа нашего, остановитесь! Проявите христианское милосердие к заблудшему. Позвольте мне наставить его на путь истинный!
Гудо вздрогнул и бросился к кипящей толпе. Он не ошибся. Голос, взывающий к милосердию, принадлежал отцу Матвею. Не ошибся он и в своем предположении – разъяренная толпа оглушена гневом и ослеплена яростью. Всякий, кто не с ней, должен быть наказан.
– Эй, помоги! Помоги святому отцу! Друг Эй! Друг Эй!
А это уже кричал и призывал увидевший бегущего Гудо молодой генуэзец. Франческо прыгал и пытался заглянуть внутрь бушующего кольца, в которое неосмотрительно бросился отец Матвей.
– Там, там! – указал рукой Франческо и только на миг остановился, когда господин в синих одеждах как таран пробил себе путь в центр кольца. Остановился и тут же бросился в образовавшуюся брешь.
Крики тех, кто был отброшен или сбит могучим телом человека в странных синих одеждах, заглушили крики избивавших виновников беспорядков. Все они замерли, с удивлением уставившись на того, кто посмел и смог очень скоро разбросать многих из них. Особенно удивило то, что огромный мужчина в такой сутолоке не уронил и не разбил большие кувшины, что были в его руках. Чтобы протаранить толпу и растолкать ее, этому чужестранцу в странных одеждах хватило могучих плеч, ног и жуткой головы, что была тверже железа.
Гудо осторожно поставил на камни площади кувшины и стал на одно колено перед лежащим на боку телом старика. Он повернул к себе его окровавленную голову и тяжело вздохнул:
– Не хорошо бить старика. Тем более священнослужителя.
– Старик священник. Священник. Священник, – раздалось тихо в толпе, но уже скоро и более громко: – Какой он священник? Мы не знаем его! А где его божьи одежды. Да он больше похож на пастуха!
– Он священник! Православный! – закричал Франческо. – Господин Эй, скажи им!
Но Гудо молча копошился в своем мешке, выкладывая на камень площади бинты и мази.
– Может, еще и этому бесстыднику поможешь? – насмешливо выкрикнул кто-то из толпы.
Гудо повернул голову к лежащему рядом неподвижному телу обнаженного мужчины. Повернул и тут же грустно ее закивал:
– Ему будет помочь гораздо труднее. Слишком глубоко в его тело забралась чума.
– Чума! – раздался переполненный ужасом протяжный женский крик.
* * *
– Да, неисповедимы пути Господни и воля его праведна. Каждому своему творению – от букашки до императора – он предначертал жизненный путь. Поэтому все что происходит – все по воле отца нашего небесного…
– Я знаю об этом, святой отец. Католические священники это мне говорили многократно. Я верил им, верю и тебе, православному пастору. Вера укрепляет человека и придает ему сил бороться с кознями дьявола и его слуг. И все же…
Гудо приподнялся на локте, а затем подполз и привалился спиной к холодным камням подвала:
– За эти три дня, я многое рассказал о своей прошедшей жизни. Многое, но, конечно же, не все. Обо всем даже сатане устыжусь сказать. Теперь вы знаете, как стал Гудо палачом, как, желая искупить грехи, принялся лечить людей, как оберегал и все же погубил город Витинбург в северных лесах Германии, как спас свою семью, которая все же бежала от меня, как я приобрел и лишился единственного друга в моей жизни. Я рассказал о странах и городах, в которых я побывал, разыскивая моих милых девочек, рассказал о печальном острове Лазаретто и о том, как я оказался в аду Марпеса.
Но вы и сами догадываетесь – есть вещи, которые страшнее смерти и о которых просто невозможно рассказать. А есть такие, от воспоминаний о которых сердце сжимается и перехватывает дыхание. Особенно тогда, когда видишь происходящее на твоих глазах, а потом эти глаза поднимаешь к небесам и кричишь душой: «Господи, почему ты допускаешь это, почему это свершается, почему ты это не остановишь?!» А самый ужасный вопрос: а угодно ли это Господу, а не по воле ли его и желанию? Если все в этом мире по его воле и желанию!
– Но есть противник Божий – сатана! Есть слуги его! И есть, наконец, сам человек, родившийся в грехе и с душой открытой для греха, – отец Матвей поднялся с каменных плит узницы и подошел к маленькому окошку, что едва виднелась из-за узости и толстой решетки. – А еще в человеке много дикости и суеверия…
– А так же глупости и легковерия, – усмехнувшись, добавил Гудо. – Прости святой отец, что перебил, но мне сейчас припомнился этот безумец, что стал виной нашего заточения. Даже я вначале не понял, зачем этот человек обнажился и почему он стремится как можно больше обнять и поцеловать людей. Только лишь потом, когда я увидел в его паху и под мышками чумные бубоны, я вспомнил о суеверии, что распространилось на все страны и народы – чтобы избавиться от чумы, или другой смертельной болезни, нужно передать ее другому через объятия и поцелуи. А этот глупец решил увеличить свои шансы, переполошив множество народу. От болезни он не излечился, но передал ее едва ли не половине города. И зачем только нелегкая принесла вас на рыночную площадь? Велел же вам ждать на берегу…
– Прости, господин Эй. Теперь я буду звать тебя твоим именем – Гудо, – Франческо поднялся и комично поклонился. – Еще раз прости, если не простил в первое наше объяснение. Мы так обрадовались, увидев «Викторию», что просто голову потеряли. Если бы мы остались на берегу, то ничего бы этого не случилось. Это понятно. Ты ушел бы от сутолоки на рынке, а мы тебя обрадовали бы, что увидели галеру герцога. Но что теперь поделать… Кто знал, что так получится. Особенно возмутительно и непонятно то, что нас приняли за распространителей черной смерти!
– Это как раз-то и понятно, – вздохнул Гудо. – Мы чужестранцы. Тем более что в моем мешке множество высушенных трав, настоек и мазей. В прошлом году я видел в южной Франции, как объявили колдуном и чародеем человека, в сумке у которого были измельченные травы, высушенная черная лягушка, кожа змеи и еще множество другого полезного для лечения, которое суд признал за средства, при помощи которых можно изготовить отраву. Этого несчастного сожгли на следующее утро.
– Глупости и невежеству человеческому нет границ, – закивал головой молодой генуэзец. – Особенно если это касается смертельной болезни. А особенно чумы. Придумаешь и согласишься со всем что угодно. Однажды я даже несколько дней прожил в отхожем месте, ибо кто-то кому-то сказал, а меня убедил, что зловоние не пропускает зараженный воздух. Впрочем… В этом доме умерли все, а меня чума не коснулась.
– Не вонь от человеческих нечистот тебя спасла, скорее то, что ты не притрагивался ни к больным, ни к их вещам. А что касаемо зараженного воздуха… – Гудо развел руками. – Множество чего видел и слышал. И то, как через город гнали стада животных, чтобы очистить воздух. Особенно верили в такую способность от лошадиных табунов. И то, как сутками звонили в колокола и били в барабаны. Как клали в постель рядом с собой старых вонючих козлов. Ничуть не приятнее отхожего места. Как рубили на куски собак и обвешивали ими комнаты. И еще множество другого. Особенно часто мне встречались блюдца с молоком у изголовья умирающего и множество пауков на его теле. Но ничто из этого не очищало воздух и не прогоняло чуму.
– Молитва! От всего сердца и души. Покаянная и искренняя – вот единственно верное средство спасения!
– Справедливы твои слова отец Матвей, – согласно кивнул головой Гудо. – Но… Ни то что клириков, даже епископов молитвы не спасали. А кто еще более других молится от всей души и сердца. Знаешь, святой отец, мне часто приходилось находить на груди умирающих священников различные амулеты и обереги. Рядом с крестом находились серебряные шарики, заполненные жидким железом[142], а то и мешочки с мышьяком. Но это их не спасло. Не спасало и то, что священники участвовали в бесполезных шествиях, после которых чучело изображавшее чуму сжигали, топили, замуровывали в стены, проклинали и даже отлучали от церкви.
Однажды я даже видел и такое: кафедральный священник длинным шнуром обмерил городские стены, затем этот шнур обмотал вокруг огромной освященной свечи и отслужил над ней мессу. Утром он умер. Он так и не позволил мне помочь и ему и его прихожанам. Прихожане так же умерли, еще до того как свеча потухла.
– А ты, Гудо, действительно можешь вылечить человека от чумы, как это говорил перед местным судьей? Ты действительно знаешь, как прогнать чуму из города? Действительно ли тебе это под силу?
– Да, – коротко ответил на вопрос Франческо господин в синих одеждах.
– Под силу ли это простому человеку? – задумчиво произнес молодой генуэзец. – Ты знаешь, Гудо, ведь ты мне казался чуть набросившим на себя человеческий облик посланником ада. Есть у тебя в обличие многое от демона. И не только в обличии. Я это еще почувствовал во мраке Марпеса. А когда увидел тебя на свету и вовсе дар речи потерял. Но потом попривык. Особенно после нашего путешествия в долину бабочек. И все же… Ну, не человек ты был для меня. Прости за правду, Гудо. Не человек… До тех пор, пока я не увидел страх в твоих глазах…
– Страх? – удивился Гудо и тут же согласно закивал головой: – Да. Да… Там в море, когда волны накрыли мою голову. Наверное, только в этот момент. А я то думал, что это чувство уже давным-давно умерло во мне.
– Нет. В твоих глазах был не просто страх, а жуткий страх. Страх не перед смертью, а даже чем-то большим. И тогда я понял, что ты только с виду демон. А внутри ты просто человек. Обыкновенный человек. А под силу ли обыкновенному человеку…
– Побороть чуму? Ты найдешь ответ на этот вопрос, если чума вцепится в тебя. А я спасу тебя. И тогда ты меня назовешь не только другом, а и….
– А я что назвал тебя другом? – с удивлением воскликнул Франческо.
– Тому виной было мое избиваемое тело, – тихо засмеялся отец Матвей.
– Ах, да! – хлопнул себя по бедрам рассмеявшийся молодой генуэзец. – Чего со страху не выкрикнешь. А вот чуму на меня призывать – дело опасное. Не посмотрю что друг. Могу и пинков надавать.
– Мне? – в свою очередь удивился Гудо, и поднялся во весь свой огромный рост. – А ну попробуй.
– И попробую. Сейчас и попробую, – усмехнулся Франческо.
– Значит, уже ожил и на кулаки сможешь? – с улыбкой спросил Гудо.
– Ну, если отец Матвей поможет то…
– Не поможет. Не поможет отец Матвей. Да и не до шуток сейчас. Скоро полдень. А к нам никто из стражи и не пожаловал. Ни воды, ни сухаря. Прислушайтесь, тихо-то как! Утром только чуть шумно было в коридоре и все. Ни стража не переговаривается, ни узники за стенами не шумят. А ведь пора и поесть, да и воды хочется.
– Верно, отец Матвей. Настораживающая тишина. Давайте кричать. И кричать громко.
Гудо первым закричал, до боли напрягая горло.
* * *
– Может, все же откроем?
– Погоди. Дай насладиться. Слышу, что это наш палач глотку рвет. Наверное, ему сейчас пальцы ломают. Или глаз выжигают. Вот смеяться буду. Эй, палач! Тебя там что, на куски режут?
За крепкой дубовой дверью на миг все умолкли. После коротких переговоров послышался голос Гудо:
– Весельчак, ты что, нанялся в стражники?
– А если и так. Стражник палачу не товарищ?
– Ну, так открой. Обними товарища. Если стражник товарищ палачу.
– Да ты совсем ума лишился в этой темнице. Кто же рискнет обняться даже с бывшим палачом? А вот лекарю, что поставил меня на ноги, я открою. Только что-то затвор здесь мудреный…
– Когда же это даже мудреный затвор останавливал во…
– Вор есть вор. Так и говори. Ладно. Открываю.
Раздался лязг железа, и тяжелая дверь со вздохом открылась.
– Вот как вас удачно усадили. Все вместе. И искать не придется никого. А впрочем… Мы уже посмотрели. Все помещения пусты. Во всей крепости ни единого стражника, а в темнице ни единого узника, кроме вас. Это и понятно. Стражу бросили в город на чуму, а она дала деру. Узников освободили родственники. Только у вас родственников в этом городе нет. Зато есть Весельчак и Ральф. Почти родственники. Ведь говорят, что беды и невзгоды роднят людей. Так что Ральф, обнимем родственников?
– Все тебе шутки, Весельчак. Давай ставать на длинные ноги и поскорее убираться из этого городишка! – нервно выкрикнул изрядно вспотевший Ральф.
– Ты прав. Нужно поспешить, – впервые очень серьезно промолвил Весельчак.
– Чума? – коротко спросил Гудо.
– И это, и еще хуже, – печально кивнул головой Весельчак.
– Что может быть хуже чумы? – искренне изумился Франческо.
Весельчак вздохнул:
– Для нас печальнее чумы в данный момент проклятый Мартин, зверь Гелиос и их шайка…
– Как так? – в один голос воскликнули узники подземелья крепости Цимпы.
– Поспешим, а по пути расскажу, – махнул рукой Весельчак.
Проходы, переходы, лестницы, помещения, стены и башни грозной крепости Цимпы были безлюдны. Тут и там, в хаосе беспорядочного бегства, были разбросаны битая и целая посуда, одежда, амуниция, оружие, продовольствие. В большом крепостном дворе растеряно бродило несколько лошадей и мулов. Собаки, изловив выбравшихся из поломанных клеток кур и гусей, зло грызлись между собой в облаке из птичьего пуха и пера.
– Да брось ты этот щит. Он тебя за сто шагов выдаст. Хватит с нас мечей и ножей, – раздраженно крикнул Весельчак на поднявшего щит Ральфа.
– Может, придется защищаться, – слабо попытался сопротивляться товарищ по воровскому делу.
– Какой сопротивляться?.. Нужно незаметно и тихо проскользнуть на северную окраину, а там руки в ноги и бегом, бегом, бегом…
– Так объясните что к чему? – не выдержал Франческо.
Весельчак остановился у полураспахнутых крепостных ворот и осторожно выглянул из-за створки.
– Никого не видно. Но немного подождем. Присмотримся. А пока расскажу что к чему.
Вор, поправив короткий греческий меч на перевязи через плечо, тихо и поспешно стал говорить:
– В первой же харчевне нам с Ральфом сказочно повезло. За один золотой нам подали жаренный бараний бок с кашей, гуся, вареные яйца, рыбу, сыр, овощи и еще чего-то там из местного. А главное вино подливали, едва успевал опустеть кувшин. Уже к вечеру понятное дело ноги нас не держали, и уже ничего не хотелось, кроме как мычать и мотать головой. Даже со шлюхами, что привели к нам на ночь, мы не смогли… Зато смогли весь следующий день и ночь. Сколько их было, даже не скажу. А ты Ральф?
– Они приходили, уходили. Приводили подружек и соседушек. Пили, ели, смеялись, танцевали и пели. Троих под себя уложил. Еще на двоих взбирался… Сколько дней и ночей прошло? – Ральф задумчиво начал загибать пальцы, а потом обреченно махнул рукой: – Не помню…
– Оставьте эти грешные рассказы на утешения голодных дней. О грехах на исповеди говорить будете. Говорите о важном, – строго велел отец Матвей.
– О важном? Да! Скажу быстро. Нужно поторопиться. Это верно, святой отец, – согласно кивнул головой Весельчак, – Так вот. Лежим мы в сарае на сеновале. А где нас еще уложить, когда денежки закончились. Лежим, сил нет подняться. В голове туман. Душу выворачивает. А тут еще плач, крики. Вот такое утро. Поднялись с трудом. Выглянули во двор, а там… Несколько оборванцев шастают по двору, харчевне и выволакивают всякое добро и складывают на кучу. Стол вынесли во двор. А на том столе… Насилуют дочку хозяина харчевни. У стены навалились на саму хозяйку. Муж ее весь в крови лежит неподвижный. Бьют еще нескольких мужчин. Но те не сопротивляются. Вялые они и безучастные. Тут и на нас набросились. Да мы и сами с ног от обильных возлияний валимся. И о чудо!
Один из оборванцев вдруг стал своих дружков отталкивать и что-то им объяснять. Не могли мы сразу понять. А когда поднесли вина и все стали смеяться, тут до нас дошло. Тот, кто защитил нас, оказался наш добрый знакомец. Тоже вор, с которым мы в Венецианской тюрьме прохлаждались, а затем на галере весла ворочали. Он-то нам все и рассказал.
Оказывается, местный городской глава был в душевной дружбе с капитаном Пьетро Ипато. Вот они и обнялись за столом большими чашами вина. Там их и застигла новость, что в городе объявилась чума, и уже есть много больных и даже мертвых. А еще оказалось, что все служивые городские с семьями сбежали из города. И даже воины оставили крепость и подались в Константинополь. А те, кому жаль своего добра и домишек, заперлись в них. Но чуму дверью не остановишь. Люди в страхе и в болезни подались на улицы и к соседям за помощью. Здоровые отгоняли больных кулаками и оружием. Но это не помогло. Раненые, убитые, умершие валяются повсюду. А чума настигает всякого спрятавшегося.
Вот тогда глава города стал на колени перед Пьетро Ипато и стал умолять спасти его город. В слезах умолял и сулил огромные деньги. И капитан сдался. Золото его конечно больше убедило, чем слезы друга. Тогда Пьетро Ипато обещал галерникам свободу по прибытию в Константинополь и по два золотых каждому. А арбалетчикам по пять золотых, если пойдут в город. Дело не сложное – похоронить умерших, согнать заболевших в склады на окраине, прекратить кровопролитие и сберечь добро именитых горожан и купцов. Я слышал, что во времена большой чумы так часто поступали в портовых городах, призывая команды проплывавших галер. Галерники клялись на кресте и часто сдерживали слово.
Поклялись на кресте выполнить уговор и более полусотни невольников «Виктории».
Дюжина арбалетчиков во главе с их старшиной Адпатресом так же согласились. А рабы сарацины и турки наотрез отказались. Даже несколько повешенных на рее сарацин не изменили их решение.
Адпатрес и его воины, сойдя на берег, укрылись в домах возле пристани, сказав, что позже войдут в город и проверят работу галерников. На том и успокоились. А гребцы подались выполнять уговор. Только… Странное дело. Но знаете, кто их повел?
– И кто же? – смутно догадываясь, спросил Гудо.
– Да наши злые демоны – Гелиос и Мартин! – в негодовании воскликнул Ральф.
* * *
– Не может быть! – не сдержал крик отец Матвей.
– Может, – твердо сказал Весельчак, – Вначале те, кто был в каменоломнях Марпеса, хотели убить своих истязателей и даже изрядно избили. Но… Мартин хитрющий змей. Да и Гелиос с крепкой башкой. Говорили, просили, клялись, убеждали и добились своего. Они сказали, что город полон золота и купеческих товаров, а также оружия и продовольствия. Все это нужно взять и укрепиться в крепости. А позже можно захватить проходящие корабли и уплыть. Это если войско императора византийского подойдет. Но оно не скоро подойдет. До весны точно отсидеться можно. А можно и галеру герцога захватить. Сначала перебить тех арбалетчиков, что на пристани, а потом выманить и других. Гелиос и Мартин придумают все и подумают за всех. Так говорили они. Говорили: «Нужно почистить город и стать его хозяевами». Так что вперед, в город! Там вино, мясо и множество беззащитных женщин.
Вот и рванули воры, разбойники и убийцы на беззащитный город. Не все. Кое-кого из бывших подсобников и тех, кто лизал зады у всесильных смотрителей каменоломен Марпеса, Гелиос и Мартин придержали возле себя. Они быстро и добротно вооружились и теперь направляют разбившихся на группки галерников в нужное им русло. Так что в городе теперь хозяева Гелиос и Мартин. Вот так!
Ну а пока все они заняты грабежом и насилием нужно незаметно выскользнуть из города…
– А почему же вы раньше не ускользнули? Без нас? – подозрительно спросил Франческо.
Весельчак замялся. А бесхитростный Ральф тут же выпалил:
– Весельчак сказал, что через час Гелиос и Мартин доберутся и до крепости. А там, скорее всего, найдут палача…
– И что же? – наклонился к Ральфу Гудо.
Тот тут же отклонил тело:
– Найдут палача, священника, этого генуэзца и решат, что и Весельчак и Ральф могли так же бежать из ада Марпеса. Тогда Мартин из кожи вылезет, но будет нас искать. Такой он злобный человек. Злобный и мстительный. К тому же вместе легче защищаться и добраться в Константинополь.
– Значит, не по-товарищески вытащили нас из узницы? – усмехнулся в лицо Весельчака Гудо.
Весельчак отвел свой единственный глаз и примирительно сказал:
– Все же вытащили.
– А те… Ваши знакомые, что нашли вас в харчевне? Они что, не выдадут вас Мартину? – с сомнением спросил отец Матвей.
– Те уже мертвы. Кто от вина, а кто и от…
Весельчак не договорил. Всем и так было понятно.
– Тогда нужно уходить. Пойдем вдоль крепостной стены вон до той горы. А оттуда пойдем на север.
Так решив, Гудо первым вышел за створки крепостных ворот. За ним гуськом потянулись остальные.
Но вдоль стены пройти не удалось. Нарушая все понятные правила фортификации, за угловой башней к крепостной стене была привалена огромная куча навоза от крепостных животных, вперемешку с тем, что не могло пригодиться в хозяйстве. Эти отбросы собирались как со стены крепости, так и усилиями соседей, не желавших выносить разбитые горшки, мусор и навоз собственных животных за черту города.
– Вот дьявольщина, – выругался Франческо. – Простите, святой отец. Навалили, что и не обойдешь. Вон вплоть до соседнего дома.
– Обойдем дом, – махнул рукой Гудо и широким шагом поспешил вдоль забора, выложенного из глины и укрепляющего его камня.
Но пройти мимо этого дома Гудо не смог. Ступив с десяток шагов, он остановился как вкопанный. От неожиданности в его спину уткнулся Франческо:
– Ты чего, Гудо?
– Слышишь?
Молодой генуэзец кивнул головой. Из-за забора, в полтора человеческих роста, доносились пьяные голоса, сквозь которые прорывался надрывный женский плач.
Этот плач не звал на помощь, ибо ее ждать было не откуда и не от кого. Плач самопроизвольно вырывался из терзаемого женского тела, которому одновременно было больно, постыдно, горько и мучительно.
– Ох, и повеселятся галерники. За весь год натешатся, – с усмешкой произнес Ральф.
– Эй, слышишь! Эй! Не нужно. Всем не поможешь.
Но Гудо не услышал слов Весельчака. Он подбежал и сильным ударом ноги отворил низкую дверь в глинокаменном заборе. За ним бросился молодой генуэзец. Но помощь его была совершенно не нужна.
Разъяренный Гудо махом кулака сбросил с насилуемой посреди двора женщины ее насильника. Следующие удары точно пришлись по потным лицам двух других бродяг, что прижимали обнаженное тело несчастной к каменистым плитам. Затем сильные ноги господина в синих одеждах стали пинать пытавшихся подняться насильников. За мгновение все трое непрошенных гостей корчились от боли и громко стонали. На их стоны из окон верхнего этажа дома выглянули еще двое галерников и с изумлением уставились на огромного мужчину в, без сомнения, знакомых им синих одеждах.
– Да это же людоед с нашей галеры! – воскликнул один из них и тут же скрылся в глубине дома.
Вторая голова несколько задержалась, но, со страха икнув, поспешила исчезнуть.
– Ну, вот, – обвиняющее посмотрел на Гудо вошедший во двор Весельчак. – Теперь нужно этих кончать.
Он выхватил короткий греческий меч из ножен и бросился искать внутреннюю лестницу дома. За ним, размахивая ножом, поспешил Ральф.
Они вернулись после недолгой возни и последующего за этим предсмертным криком. Вытирая о кусок найденной ткани окровавленный меч, Весельчак раздраженно сообщил:
– Второй ушел. Выпрыгнул из окна в сад. Дай бог, чтобы ему не скоро встретился Мартин. А уж как Гелиос обрадуется, узнав о господине в синих одеждах! Теперь всех собак на нас спустят. И далась тебе эта женщина. Ты думаешь, ее в последний раз насилуют? Или в первый? Если не повесится, эти дни для нее будут печальней некуда. Это война, когда чужие в городе. А на войне молодая женщина первая добыча. Золото и серебро убегать и умирать не умеют.
Но Гудо, казалось, опять не слышал слов Весельчака. Он смотрел на свернувшуюся в калачик рыдающую женщину и что-то беззвучно шептал.
– Бежим. Там… Их много. Все с оружием! – закричал от калитки отец Матвей.
– Бежим, – потянул за рукав Гудо молодой генуэзец.
Господин в синих одеждах, с трудом повинуясь Франческо, покинул печальный дом. Он дрожал всем телом, все еще переживая случившееся.
Теперь Франческо услышал то, что произносили изуродованные губы этого огромного мужчины:
– Адела. Моя милая Адела. Как я виноват перед тобой. Ничто не искупит моей вины…
– Не искупит, если будешь мертв, – громко воскликнул Франческо. – Смотри, они уже близко.
Гудо встрепенулся, и, посмотрев на десяток вооруженных оборванцев, что стремительно приближались по узкой улице, зарычал как дикий зверь. С этим рычанием он и бросился навстречу смертельной опасности.
Стычка была короткой, но очень кровопролитной.
Короткий меч в руке господина в синих одеждах не знал промаха. Смертельное железо по рукоять входило в грудь или живот нападавшего, и вырванное со струёй крови, отсекало руки и проламывало черепа. Раненых тут же добивали державшиеся спины господина в синих одеждах Ральф и Весельчак. Растерявшись от брызгающей крови, за ними по проложенному коридору из трупов и тяжелораненых, плечом к плечу, продвигались Отец Матвей и молодой генуэзец.
Вскоре путь был свободен.
– Не отставайте! – громко воскликнул Гудо и в развалку, как пьяный, побежал вдоль глиняных заборов, что образовывали улицу.
То и дело на перекрестках улиц, а то и выскакивающими из калиток и ворот на призывные крики своих друзей, беглецы видели вооруженных галерников. Но те, завидев окровавленные синие одежды, а главное по рукоять окрашенный кровью меч Гудо, не решались сразу напасть, но преследовали, держась в пяти шагах от бегущего последним Франческо.
Как и во множестве греческих городов, где почти все улицы сходились на рыночной площади, улица по которой спешил Гудо, также привела его и его спутников к торговому месту. К этому, не-по доброму памятному месту, с которого три дня назад стража увела господина в синих одеждах, отца Матвея и Франческо в мрачные подвалы узницы. Теперь они вновь оказались на широкой площади, где теперь уже не было ни торговцев с их товарами, ни покупателей, охочих до новостей и покупок.
Вместо и тех, и других Гудо с печалью в сердце увидел быстро выстроившихся галерников, многие из которых были со щитами и копьями. Впереди них, злобно улыбаясь, стоял Гелиос, раскачивая в руках огромный лабрис[143].
– Гелиос, я пригнал его к тебе! Слышишь, Гелиос! Палач наш!
Гудо обернулся на этот крик. Он не мог ошибиться. Он очень хорошо знал писклявый в крике голос Мартина. Из сходящихся на площадь улиц за спину этого исчадия ада все прибывало и прибывало галерное воинство.
– Мы окружены, – в ужасе воскликнул Весельчак.
– Но еще не мертвы, – ответил ему Гудо.
– Убейте всех! Только этого дьявола в синих одеждах оставьте в живых. За него герцог даст хорошую цену! – воскликнул Гелиос и первый бросился на ставших в круг беглецов ада Марпеса.
Понимая убийственную силу тяжелого топора для стоящего без щита в строю, ему навстречу поспешил Гудо.
Если бы не проклятие, что свинцовой тяжестью придавило город, то в этот торговый день площадь была бы заполнена повозками, переносными прилавками, навесами, корзинами и мешками. Все это могло стать препятствием для воина с огромным топором. Но чума слизала людей и их имущество с площадей и улиц. На открытом пространстве только великое воинское мастерство могло спасти Гудо. А мастерство воина в синих одеждах было воистину великим.
Это поняли все те, кто увидел как ловко и расчетливо ушел Гудо от первого удара топора Гелиоса. Как умело и знающе уклонялся и отступал. Как вовремя и правильно принимал древко топора на крестовину меча. Бегущие за Гелиосом даже остановились, чтобы полюбоваться необычайным воинским умением двух гигантов, что сражались как истинные боги войны.
Да, сильный и многоопытный Гелиос мастерски владел грозным оружием. Но это все еще не давало ему ни малейшей возможности даже чиркнуть лезвием по не защищенному телу противника. И в то же время и Гудо не мог дотянуться слишком коротким мечом, чтобы хотя бы легко ранить ненавистного ему смотрителя мраморных пещер.
Топор с глубоким вздохом сек воздух. Меч со свистом пронзал его. Топор и меч скрещивались, звенели и скрежетали. От напряжения и волнения лица бойцов оросились потом, что вскоре выступил и на ладонях, заставив крепче держать оружие. Но уже скоро, очень скоро должна было состояться развязка. Так думали наблюдающие за схваткой. Но она не наступала.
– Не будь ты мне нужен живой, я бы тебя… – не выдержав, зашипел Гелиос.
– А мне ты не нужен живой. Я…
Но Гудо не договорил. Он отскочил от очередного удара и внезапно опустил меч. То, что увидел боковым зрением Гудо, в мгновение ослабило его тело. Всю схватку господин в синих одеждах с тревогой поглядывал на сражающихся спутников. И каждый раз легкий поворот его головы наполнял сердце щепоткой горечи.
Гудо душой слышал молитвенные слова отца Матвея:
– Проклинать вас должен, я, отец Матвей! Вас, убийц собственных и убийц моих друзей. Но священны во все века слова апостола Матвея: «А я говорю вам: любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас… О Господи!..
Вскрикнул и повалился на камни площади убитый в самое сердце Ральф. Тут же на колено рядом с ним стал окровавленный Весельчак. Защищая его собственным телом от занесенного меча, священник бросился под удар, прокричав еще громче:
– … благотворите ненавидящих вас и…
Тот, кто готов был нанести последний удар Весельчаку, заколебался и опустил меч. Тут же колеблющегося с силой оттолкнул Мартин:
– Сын осла и свиньи! Убить всех! Приказано – сделано!
И Мартин, злобно оскалясь, ударил мечом в грудь старика.
Отец Матвей тихо ойкнул, посмотрел на расплывающееся на тунике красное пятно и поднял голову к небу. Его голос уже не был так звучен и торжественен, но каждый услышал его слова:
– … и молитесь за обижающих вас и гонящих вас…
Эти слова остановили галерников. Остановили и обезволили они и Гудо. Что-то надломилось в его душе, а в сердце, будто не стало крови.
– А-а-а! – торжествующе закричал Гелиос. – Печаль лишила разума, палач? Может ты и зарыдаешь? Да какой ты палач? У палача нет и не может быть сердца и души! Он не человек, он орудие смерти. А ты?.. Ты слабый человечек. Побеждают только сильные и безжалостные. Им и быть палачами, ужасающими людишек.
Затем он с негодованием осмотрел свое воинство:
– А вы что задремали, лошадиные морды?! Проповеди захотелось послушать? Не услышите. Разбойники и убийцы – дети сатаны. Да царствует сатана! Эх, старик, не узнает герцог Джованни Санудо тайну сотой двери твоей церквушки!
С этими словами Гелиос подскочил к еще пытающемуся устоять на ногах священнику и, играючи раскрутив тяжелый топор над головой, опустил его на левое плечо старика.
Еще до того, как острое лезвие разрубило едва ли не пополам отца Матвея, Гудо крепко сжал веки. К тому же он уже ничего и не слышал. Его разум отказался присутствовать на месте жуткого преступления и погас, как затушенный ветром язычок пламени свечи. Оставшееся без руководства тело безвольно опустилось на колени. Голова опустилась на грудь, что едва колебалась, желая воздуха, с трудом протискивающегося через нервно сузившуюся гортань.
Гудо не видел и не слышал, как торжествовал Гелиос, как подпрыгивал и визжал от радости Мартин, как подбодренные ими рассмеялись галерники. Он даже не чувствовал того, как трясли его плечи окровавленные от ран руки Франческо. И, конечно же, «господин в синих одеждах» не уловил того мгновения, как всесильная судьба чуть повернулась, сменив ликование убийц на трепет в их душах и страх в сердцах.
А первым знаком изменившейся судьбы стал голос. Уверенный, сильный, привыкший повелевать и не терпящий даже малейшего неповиновения:
– Я Сулейман-паша, сын османского бея Орхана, по нижайшей просьбе жителей Цимпы беру их жизни и имущество под охрану. Волей Аллаха и могуществом моего отца приказываю всем сложить оружие и подчиниться любому моему повелению. Отказавшиеся будут немедленно казнены. Других смертей в этом городе больше не будет!
* * *
Гудо почувствовал, как его лицо обожгли кипятком. Он тут же вскочил на ноги и несколько раз взмахнул руками, отгоняя мучителей. Но, увидев в нескольких шагах державшего глиняный таз Франческо, быстро успокоился. «Господин в синих одеждах» провел рукой по лицу и слизнул с ладони воду. Холодная, соленная с горчинкой морская вода. Как раз то, что нужно, чтобы прийти в себя.
Гудо огляделся. Множество пленных галерников в печальном молчании сидели на галечном берегу моря. Их глаза были устремлены на неспокойные волны пролива Дарданеллы, что несли к европейским берегам сотни кораблей, лодок, а то и просто наспех связанных плотов. И на каждом из этих плавающих средств было множество воинов, их жены, дети, имущество, боевые лошади и домашний скот. Гудо и сам смотрел на море, а потом долго, с некоторым удивлением, на сидящего неподалеку двугорбого верблюда, что с великим достоинством осматривал кишащий муравейник из людей и животных, который переполнял берег.
– Я был в беспамятстве?
– Трудно сказать, – вздохнул Франческо. – Скорее как малый ребенок. Шел куда говорят, делал, что велят. Что-то отвечал. Странно как-то…
– Со мной это много раз случалось, – поспешил успокоить молодого генуэзца Гудо. – Это от ран головы и перенесенных душевных и телесных болей. Так говорил мэтр Гальчини…
– Я помню о нем. Ты говорил, что этот человек забрал у тебя все и дал тебе все.
– А кто эти люди?
Франческо печально посмотрел на кипящее от множества судов море и со вздохом сказал:
– Турки-османы. Они переступили границы Азии. Цимпа – первый город в Европе, что пал к их ногам.
– Турки, – «господин в синих одеждах» покачал головой. – Значит, они спасли наши жизни и город от этих негодяев?
– Получается так.
– А отец Матвей?
– Турки жгут все трупы. Вон видишь черный дым у стены?
– Там же коптится и несчастный Ральф. Послушал бы я его и был бы Ральф жив, – удрученно промолвил Весельчак.
После долгого молчания Франческо продолжил:
– Наверное, сам Господь так пожелал. Явились они в самое нужное время. Мартин уже готов был перерезать горло Весельчаку и потянуться к моему. А тут появляется на прекрасном коне сам сын бея Орхана и велит сложить оружие. Гелиос конечно в драку бросился, но лучники Сулеймана быстро охладили его воинский пыл. Половина галерников сразу сдалась. Вторая – осилась спасаться в крепость.
– Долго они там не протянут, – подал голос Весельчак. Сквозь плохо перевязанные повязки на плече у него все еще сочилась кровь.
Гудо тут же развязал их.
– Рана глубокая. Нужно хотя бы прижечь. Но помочь пока нечем, – вздохнул «господин в синих одеждах» и принялся правильно накладывать повязки.
– Турки прижгут. Сейчас переправят нас на азиатский берег и будут делать с нами все что угодно, как с убийцами и насильниками жителей Цимпы. Теперь мы рабы владыки Орхана. Так сказал этот…
Весельчак кивнул влево. В нескольких десятках шагов, на возвышенности, в окружении знамен и воинов, на великолепном скакуне в серебряной сбруе восседал смуглокожий воитель в огромном белом тюрбане. Он с улыбкой слушал рассказ сидящего рядом на столь же великолепном коне воина в блестящей кольчуге.
– Вот только вытащат Гелиоса и Мартина с крепости, так и суд скорый устроят. Кому голову снесут, на радость горожанам, а кого в каменоломни спустят к скорой смерти. Гелиос долго не удержится. Турки умелые воины. А еще эта куча навоза. Как ею не воспользоваться, чтобы перебраться через стену. Вот! Я же говорил!
Из-за припортовых домишек показалась цепочка избитых и окровавленных людей, подгоняемых плетями строгой охраны. Впереди них, печально свесив головы, брели Гелиос и Мартин.
Едва пленные приблизились, Гудо, казавшийся уже задремавшим, взревел. Его сильное тело, как упругая пружина, рванулось к Мартину. Еще мгновение и горло ненавистного Мартина оказалось в руках искуснейшего из палачей. Но на спине господина в синих одеждах уже оттягивающе висел молодой генуэзец.
– Не убивай его, Гудо! Не убивай! – во все горло закричал Франческо. – Ты говорил, что выполнишь любую мою просьбу. Всеми святыми прошу, не убивай его.
Гудо разжал руки и выпрямился. Свалившийся с плеч защитник слуги дьявола, стоя на коленях, продолжал просить:
– Не убивай. Не убивай его…
Все еще не веря своим ушам, Гудо смотрел на умоляющего Франческо.
– Что же это? Как?
– Не убивай! – не унимался молодой генуэзец.
«Господин в синих одеждах» схватился за голову, но тут же овладел собою:
– Я сказал… Я выполню твою просьбу. Но больше ни о чем не проси, – тяжело посмотрев на бледного Гелиоса, Гудо громко крикнул: – Палач, знай свое дело.
Сильнейший удар палача в подбородок Гелиоса опрокинул огромное тело убийцы отца Матвея на спину. Оцепеневшая от зрелища такого могучего удара стража подалась на шаг назад. Воспользовавшись мгновением растерянности, Гудо сорвал с пояса одного из стражников моток веревки. Еще мгновение и в руках господина в синих одеждах возникла петля, что тут же затянулась на шее бесчувственного Гелиоса.
Что-то громко закричал начальник стражи, но было уже поздно.
Гудо в несколько могучих рывков подтащил тело Гелиоса к бесстрастно наблюдавшему за происходящим верблюду. Намотав на руку веревку, господин в синих одеждах перепрыгнул животное и тут же ударил его в голову. Верблюд взревел и несвойственно для его породы быстро поднялся на ноги.
Гудо засмеялся. Его рука подтянула через спину стоящего верблюда веревку. На том конце глухо застонал пришедший в себя Гелиос. Застонал и задергал в воздухе ногами. «Господин в синих одеждах», продолжая смеяться, несколько раз рывками опустил и поднял казнимого. На третий раз он уже не смеялся. Гудо прислушался, и услышал, как хрустнула шея убийцы отца Матвея.
– Палач, знай свое дело, – тихо промолвил Гудо и брезгливо отбросил конец веревки.
– Я сказал, что в этом городе больше не будет смертей! А ты посмел ослушаться меня! Обезглавьте его. Сейчас же.
Гудо посмотрел на сказавшего это. Смуглолицый воин в огромном тюрбане с высоты своего великолепного скакуна смотрел на него глазами неминуемой смерти и говорил на франкском языке, понятным всем окружающим.
«Прощайте мои милые девочки. Прости, что я так и не смог…»
Но Гудо не закончил эту мысль. Сегодня судьба никак не желала замереть в привычной позе ожидания. Лишь малейший поворот. Поворот, рожденный искренним смехом воина в блестящей кольчуге. На том же, понятном для всех языке, этот воин, хотя и с почтением, но все же более дружески обратился к повелителю Цимпы:
– О, благороднейший из благородных, меч ислама и щит правоверных, мой добрый друг Сулейман-паша, я придумал тот подарок, о котором ты говорил.
– Подарок? – все еще тяжело дыша, спросил Сулейман-паша, и тут же улыбнулся. – Ты, мой дорогой друг Эврен, подарил мне Цимпу, а я… Что должен подарить тебе я?
– А ты подари мне этого человека с обликом шайтана[144].
Сулейман отрицательно замотал головой.
– Другого подарка я не приму, – сменив смех на сталь в голосе, промолвил воин в блестящей кольчуге.
– Он должен быть наказан. Мои воины знают цену моим словам, – упрямо заявил Сулейман.
– Хорошо. Оставь его себе, а мне подари его жизнь. И постарайся, чтобы он прожил долго. Хотя бы столько, сколько Аллаху будет желательна моя жизнь на земле.
После недолгого молчания Сулейман-паша сдался:
– Эй ты, человек в странных одеждах, поблагодари своего бога за доброту великого воина из бейлика Карасу[145] достойнейшего Хаджи Гази Эврена. Сегодня он подарил тебе вторую жизнь. Но не надейся. Сладкой она не будет. Поехали Эврен, у нас множество дел.
– Да, мой друг. Теперь на земле Европы у нас множество славных дел. Но еще немного терпения. Я хочу сказать твоему рабу…
– Говори, – милостиво согласился Сулейман.
– … Хочу сказать… благодарю. Благодарю вот за что!
И к ногам изумленного Гудо упал его огромный синий плащ.
Глава двенадцатая
Джованни Санудо проснулся в дурном расположении духа.
К этому уже можно было за полгода и привыкнуть, и, пожалуй, так бы и поступило множество узников, но только не герцог нксосский. Душа великого герцога никогда не смирится с тем, что ей не желательно, а натура сильного человека не подчинится ни чьей воле, ни обстоятельствам изменчивой судьбы, ни капризам божественного перста.
Он и спать ложился в дурном расположении духа, ибо ко сну Джованни Санудо отходил с негодующим от голода желудком и с чашей колодезной воды вместо вина. В этом великий герцог и сам отчасти виновен. Еще в первые дни заточения он наотрез отказался от однообразной и грубой пищи, что несколько недель в его комнату заточения приносили молчаливые старухи монахини. Да и как можно вталкивать в себя полувареную кашу из ячменя, дополненную отрубями и толченым желудем. А потом это жидкое варево заедать всегда холодными и жесткими лепешками, о составе которых и вовсе нежелательно думать.
Эта длинноносая и костлявая настоятельница монастыря, преподобная мать Ефроксия, напрасно уверяла герцога наксосского, что это божья пища, что вкушают все сестры монастыря, в том числе и она. Не убедили Джованни Санудо и слова матушки о том, что истинная радость не в пище земной, а в молитве искренней и многократной. Молитва и пост излечивают от всех болезней. Они же и надежные врата от козней дьявольских и мыслей грешных. А венец счастья пребывания человека на земле – православие – вера истинная, несокрушимая и единственно угодная Господу.
Но со всем этим великий герцог не согласился. Не согласился отречься от заблудшей католической веры и принять крещение православное. Отказался от пищи монастырской телесной и от пищи духовной, которой было пропитано все в этой обители: от высушенных до костей сестер до диких камней и отесанных балок, что все еще продолжали складываться в долгом сооружении дома господнего.
Монастырь Феотокиу возник стараниями ктиторов[146] еще в начале века, но частые войны и смена правителей Эпира уже почти пять десятилетий не позволяли обители принять свой законченный облик. Половина окружающих монастырь стен едва поднялись от фундамента. Хозяйственные постройки были сплошь из дерева, а то и вовсе обозначены жердями и досками. Сестры монашки ютились по пятеро в тесных кельях, а вместо трапезной во дворе был разбит огород. Так что кашу и лепешки приходилось принимать в церковной пристройке, под монотонное чтение священного писания сестры экономки.
А вот для Джованни Санудо строительство по приказу короля Стефана возобновили. Матушка Ефроксия потирала руки, глядя, как скоро возводится каменное здание, хотя и небольшое, но с крепкой дубовой дверью и решетками на окнах. Этот герцог уедет или умрет (как Богу будет угодно), а у монастыря будет надежное хранилище для съестных припасов. Скорее бы только король Стефан решил судьбу этого человека. Ведь негоже мужчине подолгу оставаться в стенах женского монастыря. Ведь он не священник и не строитель и, тем более, не благодетель ктитор.
Одно радовало – этот мужчина и на дух не переносил сестер-монашек, а когда возвращался на ночлег после гостин у кого-нибудь из городских богачей, даже не пытался прижать к себе невест Христовых. Даже младшую из них – прехорошенькую сестру Владу.
Да, странная была жизнь узника Джованни Санудо. На ночь дубовая дверь и крепкие решетки на окнах, а в день свободные прогулки в Арту и по ее окрестностям. Далее этих мест герцог наксосский не решался зайти. Неизвестно, что за приказ отдал своим слугам Стефан Душан в отношении того, кого он несколько раз назвал другом, а затем велел помолиться с дочерьми в монастыре?
Да, поспешил Джованни Санудо с откровенным разговором наедине с королем Стефаном Сильным. Нужно было все взвесить, присмотреться, трижды подумать и переговорить со знающими придворными. Так нет! Удача и вино вскружили голову. Хорошо, что эта глупая голова еще удержалась на плечах. Хотя, как знать? Стоит зайти в лес, подальше от Арты и… Волков и медведей после убившей множество людей войны развелось огромное количество. На них и вина ляжет за смерть благородного рыцаря.
Так что теперь приходится быть втройне осторожнее.
А кушать хочется. А более всего хочется крепкого сладкого вина. Лучше мальвазийского вина с восточных окраин Пелопоннеса. Эти проныры – венецианские купцы, не только наладили изготовление столь приятного вина, но и доставку его в таком количестве, что в самом городе Венеции лавки, продающие вино, чаще всего называют Мальвазия. А еще купцы развезли его по всему миру и даже в дикие края Эпира.
Хороша была мальвазия у городского главы Арты. Из красного сорта винограда, бледно розовое старое вино отдавало привкусом ореха. Но в этот доме уже давно не приглашают до оскомины надоевшего в городе герцога. Хороша была свежая мальвазия и у купца Спиридуса. Вино этого года было насыщено ароматом персика, абрикоса и белой смородины. Но и оттуда Джованни Санудо приглашения давно не поступало. Порядком пообносившийся, заросший густой седой бородой, герцог почти не развлекал хозяев. Зато много ел, а еще больше пил. И, конечно же, вел себя как великий герцог, которому еще должны были насыпать горсть золотых после того, как он облагодетельствовал дом своим присутствием.
Постепенно для него закрылись все двери лучших домов Арты, но еще оставались многочисленные церкви и монастыри в окрестностях. Туда Джованни Санудо стал ходить в последние месяцы. Вначале со скукой и даже неприязнью, как и всякий католик, убежденный в дикости старообрядного православия, затем с растущим интересом и даже некоторым восхищением.
И дело не только в, хотя и скромном, но угощении священнослужителями благородного гостя, но и в том умиротворении и спокойствии, которое вдруг почувствовал вечно буйный и недовольный всем и всеми Джованни Санудо.
Первой великого герцога впечатлила церковь Панагии Паригоритиссы – главный храм в одноименном монастыре. Огромное кубическое сооружение, с пятью куполами и двойными арочными окнами на фасаде, изобиловало внутри колоннами и капителями из более древних храмов, а выставленные в готических арочках скульптурные изображения «Рождества Христова», «Агнца божьего», фигуры святых подвижников и фантастических зверей, умиляли художественным исполнением и в то же время вдохновением мастеров, руками которых водил сам дух святой. Затем Джованни Санудо посетил храм святой Феодоры, церкви святого Василия, Димитрия, Панагия Ковонисия, и удивился тому чувству, что возникло в его окаменевшей душе. Этому в великой мере способствовала торжественность церковной службы и необычайно волнительное песнопение псалмов.
Однажды Джованни Санудо даже пожалел о том, что с таким бараньим упорством пытался освятить несколько церквей на своих островах из православных в католические. И даже о том, что бросил несколько священников в жуткие пещеры Марпеса.
Не за это ли сейчас и страдает герцог наксосский? Здесь, на земле, где славят Господа на православный манер, страдает Джованни Санудо неизвестными ему до этой поры душевными огорчениями. Страдает и уже изрядно подтянувшимся животом.
Джованни Санудо лежал под овечьим одеялом очень долго, а затем, быстро одевшись, на всякий случай проверил корзины и встряхнул пустыми кувшинами. Нужно было идти в город. Идти за куском хлеба. Вот она превратность судьбы. Вот оно – желание высокого полета. Вот она – цена дружбы с теми, кто сильнее его.
Солнце первых дней зимы медленно взбиралось на свой полуденный трон. Его свита из серых облаков уже оторвалась от высоких гор и медленно окружала небесного владыку. Значит, к вечеру опять будет нудный мелкий дождь, от которого набухли даже камни.
В монастырском дворе, как и всегда в будний день, копошились в хозяйских делах молчаливые монашки. Великий герцог заученно повернул к решетчатой деревянной постройке, что была одновременно и конюшней, и коровником, и загоном для десятка овец.
Здесь в последние месяцы прочно обосновались его девицы – Грета и Кэтрин. Поначалу они крайне озадачили матушку настоятельницу и монастырских сестер, ежедневно, по своей воле, наведываясь и ухаживая за животными. Но им не задавали вопросов, а только удивлялись тому, что дочери столь благородного родителя задавали корм, поили живность и даже доили коров. Вскоре к этому привыкли и приняли как искупление вины их отца. Только какой вины? Ведь никому в монастыре не была известна причина, по которой прибывал в монастыре сам великий герцог. В отличие от его дочерей!
Несколько месяцев девушек сторонились все обитатели монастыря. Ведь в эти месяцы часто говорили о них в городе, как о прислужницах сатаны, и даже о том, что они ведьмы. Шутка ли! Пением разрушить каменный мост! Так сказали при дворе короля сербов и греков. Да и сам король согласился с этим.
Но постепенно все улеглось и прояснилось. Никто в монастыре и в окрестностях Арты не заболел странными болезнями. Коровы доились, как им было и положено. Молоко при этом не сворачивалось и не прокисало быстрее обычного. Куры несли яйца. Животные давали здоровый приплод. Дети в окрестностях рождались без уродств. И даже не умерло ни единой роженицы!
Дважды в монастырь приезжали священники, которым церковь дала право изгонять из грешников дьявола. Но и они, даже при тщательном и долгом наблюдении не заметили в девушках следов пребывания нечистой силы. Более того, одна из девушек – Кэтрин согласилась, а герцог разрешающе махнул рукой, на то, чтобы она приняли православие. И она приняла его и несла многочасовые церковные службы и в день, и в ночи, как требовал монастырский устав. А еще она быстро выучилась и стала петь в церковном хоре. Ах, как она пела, вновь окрещенная Катерина! Такого божественного голоса не услышишь и в константинопольском храме святой Софии!
А самое главное, в повиновении и в трудолюбии дочерям великого герцога и в самом монастыре не было равных. Да и в грубых домотканых одеяниях монастырских послушниц девушки выглядели ангелами. Во всем Эпире не найти таких прелестных личиков. Они особенно выразительны в глухих, только для овала лица, монашеских гебинде[147]. Болезни, бесконечная война и прихоти сильных мира сего давно стерли с поверхности древней земли женскую красоту, за которой прилетали в эти горы боги Олимпа.
Разрушенный мост скоро восстановили, и довольные строители, изрядно выпив, потребовали, чтобы разрушительницы прошлись по нему со своими песнями. И они прошлись с теми самыми песнями, и ничего с мостом не случилось даже в осенние многодневные дожди.
Конечно, все это могло быть и иначе. Времена чумы и породившее ее колдовство еще были свежи в памяти. Тогда множество слуг дьявола было сожжено и утоплено. Народ Эпира и святая православная церковь вовремя выявляли пособников черной смерти. Но теперь в колдовстве девушек обвинил ненавистный король-завоеватель. Скорее он, убивший тысячи жителей Эпира и разграбивший страну, подходил на роль слуги сатаны, чем безвинные девицы, отец которых чем-то не угодил Душану Сильному.
В том, что девушек не подвергли пыткам, не сожгли, а их благородного родителя принимали в своих домах жители Арты, был скрытый бунт, неповиновение пришлым жестоким завоевателям, которые в глупости своей не могут понять, что околдованный песней мост рушится в ту же ночь, а не неделей позже!
Сербы для эллинов Эпира всегда были варварами. Варварами и останутся.
* * *
Как и вчера, герцог наксосский в совершенном молчании принял из рук Греты деревянную кружку с молоком, выпил ее и, не поблагодарив, удалился.
Наблюдавшие ежедневно эту сцену монахини привычно переглянулись. Разные бывают отношения отца с дочерьми. А кто знает, какие они в благородных семействах, живущих в далеких странах. Да и дочери не питают пламенной любви к этому отцу. За столько месяцев они ни разу не сказали друг другу нужных и приятных слов. Девушкам более по душе кормилица малыша герцога. Такая же трудолюбивая и кроткая, как и они сами. Женщина не пожелала принять православие, огорчив матушку настоятельницу. Но вскоре кормилица и порадовала игуменью Ефроксию небывалым урожаем капусты и лука на огороде, что добросовестно возделывался ее руками все лето. Вот с кормилицей девушки беседуют на своем языке все свободное от работы и церковных служб время.
А герцог… Пусть идет. Бог даст, не явится к вечеру пьяный, и не станет кричать в своей каменной узнице.
После выпитой кружки молока чрево Джованни Санудо немного успокоилось.
Хоть какая-то польза от этих селянок. Бог даровал их девственность как ценнейший подарок нужного для планов герцога человека. Так мыслилось. А вот получилось, что Всевышний дал их работящие руки в угоду ворчащему брюху герцога. Хотя бы за что-то полезное надоумил Господь Джованни Санудо взять их с собой. Да и мать их иногда, то ли украдкой, то ли с позволения матушки настоятельницы, приносила герцогу свежих овощей и фруктов. И на том спасибо. Вот бы еще продать ее ущербное дитя, было бы несколько золотых, по которым так соскучились руки великого герцога. Только мать не позволит. Будет крик и слезы. Да и кто купит за хорошую цену малыша с изуродованным ухом. От таких всегда жди беды. Ущербные с детства – люди неуправляемые и своенравные. А сердце их – камень, с которого сочится кровь. Так говорил великий мудрец мэтр Гальчини. И добавлял:
«Такой материал не годится для творческой работы! Только из совершенно здорового младенца можно вылепить то, что желаемо!»
О, как мэтр Гальчини был доволен, когда двадцать лет назад Джованни Санудо привез к нему в мрачные подвалы подземелья Правды двух крепких и здоровых близнецов. Мэтр долго их осматривал, а потом похлопал по плечу своего друга Джованни и с улыбкой сказал:
– Отличный материал. Ни единого изъяна. Из таких получатся отличные уроды! Я сделаю тебе королевский… Нет. Сказочный подарок! Двух вернейших и сильнейших псов! Заодно и опишу весь процесс в науку будущим хранителям тайн великого ордена!
Это был единственный раз, когда Джованни Санудо видел мэтра Гальчини улыбающимся.
Да, подарок действительно сказочный! Сколько раз Арес и Марс спасали в бою жизнь своего господина. Сколько раз уберегали его от подосланных убийц и от всевозможных опасностей. Сколько, не моргнув бровью, вытерпели обид и издевательств от разгоряченного вином великого герцога. Воистину псы, более верные своему хозяину, чем самая благородная тварь из собачьей породы.
Уже через несколько недель, как король Душан велел герцогу наксосскому до его окончательного решения находиться с дочерьми при монастыре, от своего хозяина сбежали арбалетчики, знаменоносец и поганец мальчишка-слуга. Их пустые животы стали разумом для ног. Привыкли жрать с герцогского стола, а чуть обстоятельства прижали хозяина, так и в бега. Придет время, и попадутся предатели в руки Джованни Санудо. Потешиться он на славу. Припомнит каждый день своего горестного пребывания в проклятой Арте. Горестного и голодного.
Если бы не Арес и Марс, то в последние месяцы пришлось бы таки давиться монашеской кашей без соли и жевать лепешки из дерма. Ведь великого герцога уже давно не приглашали ни в один порядочный дом Арты. И даже церковники уже не накрывали щедрые столы, ограничиваясь пресными булочками и разбавленным вином.
Оно и понятно. Надвигающаяся зима делала людей скупыми. Неизвестно, как долго она продлится и какой будет весна.
А вот верные псы великого герцога не только не покинули своего хозяина, но и взяли на себя заботы о его, пусть и не слишком сытном и обильном, но все же сносном питании. К ним по вязкой и липкой от частых дождей, но твердо заученной дороге, и направился Джованни Санудо.
* * *
Этот участок пути к городу был самым ненавистным. Топкая впадина изнуряла чавкающей грязью и липкой травой, что длинными стеблями присасывалась к постоянно сырым сапогам герцога. Только одна злорадная мысль чуть облегчала дорогу – те два соглядатая, что непременно каждый день следовали за Джованни Санудо в трех десятках шагах позади, были вынуждены также прошагать эту пакость.
Ну вот и взгорок, а там лесок и большой двор заезжего дома у стен Арты.
Еще в полусотне шагов от цели пути Джованни Санудо усмехнулся. До его слуха донеслись радостные звуки. Скрежет металла, звонкие удары мечей о принимающих их мощь щиты, восторженные крики зрителей. Значит, Арес и Марс сегодня в большом деле, а значит, стол сегодня будет накрыт жареным мясом и сносным вином.
В этом можно не сомневаться. Верные псы нашли глупцов, что на горе своим кошелям посмели испытать их воинское мастерство. Арес и Марс немного потешатся, а затем повергнут наземь и заставят сдаться очередных зазнаек, которые решили доказать, что они воины.
На оставшиеся от глупой дерзости гроши Джованни Санудо определил этих великанов на постой в пригородной харчевне. Деньги очень скоро закончились, и, казалось, верным псам достанется горькая участь предательства (как случилось с арбалетчиками и слугами) или еще более печальная слава – стать попрошайками. Хозяин харчевни, сам крепкий и храбрый малый уже готов был набраться наглости и попросить постояльцев съехать со двора, но все же не решился. Арес и Марс в это утро решили утихомирить голод упражнениями с оружием.
Обычные занятия телохранителей великого герцога настолько поразили хозяина и его немногочисленных гостей, что они не поскупились выставить на стол угощение столь знатным мастерам фехтования на мечах. Более того, собравшиеся на следующий день пяток горожан, прослышавших об столь умелых воинах, попросили их повторить свои занятия. С пользой для мышц тела и его желудка Арес и Марс продемонстрировали столь занятный бой, что о нем вскоре заговорили во всем городе.
С тех пор множество горожан перебывало в харчевне. Они, с нетерпением ожидая новых представлений, заказывали обильные обеды, которые после единоборств великанов обильно заливали вином. Нашлись и глупцы решившиеся померяться в искусстве владения оружием с навеки закованными в броню странными и всегда молчаливыми великанами. Но все эти глупцы потерпели поражения. Впрочем, как и те многие, из других городов и селений, кто прослышав о необычном развлечении на постоялом дворе в пригороде Арты, притащил сюда свое оружие и кошель с несколькими серебряными монетами.
Даже с гор осенью спустились угрюмые воины, что в совершенстве владели древним искусством боевого топора на длинной рукояти. С собой они пригнали отары овец, которые и оставили в харчевне как проигрыш непревзойденным воинам.
Джованни Санудо сам видел и диву давался великой сноровке и умению горцев. Но все их многовековое боевое искусство блекло по сравнению с величайшим мастерством Ареса и Марса. Вернее перед теми плодами, начало которым положил великий мэтр Гальчини, усовершенствовали нанятые фехтовальщики испанцы, а отшлифовали суровые братья-рыцари Тевтонского ордена.
Но первенство и главенство, конечно же, принадлежит мэтру Гальчини, создавшему их приспособленные к войне тела и вложившего в души великий дух воина, что не знает поражения.
Вспомнив о Гальчини, великий герцог усмехнулся, тут же нахмурился, затем встряхнул головой и опять улыбнулся.
Все-таки, какая забавная жизнь человеческая! Поди узнай, что будет за следующим шагом? А что могло случиться, если бы поступил так? А мог и иначе. И что тогда?
Внутренне ликуя и многократно благословляя друга Гальчини за сказочный подарок, Джованни Санудо усмехнулся. Его боги войны многократно спасали его жизнь. Сегодня спасут его желудок.
А ведь был момент (герцог наксосский нахмурился, припомнив), что дикая боль сама вручила в его руки абордажный топор и толкнула его в трюм галеоса. Там в просочившейся на две ладони холодной морской воде, во тьме, с единым крошечным светильником под балкой, барахтались два маленьких существа. Они уже давно не кричали от страха и холода. Они уже и не плакали, не различая языком горечи слез и морской воды. Они уже ничего не желали и ни о чем не просили. Они ждали боли, после которой приходит избавительница смерть.
Но тогда еще юный Джованни Санудо, испытывая жесточайшую боль и сильнейшие душевные муки, не думал дарить двум малышам близнецам спасительную смерть. Почти повредившийся от происшедшего с ним рассудком, третий сын герцога наксосского Николо Санудо[148] желал отсечь топором кисти и ступни, а затем эти части малышей отправить их жестокому родителю, что навеки изуродовал не только тело, но и душу Джованни Санудо.
Мало того! Кипящий в безумстве мозг, вдруг пожелал из изуродованных малышей вырастить диких собак, умеющих только лаять, лакать воду и грызть кости. Лишенных кистей и ступней уже повзрослевших близнецов, что могут перемещаться только на четвереньках, Джованни Санудо мысленно отправлял через десять лет к их родителю. И только представленная сцена того, как вокруг поседевшего от горя обидчика ползают и лают его дети, остановила тогда топор в руках юного Джованни Санудо. Ведь топор мог убить малышей. А вот великий врачеватель Гальчини, по просьбе друга, и отрежет конечности, и кровь остановит, и еще что-то придумает такое, от чего отец близнецов не только поседеет, а и сам превратится в животное.
И опять улыбка на устах герцога наксосского. Вот она жизнь, вот она судьба. Благодаря неотрубленным когда-то кистям и ступням, Джованни Санудо окажется за щедрым столом и набьет свою утробу по самое горло.
* * *
Подойдя к крайнему строению харчевни, Джованни Санудо огорчительно крякнул. Громкие крики и оглушительный свист зрителей сами за себя говорили о том, что бой закончен. Что ж, нужно было встать чуть раньше, или не заходить за кружкой молока к селянкам. Тогда бы великий герцог мог застать миг победы собственных богов войны. Но не застал. Сегодня он опоздал к развлечению. Хорошо, что поспел к столу.
Длинный, из строганных досок стол, был поставлен в последние месяцы под специально устроенной в большом дворе крышей из туго связанного камыша. Крышу поддерживали четыре наспех обтесанных столба, которые совершенно не мешали сидящим за столом наблюдать за схваткой посредине двора. Столы попроще и короче стояли и под стенами харчевни, конюшни и хозяйственных построек. Над ними не было крыши. Простолюдины не замечают неудобств от солнечных лучей или стрел дождя. Эти столы, с ликующими от увиденного зрителями, образовывали арену, где и происходило действие, ради которого люди бросили работу, и пришли порой из очень далеких селений.
На эту арену Джованни Санудо лишь коротко взглянул. Там, из грязи все еще пытались подняться на ноги четверо воинов, над которыми, положив руки на рукояти мечей, воткнутые в землю, стояли Арес и Марс. Поверженные соперники сегодня были в надежной броне, поэтому боги войны с удовольствием и с достаточной силой помяли их шлемы и нагрудники. Редкая схватка обходилась без крови. Но ни с чем несравнимое искусство Ареса и Марса позволяло заканчивать все бои без смертей и отсеченных конечностей. Поломы рук, ног, ребер случались. Но на то они и схватки, на исход которых участники и зрители ставили серебро и домашний скот.
Сегодня все обошлось ссадинами и ушибами. Все-таки доспехи на соперниках Ареса и Марса были добротные, да и сами вызвавшиеся померяться силами видно часто участвовали в схватках и битвах. Такое облачение, оружие и знамена могли принадлежать только знатным и испытанным воинам.
Знамена – вот на что должен был обратить внимание Джованни Санудо перед тем как вышвырнуть с почетного места за длинным столом наглеца, занявшего его. Тут же на плечи могучего герцога наксосского повисло с десяток слуг и воинов. И тут же, выставив вперед мечи, к месту свалки устремились еще не отдышавшиеся Арес и Марс.
«Теперь будет кровь», – решил несколько опечаленный могущим не состояться обедом Джованни Санудо и… ошибся.
– Джованни, ты совсем уже одичал. Дьявол тебя побери! Отпустите его!
Герцог наксосский растеряно посмотрел на того, кого он так бесцеремонно вышвырнул с почетного места:
– Симион? – с трудом вымолвил Джованни Санудо, узнав сводного брата сербского короля.
– А то кто еще может сидеть под королевским флагом? Ну-ка, покажись. Хорош, хорош… Нечего сказать. Бородище как у диких горцев. Тряпье… А запах от тебя… Ну прямо дикарь спустился с гор. Давай отойдем. Разговор есть. И отзови своих псов. Они и так мне сегодня настроение подпортили. Четырех лучших моих воинов вывалили в грязи. Просто дьяволы в доспехах. И где ты их только выискал? В преисподней?
– Симион Синиш! – все еще не верил своим глазам великий герцог. – Как ты тут оказался? Я думал ты с королем в Скадаре[149].
– Мой братец Стефан совсем подвинулся умом. Он и раньше не слишком с ним управлялся, а после того как турки-османы надавали ему два месяца назад по шее в битве при Димотике… Пошли. Пройдемся.
Джованни Санудо послушно, сгорбившись, заглядывая в глаза, поплелся рядом со сводным братом того, кто обрек его на животное существование в диких горах Эпира. Он все еще не верил своим глазам, но с ушами уже начинал соглашаться.
– Да, наломал ты дров, друг Джованни! Это после разговора с тобой король совсем свихнулся. Он уже в голос заявляет, что готов стать капитаном великого похода христиан на турок. Осталось малость – захватить и подчинить Константинополь, поклониться папе Римскому и с его благословения призвать рыцарей католической Европы в поход на Восток! И тогда он станет императором, слава о котором превзойдет славу Карла Великого[150].
– Уничтожение врагов Христа – дело богоугодное, – скромно опустил глаза Джованни Санудо.
Опустил потому, что ожидал вспышки ярости, а еще хуже, издевательского смеха своего старого приятеля. Симиону Симишу, без всякого сомнения, было известно о том разговоре, что состоялся между королем Стефаном Душаном и герцогом наксосским в последний день рыцарского турнира в Арте. То ли сам король поведал брату о содержании беседы, то ли как обычно, при тайных разговорах, у стен есть уши, то ли…
Вот этого «то ли» Джованни Санудо вспомнить не мог. Во время разговора с королем было выпито много вина. Вино Джованни Санудо пил весь день и до беседы. Пил и после нее. Неужели проклятое вино довело герцога наксосского до предательской болтовни и он, преисполненный собственным величием задуманного и благосклонностью императора сербов и греков не удержался и кому-то, что-то лишнее сказал. Может именно это вызвало гнев Стефана Душана, отправившего великого герцога в недостроенный и голодный монастырь? Ведь король требовал хранить все сказанное в тайне. А Джованни Санудо что-то спьяну выболтал? Ведь не мог же мудрый правитель заточить сильного союзника в диких горах по смешному обвинению в колдовстве его мнимых дочерей.
А может?
Джованни Санудо, соглашаясь сам с собой, мелко закивал головой.
Да, именно так и сказал брат короля: Душан Сильный сам решил стать «капитаном христиан»! Ведь именно в этой роли видел себя герцог наксосский. О ней и вел тайный разговор. И имел основание представить себя во главе великого воинства Христова.
О, как много было сделано Джованни Санудо для составления плана и обдумывания его. А еще множество тайных бесед и трудных переговоров. Все эти десять лет (исключая два трудных года, когда свирепствовала черная чума) великий герцог провел в длительных и утомительных путешествиях.
И эти путешествия дали свои плоды. Многие правители согласились с Джованни Санудо, что пора нанести удар по сарацинам, что становились день ото дня сильнее и наглее. Их передовой отряд – турки, уже два десятилетия терзали восток Европы. Они грабили земли Греции, Болгарии, Южной Италии, а стремились еще далее и глубже в Европу! Даже магистр Тевтонского ордена при встрече со знаменитым «гостем ордена[151]» Джованни Санудо выказал желание отправиться в поход на анатолийские земли[152]. И даже готов был рассмотреть вопрос о главенстве почетного «гостя ордена» над передовым отрядом. Ведь и о еще недавних боевых заслугах в походах на литовские земли, и о мудрости Джованни Санудо помнили многие братья-рыцари. Ведь прошло не более пятнадцати лет, как рубил язычников сильный и храбрый рыцарь из далеких южных морей, как разлетались на десятки шагов дикари, когда он и его два молчаливых телохранителя врезались на конях в их толпу на поле битвы.
Но основную поддержку планам герцога наксосского давал крестный – знатный венецианец и посланник Венеции при самом папе римском семидесятишестилетний Марино Фальеро. Несмотря на древние года, старик был силен, подвижен и чрезвычайно умен. А главное, папа Римский Климент VI души в нем не чаял. Еще бы! Это был, наверное, единственный венецианец, который до корней волос был предан папскому престолу. Однажды старик проговорился (а скорее намеренно сказал), что папа Климент желает видеть дожем Венеции именно Марино Фальеро. На то есть милость и указание божье!
И как тут не соединить воедино: властители Европы, тевтонские рыцари, флот Венеции (если крестный не подведет), напутствующее благословение самого папы римского и прекрасное знание театра будущих боевых действий, которыми обладал сам Джованни Санудо. Вот только нужен был клич и обязательно от того, кто имеет громкий голос и испытанную в боях армию.
Таким голосом, по замыслу Джованни Санудо, должен был стать император сербов и греков Стефан Душан по прозвищу Сильный.
Несколько часов герцог Наксосский рассказывал Стефану Душану о том, что поход на турок вполне реален и даже в скором времени. И конечно о том, что возглавить его должен Джованни Санудо. Ведь он, как никто, знает врага и питает к нему лютую ненависть.
И эти две основные мысли и стали той глупой дерзостью, что разгневали короля, у которого без сомнения были свои великие планы и тайные переговоры. А планы короля и герцога были несовместимы. Ведь Джованни Санудо желал вырезать всех турок и в их крови утопить тех, кто искалечил его тело и душу. А Стефану Душану нужны были земли, подданные, власть и золото.
А еще король Стефан догадался, уже точно зная о ненависти, что питал к туркам герцог наксосский, о виновнике коварного нападения в окрестностях Арты, жертвой которого едва не стал сын османского бея Мурад-паша. Убить, хотя и турка, но гостя Стефана Душана, не только глупая, но и наглая дерзость. Вот тебе и еще одна причина оказаться в плену у всесильного правителя.
Только, что дальше? Почему брат короля опять в этой дикой глуши? И не дай бог, если причина тому только Джованни Санудо!
* * *
Высоко взлетел в мыслях Джованни Санудо! Ох, высоко! Падение с такой высоты только смерть!
– Иди, друг Джованни! Иди и слушай!
Улыбается друг Симион. Только, что скрыто за этой улыбкой?
– Новости до этих угрюмых гор долетают не скоро. А если и долетят, то кто сможет их правильно толковать? А новости вот какие. Император Византии Иоанн Палеолог летом решил сместить деспота Мореи Мануила и тем самым насолить своему соправителю и врагу – императору Иоанну Кантакузину, чьим сыном и является Мануил. Ты помнишь Мануила?
Перед глазами герцога наксосского тут же предстала горная дорога, злые лица арнаутов, их детей, жен, и наглая улыбка деспота Мореи Мануила. Джованни Санудо, стиснув зубы, кивнул головой.
– Так вот, – продолжил Симион Синиш. – Между соправителями Византии тут же началась война. Братец взял сторону молодого Иоанна Палеолога и выслал сильный отряд на Кантакузина, что уселся в Константинополе. Старый Кантакузин поклонился святыми деньгами османам Орхана, и тот выслал на помощь конное войско. Говорю святыми деньгами, потому что… Это трудно объяснить, но это правда! После землетрясения великий храм святой Софии в Константинополе дал трещины. Вот на ремонт святой обители московский князь Симеон Гордый и прислал святые деньги, а они оказались в руках язычников-сарацин. Веселая история! Да?
Джованни Санудо грустно покачал головой. Брат короля, напротив, весело улыбнулся:
– Как я уже говорил, османы полностью уничтожили наш отряд, войско молодого императора Иоанна и после этого погнались за болгарскими отрядами, что так и не решились вступить в бой. Так что юг Болгарии разграблен и сожжен. Теперь братец мечется и всем своим врагам предлагает союз против Кантакузина и его османов. Он даже к папе римскому отправил людишек поклониться. Это невероятно! Ведь столько лет король Душан давил католиков[153]. А самое интересное, что и к бею Орхану людей отослал. Что он желает от турок?..
Симион Синиш притворно пожал плечами, опять улыбнулся и продолжил:
– Совсем братец голову потерял. Наши церковники боятся, что он и от веры отцов и дедов отступится в пользу католической. Вот потеха будет! Стефан Душан танцует перед папой! А еще османы! Совсем всех запутал. Я слово ему сказал и что? Вот теперь я кефалия[154] диких гор Эпира! Смешно, да?
Герцог наксосский опять грустно покивал головой. Но это не испортило игривого настроения кефалия Арты и ее окрестностей.
– А некоторым своим близким друзьям Стефан Сильный и вовсе головы отрубил. Вот как! Совсем забегался братец. Налоги увеличил. Даже с монастырей налог желает взять. Войско новое собрал. Нет теперь ни пиров, ни охоты, ни веселья всякого. И так его немного было. Но все же: актеры, певцы, танцоры, музыканты, вино, девицы… А теперь только молитвы и оружие.
О горе живущим в наши печальные дни! Охота да война, молитва да надоевшая жена. Вот и все развлечения. А что делать простолюдинам после работы и в праздничные дни? Разве что напиться и подраться с соседом. А может, повезет и удастся посмотреть на таких бойцов, как твои немые. Может, уступишь их мне?
Джованни Санудо отрицательно и очень энергично закивал головой.
– Ну, как знаешь! И вот отправил меня братец в дикие леса и еще более дикие горы. А на прощание велел: «Там твой друг Джованни. Выпей с ним вина, а потом, не мешкая, отправь его ко мне!»
– И чего желает от меня король? – с испариной на лице, наконец, вымолвил великий герцог.
– А этого он не сказал. Но мне сдается ты, друг Джованни, не плохой подарок для мстительного Мурада, сына бея османского. Ты же помнишь, что едва он со свитой выехал из Арты в родные края, неизвестные набросились на них в лесу. Только Мураду и двум его воинам удалось уйти. Дело королевской чести найти обидчиков посланников самого бея осман. А тут ты со своей ненавистью к туркам. А еще так неблагородно при всех опозорил Мурад-пашу, не позволив ему посвятить свой приз за стрельбу из лука твоей… М-м-м… Ну, сам знаешь… Так что напишет король Мураду: вот, мол, нашел твоего обидчика, организовавшего нападение в лесу. Вот тебе подарочек! Даже не догадываюсь, что этот дикарь Мурад-паша сделает со своим подарком. Но видно порадуется сам и порадует отца. А довольный отец чем-то порадует короля Душана.
– Я великий герцог! Я рыцарь! – в негодовании воскликнул «подарок».
– Тем более османы порадуются щедрости короля. Так отдашь мне своих великанов?
– Чего для друга не сделаешь, – не разжимая зубы, процедил герцог наксосский.
– Вот пример настоящей дружбы! А еще я поставлю перед своим домом в проклятой Арте те две деревяшки, что король Душан велел вкопать перед дверями твоей кельи. Смешно ведь! Да? Афродита и Венера! Ах, да! Святые Афродита и Венера! Я буду в них стрелы из окна пускать, когда напьюсь и выть захочется. Вперед! – воскликнул Симион Синиш и подтолкнул в плечо друга. – Чего стал? Пойдем. Пойдем. Уже недалеко нам. Вон до того леса.
– И что там? – Джованни Санудо вытер рукой пот со лба.
– Все увидишь, все узнаешь.
* * *
«Увидишь… Узнаешь… Господь бережет меня! Как там сказано у мудрых? Легче простого проверить окончена ли твоя миссия на земле – если жив, она продолжается. Не окончена моя миссия на земле. Я еще жив! Как проклятый Симион сказал… Почему проклятый? Ах, да! Он по крови отрезал у меня Ареса и Марса. Чудовище Симион Синиш. Но что он сказал? Да, да! Может братца удар хватит, когда узнает… У него уже был удар. Едва выкарабкался. А тут такие известия, для него печальные… Что удивительного в том, что брат желает смерти брата? Тем более сводного. Тем более короля. На троне место только для одной задницы. Каин убил Авеля. Это еще в Библии записано, как брат убил брата. Первое убийство на земле и оно братоубийство! «Капитан христиан»… Он желал украсть у меня это звание, мои планы и мои труды. Пусть умрет король Душан Сильный! А мне хорошо. Действительно хорошо!».
– Вина! – властно потребовал герцог наксосский.
И ему тут же подали кувшин с узким горлышком. Из такого горлышка хорошо тянется вино. Хорошо, но только не на горной дороге, где ямы и камни трясут хуже палача. Но это не особо печалит. Джованни Санудо пьян и ему хорошо. Действительно хорошо!
Ведь как хорошо закончилась беседа с Симионом Синишей – братом, предавшим брата и придворным, предавшим короля…
– …Вот мы и пришли.
Джованни Санудо с тоской посмотрел влево, в сторону Арты, откуда начинается дорога, на которую его вывел Симион, затем вправо, в неизвестное продолжение этого пути. По обе стороны от узкой, усыпанной камнями дороги, как стража, стоят высокие разлапистые ели, укрепленные густым колючим кустарником. На верхушках елей лениво перекликаются вороны, счищая клювом с крыльев в тот же миг возобновляющуюся пленку от моросящего дождя. И над всем этим унынием мрачные горы с седыми шапками облаков.
– Куда пришли? – ежась, спросил великий герцог.
– Это дорога. Это путь домой. Езжай, Джованни, домой. А как окажешься на своем острове Наксосе, закройся покрепче в родовом замке, поставь крепкую стражу и выпей все крепкое вино Архипелага. Можешь устроить оргию с женщинами, девицами, мальчиками… С кем угодно! Кстати! Сколько я с тобой вина выпил, но так и не видел ни разу, чтобы ты потешал свою плоть. Ни разу!
– Ты просто быстро пьянеешь и валишься под стол, – спрятав взгляд, ответил герцог наксосский.
– Ладно. Делай что угодно на своих островах. Но если ты отплывешь за границы своего герцогства, ты погубишь и меня и себя. Ведь ты не хочешь умереть, Джованни? Ты же не желаешь, чтобы Господь беседовал на небесах и со мной в мои зрелые годы?
Великий герцог уверенно и твердо произнес:
– Не желаю. Дай только Господь ноги унести от всего этого.
– Тогда уноси.
Симион Синиш неожиданно громко и залихватски долго засвистел, вложив пальцы в кончики рта.
– Сейчас ты будешь удивляться. Но чтобы ты совсем не растерялся, удивляясь, кое-что объясню…
…Допив вино, Джованни Санудо громко потребовал:
– Остановите эту проклятую колымагу. Всю душу вытрясла. Остановите. Мне нужно.
Великий герцог на четвереньках прополз длинную крытую повозку и, откинув кожаный полог, с трудом опустился на схватившуюся первым морозцем грязь дороги.
– Проклятая грязь. Проклятая дорога. Проклятые горы…
Прокляв все, что увидели его глаза, Джованни Санудо отправился за черные стволы оголившегося лиственного леса.
Далеко позади остались сосны и ели Эпира, его глубокие ущелья и нависающие скалы. Но более светлые леса, округлые горы и ясное небо Парнаса не прибавили внешнего настроения Джованни Санудо. Только внутри, от волшебства винных паров было хорошо. Хорошо и в то же время плохо. Великого герцога начало подташнивать, и к тому же низ живота требовал освобождения от отработанного вина.
«Хорошо, что я не дожился до того, чтобы быть вынужденным продать свою проклятую серебряную трубочку, – с усмешкой подумал он, проделывая обычную и печальную процедуру мочеиспускания. – Скорее бы домой. К дьяволу королей, планы, «капитанство Христовое» и прочее. Сопьюсь и умру от тоски в своем замке».
Пробираясь обратно к повозке, Джованни Санудо увидел возвращающихся спутниц. Пользуясь остановкой, кормилица и девушки так же углубились в лес, но их яркие плащи и платья были хорошо видны между тонких стволов лип, осин и чахлого кустарника. Не богатые на дожди леса Парнаса хорошо просматривались из-за редкого стволья. А теперь, лишенные листвы, и вовсе были прозрачны, как дорогущие паутинные ткани из египетского льна.
Именно своим спутницам первым удивился герцог наксосский на горной дороге, куда вывел его Симион Синиш.
…Они прибыли на разбойничий свист сводного брата короля во вместительной повозке, крытой кожаным верхом. Выстроившись возле повозки, женская свита приветствовала своего хозяина низким поклоном. И кормилица и девушки распрощались с монастырскими одеждами, облачившись в подарки его светлости герцога наксосского. На Грете даже был парик, преподнесенный пронырливым купцом Гершем.
Не поприветствовав женщин, Джованни Санудо вопросительно посмотрел на брата короля.
– Это что, – развел руками Симион Синиш. – Ты посмотри на этих двух всадников.
Герцог наксосский взглянул на соскочивших с коней двух молодых людей в одеждах купцов средней руки и оторопел:
– Да это же…
– Это барон Рени Мунтанери, сын твоего покойного друга барона афинского герцогства Рамона Мунтанери. Славный победитель рыцарского турнира в Арте. Ты еще, наверное, с ним побеседуешь. Если пожелаешь. А рядом его неразлучный друг – рыцарь Райнольд.
– Как же это?.. – не мог прийти в себя Джованни Санудо.
– Это мой друг, наверное, и есть настоящая любовь. Нам с тобой этого не понять. Каталонцы вообще отличаются от всех своей верностью рыцарскому кодексу и соблюдением всякой ее всячины. В том числе и верности даме сердца. Ты же помнишь – свою победу барон Рени Мунтанери посвятил твоей дочери! Или… Ты сам знаешь, – и Симион Синиш громко рассмеялся.
– И что же?
– А то, мой друг Джованни, что барон и его друг вот уже неделю кружат вокруг монастыря и постоялого двора, где ты питаешься благодаря мечам твоих бывших слуг, и строят планы как тебя и твою семью освободить. Люди короля наблюдают за ними с первого дня. За ними и еще парочкой незнакомцев, что также следят за тобой. Пожалуй, их и зарезали бы… Если что… Но на ваше общее счастье прибыл вовремя я! Утром я побеседовал с молодыми рыцарями. И знаешь что…
– Что?
– Им можно довериться. А еще скажу, барон Мунтанери вполне прилично исполняет рыцарские баллады на лютне. Ох уж эти каталонцы! Последние из рыцарей золотого века! Любовь, верность, дама сердца… Уже лет сто, как об этом забыли и думать. Что привело молодых рыцарей в Арту – я понял, а вот кто помог им и их слугам добраться сюда… Это дорого стоит! Подумай, Джованни! Влюбленный до безумия и, наверное, богатый зять! Да еще и спаситель твой!
Симион Синиш заговорчески подморгнул и залился смехом.
– Великий герцог… – поклонился Джованни Санудо молодой барон Мунтанери. – Я…
Но герцог Наксосский остановил его рукой и обратился к брату короля:
– Я могу…
– Да, да! Обними меня на прощание и полезай на перину. В добрый путь! Прощай и помни мои слова. Даст Бог не увидимся до смерти короля. С ним уже был удар. Едва отошел. Может, узнав о твоем бегстве, его еще раз… Ведь такие известия для него печальны в последнее время. И… Прощай, друг Джованни Санудо. Прощай!
…Как-то за много дней пути и не удалось толком поговорить с молодым бароном Мунтанери. Все как-то не принимали мозги Джованни Санудо того, что у его друга молодости есть сын. Не приняли, когда герольд объявил, что победитель рыцарского турнира в Арте барон Мунтенери. Не приняли и со слов Симиона Синиша.
Сколько раз встречался герцог Наксосский с другом Рамоном и тот ни разу даже не намекнул о том, что он отец. Таким был добрый друг Мунтанери, единственный свидетель мучительного наказания, что лишило юного Джованни счастья быть отцом. Наверное, это и явилось причиной сокрытия отцовства самого Рамона. Истинный друг все сделает, чтобы, даже малейшая тень печали не омрачила лица друга. А может барон Мунтанери чувствовал некоторую вину перед тем, с кем делил и хлеб и опасности, но проявил трусость, не бросившись на обидчиков друга. Хотя, это погубило бы обоих.
Об этом не хотелось думать. Не хотелось и беседовать с тщательно скрываемым сыном друга – друга от юных лет и до самой смерти на борту сгоревшей галеры «Афродита». Может именно для признания барон Рамон Мунтанери и взял с собой сына в путешествие в Венецию. Но признания из уст отца не произошло, а из уст его сына Джованни Санудо ничего не желал слушать. Рени Мунтанери для него был всего лишь один из баронов. И не более.
А вот от доброго вина, что с завидной щедростью снабжал своего гостя Рени Мунтанери, герцог Наксосский не отказался и даже требовал с присущей ему надменностью.
* * *
Только к вечеру следующего дня после побега вино одолело великого герцога. Одолело самой печальной мыслью проскальзывавшей подлой змеей в мозг герцога, окутанный густейшими парами вина – он один! Один одинешенек. И вокруг него нет никого близкого, родного или просто хорошо знакомого человека. Нет даже воинов! Нет даже слуг!
Кормилица, с вечно сосущим материнское молоко младенцем, ее дочери – никто и ничто. Сын друга, но не друг и никто. Низкорослый рыцарь-«каталонец», слуги, погонщик на передней скамье повозки – все они никто и ничто для Джованни Санудо. Но они куда-то везут великого герцога, не спросив его ни о чем. Они кормят и поят… А герцог наксосский покорно трясется по дороге, грызет холодное мясо и пьет, пьет и пьет вино. И ничего поделать не может. Ведь он сам теперь никто и ничто!
А самое печальное в том, что нет рядом с великим герцогом его Ареса и Марса, тех, кого он предал и бросил, передав только записку о том, что отныне они должны верой и правдой служить Симиону Синишу, проклятому брату проклятого короля. Они даже снились в пьяном сне. Могучие и верные псы – Арес и Марс, в своих не снимаемых доспехах и с тяжелыми мечами в руках. Они! Чьей смерти, а затем уродства так желал двадцать три года назад. Над которыми издевался до их взросления. И которых всячески унижал за верность и невероятную преданность. Они снились так явно, что открыв глаза, Джованни Санудо долго звал своих псов. Долго, пока ему опять не дали вина.
Печальная мысль о том, что он один среди чужих ему людей, которые сейчас вершат его судьбу, так опечалила Джованни Санудо, что все происходящее он принимал как очень долгий и тяжелый сон, который когда-нибудь закончиться. И в этом сне некогда блестящий герцог наксосский вел себя как капризный ребенок и как капризный, но любимый ребенок, получал все что хотел. А получив, он успокаивался и отчужденно смотрел и на происходящее и слушал говоривших.
Через два часа герцог наксосский опять властно велел остановиться. На этом участке дороге ему пришлось зайти за нагромождение исполинских камней, так как справа, до самого Коринфского моря, лес уступил каменистой равнине, а слева, круто вверх поднялась скала, перерастающая в горный каскад, заканчивающийся дальней вершиной уже покрытой снегом.
Стоял солнечный день. С гор в сторону моря дул слабый, но уже холодный ветерок. Он рябил волну, и издали водный простор казался мутным зеркалом, получившимся у нерадивого стеклодува из Мурано[155]. Это зеркало плескалось в огромной раме, жесткой внизу, из камней и галечника побережья и плывущей облаками наверху. Как и всякое творение нерадивого зеркальщика оно не могло отразить ничего, даже четко вырисовывающиеся на ясном небе две главных вершины Парнаса – Тифорею и Ликорею, уже притрушенные снегом, особенно впечатляющим в обрамлении ярко зеленых кефалийских елей.
– Видишь, милая Грета, это и есть те самые вершины мира, к которым и пристал в своем ковчеге Девкалион. Помнишь, я вчера у костра рассказывал о потопе?
Проходящий мимо Джованни Санудо с легкой усмешкой заметил смущение Греты. Где ей, простой селянке запомнить имя Девкалион. Хотя о всемирном потопе она должна быть осведомлена. Это любимая проповедь сельских священников. Только для нее нет никакой разницы в услышанном вчера. Скорее всего, она ничего не поняла. Да и как ей понять, что какой-то олимпийский бог Зевс решил уничтожить испорченный род людской, наслав на него потоп. Спасся только сын титана Прометея Девкалион, послушавшийся совета отца и построивший корабль для себя и жены Пирры. И этот корабль после десяти дней непрерывных дождей пристал к одной из этих вершин Парнаса. Принеся жертву отцу богов Зевсу, Девкалион вымолил у него желание возродить человеческий род.
Герцогу наксосскому хорошо известно о «девкалионовом потопе», как и о многом другом из греческой мифологии. Это была любовь к сказочности и фантазии древнего мира, которую долгими рассказами привил Джованни Санудо друг Гальчини. Он же и подарил Джованни две книги о древней Элладе, ее богах и героях.
Но откуда простая девица могла слышать обо всем этом интересном и захватывающем? Все ее знания из уст полупьяного сельского служителя церкви. И вооруженная этими знаниями Грета, с милой улыбкой, смотрела на своего рыцаря и не смела исправлять его заблуждения, или поправлять его в заблуждении.
Ведь это Ной построил ковчег и собрал в нем «всей твари по паре». Это святой Ной спас себя и семью. Действительно, Ной пристал к горе, но после сорока дождливых дней. И не к горе с трудным названием, а ко всем известной горе Арарат!
Но Грета слушала рыцаря, не перебивая и не удивляясь. Она слушала, не отрывая от рассказчика взгляд и чуть округлив прелестный ротик. Она даже подперла для удобства маленькой ручкой подбородок. И герцог наксосский сам видел, как увлажнились от удовольствия ее зеленые глаза и как мелко вздрагивали ее длинные ресницы. Только слышала ли она этого барона Рени? Не запечатаны ли ее глаза уши и здравый смысл? И сидя напротив «каталонца», где она была в своих грезах и мечтаниях?
О, эта селянка часто в них пребывала. Впрочем, как и сейчас, когда рыцарь Мунтанери говорит с ней.
– А вот эта вершина слева называется волчьей горой. В ее подножии когда-то располагался храм посвященный богу Аполлону. Был такой бог… Давно… Еще до Христа… Еще до бога… – чувствуя, что запутывается в словах и в понимании, рыцарь водрузил снятый перед Гретой теплый берет опять на голову и уже тверже продолжил: – Я был на развалинах этого храма с отцом. Давно, еще мальчишкой…
Джованни Санудо остановился у повозки и внимательно посмотрел на сына своего покойного друга. Высокий, крепкого сложения, с черными длинными кудрями волос, с тонким, несколько продолговатым носом и огромными черными глазами Рени был более чем похож на своего отца. Ну просто вылитый Рамон Мунтанери в свои двадцать лет!
Вот только… Рамон не стал бы так угодничать даже перед византийской принцессой. А это всего лишь селянка, для которой даже изнасилование таким рыцарем, как Рени Мунтанери, огромная честь. Знал бы этот Рени, кто такая его «милая Грета». Но он не узнает. Во всяком случае, до тех пор, пока Джованни Санудо среди «чужих людей», и о нем заботятся как об… отце Греты! Так оно получается, как не крути и не выкручивай! Все-таки девчонка оказалась самой полезной из «подарков» Господа, принесенными водами Венеции.
– Прости, Рени, что вторгаюсь в вашу беседу (при слове «беседа» Джованни Санудо широко улыбнулся), но посмотри вон туда. Тебе не кажется, что это два корабля пристают к берегу?
Герцог наксосский присмотрелся к тем черным точкам, на которые рукой указывал рыцарь, названный братом короля Райнольдом.
– Это кажется безумием. Ведь только безумцы решаться плавать по зимнему морю. Кажется, у этих людей есть весьма весомая причина испытывать судьбу, – закончил низкорослый рыцарь.
– Ты прав, Райнольд. И сдается мне… Этой причиной являемся мы. Нас преследуют!
– Дай бог, чтобы это не были воины короля Душана, – тяжело вздохнул великий герцог.
– Кто бы это ни был, нам от этого не легче, – резонно заметил барон Мунтанери. – В путь! И помни, друг Райнольд, о нашем уговоре!
Теперь тряска на дороге увеличилась с той скоростью, на которую были способны две крепкие лошади, запряженные в повозку. Но через час лошади стали сдавать. Уже не помогали громкие крики и сильные удары кнута, которых не жалел возница. Животные перешли на быстрый шаг, который вскоре грозился стать обычным.
– Живее! Живее! – торопил людей и выдохшихся лошадей встревоженный Рени Мунтанери.
Но крики и участившиеся удары по крупам животных не способны были спасти от преследования тяжелую повозку.
– Ты видишь их? – громко спросил Райнольд.
– Вижу. У них свежие и очень сильные кони. Через час или чуть больше, они настигнут нас. Готовьтесь к бою, – велел барон Мунтанери.
Повозка ненадолго остановилась. Из нее люди барона быстро вытащили оружие и нагрудники для рыцарей и себя.
– Дай мне! – властно потребовал Джованни Санудо и вырвал из руки молодого слуги тяжелый меч и, попробовав его в руке, воскликнул: – Эта железка по мне!
– Полезайте в повозку, ваша светлость. Вам нельзя рисковать. Вы нужны вашим… Нам… Ваша жизнь очень важна для нас с…
Молодой барон не договорил и тут же стал наставлять свое немногочисленное войско. Но эти, быстро сказанные слова, кольнули в сердце Джованни Санудо. На какое-то мгновенье герцог наксосский вдруг почувствовал себя… отцом, о котором заботится сын! Он встряхнул головой. Нет, заботятся не о нем, а об этой простушке Грете! И все же о нем, как об отце Греты. Нелепость какая. Какая злая улыбка судьбы! Но все же в сердце стало чуть теплее. Но эта нахлынувшая теплота почти сразу уступила горечи – у него нет, и никогда не будет сына, заслоняющего отца от смертельной опасности.
Но у Джованни Санудо в руке есть меч! Он дорого отдаст свою жизнь. Ведь Джованни Санудо не только великий герцог, он великий воин, которого уважали даже тевтонские рыцари. А их уважения добиться чрезвычайно трудно!
* * *
– Все! Нам всем не уйти. Райнольд, помни о нашем уговоре. Во что бы то ни стало спаси герцога и его дочерей. Поцелуй за меня моего крестника. У тебя славный сынишка, мой друг. Вырасти из него достойного рыцаря. Становись!
Рени Мунтанери круто осадил коня и развернул его в сторону преследователей. По обе стороны от него стали четверо вооруженных конных слуг. Прикрывшись щитами и выставив копья, эта смелая пятерка двинула ослабевших лошадей на мчащихся во весь опор два десятка всадников.
– Гони, гони! – заревел на возницу рыцарь Райнольд, не отрывая взгляда от своего друга. Повозка тяжело тронулась и, отчаянно скрипя, стала набирать ход.
Ничуть не замедлив погони, преследователи выпустили стрелы. Пернатые вестники смерти со злобным свистом пролетели полсотню шагов, и каждая вторая из них нашла свою цель.
– Турки, проклятые турки! – воскликнул Джованни Санудо, вырывая из кожаной занавеси на задней части повозки длинную и тяжелую стрелу с зазубренным наконечником.
Бегло осмотрев стрелу и вглядевшись в уже приблизившихся всадников, герцог наксосский уверенно кивнул головой. И по оружию, и по одежде он признал ненавистных ему врагов. Да, это не были воины короля Стефана Душана. Эти были гораздо страшнее и более умелые всадники. Их стрелы достигли не только повозки, они сбросили с коней троих из храброй пятерки, рванувшейся в бой.
– Рени! – оглушая правое ухо герцога, раздался крик Греты. – Рени, я иду к тебе! Я спасу тебя!
И прежде чем оглушенный Джованни Санудо успел протянуть к девушке руки, она спрыгнула с повозки.
– Кэтрин! Мешок Гудо!
Не успел великий герцог запретить, мешок с ценнейшими инструментами и многими тайнами «господина в синих одеждах» мелькнул мимо него и оказался в руках обезумевшей девчонки. И Грета тут же побежала туда, где силился подняться с земли пронзенный двумя стрелами рыцарь Рени Мунтенери.
– Грета! Доченька! – прижав младенца к груди, попыталась выбраться из повозки кормилица.
– Куда? Назад! – закричал Джованни Санудо и, приложив значительные усилия, усадил на дно повозки рыдающую мать.
– Я помогу ей!
Пока руки великого герцога были заняты упрямой женщиной, вторая девушка проскользнула мимо Джованни Санудо и легко спрыгнула с набирающей ход повозки.
– Безумные! Вы куда? Назад! Назад! – во все горло заорал герцог наксосский.
На этот крик отозвался криком и зашелся в плаче необычайно спокойный младенец. Заливаясь слезами, мать прижала дитя к своей груди.
Что-то опять кольнуло в сердце Джованни Санудо. Он должен был радоваться тому, что облегченная повозка будет двигаться быстрее. Значит, должен был появиться маленький шанс спасти свою жизнь. Но эта боль в сердце породила другую мысль – Джованни Санудо терял! Что-то терял! Что-то, может и не очень важное и нужное, но свое! А он и так многое потерял за последние полгода. Так много, что остался один среди чужих людей. Но и этих чужих (а может быть, все же и нет!) он также лишался.
Вот тебе и «подарки» Господни! Потеряв здравый смысл, двое из них бегут навстречу опасности, а возможно, и смерти. «Бог дал – Бог взял»! И это верно. Вот только Джованни Санудо не желает смириться с очевидным. И он загораживает путь к безумству своим последним «подаркам» – женщине и ее ущербному младенцу. Загораживает своим большим телом, способным защитить то малое, что у него осталось.
Им нужна защита. Четверо турок, обойдя тех из пятерки, кто еще оставался в седле, уже приблизились к повозке. Один из них даже отбросил кожаный полог и тут же слетел с седла от сильного удара меча герцога. Не ожидавший столь активного сопротивления, второй турок, увидев опасность, попытался придержать коня. Но разгоряченное животное не почувствовало на краях губ боли от удил и продолжало бежать вплотную к задней части повозки. Джованни Санудо, как копейщик, ткнул мечом в грудь этого турка, и он в предсмертном крике перекатился через круп скакуна.
В передке повозки также раздался крик. Сраженный возница отлетел далеко в сторону. Теперь его место занял соскочивший с коня на скамью рыцарь Райнольд. Одной рукой он погонял вожжами, а второй с мечом отбивался от скачущих с двух сторон турок. Это было невероятно сложно. Приходилось только гадать, сколько времени понадобиться опытным всадникам, чтобы достать копьями отчаянного возничего в рыцарском достоинстве.
Но тут что-то произошло. То, чего не мог увидеть из повозки Санудо Джованни. Но турки вдруг остановились. Мало того! Они повернули коней и помчались к своим, что-то громко крича и размахивая копьями.
«Спасен! Спасен!» – возликовал Джованни Санудо.
Он действительно был спасен. Добив тех, кто еще оставался в седле из слуг барона Мунтанери, турки спешно поворачивали коней к своим кораблям. С пригорка, на который теперь вползала повозка, это хорошо было видно Джованни Санудо. Видел и того турка, что кричал возвращающимся от повозки воинам и указывал окровавленным мечом на разбегающихся в стороны девушек. Воины его поняли и направили своих коней к своей живой добыче.
Они спешили, очень спешили. Ведь теперь погоня была за ними!
Мимо выглядывающего из повозки Джованни Санудо пролетели на свежих лошадях с десяток закованных в броню воинов. Держа копья на перевес они молча, со знанием дела, выстраивались в конную атаку.
– Коня! Коня! – громко потребовал герцог наксосский.
Он видел, как возвращающийся турок настиг, подхватил и положил перед собой на коня кричащую Кэтрин. Видел, как второй всадник настиг Грету. Но та вовремя присела и заставила турка потоптаться конем на месте. Но опытный в разбое всадник все же схватил девушку за волосы. Схватил и едва не выпал из седла! Он едва удержался, испуганно поглядывая то на парик Греты в своей руке, то на убегающую девушку. Но вскоре он оправился от удивления и, увидев приближающихся всадников, с париком в вытянутой руке поскакал вслед своим братьям по вере.
– Коня! Коня! – не унимался Джованни Санудо.
На этот крик рядом с остановившейся повозкой остановился и всадник, почему-то в монашеской одежде. Он глянул из-под капюшона на великого герцога и быстро отъехал. Вскоре, останавливая конную атаку, зазвучал боевой рог. Всадники в тяжелых одеждах нехотя стали поворачивать своих коней.
* * *
Джованни Санудо сидел за подобием стола в какой-то хижине и с ненавистью смотрел на двух человек напротив него, которые с удовольствием поглощали вареную телятину. Справа старик в видавшей виды монашеской сутане, слева вызывающий все нарастающий гнев великого герцога деспот Мореи Мануил.
Именно конники Мануила заставили в страхе бежать ненавистных турок. И именно конники деспота Мореи не стали их преследовать, в позоре поспешно сбежав с поля битвы. И не только бежав, но и насильно прихватили с собой всех, кто находился в повозке.
Выпив очередную чашу вина, герцог наксосский не выдержал:
– В Константинополе будут долго смеяться над тем, что гроза турок деспот Мануил не посмел обагрить свой меч кровью язычников.
– Я выполнил свою работу, – усмехнулся Мануил. – Зачем же еще терять своих воинов?
– Какую работу?
– Я доставил герцога наксосского в безопасное место.
– А то, что бросил на растерзания врагам рыцаря Рени Мунтанери? А моих… девиц? Это не рыцарский поступок, – сжал кулаки Джованни Санудо.
– Я сделал то, за что мне заплатили. А мне заплатили за Джованни Санудо – герцога наксосского. Ведь это ты?! Верно? Хотя в этом рубище и с дикарской бородой ты не очень на него похож, – нагло уставился в глаза деспот Мореи Мануил.
– И кто же заплатил за мою жизнь? – наклонился вперед герцог наксосский.
– Святая католическая церковь, – тихо произнес старик в монашеской одежде. – Вы нужны церкви, сын мой.
– Вот как! – воскликнул Джованни Санудо. – И зачем же я так нужен? У меня нет золота, чтобы вернуть хотя бы часть истраченного на мое освобождение.
– Да, истрачено много. Это верно. И на рыцаря Рени с его людьми, и на воинов Мануила. Не говоря о нем самом. Но это было необходимо.
– Так значит барон Рени Мунтанери рисковал жизнью за золото церкви? – разочаровано протянул герцог Наксосский.
– Не только. Он взял немного. Только необходимое. У него были другие мотивы. Думаю вам о них известно. Конечно, мы не стали ему всего рассказывать. Особенно о ваших… мгн… спутницах. Так нужно было для дела. Мы обещали ему вашу благосклонность в его сердечных делах. Пусть и дальше эта… Грета остается для него… Ну, скажем, вашей приемной дочерью.
– И за это церковь мне хорошо заплатит, – скривил губы в усмешке герцог наксосский.
– И за это так же.
– А еще за что? – чуть поостыл Джованни Санудо.
– Вы называли его «господином в синих одеждах», – очень тихо произнес старый священник.
Великий герцог громко икнул и с удивлением уставился на старика.
– Наш папа Климент поручил святой инквизиции найти и доставить в Авиньон этого демона в человеческом обличии. Вот уже более трех лет я, отец Марцио, трибунал святой инквизиции, идем по его следу. Мой путь от города Витинбурга в северной Германии до этой хижины у Коринфского моря был труден и очень долог. Этот безумный демон в синих одеждах метался за своей женщиной и ее дочерью по всей Европе. Они сбежали от палача Гудо. Это я установил при тщательном сыске в горящем Витинбурге. Дьявол отправил своего слугу на их поиски. Он все шел и шел за ними. А за ним шел и шел я и мои люди! Дважды мы чуть не настигли его. Я стар годами, но покой обрету только тогда, когда доставлю этого «господина в синих одеждах» к папскому престолу.
Джованни Санудо выпрямился. Ему захотелось перекреститься и вознести благодарственные слова за щедрый подарок Господу, которому было угодно направить лодку омерзительного людоеда к галере великого герцога. Обстоятельства явно благоволили Джованни Санудо. Он дорого продаст это чудовище и многое попросит от отцов церкви.
– Так значит, если я передам вам этого «господина в синих одеждах», что сейчас прибывает в моей власти, церковь не поскупится на щедрое вознаграждение и выполнит мои некоторые просьбы?
– Разумные просьбы, – уточнил старый инквизитор.
– Верните мне Ареса и Марса. Моих телохранителей, – с ходу выпалил великий герцог. – Их у меня отнял Симион Синиш, брат короля Душана.
– Попытаемся помочь, – покорно склонил голову церковник.
– А еще мне желательно проникнут в тайны производства венецианского стекла. И еще…
Но герцога прервал монах, вошедший в низкую дверь хижины. Он склонился над ухом старика и что-то прошептал.
– Я вскоре вернусь, – старый инквизитор поднялся и быстро вышел.
– Давай выпьем, Мануил, – примирительно предложил Джованни Санудо. – Выпьем за судьбу. Хотя она у каждого своя и порой весьма изменчива, но все же не дает нам скучать.
– Судьба, судьба, – вздохнул деспот Мореи. – Я уже устал ее испытывать. Этой осенью я сидел с горсткой воинов в осаде. А осаждали меня мои же поданные. Эти же поданные теперь мне лижут пяты. Все изменчиво. Угодно ли это господу? И зачем ему так кружить своих рабов?
– Не всех, не всех, – рассмеялся герцог наксосский и до дна осушил вино из глиняной кружки, сокровища этой хижины.
Вскоре вернулся старик-инквизитор.
Едва он уселся на свое место, Джованни Санудо напористо сказал:
– Так вот продолжим. Мы сейчас должны устно договориться, а затем скрепим договор, как положено, на пергаменте с печатью. Надеюсь у вас, святой отец, есть соответствующая и гарантирующая печать?
– Есть, сын мой, – со вздохом ответил отец Марцио. – У меня есть достаточно полномочий на многое, что позволено Господом нашей святой церкви. Даже есть булла папы Климента, подчиняющая мне всех истинных верующих, вплоть до кардиналов. Вот только… У меня два печальных известия.
– Судьба, судьба… – усмехнулся деспот Мануил.
– И что же это за известия? – насторожился герцог наксосский.
– Одно печальнее другого, – и после долгой паузы старик прискорбно сообщил: – Господу было угодно призвать папу Климента в райские сады. Да упокоит Всевышний его смиренную душу…
Присутствующие перекрестились и склонили головы.
– И когда представился папа Климент? – с некоторым огорчением спросил Джованни Санудо.
– Десять дней назад – шестнадцатого декабря. Достойный был отец церкви и мудрый человек!
Молчали долго, пока деспот Мануил не припомнил:
– Отец Марцио, вы говорил о втором известии, как о еще более печальном?
– Верно, – пробормотал Джованни Санудо. – Но что может быть еще печальнее…
Глаза старого инквизитора вдруг блеснули адским огнем:
– Печальнее то, что на вашей галере, прибывшей в Константинополь, «господина в синих одеждах» не оказалось! Он бежал! И где он, теперь одному Господу известно!
– Как так? – застыл от оглушительного удара судьбы герцог наксосский.
– Эх, труды, труды… И еще предстоят труды. И не малые! А сколько золота истрачено впустую. Подумать страшно! И на что? И на кого? – старый инквизитор ледяным взором уставился на Джованни Санудо.
– Так значит, я не получу обратно Ареса и Марса? – В унынии спросил великий герцог. – И ничего не получу?
Отец Марцио поднялся из-за стола.
– Постойте, святой отец! Я вспомнил. Я понял! Я отдам «господина в синих одеждах» в ваши руки. Скоро отдам. Я постараюсь. Я знаю…
– Что ты знаешь, герцог? Что ты постараешься? – ядовито усмехнулся инквизитор.
– Я знаю тот крючок, на который попадется этот демон.
– Говори! – в нетерпении воскликнул инквизитор.
– Скажу. Но в начале именем Господа и святой церкви поклянитесь, что исполните наш уговор.
– Клянусь, клянусь! – поспешно выкрикнул отец Марцио. – Говори!
– И скрепите печатью договор?
– Да, да!
– Но ведь у вас печать умершего папы!
Старый инквизитор с поспешностью достал из широкого рукава сутаны печать и пергаментный свиток, с которого свисала золотая печать на красной шелковой ленте:
– Это прибыло вместе с печальной новостью. Печать и булла нового папы римского – папы Иннокентия Шестого…
– Если так… Женщина… о которой вы говорили. За которой этот демон гонялся по всей Европе… Я думаю, это она. Я уверен. Он ее нашел. У нее был мешок с инструментами этого людоеда. Она его называла «наш Гудо!» Эта женщина при мне. Здесь в повозке. И с дитем, возможно, от этого демона!
– Старый я глупец! Как же я это упустил! Старость, старость… Ты привез их с собой из Венеции! – воскликнул отец Марцио и схватился за голову. – Это надежный крючок. Нужно только, чтобы он узнал о своей женщине. И тогда он сам к нам явится! Благодарю тебя, Господи! Благодарю!
– Так что, напишем договор и скрепим его? – радостно улыбаясь, спросил герцог Наксосский.
– Да! И еще раз да! – воскликнул радостно старик. – Эй, там! Пришлите отца Ронима. Он все в точности запишет. Все! Все!
Джованни Санудо в отличном расположении духа налил вина, выпил и еще раз налил. Но эту кружку вина он не успел поднести к губам.
– Вы звали меня, отец Марцио? – спросил вошедший молодой священник с глубоко надвинутым на лицо капюшоном.
– Ты нам нужен, отец Роним. Мне и… герцогу. Особенно герцогу!
Молодой священник сбросил с головы капюшон и дерзко посмотрел в лицо герцога наксосского.
– Ты? Ты! – кружка выпала из ослабевшей руки Джованни Санудо.
– Меня трудно узнать из-за этих шрамов. Но ты меня мгновенно узнал. А как не узнать собственного лекаря? Я был лекарем Юлианом Корнелиусом, а стал отцом Ронимом.
– Что? Опять поворот судьбы? – издевательски спросил деспот Мануил, наблюдая, как побелело лицо герцога наксосского.
«Они знают все… И о моем уродстве также. Судьба, судьба… Теперь я полностью в руках инквизиции…» – обреченно решил Джованни Санудо и тяжело опустил голову на стол.
Глава тринадцатая
В тесном шатре Орхан-бея присутствовали только нужные для решения важных вопросов люди. Только те, кто мог дать полезный совет и в силу своей власти и мудрости обратить внимание владыки османов, прозванного Непобедимым, на то, что ускользнуло от его недремлющего ока.
Небольшой открытый очаг и несколько масленых светильников у входа едва вырывали из темени лица хорошо знакомых бею, советников. Они же нагревали маленький шатер так, что у присутствующих пот струился по бритым щекам и подбородкам.
Орхан-бей провел рукой по длинной седой бороде и встряхнул головой. Нужно было вникать в каждое слово, сказанное старшим братом, великим визирем Алаеддином – человеком небывалой мудрости, с величайшим опытом, как в государственных, так и в военных делах.
– Посмотри брат на эти карты.
Орхан-бей с неохотой склонил голову к большим кускам пергамента, разостланным на войлочном полу шатра.
– На этой арабской карте начертаны земли вокруг Константинополя. Византия, Болгария, сербские земли, северные татарские владения, острова. Вот пролив, отделяющий нас от Европы. А эта точка – город Цимпа, что так счастливо достался нам трудами твоего сына Сулеймана-паши и славного воина Эврена. Теперь мы одной ногой на землях неверных. Значит нужно готовиться к великим походам. А на этой карте… Это христианская карта. Смешная карта. Видишь, христиане указали священный город Иерусалим как центр земли, а вверху него поместили Восток! Но это не важно. Важно, что на карте достаточно подробно вычерчены христианские страны. Если сопоставить эти две карты, то…
Орхан-бей кивнул головой и отклонился. Он почти не слушал великого визиря. Его мучила головная боль, доставшаяся ему еще в молодости, при взятии византийского города Бруса в Анатолии[156]. Тяжелые и славные были времена. Десять лет Орхан, по велению отца, бея Османа, осаждал такой нужный для пришедших из глубин востока воинов турецкого племени кайы город. Именно этот город, по замыслу отца, должен был стать главным городом его воинов, еще при жизни самого бея прозвавшихся османами в честь своего великого вождя.
Тогда османов была всего лишь горстка. Они были потомками тех, кто, спасаясь от нашествия татар, униженно просили службы у хорезмшаха Джалал эд-Дина. От такой пришлось откочевать во владения румского султана Кай-Кубады, который пожаловал земли на границе с Византией. На этой границе и родилась и расширилась слава о великих воинах османах, дни и ночи сражающихся с врагами веры. Испить этой славы, а заодно и крови неверных прибыли из многих стран Востока гази[157] – воины, ставшие на путь джихада – священной войны с неверными.
Опираясь на своих могучих воинов и постоянно подпитываясь добровольцами газиями, Орхан создал большую и весьма боеспособную армию, теперь вселяющую ужас восточным землям Европы. После его конников остаются только пепел и мертвые тела. Но этого не достаточно. Нужно укреплять государство и веру, без которых армия может разбиться на шайки разбойников. А государству нужна столица. Вот о чем думал отец Орхана. Вот над чем печется сам Орхан-бей. Вот над чем трудиться в день и в ночи его старший брат – великий визирь Алаеддин.
Сейчас брат говорит о том, что для большого похода необходимо огромное количество проса, полбы, пшеницы, вяленого мяса, соленой рыбы, а также множество лошадей, ослов, верблюдов и быков. Все это нужно. А еще более нужна соль, без которой не запастись впрок пищей. Вот только где ее взять, столь важную для войны соль? Она настолько дорога, что во многих странах куски соли принимаются в уплату как серебро и золото.
Печалится над этим великий визирь. Но Орхан-бей уверен, брат найдет выход из этой проблемы, как и из множества других, что будут вставать день за днем перед все возрастающей мощью турок-османов. Ведь нашел же он строителей мастеров и золото для уплаты им. И теперь небывалыми темпами растет и украшается столица османов Бурса, некогда византийский город Бруса.
Только для Орхана и большинства его воинов столица там, где черный шатер их бея. Тесный шатер, но такой любимый Орханом. Вот уже десять лет прошло, как подарили это жилище бею гази, прибывшие на войну из далеких пустынь. Там женщины этих бедуин изготовили шатер из шерсти черных коз. Грубый и мрачный шатер не сразу полюбился Орхан-бею. Но прохладный в жару, теплый в стужу и не пропускающий сквозь свои полотняные стены даже ливень, он по достоинству был оценен беем. Оценен и принят сердцем и телом.
И зачем людям каменные дома, когда есть столь удобное жилище, которое можно очень быстро сложить и вместе с ним отправиться на войну? Но Алаеддин строит красивые каменные дома, а еще более красивые мечети и медресе, в которых будут учиться истинной вере юноши из Персии и Аравии.
Вот только правильно ли это? Там, где черный шатер Орхана, – там и столица османов. Сейчас шатер у берегов морского пролива. Отсюда в ясную погоду хорошо виден европейский берег. Здесь будет накапливаться и готовиться войско. Конные перестроения, стрельба из лука, удар копьем – вот достойная наука. Это не медресе, где ученики весь день в голос повторяют за учителем слова священного Корана. Это тоже нужно. Но нужно ли этому учить много лет юношу, чтобы он пал в первом же бою? Все должно быть проще. Как у предков османов. Или у тех, кто когда-то создавал великие империи.
Как оно было у древних персов! Юношу учили трем наукам: ездить на лошади, стрелять из лука и всегда говорить правду. И эти науки распростерли границы Персии на двести дней караванного пути!
Да и сейчас важно придерживать свои желания и отказываться от развращенности и роскоши, от тех страстей, в которых погрязли не только византийцы, но и некоторые правители турецких бейликов[158].
Орхан-бей посмотрел в дальний от него край шатра.
Ее не было видно, но он точно знал – она там, где ее после каждого переезда кладет бей османов. Она – это боевая дубина, которую вручил айдынскому эмиру шейх из суфийского братства дервишей. Тогда эмир возложил дубину себе на голову и громко выкрикнул: «Этой дубиной я сначала обуздаю свои страсти, а потом убью всех врагов веры!»
Только правильные слова не помогли горячему эмиру Айдына. Его дубина, его земли, как и земли бейлика Ментеше и Карасы уже под властью Орхана. Беи этих земель оказались слабы, как те персы, которые накануне похода на них Великого Александра потребовали вместо привычной пищи жидкий суп и копченые языки певчих соловьев.
В изнеженности – слабость! В расслабленности – поражение! В успокоении – смерть!
Да! Нужно собрать все силы и выбросить из головы проклятую боль. Нужно не пропустить ни единого слова мудрого брата, которому Аллах дал больше, чем самому Орхану, и который должен был стать беем. Но не стал. Случившееся с ним семейное горе на время лишило его рассудка. А после, когда он оправился, Алаеддин оставил меч и нашел себя в науках и в слове божьем, отказавшись от престола в пользу младшего Орхана. Отец был даже рад такому решению старшего сына. Ведь старому бею по душе был именно воинский пыл и умение младшего – Орхана. А взятие Брусы окончательно закрепило за Орханом место великого бея Османа.
Так о чем там говорит старший брат – великий визирь Алаеддин?
* * *
– Это, без сомнения, великая милость Аллаха, который дал испытание нашему верному другу и брату по вере достойному Хаджи Гази Эвреносу!
– Великий визирь, прошу милости, как и прежде, называть меня Эвреном.
Скромность, достойная великих предков. Хотя этот Эврен родом из бейлика Карасы, но его нужно принять и возвеличить. Из него выйдет славный воитель. И храбр, и умен, и ловок. Уже месяц, как воины Орхан-бея восторгаются его выдумке, благодаря которой византийская крепость Цимпе во власти османов. Этому Эврену можно было бы доверить власть в бейлике Карасы, но она уже передана сыну Сулейману. Нужно будет дать Эврену большой отряд в предстоящем походе и испытать его как военачальника. До пленения, говорят, он с этим хорошо справлялся. Но со своими воинами. Сейчас он здесь как уши и голос воинов Карасы.
А сейчас нужно немного отвлечься. Пусть Эврен и развлечет:
– Эврен!
– Да, мой повелитель.
– Я не слышал твоего рассказа.
– С готовностью и удовольствием для ваших ушей повторю его.
– Прости, брат Алаеддин. Немного прервемся.
– С готовностью. Мне и самому нужно прерваться, чтобы подготовить последние советы, – мягко ответил мудрый великий визирь.
Присутствующие с удовольствием повернули головы, к сидящему чуть далее от очага, человеку, к которому так милостив был Аллах.
Эврен приложил руку к сердцу и начал свой рассказ:
– В начале позапрошлого лета корабль с моими воинами из Бергама[159] отправился на поиски христианских купцов. Поход был удачный. Мы взяли хороший груз шелковых тканей, пряностей, пшеницы, золота и серебра. Корабль отяжелел, и я уже решил возвращаться. Но тут… Как не упомянуть волю Всевышнего! Аллах направил мои глаза на купеческую нефу, что своим тяжелым от груза округлым корпусом едва двигалась по волнам. Заметив нас, христиане стали плакать и молиться своему богу, а я поблагодарил Аллаха.
Не предвиделось ничего сложного. Несколько стрел, громкий крик, быстрый абордаж. Обычно купцы не сопротивлялись. Ведь мусульмане не проливают кровь тех, кто сдался на их милость. А известный во всех морях мой флаг говорил о том, что я часто отпускаю команды кораблей, беря на свой борт только богатых пленников и груз. Так что если ставал вопрос о жизни или о кошеле с золотом, купцы выбирали первое.
Но… Уже в венецианской тюрьме я узнал, что сенат этого города принял особое постановление, предписывающее под угрозой ареста нарушителей и их имущества защищаться всей командой, кроме клириков и пилигримов. Так что едва я с несколькими воинами ступил на борт «купца», на нас бросилась вся команда. Мне приставили нож к горлу и заставили моих воинов отказаться от боя и преследования.
Так я оказался в проклятой венецианской тюрьме. Там я испытал голод, жажду и унижения, так как наотрез отказался заплатить выкуп. Я знал, что мои воины не пожалеют последней монетки, чтобы освободить меня, но моя гордость не позволила просить их об этом. А теперь я уже понимаю – на то была воля Аллаха!
Спустя месяц я уже греб тяжеленным веслом как сарацин невольник. Меня несколько раз перекупали, затеряв мое высокородное имя, пока я не оказался на банке галеры герцога наксосского Джованни Санудо. Здесь я в полной мере осознал, что значит быть рабом и работать до седьмого пота. Здесь же я увидел человека в странных синих одеждах, чью утыканную стрелами лодку герцог подобрал в венецианской лагуне весной ушедшего года.
Странный во многом был этот человек в синих одеждах. Страшен лицом как шайтан, свирепый до такой жестокости, что откусил ухо у младенца. Галерники прозвали его людоедом. Такое чудовище нельзя было держать возле людей. Наверное, поэтому герцог велел усадить его в крепости Пароса в особую одиночную темницу.
Но произошло то, что было угодно Аллаху. Едва нас пленников погнали по улицам Пароса, на мои плечи Аллах набросил огромный синий плащ людоеда. Тогда я подумал, что эта одежда уже не понадобиться тому, кого герцог решил подвергнуть жуткой казни. Так почему мне не воспользоваться подарком небес. Тем более что приближалась зима. И я не отказался. И вот тут произошла первая неожиданность. Меня схватили и вместо этого людоеда посадили в каменный мешок, где было единственное крошечное окошко под потолком. Так что солнечный свет я видел всего несколько часов в день.
От такого удара судьбы я немного опечалился, так что почти не поднимался с каменного пола. Подо мной был плащ. Им же я и укрывался. От него мне было тепло, но все время я чувствовал неудобство. Я ощупал пол. Камни были ровные, но мне невозможно было заснуть от того что что-то давило спину и бока. Тогда я ощупал плащ. Каждую ниточку. И что?
– И что? – не удержался охочий не только до наук, но и до рассказов очевидцев визирь Алаеддин.
– Это вторая неожиданность! Я нащупал несколько хитро вшитых тайников, в которых оказались… – выдержав долгую паузу, Эврен рассмеялся. – Золотые монеты! Настоящие золотые дукаты и флорины! Они и подружили меня с тюремщиками. Те, зная о том, что их узник людоед, даже не пытались войти в узницу. Но они охотно приняли через маленькое окошечко в двери маленькую золотую монетку. С того дня мое заключение стало намного радостнее и веселее. Мне приносили хорошую еду и даже приводили женщин! Воистину – золото способно порой творит истинные чудеса! Я даже подумывал о побеге и даже кое-что предпринял. Но…
Позволит мне владыка немного кумыса? От долгого рассказа у меня пересохло в горле.
«Он просит напиток предков. Славный молодой человек. Из него выйдет знатный военачальник. Я дам ему большой отряд. А сейчас можно выпить немного вина. Аллах простит. Ведь он наделил человека разумом, чтобы различать полезное и вредное. Немного вина удалит жажду и не опьянит. Как там сказано в Коране… «Они спрашивают тебя о вине и майсире[160]. Скажи: «В этом великий грех и некоторая польза для людей…» Одна чаша это не грех для воина» – решил Орхан, и хлопнул в ладоши.
– По чаше вина всем. А Эврену две, – велел с улыбкой бей. Его головная боль стала притупляться.
Выпив вторую чашу, Эврен продолжил:
– Доверившись страже, что боялась меня как людоеда и колдуна, из воздуха достающего золото, я уже готов был бежать, но за несколько дней до освобождения меня привели на ненавистную галеру герцога. Это нужно было видеть и слышать, какой поднялся крик, когда вместо человека со звериным лицом перед капитаном Пьетро Ипато предстал я. Вначале избили моих стражников. Но те своим богом клялись, что доставили именно того, кого бросили в их узницу. Затем вспомнили козни дьявола, заменившего своего слугу на презренного сарацина. Потом обыскали всю крепость, город и пещеры, но человек в «синих одеждах» бесследно исчез!
Чтобы как-то оправдаться перед герцогом, меня приковали к кормовой лестнице. Наверное, все еще надеялись, что дьявол снимет с меня чары и пред герцогом все же предстанет его «человек в синих одеждах». Но время шло, а я оставался тем, кто есть.
Наступала зима, и на водах уже редко можно было увидеть корабли глупых капитанов и ненасытившихся пиратов. Зато я увидел берега моей родины. Они были так близки, что мое сердце сжалось от тоски. И я запел от этой боли. Мы стояли в вечерний час, готовясь к ночлегу. Никто не приблизился ко мне и не прервал моей песни. Мои мучители даже заслушались, ведь мой голос отличается красотой и утонченностью. А еще он очень громкий. И его услышали, по воле Аллаха, с маленькой рыбачьей лодки. Через несколько часов, уже в темноте, с факелами, от берега к галере поспешило несколько лодок. Они приблизились настолько, чтобы только четче услышать мое пение. И я понял! Те, кто в лодке – воины, поверившие рыбаку, рассказавшему, что необычный голос принадлежит Эврену, часто исполнявшего песни на родине при стечение многих людей.
На следующий день галера стала вблизи Цимпе. На ее борт поднялся правитель города и рассказал о беде, потрясшей его жителей. Он слезно просил помощи и предлагал огромные деньги. Золото смягчило сердце капитана Пьетро Ипато, и он согласился. Множество гребцов, кроме мусульман, которым я подал знак не повиноваться, а также половина воинов отправились в город. Я понял, что теперь легко захватить галеру. Я опять стал петь. Только теперь вместо привычных слов, я рассказал моим воинам, что были невдалеке в лодке о своем плане.
Меня поняли, и уже через несколько часов из высоких волн пролива вынырнули три корабля с воинами Карасы. С ними был и ваш сын Сулейман с немногими османами. Опасаясь неразумности христиан, Сулейман предложил отдать меня и всех мусульман взамен жизни и имущества тех, кто находился на галере герцога. Капитан Ипато проявил разум и избежал боя и смерти. Правоверные, вместе со мной, перебрались на корабли братьев по вере, а галера христиан, пользуясь попутным ветром, отправилась на север в Константинополь, бросив своих бесчинствующих гребцов и воинов в городе.
Обнявшись на радостях с Сулейман-пашой, я поблагодарил его и Аллаха за счастливое освобождение, а потом предложил ему ступить на пристань порта Цимпе. Я сказал ему тогда: «На этих прогнивших досках у меня будет для тебя ценнейший подарок». Так меня надоумил Аллах, так мы и сделали.
И о чудо! Едва мы ступили на византийскую землю, к нам бросились многие из жителей Цимпе и пав на колени, в слезах, просили взять под защиту воинов ислама свой истерзанный смертями, разбоем и насилием город.
Я сказал: «Брат мой Сулейман, Аллаху было угодно передать мне и моим воинам город христиан. А я дарю его тебе, как знак дружбы и покорности воинов Карасы могучему бею непобедимых осман!» И Сулейман-паша милостиво принял мой подарок.
Очень скоро наши воины захватили город. Уже через час они (это кажется смешно, но это правда!) перелезли через стены цитадели Цимпе по огромной куче навоза, сваленной у одной из ее стены. И вот город, крепость и множество разбойников, разорявших свой же христианский город, в наших руках. А еще множество счастливых жителей, с ликованием приветствовавших своих избавителей. К ним прибавились еще три тысячи правоверных – воинов, их женщин и детей из бейлика Карасы, которые тут же выполнили повеление, данное мной, известным на всем побережье высокородным защитником ислама, и вашим, великий бей, наместником Сулейманом.
Вот так город Цимпе и ее крепость стали частью владений грозных осман. Вот так на земле Европы появился мусульманский город.
Эврен счастливо улыбнулся. На его больших крепких зубах кровью блеснули язычки открытого очага.
– Но это не все, мой повелитель!
– Говори, Эврен, – милостиво кивнул головой бей осман.
– Аллаху было угодно в тот же день даровать мне третью неожиданность.
– Какую же? – подался чуть вперед Орхан.
– Человека в синих одеждах!
– Вот как?! – изумился бей грозных османов.
– Аллаху было угодно, чтобы я спас жизнь этому человеку. Ведь справедливости ради нужно сказать, что это его огромный плащ способствовал тем событиям, что даровали мусульманам христианский город. Это чудная вещь, как будто явилась из сказок «Тысячи и одной ночи»!
– Верно. Но нужно не забывать: на все воля Аллаха! – заметил великий визирь.
– И что угрожало человеку, чья вещь способствовала этому божественному чуду? – спросил Орхан-бей.
– Ваш сын Сулейман-паша приказал отрубить человеку с лицом шайтана его чудовищную голову…
– Это верно отец, – подал свой голос сидящий справа от отца Сулейман. – Этот шайтан не повиновался моему слову, прекращавшему убийства, и повесил через спину верблюда одного из христиан.
– Через спину верблюда? – удивился бей. – Я слышал о такой казни. Ее иногда совершают в пустынях бедуины. Странно, что христианин знает о такой казни.
– Позволит ли мне сказать слово великий бей?
Орхан не повернул головы. Он знал – за его спиной привычно, на тонкой подушке, покрытой красным шелком, сидит Даут. Попавший в плен, принявший ислам и имя Даут, тайный слуга византийского императора Иоанна Кантакузина, он и при бее османов занимался тайными делами. И занимался так умно и удачно, что вскоре занял главную ступень на этой весьма шаткой лестнице.
– Говори, – велел бей.
– Этот человек в синих одеждах искусный палач и врачеватель. Так говорят о нем те, кто знает его уже давно, как некий Мартин, и недавно, как юноша Франческо и вор по прозвищу Весельчак. Меня также, как и вас, заинтересовала казнь устроенная этим «господином в синих одеждах», его внешность и чудовищная сила.
– Любопытно было бы на него взглянуть. А так же на его плащ, – усмехнулся Орхан-бей.
– Он здесь. При лошадях Сулейман-паши, – рассмеялся Эврен. – Теперь на лошадей вашего сына даже смотреть боятся! Не приведи Аллах узреть ответный взгляд этого шайтана!
– Приведите. Хочу на себе испытать взгляд шайтана, – все еще улыбаясь, велел бей османов.
* * *
– Отбрось свою головную накидку и посмотри на меня, – строго велел по-франски бей Орхан. – Да… Верно… Шайтан… Настоящий шайтан. Даже голова вновь разболелась. Я думаю такому чудовищу место не у благородных лошадей. Его место… Даут! Так ты говоришь – он палач?
– Искусный палач и целитель, – тут же усердно поклонился начальник тайной службы.
– Сулейман, отдай его Дауту. Там ему место.
– Твое слово закон, отец, – приложив руку к сердцу, учтиво ответил сын.
– И пошейте ему новые одежды. У меня даже рабы не носят рубище. И пусть одежды будут…. Синего цвета. Ступайте все. Я хочу поговорить с главным визирем.
Вернувшись в шатер, бей османов скривился. От взгляда этого чудовища у него опять разболелась голова.
– Хорошо, что у него нет зубов, – тихо простонал Орхан-бей.
Но этот стон был услышан великим визирем:
– О каких зубах говорит мой брат?
– О тех зубах, которыми христиане рвали вареное в котлах и изжаренное мясо правоверных. Напомни мне, мой ученый брат, где это и когда было?
– Во время их первого крестового похода на Иерусалим. Я читал тебе об этом из книги Амина Маалуфа. Но позже мне попались в руки «Деяния Танкреда», в которых христианский летописец Рауль Канский указывает: «В Маре наши воины варили взрослых язычников в котлах, детей насаживали на колья и пожирали их уже поджаренными».
– Да, да… Это было в Мааре…. А в Иерусалиме?..
– На память приходит письмо одного из христиан, участвовавшего во взятии Иерусалима. Раймонд Ажильский. Да! Это его имя. Он писал: «… Тут ты увидел бы поразительное зрелище… На улицах и площадях города можно было видеть кучи голов, рук и ног. Если поведаем правду – превзойдем всякую вероятность. Достаточно сказать, что в Храме Соломоновом и в его портике передвигались на конях в крови, доходившим до колен всадникам и до уздечки коня… Драгоценным зрелищем было видеть благочестие пилигримов перед Гробом Господним и как они рукоплескали, ликуя и распевая новый гимн Богу».
– У тебя замечательная память, брат!
– Такое трудно забыть, – грустно ответил Алаеддин.
– Вот почему мой меч всегда в крови. А дикарям христианам мало лишать зубов. Им нужно сносить головы. Эти дети шайтана и беззубые жаждут плоти правоверных. Аллах даст нам силу и мужество прийти в их темные леса и уничтожить нелюдей, что питаются человеческим мясом и купаются в крови. К моей печали я уже стар и не доживу до того дня, когда наши всадники принесут на кончиках своих копий просвещение и культуру темным народам Европы. Но мой сын… Он дойдет до Атлантического океана!
– Да! Сулейман достойный наследник славы османских беев! Быть ему султаном османского султаната[161]!
– Османской империи! Вот только… Не Сулейману… А…
– Кому же? – удивился великий визирь.
– Мураду! – воскликнул бей грозных осман.
– Мураду? – не поверил своим ушам Алаеддин. – Прости меня, мой брат, но…
– Знаю, что ты хочешь сказать. Мурад вспыльчив и не всегда прислушивается к голосу разума. Даже меня осмеливается ослушаться.
– А это безумное плавание в зимнем море! И ради чего? Какой-то девчонки!
– Эта дерзость его характера, характера, который всегда настаивает на своем. Характера, который всегда добивается того, чего желает. Если он пожелает завоевать Европу, он ее завоюет. А что касается девчонки… Дело не только в ней. Мурада оскорбили, не дав возможность преподнести подарок той, кого он выбрал. Подарок победителя, хотя и христианского, но воинского турнира. Он отомстил, похитив эту девицу. Он добился того, что наказал человека унизившего его, и возможно, организовавшего предательское нападение на посла бея османов! Мурад доведет месть до конца! Его никто и ничто не остановит. Таким и должен быть султан великих османов!
* * *
Шатер Даута был вчетверо большим, чем черная «столица» османского бея. Сюда беспрерывно входили и выходили люди разного сословия и ремесла. Больше всего было тех, кто не выделялся ни одеждой, ни оружием. Они склонялись над ухом восседающего на красной подушке Даута, быстро что-то шептали и еще быстрее уходили.
Начальник тайной службы бея осман только кивал головой и указывал шептунам на различные занавеси, что делили шатер на множество маленьких комнат. Там сидели писцы и те, кто должен был быть осведомлен о новостях – тайных и доступных.
По левую сторону от Даута, вот уже несколько недель, на войлочном полу, окаменев, сидел странный человек в новых одеждах франкского покроя и странного для Востока синего цвета. Синее чудовище, с торчащими из разорванного рта клыками и с черной пустотой между ними. А еще уродливый длинный нос и глаза, что пугали даже храбрых воинов. Синий пес из глубин ада, в первый же день прозванный служивыми и гостями Даута «синим шайтаном».
В коротких перерывах от важных государственных дел начальник тайной службы обращался к своему псу с различными словами, но почти всегда получал только молчаливый кивок огромной головы, которая всегда была покрыта огромным синим капюшоном огромного плаща.
– Я и теперь тебе скажу, Гудо, что ты напрасно отказался от золота Эврена. Он же возвращал тебе твое же. Как было не взять? Великий Пифагор сказал бессмертные слова: «Великая наука жить счастливо состоит в том, чтобы жить только в настоящем». С этим золотом ты сейчас жил бы…
– Ты сказал, что это золото не освободит меня.
– Верно, – обрадовался Даут тому, что его «синий пес» соизволил ответить. – Но если к этому золоту приложить то, что ты, как искусный палач, мог бы заработать у щедрых османов…
– Проклятие палача… Проклятие палача… Проклятие палача, – вновь забормотал личный шайтан начальника тайной службы.
Даут вздохнул. Ну и упрямо это чудовище. Так настойчиво отказываться от столь доходного ремесла. Вбил себе в голову, что над ним весит меч, который называется «проклятие палача». А мог бы порадовать бея Орхана своим исключительным даром и мастерством палача. А он без сомнения от бога! Как и искусство лекаря. Об этом можно судить по тому, как легко и правильно вправляет вывернутые конечности и плечи этот Гудо тем, кого пытал палач начальника тайной службы. Это он делает даже с охотой и удовольствием. Но не как врачевателя желает видеть своего «синего шайтана» Даут, а именно как палача, слава о котором достигнет даже небес!
Вот только – «проклятие палача», «проклятие палача» и еще раз «проклятие палача». Ну, ничего пройдет немного времени… Измит что-то придумает. Ведь еще ни разу не было такого, чтобы воспитанник тайной службы византийских императоров не придумал чего-нибудь такого, что позволит добиться нужного для него! Можно было попробовать принудить к службе этого Гудо, но богатый жизненный опыт сорокалетнего Даута подсказывал ему, что такого человека даже увечья не заставят изменить решение.
И все же! Даут погладил рукой свою известную каждому осману византийскую бородку и тихо сказал:
– Мои труды – это «Ab hoedis scindere oves[162]».
– Digitus dei est hic[163]! – о чем-то задумавшись, машинально ответил Гудо.
«О! Мой «синий шайтан» знает ученую латынь. Не удивлюсь если он еще и читает на ней! А это мысль!» – внутренне восторжествовал начальник тайной службы. Чтобы укрепить отвоеванный кусочек этой человеческой битвы, Даут продолжил на латыни:
– Quis? Quid? Ubi? Quibus auxiliis? Cur? Quomodo? Quando[164]? – вот мой ежедневный хлеб!
Но на это встрепенувшийся Гудо ничего не ответил, глубже надвинув на лицо свой синий капюшон.
Но Даут только усмехнулся.
Через несколько дней начальник тайной службы поднялся со своей шелковой подушки и вышел из шатра. Тут же он бегом обежал шатер и, войдя в скрытый проход, затаился за шерстяной стеной, в которой искусно было вделано незаметное окошко из ткани тоньше паутины. Отсюда Дауту было отлично видно, как его подопечный потянулся к тонкой книге, намеренно оставленной знатоком византийских уловок.
Но… К огорчению начальника тайной службы «синий шайтан» лишь раскрыл книгу и тут же положил ее на место.
* * *
Начало лета было необычайно жарким и ветреным. К счастью ветер дул от берега, облегчая работу команд турецких кораблей, что уходили на морской промысел. Уходили гази на врага с привычно суровыми и даже несколько угрюмыми лицами (хотя их воинский дух ликовал, был легок и светел). Уходили крепкие и здоровые, а возвращались, ликуя лицами, но со многими ранами, а то и вовсе при смерти. Изрезанные, порубанные, с переломанными костями и треснутыми черепами правоверные воины душили в себе крики от нестерпимой боли и с улыбкой показывали друзьям и тем, кто должен отплыть навстречу врагу свои гноящиеся раны и, смеясь, вытаскивали из них белых жирных червей. Многие из них умирали, прожив на берегу Азии столько, сколько было угодно Аллаху – не более трех дней.
Черный шатер Орхан-бея стоял на высоком холме, откуда хорошо был виден бывший византийский город Никомедия, а теперь первая и главная верфь и гавань окрепшего османского флота – город Измит. Поглядывая на шатер, тысячи мастеров и ремесленников от восхода до заката рубили, тесали, пилили и строгали лес. Из груды бревен, как по волшебству, за неделю вырастала боевая галера, а через еще одну неделю она уже несла на своем борту суровых лицами добровольцев гази[165] на земли Европы. Десятки кораблей в месяц! И так будет до глубокой осени. А весной работа опять возобновиться, ибо много дикарей живет по ту сторону Дарданелл желающих напиться крови детей Аллаха.
Орхан-бей стоял у входа в свой шатер и никак не мог успокоить мускулы своего лица, строптиво растягивающиеся в улыбке. Еще бы! Теперь под его рукой было двадцатитысячное конное войско, многочисленные отряды пехоты и особая гордость – преданейшая и храбрейшая тысяча, названная братом Алаеддином «йени чери[166]». А добровольцы гази все пребывали и пребывали! И не только из соседних турецких бейликов Анатолии, а из Персии, Египта, Аравии и немыслимо далеких пустынь Африки.
За спиной османского бея, не скрывая счастливых улыбок, стояла семья самого Орхана, богословы, военачальники, советники и некоторые из прославившихся воинов. Именно им салютовали знаменами, бунчуками, боевыми барабанами, трубами и громкими криками отплывающие в поход воины джихада.
– Счастлив Аллах при виде столь доблестного войска мусульман! – не выдержав, воскликнул имам Мустафа.
– Счастливы и сами гази, идя в бой с именем Аллаха на устах, – не удержался сын бея Сулейман.
– Не все вернутся, – глухо промолвил Орхан-бей. – Их смерть во имя Аллаха и веры. Да примет священных воинов Всевышний в свои щедрые райские сады.
– Много раненых, – со вздохом сказал великий визирь. – Не хватает лекарей, мазей, бинтов и инструментов. Многие из воинов и вовсе не допускают к себе лекарей, уповая на то, что Аллах успокоит их святые раны. Приходится заставлять и даже пугать таковых.
– Пугать? – искренне удивился Орхан.
– Да, мой брат, пугать!
– Это как же? Как можно испугать воинов джихада?
Алаеддин несколько замялся, а потом нехотя ответил:
– Ты помнишь, Эврен рассказывал о той милости, что оказал ему Аллах открыв ворота Цимпе?
– Помню.
– Тогда ты помнишь и о человеке в синих одеждах с лицом шайтана?
– И что же? – нахмурился османский бей, припоминая встречу с чудовищем-христианином.
– Наши лекари говорят тем, кто отказывается от их услуг: «Когда вас покинет сознание от боли и потери крови, к вам придет «синий шайтан». От его лечения еще никто не посмел отказаться. Он дает жизнь, но забирает душу!»
– И что в этом правда? – рассерженно свел седые брови Орхан-бей.
– Этот… Человек… Его называют «синий шайтан»… Он действительно несколько раз приходил к тем, от кого отказались, в виду их безнадежности, наши лекари. Особенно к тем, кто имел открытые раны на черепе. Это Даут его приводил. Он же давал и хирургические инструменты…
– Грязный христианин осмелился врачевать священных воинов джихада? – едва сдерживая гнев, воскликнул бей.
Алаеддин, зная сложный и порой непредсказуемый характер своего брата, попытался смягчить неминуемое наказание:
– Из тех десятерых, кого коснулся этот христианин как хирург, выжило семеро. А для них уже были выкопаны могилы. Он спас семь священных жизней. Я сам ходил с ними беседовать. Эти семеро чувствуют себя хорошо и готовы опять идти в бой. Я попытался наградить этого «синего шайтана» сотней акче[167], но он отказался взять деньги…
– Вот как! И почему же?
– Он не пожелал мне этого объяснить.
– А мне он объяснит! Приведите его ко мне. И где наш тайный верный пес Даут? Пусть также явится и объяснит, почему его «синий пес» отказывается принимать истинную веру. Ведь это так? Он и не помышляет стать мусульманином!
Великий визирь опустил глаза и виновато вздохнул:
– Прости меня великий бей, но ни Даут, ни его «синий пес» не смогут в ближайшие недели предстать перед твоими, подобные орлиным, глазами. Сегодня утром я отослал их в Бурсу по важному делу.
– Хорошо. Это потом, – и Орхан-бей вновь улыбнулся, осматривая кипящий котел корабельной верфи, ежедневно рождающий корабли – будущую славу турецкого флота.
* * *
На краю кипящего котла Измита на разосланном персидском ковре, что был ярче и насыщеннее красками, чем чахлая, уже выпаленная солнцем трава побережья, обедал Даут. Его писцы, совместно с писцами великого визиря едва успевали вести учет и распределение продовольствия, поступающего от рассвета до заката.
Самому Дауту работы было невпроворот, но он все же лично отобрал из многочисленного бараньего стада, что пригнали пастухи от гор центральной Анатолии, для насыщения желудков священных воинов, нежного ягненка. Лично и наблюдал за тем, как два его раба из горцев Македонии, освежевали и обжарили на углях сладкое мясо. Лично порвал руками горячее мясо, отдав хрустящий бок своему «синему псу».
– Да простит меня Аллах, но и свиные косточки под соусом из хрена и имбиря знатная пища. Но если Всевышний запретил вкушать грязную свинью, значит на то он имел важную причину. И все же интересно… Мне так и не удалось узнать, в чем провинились свиньи перед Аллахом. Муллы указывают на священные строки Корана. Вот и все их объяснение. Возможно вина хрюшек в том, что их мясо слишком быстро портится под жарким солнцем пустыни, откуда вышли первые верные дети Аллаха. Что поделаешь. На все воля Аллаха. Даже на то, чтобы не упиваться вином и не одурманивать себя курением гашиша. И это правильно. Трезвый воин – думающий воин! И все же, иногда хочется свиного окорока с большим кувшином сладкого вина. Да простит меня Аллах. А в остальном – ислам самая справедливая и мудрая религия. Особенно в том, что все мусульмане-братья. Вера уважения и терпимости к другим религиям. А еще справедливость во всем. Даже в налогах! Византийский император забирал у земледельцев половину урожая. Турки берут у подчинившихся им христиан только четвертую часть. А у тех, кто принял ислам, не берут и вовсе, или самую малость. Вот и бегут под покровительство турок христиане. Да и в самом Константинополе партия паламистов[168] становится день ото дня все сильнее и сильнее. А я вот принял ислам всей душой и сердцем. Вот только мне и через десять лет трудно вставать на первую молитву-намаз – еще до того, как солнце не поднялось выше острия копья. И опять же запах жареной свинины и пары вина…
Даут посмотрел на «синего шайтана». И сегодня не стоит затевать с ним беседу о том, что принятие им ислама даст свободу и богатство. Он опять начнет бормотать о своей вине перед Господом. И о том проклятии, что наложил христианский бог на него, как убийцу и палача. Порой Дауту казалось – этот «синий шайтан» бредит в слабоумии. Но с удовольствием наблюдая за тем, как он мастерски сверлит черепа раненых и сшивает их мышцы и кожу, отбрасывал сомнения о целостности рассудка своего пса.
– Ах, вот ты где!
Даут, услышав знакомый голос, тут же отбросил мясо и вскочил на ноги. Он низко поклонился восседающему на белом жеребце великому визирю, и подобострастно спросил:
– Чем могу служить моему господину?
– Я сказал великому бею, что ты и твой… гм-м… помощник еще утром отбыли в Бурсу по очень важным делам, которые займут несколько недель. А ты все еще здесь! Писцов и служивых оставь. Возьми только рабов. Мое письмо доставят в Бурсу, прежде чем ты доберешься до столицы. А времени тебе там быть… четыре… Нет! Три дня, начиная с этого мгновения.
Больше не сказав ни слова, Алаеддин погнал своего коня вверх на холмы.
– Вот она служба, – несколько опечаленно сказал начальник тайной службы. – Что-то случилось. Даже шея зачесалась. Великий визирь – умнейший и мудрейший из всех тех, кого я знал и знаю. Он благоволит ко мне. Если ему нужно, чтобы я в такую жару сломя голову летел в Бурсу, значит нужно лететь не мешкая. Эй, вы! Собирайтесь, сейчас выступаем! И мясо ягненка не забудьте!
* * *
Лететь сломя голову Даут все же не стал. К тому же, дорога была затруднена многочисленным воинством, обозами и стадами животных, двигающихся с востока на запад, и множеством скрипучих возов и одноколесных арб, везущих раненных и огромную добычу с того же запада.
Уже в час по полудню начальник тайной службы, наглотавшись пыли, велел взбираться на придорожный холм и на нем установить навес. Здесь, во власти свежего ветерка, под волнующейся тенью византийского шелка, на красочном персидском ковре он продолжил прерванный завтрак и привычный поучительный монолог со своим «синим псом»:
– Ты думаешь, я не вижу по твоим глазам и не понимаю твоего молчания? За эти полгода ты ни разу меня не упрекнул. Но желал! Я знаю! Еще бы! Христианин предал своего бога и стал ревностным слугой тех, кто грабит и убивает христиан. Молчишь? Молчи, молчи… А я скажу.
Вот посмотри. Видишь в двадцати шагах от дороги возле тех колючих кустарников мертвого верблюда и птичий рынок при нем? Видишь? Внимательно посмотри. А пока смотришь, слушай меня.
Я родился на вершинах холодных балканских гор. Когда там умирает животное, снег и лед покрывают труп белым саваном, замораживая жидкие части тела и превращают их в камень, который сохранится очень и очень долго. Таков был мой мир детства, в котором ничего не могло измениться. Но меня отобрали у родителей и завезли в другой мир, мир роскоши, интриг и крови. Он же мир жары и гниения. И судьба падших животных здесь совсем иная!
В моих горах солнце и теплота способствуют жизни и процветанию всякой твари и каждому стебельку. Здесь же, то же солнце и та же теплота действуют с разрушением, способным в несколько часов убить и разложить всякого, кто смертельно устал и болен.
Но чтобы умершее тело не подвергло опасности прочие живые существа, своей гнилью и газами заражающими воздух, Всевышний послал в страны, сжигаемые злющим солнцем, своих спасителей – стервятников! Это неутомимые стражи, всегда готовые исполнить волю небес!
Вот лежит издохший от непомерных трудов, а может от болезни или старости верблюд. Он не дошел до своего дома, хотя погонщик, за день до его смерти снял с него поклажу, облегчая путь. Но верблюд все равно пал, ибо так угодно Всевышнему. Его господин погоревал, но оставил нетронутым, так как ислам запрещает использовать что-либо с мертвого животного, убитого не по принятому обычаю.
Слушай дальше!
Мертвый верблюд лежит. Восходит солнце. По утренней прохладе на него садится степной жаворонок и поет погребальную песню. Солнце встает, и труп начинает разлагаться. Смертная оцепенелость прошла, глаза глубоко впали, верхняя кожа кое-где ломается, из пасти и носа течет вонючая жидкость. Внутри верблюда происходит брожение и шум. Это газы вздули живот и желают вырваться наружу, чтобы распространить свой ядовитый запах.
И вот появляется ворон. Он радостно кричит и кружит некоторое время над павшим животным. Затем опускается и заботливо осматривает добычу. В скором времени вокруг падали собираются птицы помельче и позвонче. К ним от болот и ручьев спешат зобастые аисты, которым надоели рыба и лягушки. Они вовсе не обращают внимание на беркутов и орлов. У тех впереди очень много мяса. Но у всех этих птиц слабые когти и клювы. Они не могут разорвать толстенную кожу верблюда. Все они ждут главных участников пира – огромных грифов стервятников.
А те не спешат. Они выспались, насладились сновидениями, поднялись высоко в небеса и оттуда увидели пищу для себя и своего потомства. Они медленно опускаются, и вся птичья братия отходит в сторону. Грифы вспарывают огромными клювами брюхо падали, роются во внутренностях и выпихивают их. Затем принимаются за более плотное мясо. Порой стервятники дерутся между собой разбрасывая мясо. Его тут же подхватывают окружающие птицы.
Все сыты и довольны. А вдвое отяжелевшие грифы поднимаются в счастливые небеса и несут добычу в свои гнезда. Этих стервятников во время пира не испугают и охотники. Они очень сильные и живучие. Однажды я пустил стрелу в грифа. А он с нею поднялся высоко в небо и только оттуда упал мертвый…
– Так значит Византия – мертвый верблюд, отданный Всевышним на пир стервятникам? – спросил Гудо, исподлобья наблюдая за смакующим косточки начальником тайной службы турок-османов.
– Совершенно верно, – обрадовался пониманию своего «синего пса» Даут. – Византия уже давно мертва. От нее исходит только вредное зловоние. Она должна исчезнуть.
Что-то вспомнив, Даут грустно добавил:
– У меня нет печали о тех, кто лишил меня родных гор и издевался над душой и телом многие годы.
– А когда падет этот верблюд, кого будут разрывать падальщики дальше? Другие христианские страны? – глухо спросил Гудо.
– До этого я не доживу и не хочу об этом думать. Живу сегодня, жую сейчас ягненка, и ты так живи. Или тебе не по вкусу ягненок?
Но Гудо не ответил.
– А что это там происходит? – не обидевшись, спросил Даут.
Гудо встал с края ковра и внимательно посмотрел в сторону дороги, на которой прекратилось всякое движение.
– Кажется, человек лежит посреди дороги и никто не смеет его ни оттащить, ни объехать.
– Что еще за диво? Кто смеет остановить воинов и обозы самого бея османов? Все за мной! – вскричал начальник тайной службы и трое его рабов бросились за ним вниз по холму.
– Что здесь? – расталкивая круг собравшихся людей, спросил Даут.
– Это Ибрагим, старший караванщик, – ответил один из погонщиков верблюдов.
– Что с ним?
– Кажется мертв, – ответил кто-то из круга собравшихся путников.
– Оттащите его с дороги! – строго велел начальник тайной стражи.
– Ибрагим – уважаемый человек. Он свершил хадж[169] в Мекку.
– И что из этого? – в горячности воскликнул Даут.
На него тут же надвинулась толпа, крепко сжимая кулаки и опаливая нечестивца гневными взглядами.
– Это святой человек! – выкрикнул погонщик, надвигаясь на побледневшего начальника тайной службы.
– Вы знаете, кто я? – растерянно спросил Даут, уже догадываясь о том, что эти люди из дальних мест и слыхом не слыхали, а не то, что видели начальника тайной службы.
Но тут толпа всколыхнулась и чуть расступилась.
«Синий шайтан»! «Синий шайтан»! «Синий шайтан»! – послышался все нарастающий шепот тех, кто возвращался с побережья. Эти два слова тут же подхватили идущие с востока и со страхом попятились, увидев, что огромный мужчина в странных одеждах склонил свою чудовищную голову на грудь уважаемого Ибрагима.
Гудо поднялся на ноги и, улыбнувшись, медленно осмотрел собравшихся. Круг, узревший жуткую улыбку, дрогнул и попятился. Гудо выбрал того, кто ему был нужен и неспеша подошел к нему. Это был погонщик буйволов, выделявшийся из толпы своим огромным ростом и длинным кнутом, сложенным кольцами в его правой руке.
Нет, крепкий мужчина не испугался и не попятился, когда к нему вплотную подошел странный человек в странных одеждах. Просто его рука настолько ослабла, что он и не почувствовал как этот страшный лицом «синий шайтан» взял у него главное орудие труда.
А Гудо распустил отнятый кнут и стал медленно описывать им круги, все более и более отодвигая круг растерявшихся людей. Наконец круг стал настолько большим, что «синий шайтан» смог хлестнуть, издав страшный щелчок кончиком крепкого кнута. Народ тут же в страхе попятился еще на несколько шагов.
И произошло страшное и невероятное! Чудовище в синих одеждах ударило жалом кнута по телу Ибрагима. А потом еще раз и еще, и еще. Затем этот мучитель деревянным кнутовищем стал часто ударять по оголенным ступням уважаемого мусульманина. Не в силах терпеть надругательство над мертвым телом, сначала выкрикнул угрозу один из присутствующих, за ним второй, и уже крики слились в грозный шквал гнева. Выхватив мечи, ножи, подняв к верху дубины и копья, толпа надвинулась на «синего шайтана».
Тот прекратил свое изуверство и, отбросив кнут, стоял в полной невозмутимости, сложив преступные руки на груди.
– Смерть, смерть, смерть! – послышалось со всех сторон, и круг стал медленно сужаться.
– Стойте! Стойте! Смотрите! Смотрите! – покрывая шум зычным голосом, воскликнул Даут. – Ваш мертвец открыл глаза!
– Открыл глаза, открыл глаза, открыл глаза! – пронеслось поверх голов толпы, и она замерла в оцепенении.
– Пойдем, Гудо, – потащил за рукав своего пса начальник тайной службы. – Нам пора в путь. Рабы нас догонят.
Так, взявшись за руки, они и поднялись на холм. А внизу холма, с пыльной каменистой дороги медленно поднимался уважаемый Ибрагим и с недоумением вертел головой. Он видел множество вооруженных людей, которые в ужасе тихо говорили:
– Шайтан! «Синий шайтан»! Истинный шайтан! «Синий шайтан»!
* * *
– Вот она Бурса – столица, в которой живут одновременно четыре времени года! – громко воскликнул Даут, указывая плетью на утопающую в зелени местность, среди которой едва угадывались крепостные стены и каменные дома.
– Это как же? – в недоумении спросил Гудо, нарушая свое долгое молчание.
– Когда мы с тобой, после тяжких трудов прогуляемся по садам города, ты увидишь весну. Самые красивые оттенки зелени, и благоухающие цветы. Если попадем к побережью Мраморного моря, там летняя жара. А когда искупаемся в горячих источниках, вблизи города, познаешь осенний рай, сочетающий воду и солнце. А вон, видишь, гора над городом! Когда-то ее называли Мизийским Олимпом! На ее вершине и сейчас есть снег. Чем не зима? Все это «ешиль Бурса» – зеленая Бурса!
Каменный дом византийского вельможи, что любил, как и многие из богатых константинопольцев, приезжать на целебные термальные воды тогда еще Брусы[170], с высокой стеной, отданный Дауту для жизни и работы, был поистине огромен. Большую часть его площади занимал внутренний двор с роскошной беседкой для решения важных дел. А также фонтан, струящийся серебром воды из многих отверстий стариной мраморной скульптуры, во многих местах позеленевшей и треснувшей. Здесь же во дворе под стеной располагались до боли знакомые Гудо орудия пыток – дыба, столы для растягивания тел, мучительные кресла, плаха для отсечения, железные клетки и жаровни. Здесь же, на деревянных полках и на кольях стены лежали и висели щипцы, клещи, крюки, иглы, ремни, веревки и многое другое, необходимое для успешной работы палача.
Гудо лишь мельком глянул на это изобильное хозяйство, способствующее боли и мучениям и без спроса уселся в тень беседки на мягкие подушки хозяина. Вскоре появился и сам хозяин этого двора, что сочетал невозможное – красоту и удобство и в то же время – страх и содрогание.
Даут уселся на самую большую подушку и непривычно долго молчал. Затем он вздохнул и печально посмотрел на своего «синего пса»:
– Я понимаю, твои одежды скроены и пошиты из приятной хлопковой ткани. Но все же, зачем в такую жару носить плащ, а голову укрывать капюшоном?
Гудо привычно промолчал.
– Ладно. Твое дело. Нехорошо вышло… Там, на дороге… Все не привыкну к трепетному отношению к вере этих… Хадж. Старейшина. Босоногий оборванец! Святой человек! А ведь ты, возможно, жизнь мою спас. Во всяком случае, мне не изуродовали лицо и не сломали кости. Проси, чего могу!
Но Гудо только глубже надвинул капюшон.
– Странный ты человек. Другой на твоем месте…
– Тот на дороге… Я должен был… Я знал, как, – начал медленно «синий пес» Даута, а затем быстро закончил: – С тем человеком случился солнечный удар. Я только привел его в чувство.
– Как знаешь. А я вот не знаю! Письмо великого визиря действительно опередило нас. (Даут усмехнулся и тут же помрачнел.) Но я ничего из него не пойму. Великий визирь велит мне устроить «рыночную» казнь для нерадивых торговцев Бурсы. Что за нелепость! Такие важные дела на побережье. Сколько важной информации от пленных и воинов гази, а я отправлен рубить руки и отрезать носы тем, кто обвешивает и обмеривает. Хотя и это часть моих обязанностей. Я должен следить за внутренним порядком государства. И все же!
Уж не тронулся ли опять умом наш великий визирь? Говорят, с ним это случалось. Но давно. Тогда он даже целый год был похож на младенца, что ел из ложечки и гадил под себя.
Конечно, если случается такое… Даже сильные мужчины могут ослабнуть умом. Бывает, что семейное горе останавливает сердце. Бывает и лишает рассудка! Еще бы! Говорят, Алаеддин очень радовался первенцам-близнецам. Почти не отходил от них. Берег как зеницу ока! И нужно же было такому случиться – враги украли малышей, прямо скажем, из-под носа отца! Рыбаки утверждали, что слышали детский плач на борту христианского корабля, что в ту ночь ушел в море. Какой удар. Немудрено, что Алаеддин сошел с ума. Уже всем казалось, что участь его решена. Но тут из похода вернулся младший брат Орхан. Он долго не возвращался, а когда прибыл, все только ахнули. Вместо золота, крепких мужчин-рабов и бесценных девственниц, он пригнал две сотни мальчишек!
«Вот, – сказал Орхан брату. – Ты можешь с лихвой отомстить за своих сыновей, убив собственной рукой по сотне христианских детей за каждого!» И тогда глаза безумного Алаеддина прояснились и он взял в руки меч. Он прошел вдоль поставленных на колени мальчишек и выбрал самого старшего из них – лет семи-восьми. Он дал ему в руки меч и сказал: «Эти дети отомстят за мою боль и унижение. Пусть они вырастут с именем Аллаха на устах и с желанием стать мечом его веры!»
Ты видел этих детей. Теперь это славная пехота Орхана – ейничери, которая никогда не отступает: ни перед кем и ни перед чем. Если бы у османов таких «новых воинов» было бы с десяток тысяч, можно было бы отправляться на покорение всего мира. Преданные, дисциплинированные, храбрые – вот кого вырастил и обучил выздоровевший вмиг Алаеддин! И это сверх той огромной горы дел, что он вершит помимо пополнения и обучения своих любимцев. Было у Аллаедина двое сыновей-близнецов, а стало тысяча! А будет еще больше, если, конечно, что-то опять не случится с его головой. А его письмо настораживает меня. Может, все же что-то случилось с мудрейшим из мудрых? Как думаешь Гудо?
Но Гудо только пожал плечами. В его огромной голове зародилась мысль, а душа вновь опечалилась тяжелыми воспоминаниями.
– Сегодня выпьем вина, а казнить торговцев пойдем завтра, – решил начальник тайной службы. – Все же османы не арабы и терпимо относятся к вину. Ко многому терпимо относятся и очень терпеливы. Поэтому и будут ездить верхом на арабах и половину мира завоюют. И такие как я будут им верно служить. Ведь кем я был? Мальчиком для развлечений богатых ублюдков, в насмешку названный Давидом[171], а потом ими же приобщенный к интригам и крови тайной службы императора. Мелочь, которую и ногой пнуть гадко. А кем стал за ум и преданность османам! Тем, кто сам кого угодно пнет. Кроме, конечно, семьи самого бея. И ты можешь стать большим человеком! Я помогу, ведь я теперь тебе как бы и обязан. Так может, все же примешь ислам, а, Гудо?
Но Гудо только глубже надвинул капюшон.
* * *
– Какой скучный день, – зевнул Даут, – Итак подсчитаем! Выпороли мясника за то, что продал шкуру буйвола не дубильщику кожи, как велит слово бея, а заезжему купцу из Маниса. А слово бея велит каждому мяснику продавать кожу дубильщикам. А тем можно продавать кожу только кожевникам – сапожникам, седельщикам, шорникам. И только тогда, когда у них не будет спроса на изделие, продавать заезжим купцам. Выделанную кожу, но не сырую шкуру! Важное нарушение. Но наказание так себе – тридцать плетей, чтобы к вечеру опять мог работать.
Это раз!
Прибили правое ухо амаля[172] Малика к двери его дома, чтобы не занижал цены на скупаемое у селян зерно. Пусть так стоит до утра. Этот старик выстоит. У него большая семья. Будут по очереди главный зад семьи поддерживать. Так что ухо старик Малик спасет.
Это два!
Отсекли пальцы правой руки торговцу шелками Мустафе ровно на столько, на сколько он недомеривал ткани. Жаль, что мало не домеривал.
Это три! И это все!
И что же я доложу великому визирю? На базаре его столицы в общем все хорошо? Торговля честная и обильная? И даже его бадджи[173] не берет сверх меры того, что положено. И что мне делать с этими честными людьми еще несколько недель? Может, кому на будущее руку отрубить или повесить?
А ты заметил Гудо как все дешево на столичном базаре? Пол туши жирного барана – и всего десять акче! За два акче можно купить хлеба на весь день для десяти человек! Даже вязанка дров – всего одна маленькая серебряная монетка акче!
А сколько товара. И какой товар! Просто загляденье. Ты видел, какие прекрасные ткани научились делать в Бурсе. Не зря Алаеддин притащил сюда лучших мастеров. А какой бархат и парча. А шелк! Шелк-то какой! Особый – бурский, отливается серебром как вода при лунном свете. А какие ковры. Не зря к нам даже из Египта купцы наведываются. Говорят дворец их главного мамлюка[174] от пола до потолка украшен нашими коврами. А эти медные и серебряные кувшины и тазы. А гончарные изделия!
Даже жаль кому-то руки рубить. А главное не за что!
А впрочем, каждый купец, даже мусульманин, в душе хитрец и обманщик. Каждый ремесленник ловкач, а каждый нищий – вор.
Хочешь, я тебе это докажу, Гудо?
Гудо страшно желал в этот миг сбросить с головы свой капюшон и вытереть мокрые от пота волосы и лицо. Но он не желал привлечь к себе еще большее внимание своим жутким обличием. Хватало и того, что многие издали указывали на него рукой и шептали соседу: «синий шайтан». Да, неприятно было стоять Гудо посреди шумного рынка Востока, в безделии переминаясь с ноги на ногу, под суровыми взглядами торгового люда. Это не рабочее место палача Витинбурга на помосте у позорного столба. Там он был при деле и власти и зорко следил за порядком и честной торговлей. Здесь он просто «синий пес», разговорчивого к своему животному, хозяина. Но и там и тут на его показывали пальцами как на человека, проклятого Всевышним.
Это проклятие палача. Его можно осознать, но принять никогда!
Придет ли такое счастливое время, когда Гудо не будут замечать? Счастливое время быть простым человеком.
А вот Дауту нравилось красоваться на поджаром белом скакуне, с высоты которого хорошо просматривался даже этот большой базар. Он, пожалуй, и весь день красовался бы на богато убранном жеребце для собственного удовольствия и во страх всяким нарушителям законов османского бея. Все же это веселее, чем ломать голову в сложностях политических хитросплетений и развязывать узлы интриг врагов, а чаще друзей. Вот только пылающее солнце, что буквально висело над головой вполдень, плетями своих лучей яростно разгоняло торговый люд.
Арифметика успеха Даута за этот день остановилась на популярной цифре три, что несколько печалило ревностного служаку. Ему желалось большего.
– Я тебе все же докажу! Эй, стража приведите ко мне… Э-э-э… Вон того торговца красителями. Не может быть, чтобы его красители и всякие дубильные корни марены, валонея, или чернильный орешек и шафран были без примесей. Хотя. Нет! Эй, стража, постойте! А приведите мне вон того крепыша в оборванных одеждах. Посмотрим, что в его сумке. Странно, что такой на вид сильный и здоровый мужчина и не на войне.
Быстро выполнив приказ, стража приволокла изрядно сопротивляющегося мужчину еще молодых лет до глаз заросшего густейшей черной бородой.
– Кто ты и как тебя зовут? – сурово спросил начальник тайной службы.
– Я Мустафа, дервиш из братства бекташей, – не смея поднять головы, ответил мужчина.
– А-а-а, – разочарованно протянул Даут.
Ему хорошо был известен этот суфийский тарикат[175], который придавал основное значение внутреннему состоянию верующего, а не внешним признакам веры. Эти предавшиеся нищете странствующие монахи проявляли терпимость ко всем религиям, допускали употребление вина и появление женщин с открытым лицом, но ратовали за безбрачие. А еще, подобно христианам, исповедовались в своих грехах перед шейхами, возглавляющими их общины. Их святой покровитель, живший сто лет назад, Сары Салтука прославился тем, что переодевшись в монашескую рясу и вооружившись деревянным мечом, проповедовал ислам в христианских церквях!
А еще бекташи гордились своей нищетой, отдавая почти все поданное им за день другим нуждающимся мусульманам.
Даут страдальчески почесал нос и посмотрел на своего «синего пса». Тот, без всякого интереса, смотрел на строительные леса, поднимающегося камень за камнем имарета[176].
– А покажите, что у него в сумке? – с неохотой приказал начальник тайной службы.
Стража тут же вырвала нищенскую холщовую сумку из рук отчаянно сопротивляющегося Мустафы и, не мешкая, высыпала в пыль все ее содержимое.
Даут с печалью в глазах и с разочарованием в сердце посмотрел на привычный скарб дервиша: щербленная деревянная миска для сбора милостыни, оловянная ложка, кусок лепешки, моток почти новой веревки, несколько металлических крючков, обрывки ткани, две коротких толстых свечи, огниво. Ничего примечательного или подозрительного, за что можно было бы ухватиться для обвинения нищего в воровстве.
Начальник тайной службы зевнул и, прикрыв глаза ресницами, попытался посмотреть на солнце. Тут же, не выдержав ответный взгляд источника жизни на земле, Даут опустил лицо к грешной земле. И хотя радужные круги от мстительного солнца все еще заставляли моргать, хозяин узрел, как его «синий пес» поднял из пыли одну из свечей и с интересом рассматривает.
– Что у вас там, на холодном севере, таких не делают? – с легкой усмешкой спросил начальник тайной службы.
– К радости сатане и его слуг демонов к несчастью делают, – глухо ответил Гудо.
– Как так? – изумился Даут.
Гудо еще раз помял в руках размягченное в такую жару тело свечи, а затем поднес ее к своему огромному носу:
– Я не ошибся, – согласно кивнул головой чуть оживший и взявший след «синий пес». – И ты не ошибся!
– В чем не ошибся? – все еще недоумевал хозяин «синего пса».
– Этот человек – вор! А свечи, которыми он пользуется, воровские. Они же и магические, способные притуплять ум и чувства людей. Если вор зажжет такую свечу, то хозяева дома, в который он явился промышлять, не смогут ему помешать. А знаешь почему?
Даут в полном неведении пожал плечами.
– А потому… – после долгой паузы Гудо тяжело вздохнул и тихо сказал: – Они сделаны из человеческого жира.
* * *
Даут едва не плакал от счастья. Чтобы хотя бы чуть успокоить рвущееся сердце, он выпил пол кувшина крепкого вина. Но от «крови земли», как именовали вино древние эллины, стало еще радостнее и захотелось выпить больше. А вот этого не следовало было делать, так как случившееся было очень важным делом, о котором необходимо было сообщить великому визирю незамедлительно. Начальник тайной службы уже сочинил в уме многие строки своего донесения, которое будет диктовать писцам завтра поутру, без лишних подробностей и сжато, как это принято у османов. Это потом, на званом пиру ему дадут слово, и Даут в мельчайших подробностях расскажет перед беем и многими знатными вельможами о своем необычайном даре – видеть людей насквозь и из непримечательных фактов раскручивать жуткое преступление.
«После дробления правой руки и снятых двух полос кожи со спины, с посыпанием ран горячими углями, вор по имени Мустафа выдал подробности своего грязного ремесла, а также выдал троих своих товарищей. Эти четверо преступников проникали ночью в дома благочестивых мусульман, запаливали магические свечи из человеческого жира и шептали заклинания. Погрузив тех, кто был в доме, в еще более крепкий сон, негодяи похищали заранее указанных девственниц и передавали их в руки некоего Большого Галла, жреца из тайного святилища у горы Диндим вблизи города Пессинунт. Это древнее языческое святилище связано с именем так называемой Кибелы – Матери богов, требовавшей от своих паломников экстатического состояния, крови, оскопления и даже человеческих жертвоприношений.
После долгих пыток Большой Галл сознался…»
В этом месте мысленного сочинения Даут отвлекся, выпив еще одну чашу вина. А как не выпить? Ведь вспомнилось крайне приятное. Этот Гудо, этот непробиваемый «синий пес», показал себя в наилучшем, а самое главное, долго ожидаемом свете своего небывалого умения. Ведь как долго огромного роста и небывалой силы языческий жрец все отрицал и стойко переносил жуткие пытки. Палач Даута, которого все называли не иначе как «человек без имени», даже безнадежно развел руками. И только после продолжительного отдыха «человек без имени» решился применить то, что ставило жизнь пытаемого на острую грань. Отделяя ножом плоть от костей, палач внимательно следил за жизненными нитями проклятого жреца. Но тот все равно не сдавался и, лишь находясь между пониманием и беспамятством, признался, что использовал мертвые тела девственниц для лекарских потребностей.
И тут «синий пес» оборвал свою цепь. Что его так вывело из равновесия, трудно было сказать. Но прислушавшись, Даут услышал обрывки того, что шептал, а порой выкрикивал, Гудо. Не ясные и не нечеткие слова на венецианском, франском и каком-то северном языках: «А если бы это… мои девочки… Мою милую Грету… Порошок из черепа Греты… Кровь Кэтрин… Хуже демона… Страшнее сатаны… Мои милые девочки…» Что-то еще и еще. Все более невнятное и отрывистое.
Но это не важно. Важно то, что палач Гудо показал то, от чего «человек без имени» даже отшатнулся и до последнего признания Большого Галлла вел себя как подмастерье великого мастера!
Тогда Даут приблизился к творящему свой шедевр палачу Гудо и спросил от кого такое искусство. Но «синий пес», не повернувшись, только бросил через плечо:
– Aposteriori[177].
«Большой Галл сознался, что готовил «божественные капли» из толченого порошка черепа девственницы, вина и патоки. Из жира и сожженных костей несчастных жертв делал мази для лечения подагры и других болезней, а так же пропитывал жиром бинты для быстрого заживления резаных и колотых ран. И еще многое, на что пригодно умершее тело девственницы. Большой Галл так и сказал: «Я сохраняю жизнь, благодаря умершим. В мертвом теле есть бесчувственная жизнь. Она пробуждается, когда растворяется в желудках живых. И девственницы для этого наиболее подходящее сырье. За такое лекарство очень дорого платят»!
После этих слов «синий пес» едва не разорвал Большого Галла. Понадобилось с десяток стражников, чтобы оттащить палача от своей жертвы. Выпив большое количество вина, Гудо, казалось, успокоился и был вновь безучастен до следующего дня, когда на допрос привели Сулим-пашу, некогда знаменитого воина, жестоко искалеченного в сражениях.
Даут долго колебался перед принятием этого решения. К Сулим-паше благоволил сам Орхан-бей и многократно называл его имя в поучение молодых воинов. Но проклятый изверг жрец упорно твердил в руках палача Гудо, что именно Сулим-паша был его главным покупателем. Он же давал вперед золото и сам указывал на будущие жертвы, так как был вхож во многие дома жителей Бурсы.
К такому знатному воину, хорошо знакомому начальнику тайной службы, нельзя было применить пытки, а на все вопросы Сулим-паша отвечал ласковой улыбкой, отрицающей все обвинения. Даут уже пожалел о своем решении пригласить уважаемого человека в свой служебный дом, когда в беседу двух достойных мусульман вмешался уже пришедший в себя «синий пес». Следуя примеру служивых людей тайной службы, он наклонился над ухом Даута и тихо прошептал:
– Посмотри на четки в руках этого старика.
Начальник тайной службы посмотрел на связанные камешки, что непрерывно перебирала трясущаяся рука старика, и недоуменно пожал плечами. Тогда Гудо пояснил, едва сдерживая голос:
– Эти четки сделаны из суставов человеческих пальцев. И судя из размеров – несчастных девственниц.
Об этой подсказке «синего пса» Даут, пожалуй, напишет великому визирю. Справедливости ради. Справедливость – в почете у османов!
Страшное и важное дело раскрутил Даут. Наверное, именно за ним послал начальника тайной службы премудрый великий визирь Алаеддин.
* * *
– «Казнить Сулим-пашу, не ожидая присутствия первых лиц государства и без открытия истинных причин, тайно!» Вот так Гудо и сказано в письме великого визиря.
Ответное письмо Алаеддина пришло очень скоро и весьма опечалило начальника тайной службы. Такая огромная и напряженная работа, а результат ее – мелкая рыбешка в грязной луже. Но первым лицам виднее. Их решение – закон, их умозаключения – тайна, не понятная простым смертным. Даже искушенному во многом тайном начальнику тайной службы. Хотя, если поразмыслить!
– Жизнь подавляющего количества людей в наше ужасное время проходит в тяжких трудах, голоде, страхе и крови. Все это притупляет сознание простых смертных и превращает их в животных. Только вера, вера во Всевышнего и его всемогущество вырывает некоторые личности из серого стада человечества. Им дано будоражить остальных и вести за собой в тяжелой борьбе за торжество истинной веры.
Но мало слов и призывов. Мало неустанных трудов и личного примера. Нужны факелы, освещающие путь. Одним из таких факелов для османов был уважаемый Сулим-паша. Но старость, а главное жестокие раны помутили его разум. Если голова разрывается от ужасных болей, а руки трясутся от старости, человек готов отдать все свои богатства, чтобы хотя бы на день утихомирить боль и вернуть былую силу и молодость. А тут еще появляется проходимец и дает выпить чудодейственную настойку, которая действительно взбадривает страдающего ежедневными болями тела и души некогда могучего воина. И вскоре старик уже на все согласен, только, чтобы чувствовать себя как в годы своей славы. И его вовсе не трогает то, что для этого нужно… Как сказал проклятый жрец? А, сырье из юных девственниц!
А снадобья действительно помогают старику. Он настолько окреп, что даже способен нарушить девственность понравившихся ему девушек. Он так этим увлекся (я бы даже сказал – заболел), что дни напролет прочесывал дом за домом в поисках прекрасноликих жертв.
Вина ли сошедшего с ума старика в том, что его окрутил коварный чужеземец и к тому же язычник? Вина ли вообще сумасшедших, не отдающих себе отчет в том, что они делают? Вина ли в желании вернуть силу и молодость хотя бы на один день даже ценою человеческих жертв? И да, и нет? Не существует среди смертных окончательной справедливости ни в одном из вопросов или из того, что они делают. Для одних так, для других иначе. И никогда не бывает того, чтобы все были единодушны. И никогда не будет, ибо человек изначально подобие бога, но не бог!
Можно ли перед этими подобиями тушить факел веры и мужества, что многие годы вел борцов за веру на справедливый бой? Можно ли во всеуслышание воскликнуть: «Тот, кого вы почитали многие годы, как пример для подражания, сумасшедший старик и убийца ваших дочерей»? Нет, нет и нет! Значит прав мудрый великий визирь и мудрейший из мудрых бей османов. Так что…
Воров посадим на колы, перед тем отрезав носы, уши и языки. Народ любит видеть в таком виде своих обидчиков. Проклятый жрец покается, правда без языка, в похищении и в ритуальном языческом убийстве несчастных девственниц и будет четвертован с предварительным вырыванием желудка, в который он принимал кровь своих жертв. А… Дьявол меня побери… О Аллах, прости мой грешный язык! Что касается Сулим-паши… Я даже голову не могу ему отрубить. Так что тихонечко повиснет в петле и отойдет во сне в райские сады к Всевышнему, где и место священному воину-гази…
Даут глубоко вздохнул и грустно посмотрел на сидящего напротив «синего пса», что уже много дней не стягивал с головы свой огромный капюшон. Да и сказал Гудо за все эти дни не более четырех слов. Да и те Дауту надоело слушать. Ох, сколько раз он их слышал и, скорее всего, услышит вновь тихий стон: «Это вечное проклятие палача»!
Даут даже вздрогнул, когда Гудо тихо спросил:
– А почему ему нельзя отрубить голову? Правильное повешенье – это слишком легкая смерть для столь ужасного преступления. Перетягивая кровяные сосуды, палач погружает казнимого в сон, из которого нет возвращения.
– У мусульман особое отношение к отделению головы. Согласно исламским догмам, обезглавленный никогда не предстанет перед Аллахом. Значит, он никогда не попадет в райские сады. А что еще может быть страшнее для мусульманина? А по мне, Сулим-паше нужно отрубить или отрезать, или оторвать голову. В аду ему и самое место. Но никто мне этого не позволит. Уж очень прославленный воин был Сулим-паша… А у меня была дочь, – неожиданно закончил Даут.
– Если ты позволишь мне его повесить…
Начальник тайной службы вздрогнул и с интересом посмотрел на сбросившего капюшон Гудо. В его маленьких, широко расставленных глазах, горели адские язычки пламени, а изуродованные губы шептали: «Это вечное проклятие палача».
Глава четырнадцатая
Осень присущим ей волшебством прошлась по остаткам зелени, перекрасив ее в чарующую взгляд мозаику разноцветья. Красные, желтые, палевые, коричневые листья трепетали на легком ветерке, переливая сады, рощи и леса радужными волнами. Ослабевшие листья прощались с ветками и мягко ложились на потерявшую всякий цвет траву, создавая немыслимые узоры, на которые способна лишь природа. И человек! Если он имеет глаза, а в его душу Всевышний вложил чувство прекрасного и немного творчества.
– Сердце замирает! Какая красота! Так и хочется взять кисть и разрисовать все это на доске из ливанского кедра, – воскликнул Даут, останавливая коня.
Отсюда, с пологих холмов предгорья Улудага открывался восхитительный вид на прекраснейшее место, когда-либо созданное богом для его капризных творений – людей.
– Видишь те развалины, Гудо? Это все, что осталось от некогда величественных терм[178], что были возведены на лечебных водах самим императором Юстинианом. Знаешь, сколько аристократов и богатых византийских купцов каждое лето приезжало поправить свое здоровье в Брусу? Вернее, в это местечко Питие. Да и Бруса теперь Бурса. Да и от Питии остались развалины, и называется оно по-турецки Чекерке. Но очень скоро здесь поднимутся новые бани, с новыми обрядами и традициями. Ведь османы, в отличие от других детей степи, очень любят горячие воды, а особенно когда их тела растирают искусные мастера волшебной воды. А растирают особыми рукавицами. Из верблюжьей шерсти! И пошиты те рукавицы особым способом. За последние пять лет таких мастеров стало много. Ведь и много осман желают, чтобы их выкупали, растерли и сделали восхитительный массаж пахучими маслами. Ты знаешь, что такое массаж, Гудо?
Но Гудо не ответил. Его взор был прикован к множеству разноцветных шатров, что, как бабочки, устилали камни и траву вокруг белесой воды, которая многими руками выходила из-под земли, с паром и шипящими брызгами. Несмотря на множество временных жилищ, их обитателей почти не было видно.
– А вон и черный шатер Осман-бея, – с почтением и с ноткой печали сказал начальник тайной службы. – Теперь и вовсе не знаю, зачем я пытаюсь попасть ему на глаза. И угораздило же тебя, Гудо, оторвать голову этому Сулим-паше! Все палачи вешают злодеев как нормальные люди. И только «синий шайтан» умудрился повесить так, что оторвал голову. И как это у тебя вышло? А, Гудо? Молчишь? Теперь по твоей милости обо мне забыли. И бей, и великий визирь, и множество других почтенных мусульман. Как будто у бея нет начальника тайной службы! Непостижимо! Я есть и меня нет! Ты чего молчишь, шайтан? – уже в сердцах закончил Даут.
А что сказать Гудо? О том, что он справедливо поступил, не пустив в райские сады его бога чудовище в человеческом обличии? Да и как его можно было впустить. А вдруг их Аллах будет настолько занят, что не обратит особого внимания на поступившего в его последнюю волю мусульманина. Ведь детей Аллаха в последние месяцы предстало перед его судом большое количество. Последние месяцы похода на христианские земли были весьма кровопролитны, и множество гази попрощалось с жизнью.
Вот и пропустит Аллах Сулим-пашу по недосмотру. А тот с глумливой улыбкой повстречает на райских дорожках своих жертв – безвинных девственниц. Как этим несчастным будет горько даже после смерти, Гудо и представил себе во время казни.
А как умудрился оторвать голову?.. Зачем и кому объяснять, что для этого нужно учесть длину веревки, ее ход, вес казнимого, а еще… чтобы петля была скользящей. Все это от наук мэтра Гальчини. Ох, и давно не вспоминался учитель и мучитель. Да вот пришлось вспомнить. Справедливости ради!
– Чувствую, что напрасно… Ох, напрасно я пытаюсь попасть на глаза повелителя. Но… Как иначе жить и трудиться? Зачем я нужен, если меня все благородных кровей мусульмане, обходят стороной? Зато ты, Гудо… О-о-о! Ты теперь знаменитость! И кто же из слуг разболтал по городу подробности тайной казни? Узнаю – кожу с живого сниму! И что теперь? Я твоей тенью получаюсь? Еще недавно все трепетали, завидев меня, а теперь взгляды простолюдинов направлены только на тебя. Но это не страх перед палачом. Это… Я бы сказал уважение и благоговейный страх перед неведомой силой. Уважение к человеку, не пустившему в рай убийцу их дочерей, и страх перед тем, кто способен на нечеловеческое. Да! Шайтан ты, Гудо. Истинно шайтан! А теперь очень знаменитый шайтан, о котором говорят и в хижинах ремесленников и во дворцах благородных принцев крови.
* * *
К вечерней молитве настроение Даута и вовсе стало неподъемным. Благородных кровей мусульмане приветствовали начальника тайной стражи кивками головы, допустили к общей молитве, но отступали при попытке приблизиться и даже поворачивались спиной при первом произнесенном слове Даута. К черному шатру бея начальника тайной стражи не допустили, а в шатре великого визиря его хозяина не оказалось.
– Пойду, утоплюсь, – печально сказал Даут, сидя на высоком камне. У его ног тихо плескалась теплая вода озерка, над поверхностью которого надувными пузырями торчали головы благородных осман в больших и разноцветных тюрбанах. Почти все тюрбаны были повернуты лицом к «синему шайтану». – Нет, лучше повешусь вон на той ветке и докажу всем, что петля не может оторвать даже такую несчастную голову, как мою. Или ты поможешь доказать обратное. А, Гудо?
Гудо равнодушными глазами посмотрел на будущего утопленника или висельника и пожал плечами:
– Сам не знаю, как это вышло.
– То же самое я написал и великому визирю. Но он, наверное, не поверил.
– А, Даут! И ты, мой спаситель, здесь! Что сидите, повесив головы? Вода, говорят, сегодня, просто парное молоко, из которого на берег выходят, забыв обо всех болезнях и печалях.
Даут тут же вскочил на ноги и с особым рвением низко поклонился:
– Уважаемый Хаджи Гази Эвренос! Как я рад! Как я рад нашей встрече!
– Просто Эврен. Как и прежде. Ведь мы, как и прежде, друзья. А, Даут? Знаю, знаю о немилости к тебе. Но все уляжется и забудется. Ведь от случайности никто не укроется, даже синим плащом. А? Как ты думаешь, «господин в синих одеждах»? – закончил вопросом на франкском языке знаменитый воин.
Гудо не ответил, а только низко поклонился, как принято в его стране в присутствии благородного господина или благодетеля, спасшего жизнь.
После короткой беседы, Эврен стал поспешно сбрасывать с себя одежды и оружие, в искусно изготовленных ножнах с множеством драгоценных камней. Затянув потуже тесьму на шелковых шальварах, он повязал на бедра тонкий кожаный ремешок с маленьким кинжалом в красном сафьяновом чехле. При этом, увидев обращенный на кинжал взгляд Даута, Эврен улыбнулся и пояснил:
– Я с ним никогда не расстаюсь. Удивительной работы клинок. Ни острие, ни лезвие никогда не тупится. А самое интересное оно не покрывается ржавчиной даже если долго держать его в воде! Уважаемый Осман-паша даже выплатил тридцать золотых монет после того, как убедился в отсутствии каких-либо следов повреждения или потемнения. А ведь кинжал пролежал в сосуде с водой в доме этого достойного человека больше десяти дней.
– Удивительный кинжал, – рассеянно сказал Даут и с облегчением уселся вновь на камень, едва Эврен отошел на несколько шагов и застыл, присев в теплых водах.
Но едва усевшись, начальник тайной стражи вновь вскочил на ноги. Перед ним стоял важный осман в дорогих одеждах:
– Даут, желают видеть твоего… И ты тоже ступай за мной!
Даут тут же схватил Гудо за руки и потянул на себя:
– Вставай, вставай. Живее. Нужно идти вслед этому человеку.
– Кто это? – тяжело вставая, спросил Гудо.
– Посланник самого бея. Он исполняет только очень важные поручения. Теперь мы опять поднимем головы или… Они нам больше не понадобятся.
* * *
– Но это путь не к… – Даут тут же запнулся, едва голова строгого османа лишь скосила к нему.
– Ждите здесь! – велел посланник бея и величественно удалился между стоящими вплотную большими шатрами.
– Это шатры принцев крови – сыновей бея Орхана. Может, отец гостит у старшего Сулеймана. Ведь младший, бесстрашный Мурад все еще на христианских землях. А может, кто-то желает тайно переговорить со мной? Тогда при чем здесь ты? А, Гудо? О Аллах, когда закончатся эти черные дни моего беспокойства? А может, мне тебя отправить в каменоломни? Может, тогда звезда удачи вновь повернется ко мне? Что думаешь?
Но Гудо не успел ответить.
В проходе между шатрами показались воины, которые сразу же окружили Даута и его «синего пса».
Тут же раздался торжественный голос:
– Поклонитесь сыну непобедимого бея осман, его радости и надежде, лучу Аллаха на земле, благородному из благороднейших Халилу!
Гудо, вслед своему господину низко поклонился и так оставался до тех пор, пока чуть не выпрямилась спина начальника тайной службы. Тогда «синий пес» стал слушать и смотреть на происходящее.
Даут что-то говорил и говорил на османском языке, кланяясь во все стороны, но при этом не сводя глаз с маленького трона, на котором восседал маленький человечек лет шести-семи. Этот мальчонка, сидящий с нарочито надутым, от природы пухлым лицом, не понравился Гудо. Не понравилось и то, как резко и отрывисто говорил этот человечек с мужчиной почтенного возраста. Не понравилось и то, как все ниже и ниже опускалась голова начальника тайной службы.
Затем произошло неожиданное. К «синему псу» повернулся хозяин и с видимым волнением прошептал:
– Это младший сын Орхан-бея, Халил. Отец души в нем не чает. Избаловал совсем и во всем. Мальчонка очень гордый и даже слишком. Но османы так воспитывают своих сыновей. Он даже поощряют, если их сыновья несколько дерзки и даже нагловаты. Османы считают, что только из таких детей вырастут уверенные в себе и в своих силах мужчины-воины. Подойди на три шага. Халил желает с тобой побеседовать. И сними же свой проклятый капюшон!
Гудо нехотя стянул с головы свое синее укрытие и стал впереди начальника тайной службы. Мальчонка долго смотрел на огромного, уродливого мужчину в странных синих одеждах и одобрительно кивнул головой:
– Я никогда не видел, но так и представлял себе шайтана, – на отличном франкском языке сказал сын бея. – Расскажи мне, как ты оторвал голову Сулим-паше?
– Это произошло случайно, – едва выдавил из себя Гудо.
– Случайно? Синий шайтан, скажи – случайно? – разочарованно спросил Халил.
Гудо кивнул головой.
– Как это несправедливо, вот это «случайно». Почему же так случается. Мне рассказали… И я подумал, что ты действительно из могущественных шайтанов. Только им под силу исправить случайность. Посмотри на эту «случайность».
Мальчонка резко сбросил с ног парчовое покрывало и подтянул шелковую рубаху. Гудо ступил еще один шаг и уперся грудью в острие копья. Но и отсюда ему хорошо были видны изуродованные маленькие ножки маленького человечка. Рассмотреть все в мельчайших подробностях «синий шайтан» не успел. Халил с поспешностью натянул край рубашки, а чернокожий раб бережно покрыл ноги господина покрывалом.
– Никто мне не поможет и даже шайтан, – разочаровано сказал мальчишка и его лицо мгновенно преобразилось.
Теперь на Гудо смотрел маленький несчастный мальчик, измученный болями и печальным будущим безногого существования. Надутость и дерзость уступили место страданиям и разочарованию. Готовый разрыдаться малыш, который сдерживает себя не детской силой воли.
И Гудо вспомнился другой малыш, потерявший сознание у порога его ненавистного дома палача. Малыш, в краешках глаз которого застыли хрустальные слезинки. Тот самый малыш, помощь которому сделала Гудо палачом Витинбурга.
А последствием хирургического вмешательства спасшего жизнь малышу стала встреча с Аделой и дочерью Гретой. Ведь все происходящее в жизни – по воле Господа. Он послал как испытание умирающего мальчонку, и он же, в удовлетворении от человечности Гудо, привел его к дому Аделы.
А что если сейчас происходящее тоже по воле Господа, желающего… Но Гудо не успел закончить свою мысль. Халил властно махнул рукой. По этому сигналу рабы подняли переносной трон и скрылись с его хозяином за шатрами. За ними последовали воины стражи.
Оставшись одни, Гудо повернулся лицом к своему господину:
– Тяжелые переломы. Ему было очень больно.
– Ему и сейчас больно. Но это – более душевная боль. Теперь он не может скакать верхом и радовать этим своего отца. А еще больнее отцу. Ведь Халил родился от византийской принцессы Феодоры, отданной отцом, императором Иоанном Кантакузиным, бею в жены за вооруженную помощь в борьбе с соправителем, императором Иоанном Палеологом. Феодора после случайного падения сына с коня не впускает в свой шатер мужа. Она обвиняет себя за то, что вышла замуж за того, кто убивает христиан. Обвиняет и отца – продавшего свою дочь врагам христиан. Говорит, что это Господь наслал на нее наказание, лишив сына ног. Феодора все время в молитвах Господу. Но Христианский бог не спешит совершить чудо.
– Как и Аллах… А лекари? – с волнением спросил Гудо.
– Кому хочется лишиться головы? Сам подумай.
– Кажется… Кажется, я знаю как мне стать свободным, а тебе вновь приобрести милость бея, – громче обычного сказал «синий пес».
– Вот как! – воскликнул Даут, – Я знал, я знал… Аллах не зря привязал тебя ко мне. И как же?
Но Гудо не спешил с ответом. И тут Даута осенило.
– Неужто ты желаешь излечить Халила? Забудь, глупец! Я говорил с десятками величайших лекарей и хирургов. Никто даже за огромные деньги не брался за лечение. Этот случай неизлечим. Хорошо, что хотя бы ноги спасли от отрезания. Ты знатный лекарь – признаю. Но этого слишком мало. Для этого случая человеческих знаний, опыта и везения мало. Я утверждаю – это под силу лишь ангелам Аллаха! Силам неземным!
– Или шайтану, – улыбнулся изуродованными губами Гудо.
Эта улыбка неведомой силой отодвинула начальника тайной службы на несколько шагов.
* * *
Дом Даута опустел. Сюда уже давно не приводили пленных, не приходили ценные информаторы, и давно позабыли дорогу тайные слуги и доносчики. Не появлялись просители, знакомые, друзья. Даже настырные купцы и торгаши со своими товарами не заглядывали в опальный дом.
Немногие из личных слуг, стражники, рабы, и даже «человек без имени» дни напролет слонялись без всякого дела по большому дому, маясь от безделья и ожидая неминуемого.
Неминуемого ожидал и Даут, предаваясь те же дни напролет постыдному греху – пьянству.
Лишь иногда в темную прохладу дальней комнаты, без спроса и позволения, вваливался «синий шайтан» и коротко требовал… Именно требовал, и его господин, размякший и неспособный к осмыслению, исполнял эти дерзкие и даже наглые требования.
А как же иначе? Стоило только прозвучать голосу «синего пса» и Даут впадал в какое-то странное оцепенение, спасение от которого было единственное – чтобы скорее этот странный человек удалился. Теперь для начальника тайной стражи Гудо был скорее «синим шайтаном», но никак не «синим псом». Хозяин, под рукой которого всегда была неразлучная с ним собака, сам превратился в собачонку, только меньше ростом и совсем без лая. Теперь эта собачонка виляла хвостом и уступала во всем, стоило только большому псу лишь слегка порычать.
Безволие стало еще одной причиной хандры умного и некогда весьма ловкого византийского придворного. Но он никак не мог сбросить с себя невидимую сеть, что каждый раз покрывала его мозг, только раздавался голос этого мучителя. И Даут безропотно исполнял. Нужны деньги – бери не жалко. Нужны лес, веревки – да бери – завались. Понадобился искуснейший из кузнецов и опытнейший ювелир – стража доставила в тот же день. А еще раньше знаменитого на всю округу лекаря, для которого резать человека, приятнее, чем возносить молитвы Аллаху.
Вот только со слоновой костью пришлось повозиться. И далась этому «синему шайтану» слоновая кость? И не простая, а именно от молодого гиганта далекой Индии. И откуда он о ней знает?
Наверное, так же чувствовал себя и великий воин Хаджи Гази Эвренос. Проклятый магический голос «синего шайтана» совсем лишил рассудка Эврена, и тот с вымученной улыбкой отдал, по выходу из целебной воды, свой бесценный кинжал. Вот так просто: «синий шайтан» попросил, а Эврен улыбнулся и отдал удивительное оружие.
А самое удивительное (хотя можно удивляться поступкам шайтана?) этот кинжал был расплавлен пригнанным кузнецом, а из его металла тот же мастер выковал множество всякой всячины, в том числе иглы, штыри, крючки и сверла. Да такие крошечные, что и пальцами не ухватишься.
А еще первый помощник начальника тайной службы, который все же изредка наведывался в дальнюю комнату, шептал на ухо о том, что этот «синий шайтан» стал хозяином в доме, и теперь слуги, стража и даже «человек без имени» безропотно исполняют его приказы. Правда кое-кому кое за что он платит, но платит деньгами самого Даута.
Вот печаль, так печаль. Нужно выползти из прохлады комнаты и показать, кто здесь хозяин. Но еще есть пол кувшина вина и… И еще очень хочется провалиться в счастливый сон, в котором Даут вновь обласкан беем и с ним с уважением говорит мудрый визирь Алаеддин.
* * *
– Вставай, Даут! Просыпайся. Просыпайся. Нам нужно идти.
Это голос проклятого «синего шайтана». И когда только закончатся мучения несчастного Даута. Что еще ему нужно от отвергнутого всеми человека? Какие еще мучения он придумал? Куда идти? Зачем просыпаться?
Ох, и могучие руки у этого проклятия Даута. Разве им не подчинишься? Как ребенка подняли, как воришку оттащили в купальню, как младенца умыли и одели в поданные рабами лучшие одежды.
Придется ехать. Вот и лучшего скакуна подали.
И только взобравшись в седло и почувствовав животную силу подчиняющегося коня, Даут внезапно прозрел. Да он же сильный и храбрый мужчина. Он умный и хитрющий служака. Он начальник строящихся за ним стражников, и хозяин сбившихся в молчаливую кучку рабов. Он даже хозяин «синего пса». Пса, а не шайтана. Ведь кому-кому, а Дауту почти все известно об этом человеке. Именно, человеке! Хотя… Этот голос из тьмы, лишающий воли…
Но здесь на воле, на ярком солнце, Даут не позволит своему «синему псу» произнести и слова. А вот он и сам садиться на коня.
Даут уже готов был произнести несколько неприятных для этого человека в синих одеждах слов, но тут же осекся. Гудо приблизил к нему свое лицо и улыбнулся.
* * *
Весь путь до черного шатра бея Орхана Даут молчал и слушал скупые слова «господина в синих одеждах». Именно так теперь придется называть своего пса и немножко шайтана. А как иначе? Странный человек, и все-таки немножко шайтан.
Великий бей Орхан с изумлением слушал своего начальника тайной службы. Он и не должен был принимать в своем шатре Даута, но эту затянувшуюся историю нужно было заканчивать. Дел накопилось много, а еще больше тайных дел. Вот только кем заменить ловкого и всезнающего Даута? Вот проблема!
– Так ты говоришь, Даут, он в полной мере понимает, что его обращение ко мне может стоить ему головы, и все же принес эту самую голову и настаивает?
– Да, мой повелитель!
– Странный человек. Во многом странный. Повтори еще раз свой рассказ.
Орхан-бей слушал и не верил своим ушам. Ну как может человек сам себя так люто пытать? Как можно подвергнуть себя добровольно неслыханным по жути своей пыткам? Как можно терпеть, когда сверло просверливает десна, а нож хирурга кромсает губы?
– …Он сказал, что удивительную машину для сверления зубов он видел еще раньше. До того, как я подсунул ему книгу о пытках и казнях. Я действительно подсунул ему эту книгу в своем шатре. Мне хотелось знать, умеет ли он читать и заинтересует ли описание его бывшего ремесла палача. Тогда он лишь открыл и пролистал несколько страниц. Он знает эту книгу. Откуда в его варварской Европе столь ценная книга? И как он мог так точно запомнить удивительную машину, предназначенную для пыток путем сверления зубов. Это жуткая пытка. При первом же прикосновении сверла к зубу пытаемого он во всем признается!
Даут перевел дух и продолжил:
– И все же он сделал этот механизм. Искусный кузнец за два дня выковал из удивительного железа кинжала Эврена все, что было указано этим человеком в синих одеждах. Ювелир выточил по зубам, хранившемся в старом синем плаще этого Гудо точные копии. Из слоновой кости! Он же дал и крепчайший ювелирный клей, на который сажают в оправу драгоценные камни. Мой палач, «человек у которого нет имени», взмок от собственных страданий пока сверлил ему десны и вколачивал туда металлические штыри. Этой пытки не перенес бы ни один человек. Во всяком случае, все кто желал это увидеть, сбежали, заметив то, как сверло вошло в указанное «господином в синих одеждах» место, а он не издал ни единого стона! А про то, как лекарь резал и опять сшивал ему изуродованные губы мне вообще страшно думать, не то что говорить…
– И все это для того, чтобы я увидел результат и понял, что ему под силу…
Орхан-бей не договорил. Он крепко задумался. И все же…
Отдать в руки этого шайтана (а разве этот в синих одеждах – человек?) крохотного Халила? Отдать, чтобы он так же терзал маленькие ножки? Если этот человек в синих одеждах и себя не жалеет, то как он может принять и понять боль маленького человечка? Даже представить себе страшно, как все это будет!
И тут же Орхан-бей увидел себя в сердце Византии, в сердце Константинополя, в сердце императорского дворца, во внутренних покоях принцессы.
Все уже решено, и теперь Орхану представят его будущую жену, юную Феодору. А пока османский бей хмуро оглядывает невиданную роскошь, что завистью режет сердце и заставляет гореть мозг. Стены и колоны отделаны пластинами из различных видов мрамора и оникса. Некоторые стены сделаны из стекла и расписаны цветами и фруктами. Под ногами и на потолке удивительные по сочности, красоте и тонкости мозаичные картины. В них ярче яркого сверкают ляпись-лазурь, агаты, горный хрусталь и даже рубины. А на маленьком столике золотисто мерцают стеклянные кубки, в которых рубином искрится вино. И вокруг множество свисающих золотых и пурпурных полотнищ, ковры удивительной работы и ярко расписанные статуи языческих богов и героев.
И вот приводят принцессу. На миг снимают кружева с лица и изумление Орхана возрастает. Ангел, истинно ангел. Он будет любить ее так, как не любит даже свой победоносный меч. Он все ей отдаст, и даже самого себя. Он будет любить это юное создание с той же силой и страстью, как любит он Всевышнего. Теперь она его божественная звезда, которая подарит ему самых красивых дочерей и самых сильных сыновей.
В положенный срок после свадьбы появился на свет Халил, маленькая создание, что впервые заставило грозного воина улыбнуться. До пяти лет мальчик воспитывался, как и положено, в гареме. Но пришел срок взяться за его воспитание воинам. А значит, нужно брать в руки оружие и садиться на коня.
А потом было случайное падение с несущейся лошади и эти ужасные переломы ног. И тогда закрылся для Орхана полог шатра его божественной звезды. Да и сама Феодора едва не лишилась разума. Теперь она не верит ни в Аллаха, ни в христианского бога, ни даже своему мужу и повелителю.
Сколько же лекарей и хирургов перебывало у маленьких ног Халила. Не перечесть. И никто, и никто… Ни под угрозой казни, ни за горы золота и серебра.
А этот шайтан готов положить у ног повелителя свою жуткую голову. Он утверждает, что через несколько месяцев Халил будет бегать, прыгать и скакать на лошади. Безумец! А может, он просто желает отомстить бею османов, умертвив его любимого сына? Тогда нужно его не мешкая разорвать на множество кусочков, сжечь и пепел развеять по ветру.
Или?
– Где он? – все еще в раздумье спросил Орхан-бей.
– Здесь у входа, – затрепетал согнувшийся пополам начальник тайной стражи.
– Хочу взглянуть.
Орхан-бей резко взмахнул краем боевого плаща и быстрым шагом вышел из своего черного шатра. Здесь он остановился в шаге от странного человека в странных скроенных им самим синих одеждах:
– Выпрямься. Посмотри на меня. Покажи эти… Зубы!
«Шайтан. Истинно шайтан. А может только шайтану и под силу…»
– Даут, ступай. Примись за дела. А по поводу этого шайта… Человека… Я подумаю. Оставь его при мне!
* * *
С гор и нагорий подул теплый ветерок. Земля набухла от первого теплого дождя и стволы деревьев стали светлеть. Радостные пташки на лету хватали первую крылатую добычу и с особым старанием ворошили прошлогоднюю листву в поисках жирных червей. Здесь же они с наслаждением вырывали ростки травы и несли их в гнезда, сообщая своему крылатому семейству счастливую весть – весна пришла. Только вот густые облака не спешили расступиться перед щедрыми лучами небесного светила.
Самое время готовиться к новому походу на земли недругов. Самое время собрать мудрых советников. Самое время выслушать их и обсудить насущные проблемы и составить план боевых действий. К этому нужно отнестись со всей серьезностью, так как это вооружение, снабжение и в конечном результате – жизни многих газ, борцов за святую веру.
Много говорит Алаеддин. Много и как всегда мудро и верно. Ему вторят, иногда разумно противоречат многоопытные военачальники и лучшие из воинов. В черном шатре каждый имеет право высказать свое здравое мнение и суждение. Все как обычно. Как год назад, два и более.
Орхан-бей слушает и часто кивает головой. Говорит мало, но всегда взвешенно и справедливо. Его слова проникают в сердца и умы всех присутствующих. И не беда, что повелитель иногда замирает на полуслове. После короткого раздумья повелитель продолжает мысль четко и по обыкновению логично.
Но всем известно, отчего затруднена речь бея всех осман и многотысячного войска добровольцев гази. Сегодня тот самый день. День, которого с нетерпением ждет и все же страшится грозный бей по прозвищу Непобедимый.
– Король сербов Душан разослал гонцов во многие христианские страны с призывом выступить против нас. Но рыцари не спешат седлать коней. Они посматривают на поля Франции, где жаждут сойтись в сражении английское и французское рыцарство. Там рыцарские бои, слава и много золота в оплату меча и копья. Война с нами для них невыгодна. Нашим воинам нужна жизнь, а не доспехи и боевые лошади рыцарей. Выкуп из восточного плена многократно превышает выкуп из христианского плена. Да и их христианский папа не спешит объявить новый крестовый поход на Восток. Так что помощи от Центральной и Западной Европы король Стефан Душан вряд ли дождется. К тому же он ждет нападение венгров и боснийцев.
Византия вконец ослабла в своей гражданской войне. В Болгарских землях назревает смута. В начале лета ожидаются столкновения на море венецианского и генуэзских флотов. Милостивый Аллах совсем помутил разум христиан и открыл нам все дороги для победоносных походов!
Алаеддин поблагодарил Всевышнего, и искоса посмотрел на старшего брата. Все ли слова услышал повелитель? Все ли они достигли разума и сердца бея?
– Благодарю тебя, брат, за твою мудрость, – наконец произнес Орхан-бей, и великий визирь выдохнул с облегчением.
Все ждали продолжения слов бея, но повелитель умолк, уперев бороду в броню нагрудника. Сколько бы он не оставался в таком положении, больше никто не смел произнести и слова. Всем было известно – сегодня тот самый день!
Напряжение росло. Росло и беспокойство присутствующих в шатре. Казалось, люди уже перестали и дышать. И когда это стало уже невыносимо тягостно, полог шатра распахнулся и появился личный посланник бея.
Всегда серьезный и торжественный посланник кошачьим шагом скользнул к уху повелителя, коротко шепнул и тут же исчез.
Орхан-бей медленно поднял голову и медленно осмотрел присутствующих. Потом он очень медленно встал от древних подушек, набитых верблюжьей шерстью и неуверенно проследовал к выходу.
Силы покинули старого бея. Ноги подламывались, правая рука мелко тряслась, а сердце сдавливало беспокойство.
– Вон они! Спускаются с холма.
Орхан-бей оглянулся на произнесшего эти слова брата и благодарно кивнул ему, а также тем братьям по оружию и вере, что выстроились за спиной великого визиря. Все они до единого покинули черный шатер и, вытянув шеи, смотрели туда, куда не решался взглянуть их повелитель.
Усилием воли старый воин все же направил глаза на двух приближающихся всадников, за которыми плотными рядами уже двигалось все войско, располагавшееся в лагере бея. Кони приближались шаг за шагом, и каждая мягкая поступь их копыт громом отзывалось в голове повелителя. В тишине, редко нарушаемой лязгом оружия, храпом лошадей и стоном быков, этот гром был особенно мучим.
Шея Орхан-бея предательски согнулась, опять опустив голову.
«О, Аллах, справедливейший и всемилостивейший, помоги своему верному воину. Награди его за труды тяжкие и страдания ежедневные. Молю и уповаю на щедрость твою!»
– Отец, – вдруг тихо прозвучал детский голос.
Орхан-бей вытер пот со лба и с замиранием сердца взглянул на приблизившегося Халила. Лицо сына было не по-детски серьезным и строгим.
– Смотри отец!
И Халил легко соскочил с высокого седла!
Крик торжества и радости пронесся над тысячами воинов. Этот крик достиг небес. Дрогнув от человеческой радости, облака расступились, и на землю стрелой упал долгожданный солнечный луч.
Губы Орхан-бея сами по себе растянулись в радостной улыбке, а руки потянулись к сыну. Но Халил не спешил в объятия отца. Он стащил со стоящего за ним коня человека в синих одеждах и потянул его за руку к великому бею османов.
Только за несколько шагов, Халил оставил руку мужчины и бросился к отцу. Не в силах сдержать радость мальчик часто и быстро повторял:
– Отец! Я могу ходить. Я езжу верхом. Отец! Я хожу! Отец! Я езжу верхом!
Сглатывая слюну и чувствуя, как постыдная для сурового воина слеза накатывает на правый глаз, Орхан-бей крепко обнял сына и неожиданно даже для себя самого расцеловал в обе щеки:
– Хорошо сынок. Это очень хорошо. Ты вырастишь славным воином! Я буду гордиться тобой. Я горжусь тобой.
А крики радости и торжества не прекращались. Более того, они становились все слышнее и дружнее. Теперь, не в силах совладать с собой, кричали верные друзья и советники за спиной самого бея.
– Больно было? – тихо спросил племянника подошедший великий визирь.
Мальчик коротко кивнул головой и тут же засмеялся:
– Боль воспитывает воина.
Алаеддин не нашелся что сказать. Да и как можно говорить, когда из глаз просятся слезы, а грудь так и разрывает радость.
– Ах, отец!
Халил тут же освободился от объятий и подбежал к своему спутнику в синих одеждах.
– Пойдем к отцу. Мой великий отец вознаградит твое умение и знание! Вот увидишь, как щедр и добр мой отец. Отец! Моего спасителя зовут Гудо! Я буду помнить его имя до последнего своего дыхания. Спасибо тебе отец, что поверил ему!
– А как же ему не поверить? Простому человеку я бы не поверил. Но разве он простой человек? Да разве он человек! Он просто шайтан какой-то, – вдруг рассмеялся великий бей. Вслед за ним рассмеялись знатные воины и все войско. – Да и не шайтан он! Он шайтан всех шайтанов! Шатан-бей!
«Шайтан-бей! Шайтан-бей! Шайтан-бей!» – прокатились восторженные крики по рядам воинов. Пугаясь этих громких возгласов, по лезвиям выхваченных из ножен мечей запрыгали ослепительные зайчики торжествующего солнца, разогнавшего облака.
* * *
– Ну кто такой шайтан, я уже давно понял. Дьяволом меня часто и много раз называли. К этому и привыкать не нужно. А шайтан-бей – это что, сам сатана? – едва сдерживая улыбку, спросил Гудо.
Даут, косясь на налитый Гудо стеклянный бокал вина, засмеялся:
– Отчасти ты и прав. Но бей у турок не только главный. Он же вождь, а также глава семьи! Так что ты не только вождь шайтанов, но добрый и заботливый отец семейства. Так что смотри, держи крепко в руках свое семейство!
– У меня есть семья. Обычная человеческая семья, – нахмурил брови Гудо.
– Ладно, ладно! Я пошутил. Просто настроение игривое. Все получается. И получается хорошо! Теперь я в почете! Я благодарен Аллаху, что он послал мне тебя! Милость Всевышнего безгранична. Теперь ты свободен. В твоих руках тысяча золотых монет. Что будешь делать? Куда путь держать? Или все же останешься со мной? Вдвоем мы таких славных дел наделать сможем, а?
– Я должен найти свою семью, – упрямо ответил «господин в синих одеждах.»
– И я помогу тебе в этом, – уже серьезно сказал начальник тайной службы. – Ты спас мои кости, мою голову и вернул к тому, что мне по душе. А пока… Пока у меня для тебя маленький подарок.
Гудо без видимого интереса посмотрел на улыбающегося хозяина, возвратившегося в тайные дела дома.
– Я теперь не притрагиваюсь к вину. Дел накопилось по горло. Да и грех это великий. Так что и выпить с тобой не могу. Зато ты сможешь выпить с другим. Если пожелаешь разделить кувшин вина с рабом. Эй, войди!
Гудо оглянулся и до нитей сжал хорошо прижившиеся губы. От двери мелким шагом к столу подходил… Франческо.
– Выпью вина. Но сам, – обиженно произнес «господин в синих одеждах».
* * *
«Пора в путь. Но куда? Как мне отыскать милую Аделу и дорогих сердцу девочек? Где они? Что с ними? Господь милосердный, укажи мне путь. Дай мне знать, и я пойду хоть на край света. Помоги Господи, рабу твоему. Сними с меня проклятие палача и дай дожить, сколько тебе угодно, рядом с дорогими сердцу родными. Я для них единственная защита и опора. Я сделаю все возможное и невозможное, чтобы они были счастливы».
– Господин, позволишь войти?
Гудо поморщился и с трудом поднялся с шелковой постели.
Не дожидаясь разрешения, в комнату вошел Франческо с большим медным тазом, до половины наполненным подогретой водой. Он тут же поставил таз у ног господина и бережно переставил их в приятную влагу.
– Позволит мне господин омыть твои ноги, – не поднимая глаз, спросил Франческо.
– Прекрати это, Франческо, – глухо отозвался Гудо. – Ты не годишься на роль Христа, в смирении омывающего ноги своих учеников перед Тайной Вечерей. И совсем все наоборот. Это я знаю, кто предатель, предавший учителя. И не надейся, что я поступлю согласно словам писания: «Я, Господь и Учитель, умыл ноги вам, то и вы должны умывать ноги друг другу».
– Amicus meus[179], – тихо обратился Франческо.
– Amicus verus – rara avis[180], – тут же на латыни ответил его господин. – И еще. Вот этот пергамент подтверждает то, что с сегодняшнего дня ты не раб. Ты свободный человек. В этом кошеле пятьдесят золотых флоринов. Ступай, куда пожелаешь. Но на глаза мне не попадайся.
– Я поступлю так, как ты скажешь. Вот видишь, ты во всем оказался прав. И другом я тебя называю от всего сердца. Не ты ли предрекал это еще в пещерах Марпеса. Но я молю тебя об одном – выслушай меня. Я знаю, причиной твоего гнева является то, что я не дал тебе убить Мартина. Но я не мог поступить иначе. Тому есть причина и величайшая тайна.
– Вот как? – изумился Гудо.
– Да, мой друг.
– Я не желаю знать никаких тайн. Я знаю их слишком много. Эти тайны разлучили меня с семьей. Я желаю единственного – спокойно жить с Аделой и дочерью и подальше от всяких тайн. А то, что я предрекал… Будь и дальше другом. Но недолго. Скоро я переправлюсь на европейский берег. Адела и девочки должны быть где-то на побережье. Я это чувствую. Возьму и тебя с собой. Там мы навеки расстанемся.
– Как пожелаешь, друг. Но если ты выполнишь мою просьбу… Клянусь, ты не пожалеешь! Это очень важно… Если ты меня выслушаешь… Смотри я перед тобой на коленях!
– Довольно, Франческо! Встань сейчас же.
– Не встану. Выслушай меня, – с мольбой произнес молодой генуэзец.
– Ладно. Я выполню твою просьбу. Но единственную и последнюю. Говори!
– Вообще-то их две… Просьбы. Нужно отправить письмо в Галату[181] друзьям моего покойного отца.
– Ладно. Помогу. И…
После долгого молчания, Франческо собрался с духом и вымолвил:
– Со мной должен отправиться Мартин!
* * *
Гудо еще раз пересмотрел те немногие, но необходимые вещи, что собирался взять с собою в путь. Завтра он навсегда покинет Брусу с ее удивительными садами и полезнейшими водами и отправится к побережью Дарданелл. Оттуда его перевезут в теперь уже османский, печально знакомый город Цимпе, а уж оттуда он отправиться в Константинополь.
Так советовал Даут, так он все устроил, именно так и поступит Гудо. Он бы отправился и двумя днями ранее, но «господина в синих одеждах» задержал проклятый Мартин, которого слуги начальника тайной стражи выкупили за золото Гуды из каких-то дальних каменоломен. Теперь Мартин в двойных цепях сидит где-то в узнице Даута. Гудо так и не пожелал на него взглянуть. Более того, приказал Франческо и выделенным начальником тайной службы людям надеть на его голову полотняный мешок. Пусть слышит, но ничего не видит. А главное, чтобы Гудо не видел этого ненавистного лица. А чтобы не слышать, он бы с удовольствием отрезал негодяю язык. Но «господин в синих одеждах» не решался подступить к Мартину. Вернее опасался того, что смертельно огорчит молодого генуэзца, невольно задушив его подопечного.
Оставалось лечь и хорошенько отдохнуть перед дальней дорогой. Но этому приятному расслаблению помешал начальник тайной службы.
– Ты нужен, Гудо. И ни о чем не спрашивай.
Уже привыкший к тому, что на турецких землях не терпят неповиновения, и все еще не освободившись полностью от мысли, что он уже не раб, Гудо послушно последовал за необычайно серьезно настроенным начальником тайной службы. Не успев удивиться тому, что их сопровождал всего один стражник, «господин в синих одеждах» с готовностью поднял факел над головой и направил рысью своего коня вслед, едва различимого в глухой ночи крупа скакуна Даута.
Быстро миновав узкие улочки Бурсы, всадники углубились в загородные сады. Здесь, среди просыпающихся после зимы слив, вишен, абрикос и айвы, то тут, то там находились небольшие, все еще достраиваемые, с высокими глухими стенами дворцы семьи и ближайших сановников самого бея.
– Отсюда пойдем пешком, – строго сказал Даут.
Оставив лошадей на попечение стражника, Даут и Гудо потушили факела и тронулись в короткий путь, ежемгновенно отстраняя длинные руки ветвей от лица и одежды. И хотя ночное небо не радовало мерцанием звезд и серебром луны, которые были тщательно задернуты плотными облаками, начальник тайной службы уверенно шел в нужном ему направлении. Эти сады и эти дворцы были ему особо памятны и частыми прогулками и теми событиями, что их сопровождали.
Подойдя к высокой стене из обожженного красного кирпича, Даут уверенно взял вправо, и скоро спутники оказались возле маленькой калитки, обитой железом.
– Ждем, – коротко велел начальник тайной службы.
Ждать к счастью пришлось недолго. Хорошо смазанная калитка открылась настолько, чтобы пропустить широкоплечего Гудо, которого Даут и впихнул со словами:
– Ничего не говори и ни от чего не отказывайся.
За калиткой на руку «господина в синих одеждах» легла пухлая, но очень тонкая ладонь. Чуть сжав руку ночному гостю, пухлая ладонь потащила его вдоль груды кирпича, досок и строительного мусора. Потом была широкая дверь и несколько длинных и узких коридоров.
– Ждите здесь, господин, – прозвучал странный голос сопровождающего, и Гудо уселся на мягкие подушки у складчатой занавеси, за которой мерцали два маленьких светильника.
И опять ждать пришлось недолго. Занавесь чуть качнула чья-та тень, и напротив «господина в синих одеждах» уселась фигура, тщательно укутанная в мягкие одежды. Из кокона одежды выдвинулась маленькая рука и, волшебством пройдя почти прозрачную ткань занавеси, легла на грубую ручищу мужчины.
Гудо не посмел одернуть свою руку, но ему была неприятна эта таинственность, ожидание чего-то, что могло оказаться и опасностью, а более всего то, что он решительно не понимал, чего от него желают. А еще давило то, что нельзя было сказать и слова, и теперь он понял, что и не услышит ни единого слова. Гудо был нем, глух и почти слеп. И это ему очень не нравилось. Хорошо, что эта, почти детская, рука долго не задержалась на его сжатом кулаке. Плохо то, что она вновь протянулась, на этот раз вдавив в кулак «господина в синих одеждах» бархатный мешочек.
Гудо не посмел отказаться, да и отказывать уже было некому. Занавесь все еще покачивалась, провожая таинственного обитателя таинственного дома.
* * *
Гудо так ничего и не понял из своего ночного путешествия. Он и не желал ничего понимать. Теперь он наслаждался морским ветром и тем, что окончательно уверовался в своей свободе.
Неумолимый барабан властвовал над веслами гребцов-невольников, приближая турецкую галеру к европейскому берегу. Еще несколько часов пути и Гудо направит свои стопы… Вот только куда? Все же в Константинополь? Даут так и не указал другой путь, в конце которого его ждала Адела и дети. Он только сказал, что в Цимпе их уже должны ожидать люди покойного отца Франческо, которым четверо стражников начальника тайной службы передадут укрытого мешком Мартина и самого Франческо.
И на том ладно. Гудо так и не сказал молодому генуэзцу и слова за весь путь от Бурсы до побережья. Так и не приблизился к нему, а все его попытки заговорить, властно останавливал движением руки.
На прощание Даут крепко пожал руку своему бывшему «синему псу», с которым провел больше года и вернул бархатный мешочек, который Гудо без сожаления передал после ночного визита в незнакомый дом. После прощального рукопожатия начальник тайной службы указал на готовую к отплытию галеру и сказал:
– Ступив на палубу этого корабля, ты опять пойдешь по пути испытаний и волнений. Это твой выбор. Я еще никогда не встречал мужчину, для которого женщина дороже его собственной жизни. Этого ни я и никто другой не понимает и не поймет. Наверное, это оттого, что живем мы во времена, когда меч в руке куда важнее и нужнее женских объятий. Но я верю, что придут времена, когда отцы будут радоваться детскому громкому смеху, а не оглядываться в тревоге, что на этот смех примчатся враги. Может быть то, с какой самоотверженностью ты отстаиваешь перед богом и людьми свое желание быть с семьей, вразумит опившихся кровью людишек, и они поймут, что счастье для человека – здоровая, крепкая и надежная семья. А у меня ведь тоже была семья. Но, наверное, я чего-то не понимал, если не смог ее уберечь. А может, бог не дал мне такого огромного сердца как у тебя.
Расчувствовавшись, Даут уже сделал, удаляясь, несколько шагов. Но вдруг резко повернулся и крикнул:
– Я прощаюсь, но не расстаюсь с тобой, большой человек в странных синих одеждах! А чтобы ты меня не скоро забыл, я буду напоминать о себе. Когда ступишь на землю Цимпе, загляни в мешочек!
Гудо только слегка улыбнулся. Он присоединил ночной подарок к тому золоту, что находилось в тайном кармане синего плаща и, не обернувшись, поспешил на галеру.
Теперь Гудо стоял на носу корабля и с нетерпением всматривался к приближающемуся с каждым взмахом весел невольников европейскому берегу. Уже скоро он ступит на пристань Цимпе, города сделавшего его рабом, откланяется Сулейману, что, по велению отца, готовит прием османского воинства в предстоящем походе, и тут же отправится в Константинополь. Но отдельно от Франческо и его людей. Теперь «господин в синих одеждах» намерен действовать только сам, опираясь на собственные силы, знания и опыт.
Хотя Даут и обещал помочь, но начальник тайной стражи османов и его обещания остались на азиатском берегу, о котором Гудо никогда не забудет. Да и дадут ли ему вскорости забыть?! Едва человек в синих одеждах ступил на борт корабля, над его палубой из уст в уста пронеслось: «Шайтан-бей, шайтан-бей, шайтан-бей!»
Даже паша галеры, высокий стройный молодой турок в богатых одеждах посчитал своим долгом поприветствовать того, кого сам Орхан-бей окрестил новым именем и обласкал дарами. Но Гудо не вымолвил ни единого слова, и обидевшийся турок только скрипнул зубами.
А вот и он, долгожданный берег. Крики, команды, суета и сутолока. На шатких от времени досках пристани уже собрались носильщики, старейшины, старшины и множество зевак в надежде повстречать знакомых и узнать новости с азиатской родины.
Сложив руки на мощной груди, Гудо так и остался лицом к вскипающему людскими трудами берегу. Он не повернулся и не пожелал увидеть то, как долго стоял у носа корабля Франческо, с надеждой устремив свой взгляд на «господина в синих одеждах». Уже на берегу, коротко поприветствовав людей отца из Константинополя, молодой генуэзец прощально взмахнул рукой Гудо, но тот так и не ответил. Вздохнув, Франческо уселся на поданного коня, и, опустив голову, удалился за стенами ближайших домов.
Только теперь Гудо медленно спустился на куршею галеры. Но он не ступил по ней и несколько шагов. Голос, глухой и печальный, произнес за его спиной:
– Нехорошо, когда друзья, пережившие вместе столько невзгод и опасностей, вот так прощаются. Даже руки не пожали…
Гудо в гневе обернулся. От его испепеляющего взгляда гребцы-невольники тут же опустили головы. Лишь одна голова не склонилась. Огромная голова в большом полотняном мешке с вырезами для глаз и рта.
«Господин в синих одеждах», изловчившись, поймал за ворот куртки мальчишку разносчика:
– Сними с этой головы мешок, – приблизив свое страшное лицо к оторопевшему турчонку, велел Гудо.
Мальчонка побледнел:
– Капитан-паша не велел. Лицо этого человека наводит печаль на господина, и он не может петь в усладу своему сердцу, когда желает его душа.
– Сними, – чуть скривил губы Гудо.
Мальчишка не посмел ослушаться самого Шайтан-бея и тут же, соскочив между банок гребцов, стащил с первого загребного мешок, укрывающий его лицо.
– Ах, – только и вымолвил «господин в синих одеждах».
– Да, это я, несчастный капитан Никос. Это мое лицо Минотавра не желает лицезреть турецкий паша и его утонченная душа.
– Как же так? – растерялся Гудо.
– Нас захватили уже через час, после того, как мое суденышко отплыло от Галлиполи, высадив вас. Теперь я несчастный раб вот на этой галере. А там дальше, по правому борту трое из моей бывшей команды. Вот так сложилась наша горькая судьба. Хотели порадовать семьи неожиданным заработком, а угодили в рабство.
– Проклятие палача. Оно всюду следует за мной и делает людей, помогающих мне, несчастными, – тихо прошептал Гудо. – Но так не должно быть, и так не будет.
– Кто посмел стащить мешок с лица этого урода! – гневно воскликнул приближающийся капитан-паша.
Гудо расправил грудь и, сдерживая нотки ярости в голосе, ответил:
– Это моя просьба, – не дав турку опомниться, «господин в синих одеждах» тут же громко заявил: – Я желаю купить этого раба и еще троих его товарищей.
Капитан-паша тут же расплылся в язвительной улыбке:
– Это дорогой товар. Даже для Шайтан-бея!
– Сколько? – сжав кулак правой руки, спросил Гудо.
Турок злорадно рассмеялся:
– Для достойного человека и брата-мусульманина я бы, пожалуй, уступил за тысячу дукат…
«Господин в синих одеждах» вздохнул. Вот как обернулось его нежелание удовлетворить попытку простого общения с этим молодым и холеным турком при отплытии галеры. Снабдив Франческо пятьюдесятью золотыми монетами и истратив почти столько же на сопутствующие товары и дорогу, Гудо не имел такой суммы. Да и выплатив ее, он оставался без гроша. А впереди была дальняя дорога со всеми ее непредсказуемыми расходами и неожиданностями.
Гудо оглянулся. На ужасной голове Минотавра вновь был мешок, который не позволял видеть то, что было сейчас на лице капитана Никоса.
– Я вернусь, – твердо произнес «господин в синих одеждах» и быстро спустился по доскам трапа на портовую пристань.
Едва Гудо ступил на доски пристани, от уха к уху всех присутствующих пробежал шепот: «Это он! Он, Шайтан-бей! Это знаменитый Шайтан-бей!».
Носильщики замерли, не ощущая тяжести переносимого груза. Старейшины и старшины склонили друг к другу головы. Воины и стражники приподнялись на носки, чтобы лучше рассмотреть человека, которого сам Орхан-бей назвал Шайтан-беем.
Но Гудо еще ниже надвинул свой капюшон и бегом спустился к кромке воды. Здесь среди ноздреватых от постоянной волны валунов, он поспешно вытащил кошель и пересчитал золото. Чудо не произошло. Оно явно не прибавилось, да и не под силу это даже Шайтан-бею – главе семейства нечистой силы. Вспомнив, Гудо вытащил и поспешно развязал бархатный мешочек, подарок ночного путешествия.
Но ни золота, ни серебра в нем не оказалось. Зато был большой золотой перстень с несколькими яркими камнями, да обвернутый красной шелковой лентой свиток дамасской бумаги.
Большой перстень разве что мог быть надет на мизинец Гудо. Да и не пристало простому человеку в простых одеждах носить на руке столь вызывающее украшение.
«Сколько этот перстень может стоить? – тут же задался мыслью «господин в синих одеждах». – Может, пятьдесят, а может сто дукатов? А если еще поторговаться с турком? Может, уступит?»
Но вспомнив надутое лицо капитан-паши сразу же после неучтивого поведения Шайтан-бея по отплытию, Гудо отрицательно закивал головой.
– Ты что там с морем разговариваешь? – послышался насмешливый голос в десяти шагах.
Гудо посмотрел в сторону произнесенных слов и тут же поспешил приблизиться к их произнесшему.
Сулейман, старший сын Орхан-бея, восседал на славном белом жеребце в окружении собственной свиты и воинов.
– Мне сказали, что Шайтан-бей бежал сюда, как будто за ним кто-то гнался. Кто же мог напугать самого Шайтан-бея?
Вспомнив обидчивого капитана турка, Гудо низко поклонился хозяину Цимпе и уже половины земель полуострова Галлиполи, на которых уже начали накапливаться османские войска.
– Приветствую славного Сулейман-Гази-Пашу и приношу свои извинения, что не сам тут же явился к его милости. Тысячу извинений и моя покорная голова…
– Ты что там делал? – с усмешкой спросил явно находящийся в отличном расположении духа Сулейман.
– Если желает меня выслушать достопочтимый сын великого бея, я скажу – дела торговые…
Сулейман громко рассмеялся:
– Шайтан-бей решил податься в купчишки?
– Прости меня, светлейший. Но я желал купить нескольких рабов, что сейчас являются гребцами на той галере, на которой я прибыл. Но… Капитан-паша…
– Как это говорится?.. Дорожит своим товаром?
– Да, мой господин. Он желает тысячу золотых монет. У меня от щедрости вашего отца столько уже не осталось. Вот еще есть этот перстень…
– Дай-ка его мне.
Сулейман долго рассматривал большой перстень с крупными камнями и задумчиво вернул его Шайтан-бею.
– Мне знаком этот перстень. Его любил носить на своем указательном пальце мой брат Мурад. Ты же не украл его? Или может какое-то волшебство?
– Нет, мой господин. Это подарок. Свидетель тому Даут.
– Хорошо. Оставь его при себе. Это знаменитый перстень. А что касается твоих торговых дел… Думаю, капитан-паша уважит мою просьбу. Жди здесь своих рабов. Ну, а с золотом тебе все же придется расстаться. Я человек небогатый, а впереди много расходов. Подготовка к войне дорогое удовольствие. Жди.
Гудо еще раз низко поклонился и вернулся к камням у кромки воды.
– Знаменитый перстень Мурада, – все еще не веря и все больше не понимая, вздохнул «господин в синих одеждах». – Чтобы это значило?
И тут Гудо подумал о свитке бумаги, обвязанной красной шелковой лентой.
* * *
Гудо уже в третий раз перечитывал написанное. Большие латинские буквы, выстроенные в строгий ряд при первом прочтении, при втором уже приплясывали. А при третьем прочтении и вовсе пустились в пляс. К тому же бумага в трясущихся руках ее читателя трепетала мелкой волной.
«Я исполняю свое обещание помочь. Эта весточка только начало, хотя и стоила мне многих трудов. Уж очень щекотливое было это дело. Я позволил себе перевести письмо на понятную тебе латынь. Ведь турецкий язык и письмо ты так и не пожелал осилить. И напрасно. Само письмо, полученное тобой в том доме (ты знаешь, о чем я), я уничтожил. Так спокойнее и тебе, и мне. И опять не прощаюсь. Даут».
Это было в конце письма. А само письмо заставило сильнее забиться сердце и взволновало душу.
Гудо в третий раз перечитывал его.
«Мой милый и дорогой Гудо. Мне сказали, что я смогу увидеть тебя. Хотя ни услышать тебя, ни самой тебя поблагодарить я не смогу. Так велено, так я и поступлю, чтобы не навредить добрым людям, устроившим нашу встречу. Прости, что пишу на турецком языке. Других букв я никогда не знала. И много чего не знала и не умела. Теперь я благодарю Аллаха, который принял меня от рук нашего справедливого Господа и устроил мою жизнь так, как только мечтать можно.
Я еще не жена доброго Мурада, но он сказал, что непременно стану, когда придет время, и мое тело будет способно без тягости выносить его ребенка. А еще он много раз говорил, что любит меня, и поэтому дерзнул похитить меня. Я слышала, что это похищение произошло у гор Парнаса. Тогда был ранен рыцарь по имени Рени Мунтанери из каталонцев. Он освободил нас из плена и вез в свой афинский замок. Но Мурад выследил его и напал. Это ради меня, а не для того, чтобы кому то еще навредить. Спасать рыцаря бросилась Грета. Турки не смогли ее схватить. Так же не смогли схватить и Аделу с малышом Андреасом. Их защитил наш тогдашний хозяин-герцог. Ты его знаешь по галере и тому ужасу, которому он тебя подверг. Если встретишь его, не убивай. Господь смиловался над ним и укротил его жестокость, сделав спасителем безвинных душ. А еще он очень добрый и ни в чем мне не отказывает. Я попросила что-нибудь в подарок, и он отдал с пальца красивое кольцо. Это то малое, чем могу тебя отблагодарить.
Я живу в том доме, где мы виделись. Я забыла, что такое голод и страх. Меня учат многому, что должна знать и уметь жена такого знатного человека как Мурад. Я очень стараюсь. Часто вспоминаю своих родителей и тебя, милый Гудо. Ведь это ты спас меня от позора и унижений на том ужасном острове и молился за то, чтобы судьба была добра ко мне. Я пою песни Мураду, но не часто. Ему очень нравится, и он говорит, что мой божественный голос способен не только разрушать мосты (был у меня с Гретой такой случай возле города Арты, за что нас объявили ведьмами), но и строить великие государства. Мурад часто в походе, и это печалит меня. Я его очень жду. А еще прошу, чтобы он не убивал христиан. Он обещал их обращать в истинную веру. А Аллах добрый бог. Я теперь это знаю.
Я знаю, что ты уезжаешь. Знаю, что тебя называют Шайтан-беем. Пусть бог и не бог помогут найти Аделу, Грету и Андреаса.
Помните меня, и я вас всегда буду помнить.
Сейчас у меня другое имя, но помните меня как вашу Кэтрин».
* * *
Гудо смахнул со щеки слезинку и посмотрел на заходящее солнце. Там, на западе, его ждала Адела с маленьким Андреасом и милая певунья Грета, у которой оказался голос, способный разрушить мост. Что тут удивительного? У Шайтан-бея дочь – шайтан! Гудо улыбнулся этой бредовой, и все же озорной, мысли и вдохнул всей шириной огромной груди.
Теперь он знал, куда идти, кого разыскивать из тех, рядом с которыми его родные, или они точно знают, куда дальше следовать счастливому отцу семейства. Именно счастливому. Ведь очень скоро Гудо будет со своей семьей. Он в этом был уверен, хотя и понимал, что для этого нужно будет прошагать множество миль и пережить множество дней. Но цель намного ближе, если знаешь дорогу к ней.
– Прости, господин Эй, что отвлекаю тебя от твоих мыслей и нарушаю приятное одиночество… Это мы, твои рабы…
Гудо обернулся. Низко склонив головы, перед ним стояли Никос и трое его моряков.
– Меня зовут Гудо. И вы не рабы. Вы свободные люди. Отправляйтесь к своим семьям. А если кто попытается вам помешать, скажите – мы под покровительством Шайтан-бея!
– Как? Мы свободны? Мы можем отправляться домой? О Господи, это чудо! Мы век будем за тебя молиться, добрый господин… Наш добрый Гудо. Мы будем до конца своих дней помнить твое имя и благославлять его в своих молитвах… Наш благодетель!
– Хватит! – криком успокоил всех четверых «господин в синих одеждах». – Ступайте с богом. Ваш путь не близок, а жены и дети очень ждут вашего возвращения.
Моряки отступили, еще раз поклонились и, оглядываясь, медленно поплелись в сторону города. Остался только капитан Никос.
– Чего стоишь? – нахмурился Гудо, – Ступай. Держись своих друзей. Так легче вам будет добраться домой.
– Господин… Гудо. В этом кошеле сто золотых монет. Владыка Сулейман велел передать тебе. Капитан-паша уступил ему в цене за нас…
– Вот как! – обрадовался «господин в синих одеждах». – Вот только… он тут же отсчитал половину и ссыпал ее в огромные ладони человека, которому так подходило имя легендарного чудовища. – И не смей мне перечить. Это вам в дорогу, а оставшееся – для детей.
– Благодарю, мой добрый господин, – лицо Никоса странным и все же ужасным образом искривилось.
– Может ты еще и заплачешь у меня на груди? – с усмешкой спросил Гудо, – Оставь слезы для встречи с семьей. Они обязательно будут. Ты сильный человек, и я сильный…. Но я знаю… Я чувствую, что и я не смогу сдержаться…. Только бы Господь скорее приблизил тот миг, когда я увижу своих родных…
– Пусть Господь поможет тебе. Ты самый достойный и светлый из тех людей, что встречались мне на жизненном пути. Вот только…
– Что только?
– Франческо…
– Что Франческо?
– Не хорошо вы расстались. А ведь он спас твою жизнь… Помнишь… Когда ты тонул. Это он первым бросился тебя спасать, и он же держал тебя над водой, пока я не подоспел…
– Да, это верно. Гнев затуманил мою память. И как я мог об этом забыть? Ведь я ему обязан… – растерянно произнес Гудо.
– Мы все спасли твою жизнь. А сегодня ты спас нашу. И все же этот молодой генуэзец…
– Да, да! Я был несправедлив к нему. Мне нужно было выслушать моего… Друга! Но я все исправлю. Я догоню его! Мы с ним поговорим! Как добрые друзья!
– Уже почти ночь, а турки не позволяют передвигаться по городу и окрестностям в ночи тем, кого они презрительно именуют райя[182]. Все христиане на подвластных им землях уже не люди, а скот, работающий и оплачивающий налоги.
– Что ж, тогда дождемся утра, – решил Гудо, – Крикни своим. Будем пока держаться вместе.
* * *
Совершив обязательную полуденную молитву Зухр, Сулейман, по устоявшейся в последнюю неделю привычке, отправился в порт. Сейчас там все решалось и все устраивалось. Прибывали воины и их боевые лошади, оружие и продовольствие, строители и мастера военных укреплений. Цимпе становилась несокрушимой твердыней, опорой османов на европейской земле. Отсюда было удобно проникать во Фракию, Македонию, южную Болгарию и далее в другие христианские земли.
Как и всякий раз после благодатной молитвы Сулейман был добродушен и даже весел. Предстоял большой и счастливый поход, который принесет еще больше славы, богатства, рабов и сладких девственниц. Ведь Аллах весьма благосклонен к семье Орхан-бея. Особенно к старшему из сыновей – Сулейману. Поэтому Сулейман с особым рвением и старанием исполняет ракаты[183]. Значит, он никогда не попадет в огненный ад. Ведь сказал Посланник Аллаха: «Кто до и после полуденного фард-намаза читает четыре раката сунны-намаза[184] постоянно, для того Аллах сделает Ад закрытым»!
Сегодня был пасмурный день. Над морем единым черным покрывалом висело низкое облако. Под ним сварливо накатывали друг на друга шипящие волны. А между небом и водой безмолвно секли воздух грустные чайки.
– Галера, – тихо подсказал Ибрагим, самый молодой и самый любимый воин из охраны наместника Карасы и теперь еще и Галлиполи.
Сулейман кивнул головой. Все же не зря он прибыл в порт. Хотя бы один корабль рискнул перевалить пролив в такую неприветную погоду.
– Смельчак, – добавил Ибрагим, и Сулейман опять согласно кивнул головой.
Каково же было удивление наместника, когда с быстроходной галеры по доскам трапа спустился только единый Даут.
После долгих взаимных приветствий Сулейман озадаченно произнес:
– Я конечно рад тебя видеть. Но разумно ли использовать корабль только для того, чтобы перевести одного, хотя и очень важного, человека?
– Я бы не рискнул в такую погоду перевозить воинов великого бея и драгоценный груз. А своей головой я привык рисковать.
– И на то есть причины? – насторожился наместник.
– Не особо важные, – скосил взгляд начальник тайной службы. – Но мне необходимо кое-что уточнить, чтобы наш великий бей имел полную картину подготовки похода. Я жду нескольких осведомителей из Константинополя. Уже глядя в глаза, закончил Даут.
– Будь гостем в моем дворце. Хотя он еще не закончен, я для тебя подберу подобающее помещение. Для тебя и твоих тайных дел.
Взобравшись на поданного коня, начальник тайной службы занял место рядом с Сулейманом. Они уж готовы были покинуть небывало скучный за прошедшую неделю порт, когда взгляд наместника остановился на сидящих на краю пирса оборванцев.
– Я узнаю эту чудовищную голову и отталкивающее лицо. Они ничуть не красивее и даже отвратнее чем у нашего Шайтан-бея. Это и есть раб Шайтан-бея? А где же его «господин в синих одеждах»? Эй, ты! Подойди ко мне.
Услышав повеление наместника, Никос тут же подбежал и пал на колени перед конем Сулейман-паши.
Остановив движением руки приветствие раба, наместник сурово спросил:
– Что вы тут делаете? И где ваш господин?
– Наш господин… Он не наш господин, – начал сбивчиво объяснять Никос.
– Это как же? – нахмурился Сулейман.
– Наш господин вчера даровал нам четверым свободу, и сказал, что если кто нам попытается помешать, то нужно сказать: «Мы под покровительством Шайтан-бея»!
– Знатное покровительство, – усмехнулся Даут.
– Надежное покровительство, – уточнил Сулейман. – И что думаете делать?
– Мы еще не решили. Нужно конечно идти до первого христианского порта, а там наниматься на корабли, идущие к Архипелагу, но…
– Что но? Вам кто-то мешает? Или что-то? – решил уточнить начальник тайной службы.
Человек с телом и головой Минотавра тяжело вздохнул:
– Наш господин… Господин Гудо… Он ускакал вночи. Теперь мы не знаем, как поступить. Отправиться за ним, чтобы помочь? Но у нас нет лошадей. А если мы будем бежать даже весь путь до города Галлиполи, то все равно не поспеем.
– Ускакал в ночи? Мне не докладывали… Как же это он проскользнул? Неужто мои дозорные пропустили ночного всадника? – озабоченно вымолвил наместник.
– Разве можно удивляться Шайтан-бею, – пожал плечами Даут. – Но меня больше интересует другое: что заставило этого человека бежать в ночи? Неужели?..
Но начальник тайной службы не закончил своих слов. Он мигом погрустнел и приложил руку к груди:
– Говори. Все говори, – строго велел он.
Никос оглянулся по сторонам, пытаясь найти поддержку или какое-то укрытие. Но и то, и другое было только в его правдивых словах.
– У нас есть монеты. Нам дал их человек, который велел называть себя Гудо. Я и мои друзья очень отощали на галере. Вот и решили устроить сытный ужин. Гудо не отказал нам в удовольствии разделить с нами половину жареного барана, сыр и овощи. Это было здесь. Недалеко. В портовом доме для гостей. После полуночи к нам подсели двое странников, что не могли уснуть от наших разговоров. Мы еще удивились тому, что эти люди пришли издалека, и все же принесли с собой два больших кувшина вина. Мы давно не прикасались к вину. Оно для нас было слаще меда.
Когда мы выпили вина и разговорились, эти люди сказали, что идут из какого-то рыбачьего селения. Очень спешат, но не решаются в ночи идти по этим землям. Им известен закон османов.
– И куда они спешат? – что-то предчувствую, спросил Даут.
– Они сказали, что спешат в Галлиполи, в этот город хмурых и злых людей.
– И что в Галлиполи? – сжал на груди одежду начальник тайной службы.
– Спешат, но могут и не успеть. Но им очень хочется посмотреть, как будут сжигать пойманную на колдовстве ведьму. Такого уже давно не случалось в этих краях. Оттого им очень хочется посмотреть. А еще они сказали, что у этой ведьмы есть красавица дочь. Так та еще могущественнее матери. Есть свидетели того, что она своим пением в горах Эпира обрушила каменный мост!
Когда Гудо это услыхал, то схватил их обоих и приподнял над землей. Так они, не касаясь земли, и договорили все что знали.
– И что еще сказали? – вытер взмокшее лицо Даут.
– Они сказали, что ведьмина дочка улетела ночью из темницы, а вот сына стража едва усмирила и усадила в железную клетку. Этому мальчонке нет и трех лет, но силище от отца Сатаны такая, что он легко разбрасывал воинов, пока на него не набросили освещенную в церкви петлю. А что это выродок самого сатаны, то это заметно. На нем есть знак отца – противника божьего!
– И что это за знак? – по-видимому, уже зная ответ, тихо спросил начальник тайной службы.
– Половина уха. Вторую половину сатана откусил сразу же после рождения, пометив свое потомство. После этих слов Гудо растормошил хозяина таверны, отдал ему пятьдесят золотых за лучшего коня и умчался, не сказав и слова. Если я и не все понял, то догадываюсь. Ведь Гудо… Он разыскивал свою семью. Может, эта женщина и этот малыш… Вот и не знаем, как поступить. Может, нужна наша помощь нашему благодетелю. А может уже и поздно. Ту ссору, что произошла в доме для гостей, слышали многие. Некоторые на рассвете подались в Галлиполи. Им тоже не терпится посмотреть, как будут сжигать колдунью с дитем самого сатаны.
– Где эти странники из рыбачьего поселка? – с надеждой спросил Даут.
– Они исчезли, едва Гудо бросил их на землю.
– Значит, я опоздал, – склонил голову начальник тайной службы. – Слишком поздно мне сообщили о возможной ловушке для «господина в синих одеждах». Они следили за ним. Ведь молва о страшных деяниях «синего шайтана» уже давно бродит по побережью. А главная из них – «синий шайтан» приносит в город чуму, а потом обессиленный город захватывают турки! Его враги догадались, кто этот человек с обличием шайтана. Это не сложно. Такое лицо и тело не укроешь, даже синим плащом. Они все знали и все точно рассчитали. Как теперь ему помочь? Кто поможет?
– Ни Аллах, ни шайтан… И уж точно не я, и не ты, – развел руками Сулейман. – Этим варварам-европейцам, наверное, очень нравиться сжигать женщин. Сущие дикари! Да, наша семья очень обязана этому человеку. Но отец расплатился с ним за его искусство лекаря сполна. Так что… И не могу я с тремя тысячами всадников осадить Галлиполи. Это крепкая твердыня. Да и отец уже отправил посланника в Константинополь к императору Иоанну Кантакузину, чтобы передать ему ключ от Цимпе в обмен на десять тысяч дукатов. Отец внял все-таки просьбе своего тестя во имя своей жены Феодоры. Летом Цимпе опять станет христианским городом, и нам будет сложнее переправляться в Европу. Так что я не поведу своих воинов. Разве что…
– Разве что? – с надеждой спросил начальник тайной службы.
– Разве что Аллах прикажет мне громом своего повеления и поколебав им земную твердь под копытами моего коня!
* * *
Конь пал под Гудо, сломав в расщелине земли переднюю ногу, уже ввиду стен Галлиполи. Но «господин в синих одеждах» даже не взглянул на страдающее животное. Он бегом направился к городским воротам. В голове пытались зародиться тысячи мыслей, но все они погибали под тяжестью одной – «Я должен успеть!».
Работающие на полях, идущие по дороге, едущие в повозках и верхом с удивлением смотрели на огромного бегущего мужчину в странных синих одеждах. Без особого удивления, но с видимым страхом расступилась перед Гудо воротная стража.
– Иди за мной! – громко велел мужчина в черном плаще.
Его глубоко надвинутый капюшон плаща не позволял разглядеть лица, но голос мужчины был настолько знаком Гудо, что он тут же понял, его ожидали и ожидали именно сегодня.
– Лекарь Юлиан Корнелиус…
– Отец Роним! Младший трибунал святой инквизиции! – гордо воскликнул бывший лекарь, сбрасывая с головы капюшон и тем самым выставляя напоказ шрамы, обезобразившие его лицо.
– Вот как! – понимающе закивал головой Гудо.
– Именно так! Я прошел долгий путь осознания своего предназначения. Путь, который до встречи с отцом Марцио был стезей лжи и обмана. Еврейский мальчик хитростью и подлостью своей семьи стал христианским юношей, втайне поклоняющемуся лжебогу. Потом студент юрист в годы неразберихи, что решала все в чумные годы, украл диплом лекаря и имя Юлиан Корнелиус. Но Господь не позволил продолжить этот сатанинский путь и наставил на путь истинный!
– И первый шаг помогли сделать палачи инквизиции? – вздохнул «господин в синих одеждах».
– О, нет! Хотя… Мне показывали их мастерство и инструменты. Но… Слово! Святое слово, что в день и в ночи указывает и наставляет… Отец Марцио и его братья доминиканцы[185] не жалели себя в борьбе за мою душу. Они вырвали ее у сатаны! Теперь я «пес Господен[186]», что рыщет в день и ночи и рвет еретиков клыками веры и справедливости…
Вот мы и пришли. Я уже многое знаю о тебе, Гудо – «господин в синих одеждах»! Знаю, что твой разум разительно отличается от твоего обличия. Поступай верно, и он очень долго тебе послужит… Надеюсь все же, что твои новые зубы не от сатаны?
Гудо усмехнулся и бывший лекарь, дрогнув, отступил.
– Иди к той башне. Там на верху тебя ждут.
Отец Роним набросил капюшон и застыл, скрестив руки на животе.
Гудо отяжелевшими, будто к ним привязали по несколько боевых молотов, ногами поднялся на смотровую площадку башни.
Те немногие, кто здесь находился, были до боли знакомыми людьми. Проклятый герцог со своими закованными в броню верными телохранителями Аресом и Марсом и дряхлый инквизитор отец Марцио, никак не желающий покинуть грешную землю. Не поприветствовав собравшихся, Гудо застыл, сбросив капюшон. Но и герцог, и инквизитор также не поспешили высказать своих слов и не поднялись с раскладных табуретов. Только огромные Арес и Марс, с обнаженными мечами, стали позади «господина в синих одеждах».
– Где она? – не выдержал Гудо.
– Подойди туда, – указал сухим от старости пальцем отец Марцио.
«Господин в синих одеждах» с замиранием сердца приблизился к зубцам башни и взглянул вниз. Там, во внутреннем дворике донжона[187] среди редких кустов медленно, держа малыша за руку, прохаживалась Адела. Это была действительно она. Хотя Гудо и не видел ее лица и даже головы, покрытой большой фетровой шляпой, но его сердце не могло ошибиться. Как и не могла ошибиться душа, готовая вырваться наружу и слететь к ногам этой женщины.
Не в силах сдержать радости Гудо воскликнул:
– Адела, это я Гудо! Я пришел…
Предательское волнение жестоко сжало его горло, не дав произнести важные слова. Гудо стал яростно тереть шею и грудь, но это не помогло.
Услышав крик, женщина подняла голову. Она тут же ахнула, узнав своего Гудо, и в готовности к чему-то тут же взяла малыша на руки.
– Гудо! Гудо! Мы здесь! – и она в волнении, цепляясь краем платья за колючие ветки кустов, заметалась по дворику. Потом остановилась и виновато сказала: – А я вот хромаю. Грета говорила, что кости неправильно срослись.
– Все хорошо, – наконец выдавил Гудо, держась за горло, – Мы уже вместе. Я обо всем позабочусь. Ты не будешь хромать. Я вылечу тебя. Все будет, как и должно быть…
– Это верно, – послышался сзади голос отца Марцио, – Все будет, как и должно быть.
Гудо резко развернулся и ступил несколько шагов к инквизитору. Но тут на его плечи легли железные руки Ареса и Марса. «Господин в синих одеждах», повинуясь, застыл с опущенной головой.
– Мой долгий путь, кажется, подходит к концу, и я с чистой совестью и спокойным сердцем могу вернуться в монастырь и вознести последние молитвы к святым небесам. Верно, Гудо?
Отец Марцио с трудом поднялся с раскладного табурета и старческим шажком подошел к тому, кто несколько лет был его единственной целью и желанием ее достижения.
– Вот моя голова, отец Марцио. Голова в обмен…
– Знаю, знаю, – поднял руку старый инквизитор. – Это непостижимо… И все же это было бы достойно славы и подражанию… Но, но, но… Свою любовь и великую преданность ты посвятил не Господу нашему милостивейшему, а обыкновенной женщине. Простушке, которая оттолкнула тебя, и из-за которой ты испытал множество мучений и страданий. В наш век насилия, множества смертей, предательства и лжи немного найдется примеров верности и… Мой язык с трудом произносит, но мой мозг не желает этого понимать – любви к женщине! Грешно даже подумать: любовь к женщине приравнять, а в твоем случае скорее предпочесть любви к Господу! Отдать все силы, великий разум и всего себя не во славу Всевышнего, а… а… Непостижимо! Но оставим все это глупцам трубадурам и давно забытым миннезингерам[188]. Они этим любовным бредом и призывом вернуться к забытым временам влюбленного рыцарства пытаются прокормить себя. Перейдем к важному. Где наследие демона Гальчини? Где его проклятый кожаный черный мешок, со всем его дьявольским содержимым?
– Я отдам его, если…
– Значит, мы уже договорились, – взмахнул рукой отец Марцио. – Мы даже подпишем договор и скрепим его церковной печатью. Живи со свое Аделой…
– И детьми, – быстро вставил Гудо.
– … и детьми где пожелаешь. Хочешь быть лекарем – будь, хочешь продолжить свое ремесло… Но нет! Думаю быть палачом – это тебе не по душе. Да и семье твоей… Кому желательно из рода в род носить печать палача? Хотя… Такого как ты великого мастера принял бы с распростертыми объятиями любой властитель. И даже святая инквизиция! Подумай сам! С твоими умением, знаниями и настойчивостью ты мог стать величайшим из защитников нашей церкви. Ты бы уничтожил всех еретиков. Не только силой своих рук и ума, но и той убийственной славой, которой окружила бы тебя людская молва! Еретики отказались бы от своих заблуждений, а самые преданные сатане и вовсе задушились в петле, если бы знали что за ними придет сам святой отец Гудо! А может ты подобрал бы себе другое имя, навек позабыв проклятое Господом и людьми имя Гудо. Но довольно. Я устал от множества беспокойных дней. Ступай, тебя проводят. Через несколько дней мы отправимся туда, куда ты укажешь.
– А…?
– И твоя семья с нами. Ведь мы же подпишем договор и будем его строго исполнять. Господь тому свидетель! А пока, для твоей безопасности и нашего спокойствия, посиди взаперти. Тебе к этому не привыкать. Но, надеюсь, в последний раз.
* * *
Гудо проснулся от глухих ударов. Он не сразу понял, что могло породить эти звуки, но прислушавшись, сразу же прильнул к узкой бойнице, заменявшей в этой комнате окно почти у самой земли.
Удар, еще удар, а в след им людской крик. Такое «господин в синих одеждах» уже слышал множество раз. Так глухо и мощно бьет таран в крепостные ворота. Так нетерпеливо и даже восторженно кричат те, кто вот-вот ворвется во вражескую цитадель и одержит желаемое.
И хотя Гудо не видел, но не сомневался: многочисленное воинство штурмует цитадель города Галлиполи. Кто это мог быть, как это случилось и что причина этого? Он не мог даже предположить, но сердце заныло от тревоги в предчувствии худшего. А ведь засыпая, «господин в синих одеждах», был почти уверен, что худшее позади. И даже надеялся на то, что Господь смилостивился и снял с него «вечное проклятие палача». Ведь он так много страдал, молился и уповал на божью милость…
Гудо бросился к дубовой двери и стал яростно колотить в ее крепкие доски.
– Кто-нибудь! Эй, кто-нибудь! Откройте, богом молю! Откройте! Что происходит? Откройте!
Но кто может услышать человека за толстыми стенами и крепкой дверью. Кричать в бойницу? Так и нужно поступить. Гудо чувствовал, как срывается его голос, но никто так и не подошел к этому окошку. Кто услышит запертого в темнице, когда такое происходит у ворот цитадели? И уже когда «господин в синих одеждах» почти отчаялся, маленькое окошко в двери, через которое узникам подавали пищу, отворилось.
Гудо тут же бросился к этому спасительному проему:
– Эй, кто тут? Что происходит? Откройте, богом молю, откройте!
Огромная голова Гудо не могла пролезть в маленькое окошко, но все же он сумел разглядеть знакомые воинские доспехи.
– Я вижу! Это вы, Арес и Марс! Несчастные братья-близнецы. Откройте своему Гудо. Ведь вы должны меня помнить! Давно, еще очень давно… Там в подземелье Правды. Вы плакали, а я, чтобы хоть как то вас утешить рассказывал сказки и пел песни. Я был на цепи. Вы не могли меня видеть из своей клетки, покрытой черной тканью. Но мой голос вы слышали. Слышали и умолкали, пока я пел песни и пытался сложить очередную сказку. Ответьте мне, как отвечал вам я на ваш плач!
Но Арес и Марс молчали. Два демона в темноте прохода. Два молчаливых, закованных в броню демона, для которых мир людей существовал в ограниченном понимании – убить, покалечить того, на кого указано для защиты своего господина.
Гудо застонал. Все его знания и умения сейчас были бесполезны. Даже внушить им свою волю, заставить повиноваться «господин в синих одеждах» был не в состоянии. Внутренняя тревога и ослабляющее волнение не давали ему сосредоточиться. К тому же эти два железных великана были не так трусливы и слабы, как бывший лекарь Юлиан Корнелиус тогда на галере, и не павшие духом и опьянены как Даут в своей темной комнате. Те легко попали под власть голоса и внушения Гудо. Эти же творения изувера Гальчини мало что имели общего с человеком. Разве что оболочку…
Оболочку и…
Гудо едва не воскликнул от внезапно ворвавшейся в его мозг обнадеживающей мысли. Прочь слова, прочь уговоры, прочь все! Приди, приди, приди и разбуди!
«Тра-та-та-та та-та тра-та-та та-та. Тра-та-та та-та тра-та-та та-та. Тра-та-та-та та-та тра-та-та та-та. Тра-та-та та-та тра-та-та та-та…»
Замычал Гудо. Сначала тихо. Потом все громче и настойчивее. И вот ему припомнились уже и сам Стрелок Рой и его издевательская песенка о бедолаге Эдварде:
«Чьей кровию меч ты свой так обагрил? Эдвард, Эдвард?
Чьей кровию меч ты свой так обагрил?
Зачем ты глядишь так сурово…?»
– Тогда нас учили тому языку, на котором ты желал нас утешить, – вдруг тихо и непривычно пискляво раздался голос из-за двери. – Плетью и голодом учили. Мы не желали знать слова этого языка. Но твой голос был добр. Мы запомнили слова этой песенки. Ты напомнил их нам, там, на галере. Но мы никак не можем вспомнить продолжение. Ты остановился тогда на галере на словах:
«…Конь стар у тебя, эта кровь не его, Не то в твоём сумрачном взоре!»…
– Вы помните, мои добрые дети! – воскликнул Гудо.
– Пой! – сурово ответили из темноты «добрые дети».
– Сейчас, сейчас, – заторопился Гудо. – Как там… Эдвард, Эдвард… Сейчас… Сейчас…
Но слова проклятой песни не спешили воскреснуть в памяти. Гудо в отчаяние ударил несколько раз головой о двери, но и это не помогло.
– Сейчас, сейчас…
Проклятые слова, проклятой песни не желали воскрешаться и помогать Гудо.
Окошко стало медленно закрываться. Медленно и страшно как в самом жутком сне, из которого нет пробуждения.
О проклятие палача! Господь только усмехается, а Гальчини, ненавистный мэтр Гальчини, сатанински смеется. И тут за одно мгновение перед глазами Гудо прошли все десять страшных лет в заточении подземелья Правды. День, за днем, месяц за месяцем, год за годом. Невыносимая боль, голод, издевательства и…
– «Отца я сейчас заколол моего, Мать моя, мать! Отца я сейчас заколол моего,И лютое жжет меня горе!», – вдруг радостно прискорбные строчки пропел, вернее, прокричал Гудо.
Окошко вновь распахнулось.
Гудо продолжил, силясь овладеть мотивом песни:
– «А грех чем тяжелый искупишь ты свой, Эдвард, Эдвард? А грех чем тяжелый искупишь ты свой, Чем снимешь ты с совести ношу?»– А дальше? – послышался все тот же голос из-за двери.
– А дальше Эдвард говорит, что уплывет в непогоду и ветру все паруса бросит…
– Мы вспомнили это!
И тут два писклявых, неприятных голоса, дружно и очень тихо закончили песню:
– «А матери что ты оставишь своей, Эдвард, Эдвард? А матери что ты оставишь своей, Тебя, что у груди качала?» «Проклятье тебе до скончания дней, Мать моя, мать! Проклятье тебе до скончания дней, Тебе, что убить отца нашептала!»Последнюю строчку братья пропели, уже находясь в комнате Гудо.
– Что здесь происходит?! Как вы посмели без моего приказа? – раздался гневный крик, и в узницу ворвался герцог наксосский.
Арес и Марс виновато опустили головы и прижались к стене.
– Проклятые олухи! Вы знаете, сколько пришлось выложить золота этому проклятому сербу, чтобы он вернул вас мне! Вы и одного дуката не стоите, дети грязной свиньи!
– Они не дети грязной свиньи, – заревел Гудо. – Они дети благородного отца!
– Что? – задохнулся в гневе Джованни Санудо. – Да как ты смел такое сказать? Я тебя…
Но великий герцог не смог ударить в лицо «господина в синих одеждах». Гудо уклонился от удара и тут же нанес свой удар под грудь напавшему. Не дав опомниться ни великому герцогу, ни его телохранителям, он повалил Джованни Санудо на пол и сдавил локтем его горло. Тут же он выхватил поясной нож из ножен Джованни Санудо и слегка вонзил его под сердце.
– Назад, Арес и Марс! А не то, я его убью!
Близнецы отступили к стене, так и не вытащив мечи из ножен.
– А теперь вы узнаете правду! Кто эти близнецы?
Гудо надавил на рукоять ножа.
– А-а-а! – завыл великий герцог.
– Говори правду и только правду. В моих руках все говорили правду и только правду.
– Я даже не знаю их настоящих имен. Я похитил их у турок… У османского вельможи, – прохрипел Джованни Санудо.
– Почему ты похитил детей османского вельможи?
– Я с другом, бароном Рамоном Мунтанери, привез османам рабов на продажу. Мы захватили их на одном из островов. Нам хорошо заплатили. Мы на радостях выпили. А потом… А-а-а! Проклятый палач! Оставь мое сердце… Я скажу… Мы решили подсмотреть за тем, как купаются мусульманские женщины в море. Невинное юношеское развлечение… Рамону удалось бежать, а меня схватили и привели к двум братьям. Это были Алаеддин и Орхан. Я их молил, и они с оглядкой на мой юный возраст не казнили меня. Только Орхан наказал меня… Он всадил, по совету старшего брата, в мочевой канал моего фаллоса колючую ветку. Так поступали еще в Древней Греции с врагами, которых более следовало помиловать, чем казнить. Но это страшнее казни. О, это была невыносимая и физическая и душевная боль.
Мне велели убираться прочь. Но я… Мы с Рамоном решили отомстить и в ту же ночь проникли в лагерь турок. Нам удалось похитить двух малышей. Мы знали, что у Алаеддина и Орхана дети родились почти в один день. И я надеялся, что похитил детей обоих братьев. Но это были близнецы. Я сначала хотел их убить и отправить трупы отцу. Пусть хотя бы один из них испытает ту боль, что выворачивала мою душу. Но потом передумал.
Я сделал более правильно…
– Ты отдал детей изуверу Гальчини, и тот сделал из детей не только кастратов, но и монстров воинов. Безжалостных убийц и послушных псов! Такие были в особых отрядах тамплиеров. Я читал записки Гальчини в своих долгих скитаниях!
– Да! Гальчини привез на острова к моему отцу мой крёстный Марино Фальери. Гальчини прятался от врагов запада и востока. Мы подружились. Потом он спас мою жизнь, но вынужден был отнять у меня фаллос. Он же предложил отомстить, превратив малышей в верных телохранителей. Для этого понадобилось много времени и золота. Но результат произошел все ожидания. Пусти меня, проклятый палач. Они не только мои псы – они мои дети, о которых я заботился всю жизнь! Они мои дети.
– Нет! Это дети великого османского визиря Алаеддина. Они услышали твой голос, после которого их не били и не подвергали мучениям. Потом ты им показал солнце и якобы одарил свободой. Тогда близнецам было уже лет пятнадцать. Это было в предпоследний год жизни Гальчини. Ты продолжил по запискам Гальчини их обучение и мучение. Эти дети все слышали. Пусть сами решают, как с тобой поступить. А сейчас скажи, кто это штурмует цитадель?
– Уже не штурмуют. Они получили то, что желали. Вчера пришли люди из Цимпе и сказали, что желают посмотреть на огонь пожирающий ведьму и ее сына с откушенным ухом. Им так сказали в турецком городе. Они все рассказали. Рассказали и о Шайтан-бее, которого его повелитель тьмы отправил на покорение христианского города Галлиполи. Тебя многие видели. Горожане взбунтовались, когда правитель города, которому отец Марцио щедро отсыпал золота, отказался выдать ведьму и тебя, Шайтан-бей. Тогда они пошли на штурм. Слышишь?! Штурм закончился. Бунтарям выдали женщину, чтобы выйграть время и спасти… Постой ты куда, безумец! Твоя жизнь не принадлежит тебе! Она принадлежит святой церкви! Они сожгут тебя! Безумец! Безумец!
* * *
Но последних слов Гудо уже не слышал. Он бежал по узким коридорам цитадели, открывая все двери по пути. Наконец он вырвался из башни. Его облик был настолько ужасен, что стража вмиг разбежалась.
«Господин в синих одеждах» пролез в пролом ворот и помчался на оглушительные крики, что слышались за несколько кварталов.
– Смотрите, это Шайтан-бей! Проклятый Шайтан-бей, насылающий чуму и пожирающий христиан, – раздался звонкий женский крик из распахнутого на втором этаже окна. Тут же идущие впереди по улице остановились и оглянулись. Из дверей домов и из углов улиц шагнули десятки вооруженных мужчин.
– Шайтан-бей! Шайтан-бей! Шайтан-бей! – кричали мужчины, женщины, дети, длинные заборы, высокие дома и камни мостовой.
– На костер его! На костер! К ведьме! К его ведьме! – откликнулись, прибежавшие с площади, люди.
Десяток хорошо вооруженный мужчин набросились на человека в синих одеждах. Но ни их оружие, ни мужская сила, ни воинское мастерство не помогли им. Рассвирепевший Гудо легко разбросал их, ломая кости и дробя челюсти. Теперь в его руках оказался меч одного из нападавших.
– Я спасу тебя, милая Адела! – закричал «господин в синих одеждах» и бесстрашно двинулся на фалангу горожан, прикрывшихся щитами и ощетинившихся копьями.
Улыбка не сходила с уст Гуда. Лицо покрылось потом, а из многочисленных уколов на теле фонтанчиками била кровь. Но Гудо шаг за шагом теснил многочисленную фалангу, прокладывая себе путь к страшному месту, на котором совершалось безумство. Под его ноги падали раненые и убитые горожане. Гудо переступал и наступал на эти тела, вертелся волчком, подпрыгивал и пригибался. Острие его меча было похоже на волшебное перо, что описывало стальной шар вокруг его тела. Но все же время от времени оружие врага проникало в эту оболочку и достигало тела человека сражающегося как истинный демон.
Постепенно силы стали покидать Гудо. Многочисленные раны ослабили могучее тело. Теперь уже злобные галлиполяне теснили Шайтан-бея и его «чуму». А врагов все прибывало и прибывало. К тому же над крышами домов показался проклятый черный дым.
«Ведьма горит! Ведьма горит!» – раздались крики радости, заставившие замереть несчастного Гудо. Но лишь на миг. Взревев, он рванулся вперед.
И тут произошло чудо!
Фаланга дрогнула и стала отступать. Справа и слева от «господина в синих одеждах» яростно и умело размахивая мечами, теперь сражались Арес и Марс. Удивленные и раздосадованные многочисленными потерями горожане стали шаг за шагом отступать и оглядываться в поисках помощи, а то и спасения.
Еще миг и распавшаяся фаланга побежала.
Гудо с удивлением увидил еще одну неожиданную помощь, что ударила в спины галлиполян. И неудивительно, что горожане в страхе побежали. Ведь на помощь Шайтан-бею пришел еще один демон! Так подумал каждый из воинов города Галлиполи, что увидал звериное обличие Минотавра, размахивающего огромной дубиной. Рядом с ним храбро сражались трое его верных друзей моряков.
Коротко кивнув капитану Никосу, Гудо поспешил на площадь, над которой уже густыми облаками клубился черный дым.
Не чувствуя ног и сердца, Гудо завернул за край последнего дома и обомлел.
Жертва костра уже не кричала. Жаркие языки пламени жадно доедали обугленную человеческую плоть. Вокруг места казни в радости бесновались старики, старухи, женщины и дети. Чуть в стороне, злорадно улыбаясь, опирались на щиты и копья их сыновья, мужья и отцы, не участвовавшие в битве с Шайтан-беем.
– Шайтан-бей! Шайтан-бей! – раздался громкий крик, и вся площадь мигом уставилась на новую жертву.
– Хватайте демона, посланного сатаной! Сожгите его, пока чума не сожрала вас, а турки не захватили ваши дома! – прокричал священник в высокой черной атласной шапке и для верности указал крестом на медленно приближающегося «господина в синих одеждах».
Но Гудо уже не видел и не слышал ничего, что происходило вокруг него. Запах горящей плоти отнял у него и глаза, и уши. Он уже не мог устрашиться острию наставленного на него многочисленного оружия. Он не мог оглохнуть от истерического визга и крика. Он мог только бросить окровавленный меч и воздеть окровавленные от собственной и чужой крови руки к небесам. А еще он мог вскричать так, что толпа остановилась и умолкла:
– Проклинаю этот город и этих людей! Господь или сатана! Кто из вас справедливее и поможет мне? Покарайте этот город! Да совершится проклятие палача!
Силы оставили Гудо и он рухнул на колени, а затем распластался на камнях площади.
– На костер посланника сатаны, проклявшего наш дом, наш Галлиполи! – крикнул священник.
– На костер! На костер! На костер! – заорала толпа и бросилась к распростертому телу в синих одеждах, над которым тут же вкруг встали его друзья демоны, посланные сатаной.
Но едва рассвирепевшие горожане приблизились к кругу детей сатаны, подземный мир задрожал самым сердцем – адом! Эта дрожь достигла поверхности земли, поколебав ее твердь. Совсем немного, совсем чуть-чуть! Но этого «совсем» хватило на то, чтобы люди упали, почувствовав, как камни площади уходят из-под их ног. Упали, на близь стоящих и находившихся внутри домов горожан и гостей города стены и крыши домов. На них же повалились деревья и статуи от древних времен. Рухнула воротная башня и в стенах, опоясывающих Галлиполи, образовались провалы. Даже церковь, дом Господен, не выдержала и рухнула вовнутрь. Все, что осталось от святой обители – входные врата, да склонившийся к земле деревянный золоченый крест над ними.
Крест еще держался волей Господа и волокнами еще нестарого дерева. Да еще старанием полумесяца в его основании, со звездой на кончике рога. Эта чаша, она же цата[189], изображавшая земную твердь и в то же время Вифлеемскую колыбель Христову, провозглашалась православной церковью как корабль. Корабль, плывущий в тихую пристань вечной жизни через бурные волны краткой земной жизни. И этот корабль никогда не собьется с пути истинного, ибо на носу его та самая звезда, что указывала еще путь волхвам к колыбели Спасителя!
Но этого никто не заметил. Побледневшие и вспотевшие от страха обитатели Галлиполи, едва поднявшись на ноги, бросились вон из собственного города. Онемев от ужаса и ничего не способные объяснить тем немногим из живых, что выбирались из под руин, свидетели проклятия палача спешили покинуть губительный для их жизней проклятый город. Вслед им бежали и те, кто собственными ушами не слышал страшных слов, но не способные в себе подавить общую панику, охватившую город. Только бы подальше от дождя черепицы и града камней, что без разбора убивали стариков и младенцев.
А когда город опустел, за исключением тех немногих, что от ужаса присели вокруг распростершегося тела того, за кого они сражались, над руинами, пылью и дымящимися кострами пожарищ от домашних очагов и места казни, повисла мертвая тишина. Домашние животные погибли вместе со своими хозяевами в их домах. Уличные кошки, собаки и крысы, почуяв звериным чутьем беду, еще раньше горожан бежали на каменистые равнины Галлиполийского полуострова. Поднявшаяся от крика людского на крыло птица все еще устало и высоко кружила темными облаками, не решаясь опуститься на потревоженную землю.
* * *
Сколько Гудо просидел в пепле у обугленных ног жертвы человеческой дикости, он и сам не мог сказать и понять. Он вообще ничего не понимал и не мог сказать и слова. Кажется, он видел, как склонялась над ним голова Минотавра капитана Никоса, как что-то говорили его моряки. Как в скорбном карауле возле него рядом стали несчастные братья близнецы. Как, наконец, исчезла последняя струйка дыма, и как вокруг места казни запрыгали привлеченные отвратным запахом черные вороны.
Но все это было где-то там. Там… Где-то… А тут был Гудо. Проклятый Господом и людьми палач Гудо, ужасное лицо которого стало еще отвратнее от пепла, копоти, пыли, и все это перемешавших слез нечеловеческого горя. А еще были обугленные на ступнях до кости ноги, к которым прижимался щекой мужчина в синих одеждах и что-то беззвучно шептал. То часто и с улыбкой, то едва двигая губами и с тяжелыми вздохами.
Он и не видел того, как на площадь мерным шагом вошел прекрасный белый жеребец, на котором восседал сам Сулейман-паша. Как из-за его спины выехал на черном скакуне и обратился к своему бывшему рабу Даут. Как в скорбном понимании окружили место варварской дикости и человеческого позора множество конных воинов.
– Кажется, он сошел с ума. Мы не успели. Слишком поздно Аллах известил о своей воле, – скорбно произнес, вернувшийся к владетелю Цимпе, начальник тайной службы.
– Так было угодно Аллаху! – поднял к небесам руки Сулейман-паша.
В прерываемой криками ворон тишине глухо ударился о камни площади золоченый крест. Головы всех собравшихся на площади повернулись на этот звук.
Сулейман-паша направил своего коня к месту падения креста и, осмотрев и его и место где он пребывал, усмехнулся.
– Воины ислама! Османы и мои доблестные гази! Посмотрите на этот павший крест. Посмотрите и туда, откуда он был низвергнут. Твердь, чаша земная[190], на которой покоился крест, незыблема волей Аллаха, как и его звезда о пяти концах. Это воля Аллаха и пять обязательных молитв в его честь на кончиках звезды. Пусть то, что осталось незыблемо от христианского знака отныне будет несокрушимым символом нашей веры и отличительным знаком османов. Пусть враги ислама дрожат, едва только взглянув на полумесяц и священную звезду. Это воля и знак Аллаха! Он подарил нам еще один христианский город. Отсюда мы двинемся покорять дикарей Европы! Велик Аллах!
– Велик Аллах! Велик Аллах! Велик Аллах! – закричали восторженные воины, увидевшие знак Аллаха.
Воины Аллаха были настолько восторженны этим событием, что не сразу обратили внимание на то, как быстро вскочил на ноги Шайтан-бей. Они и не сразу поняли, что кричит человек в синих одеждах.
Не сразу понял и Сулейман-паша. Все объяснил Даут, внимательно вслушивавшийся в обрывки слов и возгласы, почему-то вдруг счастливо смеющегося Гудо.
– Великий Сулейман-паша! Я ошибся. Этот человек не сошел с ума. Но сейчас это может случиться. Но случится от счастья!
– Я не понимаю, Даут, – пожал плечами старший сын Орхан-бея.
– Я тоже не сразу понял. Но теперь понимаю. Шайтан-бей радуется тому, что кости на ноге той несчастной, чье тело подверглось казни на костре, целы!
– И что же? – все еще не понимал Сулейман.
– Он говорит, что его женщина… Она хромала… Кости после ранения неправильно срослись. А у этой несчастной кости ступни целы и невредимы. Ему ли в этом не разобраться. Ведь Шайтан-бей великий лекарь.
– Значит…
– Значит, на костре сгорела другая несчастная! Но не его Адела. Кажется, так имя женщины, ради которой Шайтан-бей отказался от многих радостей жизни!?
Сулейман-паша кивнул головой и, рассмеявшись, громко крикнул:
– Это не женщина Шайтан-бея! Ему повезло. Его бог смиловался над ним. А может и сам шайтан. Как же обидеть Шайтан-бея? Он сам, кого пожелает, обидеть может. С таким ни его бог, ни даже шайтан ссориться не пожелают. Ведь он самый настоящий Шайтан-бей!
Лица воинов посветлели от таких редких на их губах гостей, как улыбки. Послышался радостный смех и оживленные разговоры. И тут раздался крик. За ним другой, третий… И вот уже все всадники Сулейман-паши дружно кричали:
– Шайтан-бей! Шайтан-бей! Шайтан-бей!
А сам Шайтан-бей, не желая замечать людей и слышать их голоса, медленно подошел к лежащему кресту. Нахмуря брови, он оглядел множество всадников, над которыми лесом возвышались враждебные христианскому миру стяги. Тогда «господин в синих одеждах» поднял и водрузил на плечи павший крест. Не взглянув ни на кого, человек, прозванный шайтаном, медленно скрылся среди развалин проклятого им города.
– Пусть идет. В том, что содрогнулась земля… Наверное… Не понимаю. Но это страшный человек. Если он пожелает, то сможет собрать несокрушимое войско истинных шайтанов. Пусть идет и больше мне не встречается, – глядя на ликующих воинов, мрачно закончил Сулейман-паша. Впервые в жизни веселье в его душе так скоро было омрачено.
– Пусть идет! И пусть несет свой крест, – тихо сказал Даут и незаметно перекрестил «господина в синих одеждах».
Эпилог
Одежда Никифора, правой руки самого эпарха[191] Константинополя, была дорогой и изысканной. Белый хитон из тончайшей шерсти с щедрой золотой вышивкой, просторные наножники из бархата небесного цвета, широкий пояс с огромными золотыми бляхами, инкрустированными рубинами, сапфирами и модным янтарем. Красного цвета сапоги с загнутыми носками при каждом движении поигрывали крупными изумрудами в окружении морского жемчуга. Неуместный в такой теплый вечер плащ с меховой подбивкой хрустел расшитыми серебром и золотом сказочными грифонами, а неснимаемая парчовая шапка торочилась дорогущим русским соболем.
Впрочем, испив пятую чашу крепкого вина, Никифор все же приподнял свой драгоценнейший головной убор и протер огромную лысину затканным золотом платком из тончайшего, как паутина, египетского льна.
Выучившийся на нотария[192] Никифор сразу же понял – если начальник бездарь и невежа, допускает ошибки, то первейший долг служивого – держать язык за зубами. Иначе до конца дней останешься нотарием, а то и еще хуже, будешь утопленником качаться на волнах Золотого Рога[193].
В городе святого Константина для достижения высших ступенек власти требовались не столько умственные способности и ученость, сколько ловкость и умение преданно услуживать начальству в законных и незаконных делах.
Никифор в этом преуспел. Как и преуспел во множестве грязных делишек, как во взяточничестве, так и в незаконной торговле. Поговаривали даже о том, что Никофор, будучи начальником столичной тюрьмы, по ночам выпускал воров и грабителей, которые половину добытого отдавали их благодетелю. Из-за этого даже бунт случился в Константинополе. А всего через год после подавления выступления всяких там лавочников и ремесленников Никифор купил себе вторую должность после эпарха.
И все бы ничего. И все бы хорошо. Но проклятые турки…
Никифор с тоской осмотрел рейд Галаты и многочисленные корабли, готовые к отплытию. Несмотря на поздний вечер, сотни семей, от первых лиц государства до бедняка горшечника, стремились попасть на борт быстроходных галер, чтобы уже через месяц оказаться на итальянском побережье или даже в самой Испании. Да где угодно, лишь бы не остаться в городе, который вскоре неприменно возьмут в осаду свирепые турки.
А в скорую осаду жители Константинополя верили не меньше, чем в царство небесное. Ожидал ее и Никифор. Ведь после произошедшего два месяца назад землетрясения множество христианских крепостей на пути к столице подверглись разрушению. Теперь туркам легко было добраться к сердцу Византийской империи и поразить его. Тем более, что дни напролет к уже турецким городам Цимпе и Галлиполи все прибывали и прибывали грозные гази, подстрекающие к святой войне дервиши и множество семей кочевников, мечтающих выпасать свои стада на равнинах Фракии и в болгарских предгорьях.
В городе только и говорили: «Не погибли ли мы? Не находимся ли мы в стенах, как бы в сети варваров? Не счастливцы ли те, кто перед опасностями и рабством спешит уплыть в дальние земли?»
Об этом думал и Никифор, принимая приглашение герцога наксосского на его галеру. К тому же он не мог отвергнуть старого друга и компаньона по многим сомнительным сделкам и торговым делишкам.
«А вдруг и впрямь придется бросить свой дворец и множество всякого добра и, отдавшись на милость Джованни, бежать на его, богом забытые, острова? Но могу ли я доверять старому другу? Скорее нет, чем да. Я ведь так хорошо знаю своего друга Джованни Санудо», – византийский вельможа почесал вздернутую бороденку, и со вздохом выпил еще одну чашу вина.
За бортом неудачно расположившейся близко от пристани герцогской галеры продолжал паниковать город, а порт кишел людьми, как вшами рубище нищего.
Но только его светлость герцог не думает покидать ставшими опасными воды Константинополя. Наоборот он стремится не только задержаться в них, но и пробыть долго. До того самого дня, пока император Иоанн Кантакузин не соблаговолит принять его. А это и в добрые времена было долго. Очень долго! А сейчас… Просто руки сами по себе разводятся. Да и как может Никифор устроить сейчас встречу? Ведь у герцога совсем нет золота для подкупа тех, кто устраивает прием. А без золота, сам должен понимать, и осел не чихнет. Тем более приближенный к императору!
– Помоги, Никифор! – в который раз просит Джованни Санудо, с надеждой заглядывая в глаза друга.
– Сам должен понимать, Джованни. У императора сейчас забот и дел столько, что и не перечесть. А тут ты со своей…
Никифор едва не сказал «глупостью». Но так оно и есть! Подумать только – какой-то герцог голодных островов знает, как спасти Константинополь и всю империю! Ну, это еще ладно. А вот как! Вот это уже даже в широкие ворота столицы не лезет. Подумать только – стоит разыскать и схватить какого бродягу в синих одеждах и рыцари Запада по призыву самого папы Римского примчатся рубить ненавистных турок. Бред какой-то.
Да, до ушей Никифора доходили слухи о том, что османы из преисподняя вывели в наказание христиан какого-то Шайтан-бея, одетого в странные синие одежды. И даже то, что этот Шайтан-бей страшным заклятием разрушил стены Галлиполи, дав тем самым обильную тему для проповедей священников. Но если быть здравомыслящим человеком, то, как объяснить, что вместе с Галлиполи разрушены города Конур, Болайыр, Ипсала, Родосто, Иераполь и другие, которые также захвачены османами. Кто проклял все эти города? Опять же демон в синих одеждах?
Это россказни для глупцов ремесленников и их тощих жен, что только будоражат и так разгоряченные событиями головы, готовые бунтовать и не повиноваться. Не зря эпарх велел вырезать языки горожанам Галлиполи, что вопили на всех углах о проклятии Шайтан-бея.
Все более проще и обыденнее. Господь за грехи тяжкие наказывает людишек. Вот время от времени и трясет созданную им твердь. Сколько при жизни Никофора уже было землетрясений? И не упомнишь. А если забудешь, то нужно посмотреть на собор святой Софии, что уже столько лет стоит в трещинах и в обвалах.
– Никифор, послушай отца Ронима.
– Этого католика и инквизитора? – усмехнулся православный чиновник.
Джованни Санудо запыхтел:
– Конечно, отец Марцио мог бы убедительнее все рассказать. Но он погиб под развалинами цитадели Галлиполи. И все же отец Роним…
– Довольно, Джованни! Я не стану слушать врага православной церкви. И никто другой не станет его слушать. А что касается твоего «господина в синих одеждах», то… Я попытаюсь что-то сделать для тебя. В знак нашей давней дружбы. Если, конечно, это не людская молва и твои…
Вот опять с языка Никифора едва не сорвалось «пьяные бредни». Но он вовремя прикусил то, что баснописец Эзоп назвал самым прекрасным и самым гадким из того что есть в мире.
«Не стоит порывать отношение с этим герцогом. Мне еще может пригодиться его галера и скалистые острова. Может, мне пора собирать вещи? Во всяком случае, уже давно зашло солнце, и мне пора домой», – решил второй человек в управлении Константинополем и для видимости широко зевнул.
– Пора мне. Скоро будет совсем темно, – и Никифор в тоске посмотрел на сотни лодок и лодочек, что беспрерывно, в густеющих сумерках, сновали от пристани к кораблям и обратно, часто сталкиваясь и опрокидывая людей в воду. Такого не бывало даже в дни открытия весеннего плавания. Просто Вавилон какой-то на воде. А эти невыносимые крики множества лодочников, перевозимых ими глав семейств, их женщин и их грудных младенцев…
Но упрямый герцог не желает на все это обращать внимание, как и на то, что множество лодок и лодочек бьют бортами и веслами о его роскошную галеру, ставшую бортом к пирсу, отчего ее трудно было миновать. Устав, гребцы «Виктории» уже перестали отталкивать веслами непрошенных гостей и теперь только зло поплевывают на головы отчаившихся константинопольцев, чьи посудины прижались к корпусу галеры, не в силах протиснуться в беспрерывном движении напуганного деревянного табуна лодок.
– Нет, Никифор, ты не понимаешь. Ты не услышал меня. Ты не принимаешь мои слова всерьез. Давай еще выпьем и поговорим. Этот человек в синих одеждах… Его легко приманить. Нужно только сообщить всем и каждому, что его женщина и ребенок у меня на борту галеры! Он сам явится. И тогда мы его отдадим папе взамен рыцарской помощи. Это новый крестовый поход! Этот Шайтан-бей очень нужен папе Иннокентию…
– А еще сатане, Орхан-бею и ведьмам для шабаша, – уже начал сердиться старый друг. – На что толкаешь ты меня? Чтобы надо мной смеялся весь императорский двор? Да и вообще – существует ли этот человек со звериным обличием?
– Существует! Вот он! – радостно и громко воскликнул подскочивший из-за стола, накрытого на корме галеры, отец Роним. – Смотрите! Смотрите – это он, палач Гудо и он же Шайтан-бей!
– Быть не может. О Господи! – простонал Джованни Санудо, впиваясь взглядом в медленно идущего по куршее огромного мужчину в простой одежде ремесленника, в нелепом на его огромной голове чепчике.
Как же он не обратил внимания на то, что на его корабле умолкли все голоса и замерло все живое, уставившись на того, кого боялись как людоеда и содрогались от понимания того, что дьявол превратил его в злющего сарацина, от которого едва ушли, проклиная византийский город Цимпе.
Герцог наксосский видел этого дьявола во плоти, но не верил своим глазам. И только ушам был вынужден поверить.
– Я пришел заключить договор и выполнить его, – торжественно произнес поднявшийся в роскошную беседку на корме Гудо. И тут же добавил: – Если только Адела и малыш с тобой, герцог наксосский.
– Да. Со мной, – все еще не приходя в себя, едва вымолвил Джованни Санудо. – Я спас ее. И от костра, и от камней рушившейся цитадели.
– Значит, не зря Кэтрин просила не убивать тебя, – закивал головой неожиданный гость. – Я хочу увидеть Аделу и малыша.
– Эй, Крысобой, приведи женщину и ее ребенка! – тут же громко велел быстро трезвеющий великий герцог.
Еще одна чаша вина могла бы совсем привести его в чувство. Но могла и ослабить. Поэтому рука Джованни Санудо отринула от вина и легла на рукоять меча.
– Это тот самый человек? – с любопытством спросил Никифор и прищюрил свои слабые глаза.
– Тот самый, – уже властно вымолвил герцог наксосский. – А ты можешь идти вместе со своим императором… Теперь я все решаю!
– И святая церковь, – поправил его отец Роним.
– И ты ступай туда же! – возвратившись к себе, прежнему, воскликнул Джованни Санудо. – Все изменилось. Изменилось к лучшему. Теперь вы все – здесь! – и герцог наксосский показал крепко сжатый огромный кулак.
Он все же не выдержал и выпил полную чашу вина.
– А-а-а! Веди ее, Крысобой, сюда! Вот сюда! А ты, Гудо, стой, где стоишь! Договор, говоришь? Это тебе отец Роним напишет и печать поставит. Теперь печать и полномочия после смерти старого инквизитора у него. Пусть себе пишет. А я… А ты…
Джованни Санудо рванул на груди камзол.
– Видишь эту рану под сердцем. Она никак не желает затягиваться. Но большая рана в моем сердце. Ты лишил меня моих детей. Где мой Арес и Марс? Где моя защита и опора в этой проклятой жизни? Я тебя спрашиваю, проклятый палач!
Но Гудо не видел, как распылялся в гневе герцог Наксосский. Его увлажненный взгляд был направлен на улыбающуюся Аделу.
– Я пришел за тобой. Опять пришел, – виновато промолвил мужчина.
– Я ждала тебя. Ведь ты обещал, – ответила, слегка склонив голову, женщина. – Я всегда буду тебя ждать. Ты спасение мое и наших детей. А меня вчера ударил этот человек за то, что я просила еще немного воды для Андреаса.
Гудо повернул голову к Крысобою.
– Покажи мне руку, которой ты ударил мою женщину! – нахмурясь, велел Гудо.
– А это, тебе показать поближе? – злорадно улыбнулся и протянул вперед кнут комит герцогской галеры.
– И то верно, Крысобой, – засмеялся герцог наксосский. – А может, вместо договора заковать тебя в цепи, проклятый палач. Зачем мне этот черный мешок и записи в нем. Ведь все записи в твоей голове! Верно, Гудо? Ты их все прочитал. А что запомнил, не сомневаюсь. В твоей огромной голове Гальчини наделал множество полочек для огромной библиотеки. Ты мне выдашь все тайны тамплиеров. Я знаю о пытках не меньше тебя. Множество дней и вечеров я провел в компании с великим Гальчини, и они не прошли зря! А когда я буду все знать, тогда я поторгуюсь с папой Иннокентием. Быть мне капитаном крестового похода! Быть! Я жестоко отомщу Орхану и его семье. Над Иерусалимом опять поднимется святой крест! Имя Джованни Санудо будут произносить во всех соборах и церквях Европы!
– Отпусти нас, – тихо произнес Гудо.
– Отпустить? Да никогда и ни за что! – воскликнул герцог наксосский. – Крысобой, зови Адпатреса и его воинов. В цепи его и его шлюшку! И не двигайся, Гудо!
Острие меча Джованни Санудо коснулось груди Аделы, заставив заплакать прижавшегося к ноге матери маленького Андреаса.
– Убери меч! – с угрозой сказал Гудо. – А не то…
– Что, убьешь меня? – рассмеялся великий герцог.
Он уже видел, как отозвавшись на свисток комита по куршее бегут Адпатрес и его воины.
Гудо стал медленно приближаться к герцогу наксосскому.
– Крысобой! – дрогнув голосом, позвал, вмиг вспотевши, Джованни Санудо.
Тонкое жало безжалостного кнута резануло воздух. Не жалея руки и выдержав жуткую боль, Гудо схватил казавшуюся раскаленным железом плетенную бычью кожу. Он тут же рванул на себя это грозное оружие, повалив на доски кормы крупного телом Крысобоя. Наступив ему на шею, Гудо вырвал кнутовище из рук комита. Затем он с ужасным оскалом повернулся к взбирающимся на ступени воинам и крикнул:
– Остановитесь, если вам дорога жизнь. Смотрите!
И Гудо рукой указал на потревоженную сутолокой крысу. Мерзкий грызун, почувствовав к себе внимание, укрылся за столбом, поддерживающим балдахин беседки. За толстым кругляшом дерева уже было не увидать крысу, но Гудо это не остановила. Он взмахнул кнутом и, поправляя полет его кончика с железным крючком, особыми движениями отправил его за столб. Раздался писк, и разорванная пополам крыса разлетелась в разные стороны.
– Помнишь, Крысобой, ты сказал: «Под этими небесами еще не родился человек лучше меня владеющий кнутом. Если такой найдется, я сам брошусь в море и утоплюсь». Вот я. Вот кнут. А вот море.
– Да! Ты великий мастер кнута, – с уважением произнес поднявшийся комит. – Ты лучший из кнутобойцев, которых я видел. И все же… Не мне бросаться в море!
С этими словами Крысобой кинулся к малышу и, вырвав его из рук матери, бросил за борт.
– Ах! – только и воскликнула Адела.
Ее тело вмиг обмякло и стало медленно опускаться на доски галеры.
– Гудо, милый Гудо. Как же так?..
Ее глаза с надеждой смотрели на того, кто многократно спасал жизни и ее, и ее детей.
Гудо успел только улыбнуться. В следующее мгновение он уже летел в воду.
– Проклятый Крысобой! Что ты наделал! Где он? Прыгайте за ним! Он мне нужен живой! – заревел Джованни Санудо.
Но многие, склонившиеся над фальшбортом и не думали прыгать в черную от наступившего вечера воду. Тем более, что вдоль кормы «Виктории» взмахивали веслами идущие одна за другой три большие лодки под балдахинами.
– Если и выплывет, то весла изрубят его, – наконец нашелся что сказать обескураженный всем произошедшим Никифор. – К тому же вода еще холодная.
– Смотрите за водой! Смотрите! Слушайте! – все еще не терял надежды герцог наксосский.
Лодки прошли, оставив за собой серые кружева над черными волнами. За ними прошли другие, на которых все также громко ругались мужчины, противно пронзительно орали младенцы, и измученно ревели, лаяли и визжали животные.
– Нет. Не всплывет. Проклятый синий дьявол мертв. Он навсегда в гостях у морского царя, – ядовито улыбаясь, сказал Крысобой, и тут же сильный удар герцога свалил его с ног.
А у фальшборта, улыбаясь непонятно чему, тихо отозвалась Адела:
– Погостит и вернется… Вместе с Андреасом… Он всегда возвращается, мой милый Гудо. Он вернется. Вы же знаете, он всегда возвращается. А я им приготовлю бобы. Гудо любит бобы. Особенно, когда я их готовлю. Он любит смотреть, как я их готовлю. Тогда я поцеловала его. Там на острове… А потом мы… Но это можно рассказывать только на исповеди священнику. Вам я не расскажу. Дайте мне бобы. Я сама разведу костер. Вы принесли мне бобы?
Но склонившийся над несчастной Аделой Джованни Санудо только грустно покачал головой:
– Мне и самому впору сойти с ума.
У него еще хватило сил посмотреть туда, где исчезла его последняя надежда на триумфальное отмщение и великое возвышение. Но на этом месте, ставя точку, могильным холмом печально горбилась перевернутая в сутолоке людского бегства небольшая лодка, на которую уже наскочила посудина покрупнее. С нее тут же посыпались люди, корзины, мешки и огромные сундуки, калеча и отправляя на дно ранее перевернувшихся. Крики о помощи и призывы к состраданию заставили Джованни Санудо закрыть уши руками.
В следующий миг он уже спешил в свою адмиральскую каюту к спасительному крепкому вину.
А там далеко, где острие Золотого Рога вонзается в холмы, все еще виднелся краешек кровавого солнца. Прощаясь, он скользнул лучом по золотым куполам церквей и соборов Константинополя, напоминая о том, что завтра непременно наступит: утренними надеждами, желаниями и ожиданиями счастливого дня…
19.07.2012 г.г. ХерсонПримечания
1
Византийцев.
(обратно)2
Эгейское море.
(обратно)3
Лат. Победа.
(обратно)4
Деревянный настил вдоль галеры, возвышающийся над гребцами, переход от кормы к носу.
(обратно)5
Старший надсмотрщик над гребцами.
(обратно)6
Скамья для гребцов.
(обратно)7
Лат. «Диагностика посредством наблюдения».
(обратно)8
Лат. sermo vulgaris Народная латынь – разговорная разновидность латинского языка, распространённая в Италии, а позже и в других провинциях Римской империи. Именно народная латынь (а не классический латинский язык) является непосредственным предком романских языков.
(обратно)9
Учёная степень в некоторых западноевропейских университетах, равная докторской.
(обратно)10
Карательный орган Венеции, одной из главных функций которого был шпионаж.
(обратно)11
Лат. «диагностика на основании пользы от лечения».
(обратно)12
«Против силы смерти в садах нет лекарств».
(обратно)13
«Одной ногой в гробу».
(обратно)14
Лат. – происшествие.
(обратно)15
Варвар по латыни бородатый.
(обратно)16
Лат. «Отче наш».
(обратно)17
Лат. Радуйся, дева Мария.
(обратно)18
Лат. «Душа Христа».
(обратно)19
Лат. Кто ты есть?
(обратно)20
Штаны, короткие кальсоны, подвязывающиеся к поясному ремню.
(обратно)21
Устройство для извлечения стрел, созданная по идее арабского медика Альбукасиса. Вставлялось в рану, и прикреплялись к наконечнику стрелы, закрывая зубцы наконечника.
(обратно)22
Лат. «Отче наш».
(обратно)23
Ad patres – лат. «к праотцам».
(обратно)24
Остров, входящий в состав Великого герцогства Наксосского, Кикладские острова.
(обратно)25
Христианский праздник, отмечаемый в 40-й день по Пасхе в честь вознесения плоти Иисуса Христа на небо и обетования Его во втором пришествии.
(обратно)26
Скамьи для гребцов.
(обратно)27
Нем. Барбаросса – красная борода.
(обратно)28
Спекуляция – от лат. speculatio – выслеживание, высматривание.
(обратно)29
Вен. Золотая барка.
(обратно)30
Лат. «Мы женимся на Вас, Море».
(обратно)31
Мягкие сапожки без каблуков.
(обратно)32
Святой покровитель медицины.
(обратно)33
От греч. uron – моча, и skopeo – смотрю.
(обратно)34
Железа внутренней секреции бобра, обладает сильными бактерицидными и заживляющими свойствами.
(обратно)35
Ныне Хорватия.
(обратно)36
Построенная в XII веке колокольня города Сплит имеет высоту 57 метров.
(обратно)37
Обувь носки которой часто были настолько длинны, что загибались к верху, или подвязывались к поясу.
(обратно)38
Верхняя одежда.
(обратно)39
Скамьи.
(обратно)40
Фр. – цветная полоса по краю ткани.
(обратно)41
Фр. – женская одежда со шнуровкой на груди.
(обратно)42
Фр. – в 13–15 вв. женский головной убор, похожий на капюшон, с концами, завязанными вокруг шеи.
(обратно)43
Подчиненный рыцарю отряд, численность которого доходила да 150 воинов.
(обратно)44
Горы на Западе Балканского полуострова, в северной части Греции и в Албании (северные предгорья).
(обратно)45
Из рода Пирридов, (318–272 до н. э.) – царь Эпира (306–301 и 297–272 до н. э.) и Македонии (288–284 и 273–272 до н. э.). Это талантливый полководец, один из сильнейших противников Рима. Известен скептическим выражением «пиррова победа», одержанная за счет огромных потерь. Хотя гениальный полководец Ганнибал называл Пирра самым великим из полководцев и своим учителем.
(обратно)46
Столица эпирского деспотата.
(обратно)47
В середине VI века Маконский церковный собор в числе прочих важных вопросов рассматривал вопрос наличия у женщины души. Почти половина присутствующего духовенства категорически отвергла даже само предположение о том, что женщина может иметь душу. Мнения разделились, и лишь с перевесом в один-единственный голос собор христианской церкви признал – у женщины, хоть она и является существом низшего порядка, все-таки имеется некое подобие души. Было решено, что душа у женщин должна быть только потому, что после их смерти, должно же что-то гореть в аду!
(обратно)48
Исполнитель песен трубадуров.
(обратно)49
Крестьяне, зависимые селяне.
(обратно)50
Правящая в Египте каста воинов, состоящая из купленных рабов.
(обратно)51
Серб. – Король.
(обратно)52
Каталонская компания Востока, также Великая компания и Каталонская дружина – вольное объединение наёмников. В состав дружины вошли преимущественно католические рыцари: каталонцы, арагонцы, наваррцы, жители Балеарских островов общей численностью не менее 10 000 чел. во главе с Рожером де Флором. Организована по просьбе византийского императора Андроника II, пытавшегося бороться с натиском турок, которые к началу XIV века плотным кольцом взяли последние малоазийские владения империи.
(обратно)53
И в наши дни, желая оскорбить человека, греки называют его «каталонцем».
(обратно)54
Серб. – градоначальник.
(обратно)55
Серб. – торговая пошлина.
(обратно)56
Серб. – властёли-чичи, вассал крупного феодала.
(обратно)57
Серб. и визант. – пожалованное поместье.
(обратно)58
Город-государство на восточном побережье Адриатического моря.
(обратно)59
Денежная единица Византии, в которой производились все налоговые расчеты в Сербском королевстве.
(обратно)60
Согласно эллинистической мифологии, Ахерон (Ахерондас) была одним из рукавов «реки мертвых» Стикс и вливалась в болотистое озеро Ахерусия. По его водам скользила лодка Харона, перевозя души мертвых в Аид, поэтому на берегах реки с древних пор возвышалось святилище Ахерон, описанное в Гомеровой «Одиссее».
(обратно)61
Одно из самых известных прозвищ Зевса.
(обратно)62
Афины и сопредельные территории.
(обратно)63
Крупнейший торговый центр Средиземноморья, соперник Венеции. Мастеровой город на восточном побережье Адриатического моря. Славился торговцами, оружейных дел мастерами и ювелирами.
(обратно)64
Крупный феодал Сербии.
(обратно)65
Свод первых сербских законов принятый 21 мая 1349 года на соборе в Скопье, составлен на основе византийских гражданских, уголовных и церковных норм законов.
(обратно)66
Византийская золотая монета.
(обратно)67
От итал. lingua franca – «франкский язык» – смешанный (пиджинизированный) язык, сложившийся в Средние века в Средиземноморье и служивший главным образом для общения арабских и турецких купцов с европейцами, которых на Ближнем Востоке называли франками.
(обратно)68
Основан в начале 14 века возле города Арты – столицы эпирских властителей.
(обратно)69
После завоевания многих земель Византии 16 апреля 1346 года (на Пасху) Стефан Душан был коронован как «царь Сербов и Греков» (в греческих текстах – «василевс Сербии и Романии»; оба этих слова означали императорский титул.
(обратно)70
Поршни – обувь из одного или нескольких кусков кожи (главным образом из конины, лучшие – из свиной кожи), стянутая на щиколотке ремешком; постолы.
(обратно)71
Большой канал – является главной транспортной артерией Венеции. Длина канала около 4 километров, ширина – от 30 до 60 метров, а глубина в некоторых местах достигает 6 метров. По берегам канала богатые венецианцы строили свои дворцы, каждый из которых является настоящим произведением искусства.
(обратно)72
Дворец Фондаки деи Турки построен в 13 веке. В 1381 году здание дворца стало собственностью венецианского правительства, которое в течение нескольких лет использовало дворец как гостиницу для приезжающих в Венецию членов королевских семей. Сейчас в нем музей естественной истории.
(обратно)73
Дукат Венецианская монета из чистого золота весом в 3,56 граммов. На его реверсе был изображен святой Марк, вручающий штандарт коленопреклоненному дожу.
(обратно)74
Остров в Кикладском Архипелаге, в XIV веке принадлежал герцогству Наксосскому.
(обратно)75
Магистр ордена тамплиеров, казненный 18 марта 1314 года.
(обратно)76
Пылая на костре, магистр ордена Тамплиеров проклял короля Франции Филиппа Красивого и папу Римского Климента V божьим судом до года и одного дня. Папа скончался через месяц после сожжения магистра, а спустя восемь месяцев за ним последовал и 47-летний французский король.
(обратно)77
Независимое государство, возникшее после захвата Константинополя крестоносцами в 1204 году.
(обратно)78
Додон – древнейшее святилище Эпира. Жрецы Додона предсказывали волю богов по шелесту листьев священного дуба.
(обратно)79
Древнегреческий мудрец.
(обратно)80
«Во имя Отца, и Сына, и Святого Духа».
(обратно)81
Статуя бога Гермеса, охраняющие покой дома. Обычно это были камни, на которых были высечена голова, и фаллос бога. Устанавливались при входе в жилище, а так же на перекрестках улиц и дорог.
(обратно)82
Досл. «албанцы» – субэтническая группа албанцев, выделившаяся из собственно албанского этноса между 1300–1600 годами в ходе «балканских миграций», вызванных нашествиями крестоносцев и ослаблением Византийской империи. Позднее нашествием турок.
(обратно)83
Средневековое название полуострова Пелопоннес. Южная оконечность современной Греции. Своё название Морея получила от славянского «море», поскольку славяне, завоевывая греческие земли в VIII–X в.в. достигли Средиземного моря.
(обратно)84
Дельфины. Их мясо считалось пищей для бедняков.
(обратно)85
В Византийской империи деспот («владыка»).
(обратно)86
Византийские феодалы.
(обратно)87
Судовладелец.
(обратно)88
Радуйся, Мария – католическая молитва.
(обратно)89
От слова «banca», что значит стол, на который средневековые итальянские менялы раскладывали свои монеты в мешках и сосудах.
(обратно)90
Для европейцев общее название всех жителей Востока.
(обратно)91
Скарпель – стальной круглый или граненый стержень, расширенный к одному концу в виде остро отточенной лопатки. Скарпель используется скульпторами при обработке камня и каменщиками для пробивания отверстий в каменных стенах и борозд для дымовых каналов.
(обратно)92
Джамалудди́н Абу́ль Фара́дж Абдурахма́н (ок. 1116, Багдад – 1201, Багдад) арабский историк и философ.
(обратно)93
Неширокий балахон, доходивший до середины икры или лодыжки, с сильно заниженной талией, часто украшенный тесьмой по вырезу и подолу. Цельнокроеные рукава, широкие в пройме и сужающиеся к запястью (форма известная сейчас как «летучая мышь»), вначале заворачивались и закреплялись, а позже застегивались пуговицами.
(обратно)94
Женский котт, одетый на сорочку, менее широкий в пройме, чем мужской, с очень низким вырезом для шеи в центре, слегка прилегавший к груди, а затем свободно ниспадающий до лодыжек.
(обратно)95
Плащ-нарамник.
(обратно)96
Арабский писатель и полководец. Участник сражений с крестоносцами. Путешествовал по Сирии, Египту, Палестине, Месопотамии. Автор «Книги назидания» – автобиографической хроники, рассказывающей о быте арабов в XII веке и их отношениях с крестоносцами.
(обратно)97
Так на Востоке называли всех европейцев.
(обратно)98
Визант. – начальник личной канцелярии императора.
(обратно)99
Лат. – бородатые, т. е. не евнухи.
(обратно)100
Виз. – «Почтенный правитель».
(обратно)101
Древнеримский бог врачебного искусства.
(обратно)102
Лат. – Лекарь, исцели самого себя.
(обратно)103
Лат. – Больной ищет не красноречия лекаря, а целителя.
(обратно)104
При дворе византийских императоров комит ведал священными конюшнями императора.
(обратно)105
Лат. – «блаженная глупость».
(обратно)106
Греч. – «самодержец», титул в византийском мире эквивалентный императорскому.
(обратно)107
Король, правитель.
(обратно)108
Именно от слова «posita» произошло слово «post» – почта.
(обратно)109
Нем. – «Замок Марии».
(обратно)110
Членами Тевтонского ордена могли стать только уроженцы немецких земель.
(обратно)111
Библейский город, уничтоженный небесным огнем за великие грехи, в числе которых наибольшим было мужеложство.
(обратно)112
Только после страшного опустошения Причерноморья «черной чумой» 1346–1356 г.г. в рядах войска мамлюков, и до последних дней его, стали преобладать черкесы, выходцы народов Кавказа.
(обратно)113
Общеевропейская золотая монета весом 3,5 гр.
(обратно)114
Историческая область на Западном побережье Центральной части Греции.
(обратно)115
Порт и пригород Константинополя.
(обратно)116
Др. – греч. «коза» – в греческой мифологии чудовище с головой и шеей льва, туловищем козы, хвостом в виде змеи; порождение Тифона и Ехидны. В переносном смысле – необоснованная, несбыточная идея.
(обратно)117
Лат. – человек, человечный, человечность.
(обратно)118
Тур. – вождь, старейшина.
(обратно)119
Сражение состоялось осенью 1352 года на реке Марица у города Димотика.
(обратно)120
Небольшая галера с одним парусом, отличалась округлостью формы и приспособленная к всепогодным плаваниям по всему Средиземноморью.
(обратно)121
Помост над головами гребцов от кормы до носа.
(обратно)122
Поперечные стенки, делящие галеру на три части – нос, корму и среднюю часть.
(обратно)123
Серебряные монет Венеции.
(обратно)124
Год, в течение которого допускалась возможность особого отпущения грехов. Эта традиция имеет своё начало в Книге Левит Ветхого Завета Библии (25:10): «… и освятите пятидесятый год и объявите свободу на земле всем жителям её: да будет это у вас юбилей; и возвратитесь каждый во владение свое, и каждый возвратитесь в свое племя».
(обратно)125
От лат. bulla – «печать», букв. «пузырёк» – основной средневековый папский документ со свинцовой (при особых случаях – золотой) печатью.
(обратно)126
Главный административный орган Святого Престола и один из основных в католической церкви.
(обратно)127
Монета из чистого золота весом 3.53 гр. Чеканилась с 1252 года во Флоренции.
(обратно)128
Ученик Иисуса, Апостол Петр признан первым Римским папой.
(обратно)129
В церковной истории город на юге Франции Авиньон имеет большое значение, так как на протяжении 69 лет (1309–1378) служил местопребыванием пап. Климент Пятый, по приказанию короля Франции Филиппа IV перенёс туда свою резиденцию из Рима. Но и после этого периода, известного под названием «авиньонского пленения пап», до 1409 года город являлся резиденцией многих непризнанных пап.
(обратно)130
Призрак, образ из прошлого.
(обратно)131
Древнегреческая мера измерения – примерно 200 метров.
(обратно)132
Древнегреческая богиня плодородия.
(обратно)133
Др. – греческий бог морей.
(обратно)134
Др. – греческие парикмахеры.
(обратно)135
Дорический хитон из тяжелой ткани.
(обратно)136
Освоенная человечеством часть мира.
(обратно)137
Ход назад.
(обратно)138
В честь Константина, город Византий переименован был в Константинополь.
(обратно)139
Город и порт в юго-западной части Малой Азии.
(обратно)140
Пригород Константинополя. В XIV генуэзская колония.
(обратно)141
Ныне Мраморное море.
(обратно)142
Ртуть.
(обратно)143
Обоюдоострый топор.
(обратно)144
В исламе: злой дух, дьявол.
(обратно)145
В тюркских землях Анатолии феодальное владение управляемое беем.
(обратно)146
Частные лица, вносящие пожертвования, а зачастую и строители церковных зданий.
(обратно)147
Типичная для ХI-ХIII в.в. плотная головная повязка, охватывавшая подбородок и голову). Повязка закрывала голову и наполовину закрывала лицо. Создавалось впечатление, что связаны воля и мысль женщины.
(обратно)148
Правил герцогством Наксосским с 1323 по 1341 г.г.
(обратно)149
Одна из резиденций короля Стефана Сильного.
(обратно)150
Король франков, завоевавший почти всю Европу в нач. IX в.
(обратно)151
Рыцарь в силу своего не немецкого происхождения не вступивший в ряды тевтонского ордена, но принявший его устав, подчиняющийся решениям братьев-рыцарей и участвующий в походах ордена.
(обратно)152
Малая Азия.
(обратно)153
С середины 40-х годов XIV в. Душан начал преследование католического духовенства в Сербии: в «Законнике» католичество было объявлено ересью и предписывалось вновь совершать «святое крещение» над католиками. Пропаганда католичества каралась законом. Эти меры вызвали гнев папы, пригрозившего «поднять против Душана Европу» и пытавшегося в первую очередь направить против Сербии католиков венгров.
(обратно)154
«Голова», наместник императора.
(обратно)155
Один из островов Венеция. На этот остров в конце XIII века поселили, в целях пожарной безопасности, всех стеклодувов Венеции, положив начало волшебству «венецианского стекла». Знаменитые венецианские зеркала производились из больших, выдуваемых стеклянных шаров, которые разрезались и прессовались на листы.
(обратно)156
Малая Азия. На греческом языке означает «восход солнца», «восток».
(обратно)157
От арабского слова «газа» – воевать. По некоторым данным, от названия «гази» («кази») происходит понятие «казак» – воин доброволец, защитник веры, правды и справедливости.
(обратно)158
В тюрских землях (в основном в Анатолии сельджукского и раннеосманского периода) небольшие феодальные владения, управлявшиеся беями. Образовались в ходе распада Конийского султаната во второй половине XIII века.
(обратно)159
Бывшая столица бейлика Карасы.
(обратно)160
Род азартных игр.
(обратно)161
В Коране словом «султан» обозначается отвлечённое понятие власти, таким было значение в первые века ислама. Позднее термин стал обозначать единоличного представителя светской власти, в противоположность имаму, религиозному авторитету.
(обратно)162
Лат. – «отделять овец от козлов».
(обратно)163
«Это перст божий!» (такова судьба).
(обратно)164
Лат. – «Кто? Что? Где? С чьей помощью? Для чего? Каким образом? Когда?»
(обратно)165
Священные воины газавата – войны с неверными.
(обратно)166
Тур. – новый воин, впоследствии известные в Европе как грозные янычары.
(обратно)167
Серебряная монета осман.
(обратно)168
В Византии XIV века приверженцы мира с исламом, уверенные в том, что из мусульман, при некоторых обстоятельствах, получатся добрые христиане.
(обратно)169
Обязательное для мусульманина посещение святого города Мекка.
(обратно)170
Византийское название Бурсы.
(обратно)171
Евр. – арабское имя, Давид-Даут – Любимый, притягивающий к себе.
(обратно)172
Откупщика.
(обратно)173
Сборщик базарных пошлин на Востоке.
(обратно)174
Фактическая власть в египетском султанате принадлежала воинам-рабам мамлюкам.
(обратно)175
Братство.
(обратно)176
Комплекс, состоящий из религиозных, благотворительных и торговых учреждений на Востоке.
(обратно)177
Лат. – исходя из опыта.
(обратно)178
Бани.
(обратно)179
Лат. – «друг мой».
(обратно)180
Лат. – «верный друг – птица редкая».
(обратно)181
Пригород Константинополя, в котором жили и держали торговые склады генуэзцы.
(обратно)182
Тур. – буквально «стадо».
(обратно)183
Араб. – цикл мусульманских молитвенных формул, произносимых на арабском языке и сопровождаемых определенными молитвенными позами и движениями.
(обратно)184
Араб. – путь молитвы.
(обратно)185
Большинство инквизиторов были монахами ордена святого Доминика.
(обратно)186
Так часто инквизиторы именовали себя.
(обратно)187
Центральная башня крепости, опоясанная дополнительной стеной.
(обратно)188
Букв. – «Любовная песня». Жанр немецкой средневековой рыцарской поэзии XII–XIII веков.
(обратно)189
В Византийской империи цату связывали с царской властью.
(обратно)190
Твердь земная, она же колыбель или купель на православных христах изображалась виде полумесяца с путеводной звездой на кончике рожка полумесяца.
(обратно)191
Византийское – городской глава.
(обратно)192
Виз. – писец правительственной канцелярии.
(обратно)193
Узкий и глубокий морской залив, отделяющий сам Константинополь от его портовых пригородов.
(обратно)





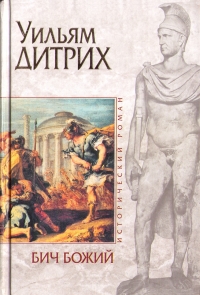

Комментарии к книге «Проклятие палача», Виктор Вальд
Всего 0 комментариев