Юлия Вознесенская Эдесское чудо
© ООО «ГрифЪ», оформление, 2013.
© ООО «Издательство «Лепта Книга», текст, иллюстрации, 2013.
© Вознесенская Ю.Н., 2013.
Глава первая
В новом кафедральном храме города Эдессы[1], столицы Осроэны[2], подходила к концу воскресная литургия. София, причастившись, как и положено диакониссам[3], сразу после диаконов, вышла, спустилась с возвышения, прошла на левую, женскую, половину церкви и встала у единственного полностью открытого окна. Прочие окна храма были снизу закрыты деревянными ставнями, чтобы прихожане, особенно молодежь и дети, не отвлекались на то, что происходит в саду. Здесь же, между окном и каменным возвышением, приготовленным для ковчега с мощами святого апостола Мара Тумы[4], или по-гречески Фомы[5], обычно никто не стоял, и потому окно держали полностью открытым. Тут, в месте узком, однако не тесном, она и осталась стоять, ожидая конца службы. Причащающихся сегодня было особенно много: в город, спасаясь от нашествия варваров, уже набились окрестные крестьяне; они пока не были приписаны к отдельным приходам, а потому большинство их устремилось на службу в только что выстроенный кафедральный собор, способный вместить более тысячи человек. Прихожане причащались, молитвенно-трепетно звучал девический хор, в котором София различала голос своей семнадцатилетней дочери Евфимии, но слышны были ей и голоса птиц, доносящиеся из сада. Сердце Софии было исполнено благодарности Богу, удостоившему ее принятия Святых Божественных Таин, губы сами шептали слова благодарственных молитв, исходящие из сокровенной глубины сердца, глаза были устремлены на Чашу Спасения в руках епископа, но вот мысли… Скажем честно, мысли вдовы-диакониссы, подобно малым птицам в кроне древесной, перепархивали между благочестивыми словами молитвы, как между цветущими ветвями, касаясь то одного, то другого предмета ее забот, хотя и посвященных делам церковным, но все же отчасти и земным… А главной заботой этого дня были проводы паломницы Эгерии[6], прибывшей в Эдессу с самого края света, из далекой Аквитании[7], и проведшей в их городе три дня. Епископ Эдессы Мар Евлогий[8] сам сопровождал ее в благочестивом паломничестве по городу и окрестностям, а сегодня она должна была покинуть Эдессу, направляясь в Иерусалим… Сестра Эгерия причастилась вместе с монахинями и теперь стояла неподалеку от Софии, опустив голову, покрытую покрывалом из тонкого льна, неотбеленного и чуть сероватого, будто пропитанного пылью дальних странствий. От ее высокой, худощавой, но вместе с тем величественной фигуры веяло отрешенным покоем и глубокой тихой радостью. Вот она, конечно, умела молиться в любом месте земли, ни на что не отвлекаясь! С виду сестра Эгерия была ее ровесницей, а самой Софии было уже почти сорок, и вот эта пожилая женщина где пешком, где на корабле, а где и верхом – то на ослике, то на лошади или даже на верблюде, с паломниками-попутчиками и в одиночку, меняя проводников, проделала долгий путь от Аквитании до Рима. «Благочестивая и бесстрашная! – с благоговением подумала София. – Она поставила себе целью добраться до всех святых мест, упомянутых в Ветхом и Новом Завете, а также посетить места, где совершались более поздние чудеса, и поклониться новопрославленным святым. Похоже, ее вовсе не заботит, достанет ли у нее жизни на этот воистину беспримерный паломнический подвиг». София смиренно вздохнула, сознавая свое полное недостоинство даже рядом стоять с дивной паломницей, хотя сестра Эгерия, причащавшаяся после диаконисс, сама прошла в тот укромный уголок, где уже находилась София. «Помоги, Господи, рабе Твоей и верной поклоннице Эгерии завершить задуманный подвиг и благополучно возвратиться на родину, сохрани ее на всех путях ее!» – помолилась за нее диаконисса… И тут же мысли ее снова перекинулись на заботы грядущего дня. Не забыть бы напомнить храмовым прислужницам, чтобы те сразу после службы открыли настежь все окна храма и не закрывали их до тех пор, пока не закончится трапеза в саду и народ не начнет расходиться по домам. Хотя строительство закончилось, но в их новом великолепном храме, посвященном Софии Премудрости Божией[9], до сих пор чувствуется запах извести, который пока не могут заглушить воск и ладан. Потом она отправится в сад на трапезу: уж очень хочется Софии послушать сестру Эгерию, ведь та обещала на прощание рассказать собранию о своем паломничестве, а после трапезы хозяева в последний раз проведут сестру Эгерию по главным святым местам города, дойдут вместе до Западных ворот и там распрощаются с нею. Надо попросить Мара Евлогия взять с собой и Евфимию: пусть девочка совершит эту большую прогулку по городу в таком хорошем обществе, а то в последнее тревожное время ей, бедняжке, нечасто приходится выходить из дома. Они зайдут поклониться святому апостолу Мару Туме, таково было желание сестры Эгерии: святые мощи апостола Христова все еще оставались в часовне неподалеку, хотя место для них уже было приготовлено в новом храме. Из-за грозящего нашествия варваров пришлось отложить торжественное их перенесение в кафедральный собор, где они будут пребывать вечно… Если, конечно, Господь будет и впредь хранить славный град Эдессу, как хранил до сих пор. Пока в городе относительно спокойно, хотя из-за беженцев-крестьян уже становится тесно, шумно и даже отчасти голодно. Еще слава Богу, что крестьяне успели собрать первый летний урожай овощей и пришли искать спасения в столице не с пустыми руками: на рынке уже взлетели цены на продовольствие и горожане спешно делали запасы, скупая в основном зерно, бобовые, овощи и масло. Выглянув украдкой в окно, София увидела, что в саду уже раскинут шатер, видно, служки постарались; в шатре накроют трапезу для постоянных прихожан храма, а беженцев, как и тех бедняков, кто явится уже после службы на даровой обед, трапеза будет ждать за столами, выставленными длинным рядом на аллее, ведущей к храму, под тенистыми финиковыми пальмами: в городе за последние месяцы не просто удвоилось население, но и возросло число бедных горожан. Надо ожидать, что мест за этими столами достанет для всех, но если их и не хватит, то служки успеют поставить козлы и накрыть их досками, это дело недолгое. Надо будет заглянуть и в новое пристанище Мара Евлогия; в дальнем углу сада, под большой старой чинарой, сразу же после известия о том, что варвары подходят к городу, мужчины-прихожане своими руками выстроили скромный домик, и в нем уже неделю живет и молится епископ города Эдессы: поторопились и успели, слава Богу. Это городские власти решительно потребовали, чтобы епископ временно перебрался на жительство в город, и пришлось Мару Евлогию подчиниться старейшинам и покинуть свою любимую пещерную келейку, где он проводил время, свободное от служб и забот, в молитвах и богомыслии, – не то в один недобрый день он выйдет после службы из города, а назад уже не сможет вернуться. По слухам из всех варварских племен, выступающих вместе с персами, самые опасные – эфталиты[10], и вот именно они-то и подошли к Эдессе. Они устроили свои стоянки где-то за холмами, окружавшими долину реки Дайсан, в которой раскинулся город. О Эдесса, столица первого на земле христианского государства Осроэна, будь благословенна, и да сохранит тебя Господь от вражеского нашествия и всех бед его!
* * *
Причастие завершилось, и торжественный девический хор заглушил птичье пенье. Диаконисса София сразу же за диаконами, но на этот раз пропустив вперед сестру Эгерию, приложилась к кресту, вынесенному епископом. Затем чтец начал читать благодарственные молитвы, и София повторяла их шепотом, решительно отогнав на это время все посторонние мысли.
Служба кончилась. Диаконисса снова отошла к облюбованному ею окну. Дыша напоенным ароматами, но все еще по-утреннему свежим воздухом, она ждала, когда все прихожане покинут храм. Теперь можно без смущения подумать о хозяйственных делах. Мушмула уже поспела и вот-вот начнет осыпаться: надо будет собрать ее и наварить варенья для общих трапез и отдельно для Мара Евлогия, а часть плодов измельчить и высушить для прохладительных напитков. А скоро поспеют и вишни. В церковном саду растут не только нарядные и тенистые деревья, но и плодовые. Надо напомнить диакону Феодосию-греку, что пора уже назначить сторожа для охраны сада: жители Эдессы навряд ли полезут в церковный сад за плодами, но вот крестьянские дети, эти невинные маленькие беженцы, но большие разбойники по натуре, могут соблазниться фруктами и не столько отрясти, сколько попортить деревья. До чего же хорош их церковный сад, и как мудро поступил епископ, не позволив при разборке старого храма и возведении нового тронуть ни одного старого ствола. Каких только деревьев тут не было! Благоуханные кипарисы, сосны с длинными мягкими иглами и стройные финиковые пальмы, тенистые платаны, называемые также чинарами, и лавровишни, равно опьяняющие как плодами, так и ароматом своих цветов… Только дубы, деревья язычников, было запрещено сажать возле церквей. Росли тут и совсем уже редкие деревья, и среди них гигантский красавец айлант, вывезенный из Сереса[11] и потому именуемый также серским ясенем. Эдесса – город, где сходятся многие торговые дороги, в том числе известные всей Ойкумене Шелковый путь и Пряный путь, и потому нет ничего удивительного в том, что караваны привозят не только товары, но и редкие растения из дальних стран. В Сересе листья айланта идут на корм гусеницам шелкопряда, а сирийцы научились из его корней добывать краситель для шелка и шерсти. Прямо за окном цвела пышная и высокая лавровишня, и аромат ее белых кистей проникал в храм и сливался с запахом извести и ладана, а еще, конечно же, с благоуханием роскошных дамасских роз, тоже невидимыми волнами плещущим в окна храма. Розы… Греческие и римские христиане все еще подозрительно относятся к розам, считая их цветами язычников, но здесь, на восточной окраине империи, к розе, воспетой поэтами и народными певцами, отношение другое. И это не единственный церковный сад в Эдессе, благоухающий не только ладаном, но и розами: в городе больше трехсот церквей и церквушек и почти при каждой из них есть сад, обширный или совсем маленький, с фонтаном или прудом. А через их церковный сад даже протекал небольшой ручей с кристально чистой водой, дававший воду для полива, отчего особенно были зелена листва и свеж воздух.
К Софии подошла дочь.
– Матушка, можно мне на трапезу пойти вместе с другими девушками из хора?
– Конечно, Евфимия, иди с подружками. Только и Фотиния пусть тоже идет с тобой и будет неподалеку!
– Мама! Девушки опять будут смеяться надо мной, что я везде хожу с нянюшкой, как маленькая!
– Зато я буду покойна: пока ты с Фотинией, на тебя ни один скорпион не посмеет глянуть слишком пристально, – на самом деле София подумала «ни один юноша», но вслух она этого не сказала, чтобы даже тень мысли о подобном не упала на любимую, такую невинную, чистую и пуще глаза оберегаемую дочь. – Возьми няню и иди, доченька, мне еще надо навести порядок в алтаре и храме.
– Будь по-твоему, мама, – вздохнув, сказала Евфимия и поцеловала мать. – Пойду искать мою цербершу!
– Храни тебя Бог, моя послушная ласточка! – целуя ее в ответ, сказала София.
* * *
Трапеза была скромнее, чем обычно, но благодаря приношениям состоятельных прихожан все же богаче, чем могло себе позволить в воскресный день большинство жителей Эдессы. Подавались печеная рыба с просом и тушеными овощами, вяленое мясо, размоченное в уксусе с пряностями, пшеничные лепешки, которые ели с медом и сыром. Посередине стола стояли кувшины с холодной водой, в которой плавали мелко нарезанные кубики еще прошлогодних яблок; расписные глиняные мисочки с орехами, вялеными финиками и сушеными фруктами, а также с оранжевыми плодами мушмулы нового урожая.
На дорожке под деревьями, где были расставлены столы для горожан, крестьян и нищих, трапеза была лишь чуть более скудной: к столу не были поданы мясо и сыр, но зато всем досталось по большому куску рыбы и целой лепешке, а просо, овощи, орехи и финики каждый мог есть досыта. Правда, прислуживавшие сестры следили за тем, чтобы никто из обедавших не уносил пищу с собой; для тех же, у кого дома остались немощные старики, больные родственники или маленькие дети, сестры приготовили небольшие коробки из пальмовых листьев, заранее наполнив их едой; это было традиционное воскресное подношение, к которому привыкли жители Эдессы, хотя с каждой неделей воскресная раздача даже в этом, самом крупном и богатом, приходе города становилась все более скудной.
Когда все отобедали и перешли к сладостям и фруктовым напиткам, Мар Евлогий на местном наречии представил сестру Эгерию тем, кто еще не видел благочестивую паломницу, а затем заговорил с ней по-гречески. Эдесса – город разноплеменный, общим языком жителей, кроме арамейского, был еще и греческий, а потому большинство собравшихся понимало разговор епископа с аквитанской паломницей. Впрочем, Эгерия, женщина весьма образованная, хорошо знала и арамейский[12].
– Понравилась ли тебе служба, сестра Эгерия? – спросил епископ.
– Да, очень понравилась. И ваш новый храм просто поражает великолепием! Одно удивило: в хоре поют девушки. Прежде я такого нигде, кроме женских монастырей, не встречала, ведь обычно хор составляют мужчины или мальчики.
– По будним дням и у нас поют мужчины. Женский хор – это наше недавнее нововведение, и до сих пор далеко не во всех храмах Эдессы поют по праздникам девицы. Обычай этот ввел наш преподобный Мар Апрем[13], чтобы еще более расположить жителей Эдессы к посещению храмов и отвлечь их от ересей, одно время весьма распространившихся в нашем разноплеменном городе. Он призвал к пению благочестивых дев из достопочтенных христианских семейств, в основном дочерей клира, и сам обучал их напевам, по которым надлежит петь. Людям очень понравилось сладкоголосое девичье пение, многие специально стали приходили в храм его послушать, а главное – увлеченные еретическими заблуждениями начали оставлять свои сборища и тоже посещать церковные службы. Вот таким впечатляющим и понятным всем образом наш Мар Апрем не только украшал богослужения, но и отражал ложные мудрования еретиков, – с улыбкой закончил епископ.
Покончившая с делами и подсевшая к столу София с удовольствием слушала Мара Евлогия: и дочь, и сама София гордились тем, что близко знали Мара Апрема, теперь уже всеми почитаемого святым.
– Мар Апрем – это Ефрем Сирин, – задумчиво уточнила для самой себя Эгерия. – Я видела могилу преподобного за городской стеной. Меня удивила ее скромность. Но надо думать, в будущем эдесситы построят над нею достойную его усыпальницу или даже церковь?
– Нет, сестра, – покачал головой епископ. – Особых почестей останкам святого не воздается по его особому запрету: он грозил покарать даже того, кто зажжет хотя бы одну свечу в его честь!
– А ты, Мар Евлогий, наверное, лично знал преподобного Ефрема Сирина? – и она тут же достала из своей дорожной сумы стило и дощечку, чтобы сделать запись в своих путевых заметках паломницы.
– Я был одним из его учеников, – скромно сказал епископ.
– Самым любимым учеником! – добавил старый диакон Феодосий, сидевший за столом по другую руку от Мара Евлогия.
– Как старший по сану я мог бы тебе возразить, но как младший по возрасту – не стану, – с улыбкой ответил на это епископ, который был еще довольно крепким мужчиной. – Наверное, ты знаешь лучше: я-то был слишком юн, когда Мар Апрем взял меня в ученики. Он же научил меня петь и руководить хором.
– Я читала творения великого Ефрема Сирина на греческом языке. Уж не знаю, кто переводил его, – с улыбкой легкого удивления проговорила сестра Эгерия, – но переводы эти прекрасны! Его поэзия великолепна, стихи его мне понравились почти так же, как стихи Григория Назианзина[14], а равных ему среди христианских поэтов Нового времени нет.
– Мар Апрем и сам писал стихи на греческом языке, – сказал Мар Евлогий, – и даже пел на нем.
– В самом деле? А ваши девушки тоже поют на греческом? Может быть, они споют что-нибудь для нас? – она посмотрела в угол шатра, где за отдельным небольшим столом сидели девушки из хора. Заметив ее взгляд, певицы смутились…
– Пусть они сначала поклюют сладких ягод, чтобы голоса стали слаще, а потом уже мы попросим их спеть, – сказал епископ, заметив растерянность певиц и желая дать им время на подготовку.
– Преподобный Ефрем Сирин, как я слышала, написал много песнопений для Церкви?
– Мар Апрем обогатил своими стихами многие части богослужения, кроме Литургии, – ее он не посмел коснуться. Он написал стихами песнопения на дни Великих праздников Господних: Рождества, Крещения, Воскресения и Вознесения Христова – и в прославление других деяний Христовых; а также на дни мучеников. В этих песнопениях учитель наш ярко раскрывал значение вспоминаемых событий и отношение их к нашему спасению. Написал он и песнопения на погребение умерших… Но я могу бесконечно говорить об учителе, зачем ты не остановишь меня, сестра?
– Затем, что слова твои подобны холодному сладкому шербету[15] в жаркий день, в котором плавают лепестки роз: они утоляют жажду, но пресытиться ими невозможно! – улыбаясь, сказала Эгерия.
– Какое цветистое сравнение – сразу видно, что ты долго странствовала по Востоку и даже полюбила персидский освежающий напиток! – засмеялся в ответ епископ. – А довольна ли ты своим паломничеством в Эдессу, сестра?
– Я счастлива, что Господь привел меня в ваш город, и благодарна тебе, Мар Евлогий, что ты и твои ученики сопровождали меня по святым местам Эдессы. Я собиралась пробыть в городе один день, но здесь оказалось так много того, что я желала увидеть, что решила остаться на три дня. И они прошли как день единый! Поистине Эдесса не только один из древнейших и прекраснейших городов мира, но и один из самых христианских: столько у вас гробниц мучеников, церквей и монастырей и просто святых отшельников, живущих вблизи гробниц, и тех, кельи которых находятся вдали от города в местах уединенных. Вы показали мне все, что каждому христианину было бы интересно увидеть. И я особенно благодарна тебе, Мар Евлогий, за копию письма, которое Спаситель прислал царю Авгарю, я буду беречь ее как святыню. Печаль и радость наполняют мое сердце и действуют в нем то попеременно, то вместе. Радость от соприкосновения со святынями и печаль от того, что мне все же приходится покидать этот воистину благодатный город. Теперь мне предстоит обратный путь в Иерусалим.
– Долог будет этот путь, сестра?
– Двадцать четыре ночлега, или, по-вашему, масьюна[16], заняло мое путешествие от Иерусалима до Эдессы, – отвечала паломница, – и столько же, вероятно, займет путь обратный. Паломники, с которыми я двинусь к Святой земле, уже, я думаю, ждут меня в монастыре святого Иоанна Предтечи, в часе пути отсюда. Но сначала обещанное!
– Прогулка по городу?
– И это тоже, ведь я хочу в последний раз поклониться мощам святого апостола Фомы. Но ты обещал, Мар Евлогий, что я еще услышу пение ваших красавиц!
Епископ с улыбкой повернулся к девицам и вопросительно поднял брови.
– Благослови, владыко, спеть для твоей гостьи «Горем глубоким томим!», – смело сказала Мариам, старшая певчая в хоре. Девушки уже успели пошептаться и выбрать для гостьи песню, которую она наверняка не слышала, и в то же время подходящую по настроению для всех: какими бы юными они ни были, а тревога, охватившая весь город, не могла и их оставить равнодушными.
– Пойте, – кивнул Мар Евлогий и добавил для сестры Эгерии: – Девушки выбрали для тебя песню на слова любимого тобой Мара Григория Назианзина.
Мариам вывела своим низким голосом задумчивое начало:
Горем глубоким томим, Сидел я вчера, сокрушенный, В роще тенистой, один, Прочь удалясь от друзей.Девушки тихо поддержали ее:
Любо мне средством таким Врачевать томление духа, С плачущим сердцем своим Тихо беседу ведя.И вдруг голоса взлетели звонким фонтаном, разбежались, расцветились по-восточному прихотливыми музыкальными украшениями:
Легкий окрест повевал ветерок, и пернатые пели, Сладкою дремой с ветвей лился согласный напев, Боль усыпляя мою; меж тем и стройные хоры Легких насельниц листвы, солнцу любезных цикад, Подняли стрекот немолчный, И звоном полнилась роща; Влагой кристальной ручей сладко стопу освежал, Тихо лиясь по траве…И вдруг все девушки затихли, и Мариам одна продолжила негромко и печально:
Но не было мне облегченья: Не утихала печаль, не унималась тоска…и закончила трагическим речитативом:
Кто я? Отколе пришел? Куда направляюсь? Не знаю. И не найти никого, кто бы наставил меня…[17]Сестра Эгерия молча встала, подошла к девушкам и каждую поцеловала, а покрасневшую от радости Мариам даже трижды.
– Я буду вспоминать ваше пение в пути, эдесские соловушки! – сказала паломница.
В саду снова громко запели птицы.
Глава вторая
Не с одним, а с двумя апостолами Христовыми связана христианская история Эдессы. Сразу после Вознесения Спасителя апостол Фома посылал для просвещения Эдессы апостола Фаддея[18], но вера во Христа пришла в Эдессу раньше. При жизни Иисуса Христа городом и областью правил царь Авгарь Пятый, прозванный Черным[19]. Несчастный царь звался так потому, что болен был черной хворью, бичом Востока – проказой. Слыша о многочисленных чудесных исцелениях, сотворенных Иисусом Христом, Авгарь возжелал увидеть хотя бы образ, хотя бы изображение Христа, надеясь от него получить исцеление. Сам он из-за немощи не мог посетить Господа и потому послал Ему письмо с просьбой об исцелении, а следом отправил искусного живописца Ананию. Однако как ни трудился Анания, воссоздать красками на доске дивный образ Спасителя ему не удавалось. И тогда Господь, зная непреложную веру Авгаря и крепкую его надежду, а также видя безуспешные старания живописца, приказал апостолу Фоме принести воды и убрус – полотняное полотенце. Спаситель умылся, приложил убрус к Своему лицу – и на полотне осталось отображение. Сей нерукотворный Образ Господь наш Иисус Христос и отослал Авгарю с Ананией, присовокупив к нему письмо, в котором было сказано следующее: «Блажен ты, Авгарь, не видевший Меня, но уверовавший в Меня, ибо о Мне написано, что видящие Меня не явят веры; не видящие же уверуют в Меня и наследуют жизнь вечную. Ты пишешь ко Мне, чтобы Я пришел к тебе, но Мне подобает совершить то, ради чего Я послан, и по совершении возвратиться к Пославшему Меня Отцу. И когда Я буду вознесен к Нему, тогда пошлю к тебе одного из учеников Моих, который, совершенно исцелив тебя от твоей болезни, подаст тебе и находящимся с тобою жизнь вечную». (Копию этого письма и сделал собственноручно епископ Мар Евлогий для паломницы Эгерии.) Царь Авгарь, прочтя послание Христово и получив Нерукотворный Образ, возликовал, с верою приложился к изображению Спасителя на убрусе, и болезнь почти оставила его: тело очистилось полностью, лишь на лице проказа осталась, но дышать и двигаться царю стало значительно легче. Для окончательного уврачевания, а также для просвещения и крещения царя Авгаря апостолом Фомой и был послан в Эдессу апостол Фаддей, бывший родом из Эдессы. Святой апостол прежде полного исцеления тела царя исцелил его душу, преподав ему во всей полноте учение Христово. Авгарь уверовал и крестился, и по выходе царя из святой купели проказа покинула его полностью. Вслед за государем начали креститься и его подданные, в первую очередь те, кто также был исцелен апостолом от разных болезней; таким образом почти все жители города Эдессы был просвещены верою во Христа Спасителя и крещены, после чего в нем начали строиться храмы и апостольским руковозложением были поставлены пресвитеры. Нерукотворный же Образ на убрусе Авгарь укрепил на доске, украсил его и установил в нише над городскими вратами, и много лет жители, проходя Западными вратами города, хранили благочестивый обычай поклоняться Нерукотворному Образу.
Со временем один из правнуков Авгаря, правивший Эдессой, впал в идолопоклонство. Он приказал снять Убрус с городской стены. С тех пор святыня исчезла с глаз эдесситов, но обычай молиться Христу, проходя Западными вратами, сохранился[20].
Апостол же Фома, по-сирийски Мар Тума, как уже упоминалось, в основном вел проповедь в Индии, в южной ее части. Там же, после двадцати лет служения, он принял мученическую смерть в городе Малапаре, пронзенный во время молитвы пятью копьями по приказу жрецов. Он был похоронен в прекрасной гробнице, построенной его учениками. Но когда город был захвачен язычниками, христиане озаботились тем, чтобы уберечь святые мощи апостола от осквернения, и бо́льшую часть их передали через благочестивого купца Хабина в Эдессу[21]. Не удивительно, что мощи святого апостола Фомы считались главной святыней города Эдессы, как не удивительно и то, что, покидая город, паломница Эгерия захотела напоследок приложиться к ним.
* * *
Ослик сестры Эгерии во все время службы и трапезы пасся привязанный в уголке сада, где были заросли жестких, но, на его неприхотливый вкус, вполне съедобных колючек. Молодой послушник-проводник, который должен был из Эдессы препроводить сестру Эгерию в монастырь святого Иоанна Предтечи, где он и ослик были ею наняты для путешествия в Эдессу, уже отвязал его, оседлал и погрузил на него две переметные сумы с дорожным имуществом паломницы. Когда, воздав благодарственные молитвы Господу, Мар Евлогий с сестрой Эгерией и диакониссой Софией направились к воротам, ослик и послушник сопровождали их все с той же кроткой неторопливостью. Вместе с ними шли подружки Евфимия и Мариам: девушки росли рядом с ранних лет, отцы их были друзьями и соседями, они даже вели общие дела. За Евфимией неотступно следовала ее старая нянька Фотиния, а рядом с Мариам шагал ее старший брат Товий, молодой купец, уже успевший первый раз пройти по Шелковому пути до самого Сереса: нелегкое это путешествие заняло почти два года, но, вернувшись и найдя сестру и ее подружку изрядно повзрослевшими, Товий не изменил их детской дружбе.
На широкой дорожке, ведущей от ворот к храму, их поджидали прихожане, чтобы еще раз получить благословение от своего епископа и задать волнующие их вопросы:
– Владыко, продолжать ли нам делать запасы на случай голода?
– Продолжайте.
– Так варвары все же готовят осаду Эдессы?
– Они-то готовят, а вот допустит ли ее Бог – это зависит от ваших молитв и Господней воли. Молитесь и поститесь!
– Вот и блаженный Алексий[22] на паперти церкви Пресвятой Богородицы говорит, что если не станем молиться и поститься по доброй воле, то будем голодать по воле варваров.
– Блаженный, как всегда, прав, – коротко отвечал епископ.
– Владыко, у меня в имении остался скот, который я мог бы еще успеть привести сюда, чтобы продать на рынке. Благослови меня перегнать хотя бы стадо овец!
– Не благословляю, потому что кони варваров передвигаются значительно быстрее твоих овец. Оставайся в городе, чадо.
Другой прихожанин спросил с сомнением:
– Мар Евлогий, но нам говорят, что варвары еще за горами! Разве это не так?
– Горы бывают и далекие, и близкие, друг мой. Когда тебе говорят, что враг за горами, надейся, что речь идет о дальних горах, но будь готов и к тому, что он притаился за ближайшим холмом.
Перед воротами епископ остановился, ненадолго задумался, перебирая четки, а затем обратился к Эгерии:
– Тебе очень повезло, сестра, что в городе стоит греческий гарнизон и ты смогла спокойно войти в Эдессу, а также осмотреть ее окрестности. Мы в любой день можем оказаться в осаде. А теперь, пожалуй, тебе надо поторопиться отойти от города в Иоанновский монастырь.
– Да, меня предупреждали, что Эдессе угрожают полчища варваров.
– Причем опаснейших из них – эфталитов, о которых не хотелось бы даже упоминать в светлый воскресный день. Велика же вера твоя, сестра, коли ты не убоялась предупреждений и все же посетила наш город.
– Я счастлива, что мне это удалось, но за вас буду тревожиться и молиться весь мой обратный путь до Иерусалима и потом дома, в Галлии, тоже. Ты уверен, Мар Евлогий, что гарнизон, стоящий в городе, выстоит против них?
– Откуда мне знать? Я воин Господа, а не Империи.
– Об эфталитах рассказывают много таинственного и ужасного.
– Да, это опасный враг. Эфталиты, подобно гуннам, ловко управляются с конями, а их конные разведчики уже совершают дерзкие вылазки в окрестностях Эдессы. А сейчас, если тебе угодно, сестра, мы посетим часовню, где покоятся мощи святого апостола Фомы.
– Я буду рада еще раз поклониться святому апостолу! – сказала сестра Эгерия.
Пожелание ее было исполнено скоро, ибо церковь, где до времени хранились мощи святого в серебряном ковчеге, находилась неподалеку от кафедрального собора. Вечером того же дня, уже в монастыре святого Иоанна Крестителя, Эгерия записала в своем паломническом дневнике: «По традиции мы исполнили наши молитвы и все то, что мы обычно делаем, посещая святые места. Мы также прочитали отрывки из “Деяний святого Фомы” (у его гробницы)»[23].
Из прохлады маленькой церкви они вышли на улицу, где уже царил полдневный жар, и Мар Евлогий предложил:
– А теперь, сестра Эгерия, я покажу тебе то, чего ты еще не видела и что я приберег напоследок: мы пойдем теперь на юг, к царским садам, где владычествуют тень и прохлада, и там ты увидишь роскошный дворец, который царь Авгарь построил для своего сына Ману.
– И удивительные пруды, на берегу которых стоит дворец, – добавила Мариам.
– Там плавает столько чудесных огромных рыб! – воскликнула Евфимия.
– Что вы, что вы, девочки! – замахала на них руками старая нянька Фотиния. – Да разве же можно христианским девицам любоваться этими рыбами?
– А почему нельзя? – тотчас полюбопытствовала бойкая Мариам.
– Ты, Фотиния, попридержала бы язычок, – вполголоса одернула нянюшку София, – незачем юным девушкам напоминать о языческих мерзостях.
Мар Евлогий услышал их разговор и сказал Товию:
– Девицы хотят посмотреть на рыб, проводи их к прудам, Товий. Поглядите на рыбок и заодно освежитесь. А мы, беседуя, потихоньку пойдем к дворцу, и там вы нас догоните.
– Идемте скорей, братец, Евфимия! – воскликнула Мариам и побежала вперед к мелькающей за цветущими кустами зелено-голубой воде прудов. Товий пошел за ней рядом с Евфимией, сразу же начав рассказывать ей что-то интересное, показывая рукой на пруды; Евфимия внимательно слушала его. София с улыбкой смотрела им вслед.
– Ты, Фотиния, можешь пока оставить Евфимию, она под хорошей охраной, – сказала она нянюшке, двинувшейся было за своей подопечной. – Не мешай молодым, дай им хоть немного повеселиться без твоей назойливой опеки!
– Как скажешь, хозяйка! Ты мать, тебе и ответ держать перед Господом, если охрана окажется ненадежной, – для порядка проворчала в ответ Фотиния, но спорить не стала и, пройдя скорым шагом мимо тенистых, увитых глициниями арок, углядела под одной из них каменную скамью, откуда могла и сидя наблюдать за Евфимией с друзьями, уселась там и даже разулась, блаженно вытянув усталые ноги.
– Строга твоя старая нянюшка, – улыбнулся Мар Евлогий.
– Причем не только с Евфимией, но и со мной – по старой памяти. Она порой невыносима, но зато я спокойна за дочь, пока она под крылом этой квочки.
– Понимаю и одобряю, – сказал епископ. – Юные девушки беззащитны, как цыплятки, их надо беречь и беречь. Но в отношении Товия ты можешь быть спокойна: этот юноша благороден в чувствах и чист в помыслах.
– Мне это ведомо, владыко, – сказала София. Они обменялись понимающими взглядами и замолчали, поскольку вокруг были люди.
– Так что ж там такое с этими рыбами? – спросила Эгерия, нарушая их доброе молчание.
– Задолго до того, как Эдесса стала христианской, – сказал епископ, – рыбы в прудах Эдессы были посвящены языческой богине Иштар и никто не смел их ловить. Теперь же их ловят, подают к столу нашего правителя, а излишки продают народу.
– Ты ела сегодня рыбу на трапезе? – спросила София паломницу.
– Да, конечно.
– Как она тебе показалась?
– Необыкновенно вкусна и свежа, и костей совсем немного.
– Это и была рыба из царских прудов. Только не проговорись нашей Фотинии! Встречаются в Эдессе такие сверхблагочестивые христиане, которые не хотят есть рыб, чьи предки когда-то приносились в жертву Иштар: богиня-то была не слишком похвального поведения.
– До благочестия вашей старушки мне далеко, – улыбнулась Эгерия, – и я не стану сокрушаться, что ела эту вкусную рыбу.
– И это разумно, – улыбнулась София. – Нянюшка моя и вправду благочестива, но до чего же порой нудна и назойлива!
Эгерия в своем дневнике писала: «Там были источники, полные рыб, каких я еще никогда не видала, то есть столь больших и столь вкусных»[24].
Ей понравились царские пруды.
– Какая удивительно чистая вода! Даже отсюда видны не только стаи рыб, но и каждый камень на дне и короткие, словно подстриженные, зеленые водоросли.
– Это «водяной горошек», которым питаются рыбы. Он растет будто бы специально для них и, говорят, прямо с тех пор, как появились эти пруды, а им уже много сотен лет, – сказал Мар Евлогий.
– Так сколько же лет самому городу? – спросила Эгерия.
– Немногим меньше, чем человечеству. Посмотри, сестра, вон туда, вдаль и вверх: видишь ты гору, на которой стоит крепость, а над ней две высокие колонны?
– Вижу, владыко.
– «Троном Нимрода»[25] зовут их. По преданию, это руины дворца царя Нимрода, злосчастного строителя Вавилонской башни.
– Какими огромными они кажутся даже на таком расстоянии! Но вот что странно, Мар Евлогий, мне ведь показывали дворец Нимрода в Палестине…
– Меня это не удивляет, и нет у меня сомнений в правдивости как эдесского, так и палестинского преданий, – сказал епископ. – Ты помнишь, сестра, сколько жили Ной и его потомки? Так что Нимрод за свою долгую жизнь мог построить десятки и городов, и дворцов.
– Да, это верно…
– А Эдессу, опять же по преданию, Нимрод построил, удалившись из Вавилона. Он выбрал долину, богато орошаемую левым притоком Евфрата, называемым в Библии рекой Балих, на арамейском Дайсаном, а по-гречески Скиртом. Во время владычества Селевкидов город и был назван Эдессой, что значит Водный[26]. В воде у нас и вправду недостатка никогда не было, слава Всевышнему… Но нам уже пора бы и во дворец! Где там наша молодежь?
Будто услышав владыку, скорыми шагами к ним подошли Товий с Мариам и Евфимией: у девушек на волосах блестела вода, тонкие льняные покрывала и лица под ними, края палл и даже подолы туник были мокрые, а с немного неуклюжего, но зато озорного брата Мариам так просто текло: ясно было, что молодежь плескалась друг в дружку водой из прудов. Но, подойдя к старшим, все трое остановились и приняли вид самый скромный.
– Освежились? – с улыбкой спросила София.
– С ног до головы! – честно признался Товий.
Стражники, охранявшие ворота дворца, увидев святого епископа в окружении паствы, не только не чинили им препятствий, но, сняв пернатые шлемы, чинно подошли под благословение, а затем скромно вернулись на свои посты. Не разрешили войти только ослику, велев проводнику остаться за воротами. Послушник, ничуть не огорчаясь, привязал скотинку в тени под большой чинарой, уселся рядом прямо на землю, опершись спиной о гладкий пятнистый ствол, и то ли задремал, то ли погрузился в молитву.
Мар Евлогий не только показал сестре Эгерии царский дворец, в котором снаружи теперь располагалось городское управление, но и провел ее в атриум, где стояли статуи всех государей, предшествовавших нынешнему царю Авгарю. По традиции владыка Эдессы носил имя предшественника, первым уверовавшего во Христа. Среди них выделялась статуя того самого Авгаря, который знаменит во всем христианском мире, ибо через него в этот мир пришло первое изображение Иисуса Христа – Спас Нерукотворный. Статуя была высечена из особенно белого мрамора, вероятно для того, чтобы подчеркнуть, как совершенно было дарованное исцеление от проказы.
– Этот мрамор похож на жемчуг! – воскликнула паломница. – И по лицу изваяния видно, что царь Авгарь был воистину муж богобоязненный и мудрый!
– Таков и был Авгарь, который, ни разу не видев Иисуса Христа, поверил, что Он есть воистину Сын Божий! – сказал епископ. – Я не погрешу против истины, предположив, что ты, сестра Эгерия, хорошо знаешь историю обретения Авгарем Нерукотворного Образа Господа нашего Иисуса Христа и чудесного исцеления этого царя.
На эти слова сестра Эгерия ответила кивком согласия и перекрестилась.
– Но известно ли тебе, что к этому чуду причастен и наш возлюбленный апостол Фома, покровитель нашего города?
– Да, конечно, Мар Евлогий! Потому-то я так стремилась посетить Эдессу, первую на земле христианскую столицу.
– Пусть не все, но многие потомки Авгаря были истинными и убежденными христианами, поэтому Осроэна и стала первым в Ойкумене христианским царством, именно на ее монетах впервые был вычеканен крест – символ христианства.
Эгерия записала его слова на своей табличке, с которой никогда не расставалась. Затем все снова вышли в сад и разбудили послушника и его ослика.
– Мы пройдем по Главной улице, мимо торговых рядов, – сказал Мар Евлогий юноше, – а тебе не стоит толкаться там с ослом и поклажей, ибо и в христианском городе базар без воров не обходится. Иди к Западным воротам и жди нас там. Дорогу знаешь?
– Знаю.
– Можешь даже выйти за ворота, чтобы ослик твой мог попастись среди колючек, растущих у стены. Только далеко не отходи! Ступай с Богом.
Послушник и ослик ушли вперед, а Эгерия, епископ и все остальные еще раз прошли мимо прудов, сверкавших в облицованных камнем ложах. Огромные карпы подплывали поближе к людям, ожидая подачки, и какое-то время сопровождали их, двигаясь тесными стадами, почти вплотную к берегу, так что бока их порой соприкасались.
– Эти рыбы вызывают совершенно напрасное предубеждение некоторых христиан, – сказал Мар Евлогий, – но это даже и хорошо: больше рыбы достается беднякам, которым зачастую бывает не до особого благочестия. Пруды питаются подземными ключами, вода в них чистая, вкусная и всегда свежая, а потому горожане охотно берут из них воду, не имея на этот счет уже никаких предубеждений, что не слишком логично, но весьма разумно. С самими же прудами тоже связана чудесная история.
На ходу Мар Евлогий поведал еще одно городское предание: будто бы по молитвам изнемогающих от жажды граждан осажденного язычниками города пруды эти были созданы чудесным образом свыше для снабжения города питьевой водой[27].
От прудов двинулись по набережной Дайсана, представлявшей собой главную улицу Эдессы, с одной стороны ограниченную рекой, а с другой – рядами крытых портиков. Под сводами портиков, а также под сенью самодельных шалашиков и навесов располагались лавки торговцев и мастерские ремесленников, работавших зачастую прямо тут же; в тени деревьев вдоль набережной тоже торговали и ремесленничали, здесь же исполняя заказы или продавая свое рукоделие; бедняки же раскладывали свой товар прямо на земле, подстелив под себя и под него старые коврики, а то и просто какую-нибудь дерюжку. Шум стоял изрядный: бодрый стук кузнецов и перезвон ювелирных молоточков, выкрики торговцев и специально нанятых зазывал, рев ослов и вопли их погонщиков.
– Вот здесь, на Главной улице прекрасного вашего города, уже становится ясно, что Эдесса расположена на Востоке, – сказала Эгерия, с любопытством вслушиваясь в многоязычный гомон толпы, – а вот ваши монастыри и храмы, а также дома, в которых меня принимали, больше напоминают Грецию.
– Так оно и есть, – сказала паломнице София, – ведь Эдесса – перекресток на пути с Запада на Восток, и наша Главная улица тоже часть этого пути.
– До Большого наводнения здесь было еще больше тесноты, толкотни и шума, – заметил епископ. – Когда же Дайсан разбушевался, он вышел из берегов и бурным течением снес все лавки и мастерские вместе с людьми и товарами. Много народу тогда погибло. Чтобы избежать таких бед в будущем, правивший тогда царь Авгарь Тринадцатый приказал, чтобы «все, кто сидят в портиках и работают около реки, от первого месяца года Тишри до месяца Нисан[28] не ночевали в своих лавках». И заметь, сестра Эгерия, на самом берегу реки ни лавок, ни мастерских нет: это царь Авгарь приказал, чтобы никто не строился в опасных местах. По совету землемеров и знающих людей была отмечена граница возможного разлива реки, и все строения вынесены за ее пределы[29].
– Вот что значит истинно христианский государь! – заметила паломница. Эдесситы переглянулись и приосанились: слова паломницы были им приятны[30].
* * *
По Главной улице вышли к городской стене. Эдесса была обнесена двойным рядом укреплений: внутренний представлял собой высокую стену, на которой возвышались башни, а перед нею шла стена пониже, так называемый парапет, и между ними находилось крытое пространство, по которому защитники могли перемещаться, не опасаясь стрел осаждающих.
Эгерия записала в своих путевых заметках: «Святой епископ сказал: “Пойдем теперь к воротам, в которые вошел гонец Анания с тем посланием, про которое я говорил”. И так, когда мы пришли к этим воротам, епископ, остановившись, произнес молитву, и прочел нам послания, и вновь благословил нас, после чего вторично была произнесена молитва. И еще сказал нам святой, говоря: “Вследствие этого с того дня, как гонец Анания вошел в эти ворота с посланием Господним, до настоящего дня блюдется, чтобы в эти ворота не входил никто нечистый и никто в печальной одежде и чтобы через эти ворота не выносили никакого покойника”»[31].
Уже пора было Эгерии покинуть город, чтобы успеть на встречу с другими паломниками в монастыре, но ворота оказались заперты. Епископ спросил у стражников, чем это вызвано.
– По ту сторону ворот стоят войска варваров, – ответил старший стражник.
– Эфталиты! Скорей бежим домой, София! – воскликнула перепуганная нянька, хватая одной рукой Евфимию, а другой дергая за покрывало хозяйку.
– Да не пугайся, матушка! – добродушно сказал стражник. – Эфталиты, слава Богу, еще далеко. Это подошла к городу конница готфов, вызванная вместе с греческим войском на подмогу нашему гарнизону. Греки уже вошли в город, а готфы остановились у реки, чтобы напоить и выкупать коней. Кроме того, готфов как федератов[32] должен ввести в город один из Совета десяти[33]: таковы обычай и знак доверия.
– Не обиделись бы они на такое проявление доверия! – заметил епископ.
– Они не обидятся: для готфов были уже поставлены шатры за стенами города, но из-за опасности скорой осады решено было их также ввести в город. Они устроили на берегу последний привал и сейчас радостно купаются в водах Дайсана после долгого пути по жаре. А мы ждем посланца от Совета, который встретит их и определит на постой.
– Скажи, чадо, а, до того как закрыли ворота, не выходил ли из них монашек с нагруженным осликом? – спросил Мар Евлогий.
– Мудрено было не заметить: он преважно предупредил нас, что будет ждать за воротами какую-то знатную паломницу с самого края Ойкумены.
– Эта паломница – я, – выходя вперед, сказала Эгерия. – Может, ты выпустишь меня к нему, чтобы мы могли продолжить путь?
– Мне бы не хотелось задерживать тебя, достопочтенная паломница, но приказ есть приказ: велено никого не впускать и не выпускать через ворота до тех пор, пока все готфы не войдут в город. Но ты не беспокойся, я уже вижу, что к нам направляются начальник гарнизона и член Совета десяти: сейчас они прикажут отворить ворота и пойдут за готфами. Владыко, – обратился он к епископу, – я советую вам всем подняться на стену, чтобы уступить дорогу коннице: будет нехорошо, если вы встретитесь с нею на дороге или на мосту.
– Спасибо, мой друг, мы так и сделаем.
* * *
Стоя на стене, Мар Евлогий, Эгерия и все остальные с любопытством смотрели, как готфы, подбадриваемые криками командиров, выходили из воды, быстро седлали лошадей, надевали кольчуги и шлемы, подвязывали на ногах калиги[34], подбирали с песка оружие и щиты и строились в колонну.
– Крепкий народ эти варвары, – сказала Фотиния. – Такие все старики, а мускулы у них, смотрите-ка, прямо как у молодых!
Со стены вроде и не было видно, молоды готфы или стары, поэтому все удивились словам Фотинии, но спорить с нею никто не стал – себе дороже.
Но вот конница была построена, военачальник отдал команду, и готфы двинулись через мост. Первыми ехали верхом два архонта[35], один на гнедой лошади, другой на вороной. Конский топот, звон оружия, поднятая копытами пыль… И вот первые ряды остановились перед воротами, где их ждал начальник гарнизона Эдессы.
– С чего это ты взяла, нянюшка, что они все старики? – спросила София, разглядывая сверху готфов.
– Да вы поглядите, у них же не только волосы, но и бороды почти у всех седые!
– Это не седина, матушка Фотиния, – учтиво, но с улыбкой сказал Товий. – У готфов с рождения такие волосы – желтые, почти белые. Они же северяне.
– Взгляните-ка, а глаза у многих синие или голубые, – заметила Мариам.
– Тьфу, мерзость какая! – плюнула Фотиния. – И не смотрите на них, девушки: голубой глаз порчу наводит!
Но девушки только рассмеялись, а епископ укоризненно покачал головой:
– Это какой такой порчи боится благочестивая христианка Фотиния? – спросил он старую няньку с нарочитой суровостью. Та смутилась и умолкла, застенчиво прикрыв лицо краем покрывала, немало удивив всех несвойственной ей скромностью: но перед епископом Фотиния благоговела, как и прочие эдесские старушки.
А девушки продолжали с любопытством разглядывать варваров под стеной. Архонт, ехавший на вороном, вдруг поднял голову, посмотрел вверх и кивнул на них товарищу:
– Ты посмотри, какие птички там, на стене!
Второй готф, сидевший на гнедом коне, тоже поднял голову и уставился на девушек. А первый продолжал:
– В этом городе, похоже, служить будет не скучно! – и он весело помахал девушкам рукой. Они тотчас отпрянули от парапета.
– Робкие птички, – заметил его приятель. – А глаза, ну что за чудные глаза – прямо черный янтарь!
– Экие цветистые у тебя сравнения, Аларих! Сразу видно, начитался ты греческих поэтов.
– Будто бы ты их не читывал, Гайна!
А Евфимия в то же самое время шепнула подружке:
– Посмотри, Мариам, какие синие глаза у того, что на гнедой лошади, они как два василька в золотой пшенице!
– Какое удачное сравнение: у красивого готфского кентавра глаза-васильки![36] Тебе надо писать стихи, подружка!
– Куда мне, Мариам! Я васильки могу только вышить или выткать, но никак не описать стихами.
– И правильно, ласточка: незачем девушке стихи писать! Стихи хороши только церковные, а в церкви девушка должна молчать, – вмешалась уже оправившаяся от смущения нянька Фотиния.
– Когда она не поет! – весело добавила Мариам.
– И все же варвары не так безобразны, как мы привыкли думать, – сказала Евфимия.
– Ага, есть в них какая-то варварская красота! – лукаво добавила Мариам.
– Перестаньте вы, девушки, глупости болтать! Варвары красивыми не бывают! – прикрикнула на нее Фотиния. – И глядеть на них не надо, и себя показывать им не след! Закройте-ка личики, нечего всякой солдатне на вас глазеть!
Девушки послушно спрятали лица за тонкими покрывалами, а Фотиния украдкой перекрестила обеих – от сглаза, должно быть.
* * *
Так они и стояли на стене, пока последний готф не вошел в город, после чего все спустились вниз и вышли за ворота вместе с сестрой Эгерией. Насмерть перепуганный послушник-проводник стоял, прячась в зарослях чертополоха вместе с осликом: он тоже подумал, что в город вошли эфталиты, только не мог понять, почему же им открыли ворота и впустили без боя? Ему очень хотелось убежать и увести ослика, а ну как эти варвары жрут ослятину? Однако без Эгерии уйти он никуда не мог, это означало бы нарушить послушание. Так он и сидел в кустах, вздыхая, терзаясь и колеблясь между страхом и долгом. Но вот он увидел паломницу выходящей из ворот и радостно бросился к ней. Эгерия посмеялась его страхам и объяснила, что это пришли не враги, а защитники. Но он все равно торопил ее: «Эфталиты или готфы, а все одно от них лучше держаться подальше! Давайте уж пойдем поскорее в монастырь, там нас давно ждут!» Пришлось провожающим проститься с чудной паломницей и вернуться в город, а Эгерия села на ослика и потихоньку, то и дело оглядываясь на стены города и крестя его на прощание, поехала через мост, вслед за торопливо шагающим проводником.
* * *
– Какой сегодня был длинный, интересный и удивительный день, мама, – сказала Евфимия, переплетая на ночь косы. – Но так хочется спать!
– Вот и ложись, моя усталая ласточка, – ласково сказала София, обнимая и крестя дочь на ночь. Самой ей еще надо было отдать на завтра распоряжения кухарке и служанкам, хотя больше всего ей хотелось поскорей добраться до постели и уснуть: да, день сегодня был длинный и столь насыщенный событиями, что даже и она, обычно неутомимая, изрядно устала…
Но день еще не кончился. От ворот прибежал сторож и сказал хозяйке, что к ней явился стратилат[37] Аддай и просит принять его по срочному делу.
Городом Эдессой помимо царя управлял Совет десяти – ему подчинялись чиновники, а военными делами управлял стратилат; вот он и посетил Софию, чтобы сообщить ей неприятную новость. В связи с тем что стоящий в городе гарнизон пополнился готфами, на многих граждан, доселе по тем или иным причинам освобожденных от воинского постоя (София была освобождена от этой повинности и как вдова, воспитывающая дочь, и как уважаемая служительница церкви), отныне тоже распространяется эта всеобщая повинность, и ей придется принять на постой прибывших на подмогу готфов.
София твердо решила ни за что на эту повинность не соглашаться. Она давно и близко знала стратилата Аддая, всеми в городе уважаемого человека. Она приняла его в атриуме, велела служанкам принести вино и фрукты для гостя, надеясь в беседе склонить его на свою сторону. Гость от вина и фруктов отказался, хотя присесть соизволил.
– Госпожа София! Ты знаешь, какими близкими друзьями мы были с твоим покойным мужем, купцом Фотием, и догадываешься, что я никогда не решился бы потревожить твой дом, если бы не крайняя необходимость. Я и пришел к тебе, госпожа, по поручению Совета, чтобы напомнить о хрисагире[38].
– Господин Аддай, – начала София, – я уже шесть лет как стала диакониссой, за это время я трижды выплатила хрисагир со своего имения и с лавок, оставленных мне мужем. А между тем в законе сказано, что от уплаты хрисагира освобождаются «врачи и всяких наук учителя»: не относятся ли обучающие молодежь Слову Божию диакониссы к учителям?
– Несомненно, относятся, дорогая госпожа София, какая же наука выше богословия и какая школа важнее катехизации? И я обещаю поговорить в Совете о том, чтобы впредь внести твое имя в списки освобожденных от хрисагира граждан Эдессы. Но подати на содержание армии, да еще во время военных действий… Это нечто совсем другое, согласись.
– Я понимаю, враги под стенами города, – сказала София и опустила голову.
– Да, но это только одна из причин, та, что лежит на поверхности. Мы решили, с одобрения Совета десяти, готфскую часть гарнизона разместить прямо в городе, а не за его стенами, как первоначально намеревались, якобы опасаясь столкновений между горожанами и готфами, зная о разнузданном поведении готфов в других городах. Но истинная причина в ином, и я ее от вас не скрою: некоторое время назад готфы одной из частей в Риме взбунтовались, требуя прибавки жалования для солдат и почестей для своих начальников, что вылилось в кровавое побоище между готфскими и ромейскими[39] частями войска. Мы хотели избежать повторения римских событий в Эдессе, а потому лагерь готфов должен был остаться за стенами, но эфталиты подошли слишком близко к Эдессе, и было решено, что все войско должно быть сосредоточено в городе, чтобы ни одна часть его не оказалась отрезанной в случае осады. Потому было найдено мудрое решение: днем держать готфов в казарме и занимать военными учениями, а на ночь распределять по домам самых надежных горожан, причем в каждом доме не более пяти воинов. Госпожа София, поверь, я всеми силами пытался избавить тебя от этакой чести, но единственное, что мне удалось, это добиться, чтобы к вам определили на постой только двух готфов-архонтов. Их имена Аларих и Гайна, оба на вид люди образованные и приличные, оба говорят на греческом и арамейском, но главное их достоинство заключается в том, что они христиане. Надеюсь, ты сумеешь их разместить так, чтобы они и тебе не докучали, но и на условия постоя не жаловались.
– Я слыхала, что по правилам постоя хозяева должны обеспечить воинов кровом, хлебом, топливом и одним матрацем на двоих. Это так?
– Да, именно так. Причем воины не вправе выбирать для себя помещение: это может быть даже конюшня или кладовая.
– Ну зачем же занимать конюшню… А не будет для архонтов обидой, если я размещу их не в доме и не в примыкающих к нему строениях, а в маленьком садовом домике, стоящем на отшибе? Он расположен в той части нашего сада, что отгорожена от главного дома стеной и имеет отдельный выход на улицу, – сказала София. – Домик я распоряжусь благоустроить, и матрац каждый из готфов получит свой, отдельный, причем разложат их не на полу, а на топчанах. И вдобавок я велю, чтобы кроме хлеба по утрам им доставляли еще и горячую пищу – ту, что едят наши слуги, – и свежую воду, а по воскресеньям – кувшин вина. Фрукты же им будет позволено рвать в саду по желанию.
– Я всегда восхищался твоей спокойной мудростью, госпожа София, и тем, как ты управляешь всем домом, – поднимаясь, сказал стратилат. – Постояльцы прибудут завтра вечером после гарнизонной службы и обычных войсковых учений и надеюсь, они не причинят ни тебе, ни домочадцам особых хлопот.
– На все воля Божия, стратилат Аддай, – склонила голову София.
– Да будет так! – сказал, вставая, стратилат. – Еще один вопрос, госпожа София. Не остались ли у тебя походные шатры мужа?
– Шатры? – удивилась София. – Нет, все, с чем Фотий ходил в торговые походы, шатры и лошади, все было продано или роздано мною после его смерти вместе с оставшимися товарами. Разве что несколько старых палаток, которые собирались починить, да так и не собрались, лежат в сарае без употребления. Они тебе могут понадобиться?
– Не мне – беженцам, – коротко ответил стратилат.
– Город ждет еще беженцев?
– Ждать не ждем, но они могут появиться внезапно: далеко не все крестьяне бросили хозяйство и заранее укрылись в городе, вот как раз самые крепкие и зажиточные из них держатся до последнего за свое хозяйство, надеясь, что эфталиты не решатся на осаду. Так я пришлю к тебе завтра кого-нибудь за палатками?
– Присылай.
Стратилат распрощался и ушел. А София отдала распоряжение своей домоправительнице Елене приготовить с утра садовый домик для воинов-постояльцев и, переложив прочие заботы на завтра, помолилась и легла спать со спокойной душой. Она еще не знала, что этим вечером для нее с дочерью надолго прервалась прежняя безмятежная жизнь.
Глава третья
По будням София ходила с утра на службу не в кафедральный собор, но в маленькую церковь на своей же улице, скорее даже не церковь, а часовню над гробницей с мощами святых мучеников Самона, Гурия и Авива, что было не столько удобно для нее, сколько приятно ее душе. Как и все жители Эдессы, она гордилась святыми мучениками, но не только: сама не ведая, по какой причине, она как-то особенно тепло любила их – двух мужественных и верных Христу братьев Самона и Гурия, таких дружных и любящих друг друга, и повторившего их подвиг совсем молодого диакона Авива[40]..
Фотиния идти на литургию с Евфимией и Софией отказалась, сославшись на головную боль. Но когда, отстояв службу и причастившись, София с дочерью возвратились домой, им навстречу из дома вышли служанки, неся в обеих руках тюфяки, покрывала и корзины с посудой. Они доложили хозяйке, что Фотиния отправилась в сад и там хлопочет над устройством пристанища для архонтов-готфов, определенных к ним на постой, а они ей помогают.
– С чего это она решила проявить такую заботу о варварах, не предоставив эти хлопоты Елене? – удивилась София. – На нее это не очень похоже – надо пойти взглянуть!
Дом Софии был окружен высокими тенистыми деревьями, декоративными кустами и множеством цветов, преимущественно роз, а большой фруктовый сад был отделен от главного двора стеной в человеческий рост; из сада выходили две калитки: одна к дому, а другая на соседнюю улицу. Через сад протекал ручей, образуя в центре сада небольшой круглый пруд, и неподалеку, на краю дорожки, под раскидистым орехом стоял садовый домик, сложенный из грубо обтесанного камня и беленный известью, – тот самый, в котором решено было устроить готфов. Туда и направилась София в сопровождении нагруженных служанок.
Фотинию она увидела перед окном домика, выходившим на ведущую к дому дорожку. Она стояла, уперев руки в бока и поджав и без того тонкие сухие губы, и сердито разглядывала окно. Перед нею стоял парнишка Саул, ее племянник, сын умершей сестры, которого она с утра до ночи гоняла, поучала и заставляла делать несложную мужскую работу по дому: прибить, починить, отнести – принести. Вот и сейчас в одной руке Саул держал переносной ящик с плотничным инструментом, а на земле перед ним лежало несколько коротких досок: похоже, Фотиния задумала забрать досками окно садового домика, выходившее в сторону большого дома.
– Фотиньюшка, и что это ты тут расхлопоталась? – спросила София. – У тебя же голова болела, ты даже литургию сегодня пропустила.
– А она у меня и сейчас болит – обо всем и за всех! Ты-то вот о чем думала, когда согласилась взять на постой диких варваров?
– Они пришли нас защищать, нянюшка, – сказала София, – не заставлять же их жить в палатках под стеной.
– Твое дело в первую очередь защищать родное дитя от похотливых мужских глаз! – отрезала Фотиния. – Защищать они нас пришли… Мало, что ли, воровства и всякого другого нечестия видел наш город от диких наемников?
– Они не дикие. Готфы первыми из варварских племен уверовали в Иисуса Христа, они такие же христиане, как и мы.
– Это ты так думаешь! – фыркнула Фотиния. – Ты что, им устраивала экзамен по катехизации?
– Так Мар Евлогий сказал вчера на проповеди.
На это Фотиния возразить уже ничего не решилась и обратила гневный взор на племянника:
– Ну и чего ты стоишь, как молодой осел, развесив уши? Доски-то правильно отмерил?
– Ты же сама их отмеряла, тетка Фотиния…
– Ну тогда, значит, правильно.
– И что же это ты тут затеяла? – улыбаясь, спросила София.
– О девочке нашей забочусь, вот что… Конечно, в сад ей выходить теперь нельзя, и ты ей это сегодня же запрети строго-настрого. Захочет девочка мушмулы – я сама наберу и принесу в корзинке. Не хватало еще, чтобы на нее варвары глаза пялили! А чтоб они даже случайно ее не увидели, окно это надобно заколотить, ведь из него второй этаж дома виден. А изнутри я прикажу на эту стену еще и ковер повесить! Самый толстый и ворсистый!
– Предусмотрительная ты моя старушка, – ласково сказала София, обнимая Фотинию и целуя ее в коричневую морщинистую щеку. – Ну что ж, может, это и разумно. Я слыхала, что наши постояльцы не только христиане, но и образованные люди, однако береженого Бог бережет.
– Эй, ты что ж это делаешь, Саул? – закричала вдруг Фотиния на племянника, который тем временем уже прибил первую доску и теперь прикладывал к ней вторую. – Ты как доски собираешься класть?
– Как ты велела – плотно, чтобы щелей не осталось.
– Так внахлест надо класть! Если же их просто впритык прибивать, то как ни старайся, а для хитрого глаза щелочка всегда отыщется! Дай покажу, как надо.
Она взяла у юноши молоток, гвозди, приладила доску «как надо», – и ударила мимо гвоздя по пальцу.
– Ой! – закричала она. – Замуж, замуж пора давно!
– Да ты что, тетка Фотиния! – рассмеялся Саул. – Да кто ж тебя замуж возьмет, такую старую и ворчливую?
– Да я не про себя, дурень! – замахнулась на него молотком старушка.
– А про кого же? – деланно удивился Саул, бережно, но решительно отбирая у нее молоток.
– Про девочку нашу, про Евфимию…
– А что это ты так торопишься ее с рук сбыть, Фотиния? – спросила, улыбаясь, София. – Девочка наша пока не перестарок.
– А потому, что в народе правильно говорится: когда виноград собран, виноградник и сторожить не надо! Да и вовсе не собираюсь я с рук ее сбывать – уж я-то всяко не расстанусь с моей голубкой. Ты не забыла, София, что обещала меня к ее приданому приписать, если жених мне по вкусу придется?
– Помню, помню! Иди-ка ты подержи палец в холодной воде, не то распухнет.
– А кто тут за всем приглядит?
– Да что тут особо приглядывать? Постояльцы наши люди военные, им особых удобств не надо.
– Стану я еще об их удобствах беспокоиться, да тьфу на них! Я про то, что изнутри окно надо еще ковром завесить и ковер плотно к стене прибить. Понял, Саул?
– Понял, понял. Иди, тетушка, охлади палец, да и сама охладись. Справлюсь я тут как-нибудь.
– А мне как-нибудь не надо, мне надо как следует! – все еще не могла угомониться Фотиния.
Девушки, убиравшие в домике, еле сдерживали смех, слушая ворчание старой няньки, но вслух они рассмеялись, только убедившись, что она скрылась за высокой стеной сада. Но Фотиния тут же и вернулась и закричала из калитки:
– Саул! Когда закончишь с окном, забей накрепко и эту вот калитку!
– Фотиния, опомнись! Как же мы будем ходить в сад за фруктами? – попыталась ее образумить София.
– А в обход, через улицу!
Но и София умела быть непреклонной:
– Вот уж нет, нянюшка! В городе сейчас девушкам гулять опасно, так не взаперти же целыми днями сидеть Евфимии? Днем наши постояльцы будут на службе, и в это время вы сможете с нею гулять в саду. А в остальное время калитка будет на запоре, и ключ от нее мы доверим, конечно, тебе, надежная ты наша.
Фотиния, может, и хотела бы еще поспорить, но София развернулась и шагнула за порог садового домика: обижать старушку ей не хотелось, в конце концов, та ведь о Евфимии заботилась. Даже сам Мар Апрем говорил о том, что имеющие в доме молодых девушек должны их беречь и готовить к честному супружеству.
* * *
Примерно через час готфы в сопровождении раба, ведшего в поводу коней, нагруженных большими переметными сумами, явились на постой в дом Софии. Услышав об их приходе, Фотиния схватила за руку Евфимию и скорыми шагами увела ее по лестнице, ведущей из атриума на галерею второго этажа, а оттуда – в их комнаты. Евфимия занимала просторную светелку с большим окном, выходящим в сад, а Фотиния жила в прихожей, отделявшей комнату девушки от коридора. В проходной этой комнатке помещались: у одной стены узкое ложе с иконкой над ним, изображавшей встречу Спасителя с самарянкой у колодца, светильник на высокой кованой подставке в углу да накрытый ковриком сундук у другой стены. Никто – ни человек, ни зверь – не мог бы проникнуть в комнату Евфимии, минуя лежащую на страже Фотинию.
– Сиди у себя и не высовывайся! – строго приказала нянька подопечной, а сама спустилась вниз поглядеть на варваров и послушать, о чем они будут говорить с хозяйкой.
Готфы вели себя вполне пристойно и вежливо. Они представились Софии, назвались и, узнав, что домик, назначенный им для проживания, уже приготовлен и находится в саду, а вход у них будет свой, особый, с другой улицы, не обиделись, но, кажется, даже обрадовались, что будут жить отдельно от хозяев. Они только спросили, есть ли запор на двери дома, поскольку захватили из казармы все свое имущество. София ответила, что на двери дома есть засов и замок к нему, и тут же выдала им ключ от него. Готфы ей показались неопасными, особенно после того, как один из них спросил, есть ли поблизости церковь.
– Совсем недалеко от нас, на соседней улице, стоит церковь святых мучеников Самона, Гурия и Авива. Но отсюда и кафедральный собор Святой Софии недалеко, – уже с улыбкой ответила София. – А я в нем диаконисса.
Оба архонта почтительно склонили головы.
София осталась довольна: она слышала, что некоторые готфы являлись приверженцами арианской ереси, но к ее постояльцам это не относилось.
Евфимия, не сдержав любопытства и пользуясь отсутствием еще более любопытной Фотинии, тихонько вышла из своей комнаты, прокралась на галерею над атриумом и оттуда украдкой наблюдала встречу матери с постояльцами.
Поблагодарив хозяйку за гостеприимство, архонты вышли. София отправила Фотинию поручить Саулу, чтоб показал им их жилище.
Евфимия тотчас ласточкой слетела с галереи.
– Мама, ты его узнала?
– Кого из них, доченька? Их было двое.
– Ну, того, который повыше ростом. Это же тот самый варвар, которого мы видели со стены, когда стояли над Западными воротами! – сказала Евфимия.
София взглянула на дочь, и сердце ее тревожно дрогнуло, потому что глаза Евфимии сияли как звездочки.
* * *
Готфы в сопровождении Саула вышли со двора на улицу, кликнув с собой раба, принадлежавшего Алариху и дожидавшегося их с конями перед домом, переулком обошли усадьбу, вышли на улицу с другой стороны дома и подошли к калитке сада. Саул отпер ее и по дорожке провел их к садовому домику под ореховым деревом. Злополучное окно было уже не только заколочено досками, но даже и сами доски побелены, чтобы не выделялись на стене.
– Вот тут вы и будете жить! – сказал парнишка, покосившись мимоходом на свою работу.
Готфы вошли в свое временное жилище и остались весьма довольны его убранством. Саул показал им, где что находится, вручил ключи от дома и от калитки на улицу и удалился.
Раб Авен, седой, кряжистый и на вид все еще очень сильный старик, внес разом все четыре переметные сумы и сложил их в углу, после чего по приказу хозяина удалился вместе с конями.
– Повезло нам! – сказал Гайна, оглядываясь. – Если у нас появятся подружки, легко будет провести их прямо сюда.
– Не знаю, найдешь ли ты себе подружку в столь благочестивом городе, – заметил Аларих. – Тут в каждом переулке если не церковь, то часовня.
– Где преизобилует благодать, там и грех неподалеку, брат мой Аларих! – елейным голосом пропел Гайна, и оба рассмеялись.
Наскоро устроившись, офицеры-готфы заперли домик на висячий замок и тоже отправились следом за Авеном в казармы.
* * *
Первый день в Эдессе был для друзей-готфов хлопотным: надо было разместить воинов и лошадей, познакомиться с начальством местного гарнизона, нанести визит местным властям, позаботиться о съестных припасах и фураже, поэтому к вечеру оба изрядно устали и едва доплелись до своего нового пристанища. На столе в домике их ждал большой кувшин шербета, в котором плавали кружочки свежей мушмулы, и свежие лепешки с двумя большими кусками овечьего сыра. Они поели, выпили по кружке шербета и улеглись на свои тюфяки.
– Все хорошо, но душно-то как!
И в самом деле, хотя домик и стоял под тенистым орехом, за жаркий день стены его нагрелись, а небольшое окно, хотя Гайна и распахнул настежь его деревянные ставни, почти не пропускало свежего воздуха.
Готфы, воины мужественные и закаленные, могли спать на холодеющем ночью песке пустыни, на голом камне или мокрой земле близ болота, в палатках и под открытым небом, но вот духоты они оба не любили.
– Пойду-ка я взгляну, нельзя ли нам устроиться в саду под деревьями, – сказал Гайна и вышел за дверь.
Обойдя дом, он вернулся и сказал другу:
– Можно устроить ночлег в саду на берегу пруда, но можно поступить и проще: я обнаружил, что в доме есть еще одно окно, только оно заколочено. Вот тут оно, за этим ковром. Снимем ковер и откроем его?
– Не стоит. Пока ты ходил осматривать сад, я тоже времени не терял и обнаружил, что отсюда есть лаз на крышу. Если хозяева заколотили окно, значит, им это зачем-то понадобилось, и не стоит наводить тут свои порядки. При случае мы спросим у хозяйки разрешения открыть его, а пока давай-ка проверим ход на крышу.
Аларих встал под квадратным лазом и сцепил руки за спиной. Более легкий Гайна вскинул ногу на его сцепленные руки, оттуда ступил на плечи друга, а дальше все оказалось совсем просто: руки его уперлись в крышку лаза, легко откинули ее, и одним движением мускулистого тела он перекинул себя на крышу.
– Да тут просто роскошное место для сна! – воскликнул он. – Здесь и лестница имеется, сейчас я спущу ее тебе.
Лестница была опущена в комнату, и по ней на крышу домика вмиг были подняты постели друзей. Они улеглись под ветвями ореха, как в густой беседке.
– Вот это благодать! – блаженно вздыхая, сказал Гайна, когда они лежали на тюфяках, укрывшись легкими покрывалами. – М-м, какой воздух! Жаль только, что орехи еще не поспели.
– Зато поспела мушмула…
– Утречком проверим… Лишь бы не было дождя и москитов.
– Знаешь, Гайна, я думаю, что нам тут даже и дождь не страшен, – уже сонным голосом ответил Аларих. – А о москитах не беспокойся: под ореховыми деревьями москиты не летают, их отпугивает запах листьев.
– В самом деле? Ну тогда спокойной ночи, друг!
– Хороших снов на новом месте, Гайна!
* * *
– Как твои гости, голубка? – спросил в воскресенье Мар Евлогий Софию. – Не докучают они вам?
– Мы их и не видим, владыко: уходят они в казармы на рассвете и возвращаются поздно вечером, а то и ночью, когда мы уже давно спим, ведь они оба офицеры. Выходных у воинов, похоже, не бывает, так что мы живем спокойно, слава Богу. Даже Фотиния больше не требует, чтобы калитка, ведущая в сад, была заколочена. Наступили жаркие дни, и она сама с удовольствием проводит время в саду вместе с Евфимией и даже разрешает ей купаться в пруду. Правда, сама в это время стоит на страже и следит, чтобы никто не проник в сад.
– Вот и прекрасно. Дай Бог, чтобы так и дальше продолжалось: готфы не шастали бы по городу, персы не приближались к нему, а варвары-эфталиты отошли от него подальше.
* * *
Тревожно стало жить в христианской многоцерковной Эдессе, осиянной и по сию пору спасаемой чудотворным Спасом-на-убрусе: угнетенные и перепуганные жители часто собирались у Западных ворот и молились Христу, чей Образ некогда освящал именно эти ворота. И пусть чудесная святыня пребывала где-то под спудом, спрятанная некогда самими жителями от язычников, эдесситы верили, что она и оттуда, из тайного места, охраняет их город, и взывали на этом, священном для них месте, к Спасителю, прося Его о помощи.
Эфталиты пока к городу не приближались, поджидая основное персидское войско, застрявшее на восточном берегу Евфрата, но они засели в окружающих Эдессу холмах, и вечерами белесый дым их костров был особенно заметен на фоне темно-синего, усыпанного яркими звездами неба. Эта угроза пугала жителей и раздражала воинов, и тогда военным советом решено было начать ночные вылазки. Как и следовало ожидать, этим занялись не регулярные войска, и уж тем более не малочисленный постоянный гарнизон Эдессы, а отряды готфов, чьим военным ремеслом как раз и была разведка. Они стали небольшими группами уходить в сумерках и возвращаться глубокой ночью, несколько раз приводя с собой захваченных в плен эфталитских воинов.
Однажды, вернувшись из такой вылазки уже под утро, Аларих и Гайна, сдав захваченных пленных начальству, отпросились отоспаться и больше в этот день в казармы не возвращаться, что и было им разрешено.
Они крепко спали в тени ореховой кроны на крыше садового домика, когда Гайна проснулся, разбуженный, как он подумал спросонья, птичьим пением: только вот птицы почему-то, как он понял, прислушавшись, мелодию сопровождали словами! А пели они, как ни странно, что-то очень знакомое.
Гайна подполз к Алариху и потряс его за плечо:
– Тс-с-с! Проснись, но не шуми! Ты погляди, друг, какие к нам птички прилетели! Только осторожно, не вспугни…
Они оба приподнялись и осторожно раздвинули густые и ароматные ветви ореха.
На берегу пруда, под невысокой, но тенистой ивой, свесившей светло-зеленые пряди листвы в воду, на коврике расположились трое. Две девушки, это были Евфимия и ее подруга Мариам, сидели и пели, причем Евфимия подыгрывала на самбуке[41], а рядом с ними, свернувшись калачиком, дремала или спала под сладкую музыку нянюшка Фотиния.
Девушки пели:
…Встану я, обойду-ка я город по улицам и переулкам, поищу любимого сердцем. Я искала его, не находила. Повстречала тут меня стража, обходящая город: «Вы любимого сердцем не видали ль?» Едва лишь я их миновала, как нашла любимого сердцем. Я схватила его, не отпустила, привела его в дом материнский, в горницу родимой. Заклинаю вас, девушки Иерусалима, газелями и оленями степными: — не будите, не пробуждайте любовь, пока не проснется[42].– Песнь песней! – узнал наконец Гайна.
– Ну до чего же хороша! – прошептал Аларих.
– Песня?
– Да нет, девушка!
– Полненькая?
– Да нет! Та, что с самбукой… Она прекрасна, как утренний сон… И мне почему-то кажется, что где-то я ее уже видел. Неужели и правда во сне? Ты веришь в вещие сны, друг?
Гайна захихикал, прикрывая рот рукой.
– Эх ты, а еще знаменитый в легионе разведчик! Мы же их обеих видели на стене, когда входили в город! И старушка тоже была с ними…
– А ведь верно! Как же я ее сразу не узнал?
– Старушку? – ехидно уточнил Гайна и получил несильный, но вразумляющий тычок. Он уткнулся лицом в подголовный валик, чтобы заглушить смех.
К сидевшим девушкам подбежал паренек с корзинкой спелой мушмулы.
– Нянюшка, просыпайся! Саул набрал нам мушмулы: смотри, какая спелая! – сказала Евфимия, отложив в сторону самбуку.
– Подумаешь, мушмула! – недовольно сказала старушка, садясь и заглядывая в корзинку. – Мне бы, старенькой, хотя бы крохотный кусочек мяска пожевать…
– Мне тоже так мяса хочется, что зубы чешутся! – пожаловалась Мариам.
– Надо терпеть, где же теперь взять мяса? – рассудительно проговорила Евфимия. – Крестьяне больше не заходят в город, боятся персов и эфталитов: те могут появиться под стенами города совсем неожиданно, как это бывает на войне. Пока они, слава Богу, не приступают вплотную к Эдессе. Хорошо, что у нас есть хотя бы рыба.
– Из языческих прудов, посвященных идолу, демонице Иштар, – проворчала старушка. – Пойдемте, девушки, в дом, а то уже припекать начало!
Девушки поднялись, старушка свернула коврик и вручила его племяннику. Гуськом они отправились к стене, отделяющей дом от сада, отворили калитку и скрылись за ней.
– И под лучами жаркого солнца, словно сон, растаяло прекрасное видение! – с пафосом произнес Гайна, снова привольно раскидываясь на постели.
– Давай в воскресенье пойдем на службу в городской храм? – предложил вдруг Аларих.
– Чем это тебе наша церковь в крепости не угодила? – удивился Гайна.
– Хор не нравится. В кафедральном соборе, слышал я, поют девушки, а наша хозяйка служит в нем диакониссой…
– Ну, все понятно! – засмеялся Гайна. – Что ж, я не против.
* * *
В воскресенье оба готфа явились в кафедральный собор, скромно встали в сторонке, отстояли всю службу и причастились со всеми. Но на трапезу их почему-то никто не догадался пригласить, так что они вдвоем покинули храм и вернулись в свой садовый домик. На столе их ждал поднос, на нем горшок каши, две большие лепешки и кувшин с фруктовым напитком – их обычный завтрак, доставляемый Саулом. Надо сказать, что не все хозяева, у которых стояли на постое воины-готфы, отличались таким же хлебосольством: большинство из них ограничивалось положенными по указу лепешкой в день да кувшином воды. Похвалив щедрость хозяйки, Гайна, насытившись, улегся отдыхать на топчан.
– Ты чего опять разлегся? – спросил его Аларих. – Вставай! Я придумал, как нам познакомиться с девушками, и даже нашел путь к сердцу их бдительной и отнюдь не беззубой церберши!
– Да ну?
– Представь себе. Но нам придется совершить небольшую тайную вылазку в окрестные леса.
– На разведку?
– На охоту.
В тот же день, ближе к вечеру, Аларих и Гайна, пропотевшие, запыленные и усталые, каждый с холщевым мешком за спиной и луком на плече, постучали в калитку дома Софии. Им открыл сторож, но внутрь их не впустил.
– Хозяйки нет дома. Что угодно достойным воинам? – спросил он, встав в проеме калитки с весьма негостеприимным видом и упершись руками в столбы.
Но готфы и не собирались прорываться внутрь с боем: они опустили перед ним оба мешка и сказали:
– Передай это своей хозяйке и скажи, что архонты Аларих и Гайна благодарят ее за постой.
После чего развернулись и бодро удалились. Удивленный сторож на всякий случай развязал мешки и заглянул в них: в одном лежало несколько фазанов, а в другом – завернутые в листья куски мяса, судя по виду, дикой козы или лани. Ликуя, он подхватил мешки и помчался к дому, не забыв, однако, перед тем накрепко запереть калитку.
* * *
Когда совсем стемнело, в садовый домик постучался Саул.
– Госпожа София приглашает вас на ужин, – сказал он выглянувшему Гайне. – Можете идти прямо за мной, мы пойдем через внутреннюю калитку!
А вот этого приглашения Аларих и Гайна как будто ожидали: оба уже успели искупаться в пруду и даже вымыть свои короткие светлые волосы, отчего те завились у обоих блестящими крутыми кудрями, и переодеться в чистые туники и легкие плащи, явно предназначенные не для боя, а для парадных случаев; панцири и шлемы они, конечно же, тоже надели, предварительно начистив их до полного сияния.
Готфы сразу же последовали за Саулом.
В атриуме, где уже стояли накрытый к ужину стол и кушетки вокруг него, их встретили София и специально приглашенный на ужин родственник, дядюшка Софии, купец Леонтий. София поблагодарила постояльцев за щедрый дар, а купец поинтересовался, как им удалось раздобыть мясо и дичь в такое голодное время.
– Разве варвары не обложили город? – спросил он, глядя на них из-под лохматых седых бровей.
– Обложить-то они его обложили, но пока не подступают к самым стенам, так что при известном умении и везении можно и выйти из Эдессы, и вернуться обратно, – ответил Аларих.
Ни Евфимии, ни подружки ее Мариам за ужином, конечно, не было, но готфы, казалось, этим ничуть не были огорчены, будто и не надеялись на встречу с девушками. А вот старая нянька за столом присутствовала.
Готфы чинно беседовали с купцом и хозяйкой, коротко и без всякого хвастовства рассказали о своей охоте, а затем перешли к новостям. Персы еще не подошли к городу вплотную, стояли за Евфратом, но эфталиты, поджидая их, таились за ближними холмами, и вот их-то и следовало опасаться в первую очередь.
– Расскажите нам что-нибудь про эфталитов, – попросила София. – По городу о них такие странные и страшные ходят слухи, что просто оторопь берет!
– Да что о них особенно рассказывать? Дикари… – пожал плечами Гайна.
– Ну не скажи, друг Гайна! Эфталиты, конечно, настоящие дикари, но даже самые опытные наши воины с подобными дикарями пока не встречались. Во-первых, толком даже неизвестно, откуда они появились.
– Это верно, друг Аларих! – согласился Гайна. – Пришли они в эти края вместе с персами, а вот откуда – сие покрыто мраком неизвестности.
– Вот вы и отогнали бы их обратно в этот самый мрак неизвестности, и век бы про них не знать! – вдруг сердито вступила в разговор старая Фотиния. – Жуть такую про этих самых эфталитов рассказывают: будто они берут в поход своих женщин, а ежели приходится им голодать, так они сначала съедают своих жен, а уж потом лошадей!
– Ну что ты, матушка, – засмеялся Гайна, – эфталитские жены такие фурии, что сами хоть кого загрызут, в том числе и собственных мужей.
– Коих у них бывает до четырех, – заметил Аларих.
– Свят, свят, свят! – испуганно закрестилась нянька. – Да ты шутишь, поди, над старой, ведь ты сам басурман!
– Да как бы я посмел, матушка Фотиния? Да и не басурмане мы вовсе, а такие же христиане, как и вы.
– Так вы же готфы!
– Ну и что? Сказано же в Писании, что в христианстве «несть ни эллина, ни готфа, ни иудея», – важно сказал Гайна, потягивая разбавленное вино из серебряной чаши.
– Нешто вот прямо так в Писании сказано, Софиюшка?
– Так и сказано, нянюшка, – улыбаясь, ответила диаконисса. – Разве что про готфов не упомянуто.
– А я о чем твержу!
– В Писании упомянуты те народы, коим было проповедано Евангелие самими святыми апостолами, – важно сказал купец Леонтий, оглаживая бороду. – Про готфов тогда не слыхали, и уж тем более про эфталитов. Но теперь доподлинно известно, что готфы христиане. Как и то, что у эфталитских женщин и вправду бывает до четырех мужей.
– Да как же это – четыре мужа? – запричитала Фотиния. – Да за что же их, бедняжек, так наказали?
– И не наказание это вовсе для них, – продолжал купец, – а гордятся они друг перед дружкой тем, у кого мужей больше. Они даже носят шапки с рогами по числу своих супругов.
– Да тьфу на них, срамниц! И слушать-то про такое противно, не то что видеть!
– А мы постараемся их прогнать поскорей, матушка Фотиния, вот ты и не увидишь эфталиток в рогатых шапках, – ласково сказал старушке Аларих.
– А ты сам-то их видал?
– Приходилось.
– Ну так гоните вы их скорее прочь от нашего города, коли вы сами не басурмане!
– И в самом деле, даже не верится, что бывает такое на свете, – вздохнула София.
– Всякое на свете водится, – продолжал дядюшка Леонтий, – вот у серских чиновников до четырех жен бывает нередко.
– И то и другое, надо думать, одинаковая мерзость перед Господом, – сказала София. – У нас и вдовы-то редко выходят второй раз замуж, хоть им это и не запрещено законом.
– Милая, ты живешь в первом на земле государстве Христа, а жители Сереса о Христе еще ничего и не слыхали, они пока язычники.
Старая Фотиния вдруг резво встала с обеденной кушетки и крадучись подошла к лестнице, ведущей в верхние комнаты.
– Девочки! Вы там чем заняты? – негромко спросила она. Ей никто не ответил, и она, успокоившись, вернулась на место. Но Гайне, сидевшему ближе к лестнице, показалось, что наверху, на галерее, мелькнули и исчезли две белые фигурки и сверкнули чьи-то черные любопытные глаза. Алариху он сказал об этом только дома, когда они вернулись с ужина у хозяев, – причем вернулись опять через внутреннюю калитку, которую сразу же запер за ними бойкий нянюшкин племянник.
Глава четвертая
Через несколько дней к Софии с утра вдруг заявились оба готфа, нагруженные своими переметными сумами.
– Хозяюшка, – сказал Гайна, – выручи нас еще раз! Мы уходим защищать стены, и неизвестно, когда теперь вернемся в город. В этих сумках все наше походное имущество и кое-какие дорогие вещи, в том числе деньги и драгоценности. Не могла бы ты все это приберечь у себя в доме?
– Конечно, конечно! Я прикажу Елене запереть ваши сумки в кладовой, где у нас хранятся самые ценные вещи. Обещаю, что все останется в целости и сохранности до вашего возвращения. А вы возвращайтесь с победой!
– На щите или со щитом! – сказал Аларих.
– Мы будем молиться о вас! – пообещала София и перекрестила обоих готфов на дорогу.
* * *
С продовольствием становилось все хуже и хуже, торговцы быстро все раскупили у крестьян-беженцев, а затем взвинтили цены. Люди с утра спешили на рынок, а, найдя еду подешевле, ели ее тут же, на рынке, что в мирное время считалось, по крайней мере у горожан, весьма неприличным.
Для Софии осада Эдессы началась уже накануне первых прямых схваток нападающих и защитников города. Утром кухарка с помощницей ушли на рынок за припасами, а вернулись уже через полчаса с пустыми корзинами, перепуганные, растрепанные и взволнованные. Слуги собрались на кухне, чтобы выслушать новости.
– Эфталиты идут! Эфталиты идут в город! Все жгут и грабят, убивают даже детей и женщин! – закричала кухаркина помощница, увидев Софию на пороге кухни.
– Замолчи, дуреха! – отвесив ей подзатыльник, приказала кухарка. Подняв оброненную девушкой корзину, она поставила ее на скамью и сама без сил опустилась рядом. – Все так и есть, хозяйка, эфталиты приближаются к городу.
– Я иду к Мару Евлогию и там все узнаю доподлинно.
* * *
Выйдя на Главную улицу, София своими глазами увидела нашествие, но не эфталитов и персов, а беженцев из окрестных деревень. Некоторые из них были с телегами, запряженными волами, лошадьми или мулами и нагруженными скарбом и мешками с припасами, на телегах сидели дети и старики. Большинство же шло пешком, иногда толкая перед собой небольшие тележки, но чаще с мешками и корзинами за плечами. Но это были не самые скорбные беженцы: то и дело в толпе попадались те, кто шел с пустыми руками и при этом вел, поддерживая, раненых и обожженных.
Вдоль Главной улицы, распределяя поток беженцев и следя за порядком, стояли городские стражники. София подошла к одному из них и спросила:
– Куда идут эти несчастные?
– На площадь Совета. Там перед ними выступят префект и епископ, объяснят, какой порядок они должны будут соблюдать в городе, а потом их разведут по местам временного расселения.
– И где же их всех намерены расселить городские власти?
– А это ты у них спроси, госпожа! Наше дело – следить за порядком.
На ходу беженцы сумрачно объясняли прохожим, стоявшим вдоль пути их следования, что эфталиты проходили через их деревни, на ходу грабя, убивая и сжигая все на своем пути. Многие из беженцев были без вещей, лишь в чем успели выскочить из домов и спрятаться. Некоторые горожане раздавали им подаяние, другие выносили из домов еду, но кое-кто глядел на беженцев неприязненно, ворча, что из-за них теперь в городе непременно начнется голод.
Храм был недалеко, и София довольно скоро подошла к церковным воротам. К ее немалому удивлению, они были заперты. Она протянула руку сквозь отверстие у ворот, нащупала веревку колокола и позвонила. Ей отворил не кто иной, как их сосед, молодой купец Товий.
– Я с другими прихожанами помогаю готовить палатки для беженцев, – пояснил он Софии, даже не успевшей ни о чем спросить. – Как только примем их и разместим, пойду проситься в ополчение.
В саду рядами стояли походные купеческие шатры. София вспомнила визит префекта и поняла, зачем тому понадобились старые палатки ее покойного мужа. Наученные горькой историей прежних осад города, веками привлекавшего врагов богатством и удобным местоположением, власти, как видно, успели хорошо подготовиться к новому приливу беженцев. На душе у нее стало немного спокойней.
В саду хлопотали причетники, в том числе и диакониссы, им помогали многочисленные прихожане, в основном женщины и подростки. «Мужчины уже ушли в ополчение!» – догадалась София. Со стороны кухни доносился запах готовящейся еды. «Когда же они все успели?» – подумала она. Будто отвечая на ее невысказанный вопрос, Товий объяснил:
– Разведчики еще с вечера сообщили, что к городу движутся толпы беженцев, и Мар Евлогий сам обошел живущих рядом с храмом прихожан и позвал их на подмогу, а уже они позвали остальных.
– А кто тут у нас сейчас главный?
– Всеми делами заправляет отец Феодосий.
София отыскала диакона Феодосия, спросила, что ей делать, и отправилась помогать женщинам на кухню.
Через час, когда уже были расставлены все палатки и столы в трапезной и на аллее, явился Мар Евлогий, а за ним – толпа запыленных и уставших беженцев. Их сразу же распределили по шатрам, потом повели умываться к ручью, а уже после усадили за столы и накормили. После недолгого благодарственного молебна беженцы разошлись отдыхать в свои временные полотняные жилища, женщины принялись убирать столы и начали готовить еду к вечерней трапезе, а Софию Мар Евлогий пригласил в свою келейку.
– София, доченька, а ведь у меня для тебя есть особое послушание, очень трудное, – сказал он, садясь и снимая сандалии с усталых ног.
– Благослови, владыко! – коротко сказала София, проходя в хозяйственный угол: там она взяла таз, налила в него воду из стоявшего у двери кувшина, поднесла к епископу и поставила у его ног; он с блаженным вздохом опустил ступни в прохладную воду. Она было склонилась, чтобы самой омыть ему ноги, но Мар Евлогий ее остановил.
– Я сам, София. Ты лучше слушай меня внимательно.
София послушно села у его ног, держа наготове полотняное полотенце.
– Как ты знаешь, самую большую опасность для города во время осады, пока он не взят врагами, представляют внутренние враги.
– Лазутчики?
– Хуже. Голод, болезни и эпидемии. Среди беженцев много больных, обожженных и раненых. На Совете было решено, что их по возможности надо отделить и лечить. Сад у тебя большой, постояльцев своих ты теперь навряд ли увидишь до конца осады; может быть, ты согласишься принимать к себе больных и раненых, которых мы обнаружим среди наших беженцев? Прокормить их поможет городской Совет, а для лечения мы назначим лекаря. Вот только ухаживать за ними некому – все люди у нас наперечет и нужны здесь.
– Сами справимся. У меня людей полон дом, да еще девушки помогут, Евфимия и Мариам. Им от этого только польза для души будет. Благослови, владыко святый! – София приняла благословение и все-таки вытерла ноги епископу.
– С сегодняшнего вечера, – сказал Евлогий, – начинаем строгий пост и постоянные молитвы в храме и по кельям, чтобы умолить Господа помочь богохранимой Эдессе избавиться от вторжения варваров. Так советует блаженный Алексий, человек Божий.
«Вот и экономия продуктов, – усмехнулась невесело София, – с постом-то мы протянем подольше».
* * *
Домой она возвращалась почти в сумерках. Последние беженцы шли от уже запертых городских ворот, как ей сказал спрошенный по дороге стражник. София заметила молодушку в совершенно пропыленной одежде, которая вела не раненого, а просто очень полную пожилую женщину, едва передвигавшую ноги; на плече у молодой женщины, оттягивая его, висели две большие переметные сумы, правда, наполовину пустые. По инерции она прошла какое-то время по улице, но затем, опомнившись, повернула назад, догнала беженок и предложила свою помощь.
– Нам бы поскорее найти гостиницу! – сказала молодая. – Матушка совершенно измучилась, да и мне идти нелегко. Из Харрана[43] мы выехали на осликах и с двумя слугами, но во время отдыха, когда мы обе уснули, слуги бросили нас и увели наших животных вместе с кладью. У нас остались только сумки с некоторыми вещами, которые мы положили под голову.
София протянула молодой женщине серебряную монетку, но та отстранила ее руку.
– Нет-нет, спаси Господь! Мы со свекровью успели захватить деньги и драгоценности, и даже приданое для моего первенца, которого я еще ношу под сердцем и, даст Бог, доношу. Просто нам пришлось выезжать из дома внезапно, а тут еще это ограбление… Муж мой, купец Абсамия из Харрана, остался в городе, а нам велел отправляться в Эдессу, беспокоясь и о нас, и о будущем ребенке, и вот мы теперь не знаем, что с ним и увидимся ли мы еще.
Молодая харранка распахнула дорожный плащ, и София увидела большой округлый живот женщины. Она поняла, что ждать той первенца уже недолго, месяц или два, не больше.
– Нам бы только найти гостиницу, где еще есть свободные места, – вмешалась старшая женщина, которая, пока они разговаривали, успела немного отдышаться. – Не беспокойся о нас!
– Гостиниц свободных в городе нет, да и не надо вам искать гостиницу, – решительно заявила София, – мой дом рядом, и у меня найдется для вас место. Идемте со мной, дорогие!
– Мне скоро рожать… – предупредила молодая.
– Потому-то я вас и зову к себе!
– Спаси тебя Господь, сестра! – сказала старшая харранка. – Да благословит Бог весь дом твой и всех твоих родных за твою доброту и заботу!
– Это мой долг – опекать христианок, я ведь диаконисса. София меня зовут.
– А мое имя Нонна, и меня так назвали в честь диакониссы Нонны Нианзинской![44]
– Ну вот, видишь, мы почти родственницы, и теперь ты уже никак не можешь пренебречь моим гостеприимством! – с улыбкой сказала София.
– Но мы за него заплатим и постараемся не быть тебе в тягость.
– Оставь, сестра! – отмахнулась София. – А тебя как зовут, молодка?
– Фамарь, – ответила младшая харранка. Она еле-еле стояла на ногах, хотя продолжала поддерживать свекровь под руку.
– Как хорошо, что мы тебя встретили, София! – сказала Нонна и облегченно заплакала.
Все трое повернули назад и стали с трудом пробираться сквозь поток беженцев в обратном направлении.
* * *
– Кого это ты привела? – без церемоний спросила Софию Фотиния, вышедшая к ним из кладовки с ворохом старых, до прозрачности застиранных покрывал.
– Гостей, – коротко ответила София. – А ты что такая сердитая, нянюшка?
– Как не сердиться, когда таких вот гостей-нищебродов уже полный сад, а с тобой еще парочку принесла нелегкая!
– Не парочку, нянюшка, а троих: свекровь, невестка и ребенок, который вот-вот родится. Знакомься: это Нонна, это Фамарь, а чадо имени пока не имеет.
– А отец у ребенка есть? Кто он? – строго спросила Фотиния.
– Мой сын купец Абсамия, торговец зерном из Харрана, ушедший с караваном на север незадолго до нашествия варваров. Хотел продать подороже чечевицу из прошлого урожая, а потерял, быть может, и дом, и лавку, – вздохнула Нонна.
– Могло быть хуже, матушка, – вмешалась Фамарь.
– Ты меня не успокаивай, дочка: гораздо хуже может быть еще и впереди. Вот как возьмут эфталиты Эдессу…
– Да чтоб у тебя на языке бородавка выросла! – без малейшей злобы пожелала харранке Фотиния, с ходу узнавая родственную душу. – Я думаю, Софиюшка, на эти дни уже хватит с них неприятностей, может, мы их в доме устроим? Зачем будущей матери слушать стоны раненых да проклятия ограбленных? Неполезно это для чада, даже и нерожденного. К тому же, если роды внезапно начнутся, я буду рядом!
– Так ты повитуха, сестра?
– Вообще-то, она у нас нянюшка, но всех своих питомцев своими руками принимала – и меня, и дочь мою… Кстати, а где Евфимия, няня?
– В саду, обожженных вместе с Мариам маслом обмывает и перевязывает. Ой, заболталась я с вами, пойду им тряпки отнесу! Наша домоправительница Елена покажет вам комнату. Устроим их внизу, Софиюшка, а то наверх им обеим тяжело подыматься. Да и с ребеночком, когда родится, молодой матери трудно будет по лестницам бегать.
– К тому времени, надеюсь, мы уже домой вернемся, – вздохнула Фамарь.
– А вот это заранее загадывать никак нельзя, красавица! Елена, а Елена! Ты где там копаешься? Тряпок девочкам пока хватит, сначала достань простыни и проводи женщин в баню. Вода сейчас и без нагрева теплая, но скажи девчонкам, чтобы горячей воды принесли из кухни.
– Хорошо, матушка! – сказала домоправительница и добавила вполголоса: – А то бы я без тебя не сообразила…
– И эту непослушницу тоже я принимала. Я же ее и крестила.
Глядя на нянюшку, беременная харранка слабо улыбнулась – впервые за последние дни.
Гостьи с Еленой ушли в баню, Фотиния, ворча по обыкновению, отправилась в сад к больным, а София наконец присела на кушетку, вытянув усталые ноги. Но тут в атриум вбежала Евфимия.
– Мама, мама, я не знаю, что делать, помоги! Там девочка, обгоревшая да еще с ушибленной ногой, она плачет и не хочет лечиться. Она спасла из подожженного сарая козленка, обгорела вся, донесла его до города, а теперь родители хотят его у нее отобрать и сварить!
– Что еще за козленок?.. Ну, пойдем, доченька.
Пошатываясь, София встала и пошла за дочерью в сад.
* * *
Между фруктовыми деревьями уже стояли палатки: возле некоторых сидели целые семьи, переселившиеся сюда вместе со своими ранеными и заболевшими в дороге; другие палатки стояли с опущенными пологами – там измученные люди, неожиданно обретшие пристанище в тихом месте и в прохладе, спали крепким сном после пережитого.
Первым делом София заглянула в садовый домик, уже превращенный в перевязочную и аптеку: сюда снесли все целебные мази и настои, имевшиеся в доме. Матрацы и покрывала готфов были свернуты и сложены в углу, на лавках сидели раненые в ожидании помощи; их оставалось всего несколько человек, об остальных уже успели позаботиться. Мариам и еще две девушки из церковного хора занимались больными, а Фотиния и кухонная девочка резали полотно на длинные полосы и скатывали их в бинты – на оставшихся больных и на завтра.
Убедившись, что все здесь идет своим чередом, София похвалила девушек, а Фотинии сказала:
– Вели Саулу освободить заколоченное окно, а доски отнести на кухню.
– Ты думаешь, готфы сюда уже не вернутся?
Евфимия в тревоге глядела на мать.
– Не знаю, няня. Кто может знать, кроме Бога? Но здесь теперь понадобится больше света, так что распорядись. Идем, Евфимия!
Они вышли в сад. Евфимия повела мать к девочке с козленком.
– Вот этот козленок и его хозяйка, ее зовут Мария, – сказала она, остановившись перед отроковицей лет восьми-девяти, сидевшей возле одной из палаток и державшей на коленях бедного обреченного козленка. Девочка крепко прижимала животное к себе перевязанными ручонками.
– Тебя зовут Мария, красивое имя. А как зовут твоего козленка? – ласково спросила София девочку.
Та подняла огромные заплаканные глаза и прошептала:
– Мэме! Они хотят его зарезать и продать! Разве я для того растила его и прыгала за ним в огонь, госпожа?
– Конечно, нет, Мария! Ты хотела его спасти и спасла.
Девочка кивнула, с надеждой глядя на Софию.
На ее голос из палатки вышли родители девочки, оба пожилые или казавшиеся такими, с измученными лицами; отец был с перевязанной головой, а у матери одна рука подвешена на косынке.
София взглянула на них мельком, но продолжала разговор с девочкой:
– Это у тебя козочка или козлик?
– Козлик!
– Какая удача! А ты не хочешь его мне продать? Мне как раз очень нужен козлик.
– Зачем? Чтобы сварить?
– Ну что ты! Он мне нужен живым, – София присела рядом с девочкой. – Ты, конечно, видела сама, что город наш теперь переполнен людьми, а деревни вокруг опустели. А ты знаешь, что это значит?
– Что?
– Это значит, что из брошенных деревень в город скоро побегут крысы. А знаешь, чего не выносят крысы? Запаха козликов. Люди, которые держат лошадей, специально поселяют в конюшни козлов, чтобы туда не забирались крысы.
– А у тебя есть лошадки, госпожа?
– Нет, лошадок у нас нет. Но есть старенький ослик, принадлежащий нашей нянюшке Фотинии: иногда она ездит на нем к одному старцу-отшельнику за советом. Вот к ослику няни мы и поселим твоего козлика, и ты сможешь навещать и кормить своего Мэме свежей травой из сада, а ослик поделится с ним овсом и сеном. Хочешь посмотреть, где он будет жить?
– Да! Только ведь он все равно принадлежит моим родителям: вдруг они не согласятся его продать? Они ведь переживают, что нет денег даже на хлеб. У меня ведь еще маленький братец…
– Понимаю. Но твои мама и папа еще не знают, что на время осады Эдессы городские власти взяли на себя пропитание всех, кто нашел приют в городе. Всех беженцев будут кормить бесплатно. А если твои папа и мама продадут мне козлика, то у них будут и деньги.
Крестьяне, внимательно слушавшие разговор дочери с хозяйкой лечебницы, переглянулись с посветлевшими лицами. Жена толкнула мужа и что-то ему прошептала.
– Госпожа! Не надо никаких денег: мы подарим тебе козлика за твою доброту, – сказал отец Марии.
– К тому же сейчас все равно наш епископ объявил строгий пост и христиане на мясо его не купят, а нехристям продавать не хочется, – добавила мать девочки.
– Ну вот и прекрасно. Мы с вашей дочерью пойдем сейчас и устроим козлика на новое место жительства. А от денег не отказывайтесь, вы не в том положении. Сколько бы вы за него хотели?
– Сколько дашь…
– Договорились! Пойдем, моя милая. Ты идти-то можешь?
– Могу. Сюда же я дошла и его донесла!
Козлик вскоре был устроен в углу сарая, в особой загородке, но рядом с осликом, который, кажется, ничего против такого соседства не имел. Его покормили нарезанной в саду травой, девочка успокоилась, а родители обрадовались, получив за него серебряную монету.
София из последних сил добрела до бани, где еще оставалась теплая вода после мытья беженок из Харрана, кое-как помылась, поднялась к себе, чтобы прилечь на несколько минут перед ужином, – и провалилась в крепчайший сон до утра. Она бы, наверное, поспала и дольше, но вскоре после рассвета ее разбудила Фотиния.
– Наши готфы вернулись! – взволнованно сказала она. – Один живой, а второго он привез на коне, израненного и окровавленного. Я их отправила в садовый домик.
– Да ты с ума сошла, старая! Надо было устроить раненого в доме, здесь ему было бы покойнее…
– Еще чего! – фыркнула нянька. – В доме, где живет молодая девушка! Он солдат, ничего с ним не станется! Если ему суждено выжить, так и в саду выживет. К тому же у нас там и бинты, и лекарства… Пойдешь на него взглянуть?
– Конечно! Уже встаю… А кто из них ранен, Гайна или Аларих?
– А кто их разберет, я их не различаю, по мне, так все варвары на одно лицо…
Глава пятая
Ранен был Аларих, причем ранен тяжело и не однажды. С помощью Фотинии и Гайны, который приподнимал и ворочал друга, София обработала и перевязала его многочисленные раны.
– Как же это случилось, что ты вот жив-здоров и даже не ранен, а на друге твоем живого места нет? – удивлялась Фотиния.
– Вот потому я и жив, что Аларих собой пожертвовал. Он со своей сотней стоял за рекой, у входа на мост, и защищал его от варваров до последнего, как Леонид и триста спартанцев[45].
Гайна, не переставая помогать Софии перевязывать друга, обстоятельно поведал, как эфталиты бесшумно подошли к мосту в середине ночи и сражались вопреки обычаю в почти полной тишине, пытаясь незаметно снять охрану моста, пробиться к стенам города в темноте и взять их неожиданным штурмом. Одновременно эфталиты подняли страшный шум в округе, чтобы заглушить звуки битвы у моста: они жгли многочисленные костры, гремели оружием и даже специально кололи лошадей ножами, чтобы заставить их ржать громко и визгливо. И конечно же, хитрость их удалась: все внимание защитников города было устремлено на их стоянки за узким местом реки – эдесситы полагали, что варвары готовятся к переправе Дайсана. Тем временем тысячный отряд эфталитов подошел к мосту, и тут Алариху пришлось принять бой и держать оборону, ожидая рассвета. На узком мосту могло одновременно сражаться не более десяти воинов, что позволило сотне Алариха долго и успешно противостоять яростному напору дикарей. Узость переправы практически свела на нет подавляющее превосходство врагов в численности.
Образовав из больших щитов, опертых о перила моста, нечто вроде укрытия, защитники получили возможность, меняя друг друга, отдыхать. Так они, собирая последние силы, вновь и вновь выдвигались на линию непосредственного столкновения с противником и сдерживали напор молчаливой дикарской ярости. Аларих посылал нескольких воинов к воротам с предупреждением, но ни одному из них не удалось перейти мост: эфталиты снимали посыльных стрелами. И только когда рассвело, со стен увидели страшную рубку у переправы, открыли ворота и отправили конницу на выручку Алариху.
– Я сам нашел его в груде тел и решил отвезти сюда. Но если это неудобно для тебя, госпожа София, то я отправлю его в гарнизон, как только он придет в себя. Если придет… – оканчивая свое повествование, вздохнул Гайна.
– Обязательно придет! – сказала София. – Раны не смертельные, просто он потерял много крови, пока лежал без помощи. И правильно ты сделал, Гайна, что привез его сюда: как раз у нас в саду со вчерашнего дня устроен лазарет и сегодня нам в помощь обещали прислать лекаря из городской лечебницы. И лекарственные мази и травы у нас тут все под рукой. Не тревожься, подымем мы на ноги твоего Леонида-спартанца!
– Спаси тебя Господь за твою неизменную доброту к нам, госпожа София! А теперь я должен вернуться на стены. Если будет возможность, я загляну проведать Алариха, но теперь я за него спокоен.
– С Богом! – сказала София, обняла и перекрестила Гайну.
Вместе с Гайной, получив разрешение хозяйки, ушел на стены города и племянник Фотинии Саул, а по дороге их догнал молодой Товий с парой своих друзей. Все они шли защищать стены родного города.
* * *
Старшая харранка Нонна, несмотря на возраст и полноту, быстро оправилась от испытаний и дорожных невзгод и уже на другой день отправилась в сад помогать ухаживать за ранеными, а вот невестка ее Фамарь, как оказалось, перенесла дорогу хуже свекрови… С утра у нее началось головокружение, живот опустился, потом отошли воды, и к вечеру она родила слабенького недоношенного младенца мужского пола. Чтобы дитя не осталось некрещеным, если вдруг умрет, Фотиния, принимавшая роды, сама окрестила мальчика с именем Тума – в честь небесного покровителя города Эдессы апостола Фомы, после чего от младенца уже не отходила и обещала матери, что ребенок будет жить. Она завернула его в руно, обложила нагретыми камнями и сделала ему соску из тряпицы, смоченной отваром каких-то травок с медом. На другой день у Фамари появилось все-таки молоко, и Фотиния стала приносить ей маленького Туму для кормления; но, как только тот оставлял грудь и засыпал, забирала его и уносила к себе, несмотря на слабые возражения Фамари.
– У тебя первенец, а я их пяток вынянчила! – отвечала ей нянюшка, ревниво и нежно прижимая к себе нежданную дорогую добычу. – Сначала сама на ноги встань, а потом уже сына поднимать начнешь!
Только потому, что Фотиния целиком переключилась на новорожденного, Евфимия и смогла ухаживать за раненым Аларихом со всем пылом молодого и благодарного сердца: она заботливо обтирала ему лицо настоем мяты для освежения, смачивала его губы водой и сама меняла повязки. София ей не препятствовала, ведь и для нее молодой человек был храбрецом, самоотверженно защитившим их город. К тому же герой не приходил в себя. Чем он мог быть опасен для молодой девушки, лежа неподвижно с закрытыми глазами?
Но всегда ли глаза Алариха были закрыты, а уши ничего не слышали? На третий день он стал время от времени приходить в сознание. В такие минуты Евфимия поила его, как велел ей лекарь, густым гранатовым соком, чтобы восполнить пролитую кровь, сама же его и выжимая из прошлогодних гранатов, хранившихся в кладовой. Увидев над собой склоненное заботливое лицо молодой девушки, в первый раз он принял ее за ангела, явившегося ему в бреду, но уже скоро начал ее узнавать. «Соловушка!» – прошептал он и улыбнулся еще бледными губами. Евфимия не поняла, что слова эти обращены к ней, и удивилась: какой это соловей ему послышался днем?
– Это зяблик поет! – сказала она, прислушавшись к птичьему пенью.
– Хорошо, пусть будет зяблик, – сказал Аларих и снова уснул.
* * *
Нонна, удостоверившись, что роженица и новорожденный в хороших руках, изо всех сил помогала Софии обихаживать погорельцев: она и перевязки им делала, и еду готовила, и кормила их за общим столом, сколоченным из досок и поставленным на козлы возле пруда. Фамарь оставалась в доме с ребенком под надзором Фотинии. И никто не препятствовал Евфимии заботиться о раненом герое, только подружка Мариам иногда ей помогала.
Гайна, на третий день урвавший время навестить друга, застал его еще слабым и мало что понимающим. Он даже не стал сообщать ему военные новости, оставил его под опекой Евфимии и Мариам и прошел в дом Софии через уже не запиравшуюся садовую калитку.
Хозяйку он застал за приготовлением целебных отваров на кухне. Он поблагодарил ее за заботу о раненом друге, а София его – за то, что он навестил их. Она тут же распорядилась собрать для него угощение.
– Я не отпущу тебя, не покормив! – объявила она, ухватив Гайну за рукав и ведя его к столу.
– А я и не подумаю отказываться! – сказал он с улыбкой. – Особенно если мне предложат что-то жидкое и горячее. Еда всухомятку, даже запиваемая вином, все равно дерет горло!
– Похлебка из красной чечевицы и печеная рыба?
– Божественно!
– Еще бы, ведь это рыба, посвященная языческой богине любви, – пошутила София. Она, конечно, не призналась, что ни сама она, ни ее домочадцы рыбу не едят, но не по причине ее языческого происхождения, а из-за строгости поста; вся рыба шла только больным и детям.
– Как человек женатый и хранящий верность супруге, я просто обязан расправиться с этой рыбой, напоминающей о грехе! Давай ее скорей сюда!
Не успел Гайна опуститься на скамью, как стол, обширный и круглый, рассчитанный на множество гостей, начал заполняться маленькими мисками с разнообразными закусками, предшествующими основным кушаньям. Его зоркий глаз сразу же определил, что ничего, кроме овощей и зелени в ярких расписных мисочках, не было – не только мяса и дичи, но даже риса и проса. Но красная чечевица была обильно сдобрена пряностями, и он воздал ей должное.
Когда же Гайна покончил и с рыбой – доброй половиной карпа, запеченного в листьях винограда, наступило время напитков и фруктов. Сушеных фруктов в доме не осталось, но вместо них была подана на блюде огромная кисть душистого черного винограда: в саду дети-беженцы весь виноград уже успели оборвать, даже зеленый, а вот на лозах, вьющихся по стене дома, кое-где грозди еще оставались.
Гость насытился, и наступило время беседы.
– Что там происходит на стенах города? – спросила София. – Как ведут себя эфталиты?
– Похоже, что, наученные Аларихом и его «спартанцами», эфталиты на новый прорыв не решатся до подхода персов, а тех что-то не видать. Может, персы и вовсе обойдут ваш город стороной.
– Это было бы очень хорошо.
София не стала жаловаться Гайне, что с продовольствием в городе сделалось совсем плохо: ей не хотелось обижать его, защитника Эдессы, ведь самой большой продовольственной нагрузкой для города было снабжение армии, в первую очередь выпечка «солдатского хлеба». Большинство ветряных и водяных мельниц с началом осады оказались за границами города, и весь помол муки лег на несколько городских мельниц да еще на ручные мельницы, которых хоть и достаточно было в городе, почитай в каждом доме хоть одна, но ведь и хлеба требовалось куда как много! А в доме Софии пекли хлеб еще и для беженцев. Ей уже было ясно, что в самом скором времени домашние запасы зерна закончатся и его придется закупать на рынке. Или брать подряд на выпечку хлеба для армии. О, она бы решилась взять подряд, но где добыть рабочие руки? Дом остался без мужчин, а женских рук уже не хватало, чтобы обслужить всех нуждающихся, нашедших приют в саду Софии.
– Так почему же варвары не решаются штурмовать стены города?
– Они ждут основное войско персов. Сами эфталиты способны держать осаду очень долгое время, но взять город они не могут: у них нет осадных машин. А у персов для взятия крепостей есть слоны, тараны, осадные башни с баллистами наверху.
– А у нас, у защитников города, хочу я сказать?
– На стенах Эдессы тоже кое-что есть, что очень не нравится легко вооруженным эфталитам, – «скорпионы» или «онагры», к примеру, баллисты, да и другие эвтитоны и палинтоны[46]. У конников-эфталитов ничего подобного, конечно, нет.
– Слава Богу!
– Вот именно. Но о том, почему персы задерживаются, узнать ничего не удается. Нескольких эфталитов удалось захватить нашим лазутчикам, их допрашивали, но ни один не сказал ни слова: то ли они мужественно хранили молчание до самой смерти, то ли просто не знали языка. Если бы Аларих был здоров, мы бы с ним сумели подобраться к варварам и выкрасть из их лагеря кого-нибудь из персидских командиров, их несколько человек в войске эфталитов. Но один я с этим не справлюсь, я всегда ходил в разведку с Аларихом.
– И на охоту тоже, – напомнила София.
– Конечно! С кем ходил в разведку, с тем и на охоте ждет удача. Аларих в разведке бесшумен, коварен и беспощаден, как аспид. Как ты думаешь, госпожа София, он скоро начнет поправляться?
– Он силен, как молодой буйвол. Если бы очнулся и начал есть, то выздоровел бы очень скоро.
– Что ж, остается только молиться и ждать…
* * *
Аларих окончательно пришел в себя только через неделю после героической битвы у моста через Дайсан. Евфимия как раз размочила подогретым оливковым маслом повязки на его плече, но стоило ей осторожно снять бинты, как раненый застонал и открыл глаза – осмысленные и ясные. Руки Евфимии дрогнули, и она уронила повязку на пол.
– Что с тобой? – окликнула ее Мариам, сматывавшая высушенные бинты, сидя на лавке.
– Голова закружилась…
– Ты все еще боишься открытых ран! – упрекнула ее подруга. – Давай я перевяжу, – она бросила несмотанную ленту полотна обратно в корзину, взяла Евфимию под руку и отвела ее на свое место. Евфимия села на лавку, на ощупь нашла бинт и стала его сматывать непослушными дрожащими пальцами.
– Сиди тут! Я приведу Фотинию, пусть осмотрит рану.
Евфимия сидела, сматывала бинты и не подымала головы, а в это время Аларих не сводил с нее глаз.
– Евфимия, поди сюда! – внезапно негромко окликнул он девушку.
Но Евфимия вскочила и быстро пошла к занавешенной двери, мелькнула в солнечном свете за откинутой занавеской и исчезла. Лишь успела услышать, как готф сказал ей вслед негромко:
– Зяблик пугливый!
Пришла Фотиния, осмотрела рану готфа, взглянула ему в лицо и сказала:
– Ну вот, Аларих, и самая глубокая рана начала затягиваться. Теперь главное твое лечение – хорошо есть, побольше пить и подольше спать. А остальное сделает природа!
* * *
С этого дня ни Евфимия, ни Мариам в садовый домик больше не заглядывали: старая нянюшка сочла неуместным, чтобы юные девушки ухаживали за пришедшим в себя раненым мужчиной, и Алариху пришлось подчиняться Фотинии да ее помощницам с кухни. Ухаживали они за ним хорошо, кормили от души и подогретого вина с целебными специями не жалели, но лечиться ему скоро надоело, и он начал подыматься с постели уже на третий день. Когда же Гайна еще раз пришел навестить его, Аларих отправился с ним назад, на стены города. Он только зашел в хозяйский дом поблагодарить Софию и Фотинию.
– Прости, что доставил тебе столько забот, госпожа, – сказал он Софии, – но, когда мы отгоним варваров от города, я постараюсь тебя отблагодарить.
– Друг мой Аларих, – сказала ему в ответ диаконисса, – это мы, жители города, в неоплатном долгу перед тобой и твоими храбрецами!
– Ничего, вот победим – тогда и сочтемся! – засмеялся Аларих.
Воины ушли, а София вернулась к своим многочисленным обязанностям.
А Фотиния тут же объявила:
– Нечего Евфимии сидеть дома сложа руки в такую пору! Что это никто старуху не жалеет? Я и за младенцем смотри, и за больными в саду ухаживай! Вели ей, София, чтобы позвала Мариам и обе шли в сад готовить мазь от ожогов: у них это получается лучше, чем у служанок, которые ленятся равномерно помешивать воск и масло, и мазь у них вечно пригорает!
* * *
Шли дни, наполненные тревогой и трудами.
Однажды с утра девушки и Фотиния в саду осматривали детей с ожогами и делали перевязки. Нянюшка уверенными и бережными руками смотала бинт со лба мальчика, которому на голову упала горящая головня, пропитала вином кусок полотна, наложенный на ожог, подождала, а потом резким движением сорвала его. Мальчик ойкнул, но старуха тут же наложила свежую тряпочку с мазью из воска и оливкового масла.
– Ну вот, следующий раз мы снимем тебе повязку, и твой ожог скорее заживет на открытом воздухе.
– А прямо сейчас снять нельзя? – спросил мальчик. – Мне повязка жуть как надоела, под нею все чешется.
– Чешется – значит заживает. Если с ожога снять повязку раньше времени, ты тут же чем-нибудь перемажешь лоб, и рана воспалится. А повязка на лбу делает тебя похожим на храброго воина-героя.
– Как Аларих?
– Да.
– Я побегу играть в Алариха и защиту моста!
– Вот и беги.
Мальчик поцеловал ей руку, поблагодарил и убежал вприпрыжку.
– Что ты собираешься делать? – строго спросила Фотиния Мариам, собиравшуюся отмачивать вином кусок полотна на щеке у девочки, ровесницы убежавшего озорника.
– Хочу снять старую повязку и наложить новую.
– Ни в коем случае! Это же девочка!
– А какая разница? – удивилась девушка.
– Разница огромная. Если ты сорвешь вместе с повязкой кусочек присохшей обгоревшей кожи, у малышки на лице останется шрам, и, может быть, он останется заметным даже тогда, когда она вырастет. Наложенную с самого начала тряпочку, пропитанную целебной мазью, нельзя ни в коем случае снимать и менять. Ее можно только осторожно подрезать с краев, где ожог заживает и появляется новая кожа, да сверху пропитывать подогретым маслом. Разве можно допустить, чтобы девичье личико испортил шрам от ожога?
– Но ведь так ожог будет заживать гораздо медленнее, чем если на него все время накладывать свежую мазь!
– А ей торопиться некуда. Пусть заживает хоть месяц, лишь бы личико осталось неиспорченным. Скажи, малышка, ты хочешь вырасти красавицей?
– Я и сейчас красавица! – ответила девочка без малейшего сомнения. – Так мой папа говорит.
– Ну, вот видишь? А чтобы твой ожог хорошо зажил и ты стала еще красивее, надо дождаться, пока вот эта тряпочка сама отпадет. Когда почувствуешь, что ее края уже не прилипают к коже, приди к нам, и кто-нибудь из девушек аккуратно отрежет лишнее. И береги больное место, чтобы нечаянно не зацепиться и не сорвать полотно!
Девочка осторожно накрыла ладошкой серый кусочек полотна на щеке, поблагодарила нянюшку и Мариам и, бережно ступая, пошла к своему шатру.
– Тетушка, тетушка! – раздался крик со стороны калитки, выходящей на улицу. По дорожке к ним бежал Саул. – Я принес радостную весть: варвары скоро уйдут, они снимают осаду!
– Врешь, небось! – проворчала Фотиния, обнимая его и осматривая. – Почему никто ничего не знает, а тут ты прибегаешь и говоришь такое?
– Так никто пока ничего и не знает! Варвары за рекой, они только начинают собираться в обратный путь. А меня прислал к вам Гайна и велел сказать хозяйке по секрету: они ходили с Аларихом в разведку и захватила перса и тот на допросе сказал, что царь Сасанид приказал эфталитам отступить от Эдессы и двигаться на соединение с основными частями персидской армии, чтобы защищать канал между Тигром и Евфратом, где персы терпят одно поражение за другим. Эфталиты уходят! Тетя, мы победили!
– Слава Всевышнему Богу! Пойдем, Саул, к хозяйке, а потом я тебя накормлю и баню тебе устрою, одежду чистую приготовлю!
– Нет, тетя, ничего не выйдет: я должен вернуться на стены. Мало ли что может без меня случиться.
– И главное, без тебя там не обойдутся, победитель!
– Ты мне дала бы лепешку с медом, да я побегу.
– Ну ты хотя бы умойся вон в пруду, пока я за лепешками бегаю!
– Ладно! – и срывая на ходу тунику, Саул в одной рубашке забежал по пояс в пруд и начал там нырять и плавать. Тут же за ним с визгом в воду бросились дети – те, с которых уже были сняты повязки.
Фотиния скоро вернулась, неся сумку с лепешками, горшком меда и финиками. Принесла она и чистую одежду для племянника и, как он ни отбрыкивался, заставила его переодеться.
– Да я же завтра уже со всеми в город вернусь! С триумфом! – ворчал Саул.
– Конечно! Как же! Только и заботы городскому Совету триумфы вам устраивать, – ворчала в ответ Фотиния, провожая его к калитке и пытаясь на ходу своим гребнем расчесать его мокрые волосы. – Да постой же ты, триумфатор, дай хоть причешу тебя!
– Некогда, тетя, некогда! – отвечал с набитым ртом племянник.
Он вырвался из ее рук и бросился бежать по улице, размахивая на ходу сумой.
Фотиния тщательно заперла за ним калитку.
Глава шестая
Саул ошибся, а старая нянька оказалась права.
Первое раннее утро после снятия осады началось исхождением из города беженцев. Как уж они прознали, что с вечера эфталиты снялись с места и удалились на восток, к Евфрату, неизвестно, но уже на рассвете стали собираться у ворот и, как только те были отворены, хлынули из города, как масло из прорвавшегося бурдюка. Они гнали перед собой уцелевший скот, который не успели продать или специально оставили, чтобы от него вновь развести потерянные стада. Скота было немного, все-таки большинство поспешило получить за него деньги, поскольку в городе кормить скотину все равно было нечем, и теперь на тех, кто сумел сохранить своих овец, коз и коров, другие крестьяне смотрели с завистью и даже со слезами.
Нашедшие убежище в саду Софии люди тоже двинулись в путь на рассвете. С разрешения хозяйки они прихватили с собой шатры, тюфяки, одеяла и подушки: погорельцы рассчитывали найти в своих селениях в лучшем случае обгоревшие стены. Маленькая Мария с гордостью вела на веревке подросшего Мэме. София с благодарностью вернула ей козлика, сказав, что со снятием осады Эдессы ее коням уже не угрожают крысы, а деньги, отданные за него, будут считаться платой за его труды по отпугиванию крыс, что вполне убедило Марию и только придало ей важности. К полудню почти все беженцы покинули город.
И только после этого со стен спустились защитники города. Никто их не приветствовал ни радостными криками, ни цветами. В молчании, пропыленные и пропотевшие, усталые и голодные, быстро прошагали они по свежеунавоженной Главной улице через весь город к стоящей на холме крепости, разошлись по казармам, наскоро умылись и завалились отдыхать.
София объявила отдых для всего дома и сама тоже собралась улечься и продолжить короткий ночной сон, но ее остановила Нонна.
– София, не могли бы мы остаться у тебя еще на неделю? Я боюсь двигаться прямо сейчас, вслед за отошедшими от города варварами: не хотелось бы случайно догнать их по дороге.
– Вы останетесь в доме до тех пор, пока Фотиния не разрешит маленькому Туме отправиться в путешествие. Пока об этом не было и речи. А спорить с Фотинией… Так что пока отдыхай, дорогая, а мать и сын пускай набираются сил.
– Благослови тебя Господь за твою доброту! А я помогу тебе привести в порядок сад.
– О нет, эта работа не для тебя!
Беженцы ушли, оставив после себя некогда зеленые, а теперь дочиста выщипанные животными лужайки вдоль набережных и обломанные деревья в городских садах; был начисто обглодан козами даже полусухой кустарник в превратившемся в овраг старом русле Дайсана с мелким ручейком посередине. В саду Софии благодарные крестьяне устроили загон в углу и животных из него не выпускали, но ветки и листья им на прокорм, конечно, рвали даже с плодовых деревьев.
– Вот так выглядят сады далеко на севере, где на зиму с деревьев облетают листья, – сказала Фотиния, успевшая обежать опустевший сад.
– Саул пришел? – спросила ее София, предупреждая рассказ Фотинии о северных садах и лесах, облетающих на зиму: в юных годах ей пришлось изрядно попутешествовать, пока она не осела в доме Софии навечно, как она была уверена. – Спит уже? Ну и прекрасно. Все заботы оставим завтрашнему дню, а сегодня отдыхаем до самой вечерни!
И весь дом погрузился в блаженную тишину.
* * *
Вечером во всех церквях и монастырях Эдессы служили благодарственные молебны; пастыри возвестили слово епископа Евлогия о разрешении поста с завтрашнего дня, а это как раз было воскресенье.
На службу в кафедральный собор явились и оба друга-готфа, Аларих и Гайна, уже отмытые до скрипа и блеска и одетые в чистую, хотя и не слишком парадную одежду. «Ах, да! Ведь их имущество по сей день лежит у меня в кладовой! – подумала София. – Надо им напомнить об этом… Ну и сказать, что садовый домик снова свободен и если они захотят вернуться на постой, то он ждет их».
Так она и сделала после службы.
* * *
Разоренный сад вопиял о немедленном спасении. На уборку вышли не только все домочадцы и слуги, но также и верная Мариам, приведшая с собой братца Товия.
Мужчины обреза́ли грубо обломанные ветви деревьев и виноградных лоз, а женщины и девушки сносили их в кучу, чтобы после сжечь. К вечеру сад вновь обрел относительно ухоженный вид, а молодежь устроила костер возле пруда. На прутики нанизывали ломти лепешек с сыром, перемежая их луком и яблоками, поджаривали над огнем и уплетали с большим аппетитом.
Для усталой Фотинии Саул принес из садового домика тюфяк, разложил его под персиковым деревом, и вскоре старушка, мирно утратив бдительность, сладко засопела.
– Как много всего случилось за это лето, – сказала Евфимия подружке, глядя на белые стены опустевшего садового домика, который теперь казался особенно унылым. На белой стене четко выделялось темное окошко, прежде забранное досками. – А теперь все снова становится как раньше…
– Погоди, голубка, лето еще не кончилось! – засмеялась Мариам. – Будут, будут у нас опять перемены, да еще какие!
– Ты что-то знаешь? – оживилась Евфимия.
– Знаю! Но это пока секрет!
– А мне скажешь?
– Нет, вот как раз тебе я и обещала его не говорить.
– Ну как хочешь… Тогда давай споем, Мариам, – сказала почему-то смутившаяся Евфимия.
– Давай! – оживилась Мариам: песня могла ее мгновенно отвлечь от любых мыслей. – Что-нибудь веселое?
– Лучше грустное. Споем «Песню нумидийской девушки»[47], – сказала Евфимия и с проникновенной тоской завела своим тонким голосом:
Возвращайся! Я без тебя столько дней! Возвращайся, трудно мне без любви твоей. Возвращайся, кто бы ни встретился на пути: мимо счастья так легко пройти…Мариам вступила своим сильным голосом и поддержала подругу:
Много дней дует знойный сирокко[48], Но он слезы мои не осушит, караван твой в пустыне далекой, нет с тобой моих рук, нет с тобой моих глаз. Если смерч тебя встретит жестокий, знаю я, ты пред ним не отступишь. чем труднее к любимой дороги, тем прекрасней, тем радостней встречи час.Тут уже все подхватили припев, и песня зазвучала призывно и громко – на весь вечерний сад:
Возвращайся, я без тебя столько дней, Возвращайся, трудно мне без любви твоей. Возвращайся, кто бы ни встретился на пути — мимо счастья так легко пройти…– Замолчите, замолчите сейчас же! – раздался вдруг заполошный голос Фотинии: нянька со всех ног бежала к ним, подхватив для скорости подол столы. – Тихо вы все, говорю вам, сейчас же замолчите!
Девушки испуганно смолкли, выжидающе глядя на нее.
– Что случилось, нянюшка? – с тревогой спросила Евфимия.
– Как что случилось? Вы что это поете, негодницы? Это же песня замужней женщины, ожидающей мужа из торгового похода! Не годится ее петь невинным девушкам!
– Ох, нянюшка! – укоризненно сказала Мариам, убирая руку с сердца. – Ну а можно ли невинных девушек вот так пугать?
– А петь такое на посмешище добрым людям можно? Смотрите вон, как Товий над вами смеется! – Товий и впрямь улыбался, глядя на расшумевшуюся няньку. – Скажи, Товий, что бы ты делал, если бы твоя невеста вздумала петь такие песни?
– Я бы тут же стал ей подпевать!
– Да ну вас всех! И не сметь при мне петь глупых песен! Спойте-ка лучше «Мой барашек потерялся».
Мариам засмеялась и послушно запела детскую песенку про потерявшегося барашка, но при этом она закатывала глаза, вздыхала в паузах и как-то незаметно исхитрилась так изменить мелодию невинной детской песенки, что в ней явственно зазвучало любовное томление. Все слушали ее, хихикая, одна только старая нянька ничего не заметила и сидела у догорающего костра, довольная своей бдительностью и послушанием молодежи.
– Ты что такая грустная, Евфимия? – спросила Мариам, закончив песню про барашка.
– Да так… Знала бы ты, Мариам, как я устала от нашей Фотинии!
Рядом с девушками сидел Товий.
– Евфимия, но песня ведь и вправду глупая!
– Что ты нашел в ней глупого? Песня как песня…
– Ну, подумайте, девочки, что поет эта глупышка: «Если смерч тебя встретит жестокий, знаю я, ты пред ним не отступишь!»
– И что же тут глупого? – спросила Мариам.
– Сестричка, только последний дурак, завидев вдали смерч, не поспешит сойти с его пути и укрыться от него вместе со всем своим караваном.
– Если он так же осторожен, как ты! – засмеялась Мариам.
– Да, я осторожен, когда иду по пустыне с караваном, и на смерч с саблей наголо не полезу, меня вы на такую глупость и не пытайтесь уговорить своими сладкими голосками!
– А если бы эфталиты все же полезли на стены Эдессы, смог бы ты один защищать проход, как… как Леонид и триста спартанцев? – спросила Евфимия.
– Конечно же, нет. Но я очень надеюсь, что сражался бы наравне со всеми и выстоял бы до конца битвы. Впрочем, ни о каких особенных подвигах я никогда и не мечтал, я купец, а не воин.
– Жаль… – тихо сказала Евфимия. – А няня зря рассердилась на песню, ничего в ней нет дурного. Это ведь всего только песня…
– Смотри, вот сведут твою няню от вас ваши постоялицы-харранки, сама плакать станешь! – сказала Мариам.
– Не сведут! – вздохнула Евфимия. – Они бы рады и даже уже намекали на это, да разве Фотинию кто сможет от нас сманить? Она сказала, что пойдет со мной в приданое, когда я выйду замуж, чтобы еще и моих детей мучить.
– Товий, иди вперед и скажи госпоже Софии, что мы уже все закончили в саду, пусть готовит угощение! – скомандовала Мариам. – У нас тут девичьи разговоры пошли, нечего тебе их слушать.
* * *
– А когда эти готфы вернутся на постой? – спросила Софию Фотиния.
– Я думаю, на днях. А почему ты спрашиваешь?
– Потому что надо успеть до их прихода снова заколотить окно в садовом домике.
– Ох, Фотиния, ну что за глупости? Они оба уже видели, что в домике есть второе окно, как мы им объясним, если оно вдруг окажется заколоченным?
– Смотри, твоя дочь – тебе и решать.
– Можно подумать, что нет у них забот кроме моей дочери! Они же ее и не видели.
– Это ты так думаешь! А в церкви? Они и до осады ходили туда каждое воскресенье, и на последней службе тоже были.
– Откуда они могут знать, кто из девушек в хоре моя дочь?
– Так ведь, к несчастью, Евфимия ухаживала за старшим готфом, когда он лежал без памяти!
– И очень правильно делала! – уже начиная сердиться, сказала София.
– А я сделала еще лучше, когда прогнала ее, как только готф стал приходить в сознание.
– Да, тут ты поступила совершенно правильно, – сразу же остывая, сказала София. – Будем надеяться, что разглядеть Евфимию раненый не успел, так что больше и говорить не о чем.
Но слова няньки все-таки встревожили Софию, и она, выбрав момент, прямо спросила дочь:
– Евфимия, ты когда-нибудь разговаривала с нашими готфами-постояльцами?
– Да, мама. Гайна пришел проведать друга и спросил меня: «Ну как он?» – а я ответила: «Все так же». После этого он говорил о ранах Алариха с Фотинией, так что спроси лучше у нее.
– Ну, о чем Фотиния беседовала с готфами, это мне как-то не очень интересно. А откуда ты знаешь, как их зовут?
– Ох, мама, да все вы сто раз говорили о них и имена называли!
– А с Аларихом ты тоже разговаривала?
– Да, мама. Один раз.
– И о чем же вы говорили?
– О птицах.
– О чем, о чем?
– Он очнулся, услышал птиц в саду и сказал: «Соловей». Но это был не соловей, и я его поправила и сказала: «Это зяблик».
– И все?
– Да, мама. А что я еще должна была ему сказать?
– Ничего. Больше только с ним не разговаривай. Ни в церкви, ни в нашем саду, если случайно встретишь.
– Откуда он появится в нашем саду? Готфы же все ушли в крепость.
– Аларих и Гайна вернутся к нам на постой. Ты запомнила, что я тебе сказала? Ни слова ни с тем, ни с другим! Просто закрывай лицо покрывалом, отворачивайся и уходи.
– Конечно, мама, я так и сделаю. А можно мне сейчас пойти к Мариам?
– Можно. Возьми Фотинию и иди.
* * *
Городской Совет старейшин отблагодарил готфов, одарив всех до единого защитников Эдессы деньгами, причем Алариха и его воинов, уцелевших при осаде моста, особо, а затем, во избежание беспорядков, распорядился держать всех готфов в казармах до тех пор, пока пришлые войска не будут выведены из города. Не касалось это только офицеров, и через несколько дней Аларих и Гайна действительно появились у Софии, как она и предвидела. София сказала им, что домик в саду ждет их, и велела Саулу принести из кладовой переметные сумы постояльцев.
Она настояла на том, чтобы Гайна и Аларих проверили свои сумы прямо при ней, дабы между ними никогда не поднимался вопрос о сохранности доверенного ей имущества готфов. Сумы вынесли на свет, во внутренний дворик и опустили на площадку возле небольшого фонтанчика.
Гайна, улыбаясь, выложил на каменные плиты содержимое своих сумок. Ничего особенного в них не было: кое-что из снаряжения, зимняя одежда и шкатулка, в которой хранилось немного денег, несколько серебряных браслетов с камнями и дорогая шелковая шаль, завернутая в льняное полотенце.
– Шаль – это подарок моей жене, – пояснил он, – и браслеты тоже.
– Так у тебя есть дома жена? – с улыбкой спросила София.
– Это был мой первый поход, а перед тем, как уйти в него, я женился – таков у нас обычай.
– А ты, конечно, уже давно женат, Аларих? – спросила София.
– Нет, госпожа София, ведь я из других мест. У нас не принято жениться, не собрав прежде достойные подарки невесте и ее родителям. Не в обиду Гайне будь сказано, но девушка, на которой я собираюсь жениться, достойна большего, чем несколько серебряных браслетов да шелковая шаль. Я тебе сейчас покажу, госпожа София, что у меня припасено для моей будущей жены. Заодно и сам проверю, все ли на месте, как ты хотела.
Аларих достал из одной и другой сумы по увесистому деревянному ларцу с замками, поставил их наземь, открыл и начал обстоятельно и аккуратно раскладывать на камне припасенные в походах сокровища. Именно сокровища, потому что содержимое обоих ларцов составляли драгоценности и золотые монеты. Площадка вокруг фонтана была выложена черными и белыми плитами, и Аларих, раскладывая драгоценности, учитывал цвет каменных квадратов: яркие самоцветные ожерелья и браслеты, серебро и украшения с черными агатами он выкладывал на белые плитки, а жемчуг и золото – на черные. По две плиты того и другого цвета были сплошь, но не тесно заполнены драгоценностями; они лежали как в лавке ювелира, чтобы каждую можно было рассмотреть, даже не беря в руки. Тут были ожерелья, браслеты, диадемы, фибулы, застежки для поясов и множество перстней. Ну и просто золотые и серебряные монеты разных стран и разного достоинства.
София понимала, что навряд ли эти богатства куплены на деньги, заработанные ремесленным или купеческим трудом, и хорошо еще, если они захвачены в бою, а не награблены. Но спрашивать об этом спасителя Эдессы было бы неуместным, и она промолчала, внимательно разглядывая драгоценные вещицы. Ей приглянулось ожерелье из золотых кружевных бусин, внутрь которых были вставлены ярко-синие стеклянные капельки: она протянула к ним руку, но тут же отдернула.
– Бери, рассматривай, примеряй их смело, госпожа София: на этих вещицах нет ни капли крови, а если на какой-нибудь когда-то и была, то в лавках Иерусалима, Дамаска и Пальмиры все давно смыто и отчищено купцами и ювелирами: все эти вещи я покупал на свое военное жалованье, пять лет без отпуска служа в римской армии. На кружевное золотое ожерелье ушло как раз мое месячное жалованье, а вот за эту пару браслетов я служил два месяца – по одному за каждый.
София взяла в руки ожерелье и залюбовалась тонкой работой и яркими синими бусинами, только слегка отличавшимися по цвету одна от другой: крупные, в центре, были светлее, а самые мелкие, возле аграфа[49], так темны, что уже не просвечивали.
– Зато вот этот энколпион[50] достался мне почти даром. В Риме я как-то переходил мост через Тибр и услышал крики: «На помощь! На помощь!» Конечно, я бросился на крик и застал на мосту старикашку, которого обшаривали, не обращая внимания на его отчаянные вопли, два молодых негодяя. Старик оказался евреем-ювелиром и в награду за спасение подарил мне эту драгоценность.
София протянула руку, и Аларих положил ей на ладонь серебряный энколпион: в центре его была хрустальная гемма[51] с резным изображением Богородицы.
– Серебра тут немного, а сама гемма всего лишь хрустальная, но глиптика[52] великолепна, не правда ли, госпожа? – спросил Аларих.
– Она изумительна, – согласилась с ним София. – Но что находится в самом ковчежце?
– Он пуст. Можешь проверить.
София открыла крохотный ковчежец.
– В самом деле пуст. Как жаль… – сказала она, возвращая энколпион готфу.
Но Аларих почтительно сжал ее пальцы:
– Дорогая госпожа София, прими эту простенькую и недорогую вещицу в знак моей признательности за дружелюбное гостеприимство, которое ты нам оказала, а более всего за лечение и уход в то время, когда я лежал раненый в твоем садовом домике.
София ласково улыбнулась ему и сказала:
– Я понимаю тебя, Аларих, и принимаю твой дар.
* * *
Казалось бы, в доме наступили мир и покой. Все отдыхали от пережитых волнений, даже маленький Тума не доставлял особых хлопот матери и бабушке: еще бы, ведь за ним приглядывала Фотиния! Мальчик рос не по дням, а по часам, и его поначалу лысая головка начала обрастать черными кудряшками.
Из Харрана новости между тем приходили неутешительные. Город этот был большой, его покровителем считался сам Авраам, он, как и Эдесса, издревле стоял на торговом перепутье, а потому славился богатством и роскошью. Но не только. Крепость, стоявшая на высоком южном холме города, защищала его, обнимая своими крепкими руками-стенами. Войти в город, минуя крепость, было невозможно. Зная об этом, эфталиты попытались захватить Харран одновременно с Эдессой, но и эту твердыню взять им не удалось. Однако осада Харрана продолжалась, поскольку отступившие от Эдессы отряды эфталитов двинулись к Харрану и тоже обложили крепость.
Пробегали дни и складывались в недели, давно прошел и был скромно отпразднован праздник Успения Богородицы.
После церковной трапезы по случаю праздника, проводившейся в саду при кафедральном соборе, Мариам отвела в сторонку Евфимию и сказала ей:
– Помнишь, я говорила тебе про секрет? Поскольку он касается тебя, я его тебе сейчас скоренько выдам. Скоро к твоей матери придут тебя сватать!
– Кто придет? – спросила Евфимия прерывающимся голосом.
– Мой отец! – заговорщически прошептала Мариам, издали кивнув на брата, сидевшего за праздничным столом.
Евфимия молча отвернулась и стала смотреть совсем в другой угол сада.
– Ты, кажется, не рада? – удивилась Мариам. – Вы же с Товием так дружите с самого детства.
– Вот именно, что с детства… – сказала Евфимия. – Я его слишком хорошо знаю. Он такой привычный… Он же мне как брат!
Мариам внимательно на нее поглядела.
– А тебе хочется чего-нибудь непривычного-необычного?
– Конечно! А тебе разве нет?
– Мне важнее всего защита, доброта и надежность.
– Вот как… А разве Товий будет надежным защитником своей жене?
– Конечно. Как твой отец твоей маме, как мой отец нашей маме и нам.
– Я даже не уверена, что он хорошо владеет мечом!
– Зато он сумеет выбрать и нанять хороший отряд для охраны каравана и хорошо заплатить ему по возвращении…
– Ну, это не самое важное – деньги! Храбрость и удача важнее.
– Вот как? – Мариам погрустнела. – А я думала, мы с тобой станем сестрами. Знаю, о ком ты думаешь, подруга, но лучше бы тебе выкинуть эти мысли из головы.
– Ни о ком я не думаю. Бесполезно думать… За кого мама велит, за того я и выйду.
– Но София много раз говорила, что неволить дочь ни за что не станет, она для этого была слишком счастлива с твоим отцом. Кстати, она его тоже знала с детства.
– Да, мама так говорила много раз. Только мне-то что с того…
– Ну, не печалься, подружка! Не придет наш отец сватать тебя за Товия! Я скажу братцу словечко, и он послушает меня.
– Я замуж, скорее всего, совсем не выйду. Я в монастырь уйду.
– Это мы все говорим до свадьбы! – улыбнулась Мариам. – Только кто нас слушает?
– Никто, – вздохнула Евфимия.
– Вот и ты себя не слушай! – засмеялась подружка. – Незачем обращать внимание на глупости, которые говорят девушки, даже если ты говоришь их сама.
И Мариам, похоже, сдержала слово: о предполагаемом сватовстве Товия никто с Евфимией не заговаривал, и сам Товий, встречаясь с ней, был всегда дружелюбен, весел и добр, подшучивал над нею и над сестрой, в общем, вел себя как обычно – как друг и брат.
Глава седьмая
Но Мариам ошиблась: сватовство все-таки состоялось.
Однажды Аларих в сопровождении Гайны явился в дом к Софии, очень вежливо поздоровался и начал издалека: еще раз поблагодарил сердечно за гостеприимство, за лечение и уход. София слушала его с легкой улыбкой: она подумала, что войска покидают Эдессу и готфы пришли прощаться. Но оказалось, они пришли свататься!
– Твоя дочь Евфимия, госпожа София, запала мне в сердце, и я хочу взять ее в жены! – с воинской прямотой объявил наконец Аларих.
София ответила ему так же прямо и решительно:
– Об этом не может быть и речи! Я не отдам свою дочь за чужеземца, за человека, о котором почти ничего не знаю. Кроме того, что он храбрый и отважный воин, конечно… Но этого недостаточно, чтобы доверить ему свое дитя. Забудь о Евфимии, Аларих. Она не для тебя.
– У нее уже есть жених? – мрачно спросил готф.
– Нет, и мы с этим не торопимся. Я вдова, как вы знаете, господа защитники, и дочь – мое единственное утешение, кроме Бога.
– Что ты хочешь обо мне узнать, госпожа София?
– Ничего, кроме того, что уже знаю. Я даже не спрашиваю тебя, не остались ли у тебя на родине жена и дети: если ты скажешь, что нет, как я смогу это проверить?
– Вот здесь стоит Гайна, он мой друг, спроси у него!
Гайна тут же приложил руку к сердцу и сказал проникновенно:
– Клянусь, я никогда не слышал, чтобы мой друг вспоминал о жене или детях. Да ты сама, госпожа, видела его имущество: разве там есть хотя бы кусок ткани, приготовленный в подарок жене, или заморские игрушки для детей?
– Там было много женских драгоценностей.
– Все воины хранят драгоценности, если могут их приобрести, они легче и дороже золотых монет! – сказал Аларих.
– Не будем спорить. Мне совершенно безразлично, что вы, готфы, носите в своих походных сумках. Дочь мою я все равно не отдам за человека, о котором ничего доподлинно не знаю, и давай прекратим этот пустой разговор.
Она мягко, но решительно выпроводила огорченных готфов и поднялась к Евфимии.
– Прости меня, доченька, но хочу спросить тебя еще раз: не было ли у тебя разговора с готфом Аларихом, кроме как о птичках?
– Нет, мама, ни о чем другом мы никогда не говорили.
– Если он найдет способ заговорить с тобой, немедленно уходи, а потом сразу расскажи мне. Обещаешь?
– Да, мама. А почему ты спрашиваешь?
– Да потому, что он только что сватался к тебе и тем перепугал меня до смерти!
Бывшая в комнате Фотиния так и вскинулась – и тем очень выручила Евфимию, потому что та, услышав сердитые слова матери, вдруг порозовела, как лепесток дамасской розы.
– Я же предупреждала, что не будет добра от этих постояльцев! Да они злее эфталитов: те хотели только город взять, а эти надумали выкрасть нашу красавицу, наше солнышко, нашу душеньку!
– Опомнись, Фотиния, что ты несешь? Никто никого не собирался выкрадывать, это было нормальное сватовство. Просто жених мне не нравится, и я ему отказала.
– И он просто повернулся и ушел?
– А что он еще мог сделать?
– Выкрадет он наше сокровище, вот увидишь, выкрадет! София, ты должна просить стратилата, чтобы этих разбойников перевели на постой в другое место! А на окно дома надо срочно приладить решетки.
– То у тебя доски на окно, то решетки… Лучше помолись, чтобы Господь и эдесские святые угодники отвели от нас еще и эту напасть. И будем надеяться, что, получив отказ, Аларих смирится и успокоится.
* * *
Но упрямый готф и не думал сдаваться. Сватовство Алариха превратилось в настоящее преследование, точнее, выражаясь языком войны, в осаду крепости-твердыни. Через три дня он снова посетил Софию в ее доме и спросил, не переменила ли она свое решение. Вдова повторила свой отказ: «Я не отдам свою дочь иноземцу, о котором ничего не знаю!» Настойчивый готф уселся перед нею и стал обстоятельно рассказывать о своей семье: он-де живет во Фригии, семья его принадлежит к знатному роду, а один его родственник служит при дворе императора. У его матери большой дом в городе, много слуг и рабов, а еще есть имение за городом, куда она со слугами перебирается на самые жаркие месяцы и живет там в тишине и прохладе большого сада.
София вежливо выслушала его и сказала:
– Я рада, что у тебя все так хорошо в семье, и думаю, что мать подыщет тебе хорошую невесту, если уже не подыскала. А теперь извини, господин мой Аларих, но мне пора становиться на вечернюю молитву.
И Аларих опять ушел ни с чем.
* * *
В субботу, в базарный день, София отправилась с кухаркой за покупками. Когда она приценивалась к тушке кролика в мясном ряду, то услышала над плечом голос Алариха:
– Неужели, госпожа моя, ты не можешь купить хороший кусок говядины или баранины?
– Где ты тут видишь баранину или говядину? Если что и было, то все раскуплено в первый же час. Куры да кролики – это все, что сейчас можно купить. Крестьяне не спешат распродавать оставшийся у них скот, для них после войны важнее получить приплод и восстановить свои стада.
– Они поступают разумно, – солидно сказал Аларих. – Стада надо возрождать. И все же мне больно смотреть, как ты прицениваешься к тощему кролику.
– После осады мы так и не вспомнили вкус настоящего мяса! – вмешалась кухарка, сердито поглядев на Алариха, будто он явился осаждать Эдессу, а не защищал ее. – Говорят, что после варваров в окрестных лесах не осталось ни кабанов, ни оленей, ни зайцев, ни фазанов!
– Хорошая дичь сумеет уйти от плохого охотника! Но только от плохого, – ответил Аларих, попрощался и исчез в толпе.
А в воскресенье с утра, когда София с домочадцами была в церкви, он заявился прямо на кухню и вручил кухарке кожаный мешок, в котором лежала разделанная и разрубленная на куски туша серны. Когда София вернулась домой, часть мяса была уже приготовлена с овощами, а бо́льший кусок, разделанный на полосы, затем натертые солью со специями, коптился в очаге летней кухни.
Ни Аларих, ни Гайна не были приглашены к обеду, но Саул отнес им большую миску с тушеным мясом, а вечером принес еще и связку полос копченого и посоветовал подвесить его к потолочной балке.
– Понравилось мясо серны госпоже Софии? – как бы вскользь поинтересовался Аларих.
– Она не ест мяса с тех пор, как похоронила мужа, – ответил Саул.
Про Евфимию Аларих спрашивать не стал.
* * *
В следующее воскресенье Аларих явился на службу в кафедральный собор. Увидев его на мужской половине храма, София подошла к Фотинии и велела ей уводить Евфимию сразу же после причастия. «Благодарственные молитвы прочтете дома!» – сказала она.
Сама диаконисса осталась до конца службы. Когда она покинула храм и пошла домой, Аларих догнал ее по дороге и спросил:
– Ты не передумала, госпожа София?
– Если ты о моей дочери, то нет, не передумала.
– Почему ты не хочешь доверить мне свою дочь, ведь я страстно люблю ее?!
– Это я вижу. Но доверия у меня твоя страсть не вызывает.
– Я могу поклясться чем угодно, жизнью и матерью своей, что буду беречь и ублажать Евфимию, как царевну, если она станет моей женой!
– Я не хочу сказать ничего плохого, Аларих, поскольку знаю о тебе только хорошее. Я вижу и то, что сейчас ты действительно полон благих намерений относительно моей Евфимии. Но почем мне знать, не изменится ли твое отношение к ней со временем?
– Ну так я принесу залог, который тебя убедит, госпожа моя! – решительно сказал Аларих, развернулся и пошел в сторону.
– Не надо мне от тебя никаких залогов! – крикнула ему вслед София, но он не обернулся и не замедлил шага.
* * *
Через несколько дней Аларих снова явился к Софии и вручил ей большой кипарисовый ларец.
– Что это? – спросила в недоумении диаконисса.
– Мои обеты, – коротко ответил готф. – Открой ларец.
София откинула крышку незапертого ларца и едва сдержала удивленное восклицание: ларец был полон тех самых драгоценностей, которые ей недавно показывал Аларих. На внутренней поверхности крышки была прикреплена серебряная пластина с надписью на греческом языке: «Я, Аларих, военачальник отряда готфов, клянусь диакониссе Софии, что, если она отдаст мне в жены свою дочь Евфимию, я стану беречь ее, одаривать и ублажать до самой смерти».
– Осмотри драгоценности, госпожа моя, – потребовал Аларих.
– Зачем? Они твои, и я их уже видела.
– Уже не мои. Осмотри каждую, прошу тебя, госпожа София!
София взяла в руки тяжелую золотую фибулу с яркой, грубоватой эмалью. На тыльной стороне она увидела выгравированную надпись: «Моей жене. Аларих». Подавив вспыхнувшее было раздражение, она осмотрела еще несколько украшений: на всех была та же надпись. «Сумасшедший!» – подумала она, а вслух сказала участливо:
– Почему ты не хочешь смириться и поверить, что мой ответ окончательный? Я же сказала, что не приму от тебя никаких залогов, Аларих!
– А я ничего не приму обратно! – упрямо сказал готф, развернулся и вышел, оставив ларец на столе в атриуме.
* * *
В этот же день, ближе к вечеру, Аларих увидел в саду Саула, срезавшего виноградные кисти. Паренек стоял на деревянной лестнице, прислоненной к высокому персиковому дереву, по стволу которого вилась лоза. Готф подошел к юноше:
– Послушай, Саул! Ты знаешь, что я сватаюсь к дочери твоей хозяйки?
– Все об этом знают. Только ничего у тебя не выйдет, готф!
– Почему ты так говоришь? Разве у Евфимии есть другой жених?
– Конечно, есть. Это Товий, наш сосед.
– Этот неуклюжий толстячок? – презрительно скривился Аларих.
– А чего ему не быть толстым – он сын одного из богатейших купцов города! Он еще не сватался к Евфимии, но, если посватается, София ему не откажет.
– Посмотрим! – мрачно ответил Аларих и злобно ударил ногой по лестнице. Лестница упала, но Саул успел ухватиться за толстую лозу и повис в воздухе.
– Эй, что ты делаешь? А если бы я упал и сломал ногу? Вот я тетушке скажу про тебя, тогда узнаешь! Сейчас же подставь мне лестницу!
Аларих зло засмеялся и пошел прочь. Пришлось Саулу спускаться на землю по виноградной лозе.
* * *
Наутро следующего дня София, как обычно направляясь в храм, увидела возле калитки сидящего на земле Алариха. Лицо его было потемневшим и усталым: похоже, что он всю ночь так и провел, сидя возле их ворот. Обернувшись на скрип калитки и увидев Софию, Аларих вскочил и подошел к ней:
– Госпожа моя, запомни: никаких женихов, кроме меня, у твоей дочери не будет. Ты еще не знаешь, на что я способен, если меня довести до отчаяния. Или я женюсь на ней, или погублю и себя, и ее! – он поглядел на оторопевшую Софию и добавил: – Да и тебя тоже… Наверное…
София вспомнила вдруг, что она всего лишь слабая женщина, испугалась, отступила в сад и захлопнула перед ним калитку. На службу она в этот день не пошла.
* * *
София запаниковала по-настоящему. Она взяла с собой Саула и поехала на ослике за советом к епископу Евлогию, уже перебравшемуся из Эдессы в свою пещерную келью за городом.
У них состоялась длинная беседа, в конце которой владыка Евлогий сказал:
– Так или иначе, за готфа или за другого, а придется тебе срочно выдать Евфимию замуж. Иначе может случиться беда.
После этого разговора вдова решилась на неслыханную для нее вещь: она попросит дядюшку Леонтия поговорить с отцом Товия о браке его сына с Евфимией. У богатого купца большие связи при царском дворе, и уж если не он, то кто еще сможет защитить ее с дочерью?
Но прежде она спросила у Евфимии, не пора ли им подумать серьезно о ее замужестве?
– Почему ты спрашиваешь об этом, мама? Разве ко мне кто-нибудь сватался?
– Пока никто, кого стоило бы воспринимать всерьез. Но скажи мне, что ты думаешь о Товии как о женихе?
– Ничего не думаю, мама! Он замечательный, я знаю Товия с детства, но люблю его только как брата.
– Этого вполне достаточно, чтобы в будущем полюбить и как мужа: такие браки, когда жених и невеста знакомы с детства, обычно бывают счастливыми.
– Но я совсем не хочу замуж, мама! Я лучше пойду вместе с тобой в монастырь.
– Почему, доченька?
– Потому что я хочу невозможного! Лучше мне похоронить себя в монастыре, чем выйти за нелюбимого! А за любимого ты меня не выдашь…
София ахнула и обо всем догадалась.
Евфимия опустила голову и заплакала.
София больше ни одного слова не смогла от нее добиться. И тогда диаконисса сдалась и решила выдать Евфимию за настойчивого готфа. Последним, что сломило ее сопротивление, было обещание Алариха по прибытии на родину продать часть своего имения и затем возвратиться вместе с Евфимией в Эдессу, чтобы жить здесь одним домом до тех пор, пока не решится дело с уходом Софии в монастырь.
– Но я все же надеюсь, что ты останешься с нами и будешь растить и воспитывать внуков, госпожа София, – сказал Аларих.
Диаконисса была тверда в своем намерении рано или поздно уйти в монастырь, но слова будущего зятя ее растрогали, несмотря на то что и тревога не покидала.
Готф ликовал. Евфимия тихо радовалась. А София молилась и просила Господа о вразумлении и защите: «Владыко, Отче сирот и Судия вдовиц, призри милостиво на создание Свое и не оставь сей отроковицы, вступающей в брак с неизвестным мужчиною. Не презри моего сиротства и не оставь меня беспомощною, ибо, надеясь на Твой благий промысел, я выдаю свою бедную дочь за человека пришлого и Тебя делаю свидетелем и поручителем его клятв и обещаний»[53].
Единственная маленькая победа Софии над Аларихом состояла в том, что она, согласившись на обручение, затем протянула время до Рождественского поста, а там уже проще было отложить свадьбу до самого Рождества. Аларих если и сердился на это, то виду не подавал. С Евфимией он согласно обычаю общался только в присутствии Софии и обходился несколькими вежливыми фразами да вручал при каждой встрече в подарок какое-нибудь драгоценное украшение. Евфимия принимала дар жениха, благодарила и скромно уходила в свою комнату, а готф оставался разговаривать с Софией. Обычно он рассказывал ей об участии в битвах и о том, что у него на родине, во Фригии, остались богатые родители, что отец его тоже был воином, прошедшим немало военных походов, что у него на родине много влиятельных и состоятельных родственников.
Но никто не мог помешать Евфимии тихонько слушать эти разговоры, прячась за занавеской на галерее. А поздно вечером она ставила на окно своей комнаты маленький глиняный светильник и смотрела в темный сад, где такой же огонек светил ей из окна садового домика. Это было все, что могли себе позволить влюбленные жених и невеста, но им, казалось, этого хватало. По крайней мере, Евфимии: она так похорошела, что это заметили все родственники и подружки. Даже ее нянюшка, вообще-то продолжавшая не жаловать готфа.
* * *
Подошло, было пышно отпраздновано и миновало Рождество, и вот наступил день свадьбы. Было торжественное совместное причащение Алариха и Евфимии в кафедральном соборе, после которого епископ Евлогий объявил их мужем и женой[54], а затем в доме Софии был устроен пир, и длился он три дня. Были приглашены все родственники и соседи, несколько именитых жителей города, а также офицеры-готфы, соратники Алариха, ну и, конечно, его ближайший друг Гайна. Пришли Мариам с Товием и их родители, причем Товий был настроен очень дружелюбно к Алариху и даже сделал ему удивительный подарок – вышитую на шелке карту в непромокаемом футляре из рыбьего пузыря: такая карта была незаменима в походах, занимала крайне мало места, и цены ей не было. Еще не забывшие долгой осады города и лишений эдесситы искренне радовались и веселились.
София и Фотиния, конечно, обе грустили и не скрывали этого, но какая мать не грустит, выдавая дочь замуж? Ведь почти никогда не известно заранее, какая жизнь ожидает ее дитя. Диаконисса и няня и всплакнули не раз, но, глядя на счастливую новобрачную, утешались, уповая на Господа.
Еще во время свадебного пира Аларих перебрался на жительство в дом Софии, оставив в садовом домике одного Гайну. Новобрачные были счастливы, хотя каждый по-своему: Аларих стал спокоен и вальяжен, он глаз не сводил с молодой жены и, казалось, всем и каждому хотел объявить: «Эта женщина принадлежит теперь мне!» Он то хозяйски клал свою руку ей на плечо, то брал ее за руку и слегка потряхивал, заставляя звенеть дюжину подаренных им браслетов, золотых и серебряных. Евфимия же была похожа на только что расцветший молоденький подсолнух: куда бы ни пошел Аларих, глаза ее следовали за ним, хотя перед другими домочадцами она их стыдливо опускала.
* * *
Фотиния забрала свой тюфячок из прихожей комнаты Евфимии и перебралась с ним к харранкам. Обе они, и Нонна, и Фамарь, души не чаяли в старой няньке и не раз намекали ей, что были бы рады выкупить ее у Софии. Они даже сулили отпустить ее на свободу, как только подрастет маленький Тума. Но Фотиния и слушать ничего не хотела, хотя за мальчиком усердно ухаживала и, кажется, успела его полюбить.
– Твоя девочка вышла замуж, ты ей больше не нужна! – убеждала ее Нонна.
– Это уж так и есть, – вздыхала нянька, – пусть теперь этот чужеземец ее бережет!
– А ты его повысила в чине, – улыбнулась Фамарь, – прежде ты звала его варваром, а не чужеземцем.
– Ох, милая, ничего ты не понимаешь! Чужеземец страшнее варвара: варвар способен только обидеть, а чужеземец может увезти в свою страну и сделать навеки несчастной. Не всем удается на чужбине обрести настоящую семью, как мне…
– Или как нам здесь, в доме нашей доброй Софии! – воскликнула Фамарь. – Эдесса – прекрасный, удивительный город, но все же как хочется домой, в наш скромный и знойный Харран! Правда, матушка?
– Правда, милая, правда… Хоть бы какую весточку прислал нам поскорей сынок!
Но вести им принес Гайна, который сразу после свадьбы друга на время куда-то пропал. Оказалось, он был в их родном городе и даже по собственной инициативе разыскал там мужа Фамари, купца Абсамию, как оказалось весьма известного в городе человека, и принес от него письмо и посылку.
Когда на освобождение Харрана из Эдессы двинулся смешанный отряд греков и готфов, то победа их над осаждавшими город варварами была воистину молниеносной: едва завидев приближающееся войско, эфталиты бросили осаду и бежали на север, откуда они и пришли, по слухам. Их преследовали, но безуспешно. Радостно встреченное измученными жителями города войско вошло в город, в полном порядке прошло сквозь него строем, не учинив никаких притеснений горожанам (да с тех и взять было нечего после многомесячной осады), и расположилось в Харранской крепости, примыкавшей к городской стене с южной стороны.
Муж Фамари в своем письме радовался известию о сыне и сокрушался, что не может сам приехать в Эдессу за ним, матерью и женой; зато он посылает деньги с верным человеком, которого попросил сопровождать его семью на родину и заплатил ему за это немалую сумму. Причина же невозможности его поездки за семьей была проста и непреодолима: Абсамия вместе с другими горожанами защищал город на его стенах, и там он был ранен стрелой в бедро и ходить пока не мог, как не мог и ездить верхом. Об этом харранкам поведал Гайна, сам Абсамия о своем боевом ранении не упомянул.
В присутствии Софии, Алариха и Евфимии Гайна передал Нонне увесистый кожаный мешочек с золотыми монетами, попросил их пересчитать и обещал, что устроит им безопасный переезд из Эдессы в Харран.
– И обязательно наймите для нас охрану, как велит мой сын! – сказала Нонна.
– В этом нет нужды, – ответил Гайна. – Я должен вернуться в Харран вместе с небольшим отрядом воинов-готфов и продолжить там службу, так что охрана вам обеспечена.
– Как все прекрасно устраивается! – воскликнула Евфимия.
– И даже лучше, чем ты думаешь, Зяблик мой, – сказал Аларих. – Я тоже получил известие от моей семьи из Фригии – в ответ на мое сообщение о свадьбе. Мне пишут, что отец мой скончался уже полгода назад, и я должен приехать, чтобы принять наследство и распорядиться им. Мне как раз положен отпуск. Харран не совсем у нас по пути, но два-три дня задержки ничего не решают, и мы поедем все вместе.
– Я еду с тобой! – воскликнула Евфимия, бросаясь к мужу.
– Конечно, едешь! – ответил, обнимая ее, Аларих. – Неужели ты думаешь, я могу расстаться с тобой хотя бы на один день?
– Нет, я не отпущу с тобой дочь в такую даль! – воскликнула София.
– Дорогая моя София, – обратился к ней ласково готф, – о чем ты тревожишься? Я только продам на родине то, что оставил мне отец, и мы очень скоро, я и Евфимия, вернемся из нашей страны и поселимся здесь уже навсегда. Весна уже началась, и, если мы не хотим изжариться в дороге по летней жаре, нам следует отправиться в дорогу немедленно – тогда к началу жарких дней мы будем уже дома.
Евфимия подошла к матери и обняла ее.
– Мама, отпусти меня с мужем! Я знаю, что ты будешь скучать без меня, но ты только подумай о том, как я буду скучать без него!
Они еще долго препирались и спорили, София и Евфимия даже плакали, а потом разошлись после ужина, так ничего и не решив.
Ночью София встала, спустилась вниз, в комнаты харранок, и вызвала Фотинию.
– Нянюшка, подскажи, что же мне делать? Сердце мое изболелось в тревоге за дочь!
– Она уже не столько дочь тебе, сколько жена своему мужу-чужеземцу. Ты сама отдала ему нашу ласточку!
Но очень скоро горе и слезы Софии ее растрогали, и она стала ее успокаивать.
– Не печалься так, дитятко! Не одна Евфимия поедет с этим готфом: я ведь говорила, что не оставлю ее.
– Ты поедешь с нею?! – обрадовалась София.
– Конечно. Ты же обещала отдать ей меня в приданое.
– Но как же ты покинешь дом и пустишься в такую тяжелую дорогу, нянюшка, старушка ты моя милая!
– Да уж как-нибудь, с Божией помощью, на одном «Господи, помилуй», глядишь, и доберусь туда и обратно. Да и за маленьким Тумой в дороге присмотрю. Только вот ты послушай меня, что надо сделать прямо завтра поутру…
И они зашептались, обнявшись.
Рано утром София разбудила Алариха и Евфимию и повела их на службу в храм-усыпальницу святых мучеников Самона, Гурия и Авива. Там они усердно помолились, причем мать и дочь обе горько плакали перед первой в их жизни разлукой. Потом София взяла за руки зятя и дочь, подвела их к гробнице и положила их правые руки на каменную крышку.
– Поручись мне благодатью, скрытой в этих мощах, зять мой, – сказала она, – что ты никогда и ни в чем не обидишь мою дочь!
Аларих произнес решительно и смело:
– Клянусь, и эти святые да будут мне поручителями, что я ничем не обижу мою жену!
Они еще помолились и вышли из храма, а на прощание София еще раз обернулась и попросила святых мучеников:
– Будьте с дочерью моей Евфимией и на чужбине, не оставьте ее, святые угодники!
Глава восьмая
Сборы были недолгими: Аларих предупредил, что от Харрана до Фригии путь они продолжат верхом, поэтому предложил Евфимии взять из всего приданого только праздничный наряд для встречи с его родней да сменную одежду. Ну и драгоценности, конечно, – они-то много места не займут.
– Нет смысла брать много вещей во Фригию, все равно придется везти их обратно – мы ведь скоро вернемся.
– Скоро ли? – усомнилась, вздыхая, София.
– Как только я распродам свое наследство, – отвечал Аларих.
Не согласна с этим была только Фотиния, она готова была тащить не только одежду, ковры и дорогую посуду, но и кухонную утварь, причем тащить ее хоть на себе, но ее никто особенно не слушал. Тогда старушка решила надеть на себя в дорогу столько одежды, сколько сумеет, и принялась перекапывать свой сундук, который вообще-то за недосугом просматривала только раз в году, весной, чтобы просушить слежавшуюся за зиму одежду.
Она отобрала одежду на все случаи жизни, а под конец извлекла с самого дна сундука старый дорожный шерстяной плащ, подбитый тонко выделанными ягнячьими шкурками, почти облезшими от старости. От былого великолепия плащ сохранил только красный цвет наружной ткани, штопаной-перештопаной, но все еще яркой.
– Откуда у тебя этот чудовищный плащ? – спросила София. – Ты что, не можешь подобрать в дорогу что-нибудь полегче и поновее?
– В этом плаще нас с сестрой когда-то привез к вам в дом старый хозяин, отец твоего мужа. Мы были тогда несчастные, глупые и перепуганные девчонки, да еще и обе подхватили в дороге лихорадку. Хозяин и не собирался нас покупать, но работорговец предложил ему продать нас обеих как одну, да еще за половинную цену, сказав: «Если даже одна из них выживет, ты все равно будешь в выигрыше, господин!» Но Фотий-старший, твой свекор, как мы потом догадались, купил нас просто из жалости. Это был его плащ, он отдал его нам, чтобы мы не мерзли во время приступов озноба, и я ни за что я с ним не расстанусь: он напоминает мне и о сестре, и о добром моем хозяине.
– Уже весна, солнце греет с каждым днем все жарче, неужто ты будешь носить его?
– На себе тащить легче, чем грузить мула.
– Да засунь его хотя бы в суму: мулу-то не все ли равно, везти тебя легко одетой и одежду в суме или тебя же, но укутанной в этот плащ, словно куль?
Но переупрямить Фотинию пока еще никому не удавалось. Она и для ребенка прибрала каждую тряпочку, которая могла пригодиться в дороге. Своих вещей у харранок практически не было, но София одарила их новой одеждой, а для маленького Тумы пожертвовала самое маленькое и самое красивое шелковое покрывало, какое нашлось в доме.
Об имуществе Евфимии нечего было и говорить: Фотиния норовила все ее приданое затолкать в переметные сумы. В результате вместо двух небольших мешков, которые мог снести мул, предназначенный для Евфимии, у няньки получилось шесть огромных тюков. София, и без того не находившая себе места, увидев результат Фотиньиных сборов, вознегодовала:
– Ты что, увозишь мою дочь насовсем? Зачем ты собираешься тащить с собой все приданое, если вы едете только на два-три месяца, не больше? Аларих же обещал, что к концу лета, когда спадет жара, вы уже тронетесь в обратный путь! Зачем, скажи, Евфимии столько постельных принадлежностей?
– Ну, чтобы все свое было в чужом доме…
– Она не в чужой дом едет, а в дом своего мужа! Оставь это все, постели для нее с Аларихом я уже приготовила. А это что за сундучок?
– Это женский набор. В пути, ты бы сама должна была сообразить, во время ежемесячных недомоганий могут быть сложности.
– А у тебя что, опять начались ежемесячные недомогания? Возьми для Евфимии что надо на несколько раз и успокойся: вы будете путешествовать вряд ли больше трех месяцев.
Фотиния, не переставая ворчать, принялась разгружаться.
– Я очень рада за наших мулов! – тайком шепнула матери Евфимия. – Везти на себе нас да еще этот чудовищный груз тряпья! Жалко бедных животных.
Мулов для Евфимии и Фотинии Аларих купил сам, причем выбраны им были животные спокойные, зрелого возраста[55]: до сей поры та и другая ездили на мулах или на осликах только в их загородный дом, где в спокойные годы укрывались от летней городской жары, да к старцам, подвизавшимся в своих пещерах вдали от города.
* * *
Харран недаром назывался Перекрестком, он стоял на пересечении крупных торговых путей, поэтому от Эдессы туда вела удобная и прямая дорога, мощенная камнем. Для поездки была нанята каррука[56], запряженная четверкой смирных лошадей. Она прибыла к дому Софии накануне отъезда. Фотиния сразу же кинулась осматривать удобную большую повозку с высокими решетчатыми бортами, полотняными стенами и верхом. На крыше повозки был укреплен еще и свернутый кожаный полог, который можно было натягивать на крышу в случае дождя. Пол карруки был покрыт толстым старым ковром, у задней стенки лежали тюфяки, покрывала и подушки – в карруке можно было не только ехать с комфортом, но и даже ночевать. Фотиния немедленно приказала вознице все спальные принадлежности из повозки вынуть и отнести в сарай:
– Когда вернешься назад из Харрана, тогда все это и заберешь, а нам чужие блохи без надобности!
Хотела Фотиния снять и посеревший полог, которым были задернуты стенки повозки, но тут уж возница воспротивился:
– Если ты, матушка, боишься насекомых, так оставь полог на месте! Блох в нем нет, а вот без него тебя загрызут москиты!
– Разве Харранская долина это не жаркая пустыня? – удивилась Фотиния. – Откуда там возьмутся москиты? Они же любят сырые места!
– Харранская долина жаркая, но это не пустыня, а одна из плодороднейших долин в наших краях. А плодородна она потому, что орошается водой Евфрата и его притоков через множество каналов, так что воды и москитов там хватает. Ну да сама увидишь и почувствуешь! Так что оставь полог на месте, матушка, даже если он кажется тебе не слишком чистым.
– Ладно уж, уговорил, – проворчала старушка.
Фотиния собственноручно приготовила горько и остро пахнущий настой полыни и листьев айланта и приказала служанкам тщательно промыть им повозку изнутри, не забыв обрызгать и полог. После того как пол и стены высохли, из дома были принесены и постелены внутри толстая кошма, на нее сначала ворсистый персидский ковер, а сверху еще и большое полотняное вышитое покрывало и уже на него положены, опять же собственные, тюфяки, покрывала и подушки, причем в немалом количестве. Позаботилась Фотиния и о небольшом столике. Еда, посуда и питье в кувшинах тоже были упакованы заранее в выстеганные изнутри корзины, но пока ждали своей очереди в погребе под полом дома, на холоде.
* * *
Выезжали на рассвете. Первой из дома вышла, конечно, Фотиния в своем немыслимом красном плаще и придирчиво проверила тюфяки и подушки: не отсырело ли все за ночь? Убедившись, что все в порядке, она пошла будить остальных путешественников. Фамарь, похоже, и не спала в эту ночь: она вышла со спящим сыночком на руках, дала его подержать Фотинии, потом влезла в карруку, приняла младенца, села, откинула полотняную занавеску и уставилась в окно на пустую беленую стену, окружающую двор, вся в ожидании того момента, когда повозка наконец двинется в Харран, домой. За нею уселись Фотиния и Нонна; Аларих и его раб Авен вывели оседланных лошадей; высокий и плечистый раб небрежно держал в левой руке поводья двух мулов; Гайна и с ним еще пятеро воинов должны были присоединиться ко всем уже у самых Южных ворот, поскольку туда им было ближе из крепости. А Евфимия и София все стояли обнявшись не в силах расстаться.
Аларих подождал-подождал, а затем решительно подошел к ним.
– Дорогие мои женщины, нам предстоит длинная дорога, надо поспешить. И там, кажется, уже хнычет маленький Тума – мальчику не терпится ехать к отцу.
– Да-да, сейчас, сейчас… – сказала София, еще крепче обнимая дочь.
Но вот Евфимия сняла со своих плеч материнские руки, поцеловала их одну и за другой и сказала:
– Все, мама. Муж торопит, благослови и отпусти меня.
София в последний раз поцеловала, перекрестила ее и отпустила.
* * *
Фамарь сидела лицом к лошадям и смотрела вперед, с нетерпением ожидая, когда перед нею откроется Харранская долина. Евфимия тоже села у борта повозки, откинув край занавески, но смотрела она назад, прощаясь с любимой Эдессой: никогда еще она так надолго не покидала свой город и не уезжала от него так далеко. Вот уже скрылись вдали белые известковые стены крепости, а вот и вознесенные над нею исполинские колонны Нимрода сначала превратились в два узких столбика на горе, а затем и вовсе растаяли в тумане. Тогда она вздохнула и тоже пересела лицом к лошадям.
Всадники ехали по четыре с обеих сторон карруки: Аларих, его раб и два воина со стороны Евфимии, Гайна с остальными тремя – с другой. Хотя в гарнизоне разведчики заверили их, что по дороге на Харран никаких засад быть не может, опасались они не только эфталитов, но и местных разбойников, которых, как это водится во время любых бедствий, уже развелось в округе немало.
Харранская долина, вопреки ожиданиям Евфимии, вовсе не была пустыней! Поля, раскинувшиеся по обеим сторонам дороги, были не просто по-весеннему зелеными, но их зелень оказалась такого яркого и сочного цвета, какого Евфимия никогда не видела ни в Эдессе, ни за стенами города. И все это были поля и пастбища. Правда, животных почти не было видно, и Нонна сказала, что их не было уже тогда, когда они бежали из осажденного Харрана в Эдессу. Подальше от дороги виднелись цветущие сады, обширные и густые. Но на десятки саженей вблизи от дороги земля была выбита, деревья либо срублены, либо изуродованы топорами, и даже трава исчезла начисто – здесь прошло войско эфталитов.
– Вот такие пустыни везде оставляет война, – сказала Нонна. – Взгляните: хоть поля и засеяны, а крестьян на них почти не видно. В середине дня никто не работает даже весной, жара не позволяет, но сейчас утро и самое время для работы, а на полях почти никого.
И сама дорога, которую прежде оживляли караваны, идущие в обе стороны, тоже была пустынной, только позади карукки и верховых облаком вилась пыль, поднятая колесами и копытами.
С утра двигаться было легко, воздух еще только-только начал нагреваться после холодной пустынной ночи, поэтому ехали довольно быстро, стремясь проделать как можно большую часть пути до наступления полуденной жары. Сильного зноя пока не чувствовалось, но с болот, тянувшихся вдоль берега Евфрата, и рисовых полей на путешественников налетали стаи москитов и жалили беспощадно людей и животных. Вот для чего нужен был полог внутри карруки!
А потом воздух постепенно начал нагреваться, через какое-то время сделался почти горячим, а к полудню раскалился и стал таким, каким бывает в Эдессе только посреди лета. Москиты как-то разом пропали, словно их смахнуло одним порывом жгучего ветра.
– В самом Харране будет еще жарче! – будто хвастаясь, пообещала Фамарь.
– И как же вы живете в таком пекле? – испуганно спросила Фотиния.
– А вот увидишь, нянюшка! При доме у нас большой сад, а комнаты в доме даже прохладные.
– Как это могут быть прохладными комнаты в доме, построенном в жарком месте? – спросила нянька. – Или они вырублены в горе, как кельи наших монахов?
– И вовсе нет! У нас особая архитектура. Но не буду рассказывать заранее, приедешь – сама увидишь. Может, тебе так понравится, что ты все же решишь остаться с нами.
Фотиния на это ничего не ответила, но и Евфимия промолчала, из чего Нонна сделала заключение, что не все еще потеряно и, может быть, все же удастся уговорить Алариха не брать с собой старушку в трудный поход на Фригию, а оставить ее в Харране. Очень уж хотелось умной женщине приобрести для внука такую преданную няньку!
Хорошо, что дорогу часто пересекали водные потоки: в таких местах делали короткие остановки, поили лошадей, давали им передохнуть – и сами отдыхали. Женщины выходили размяться от долгого сидения, а мужчины, спешившись, ложились в тени и вытягивали ноги.
После первого же короткого привала Евфимия выразила желание остальную часть дороги проехать верхом на муле – для тренировки. Аларих велел рабу Авену оседлать мула, тот достал из поклажи легкое женское седло, и скоро довольная Евфимия уже ехала рядом с мужем.
По дороге попадались изредка небольшие селения. Аларих показал Евфимии какие-то странные конические сооружения над глиняными заборами.
– Знаешь, что это такое?
– Нет. Похоже на какие-то великанские ульи.
– Это и есть знаменитые харранские дома-ульи.
– Как же в них люди живут?
– А вот приедешь в Харран и посмотришь.
– А ты видел их раньше?
– Конечно, видел. Я не первый раз бываю в этих краях и знаю тут все достопримечательности. В Харране есть на что посмотреть.
– А что именно? Можешь рассказать заранее, чтобы я могла выбрать, что хочу увидеть первым? – лукаво спросила Евфимия.
– Хитрый Зяблик. Ты просто соскучилась, сидя в повозке с женщинами и младенцем, и теперь хочешь, чтобы я тебя развлекал?
– Да, хочу!
– Это приказ владычицы моего сердца?
– Да!
– Ну, приказы повелителей не обсуждаются, – засмеялся Аларих. – А ну-ка давай сюда! – он наклонился с седла, подхватил поводья мула и притянул его к боку своего коня. Мул покорился, а конь недовольно, с явным презрением покосился на него. Аларих протянул руки и легко пересадил Евфимию на колени. – Вот так, по-моему, нам будет удобнее разговаривать. Первое, что ты увидишь, когда мы подъедем к городу, будет Харранская крепость, которую эфталиты так и не смогли взять. В ней же был убит самый богатый человек мира, римский полководец Марк Красс[57]. Здесь он положил двадцать тысяч легионеров и сам тоже погиб. Говорят, парфяне залили ему в глотку расплавленное золото. Так что эта крепость, наверное, самая главная достопримечательность города и его гордость.
– А я думаю, что это не совсем так, – покачала головой Евфимия, – в этом городе родился и умер Фара, отец патриарха Авраама. И сам Авраам тоже жил в Харране.
– Разве не в Эдессе? – удивился Аларих.
– В Эдессе он родился и довольно долго жил. Но именно из Харрана он двинулся в Землю обетованную.
– Эдесситке и дочери диакониссы, конечно, виднее. Наверняка ты лучше все знаешь про Авраама, тем более что он родился в Эдессе. Хотя родиться – это еще не главное событие в жизни мужчины.
– А какое же событие главное?
– Встретить свою любовь!
– И Авраам ее встретил.
– Конечно: он встретил Сарру.
– И встретил ее Авраам в Уре, как тогда называлась наша Эдесса[58]. Мне это мама еще в детстве рассказывала.
– А может быть, она рассказывала тебе, что Авраам и Сарра совершили точно такое же путешествие, какое совершаем сейчас мы с тобой: из Эдессы в Харран, по этой самой дороге? Она вымощена римлянами, но кое-где попадаются и очень древние, тысячелетние, плиты: это видно по тому, какие колеи пробили в них за века тяжело груженные повозки. Только у Авраама с Саррой путешествие заняло гораздо больше времени, потому что они совершали его вместе со своими родственниками, со всеми рабами, стадами и пастухами, поэтому по дороге им пришлось, и, может быть, не раз, останавливаться на ночлег. Для ночлега они, конечно, раскидывали шатры. А сейчас я расскажу тебе то, что мама твоя наверняка пропустила.
– Мама пропустила? Сомневаюсь. А ну расскажи!
– Сарра была прекрасна, Авраам без памяти любил ее, и поэтому ночью они потихоньку покидали свой шатер и уходили на берег одного из притоков Евфрата, которые во множестве стекаются в Харранскую долину, и… Знаешь, чем они там занимались?
– Ловили рыбу на завтрак?
– Нет, не угадала.
Евфимия покраснела и спросила застенчиво и почти шепотом:
– Тогда чем же?
– Они предавались любовным утехам под звездами и мечтали о сыне. И звезды сияли над их головами, а луна серебрила прекрасные обнаженные плечи и груди прекрасной Сарры.
Евфимия совсем раскраснелась от смущения и дыхание ее стало прерывистым. Аларих же, лукаво на нее поглядывая и посмеиваясь, продолжал:
– А ты помнишь, сколько лет было Аврааму, когда они покинули Ур и отправились через Харран в Ханаан по велению Бога?
– Нет, не помню. Сколько?
– Аврааму было семьдесят пять лет!
Евфимия немедленно притворилась обиженной и сердитой.
– Но Сарра была на целых десять лет моложе! – шутливо утешил ее Аларих.
– Немедленно пересади меня на место! – потребовала она.
Аларих тут же исполнил ее требование. Тут Евфимия обиделась уже всерьез, шлепнула своего мула по крупу и погнала его вперед по дороге.
Аларих с хохотом погнал за нею своего жеребца, ухватил мула за узду, обнял на скаку Евфимию и, остановившись, снова втащил ее, как котенка, к себе в седло и поцеловал. А она сначала дернула его за кудри, а потом погладила их и успокоилась.
– Расскажи мне еще что-нибудь про места, через которые мы проезжаем, – попросила она через некоторое время.
И Аларих стал рассказывать ей про битвы, которые римляне издавна вели в этих местах с персами. Не все ей было понятно, и порой страшно становилось слушать про кровавые столкновения, но, что бы ей ни рассказывал Аларих, она была готова слушать его часами – так ей нравился голос мужа.
* * *
После полудня устроили большой привал у реки, вытащили котел и сварили рис с мясом фазанов, добытых накануне Аларихом и Гайной. Кушанье было щедро приправлено зеленью и шафраном. Улучив момент во время приготовления еды, Фотиния успела все-таки сделать выговор Евфимии:
– Неприлично молодой женщине ехать в седле мужчины, даже если он ее муж! Всем встречным проезжим и прохожим не объяснишь, что вы молодожены. Да вы еще постоянно воркуете и целуетесь, как голубки.
– Нянюшка, да разве это плохо? Мы же и вправду молодожены!
– Не плохо, но нескромно. Соблюдай приличия, есть у тебя свой мул – вот и езди на нем. Коня хотя бы пожалей, конь-то не железный.
– Хорошо, нянюшка. Ты меня убедила: коня я пожалею.
Обедая, путники лежали и сидели на коврах, принесенных из повозки, и после сытной трапезы почти все тут же и задремали.
Евфимия с Фамарью спать не хотели и решили спуститься к реке и как следует вымыться: Фамарь вспотела, безвылазно сидя в карруке, а Евфимия пропылилась, едучи верхом. Искупавшись в холодной как лед воде, молодые женщины выполоскали в ней свои покрывала и развесили их сушиться на кустах, а сами, внимательно оглядев траву, чтобы не сесть на змею или скорпиона, уселись в тени.
– Фамарь, а сколько лет было отцу нашему Аврааму, когда он пришел из нашего города в ваш?
– О, какая ты благочестивая путешественница, прямо, можно сказать, паломница! Аврааму было семьдесят пять лет.
– Такой старый… Вдвое старше моего Алариха.
– Ну что ты, милая! Ты вспомни, сколько жили в то время и сколько прожил сам Авраам!
– Сколько? Я не помню.
– Авраам прожил сто семьдесят пять лет. Он был в самом расцвете сил, когда пришел в Харран. Да, он был примерно как твой Аларих.
– А Сарра, получается, как я?
– Ну да. Наши праотцы жили праведной жизнью, а потому долго: старели позже.
– Я поняла!
И Евфимия решила, что непременно поддразнит Алариха, доказав ему, что Авраам вовсе не был старцем, а Сарра – старушкой.
Когда они снова двинулись в путь, причем теперь она послушно ехала на муле, как обещала няньке, она передала ему слова Фамари о возрасте праотцов.
Но Аларих сразу же отобрал у нее победу.
– Хорошо, ты меня убедила, – он подъехал к ней ближе и шепнул: – Когда мы останемся одни, обещаю тебе любить тебя, как молодой семидесятипятилетний Авраам любил юную шестидесятипятилетнюю Сарру!
Этого хватило, чтобы Евфимия покраснела как маков цвет на краю ячменного поля и тут же прыснула от смеха.
Так они то любезничали, то дразнили друг дружку до самого Харрана, веселя попутчиков одним своим озорным видом, молодостью и любовью.
* * *
Солнце клонилось к закату, когда поселки стали попадаться все чаще. И вот впереди уже стали видны высокие стены города и башни над выдвинувшейся вперед мощной трехъярусной крепостью[59], как бы вышедшей на дорогу встречать тех, кто приближался к Харрану со стороны Эдессы.
– Вот она, неустрашимая и неприступная цитадель Харрана! – с гордостью произнес Аларих. – Видите, какие башни?
– А чем она знаменита? – спросил самый молодой из воинов.
– Многим. Например, тем, что внутри крепости жили на покое ветераны армии Александра Македонского и прямо в крепости их и хоронили, – сказал Гайна.
– Достойное кладбище для воинов!
Приблизившись к борту карруки, Евфимия услышала голос Нонны:
– Хозяйка твоя сказала мне, что ты должна сама решить, остаться ли тебе у нас в Харране или все же пуститься в трудное путешествие с Евфимией.
– Моя хозяйка теперь Евфимия, это у нас давно решено, – заявила в ответ Фотиния. – Не могу же я отпустить ее одну на чужбину!
– Вовсе не одну! – вмешалась Фамарь. – Она едет с мужем и его рабом, а он хоть и стар уже, но опытный воин. Ты можешь быть уверена, что Евфимия под хорошей охраной.
– А кто ухаживать будет за нею в дороге?
– А вот муж и поухаживает! – засмеялась Фамарь. – Фотиньюшка, милая, а тебе не приходит в голову, что ты будешь только мешать молодым, смущать их? Все-таки они молодожены и это их свадебное путешествие!
– Я ни о чем таком не думаю. Мое дело следить за молодой госпожой, а не подглядывать за нею, – сердито ответила нянька.
Евфимия закусила губу, снова объехала повозку и пристроилась рядом с мужем. Здесь уже закончили страшный рассказ о несчастном полководце-богаче Марке Крассе и теперь говорили о том, что воинам стоит остановиться на ночлег в гарнизоне, а уже завтра наутро двигаться дальше.
У самой городской стены разделились: каррука с женщинами и Аларих на коне поехали через юго-западные Ворота Алеппо, откуда было ближе к дому купца Абсамии, а Гайна с солдатами поехали в крепость через самые большие, Эдесские[60].
Когда, следуя указаниям Нонны, каррука и верховые подъехали к дому и возница громко постучал, ворота открылись сразу, как будто кто-то уже поджидал путешественников. Они увидели сад под тенистыми чинарами и довольно большой дом, к удивлению Евфимии, построенный все в том же удивительном стиле: в виде целой семьи ульев на одном приземистом основании. Из большой резной двери поспешно выбежали и бросились к въехавшей во двор повозке слуги, в том числе старики и дети, а за ними, протягивая одну руку, а другой опираясь на костыль, шел, плача, смеясь и что-то приговаривая, сам Абсамия, высокий широкоплечий мужчина с густыми вьющимися черными волосами. Вот в кого уродился маленький Тума!
* * *
Все вошли в дом, и пока семья Абсамии и все слуги толпились и склонялись над переносной колыбелькой Тумы, разглядывая его и громко восхищаясь, Евфимия, держась за руку Алариха, удивленно оглядывалась. Странный дом, с его куполами-ульями над стенами, внутри был на удивление прохладен, просторен и уютен. Они стояли в первой комнате, исполнявшей роль атриума, из которого по периметру шли проходы в другие помещения: некоторые из них были закрыты тяжелыми занавесями, в другие можно было заглянуть.
Первым делом Евфимия задрала голову и с любопытством оглядела внутренность таинственного купола. Он начинался прямо над невысокими стенами и уходил на высоту в полтора-два раза выше стен. В стенах почти совсем не было окон, лишь очень небольшие под самым основанием конуса купола да в нем самом, а еще одно отверстие было в самом его острие.
– Как ты думаешь, Аларих, а дождь не заливает комнату через это отверстие?
– А я и не знаю, как там устроено снаружи: кажется мне, что что-то было над дырой. Надо же, много раз видел такие дома-ульи, а как следует рассмотреть ни разу не догадался! Пошли посмотрим, – предложил Аларих, – хозяевам все равно сейчас не до нас.
Они вышли из дверей, отошли от дома и оглядели его странную «крышу», похожую на пасеку с великанскими ульями: да, верхушку каждого «улья» венчал маленький глиняный навес, открытый с двух сторон; стало понятно и куда уходит воздух из помещений, и почему в комнаты не попадает дождь. Выяснив архитектурный секрет, они обнялись и так стояли до тех пор, пока на пороге не показалась озабоченная Нонна:
– А я думаю, куда это вы пропали?
– Свежим воздухом дышим и на крыши смотрим! – ответил Аларих.
– Так ведь в доме воздух прохладней!
– Вот мы и гадаем: а почему так?
– А вот из-за этих самых крыш над каждой комнатой. Идемте в дом, сейчас будем ужинать.
Она пригласила их в комнату с большим, но невысоким столом посередине – прямо под уходящей вверх крышей. Вокруг стола стояли уже совсем низкие скамейки. Пол и стены комнаты были покрыты коврами. Начался праздничный ужин, долгий и радостный.
* * *
Наутро, едва лишь гости успели умыться и помолиться, Нонна с Фамарью и Фотиния с Евфимией устроили женский совет в одной из свободных комнат, полутемной и прохладной.
Евфимия заранее угадала, о чем пойдет речь, и потому сидела со скромным видом, решив до поры не говорить ничего. Да она и не знала, как ей быть. С одной стороны, няню она, конечно, любила и привыкла к ней: еще бы, с первого дня жизни она считала, что няня принадлежит исключительно ей! Нет, дело было не в том, что Фотиния, будучи рабыней, принадлежала ее семье и ей; просто няня была всегда, няня была частью ее жизни, продолжением ее самой, няня была вроде ее собственной длинной косы: порой и мешает, и раздражает, а без нее как? И в то же время Евфимии очень хотелось остаться наконец с мужем наедине, побыть с ним вдвоем без кого бы то ни было рядом. Не считать же за кого-то постороннего раба Амальриха Авена: при всем своем гладиаторском обличье и страшной силе он был так тих и незаметен, что Евфимия и голоса его до сих пор не слыхала. Вот и сейчас она говорить предоставила другим, а сама решила пока только слушать.
Первой начала Нонна:
– Фотиния, ты наша вторая спасительница после Софии. Того, что ты сделала для нас, невозможно отдарить никакими наградами. Кроме одной: свободы. По нашей просьбе дорогая София написала тебе отпускную, чтобы мы могли тебя нанять уже как вольную няню для нашего малыша. Она мне вручила ее перед нашим отъездом из Эдессы на тот случай, если ты захочешь остаться у нас. И еще вот эти деньги как награду за верную многолетнюю службу ее семье, – с этими словами Нонна выложила перед Фотинией свиток с отпускной грамотой и небольшой мешочек с монетами. – Она просила напомнить тебе, что, когда Аларих с Евфимией вернутся в Эдессу, она вскоре примет постриг в одной из эдесских обителей. Я не должна и не хочу от тебя скрывать, дорогая Фотиния, что сама София, при всей ее к нам доброте, конечно же, хочет, чтобы ты добровольно последовала за Евфимией в страну ее мужа, а по возвращении в Эдессу, если Бог вскоре даст им детей, так и продолжала бы жить нянькой в их доме. Но Софию смущает одно: ты, мягко говоря, почему-то не очень любишь ее зятя.
Фотиния абсолютно недвусмысленно и презрительно фыркнула.
Евфимия сокрушенно вздохнула.
– И поэтому София оставила все на твое усмотрение. Ты можешь продолжить путь с Евфимией и Аларихом, а потом либо вернуться в дом Софии, либо, если передумаешь, вернуться к нам. Фамарь и спрашивать нечего: она спит и видит, чтобы ты растила нашего Туму.
– А что скажешь ты, моя ласточка? – Фотиния повернулась к воспитаннице и как-то очень грустно, почти обреченно на нее поглядела.
– Надо спросить моего мужа: что он скажет, с тем и я соглашусь, – сказала Евфимия, не глядя на свою старую няньку.
– Другого ответа я и не ожидала! – спокойно ответила на это Фотиния. После чего она взяла свиток, развернула его и внимательно прочитала, водя пальцем по строчкам. Следя за тем, как учились ее подопечные, она и сама незаметно выучилась читать; вот только писать не умела – ни к чему это ей было. Удовлетворенно вздохнув, она снова навернула свиток на кондакион[61] и спрятала его под покрывалом. Затем развязала мешочек, высыпала из него золотые монеты, пересчитала их и, удовлетворенно кивнув сама себе, спрятала деньги тоже где-то на теле.
– Ну так вот что я вам скажу, мои дорогие женщины! – не просто сказала, а торжественно произнесла старая нянька, оглядывая участниц женского совета. – Раз уж выпала мне такая удача – получить сразу вместе и свободу, и деньги, и право решать самой, я уж воспользуюсь всем этим по своему усмотрению. Пусть твой муж, Евфимия, успокоится: не поеду я с вами в его Фригию и не стану мешать вам. А с вами, Нонна и Фамарь, я останусь, – нет, вы погодите радоваться! – но только до тех пор, пока вы не подыщете хорошую няньку для маленького Тумы. А после этого я сделаю то, о чем и мечтать не смела долгие-долгие годы: на эти деньги я куплю себе место на торговом корабле, идущем в Карфаген, и вернусь доживать свою жизнь на родине. Мы с моей покойной сестрой не потратили ни на прихоти, ни даже на серьезные нужды ни денежки из того, что хозяева дарили нам на праздники, и того, что нам с нею удавалось иногда заработать: мы копили деньги на выкуп и возвращение на родину. Сестра умерла, ее часть я оставила Саулу, но и того, что мне осталось, с тем, что подарила мне моя дорогая София, мне одной хватит и на то и на другое.
– Нянюшка! – воскликнула Евфимия, обнимая ее. – Как же это мы не подумали об этом раньше? Почему ты никогда никому не говорила, что мечтаешь вернуться на родину? Знаешь, я так рада за тебя, дорогая ты моя старушенька!
– Рада? Ну вот и хорошо. По крайней мере, ты никогда не пожалеешь, что отпустила меня.
– И мы рады такому решению, если оно сделает тебя счастливой, нянюшка! – сказала Фамарь, обнимая Фотинию с другого плеча.
– Ну что ж, – сказала Нонна, – хоть и неожиданно твое решение, Фотиния, но и я тоже ему рада. Как не порадоваться счастью другого человека?
Этим женский совет и закончился.
Узнав, что Фотиния с ними во Фригию не едет, Аларих откровенно обрадовался и попросил у Абсамии кусочек пергамента, стило и тоже написал вольную для своего раба Авена. Правда, поразмыслив, он ничего пока ему об этом не сказал.
– Отдам ему, когда закончится наше путешествие, – сказал он Евфимии, пряча пергамент в сумку.
– Какой ты добрый, Аларих! – сказала его юная жена и поцеловала его.
Глава девятая
А назавтра все опять повернулось по-новому. Не успели Аларих, Евфимия и раб сесть в седла и выехать за ворота гостеприимного дома Абсамии, как из дома выскочила Фотиния с небольшим сундучком в руках.
– Погоди, погоди, Евфимия! Ты что-то очень важное забыла!
Евфимия взглянула на шкатулку в руках бывшей няньки, узнала ее, покраснела, резво соскочила с седла и подбежала к Фотинии.
– Ну что ты кричишь, няня, и срамишь меня? Не нужны мне теперь твои «девичьи хитрости», я ведь уже замужем. Ты что, забыла? – зашептала она, в смущении оглядываясь на недоумевающего Алариха.
– Да как же не нужны, ласточка? Как раз и срок твой подходит…
– Няня, ну что ты такое говоришь? Ты же сама мне сто раз говорила, когда я жаловалась на эти надоевшие месячные недомогания: «Вот выйдешь замуж – и отдохнешь от них!» Вот я и отдыхаю теперь! Подумай сама, зачем мне, замужней, теперь все эти тряпочки?
Фотиния ахнула, уронила сундучок, а потом и сама на него села.
– Что с тобой, нянюшка? – перепугалась Евфимия, опускаясь рядом с нею на корточки.
– Ты что, уже понесла? – шепотом спросила Фотиния.
– Что и куда я понесла? – в недоумении уставилась на нее Евфимия.
– У тебя когда последний раз были месячные недомогания?
– Один разок после свадьбы были, а потом все, слава Богу, прекратилось, как ты и предупреждала.
– Ох, ну сколько раз я говорила Софии, что нельзя держать девушку в таком неведении!
– Няня! Ты опять все путаешь: это мама тебе говорила, а не ты ей.
– Значит, обе мы хороши! – сердито сказала Фотиния, поднялась и громко объявила: – Аларих! Поворачивай обратно, слезай с коня! Жена твоя ждет ребенка! Мы возвращаемся в Эдессу.
Тут уже Евфимия ахнула и села на освободившийся злополучный сундучок.
Заметно растерявшийся Аларих возвращаться в Эдессу, однако, не захотел.
– Во-первых, это мне совсем не по пути! Во-вторых, Евфимия здоровая женщина, мул у нее спокойный, седло удобное, а ехать мы будем не торопясь: ничего с нею не случится за какой-то месяц! – говорил он. – Отсюда мы двинем в Самосату[62], это займет дня три, не больше. В Самосате мы остановимся на несколько дней. Евфимия посмотрит на новый город и отдохнет. И так и будем двигаться в мои края, никуда не торопясь, с остановками, с отдыхом. Ночевать будем в основном в гостиницах, но, если и придется пару раз остановиться вне селения, так мою походную палатку и дождь не промочит, и холод не проберет.
А Евфимия, казалось, и не до конца поверила нянюшке, ведь она так прекрасно себя чувствовала! Вон какой измученной и больной была Фамарь перед родами… Нет, нет, она домой ни за что не вернется, она хочет ехать дальше со своим мужем! В общем, Фотинии так и не удалось убедить их, что для Евфимии будет лучше вернуться в Эдессу – с Аларихом или без него. Аларих, естественно, сказал Фотинии, чтобы она и думать не смела за него решать, а Евфимия даже слышать не хотела о том, чтобы расстаться с мужем на время беременности. И тогда Фотиния тоже стала собираться в дорогу.
– Я не могу отпустить непраздную Евфимию одну в такую даль. Если с нею или с будущим чадом что случится, меня совесть замучает.
Фамарь и Нонна с нею согласились и безропотно отпустили ее. Абсамия даже подарил ей свою маленькую, на одного человека, палатку. Один лишь Аларих был откровенно недоволен снова навязавшейся им Фотинией, но зато так же откровенно радовался беременности жены.
Из Харрана выехали уже только вчетвером: Аларих, Евфимия, Фотиния и Авен. Они двинулись на восток от города, а затем повернули на север, по дороге пересекая мелкие и крупные реки, спешащие на запад, к Евфрату. Ехать было совсем не трудно, дорога была неплохая, оставшаяся еще с древних времен, когда здесь находилось богатое государство Коммагена; но и после его захвата Римом дороги поддерживались в хорошем состоянии ради войны и торговли. По первому же слову Евфимии путники делали остановку, отдыхали где-нибудь в тени или на солнышке, смотря по погоде и времени дня, и продолжали путь лишь тогда, когда молодая женщина изъявляла к этому готовность. К ночи подыскивали себе ночлег в гостиницах. Воину, везущему домой молодую жену из Эдессы, везде уступали лучшую комнату. Ну и слуги тоже как-то устраивались.
Молодые обычно ехали впереди и ворковали. О чем? Да о том, о чем воркуют все молодожены: о том, как им хорошо сейчас и как они еще счастливее будут жить дальше; о том, кто у них родится, сын или дочь; о том, как заживут они, когда вернутся из Фригии с богатством и начнут в Эдессе самостоятельную жизнь. Сначала Аларих предлагал построить отдельный дом – на месте садового домика, но, когда Евфимия напомнила ему, что ее мать все равно скоро уйдет в монастырь, как уже давно задумала, согласился с тем, что и старый дом Софии вовсе не так уж стар и они вполне могут жить и в нем еще долгие и долгие годы.
Старики, нянька и раб, ехали сзади молча, им почти не о чем было разговаривать друг с другом. Фотиния, от природы говорливая, то и дело пыталась завязать с Авеном беседу; поначалу он либо отвечал вежливо и односложно, либо вовсе молчал, делая вид, что не слышит, но постепенно начал оттаивать и разговаривать с нею. Вернее, что-нибудь рассказывать о сражениях, в которых он участвовал вместе с хозяином, о странах, в которых вместе с ним побывал. Только разговоров о Фригии он почему-то не любил и всячески избегал их.
Она спросила его:
– Скажи хотя бы, Авен, а долго нам еще до вашей Фригии ехать?
– Вообще-то, от Эдессы до Фригии обычно у нас уходило не больше двух недель пути верхом. Но если мы будет ехать, как едем теперь, то проездим не меньше месяца.
– А как вы ездили раньше?
– Да прямо через плоскогорье. Но это дорога для воинов. Какой путь наметил теперь хозяин, мне неведомо. Правильнее было бы из Харрана ехать снова через Эдессу, а сейчас мы почему-то объезжаем ее с востока.
– Так нам не надо было ехать в Самосату?
– По мне, так нет, но решает хозяин, ему виднее…
Фотиния сразу сообразила, что Аларих попросту не хочет заезжать в Эдессу, и это ей, конечно, совсем не понравилось. Но ее больше заботило состояние Евфимии: пока девочка довольно легко переносила беременность, но, кто знает, что будет впереди? Она предупредила Евфимию, что, с того момента как ребеночек начнет толкаться в ее чреве, она уже не должна будет подпускать к себе мужа.
– Бабьи сказки! – отмахнулся Аларих, когда Евфимия поведала ему о предупреждении няни. – Я буду с тобой осторожен, только и всего, Зяблик. Есть много способов любви, не причиняющих вреда младенцу. Но до чего же мне надоела твоя нянька с ее причудами!
* * *
– Аларих, расскажи мне про Самосату! – попросила Евфимия.
– Зачем тебе? – удивился Аларих. – Мы же совсем скоро туда приедем, думаю, что уже сегодня под вечер. Переночуем в гостинице, а утром все сама и увидишь.
– Город я увижу, но кто мне расскажет про него, если не ты? Хочется знать историю тех мест, что мы проезжаем.
– Зачем красивой женщине знать историю? Ей должны быть гораздо интереснее истории про любовь, но ни одной любовной истории, связанной с Коммагеной[63] или Самосатой, я не знаю. Да и зачем нам сейчас чужие истории любви, когда наша еще только начинается? Я прав, Зяблик? – и он, подъехав ближе, приобнял и поцеловал жену. – Я только знаю, что возле Самосаты есть знаменитая могила царя Антиоха[64], которую называют восьмым чудом света. Но об этом надо спрашивать Авена, ведь он сам антиохиец.
На ближайшем привале Евфимия так и сделала.
– Аларих говорит, что ты антиохиец; можешь ты нам рассказать о знаменитой могиле царя Антиоха?
Авен вопросительно поглядел на хозяина: «Можешь отвечать!» – одними глазами разрешил ему Аларих.
– Госпожа моя, сам я действительно родом из Антиохии, но город этот находится далеко-далеко на юге, на реке Оронт. Про могилу царя Антиоха я тоже слышал, но видеть никогда не приходилось, в этих краях я еще не бывал.
– Я тоже, – сказал Аларих. – Но бывалые люди видали. Говорят, чудо невиданное: огромные языческие боги сидят на горе.
– Настоящие демоны? – испуганно спросила Евфимия.
– Каменные.
– Надо будет взглянуть, раз уж мы сюда попали, – сказал Аларих. – В городе узнаем, как до них добраться.
* * *
Зато антиохиец Авен знал историю Коммагены, и к тому времени, когда за очередным холмом показались белые стены Самосаты, Фотиния уже услышала от него, что Самосата была столицей не очень большого, но богатого государства, которое, как Петра или Пальмира, выросло и разбогатело из-за того, что находилось на торговом пути из Римской империи в Азию. Основателем государства считается царь Митридат I Калинник. При нем Коммагена стала местом, где после долгого пути отдыхали караваны из Персии, Сирии и Греции. Здесь поселились купцы и перекупщики. Коммагена росла и богатела, и уже ее торговцы снаряжали свои караваны во все города и страны мира. Но особого расцвета Коммагена достигла при сыне Митридата Антиохе, считавшем себя прямым потомком Александра Македонского. Рим несколько раз пытался присоединить Коммагену к Империи, и наконец ему это удалось – примерно три века назад. Но и после того, как маленькое государство стало провинцией огромной Империи, ни богатство, ни слава его не уменьшились. И пока здесь проходят торговые пути с Востока на Запад, так и будет продолжаться, кто бы ни правил городом и провинцией.
* * *
Они остановились в небольшой, но чистенькой и уютной гостинице, которую содержал симпатичный толстый грек. Оплату хозяин спросил довольно высокую, но зато Алариху и Евфимии опять выделили лучшую из имевшихся комнат. Хозяин приказал слугам развести огонь в очаге, и потому в обеденном зале вскоре стало даже жарко. Мужчинам служанка принесла подогретое вино, а женщинам – травяной отвар, который должен был не только согреть их, но и предохранить от простуды.
В ожидании ужина Аларих послал Авена в свою комнату и велел принести карту, ту самую, вышитую, свадебный подарок Товия. Готф отставил свою кружку на край очага, разложил карту на столе и позвал гостинника.
– Я, конечно, хорошо знаю путь на северо-запад, во Фригию, – сказал Аларих. – Если бы я шел один, то двинул бы через плоскогорье. Я думал идти на север до озера Туз, там начинается Фригия. Но с двумя женщинами лучше идти по хорошим дорогам.
– Через плоскогорье к самому озеру Туз на границе с Фригией есть дорога, ты прав, воин, – отозвался грек. – Но сейчас идти через нее в любом случае рано, перевалы до лета непроходимы, в горах еще лежит снег. Тебе надо идти Южным торговым путем, который ведет из Эдессы в Антиохию-на-Сарусе[65], а к нему отсюда легче всего добраться водным путем.
– Не хотелось бы мне спускаться вниз по воде, у нас две лошади и два мула. За коней я спокоен, они у нас давно и приучены ничего не бояться; а вот привычны ли к воде наши мулы? Мы их только что купили. Может быть, есть сухопутная дорога?
– Как не быть! – и мужчины снова склонились над картой.
Евфимия и Фотиния не вмешивались в разговор Алариха с хозяином гостиницы, но карту рассматривали с большим интересом. Особенно Фотиния. Улучив момент, когда мужчины, выяснив нужный путь, отошли от стола к очагу и стали пить вино, продолжая разговор, она наклонилась к самой карте, поводя носом то направо, то налево.
– Ты умеешь читать карту, нянюшка? – с легкой насмешкой спросил ее Аларих.
– По крайней мере, я отлично разбираюсь в вышивке, а тут такая замечательная работа!
– О да! Молодой купец Товий сделал мне богатый и нужный подарок. Как будто знал, что нам с Евфимией предстоит далекий путь и что больше всего нам пригодится в пути хорошая карта.
Аларих аккуратно свернул подарок и вложил его в непромокаемый футляр; служанки уже несли подносы с кушаньями и новым кувшином подогретого вина.
* * *
Они прекрасно поужинали и пораньше отправились спать.
Наутро, подавая им завтрак, хозяин, узнав, что Аларих хотел бы по пути увидеть знаменитую могилу Антиоха, предложил нанять проводника, своего племянника, за небольшую, как он сказал, плату.
– Мало кто, проезжая через наш город впервые, не желает взойти на гору Немрут[66], – сказал он.
– Мы можем подняться туда верхом? – спросил Аларих. – Наши лошади и мулы отдохнули за ночь.
– Без сомнения и очень легко! Дорога туда проложена великолепная: царь Антиох позаботился, чтобы к его усыпальнице было легко добраться. Иначе жители города не могли бы исполнять его приказ: дважды в месяц каждый горожанин должен был являться к его усыпальнице на поклонение. Конечно, царский каприз уже давно никем, кроме любопытствующих путешественников, не исполняется. Вы можете взять с собой и ваших женщин, а если они и устанут за эту долгую прогулку, то ничто не мешает вам задержаться еще на день, я буду только рад. Но советую тепло одеться: вам придется поднять высоко в горы, а там еще холодно и кое-где в тени еще лежит снег. У вас есть с собой теплые плащи?
– Да, конечно, теплые плащи у нас есть, ведь мы должны будем пройти часть пути по горным дорогам, чтобы добраться до Фригии, а в горах холодно.
Они отправились впятером: Аларих с женой, Фотиния, Авен и молоденький проводник Василий.
* * *
Путь к горе Немрут был удобным и пологим, но все же занял у путешественников несколько часов. Дорога в основном проходила через дубовый и каштановый лес. Дошли до бурной горной речки Нимфей и, перейдя ее по каменному мосту, оказались перед Арсамеей, летней резиденцией царя Антиоха. О былом ее великолепии можно было только догадываться по заросшим кустарником руинам. Разве что на краю дороги сохранился огромный барельеф – изображение царя Антиоха, пожимающего руку не кому-нибудь, а самому Гераклу, как поведал путникам Василий; причем фигура царя была на голову выше Геракла. Посмеявшись горделивому самомнению Антиоха, Аларих велел всем остаться на дороге, а сам быстрым шагом, порой перепрыгивая с одного рухнувшего каменного блока на другой, пробежался по руинам.
– Ничего особо приметного я там не заметил, – сказал он, вернувшись. – Кроме довольно глубокого туннеля, ведущего вглубь горы. Куда он выводит, Василий?
– Никуда. Туннель кончается пустым залом, в котором прежде было святилище.
– Там что-нибудь интересное сохранилось?
– Я не заметил. Хотя мы с мальчишками не раз туда лазили.
– Ну, так мы туда не полезем. А сейчас нам пора бы и лошадей напоить-накормить, да и самим отдохнуть.
– А наверх, к усыпальнице Антиоха мы что, не пойдем? – спросила Евфимия.
– Обязательно поднимемся, – сказал Аларих. – Но вот Василий утверждает, что туда надо приходить на закате или на рассвете. На рассвете мы уже двинемся в Антиохию, а вот перед закатом почему бы и не взойти на вершину? Только отдохнем перед тем как следует, ведь нам надо тебя беречь.
– Да, нам надо меня беречь! – лукаво улыбнулась Евфимия. – Только, пожалуйста, не слишком!
– Боюсь, слишком беречь тебя у меня не получится, – шепнул ей Аларих на ушко.
Для привала выбрали поляну на берегу между скал, там, где в Нимфей водопадом стремился текущий с горы ручей: трава здесь была сочная и высокая, а берег не так крут, как в других местах, и с него можно было легко спуститься по тропе и свести лошадей. Аларих с Авеном сняли с животных поклажу, расседлали их и повели вниз к водопою, Василий увязался за ними. Фотиния расстелила в тени ковер, бросила на него подушки и велела Евфимии отдыхать, пока она расставит на расстеленной скатерти еду и питье в ожидании мужчин. Евфимия прилегла и сразу же сладко уснула. Фотиния поглядела на нее и покачала головой. Но потом и сама прилегла рядом и задремала.
Когда Аларих и Авен вернулись, выкупавшиеся сами и искупавшие лошадей и мулов, они не стали будить женщин, привязали животных на длинные веревки, чтоб те не свалились ненароком с берега, а сами принялись ставить палатки под деревьями: большую для молодоженов в середине и две маленькие, для Авена и Фотинии, по краям. Как ни тихо они переговаривались, но все же разбудили чутко спавшую Евфимию, а та, пробудившись сама, разбудила и Фотинию.
– Нянюшка, давай и мы спустимся к воде и умоемся!
– Пойдем, дитятко, пойдем, милое! – зевая, сказала Фотиния, поднялась и бойко засеменила по тропе вниз на берег Нимфея.
* * *
Вершина усыпальницы царя Антиоха, довлеющая над местностью, все время была хорошо видна, но, тем не менее, подниматься от Арсамеи пришлось довольно долго. Выход к роскошному погребению царя, почитавшего себя прямым потомком Александра Македонского и живым богом, оказался неожиданным для всех, кроме проводника: дорога сделала поворот – и перед путниками открылось поистине титаническое сооружение. Коническая насыпь, под которой находилась сама усыпальница, была окружена каменными террасами: верхняя была уставлена гигантскими, в несколько человеческих ростов, статуями языческих богов, сидящих на каменных тронах, причем среди них сидел на таком же троне и сам Антиох. Тела богов и царя были сложены из каменных блоков, а головы высечены из цельных глыб. Ряд восседавших богов – Антиох был изображен среди них как равный среди равных – заканчивался с обеих сторон статуями львов и орлов, символизирующими силу и власть. А чтоб ни у кого из созерцающих статуи не осталось сомнений, с тыльной стороны их подножия была высечена надпись: «Я, Антиох, возвел это святилище, чтобы прославить себя и своих богов».
Нижняя терраса, с которой вели наверх, к статуям, две довольно крутые каменные лестницы, служила местом для поклонников, и посреди нее возвышался алтарь для жертвоприношений. Судя по тому, что ветры и каменная пыль уже успели стереть копоть с колонн, обрамляющих жертвенник, им очень давно никто не пользовался по назначению. С двух сторон нижнюю террасу окружали стелы с надписями, а между двух лестниц были расположены гигантские плиты с барельефами, изображавшими богов и героев, и среди них еще одно изображение царя Антиоха, на сей раз братски пожимавшего руку на этот раз уже самому Зевсу.
– А где же лежит сам Антиох? – спросил Аларих Василия.
– В золотом саркофаге, стоящем в мраморной усыпальнице. Но усыпальница находится под этим курганом, а вход в него скрыт и никому не известен. Много раз искатели сокровищ пытались до него добраться, но ни один не добился успеха.
Василий показал им удивительную статую льва, на поверхности которой были нанесены таинственные знаки.
– Этот лев – гороскоп. Говорят, это предсказание, касающееся будущего всего мира. Но что точно означают высеченные на нем знаки, не знает никто.
– Будущее мира известно только одному Богу, – строго сказала Фотиния, кутаясь в свой ужасный плащ.
– Конечно, матушка, конечно, – поспешил согласиться с нею Василий.
Евфимия поежилась, глядя на циклопический каменный алтарь.
– Мой Зяблик озяб? – подойдя сзади и обняв ее за плечи, пошутил Аларих.
– Нет. Мне холодно от мысли, что вот мы видим перед собой эти страшные и дивные древние творения, а никого из их создателей и самого царя Антиоха уже столько веков нет в живых. Так и мы уйдем, и вспомнят ли о нас люди, которые будут жить через век или полтора? Узнают ли они, как мы жили, какому Богу молились, как любили?
– Ты еще спроси, вспомнят ли о нас через тысячу или полторы лет! – засмеялся Аларих. – Ах, ты мой глупый маленький философ! – и он крепче прижал к ее себе.
– Гордости в тебе не меньше, чем у Антиоха, Евфимия! – проворчала Фотиния. – Кто нас вспомнит через сотню лет после того, как мы уйдем? В нашу честь никто не станет вырубать статуй и сочинять сказаний или песен. Да и не надо! Нам бы тихо и честно прожить отпущенное время да перейти в Вечность с церковным напутствием и успев принести покаяние в грехах.
Фотинии Аларих даже отвечать не стал, только усмехнулся: еще один философ нашелся!
Наглядевшись на богов и зверей на фоне кроваво полыхающего заката и заверив друг друга и проводника Василия, что никогда в жизни не забудут этого величественного зрелища, путешественники поспешили в обратный путь, чтобы успеть к своей стоянке до наступления полной темноты. На поляне внизу Аларих расплатился с Василием, еще раз поблагодарив его; юноша вскочил на своего ослика, и вскоре цокот копыт затих в темноте. Все разошлись по своим палаткам и сразу же крепко уснули.
* * *
Аларих проснулся, когда солнце еще и не думало всходить, только небо посветлело да густой туман, поднимавшийся от воды снизу, начал наползать на поляну, где стояли палатки путешественников. Лошади и мулы всю ночь вели себя спокойно, никакое зверье их не потревожило, и сейчас они еще продолжали дремать, только конь Алариха слегка всхрапнул, приветствуя хозяина. Аларих отвязал его от дерева и перевел на новое место, где травы было больше.
Вдруг он услышал позади легкие шаги и с улыбкой оглянулся, но это была не Евфимия, а старая нянька, зябко кутающаяся в свой красный плащ.
– Ты чего не спишь, Фотиния? Палатка неудобная?
– Палатка как палатка. Мысли у меня неудобные. Хочу с тобой поговорить, господин Аларих. А пойдем-ка прогуляемся по тропочке!
– Ну пошли, красавица моя, погуляем с тобой вдвоем, пока никто не видит! – пошутил Аларих.
Фотиния шутку не поддержала, а пошла по тропе быстрыми шажками, и Алариху ничего другого не оставалось, как послушно следовать за нею. Тропа повела наверх, и Фотиния довольно резво потопала по ней, изредка оглядываясь на молодого мужчину.
Наконец, когда они прошли по тропе примерно три стадия[67], Фотиния, увидев поблизости несколько больших камней, сказала:
– Давай мы вот здесь сядем и поговорим, Аларих, чтобы не разбудить Евфимию и Авена. Пусть поспят спокойно, пока есть время.
Она выбрала себе камень и села. Аларих уселся напротив.
– Можно было и не уходить от палаток: река так шумит, что и в десяти шагах ничего не разобрать. Что ты хотела мне сказать, Фотиния?
– А ты не догадываешься?
– Догадаться нетрудно. Ты уже передумала и хочешь либо вернуться в Харран или Эдессу, либо отправиться в свой Карфаген. Я угадал?
– Об этом я думала перед тем, как узнала о беременности Евфимии. А с тех пор как я это знаю, мысли мои только о ней, о нашей девочке.
– Понимаю. И что же тебя волнует, добрая нянюшка?
– Меня волнует твое лукавство, Аларих.
– Да в чем же я слукавил, уважаемая Фотиния?
– Точно еще не знаю, но подозреваю, что во многом. Вот скажи, к примеру, зачем ты повел нас к могиле Антиоха? Я думала, что ты решил совершить паломничество к месту упокоения какого-то неизвестного мне святого по имени Антиох. Но, увидев изображения языческих богов и демонов, я поняла, что вовсе не благочестие заставило тебя тащить в такую даль беременную жену.
– В тебе говорит невежество, заботливая ты моя и подозрительная Фотиния, – снисходительно молвил Аларих. – По всему свету идет молва о гробнице Антиоха как о восьмом чуде света, вот мне и захотелось увидеть его самому и показать жене.
– Но для этого вовсе не надо было обходить Эдессу с востока! Когда я увидела карту, то поняла, что мы сделали крюк, вместо того чтобы из Харрана вернуться в Эдессу, а оттуда уже идти к горе Немрут, если уж тебя так влекло сюда праздное любопытство.
– Так ты все-таки умеешь читать карты? – удивился Аларих.
– Ты забыл, что я почти всю жизнь провела в доме купца, совершавшего длительные торговые походы? Когда мой хозяин, упокой Господи его светлую душу, находился в странствии, мы часто всем семейством следили его путь по карте. Так почему же ты, раз уж решил идти из Харрана к Немруту, не захотел зайти в Эдессу?
– А ты не догадываешься?
– Нет.
– Я просто боялся, что, узнав о беременности дочери, София не отпустит ее со мной во Фригию.
– Она бы постаралась так и сделать. Но ты так же хорошо знаешь, что Софии пришлось бы подчиниться твоему решению, ведь она передала тебе власть над дочерью.
– Я не хотел доставить лишние переживания моей теще и тем испортить хорошие с ней отношения, которые только-только стали налаживаться.
– Не лги, Аларих! Ты боялся вовсе не этого!
– Боялся? Чего же?
– Ты боялся, что София, узнав о беременности Евфимии, сделает то же самое, что сделала Нонна для невестки: отправится в путь вместе с дочерью.
Аларих громко расхохотался: по его лицу Фотиния видела, что он что-то представил себе и картина эта его рассмешила. Но сама она только еще больше нахохлилась, кутаясь в плащ.
– А ведь ты очень не хотел, Аларих, чтобы и я отправилась с вами во Фригию.
– Да, не хотел.
– Почему?
– Потому что ты и в Эдессе постоянно мешала нам с Евфимией до самого венчания.
– Ты и сейчас не хочешь, чтобы я продолжала с вами путь?
– Да, не хочу. Я даже готов отпустить с тобой Авена для охраны, если ты согласишься вернуться в Эдессу или в Харран.
– Ах вот для чего ты написал ему отпускную грамоту еще в Харране!
– Да, написал. И если ты согласишься оставить нас с Евфимией в покое и отправиться с Авеном в Харран, я сейчас же выдам ему эту грамоту и еще дам вам обоим денег на дорогу и на будущее.
– А ведь ты жадный и хитрый, Аларих, и вероломный, как все варвары с севера, и просто так ты ничего не делаешь. И поэтому не надо мне от тебя ни денег, ни даже свободы для Авена, хоть мы и подружились с ним и я желаю ему добра. Но долг прежде всего! И что бы ты там ни задумал своим хитрым умом и не затаил в своей варварской душе, я не оставлю мою девочку на твой произвол без всякой защиты! – с этими словами Фотиния поднялась со своего камня и быстрыми шагами направилась в обратную сторону, к палаткам.
– Стой! – с трудом сдерживая крик, произнес Аларих. – От меня ты не уйдешь и навредить мне не сможешь!
– Посмотрим!
Но Аларих несколькими длинными прыжками нагнал ее и развернул к себе.
– Что это ты задумала, негодная старуха?
– Рассказать о своих подозрениях Евфимии и уговорить ее вернуться в Эдессу, под защиту матери.
– И какие же у тебя подозрения, Фотиния?
– Я думаю, что София была права, когда заподозрила, что у тебя во Фригии уже есть жена и, возможно, даже дети.
– Догадалась, старая ведьма! Но ты ничего не скажешь ни Евфимии, ни Софии. Я заставлю тебя молчать!
– Это каким же образом? – негодующе спросила Фотиния.
– Да самым простым – как заставлял молчать вражеских лазутчиков после того, как узнал от них все что хотел.
С этими словами Аларих одной рукой обхватил старую женщину вместе с ее плащом и прижал к себе, а другой скомкал край ее покрывала и, как только Фотиния открыла рот, чтобы закричать, сунул в него кляп. Подняв ее на руки, он побежал на самый край тропы, где начинался почти отвесный скалистый обрыв, поднял легкое тело над головой и с размаху бросил его прямо в туман, почти до самой тропы поднимавшийся над потоком. Он услышал сначала стук катящихся камней и треск ломающихся кустов, а затем громкий всплеск… А дальше, сколько он ни прислушивался, снизу раздавался лишь шум реки. Он перевел дух и сказал негромко:
– Я же предупреждал, что от меня ты не уйдешь…
Аларих медленными шагами прошел по краю обрыва вниз по течению, внимательно глядя в воду, изредка мелькавшую сквозь клочья тумана. Его ожидания подтвердились: вскоре он углядел среди белых пенистых струй, стремительно несущихся с гор, красное пятно нянюшкиного плаща: ее тело несло по самой стремнине. «Меньше чем через час она достигнет Евфрата и в его волнах сгинет уже навеки! – подумал он. – Но успокаиваться рано».
* * *
Аларих и не успокаивался. Он разбудил Авена и сказал ему:
– Друг мой Авен, ты всегда был мне не только послушным рабом, но и преданным другом. Сколько раз ты в сражениях прикрывал меня с мечом в руках! Я давно подумывал о том, чтобы дать тебе свободу, и, пожалуй, час для этого настал. Да и место удобное – перекресток торговых путей. Отсюда ты скоро доберешься до своей Антиохии.
Он передал ошалевшему от радости Авену отпускную грамоту и мешочек с золотыми монетами.
– Коня я тоже дарю тебе. Лишняя верховая лошадь нам с женщинами ни к чему. Да нам, собственно, и мул тоже не нужен: нянька поедет дальше на лошади своей госпожи, а мы с Евфимией будем продолжать путь вдвоем на моем коне. Так что забирай и мула Фотинии тоже! Мне меньше забот, а ты продашь его по дороге или оставишь для своего будущего хозяйства.
Авен не помнил себя от счастья, он даже заикаться начал.
– А можно мне п-проститься с н-нею и поб-благодарить за т-та-акой подарок?
– За мула можешь поблагодарить меня, он ведь на мои деньги куплен, а старушку будить незачем. Она огорчится и тоже начнет проситься на свободу, но она еще нужна своей госпоже. Пусть они обе спят спокойно, а ты немедленно отправляйся в путь. Ступай себе с Богом: долгое прощание удлиняет дорогу.
Авен подумал, что хозяин прав. А более всего он тревожился, как бы тот не передумал, поэтому он собрался очень быстро: свернул палатку и навьючил ее на мула, на него же набросил свою суму, только грамоту и деньги оставил при себе, простился с хозяином, сел на коня и исчез за ближайшим поворотом тропы.
* * *
Аларих хотел разбудить Евфимию поцелуем, потом решил одними поцелуями не ограничиваться, скинул одежду и нырнул под покрывало: после всего происшедшего ему требовались разрядка, успокоение и отдых. Поэтому второй раз они оба проснулись, когда солнце уже добралось до палатки и нагрело ее верх. Стало жарко.
– Не пора ли нам вставать, муж мой? – сонно проворковала Евфимия.
– Можем вставать, а можем перетащить палатку в тень и спать дальше.
– Ну что ты! Что скажет моя строгая нянюшка?
– Нянюшка твоя тебе уже ничего не скажет. Пока ты спала и видела сладкие сны, они с Авеном решили вдвоем вернуться в Харран, к малышу Туме.
– Как? Она даже не простилась со мной?
– Она не хотела лишний раз тебя расстраивать, да ведь и разлука будет недолгой: пройдет несколько месяцев, мы вернемся в Эдессу, а там и свидимся с твоей нянюшкой – до Харрана день пути. А еще мне показалось, что нянюшка понимает, что нам с тобой так хорошо вдвоем, что даже и она будет лишней. И разве она не права?
– Конечно, права! Я уже устала от ее опеки. Пусть лучше нянчит маленького Туму. А твой Авен – он проводит ее и вернется к тебе?
– Нет, не вернется, я освободил его. Он проводит твою няньку до Харрана, а там уже сам решит, куда ему дальше держать путь.
– Какой ты добрый, Аларих!
– Только с теми, кого люблю, Зяблик мой, и кто любит меня. А ты меня любишь?
– Конечно! Ведь ты же мой муж.
– За эти слова тебе положен поцелуй. И ты будешь всегда вот так же любить меня?
– Конечно! Ведь ты же мой муж.
Еще один поцелуй.
– Что бы я ни сделал?
– Конечно! Ведь ты же мой муж.
Поцелуй…
* * *
Посовещавшись, молодожены нагрузили на мула всю поклажу, а сами поехали на коне вдвоем.
– Конечно, я буду скучать без Фотинии, – проговорила Евфимия, – но немного позже! Сейчас я рада, что ее с нами нет.
– Вот и прекрасно, – сказал Аларих. – Значит, я поступил правильно, что отпустил их с Авеном?
– Что бы ты ни сделал, муж мой, я всегда буду считать, что ты поступаешь правильно.
– Запомни эти свои слова, моя дорогая, накрепко запомни! И тогда мы будем счастливы очень-очень долго.
– Всегда-всегда?
– Если постараемся.
– Мне совсем не надо стараться любить тебя, Аларих, у меня это и так получается легко и от всей души!
– И у меня тоже. Значит, все у нас будет очень хорошо.
– Как теперь?
– Да, как теперь. И даже намного лучше.
* * *
По горной дороге они спустились к берегу Евфрата под Самосатой. Берег реки здесь был сплошь застроен складами и пристанями. В Самосате Евфимия хотела посетить гробницу священномученика епископа Евсевия, любимца города, защитника православной веры, погибшего от руки арианки: взбесившаяся женщина с крыши сбросила на епископа тяжелую черепицу и пробила ему голову. Умирая, епископ простил несчастную убийцу и умолил любивших его жителей города не чинить над ней расправы. Евфимии очень хотелось помолиться у мощей епископа Евсевия, но Аларих уже купил для них места на торговом судне, перевозившем товары вверх и вниз по Евфрату. Коня и мула погрузили с другими лошадьми, мулами и ослами в трюм, а их поселили в отдельной маленькой каюте на корме: опять сыграло свою роль волшебное слово «молодожены». Каютка была тесная, всего только ложе у одной стены и небольшой стол с лавкой у другой. Поклажу свалили кучей возле двери. Оставив Евфимию в запертой на всякий случай каюте, Аларих один ненадолго снова сошел на берег, чтобы запастись в дорогу едой, свежими фруктами, водой и вином. Едва он успел вернуться, как судно уже отчалило.
– Я уже начала волноваться, что ты опоздаешь к отплытию! – полушутя-полусерьезно сказала ему Евфимия.
Но Аларих ответил ей серьезно:
– Никогда не волнуйся за меня, мой Зяблик, и даже мысленно не осуждай мои поступки: я все и всегда делаю правильно. Запомнила?
– Мне и запоминать не надо – я всегда это знала!
– Вот и умница.
* * *
Барка довольно быстро скользила вдоль по течению, в борта плескалась вода, поскрипывали весла в руках гребцов да кричали вьющиеся над судном чайки; по деревянному потолку бежали солнечные блики от играющей воды, и не хотелось выходить из каюты… Но через пару часов им все же надоело пребывание в покачивающейся постели, и они вышли на палубу. Аларих расстелил у борта свой плащ, они сели на него и принялись смотреть на проплывающие мимо берега: правый, западный, вдоль которого шло судно, и левый, восточный – отдаленный. Кругом зеленели возделанные поля и росли мощные деревья с густой листвой. Иногда попадались и обширные заболоченные пространства: ближе к лету, когда Евфрат переполнится тающими горными снегами и разольется, их станет еще больше, объяснил Евфимии Аларих, и, хотя наводнения приносят и разрушения, они же несут плодородие всей долине Евфрата, а значит, и богатство живущим здесь земледельцам. Но еще большее богатство приносит жителями торговое судоходство по реке.
Барка и вправду часто приставала к берегу, и тогда с нее выносили на берег товары и вновь нагружали трюм новыми тюками, мешками, коробами и кувшинами. Загорелые грузчики в одних набедренных и головных повязках работали споро, так что команда в погрузке – разгрузке почти не участвовала, разве что покрикивала на грузчиков, – но и те в долгу не оставались.
А ночью в маленькое оконце каюты светили мерцающими звезды, и Евфимии казалось, что они с Аларихом плывут вовсе не на переполненной барке, а вот так, вдвоем, одни в целом мире, на скрипучем шатком ложе, под благосклонным к ним спокойным ночным небом. И даже небольшие волны журчали за бортом нежно и вкрадчиво, словно воркующие голуби…
* * *
На рассвете судно вошло в реку Мигдонию, где в городе Нисибине находился один из крупнейших торговых складов. Город этот греки называли Антиохия-на-Мигдонии. Здесь Аларих и Евфимия высадились и свели на берег коня и мула: дальше их путь лежал все по тому же Южному торговому пути до другой Антиохии – Антиохии-на-Сарусе, или Антиохии в Киликии[68]. Еще на судне Аларих предложил сделать остановку на день-другой в Нисибине:
– Это город складов, сюда доставляют шелка с Востока, ковры из Персии, меха с Севера. Мне рассказывали, что на городском базаре часто сбывают по сходной цене товары, владельцы которых не явились за ними по тем или иным причинам. Я сосчитал мои деньги и понял, что осталось кое-что на подарки, а еще мы с тобой можем купить здесь ковер для нашего дома и какой-нибудь шелк для тебя.
– А почему владельцы не явились за товаром? Они погибли в пути? – спросила Евфимия.
– Возможно.
– Как это грустно… Знаешь, у меня даже сердце защемило.
– Брось, Зяблик, с чего бы это тебе печалиться о чужих и незнакомых людях?
– Мой отец тоже ходил большими торговыми путями, он наверняка бывал и в Нисибине, на родине Мара Апрема…
– Он что, не вернулся из последнего торгового похода?
– Нет, он вернулся, но очень больным и вскоре умер. Мама говорит, он очень радовался, что умирает в своей постели и может получить последнее напутствие от своего духовника.
– А кто у него был духовник?
– Сам Мар Апрем!
– Да, твоему отцу действительно повезло: слава Ефрема Сирина гремит по всему христианскому миру.
– Мама говорит, что отец очень любил Мара Апрема и боялся, что тот скоро умрет, а сам умер первым…
– Что-то мой Зяблик загрустил. А давай мы сделаем так: сначала пойдем в храм на литургию, помолимся за твоего отца и заплатим монахам за вечное его поминание, а уже потом отправимся на базар выбирать ковер и шелка.
Евфимия прижалась к сильному и надежному боку Алариха и прошептала:
– Как ты скажешь, так и сделаем. Я тебя очень люблю.
* * *
Поскольку город разбогател именно потому, что стоял на торговом перекрестке, хорошую гостиницу найти в нем не составляло никакого труда: постоялых дворов в нем было не меньше, чем церквей, а церкви, ну хотя бы часовни, стояли на каждой улице, а на некоторых даже и не по одной. Освежившись и переменив одежду, супруги сразу же отправились в город. Аларих спросил хозяина гостиницы, в каком храме им лучше помолиться.
– Ну конечно же тебе, господин мой, как воину, следует помолиться в храме нашего святителя и чудотворца епископа Иакова Нисибийского!
– Не знаю такого, – сказал Аларих.
– А напрасно! Воину следует знать нашего епископа-чудотворца, ибо он один одержал победу над варварами с юга, осадившими город!
– Могло ли такое быть? – усомнился Аларих.
– Конечно, такого быть не могло, если бы не чудо, ниспосланное по молитвам нашего дивного епископа. Я тоже иду на службу, так пойдемте вместе, а по дороге я расскажу вам об этом чуде.
И на пути к храму хозяин постоялого двора поведал им о Нисибийском чуде:
– Было дело, осадили наш город полчища варваров с юга. И войско их было велико, но самым страшным были сопровождавшие войско боевые слоны – поистине живые тараны и убийцы. Случилось так, что в это время в гостях у епископа Иакова был его друг, эдесский подвижник и учитель Мар Апрем.
При этих словах Евфимия радостно взглянула на Алариха.
– Дивный Мар Апрем умолил святителя Иакова взойти на стены города и поразить варваров стрелами молитвы. Епископ послушался друга и взошел на одну из башен. И тут он призвал помощь от Господа, но не против воинов, как вы могли бы подумать, а против самых крупных животных, – самых мелких мошек и комаров. И вот это-то несметное войско мелких насекомых одержало победу над варварами! Тучи их явились перед неприятелем и забились в хоботы слонов, а также в ноздри лошадей, и стали нещадно их жалить. Животные взбесились и начали топтать варваров, смешали ряды воинов и вынудили их к немедленному бегству.
Аларих и Евфимия были в восторге от рассказа о такой необычной победе.
Они вошли в высокий каменный храм, где еще совсем недавно служил любимец города святой епископ Иаков Нисибийский, совсем недавно, немногим более сорока лет назад, тихо, мирно почивший и погребенный в храме, где он служил. Тут Евфимия вспомнила слова святого епископа из его поучения о смирении: «Смирение всегда прекрасно. Оно освобождает людей от всех мучительных забот», и еще раз решила про себя всегда и во всем быть послушной мужу.
Успокоив печаль по отцу молитвой и поминовением, Евфимия уже весело пошла за Аларихом к прибрежным складам смотреть ковры и шелка. Здесь не было таких нарядных лавок, как в Эдессе, помещения, где распродавались товары, напоминали просто большие склады, но народу в них толпилось немало, торговались на многих языках, а от яркости и пестроты расстеленных прямо на земляном полу ковров и развешенных по стенам шелковых тканей глазам было больно. Но Аларих к выставленным товарам только приглядывался, а разговор завел с пожилым купцом, стоявшим у дверей совсем небольшой лавки; и вот в этой-то лавке они увидели настоящее богатство. Ковров и шелковых покрывал в ней было не так уж много, но зато качество их было отменным. Евфимия забыла обо всем на свете, разглядывая дивные рисунки на коврах. Особенно ей понравился один, не слишком большой, но необычайно красивый ковер, изображающий сотворенных Богом животных[69]. В центре ковер, изображающий море с волнами, был синий с белыми завитками, а в нем плавали яркие рыбы, морские звери и водяные птицы; по краям была выткана зеленая кайма, по которой вереницей шли животные, живущие на суше: тигры и олени, слоны и зайцы, и все примерно одной величины!
– Тебе нравится? – негромко спросил Аларих.
– Да, очень!
– Тогда иди и полюбуйся тканями, а я пока поторгуюсь с хозяином.
Евфимия долго разглядывала льняные персидские покрывала, разворачивая некоторые, чтобы разглядеть рисунок. У стены стояли небольшие серские ширмы, вышитые то цветами, то птицами, то драконами… Ей приглянулось голубое покрывало с деревьями, на которых сидело множество разноцветных птиц. Евфимия подумала, что ковер с животными и покрывало с птицами очень подошли бы для комнаты их будущего сына: она почему-то была уверена, что у них с Аларихом непременно родится сын. Не смогла она пройти и мимо больших серских шарфов, вышитых цветами и бабочками: носить их вместо головного покрывала, конечно, нельзя, слишком тонка работа да шелк скоро выгорит на солнце, и все-таки было бы хорошо дома иногда украсить себя так для любимого мужа… И тут она дошла до конца стены, свернула к другой и замерла в восхищении: во всю длину стены шли в три ряда небольшие картинки, натянутые на деревянные рамки. Она подошла ближе: это были вышивки шелком по шелку. Пейзажи, звери, птицы, цветы и бабочки… Она рассматривала их, любовалась и думала, что такая тонкая работа должна стоить невероятно больших денег, а значит, она не будет просить Алариха купить ей такую прелестную вещицу. Но когда молодая женщина увидела небольшую картинку с одним-единственным цветком и одной только птичкой, она сразу поняла, что очень хочет ее, только ее! И не надо ей ни ковра, ни покрывала, ни шарфа… По серо-зеленому шелковому фону был вышит пышный розовый цветок пиона, в сердцевину которого заглядывал сидевший рядом на темно-зеленом листе… зяблик!
– Эти вышивки из Сереса – настоящая редкость, – услышала она голос хозяина. Они с Аларихом закончили торговаться, и мальчик-слуга уже успел свернуть ковер в трубку и теперь оборачивал его плотной парусиной и зашивал суровой ниткой, чтобы уберечь от дождя.
– Очень красиво! – воскликнула Евфимия. – У нас дома в Эдессе в комнате моей мамы есть серская ширма с вышитыми журавлями. Но таких вот вышитых рисунков я никогда не видела.
– Что неудивительно, – кивнул головой купец. – Это вышивки из серской провинции Сучжоу, находящейся на востоке Империи[70]. Я там побывал. Красивое место. Столица Сучжоу расположена на доброй сотне островков, связанных каналами и протоками, и наши купцы называют ее между собой Серской Аквилеей[71]. Купец, собравший эту коллекцию, погиб: на его караван где-то в Индии напали разбойники. Откуда он сам, из какого города, мне неизвестно, но я ждал три положенных года, чтобы объявились наследники. Они не объявились: видимо, купец забыл сказать родным, что оставил часть товаров у меня, а я не имею понятия, из какого он города, ведь это моя расписка осталась у него, а не наоборот. Я выждал положенный срок и начал продавать его товар. Две трети при этом отходят городу и одна треть причитается мне.
– По-моему, это справедливо, – кивнула Евфимия. – Я знаю, как это хлопотно и трудно – хранить товар и следить, чтобы он не испортился, чтобы его не украли.
– Откуда ты это знаешь, красавица?
– Мой покойный отец тоже был купцом.
– О, вот оно что! Ну в таком случае тебе, моя милая госпожа, я уступлю в цене больше, чем другим. Если, конечно, ты пожелаешь купить рисунок.
– Как скажет муж…
– Естественно и похвально.
– Кто тут меня поминает добрым словом? – спросил, подходя и улыбаясь, Аларих.
– Мы оба. Жена твоя, господин воин, хочет купить серскую вышивку на шелке, но говорит, что решаешь ты.
– Ну и что же выбрал мой Зяблик? – спросил Аларих, обнимая Евфимию.
– Вот это персидское покрывало с птицами! И еще вот эту птичку…
– Ну, покрывало даже очень подойдет к уже купленному ковру, а вот зачем тебе эта картинка, где вышита всего одна пичуга?
– А ты знаешь, Аларих, что это за птичка?
– Откуда же? Это ведь не дичь – в дичи я разбираюсь, а что касается прочих птиц, то могу сову от чайки да орла от вороны отличить, а из малых птах разве что соловья на слух узнаю…
– А это – зяблик!
– Ах вон оно что… Ну что ж, придется купить тебе этого зяблика. А птичка и впрямь на тебя похожа: такая же любопытная и неосторожная. Эдакая кроха, а не боится сунуть носик в такой огромный цветок. А что за цветок, кстати?
– Это пион, – сказала Евфимия.
– Пион, как считают серские вышивальщицы, символ плотской любви и страсти, – сказал купец, солидно поглаживая бороду.
– Нам это подходит, – заявил Аларих, – пусть мальчишка завернет в полотно!
– А может, вы возьмете пару журавлей или аистов? Птичья пара – это символ счастливого и спокойного брака. Или вот бабочки: смотрите, сколько их на одной картинке, и все такие яркие, разноцветные… Это школа Шу, почти такая же древняя, как и школа Сучжоу[72]. Бабочки – символ безмятежной радости и веселья.
– По-моему, и это неплохо! – сказал Аларих.
– А я хочу пион и зяблика… – прошептала Евфимия, едва не плача.
– Ладно, будь по-твоему! – решительно сказал Аларих.
– Я как христианин, конечно же, не то чтоб верю в приметы, – сказал купец, задумчиво продолжая поглаживать бороду, – но на всякий случай должен вас предупредить. Вышивальщицы мне рассказывали, что по законам дао пион можно держать в доме, когда любовь еще молода и цветет: он будто бы означает любовный пыл и страсть. Но с рождением первого ребенка этот цветок становится опасен: примета почему-то меняется и пион означает уже склонность к неверности и коварству. Я это говорю вам как бы в шутку, но, знаете ли… Мы, купцы, как и вы, воины, все-таки склонны придавать приметам кое-какое значение… Дела-то у нас опасные, не ровен час, знаете ли… А уж серсы в них верят все поголовно: их вера им это позволяет.
– Спасибо. Учту. Про серсов с их приметами я мало что знаю, но думаю, что ко времени рождения нашего первенца эта картинка уже надоест моей жене, и мы ее просто кому-нибудь подарим.
– Это будет мудро, – кивнул старый купец.
– И сколько же она стоит? – спросил Аларих, разглядывая вышивку.
Купец назвал сумму, и Аларих с Евфимией переглянулись: маленькая картинка с зябликом стоила столько же, сколько большое персидское покрывало! Глаза Евфимии налились слезами, и она опустила голову.
– Ты получишь и то и другое, – сказал Аларих и тут же, не торгуясь, выложил деньги.
Купец немного подумал и четвертую часть платы вернул Алариху.
– Я, господин, обещал твоей жене уступить как дочери купца.
Тут Евфимия вдруг засмущалась, подошла к Алариху и что-то прошептала ему на ухо. Тот сначала нахмурился, а потом сказал:
– Ну что ж, если ты считаешь, что уже пора готовиться… Уважаемый, у нас скоро будет ребенок, и вот жена моя хотела бы купить у тебя еще шелковой ткани и ниток, чтобы сшить ему крестильную рубашку и пару нарядных одежек.
– Хоть и рановато, но я заранее поздравляю вас с первенцем. Супруга твоя права, господин воин, такие вещи надо готовить заранее. Иди за мной, милая госпожа, я покажу тебе самые тонкие и мягкие ткани и самые яркие шелка для вышивки.
Вскоре из лавки купца вышла сияющая Евфимия, одной рукой прижимая к груди пергаментную трубку, в которую была помещена картина, а в другой неся узелок с покрывалом и будущим приданым ребенку; следом шел Аларих с зашитым в парусину ковром на плече: после дорогих покупок он не захотел тратиться на носильщика и сам понес его в гостиницу.
– Как ты считаешь, Аларих, это ничего, что мы потратили столько денег на красивые вещи, которые нам совсем не понадобятся в дороге? Кроме приданого малышу, конечно: за него я примусь сегодня же! – озабоченно сказала Евфимия: ей хотелось продемонстрировать хозяйственность.
– Кто сказал, что они бесполезны? Это очень хорошо вложенные деньги: вещи эти будут украшать дом не меньше ста лет и больше нигде мы не смогли бы сделать такие прекрасные покупки так дешево. К тому же ковер нам не помешает, если мы будем ночевать в шатре.
– Сейчас уже весна, и с каждым днем становится теплее!
– Но не на горных перевалах, где еще лежит снег! Вот дойдем до моря и повернем на север, а там нам предстоит пройти через такой перевал. К тому же ковер защищает не только от холода, но и от змей, скорпионов и прочей ползающей нечисти.
– Какие страшные вещи ты рассказываешь, Аларих. Ты нарочно меня пугаешь?
– А ты только сейчас догадалась?
Оба засмеялись.
– Горы меня пугают, а вот до моря хочется добраться поскорее.
– Мы там будем совсем скоро, если больше нигде не задержимся. А дальше нам предстоит недельное плавание до Атталеи[73], и ты еще успеешь насмотреться на море.
Глава десятая
Старая нищенка в изодранном плаще держала путь из Самосаты в Эдессу; шла она по самой обочине дороги, опираясь на самодельный посох с заостренным нижним концом и раздвоенным верхним. Мимо нее в обе стороны двигались то всадники, то крестьяне на телегах, то закрытые экипажи, а порой и целые караваны верблюдов. Крестьяне иногда подсаживали старуху и везли ее либо до поворота, где им надо было сворачивать с большой дороги, либо до постоялого двора, где они останавливались на ночлег: нищенка же слезала с телеги, благодарила и продолжала путь.
Она нигде на ночь не останавливалась, потому что очень спешила. Когда сил идти не оставалось, старая женщина сходила с обочины у какого-нибудь дерева или большого камня и засыпала, прислонясь к нему спиной; но стоило ей почувствовать сквозь сон, что она уже способна продолжать путь, она тут же подымалась и ковыляла дальше. По ночам старуха спала совсем мало, потому как ночами холодно было на дороге, а заплатить за ночлег ей было нечем. По утрам, если на дороге попадался поселок или небольшой городок, она обязательно заходила в Божий храм, молилась, просила помощи у Бога, а потом выходила на паперть, протягивала руку и точно с таким же доверием просила помощи у людей. Ей соболезновали и охотно подавали, она сердечно благодарила и, набрав горстку мелких монет, шла дальше. На участливые вопросы она не отвечала, от приглашений отказывалась, но охотно принимала хлеб и любую другую еду.
Фотиния, а это была, конечно, она, очень торопилась, ведь она и так опаздывала: погоню быстро не соберешь, а за это время Аларих далеко увезет попавшую в страшную беду Евфимию. Ох, да ладно про девичью беду – жива бы только осталась голубка!
Когда рассвирепевший Аларих со всего размаха кинул Фотинию с крутого, поросшего кустарником обрыва, она ни на одну секунду не потеряла ни сознания, ни присутствия духа – так уж он ее разгневал! Она и сама потом удивлялась, как сумела быстро сообразить, что́ ей делать. Какое-то мгновение старуха просто летела в густой мокрый туман, потом ее ударило о глинистый обрыв, и тут все будто замедлилось: она катилась по склону, переворачиваясь с боку на бок, но успевала затормозить падение, ухватившись то за жесткий клочок травы, то за ветку дрока, то за складку сухой глины. Не иначе Ангел Хранитель удерживал нянюшку на обрыве, направляя ее где на упругий куст, а где на каменистый уступ; потом ее подбросило в воздух – и она рухнула на что-то колючее и упругое. Фотиния оказалась на крохотной площадке, где росли густые кусты магонии, и тут она сразу поняла: вот оно, спасение! Туман туманом, а спрятаться лучше всего именно здесь!
Старушка забилась в самую гущу кустов, не жалея ни себя, ни одежды. Она очень вовремя сообразила, что яркий цвет плаща выдаст ее сразу, как только туман сползет со склона. А ведь Аларих воин и разведчик, его провести трудно, и тогда она недолго думая сорвала с себя плащ, завернула в него первый попавшийся под руку большой камень и швырнула вниз. Раздался громкий плеск, и тут же она услышала сверху сказанные с глухим облегчением слова Алариха: «Я же говорил, что от меня ты не уйдешь!»
Фотиния замерла. Потом она услышала хруст гравия под его ногами: готф уходил к палаткам. С того часа прошло уже несколько дней, а старая нянька, когда ей отказывали силы, шептала, торжествуя и подбадривая себя: «А вот ушла… А вот ведь ушла же! И как ушла сама, так и тебя догоню!»
Она еще долго сидела тогда в кустах магонии над рокочущей водой, боясь пошевелиться: пока она сидит неподвижно и скрючившись, ее легко принять за белый камень, лежащий в темных кустах, но стоит только двинуться…
Она слышала голоса Алариха и Авена и топот копыт спускающихся вниз по дороге животных. Но Фотиния заставила себя выдержать еще какое-то время – и оказалась права: уже гораздо позже, когда туман совсем растаял и солнце залило ущелье ярким слепящим светом, она услышала звонкий голос и смех Евфимии, а после и голос самого Алариха. Молодые весело переговаривались, потом послышался мерный топот копыт, и, постепенно отдаляясь, голоса их вскоре совсем затихли. Фотиния выждала еще немного и решила, что пришла пора покидать ненадежное убежище. Но вот тут-то выяснилось, что это совсем не просто! Спасший ее уступ находился примерно на середине обрыва, и что вверх, что вниз путь казался одинаково невозможен. Над кустами магонии нависал кусок голой скалы, то же было справа и слева от площадки, а вниз уходила крутая осыпь мелкого щебня. Старушка подумала-подумала и, выбрав самую толстую и прочную на вид ветку магонии, ухватилась за нее обеими руками и попробовала ногами осыпь. Ноги тотчас заскользили вниз, а мелкие осколки камней посыпались из-под них. На какой-то миг движение их остановилось, и тогда Фотиния, не выпуская из рук ветку, осторожно повернулась так, чтобы опираться о щебень спиной: уж если придется лететь вниз, то лучше ободрать спину, чем лицо!
Разжав одну руку, она как можно туже обмотала подол одежды вокруг ног и тогда выпустила вторую руку. Осторожно сделала самый маленький шаг, не вытаскивая ногу из щебенки, а просто чуть сдвинув ее вниз. Потом такой же шаг сделала второй ногой. Тут же под тяжестью тела старой женщины, уже не облегчаемого спасительной веткой, каменная осыпь поехала вниз, и Фотиния заскользила все скорее и скорее… А сверху на нее посыпались и другие камни. «Засыплет же меня тут заживо!» – в ужасе подумала нянька, закрыв глаза и стремительно съезжая вниз. Спиной она опиралась на движущуюся вместе с ней осыпь, и это все-таки как-то замедляло падение. Оказавшись внизу и почувствовав опору под ногами, она ринулась вбок, вырываясь из каменной ловушки. И ей это удалось: старушка оказалась вне основного потока продолжавших съезжать камней и упала среди больших валунов. Кое-как она отползла на четвереньках подальше и легла в изнеможении на крупный гладкий камень, похожий на свернувшуюся клубком большую собаку. Пенный поток был в нескольких шагах от нее. Хорошо бы напиться, подумалось ей, но до воды надо было еще добраться, а перед тем убедиться, что она может ходить. И вообще, проверить, крепко ли ей досталось. Фотиния села, привалившись горящей спиной к камню, и в первую очередь ощупала ноги: кажется, обе были целы, хотя правый бок, бедро и голень сильно ушиблены. Она подняла подол и осмотрела ногу. Ничего утешительного старуха не увидела: нога распухала прямо на глазах, кожа побагровела и натянулась. Опираясь на валун, Фотиния встала и попробовала наступить на ушибленную ногу: нога держала, но при этом боль отдавалась по всей кости. Хорошо, однако, что не переломились кости. Нянюшка ощупала бок и ахнула, наткнувшись на особо болезненное место: «А ведь, поди, ребро треснуло, а то и сломалось!» Ребро ладно, лишь бы нога не подвела, иначе она до Самосаты своим ходом не дойдет.
Кое-как, осторожно ступая на больную ногу и опираясь на большие камни, Фотиния все-таки добралась до воды, сбросила башмаки и ступила в холодную воду. Омыв ноги, она вернулась к башмакам, обтерла ноги подолом и обулась. Одежда ее оказалась испачкана в глине. «Ничего! Глина не грязь: высохнет – сама отпадет». Затем еще раз подошла к воде, но встала на два рядом торчавших камня. Головокружения, слава Богу, не было, а потому она смогла наклониться, умыться и напиться. Причем напилась она впрок, сообразив, что если поднимается на дорогу, то вряд ли сумеет второй раз спуститься к воде. Ничего, до Самосаты недалеко… Вот еще бы палку хорошую найти вместо посоха!
Она огляделась, но ничего подходящего не заметила, хотя вынесенных водой коряг и сучьев кругом достаточно. А вот в воде, и совсем рядом с берегом, Фотиния увидела большую кучу веток, среди которых, похоже, были прямые и толстые. Она подошла к куче ближе и разглядела среди сучьев что-то красное… Да это же ее плащ, принесенный сюда потоком и зацепившийся за ветки! Хотя и недалеко было идти до Самосаты, а погода была теплая, даже уже и жаркая, но просто оставить чудом найденный спасительный плащ ей представилось совершенно невозможным. Подхватив какую-то кривую корягу, нянька вошла в воду и попыталась дотянуться до плаща, но тут же испугалась: а ну как она плащ-то зацепит, потянет его на себя и освободит из завала, а мощные струи воды сорвут его с ненадежной коряги и в один миг унесут дальше по реке. Нет, так рисковать было нельзя. И, решившись, Фотиния, на уже леденеющих ногах, побрела по камням к самому завалу, опираясь на ненадежную корягу. Даже уже коснувшись одной рукой плаща, она не стала торопиться, а сначала покрепче стала ногами между больших камней и уже потом, крепко ухватившись за плащ, изо всех сил потянула его на себя. Треснула какая-то ветка, потом затрещала и ткань, но, рванув плащ на себя, старушка почувствовала, что он освободился и теперь уже только сама река рвет его из рук. Волоча за собой плащ по воде, песку и камням, Фотиния, тяжело дыша, выбралась на берег. Поглядев на оставшиеся в куче ветки, она с сожалением увидела, что там есть и подходящие для посоха, но второй раз в воду не полезла, не отважилась.
Она осмотрела плащ и больших дыр, к счастью, не обнаружила. А мелкие она потом зашьет, попросит у хозяйки гостиницы нитки, иглу и приведет плащ в порядок. До Самосаты и гостиницы она навряд ли доберется раньше заката, а на ночь глядя никто в погоню за Аларихом не тронется. А может, никакой погони в Самосате организовать не удастся, и придется, попросив в долг осла или мула, ехать в Эдессу к хозяйке, а уж София дальше все сама решит и сделает как следует. А пока надо отдохнуть и высушить плащ. Подвывая и постанывая при каждом шаге, старая нянюшка отошла от воды к кустам, расстелила плащ на горячих камнях, а сама, найдя проплешинку песка среди камней, улеглась на ней и уснула.
* * *
Когда Фотиния проснулась, плащ уже почти высох, а вот нога… Она поняла, что лучше ей решиться на еще один подвиг и все-таки добыть себе посох из кучи веток, чем идти всю дорогу, размахивая руками для равновесия и спотыкаясь на каждом шагу. Так она и сделала и выловила из ручья хорошую палку, длиннее собственного роста да еще и раздвоенную на одном конце. Укоротив ветки рогульки, она получила вполне приличный посох с навершием. Найдя более-менее пологое место, старуха похвалила себя за решимость: без посоха она бы и в этом месте на дорогу не поднялась, потому что, как она убедилась, пройдя несколько стадиев, берег впереди становился только круче, а дорога вскоре и вовсе отошла от реки в сторону.
В Самосату Фотиния действительно добрела уже на закате. «Ничего, сейчас я найду нашу гостиницу, там мне помогут…» – утешала она себя, шагая уже на последнем дыхании.
Гостиницу она нашла довольно легко по памяти, а у ворот увидела Василия, заводившего в калитку ослика с какой-то поклажей.
– Василий, сынок, помоги мне! – позвала она.
Юноша оглянулся и узнал ее. Он отправил осла хорошим тычком во двор, закрыл за ним калитку и только потом бросился к ней.
– Тетушка Фотиния, что с тобой? Тебя ограбил и бросил этот разбойник Авен?
– Почему Авен? При чем тут Авен? Меня чуть не убил разбойник Аларих, этот подлый готф! Веди меня скорей в гостиницу, я там все расскажу хозяевам, а ты послушаешь.
– Ох, тетушка Фотиния, не знаю, как тебе и сказать… В общем, нельзя тебе в гостиницу!
– Это еще почему, сынок?
– Да потому, что дядька мой, ну, наш хозяин, увидев тебя, сейчас же позовет воинов, и тебя возьмут под стражу! Ой, что ж делать-то?
– Да ты мне скажи для начала, с чего это твой хозяин вдруг будет сдавать меня страже?
– Да потому что Аларих сказал ему, что вы с Авеном сговорились, обокрали его и твою молодую хозяйку, ночью увели лошадь и мула и скрылись. Тетушка Фотиния, тебе нельзя здесь оставаться, уходи скорей!
– Понятно… Да, я пойду… Пойду отсюда, конечно, раз такое дело.
– Куда вы пойдете?
– К Евфрату. Мне надо попасть в Эдессу.
– Прости меня, что я не могу тебя проводить: я должен сначала загнать осла, а то он наделает бед во дворе, еще и в сад проберется!
Василий скрылся за калиткой, и Фотния услышала, как стукнула опускаемая щеколда. Она развернулась, вздохнула и пошла к реке. Но не успела она дойти до Евфрата, как сзади послышала топот и ее нагнал Василий.
– Тетушка Фотиния, подожди, я провожу тебя! Осел наш вдруг повел себя как ангел и сам зашел в сарай.
Василий взял старушку под руку, и идти ей стало гораздо легче.
– Так расскажи же мне, что там на самом деле случилось между тобою и Аларихом?
– А ты не поверил в то, что он рассказал твоему хозяину?
– Нет, конечно! Про Авена я ничего не знаю, я с ним двух слов не сказал, а с тобою-то мы разговаривали по дороге на Немрут. Не могла ты, тетушка, никого ограбить, не такая ты женщина!
– Ну тогда слушай.
И Фотиния рассказала юноше, что на самом деле случилось на берегу Нимфея.
– Так что кто кого ограбил, Василий, это еще большой вопрос: мои-то все деньги как раз и остались у Алариха, да и мул, купленный на деньги моей хозяйки, тоже. Интересно, что же он выдумал для Евфимии, чтобы объяснить мое исчезновение.
– Думаете, он ей не ту же самую басню рассказал?
– Конечно, нет! Девочка моя меня знает с самого рождения.
– У вас совсем нет с собой никаких денег, тетушка Фотиния?
– Откуда? Они все были в ларце, а утром я вышла из палатки, чтобы поговорить с Аларихом, успев только плащ на себя накинуть.
– У меня есть один бронзовый обол[74]. Мне его дала ваша Евфимия на прощание. Вот, возьмите его!
– Я беру его у тебя, добрый мальчик, потому что у меня нет другого выхода: я должна перебраться через Евфрат и дойти до Эдессы.
Они дошли до пристани, откуда на другую сторону ходил паром. Старший перевозчик стоял у трапа и собирал плату.
– Вы вовремя успели! – сказал он, пряча монету. – Это последний сегодня. Проходите!
– А сколько стоит перевоз? – спросил Василий.
– Половину обола.
– Я не плыву, я только провожаю тетушку. Ты отдашь ей половину обола?
– Конечно! Вот, возьми, тетушка.
Фотиния протянула монетку Василию, но он отстранил ее руку и шепнул:
– Я просто хотел убедиться, что у тебя, тетушка, еще что-то останется на дорогу.
– Не знаю, встретимся ли мы еще, Василий, но твой обол я постараюсь тебе вернуть сразу же, как только окажусь дома. Я пришлю его тебе в гостиницу.
– Не беспокойся, тетушка Фотиния, это же обол Евфимии, а ты мне ничего не должна. Ангела тебе в дорогу!
– И тебя храни Господь, добрый мой мальчик!
Фотния перекрестила юношу и поцеловала его в голову.
На пароме ехали крестьяне, возившие овощи на самосатский рынок, и Фотиния еще в пути сторговалась с ними, чтобы довезли ее на повозке до своего селения на другом берегу и покормили в дороге, и после этого денег у нее не осталось.
* * *
Голод не мучил Фотнию, она привыкла поститься, а вот с водой было хуже. Когда солнце поднялось и стало припекать, ей почти сразу же захотелось пить. Дело было не в том, что по каналам, орошавшим поля, вода текла мутная и наверняка для питья не слишком пригодная: из каналов и скот на пастбищах пил, в них и белье стирали, и купались. Просто у нее не было сил спуститься с дороги, проложенной гораздо выше полей и пастбищ, и добраться до воды. Пришлось терпеть, надеясь, что до следующего селения не слишком далеко. Почему-то ни со стороны Эдессы, ни в ее сторону с утра не было повозок, а то бы она попросила ее подвезти или хотя бы дать напиться.
Но все-таки ей повезло: на обочине дороги старушка еще издали увидела яркий желтый шар. «У кого-то скатилась с повозки дыня или тыква!» – подумала она и ускорила шаг. Но это оказалось не то и не другое, а разбитая дорожная тыквенная бутылка, выкинутая вместе с пересохшим ремешком. Фотиния подобрала ее и осторожно потрясла. Воды в тыкве не было, а трещина шла сверху и доходила почти до половины. «Вот и слава Богу, – подумала нянька, – если бы в бутылке оставалась вода, тыква бы уже загнила!»
Наконец показались первые дома небольшого селения. Старушка увидела женщину, спешившую куда-то с корзинкой зелени.
– Сестра, помоги мне ради Христа Бога нашего! – окликнула ее Фотиния.
– Слушаю тебя, матушка! – сказала женщина, останавливаясь и опуская тяжелую корзину наземь.
– Не подскажешь ли ты, где я могу наполнить свою тыкву водой, не платя за это денег, ибо у меня их нет.
– Да в любом доме, матушка! Пойдем со мной, я живу недалеко и как раз иду домой с рынка.
Свернув с главной улицы в переулок, они оказались перед стеной с воротами и калиткой в них. Калитка оказалась не заперта, что было бы невозможно ни в Эдессе, ни в Самосате.
– Проходи, матушка!
– Я не стану заходить во двор твоего дома, милая, я очень спешу. Ты просто налей мне воды в тыкву.
– Да она же треснула!
– Я знаю. Но трещина не дошла до половины бутылки, так ты налей мне половину.
Фотиния осталась стоять у ворот, а женщина ушла и вскоре возвратилась, неся в руках тыкву с водой, заткнутую теперь деревянной пробкой.
– Возьми, матушка! Бутылка у тебя теперь полная, я ее поменяла на целую.
– Спаси тебя Господь, милая!
– Во славу Господню.
– Матушка, а можно тебя спросить?
– Спрашивай, деточка.
– А почему и как оказалась ты одна на большой дороге, в изорванном плаще, без денег, с одной треснувшей тыквенной бутылкой в руке?
– Да и ту, признаюсь тебе, я подобрала в канаве. А в такой беде я оказалась потому, что злой человек ограбил и обидел меня, дитя мое. Но это как раз пустяки. А страшно то, что он украл мою любимую воспитанницу и теперь я должна дойти до Эдессы, чтобы найти на него управу!
– Матушка, ты же не дойдешь до Эдессы, она отсюда в двух днях пути верхом или в повозке, а ты идешь пешком!
– Я надеюсь, что кто-то пожалеет старуху и подвезет меня. Только почему-то навстречу мне люди попадаются, а вот в сторону Эдессы я ни вчера, ни сегодня никого не встретила.
– А откуда ты идешь?
– Из Самосаты.
– И ты не знаешь, что там вчера был престольный праздник в кафедральном соборе? А где празднество – там и торговля. Погоди, к вечеру народ станет разъезжаться из Самосаты, и тогда в сторону Эдессы поедут крестьяне на пустых повозках, они с радостью тебя возьмут. Может, ты отдохнешь у нас в доме, а вечером продолжишь путь?
– Нет, мне не до отдыха, милая. А ты лучше скажи мне, где у вас церковь?
– Ты шла в ту сторону. Выйди снова на главную улицу, сверни направо, куда и шла, и очень скоро увидишь нашу церковь. Служба там скоро уже начнется.
* * *
Фотиния вошла в маленькую, еще пустую церковь и стала искать глазами икону святых Самона, Гурия и Авива, нашла ее и со слезами горячо помолилась, прося помощи исповедников. Потом в церковь стал собираться народ – простые крестьяне, их жены и дети. Фотиния причастилась с ними, и это были ее первая еда и первое питье в этот день, а потом она поспешила из храма, встала на паперти и протянула руку. Говорить ей ничего не пришлось: вид у нее был такой изможденный и несчастный, что люди без слов все понимали и бросали ей мелкие монетки. А потом из церкви вышел священник, позвал ее в храм, расспросил и выслушал, накормил кашей, напоил козьим молоком и дал с собой в дорогу хлеба и сыра, уговорил ее прилечь в его каморке и поспать, а к вечеру вышел с нею на дорогу и помог найти попутчика, горшечного мастера, возившего в Самосату свой товар и весь его распродавшего. Честной отец сам подрядился с торговцем почти до самой Эдессы, до места, где горшечник должен был свернуть с торной дороги. Сам и заплатил. Денег горшечник со священника взял немного, так что у Фотинии от подаяния остались деньги и на то, чтобы пропитаться в дороге.
Утром следующего дня, проснувшись в повозке, где она спала, зарывшись в сено, Фотиния поняла, что заболела. И нога у нее распухла, и лихорадка ее трясла, и сухой мучительный кашель ее бил и терзал. Усталый горшечник и рад был бы довезти ее до Эдессы, но его дома ждала работа и никак он не хотел еще на день оставить свою мастерскую без хозяйского пригляда. Поэтому единственное, что он мог для нее сделать, это останавливать и просить добрых людей, едущих в нужную сторону, подвезти больную старушку. Добрый человек нашелся и подвез ее до самого города.
В городские ворота они въехали уже перед самым их закрытием на ночь. Везший ее крестьянин, ехавший на рынок с вечера, чтобы завтра начать торговлю с самого раннего утра, сказал ей:
– Матушка, мне все равно предстоит ночь спать на рынке, под собственным возом, так что у меня есть время отвезти тебя, куда скажешь.
– Ты знаешь усыпальницу святых угодников Гурия, Самона и Авива?
– Знаю.
– Вот туда меня и отвези.
– Матушка, да ведь ночь на дворе! Не станешь же ты ночевать у гробницы!
– Именно это я и собираюсь сделать, и ты со мной не спорь.
– Ну, воля твоя, матушка…
И они поехали по спящему ночному городу…
У входа в часовню, которая, как всегда, была открыта, крестьянин снова предложил свою помощь Фотинии:
– Матушка, у тебя родные есть в городе? Если хочешь, я заеду к ним и скажу, где ты находишься, пусть приедут и заберут тебя.
Фотиния призадумалась, а потом ответила:
– Живет моя хозяйка неподалеку, но сейчас этого делать не надо: хочу одна помолиться в тишине, да и зачем людей-то среди ночи тревожить? А вот если будет у тебя завтра время заехать к ней и сказать про меня, так этим ты мне великую милость окажешь, – и она рассказала ему, как найти диакониссу Софию.
* * *
Все оставшееся до рассвета время Фотиния, простершись ниц на мраморном полу часовни, молилась перед ракой святых Самона, Гурия и Авива о спасении обманутой рабы Божией Евфимии, а также о вразумлении раба Божиего Алариха. А иногда, когда больную ногу особенно сильно дергало и жгло огнем, то и о наказании его за зло, причиненное им Софии, Евфимии, ну и грешной рабе Божией Фотинии…
Под утро она услышала быстрые шаги, эхом отдававшиеся под куполом часовни; она подняла голову и увидела спешащую к ней с протянутыми руками Софию; из последних сил она попыталась встать на ноги, ей это почти удалось – и она рухнула к ногам диакониссы, не дав ей подхватить себя:
– Прости, прости меня, Софиюшка, не уберегла я наше дитятко!
И тут же потеряла сознание.
Глава одиннадцатая
Целую неделю Аларих и Евфимия провели в плавании: сначала на маленьком торговом судне от Антиохии-на-Сарусе до Адрианополиса, а потом пересели на большой корабль, намереваясь достичь Атталии[75]. Но на третий день плавания задул ветер, и похоже было, что надует он настоящий шторм. Поэтому когда корабль сделал остановку в Коракесионе[76], Аларих решился прервать путешествие, беспокоясь о жене и ребенке.
Супруги сошли на берег. Евфимия еле переставляла ноги и была так бледна, что Аларих решил на несколько дней остановиться в Коракесионе и дать бедняжке отдохнуть от плавания по морю, перед тем как двигаться дальше. Он нашел небольшой постоялый двор на самом берегу; хозяин предложил им вместо комнаты уединенный маленький домик в саду, и они с радостью согласились: он им напомнил садовый домик в Эдессе. Евфимия сразу же уснула, как уставшее дитя, но спала неспокойно.
– Аларих, Аларих, кто это так тяжело вздыхал всю ночь у нас под окном, будто влюбленный или тяжко больной? – спросила она утром сквозь сон.
– Это были волны, Евфимия. Шторм разыгрался ночью, а теперь постепенно стихает… Поспи еще, отдохни, дорогая моя.
– А почему так шумно и что за дети кричат так громко за стеной?
– Это не дети, милая, это чайки скандалят из-за рыбы, выброшенной на берег. Спи!
Она вздохнула и послушно уснула снова.
Наконец море успокоилось, утро засияло и тучи уползли на север, в горы. Аларих сказал:
– Не хочется ехать догонять непогоду, ведь нам надо двигаться в ту же сторону, куда ушел ветер, – на запад и на север. Давай мы с тобой задержимся тут!
И они остались, договорившись с хозяином, что поживут в маленьком домике неделю или даже две – сколько поживется.
* * *
Коракесион – бывшее пиратское гнездо. Морские разбойники обосновались тут прочно, они даже сумели построить небольшую крепость на холме, а на берегу – порт. Когда победоносные римские войска разгромили пиратов и очистили от них город, римляне на месте разбойничьей крепостенки отстроили мощную высокую твердыню с двойными стенами.
По утрам, когда Евфимия еще нежилась в постели, Аларих, в одной набедренной повязке, отправлялся к морю и плавал, а потом занимался военными упражнениями и совершал длинные пробежки вдоль берега, в сторону от портовых молов и возвышавшейся на горе крепости. Проснувшись, Евфимия не сразу вставала: ее уже мутило по утрам и она должна была начинать каждый день солеными фисташками или маринованными оливками. Вкус и запах любой другой еды вызывал у нее тошноту. Аларих сам следил за тем, чтобы у них в комнате всегда был запас того и другого. Когда Евфимия вставала, они шли гулять уже вдвоем. Супруги встречали и провожали корабли на пристани, осматривали город, гуляли в городском саду, бродили по богатому базару, рассматривая заморские товары, покупая фрукты и сладости.
Однажды, вернувшись после утренней пробежки, Аларих сказал:
– Надо мне научить тебя плавать, Зяблик! Я тут обнаружил тихую и скрытую от глаз бухточку, где песок мелкий и белый, будто сахар. Там же в море впадает ручей, и там ты можешь купаться обнаженной, как царица Клеопатра в своей Жемчужной бухте, и никто – кроме меня, конечно, – там тебя не увидит.
– Разве царица Клеопатра бывала здесь? – удивилась Евфимия.
– Да, она подолгу жила в этом городе. За крепостью среди прибрежных скал притаилась укромная бухта с жемчужным пляжем, где купалась прекрасная царица: там до сих пор сохранился ее маленький дворец, который для нее построил великий Антоний.
– Антоний Великий? – удивилась Евфимия. – Но ведь он же был монахом! Или ты говоришь про цезаря Антония?
– Конечно, про цезаря Антония, а не про того Антония Великого, которого так почитают христиане! – засмеялся Аларих.
– Но ведь и ты христианин!
– Да, я христианин. Но не до такой степени, чтобы при имени «Антоний» вспоминать сначала святого отца, а уже потом великого цезаря и полководца!
Захватив хлеба, сыра и фруктов, кувшин вина, полотенца и покрывало, чтобы положить на песок, рано утром они отправились в найденную Аларихом бухту. Она и вправду оказалась уединенной и со всех сторон, кроме моря, укрытой скалами. Они купались в одних тонких хитонах, и Аларих и вправду учил Евфимию плавать, хотя у нее это не очень получалось. Но плескаться в теплых прибрежных волнах ей очень нравилось, тем более что рядом был ручей, где можно было смыть с себя морскую соль. В прозрачной тени тамарисков они отдыхали после купания, закусывали, спали…
Иногда они просто сидели у самой воды, глядя в безбрежный морской простор, изредка пересекаемый разноцветными парусами, и разговаривали.
Евфимия часто просила Алариха рассказать ей о Фригии. Выяснилось, что Аларих живет вовсе не в Гордионе, столице Фригии, как почему-то думали Евфимия и ее мать, и даже не в глубине страны, а на самой ее окраине, на границе с Антиохией, в древнем городе Иераполисе[77].
– И море там тоже есть?
– Нет, моря там нет, Зяблик, это горная местность. Но зато там есть гора с террасами, сотворенными Богом из белоснежного травертина[78], по которым с горы стекают целебные горячие источники. Террасы-бассейны, называемые также «травертинами», будто сделаны из снега. Это дивное зрелище, вот увидишь, – снежная зима посреди лета! В Иераполис с давних пор съезжается для лечения и просто укрепления тела знать из многих городов и стран. Сама Клеопатра любила приезжать сюда принимать горячие целебные ванны: считается, что они делают суставы гибкими, а кожу омолаживают[79]. Во все дома богатых горожан Иераполиса от источников проведены трубы и построены частные термы с бассейнами.
– И в твоем тоже?
– Конечно.
– А вода очень горячая, ею нельзя обжечься?
– У нас каждый купается в воде, какая ему больше по нраву: на самой горе бассейны расположены лесенкой: на верхних террасах самые горячие, а чем ниже, тем прохладней. В дома же поступает вода из верхних, самых горячих бассейнов, но по акведуку течет вода с ледников, и она доходит совершенно ледяная, не успевая нагреться на солнце, пока бежит по акведуку, поэтому бассейны можно наполнять водой, какой пожелаешь. Вот увидишь, тебе это понравится!
– А на кухни тоже проведена горячая вода?
– Вот уж не знаю, никогда не интересовался! А почему ты спрашиваешь?
– Ну как же! Ведь на кухне гораздо удобнее управляться, если не нужно сперва нагревать воду в котлах!
– А я об этом как-то не подумал! Какая ты у меня хозяйственная, Евфимия.
– Нет, я мало что умею, Аларих. Это вот Мариам и вправду отличная хозяйка, она готовить и ткать умеет, а я только шью и вышиваю неплохо.
– Это я вижу, – сказал Аларих, покосившись на рукоделие в руках Евфимии. Крестильная рубашечка для малыша была уже готова, даже вышивка наполовину закончена.
– А еще я умею вышивать золотом и шить одеяния для церкви!
– Какое большое достоинство для добродетельной супруги! – улыбнулся Аларих.
– Всегда ты надо мной смеешься… А что еще интересного есть в Иераполисе?
– Есть храм святого апостола Фомы, покровителя нашего города.
– Как и Эдессы! – радостно хлопнула в ладоши Евфимия.
– Да, Зяблик. Это хороший знак, правда?
– Конечно!
– Но есть у нас и древние храмы Аполлона и Плутона, и огромный древний театр, переделанный в ипподром: места для зрителей вырублены прямо в каменном холме и на них может уместиться весь город. А у входа на главную улицу города ты увидишь огромные и роскошные ворота Домициана с тремя пролетами[80].
Он много рассказывал Евфимии о городе, но не хотел говорить о доме, сказал только, что это большое поместье за городом, недалеко от источников. Евфимия сама догадалась, что поместье не бедное, когда на ее вопрос, далеко ли от их дома церковь, Аларих ответил:
– У нас есть собственная часовня, для семьи, слуг и рабов, и находится она в нашем саду.
– А священник?
– Священника, отца Алексия, назначил к нам епископ, но живет он с нами в доме. Это очень удобно для всех.
– Я думаю, ты очень богат, Аларих! – сказала Евфимия.
– Тебя это смущает?
– Нет. Хуже было бы, если бы ты был беден: ведь я все равно полюбила бы тебя… А почему же ты служишь в армии, если ты так богат?
– Потому что я люблю войну и опасность! – угрожающе зарычал Аларих. – А еще больше я люблю брать в плен прекрасных девушек и жениться на них! – и он опрокинул жену на покрывало и накинулся на нее с поцелуями.
* * *
Однажды Аларих оседлал коня и мула Евфимии, и они поехали в крепость. Вход в нее был на самом берегу, но дальше им пришлось довольно долго подниматься вьющейся по холму мощенной известняком дорогой. Аларих оставил коня, мула и Евфимию возле храма святого Георгия Победоносца, стоявшего на самой вершине холма[81], а сам пошел в казармы легионеров – поискать старых знакомых и узнать имперские и военные новости. Знакомых не нашлось, а новостей особых и не было, так что он успел вернуться на службу до конца литургии. Евфимия, увидев его, радостно встрепенулась: она любила быть в храме вместе с мужем, потому что постоянно молилась и о нем, и об укреплении их брака, и о рождении здорового чада.
* * *
Иногда, лежа под пышной розовой сенью цветущего тамариска, Евфимия думала о прекрасной египетской царице Клеопатре, язычнице, что, конечно, плохо, но чем-то интересной, даже близкой. Ведь эта государыня, возможно, проплывала на своем роскошном корабле мимо их бухточки, а в Жемчужной бухте возле Коракесиона наверняка лежала часами на песке, рядом со спящим, утомившимся от любви Антонием – ну точно как они с Аларихом! – и тоже рассеянно грезила, глядя прищуренными от солнца глазами на плывущие куда-то облака… Наверное, все влюбленные пары похожи одна на другую!
* * *
Дни бежали безмятежно и незаметно, похожие один на другой, как жемчужины в ожерелье, но однажды утром Аларих сказал:
– Я думаю, милая, нам пора двигаться в Иераполис, мы уже и так довольно задержались в пути…
– Как жаль, – вздохнула Евфимия. – Мне, конечно, не терпится поскорей увидеть твой дом, познакомиться с твоими родными. Но и отсюда уходить не хочется: нам ведь так хорошо было здесь… И с морем расставаться мне так жаль!
– Мы можем отсюда доплыть на корабле до Атталии.
– О нет! Давай лучше поедем верхом. Благодаря тебе я полюбила плавать в море… Но не на корабле и не в качку!
Аларих засмеялся:
– Хорошо, мы поедем верхом: вдоль моря идет прекрасная торговая дорога и по пути достаточно постоялых дворов – мы в любой момент сможем остановиться.
– И все же мне жаль покидать Коракесион и нашу маленькую бухточку, и даже Жемчужную бухту Клеопатры и вашу грозную крепость с той чудесной церковью святого Георгия наверху! Правда же, нам было здесь хорошо?
– Нам было чудесно, Зяблик! Но ты не огорчайся: если ты всегда будешь меня слушаться, если мы и впредь будем любить друг друга так же горячо, как сейчас, то и впереди нас ожидает еще немало прекрасных дней. А потому давай-ка собираться в дорогу.
– Ты только не забудь про фисташки и оливки для нашего сына!
– Почему ты так уверена, что у нас родится сын?
– Няня мне сказала.
– А, твоя няня… Да, она была довольно прозорлива.
– Почему «была»?
– Да потому что теперь-то ее с нами нет, к моему большому счастью!
Евфимия засмеялась. Она сама себе удивлялась: с самого раннего детства она дня не помнила себя без няни, а вот теперь и не вспоминает о ней…
* * *
Они выехали рано утром и направились по торговому пути, идущему вдоль моря. Ехать было нетрудно, они часто делали остановки, как только Евфимия видела что-то интересное или просто новое. На ночь останавливались на постоялых дворах, а днем либо на берегу какого-нибудь ручья, которых тут достаточно сбегало к морю с северной горной гряды, либо на самом берегу.
Через четыре дня такого неспешного путешествия, поутру на пятый они добрались до Атталии, вернее, до ее порта на реке Кестрос[82], и здесь простились с морем уже насовсем. Можно было подняться в горы и по воде, река была судоходная, но Евфимия так жалобно вздыхала, глядя на жмущиеся к причалам суда, что Аларих пожалел ее и решил двигаться вдоль реки верхом. Теперь путь их лежал на северо-запад, в горы – там была Фригия, родина Алариха.
* * *
В первый день они проехали немного, потому что на пути их лежал Перге, город, в котором начал некогда свою проповедь апостол Павел, и, конечно, Евфимии захотелось в нем остановиться и посетить посвященную апостолу церковь. У Алариха же была своя мечта – сходить в знаменитые бани Перге. Под вечер они увидели окрашенные в розовый цвет последними лучами заходящего солнца высокие стены города и его знаменитые южные Римские ворота. По краям ворот стояли башни округлой формы. За воротами находился небольшой U-образный двор с нишами в стенах, в них стояли статуи языческих богов, императоров и основателей города. Двор переходил в одну из главных улиц, мощеную, украшенную портиками, очень широкую, но с довольно глубокой сточной канавой посередине, что несколько портило общее впечатление… и воздух.
Они остановились в гостинице с конюшней при ней, поужинали и легли спать, а наутро Евфимия в сопровождении любезной жены хозяина и ее служанки отправилась в кафедральный собор. Аларих же, как и собирался, отправился в бани, и первую половину дня каждый провел в соответствии со своими желаниями. Из храма Евфимия вернулась в гостиницу и тоже попросила хозяйку о бане; домашняя баня была натоплена, и наконец-то молодая женщина смогла как следует промыть свои длинные волосы, ставшие жесткими после бесконечных купаний в морской воде.
Наутро они двинулись дальше.
* * *
По дороге, идущей вдоль реки Кестрос, они поднялись в Таврские горы, и дальше до самого вечера их путь так и продолжался по долине Кестроса, с двух сторон зажатой скалистыми кручами, становившимися все выше и выше. Но путники поднимались, не замечая высоты, потому что пологие подъемы чередовались с небольшими спусками, дорога была окружена зеленым лесом, и, до тех пор пока впереди не показалось горное озеро с поросшим камышами берегом, а за ним высокие вершины, покрытые снегом, они не догадывались, как высоко поднялись в горы. На ночлег остановились у самого озера. Аларих поставил палатку и развел костер, и они еще долго сидели, любуясь темной водой, в которой отражались и заснеженные белые вершины, и ясные звезды под ними. Ночью было заметно холодней, чем утром внизу, но они не мерзли.
Утром оба проснулись бодрые и готовые в дорогу, умылись ледяной водой из озера, наскоро позавтракали и тронулись в путь.
* * *
Дорога к Испарте[83], следующему на их пути городу, поражала красотой: дубовые рощи сменялись сосновыми, в зеленых распадках лежали голубые и зеленые озера, по ним плавало и над ними кружилось поражающее воображение количество птиц.
– Сюда с севера птицы прилетают на зимовку, а сейчас они готовятся к возвращению домой, на север, в земли варваров, и собираются в стаи, чтобы лететь через Понт Эвксинский, – пояснил Аларих.
– Как много ты знаешь, муж мой! – сказала Евфимия восхищенно.
– Кое-что мне известно и кроме истории военных походов, – нарочито скромно потупился Аларих. – А вот скоро впереди покажется город Испарта, но о нем ты заранее узнаешь по запаху.
– Неужели там воняет так же, как на главной улице прекрасного белокаменного Перге? – сморщилась Евфимия.
– А вот узнаешь!
К Испарте они подошли под вечер, предупрежденные о ней сначала нежным и слабым, но становившимся все гуще и сильнее запахом роз.
– Мне это кажется или впереди действительно нас поджидает какой-то волшебный розовый сад? – спросила Евфимия.
– Этот город в горах весь полон розовых садов, – ответил Аларих. – Утром ты сможешь ими полюбоваться.
Они нашли постоялый двор, заночевали, а утром и впрямь проехали через город, где один розовый сад переходил в другой, где даже у самого бедного домишки цвел хотя бы один розовый кустик, и все из пышных дамасских роз. На главной улице они увидели множество лавок и лавчонок, где продавались розовое масло, мыло, душистая вода и даже варенье из роз! Конечно, Евфимия не могла уехать из чудесного цветочного города с пустыми руками, и для нее были куплены несколько кусков розового мыла и большой флакон розового масла. «Хватит на всю жизнь и тебе, и твоим дочерям, красавица!» – сказал ей хозяин лавки.
Оставив город позади, они доехали до развилки: здесь одна тропа шла на восток, другая – на запад. Они свернули на запад и к полудню достигли перевала. Было немного холодно, но ясно, и ветер дул несильный, так что перевал Аларих и Евфимия миновали благополучно. Теперь их путь лежал по плоскогорью Писидия, к городу Сагалассосу[84], известному со времен Александра Македонского.
– Александр взял этот город штурмом за один день! – сказал Аларих с такой гордостью, словно сам участвовал в том штурме.
Это был самый крупный город у них на пути, не считая конечной цели – Иераполиса. Так сказал Аларих. Но осмотреть Сагалассос им не удалось. Только-только перед путешественниками раскинулась долина с расположенным посередине белым городом с красными крышами, как в спину им задул резкий холодный ветер. Огромная туча гналась за ними и гнала их к городу, грозя дождем, а может быть, даже снегом или градом, и путникам ничего не оставалось, как пришпорить своих животных, торопясь скорее укрыться под крышей. Они едва-едва успели добраться до первого же постоялого двора, где и остановились. Там и переждали бурю, бушевавшую всю ночь.
Наутро глазам их предстал город, где по всем улицам неслись грязные потоки мутной холодной воды.
– Знаешь, Зяблик, я думаю, нам лучше сразу подняться из этой долины снова в горы, – сказал Аларих, и Евфимия немедля и с охотой с ним согласилась.
– Да, это какой-то несчастливый город, хотя и очень красивый. Но разглядывать его сейчас мне совсем не хочется. Едем дальше!
И они двинулись в путь.
В тот же день супруги миновали огромное озеро с какими-то странными, похожими на кустарник, сосенками по берегам. Аларих объяснил, что озеро очень соленое и потому сосны на его берегах растут с трудом и вырастают лишь до высоты кустарника[85]. И берега, и само озеро буквально кишели разными птицами. Шум и гам стоял неимоверный.
– Птичий город на воде! – сказала Евфимия.
– Если бы мы пришли сюда на рассвете или закате, то могли бы увидеть самых красивых и самых печальных на свете птиц – розовых фламинго. Хочешь, останемся до вечера?
– Нет, милый, давай поторопимся! Дорога начала меня утомлять. На твоих фламинго мы посмотрим в другой раз… Когда будем возвращаться в Эдессу, ладно?
– Как скажешь, Зяблик.
* * *
Вниз, снова вверх… Спуски в долины и снова подъемы в гору… Снежные вершины поодаль, дубовые и сосновые леса, оливковые рощи возле селений, цветущие кустарники на скалах и красные маковые поляны в низинах… Озера, большие и малые, быстрые и шумные реки, мелкие поющие ручьи…
Евфимия начала все чаще уставать, но торопила Алариха, отказываясь от лишних привалов.
– Скорее бы уж добраться до твоего дома! – вздыхала она.
Аларих становился все задумчивее в дороге, а на привалах и во время следующих двух ночевок в придорожных селениях был весел и неутомим в любви.
– Что-то у меня щемит сердце, – сказала ему Евфимия, – уж не случилось ли чего плохого дома?
– Ты просто утомлена, вот и побаливает сердце, – сказал Аларих. – Это бывает от усталости. Ничего, скоро мы будем дома, и все пройдет.
– Скорее бы…
* * *
К небольшому соленому озеру, лежащему высоко в горах, они вышли перед закатом, и тут Евфимия впервые в жизни увидела фламинго. Аларих уже поставил палатку и разложил найденный на берегу плавник для костра, но еще не успел его зажечь, как Евфимия окликнула его:
– Посмотри, любимый, какое странное розовое облако плывет в небе! Все другие облака тоже порозовели, но они стоят на месте, а это движется прямо к нам!
Аларих поднял голову, заслонив глаза от все еще яркого закатного солнца.
– Тебе повезло, Зяблик, это летят фламинго! Давай спрячемся за кустами: может быть, они опустятся поближе к нам, если мы их не вспугнем.
Розовая стая сделала над озером круг, другой, а потом птицы опустились прямо в мелкую заводь, окруженную тростником, и стали что-то выискивать и клевать в воде, медленно переходя с места на место.
– Боже мой, как они прекрасны! У них такая царственная осанка и царское пурпурное оперение, – прошептала Евфимия.
– Ты можешь говорить громко: когда они уже сели и начали кормиться, их мало что может спугнуть. Можно уже и костер развести, теперь они не обратят на него внимание.
– Они ловят рыбок? – спросила Евфимия?
– Нет, в этом озере рыба не ловится, оно слишком соленое.
– Что же они там находят, что едят?
– Не знаю. Ерунду какую-нибудь: водоросли, улиток или рачков…
Аларих разжег костер: пропитанный солью плавник придал огню синий оттенок. Но Евфимия, всегда любившая смотреть на открытый огонь, на этот раз ни с ужином не хлопотала, ни огнем не любовалась – она не отводила восторженных глаз от фламинго. Аларих сходил к пресному ручью, впадавшему неподалеку в соленое озеро, и набрал воды в котелок, чтобы сварить в нем сухие фрукты для вечернего питья к ужину. Они поели хлеба с сыром, запивая его горячим напитком. Оба молчали: Евфимия, поглощенная зрелищем, Аларих – какими-то своими мыслями. Наконец он сказал:
– Евфимия, нам с тобой надо серьезно поговорить.
– Разве мы с тобой не разговариваем все время, любимый? – рассеянно спросила Евфимия. – Как они печальны, эти изумительные царственные птицы. Хотела бы я знать, что делает их такими грустными?
– Большие опущенные книзу носы! – усмехнувшись, немного резко ответил Аларих, бросив взгляд на стаю.
– И вправду! – засмеялась Евфимия. – Носы у них, как у дядюшки Леонтия, большие, крючком и всегда опущенные книзу! Дядюшка любит повторять слова Экклезиаста, что «во многой мудрости много печали», вот и эти птицы выглядят так, будто живут на свете долгие годы и видели много-много грустных вещей…
– Говорят, фламинго и вправду живут дольше других птиц, – сказал Аларих. – Но хватит уже о них, прошу тебя.
– А сколько они живут, Аларих? Дольше, чем попугаи?
– Довольно ребячиться, Евфимия, отвлекись от фламинго! Я хочу с тобой серьезно поговорить.
– Давай о серьезных вещах поговорим позже, а сейчас полюбуемся еще на это диво, пока не зашло солнце!
Аларих даже застонал от раздражения, вскочил на ноги, подхватил с песка камень и, подбежав к кромке воды, со всей силы запустил его в стаю. С громким тревожным криком и хлопаньем больших крыльев фламинго поднялись в воздух. Но не все. В озере, уронив тяжелую голову в воду, остался плавать одинокий фламинго, похожий на тючок розовой одежды. Стая не улетела далеко, а вернулась и стала кружить над ним, окликая с высоты.
– Что ты наделал, Аларих! – закричала отчаянно Евфимия. – Ты убил его!
– Да не убил, не убил. Только подранил! – сердито бросил Аларих. – Смотри, он уже встал на ноги. Успокойся! Пойдем в палатку!
Фламинго и впрямь поднялся на ноги, помогая себе взмахами распахнутых крыльев. Он пробежался по песку, подпрыгнул несколько раз и все-таки поднялся в небо. Стая окружила его и потянулась к другому берегу. Но раненый фламинго, сумев взлететь из последних сил, тут же начал отставать от собратьев; движения его крыльев становились все медленнее и медленнее; ноги он не держал позади и на весу, как делали при полете другие птицы, – они висели вниз, и он перебирал ими, будто бежал по воздуху, помогая себе лететь. Но мучения его продолжались недолго: на середине озера полет подранка прервался и он, кувыркаясь с заломленными крыльями, рухнул в воду и остался на плаву, но уже недвижимый. Стая еще покружилась над ним какое-то время, а потом перелетела озеро и села. На тот берег уже легла тень, солнце наполовину скрылось за горами. И хотя небо оставалось еще светлым, птиц не стало видно, только редкие тревожные вскрики еще доносились до Алариха с Евфимий, а вскоре и они затихли.
Забытый на время костер за это время почти догорел. Аларих оставил возле него плачущую навзрыд жену и прошелся по берегу в поисках топлива. Он принес небольшую охапку плавника, бросил его на песок и сел рядом с Евфимией.
– Ну-ну, успокойся, Зяблик мой! – сказал он, обнимая Евфимию. – Пусть это послужит тебе уроком: ты должна слушаться меня с первого слова, иначе… Ну что делать, я ведь воин, и любое сопротивление рождает во мне гнев. Но если ты будешь всегда сразу меня слушать и слушаться, тебе нечего опасаться. Не сердись на меня! Успокойся!
– Я сейчас… сейчас успокоюсь, – всхлипывала Евфимия, прижимаясь к плечу мужа. – Это все так неожиданно вышло! Прости меня, что я не сразу тебя послушалась.
– Ничего, милая. Зато ты теперь знаешь, каков я в гневе, и не станешь сердить меня непослушанием. Ведь так?
– Так, – кивнула головой Евфимия, все еще не переставая всхлипывать.
– А теперь, дорогая, – сказал он, бросив в костер несколько сучьев плавника и поворошив его, – утри слезы, высморкайся, забудь о фламинго и выслушай меня очень внимательно и очень спокойно.
– Я слушаю тебя, муж мой.
– Так вот первое: я тебе не муж и не буду тебе мужем.
Евфимия вздохнула, показывая, что готова слушать дальше.
– Ты поняла меня?
– Не очень… Я не поняла, чем я тебя так огорчила, любимый? Тем, что загляделась на фламинго, да?
– Да перестань ты вспоминать этих глупых носатых птиц! Смотри на меня! Ты поняла, что я сейчас сказал?
– Ты сказал, что ты не будешь мне мужем… Если я не буду тебе послушна, так?
– Нет, не так. Послушна ты или нет, я все равно тебе не муж и должен тебе наконец в этом признаться.
– Я не понимаю…
– Сейчас ты все поймешь. Во Фригии, в Иераполисе, у меня есть жена и две дочери, и сейчас я возвращаюсь к ним. А ты идешь со мной, но не как жена, а как моя рабыня, захваченная в сражении. Теперь ты все поняла?
Евфимия не поняла ничего, только ее огромные глаза стали еще больше и глядели на него со все растущим недоумением.
– Ты… мне не муж? Как это понять? – наконец, побледнев, прошептала она. – А кто же ты тогда, Аларих?
Она глядела на него с таким ужасом, как будто, скажи он сейчас: «Я демон из преисподней!» – это не изумило бы и не испугало ее больше.
– Я тот самый готф Аларих, офицер римской армии, которого ты полюбила и с которым связала свою судьбу. Но я тебе не муж, потому что у меня в Иераполисе есть законная жена. Она ждет меня из похода. И сейчас я возвращаюсь к ней с подарками, деньгами и молодой рабыней.
Евфимия ахнула и оглянулась, будто ища глазами рабыню, о которой только что было сказано.
– И не оглядывайся по сторонам: эта рабыня – ты, Евфимия. Если ты меня любишь, то прими эту мысль и смирись с нею.
Аларих сел на камень, оперся рукой о колено, опустил на нее крутой подбородок и задумался, глядя на озеро и уже совсем узкую полосу заката над ним. На Евфимию он больше не смотрел. Наступило долгое молчание.
Вдруг он услышал за спиной короткий отчаянный вскрик. Он не оглянулся. «Наконец поняла…» – подумал он, продолжая смотреть на озеро. И тут за спиной его воздух разорвал долгий, почти звериный вопль.
Испуганные птицы на том берегу присоединились к нему резкими тревожными вскриками, захлопали крыльями, в несколько мгновений поднялись в воздух розовым облаком и скрылись за горными вершинами.
Теперь Аларих оглянулся и вскочил на ноги: Евфимия сорвала с себя покрывало, уткнулась в него лицом и теперь рыдала – отчаянно, с вскриками, с громкими всхлипами, с какими-то невнятными жалобами, сотрясаясь всем телом. Аларих подошел к ней, опустился на песок и приобнял ее, чтобы успокоить. Но Евфимия сбросила его руки, повернула к нему искаженное заплаканное лицо и принялась бить его по груди гневно сжатыми кулаками.
– Ты!.. Посмел! Как ты посмел?!. Ты обманул мою мать! Ты обманул меня! Ты всех обманул!
Аларих не отошел от нее и не стал удерживать руки: он решил дать ей выкричаться и излить на него всю ярость. Продолжая лупить его кулаками по груди изо всей силы, что, в общем-то, не причиняло воину ни малейшего вреда, несчастная выкликала:
– Это твоя любовь? Это исполнение твоих клятв и обещаний? Таково было с самого начала твое намерение: меня, твою супругу, сделать пленницею, меня, свободную женщину, христианку, гражданку Эдессы, превратить в рабу? Из-за тебя я оставила свою мать и родину! Тебе я поверила, полюбив тебя великой любовью! Всем твоим словам я поверила, сказанным и наедине, и при всех у алтаря! А ты… ты…
– Ну, хватит уже стучать меня по груди, Евфимия. Все равно не пробьешь! – попробовал неуклюже пошутить Аларих, наконец схватив ее за запястья и легко отводя маленькие руки.
– Я так верила тебе, так любила! – сказала она, полыхая глазами и гневно глядя ему в лицо. – Это моя мать требовала от тебя уверений и клятв, а я тебе просто верила. Но ты воздаешь мне за любовь ненавистью и вместо мужа и друга стал мне врагом и мучителем! Ты завел меня в чужую землю, чтобы погубить!
– Нет, милая, – спокойно и проникновенно сказал Аларих, – ты ошибаешься. Не коварство, а любовь двигали мной. Я увидел тебя и с первого взгляда полюбил всем сердцем. Но я уже давно женат. Причем женили меня совсем юным, на женщине старше меня, из богатого и знатного фригийского рода, близкого к нашим царям. Я не мог от тебя отказаться. Что мне оставалось делать, как не стать клятвопреступником, чтобы получить тебя? Но больше я не могу тебя обманывать: лучше мы оба станем обманывать мою жену и всю ее многочисленную и влиятельную родню. Ты будешь жить в моем доме и считаться рабыней, и только мы с тобой будем знать, что на самом деле ты моя любимая жена.
– Как у варваров – младшая жена? – презрительно сказала Евфимия. – Да еще и считаться при этом рабыней?
– А хоть бы и так! Разве ты не знаешь историй о том, как дочери царей, захваченные в сражениях, становились рабынями храбрых воинов?
– Ты захватил меня не в бою – ты захватил меня хитрой подлостью и ложными клятвами!
– Но кому от этого стало хуже? Твоя мать ничего не знает, она за тебя спокойна. А ты будешь жить в моем доме, как и собиралась, и мы будем продолжать любить друг друга, как раньше. Я сделаю все, чтобы тебе всегда было хорошо. Пойдем к ручью, Зяблик мой, я помогу тебе умыться, у тебя личико распухло от слез. Я не хочу, чтобы моя жена ходила передо мной с таким лицом.
– Я не жена тебе ни перед Богом, ни перед людьми!
– Бог простит, а люди не узнают. Только мы с тобой будем знать, что ты моя тайная жена. Только для нас с тобой важно то, что происходит между тобой и мной.
– А твоей настоящей жене?
– Жена поверит всему, что я ей скажу. Если только ты не станешь вмешиваться и пытаться открыть ей глаза.
– Я при первой же встрече расскажу ей всю правду!
– Тогда я должен буду вырвать язычок у моей певчей птички, – слегка угрожающе пошутил Аларих и добавил: – Ты так не шути, Евфимия. Я не потерплю от тебя никаких неожиданностей. Ты мне прямо сейчас поклянешься, что в Иераполисе будешь молчать и делать все, что я тебе велю!
– А иначе ты прикажешь наказать меня бичом, как рабыню?
– Нет. Я накажу тебя не бичом, а мечом: одно неосторожное слово – и мой меч окажется на твоем горлышке, Зяблик.
– Ты убьешь меня, если я скажу правду?
– Не замедлив ни на секунду.
– Но я же ношу твоего ребенка!
– Ты сама выбираешь, родиться ему или умереть, не успев появиться на свет.
– Я не могу поверить, что ты так жесток!
– Лучше поверь, чем проверять.
Евфимия отошла к ручью, умыла лицо, а потом вернулась и села у костра. Она долго думала, а потом попросила:
– Отвези меня обратно домой, в Эдессу, Аларих.
– Не могу. Я уже почти у своего дома, и вся моя семья знает, что я должен появиться со дня на день.
– Тогда я вернусь в Эдессу одна.
– Воля твоя. Только сначала подумай хорошенько о том, какой ты уезжала из дома и какой вернешься – с уже заметным животиком и никому не жена. Да еще большой вопрос, доберешься ли ты одна до Эдессы, не станешь ли по дороге легкой добычей для разбойников или просто сластолюбцев.
– Я скажу, что я паломница, как Эгерия из Аквитании.
– Такие молодые паломницы в одиночку по дорогам не бродят, если только они не искательницы приключений. Выброси эти мысли из головы, Евфимия, тебе некуда идти.
Оба замолчали.
– Пойдем-ка лучше спать, милая. Утро принесет с собой новые мысли, и жизнь уже не покажется тебе такой скверной: ты поймешь, что в наших с тобой отношениях ничего не изменилось.
Она молча покачала головой, но по привычке послушно поднялась и отправилась за ним в палатку.
Всю ночь Евфимия беззвучно рыдала, оплакивая свою злосчастную судьбу. Но рыдала она на груди Алариха: ей и в самом деле больше некуда было идти.
* * *
Как только полотно палатки начало светлеть под лучами солнца, Евфимия выбралась наружу и пошла к воде. Над озером светало. Фламинго уже проснулись и расхаживали вдоль берега, процеживая своими хитроумными клювами добываемый в иле корм. Не желая их пугать, она стояла за низкорослыми соснами и смотрела на них. «Что же мне делать?..Что же мне делать?..» – думала она, но ответа не находила. Когда взошло солнце и заря залила розовым светом половину неба, фламинго поднялись в воздух и растаяли, слившись с зарей.
Евфимия подошла к воде, шагнула на плоский валун, опустила руку, зачерпнула воды и поднесла к губам: вода была горько-соленая, как слеза. Губы защипало.
– Прощай, Озеро слез! – сказала она. – На твоем берегу кончилось навеки мое короткое счастье.
Умываться озерной водой она не стала и пошла к ручью, чтобы смыть ночные слезы, такие же горькие, как вода в озере.
Глава двенадцатая
С утра Аларих попытался вести себя как обычно, но Евфимия была безучастна и погружена в собственные думы – она просто не отвечала ему. В конце концов ему надоело с ней заговаривать, и он тоже оскорбленно замолчал.
А на дороге между тем становилось людно: их то и дело обгоняли повозки с товарами и пастухи, гонящие стада овец и коров, и Евфимии стало ясно, что впереди их ждет большой город. К полудню они достигли места, где с севера вливалась еще одна дорога, и теперь они уже ни на минуту не оставались на дороге одни. Либо впереди, либо позади все время виднелись путники, верхом или в повозках, а то и пешие, и все они двигались в одну сторону. Дорога почти все время шла теперь вдоль быстрой реки, текущей навстречу, а потому было прохладно, и ехали они довольно скоро.
Евфимии хотелось узнать, что за город ждет их впереди, однако спрашивать Алариха не хотелось. Но вот они догнали большую скрипучую повозку, нагруженную мешками, которую неспешно тянули два вола. Волами правил старик, а на мешках сидела старуха, укутанная в серое покрывало. Перегоняя медленную повозку, Евфимия обратилась к старухе:
– Матушка, далеко ли до города?
Старуха не ответила, видно, была глуховата. Зато Аларих свирепо обернулся к ней и сказал:
– Если ты не желаешь говорить со мной, то и ни с кем другим не смей разговаривать!
– Хорошо, больше я не скажу ни слова.
* * *
В город они въехали уже под вечер. Он оказался громадным.
– Лаодикия[86], – коротко бросил Аларих, не взглянув на Евфимию. Она не ответила.
Они въехали в ворота, заплатив пошлину за въезд, и оказались на поразительно широкой городской улице, по сторонам украшенной колоннадой, портиками и стоящими в них статуями[87].
Они проследовали через весь город на противоположную окраину, и там Аларих выбрал недорогую гостиницу. Он спросил не одну комнату, как обычно, а две, причем комнатка, почти чулан, для Евфимии оказалась рядом с кухней; он и ужин приказал принести каждому в свою комнату. Аларих явно хотел наказать Евфимию за молчание и упрямство, но ей-то это было как раз на руку. Ночью она не спала, чтобы обдумать принятое накануне решение и не проспать рассвет. Она поднялась сразу же, как только услышала шум на кухне, и крадучись покинула гостиницу.
Вчера, пока они ехали через город, она заметила, что в нем довольно много церквей, больших и маленьких, и большой храм в центре города. Туда она и направилась.
В кафедральном соборе служба еще не начиналась, но Евфимия и не спешила: она хотела непременно дождаться епископа и говорить только с ним. Епископ явился, был торжественно встречен и сам провел службу. Ему сослужали несколько священников, в том числе старенький иеромонах. На мгновение у Евфимии, особенно доверявшей монахам и любившей их, мелькнула мысль спросить совета у него, но женщина ее отринула. В ее положении важнее была власть, а не совет. Она дождалась конца литургии, причастилась со всеми, а затем подошла к епископу.
– Владыко святый, мне очень нужна твоя помощь – я попала в большую беду! – сказала она и заплакала.
– Не плачь, дитя мое. Пойдем в мою приемную, я тебя выслушаю.
Евфимия подробно рассказала епископу обо всем, что с нею случилось. Выслушав ее, епископ глубоко задумался.
– Так ты говоришь, твой муж-обманщик Аларих женат на женщине из знатного рода?
– Да, так он сказал.
– Нехорошая получается история… Ну что ж, пойдем к нему, дочь моя, прежде всего я должен с ним поговорить.
Обнадеженная епископом Евфимия без размышлений последовала за ним.
Алариха они застали в гостинице мрачным и обеспокоенным исчезновением Евфимии. Увидев ее в сопровождении епископа, он кинулся к ним.
– Спасибо вам, святой отец, что вы нашли и привели сюда беглянку. Это моя родственница, она нездорова: время от времени она убегает из дома, бегает по людям и рассказывает им небылицы.
– Я так и подумал, что с нею что-то не в порядке. Но я хотел бы с вами все-таки поговорить наедине, – сказал епископ.
– Иди в свою комнату и сиди там, пока я тебя не позову! – приказал Аларих.
– Владыко, – воскликнула Евфимия, – это все неправда, он лжет тебе так же, как лгал мне! И солжет еще! Дай знать обо всем моей матери в Эдессу, прошу тебя! Она диаконисса в кафедральном соборе, я же говорила!
– Положись на судьбу и принимай все спокойно, чадо. Покорись своему… мужчине, как положено женщине независимо от того, жена она или рабыня. И Бог будет милостив к тебе за смирение и кротость, – ласково сказал епископ и благословил Евфимию, уводимую Аларихом. Тот довел ее до чулана, втолкнул туда и запер дверь снаружи.
Больше с епископом Евфимия не встретилась и не видела, как он покинул гостиницу, пряча в кошель щедрое пожертвование Алариха на церковные нужды.
* * *
Примерно через час Евфимия, лежавшая на постели и плакавшая, услышала, как скрипнул и упал засов. Она села на постели. В комнату вошел Аларих.
– Слушай меня внимательно, Евфимия! Если ты еще раз выкинешь что-либо подобное, если хоть словом кому-нибудь обмолвишься о том, кто ты есть, особенно у меня дома, мой меч вмиг окажется у тебя на горле, как я тебя уже предупреждал. Не забывай, что ты рабыня моя и находишься в полной моей власти! Ты поняла меня? Поняла, я тебя спрашиваю?
– Поняла, – прошептала Евфимия, глядя в сторону. – Теперь я буду молчать. Я вообще больше не скажу ни слова.
– Ты уже это обещала, но обманула меня.
– Так это я здесь обманщица?! – вскинулась Евфимия.
– Ты никогда и никому ничего не докажешь в этих краях. Неужели ты этого не понимаешь?
– Я буду молчать.
– И это самое лучшее, что ты можешь сделать. Так помни же: никому ни слова! Даже священнику на исповеди! А сейчас надевай вот это и будь готова выйти в дорогу, – Аларих швырнул ей на постель какой-то узелок и спросил: – Где твои вещи?
Евфимия молча показала рукой в угол, где стояли две ее сумы. Аларих подхватил их и вышел за дверь. Снова загремел засов.
Она развернула брошенный им узел. В нем оказались поношенная туника из плохо отбеленного полотна, столь же грубая стола и серое покрывало; под одеждой лежала пара сандалий, тоже старых и грубых, с заскорузлыми ремнями. «Это одежда рабыни! – с ужасом поняла Евфимия. – Ни за что не надену это!»
Когда Аларих вошел в комнату, она так и сидела на постели, не прикоснувшись к принесенным вещам. Не говоря ни слова, Аларих подошел к ней, сорвал с нее покрывало, ухватил столу за края, рванул и отбросил в угол. Вслед за столой точно так же, одним движением рук, была разорвана и тонкая туника. Потом он оглядел обнаженную Евфимию, аккуратно снял с нее ожерелье и браслеты, перстни – с холодных пальцев, вынул из ушей серьги.
– Сандалии тоже снимай. Вот теперь все. Чтобы через минуту ты была готова и вышла на двор! – приказал он, уже стоя в дверях.
Евфимия, дрожа от холода и страха, быстро и кое-как оделась, обулась и завернулась в покрывало.
– Барахлишко свое не забудь! – Аларих кивнул на столик, на котором лежало забытое шитье – очередная рубашечка для младенца, и удалился из комнаты.
Когда Евфимия вышла с небольшим узелком в руках, Аларих уже стоял возле своего коня. Евфимия подошла к своему мулу: он был нагружен сумами и не оседлан. Она в нерешительности остановилась перед ним.
– Ты пойдешь пешком, как подобает рабыне, – сказал Аларих, вскочил в седло, тронул коня; повод мула был приторочен к его седлу, и нагруженное животное спокойно пошло за ним, не обратив внимания на хозяйку. Евфимия, пораженная, осталась стоять. Аларих оглянулся на нее через несколько шагов.
– Я долго буду тебя ждать, упрямая рабыня? Мне что, сойти с коня и поторопить тебя?
Евфимия содрогнулась, потом глубоко вздохнула и тронулась следом.
* * *
Аларих не торопил коня, может быть, щадя Евфимию или своего ребенка, которого она носила, а может быть, ему просто надо было подумать и подготовиться к встрече с женой. Поэтому двигались они медленно, идущие с ними в ту же сторону пешие путники легко обгоняли их, не говоря уже о конных или едущих в повозках.
Евфимия не жаловалась, она вообще не произносила ни звука, но идти ей было тяжело, и не потому, что не привыкла к пешему хождению. Она была сильная и здоровая молодая женщина и пройти каких-то семь десятков стадий ей было бы нипочем, если бы не в кровь натертые заскорузлыми ремнями сандалий ноги. Когда по дороге она остановилась возле ручья, протекавшего вдоль дороги, и прямо в сандалиях зашла в воду, чтобы остудить ноги и облегчить боль, Аларих увидел, что вода возле ее ног порозовела от крови. Он, не сходя с коня, наклонился к переметной суме и выдернул из нее банную простыню.
– Вытри свои ноги, а простыню потом можешь бросить у ручья, кто-нибудь подберет, – крикнул он, отвернулся и больше ничего не сказал: не предложил ей сесть на мула и не посадил на коня впереди себя, как они часто ездили в своем путешествии. Ну конечно, подумала Евфимия, израненные ноги рабыни лишь убедят его жену и домочадцев, что он к ней равнодушен.
Евфимия вытерла ноги одним уголком простыни, чтобы не запачкать всю ее кровью, аккуратно сложила ее, спрятав мокрый угол внутри, и сунула в узелок с детским приданым: бедной рабыне все пригодится…
* * *
По дороге они не останавливались и задолго до вечера достигли Иераполиса. У городских ворот стояла толпа: стражники без досмотра пропускали в город богатые карруки, но груженные товарами повозки осматривали досконально и придирчиво. Аларих, спокойно раздвигая толпу пеших конем, приблизился к стражникам и окликнул по-гречески старшего из них:
– Эй, старина! Ты что, своих не узнаешь? Хочешь и с меня получить плату?
– О! Смотрите, ребята, это Аларих вернулся! Привет тебе, друг и храбрец, мы тут наслышаны о твоих подвигах в Эдессе! Да славится наш храбрец и герой Аларих!
Стражники весело приветствовали Алариха, пропуская его в ворота. На Евфимию внимания обратили не больше, чем на груженого мула. Только один из стражников глянул на нее и сказал:
– С хорошей ты добычей вернулся, Аларих. Молодец! Жена твоя Фиона будет очень довольна.
Так Евфимия впервые услышала имя жены Алариха.
Они вошли в ворота и двинулись по раскалившейся днем и остывающей к вечеру главной улице с колоннадой и портиками. Сейчас, когда спа́ла жара, между колоннами прогуливались нарядные горожане, а в портиках располагались торговцы сладостями и напитками, украшениями и безделушками. Красив или нет был Иераполис, Евфимия не заметила, ей было совсем не до городских достопримечательностей. Лишь в одном месте она вдруг почувствовала, что на нее упала холодная тень, и не просто прохладная, а какая-то леденящая.
– Статуя Аполлона, – произнес негромко, как бы про себя, Аларих. Евфимия не поняла, обращается он к ней или просто размышляет вслух, и ничего ему не ответила, невольно обратив внимание на статую одного из верховных языческих богов – демонов, как учили ее дома.
Здание с белыми колоннами имело два входа, а статуя находилась между ними, но на некотором расстоянии от стены. Колоссальное мраморное изваяние возвышалось на высоком массивном постаменте и оттого казалось еще огромней. Языческий бог был изображен сидящим на троне, с кифарой в левой руке. Одет он был в тунику, но выполненную так искусно, что она казалась прозрачной и не скрывала подробностей мощного и прекрасного мужского тела. Евфимия отвернулась.
От главной улицы они свернули к реке. Здесь стояли богатые особняки знатных горожан, окруженные садами и высокими белыми стенами; возле одного из них Аларих и остановился. Он спешился, подошел к воротам и постучал. В воротах открылась небольшая дверца на уровне головы человека, оттуда кто-то выглянул, громко крикнул что-то радостное, – готфского языка Евфимия не знала, но, наверное, что-нибудь вроде «Хозяин вернулся!» – и почти тотчас же ворота распахнулись.
* * *
Из дверей большого белого дома с портиком высыпали непривычно ярко одетые люди и бросились встречать Алариха, радостно гомоня, смеясь от радости и вскрикивая. Потом они расступились, и по ступеням сошла высокая статная женщина в сочно-алом одеянии. Это и была Фиона, как сразу догадалась Евфимия. Она протянула руки, Аларих бросился к ней, обнял, поцеловал. Тут же с радостным визгом подбежали две нарядные белокурые девочки, готф подхватил их обеими руками и закружил. Потом Аларих опустил дочерей на землю, снова обнял жену, и так они, обнявшись, прошли в дом, а все домашние и слуги двинулись за ними.
Только тут Евфимия почувствовала, будто какая-то сила уже окончательно отрезала ее от Алариха. Она теперь по-настоящему одна, как ей показалось, одна в целом мире. Долгое время во дворе оставались только конь, мул да Евфимия. Постепенно придя в себя, справившись с внезапной леденящей пустотой в сердце, женщина огляделась.
Первый двор был наряден и не слишком обширен, вымощен светло-желтыми известковыми плитами, а вдоль стен росли кусты олеандров, белых, розовых и красных, стояли мраморные скамьи и большие горшки с цветущими розами. Справа и слева к фасаду дома прилегали невысокие стены, за которыми с левой стороны угадывались крыши хозяйственных построек, а над стеной справа возвышались высокие и густые кроны деревьев, и тень от них падала во двор. Оглядевшись по сторонам, Евфимия подошла к стене и уселась на невысокую каменную скамью, стоявшую в глубокой тени. Она очень устала, ей было страшно, но больше всего хотелось пить; ей казалось, что язык у нее распух и вместе с тем пересох и прилип к нёбу.
Евфимия не знала, сколько времени она так просидела, опершись спиной о прохладную стену. Кажется, несмотря на все страхи и переживания, она даже вздремнула, но вдруг услышала голос Алариха, говорившего по-готфски. Несчастная открыла глаза и увидела его стоящим на ступенях рядом с Фионой и девочками, смотревшими на него любящими, восхищенными и ожидающими голубыми глазами. Аларих отдал распоряжения слугам, и те, подойдя к мулу, принялись вещь за вещью снимать поклажу, а сам Аларих что-то говорил жене и дочерям, указывая на них рукой. Когда вся поклажа, в том числе и дорожные сумки Евфимии, была внесена в дом, а конь и мул уведены в конюшни, Аларих заметил наконец сидевшую в тени Евфимию и крикнул по-арамейски:
– Евфимия, встань и подойди сюда!
Евфимия поднялась со скамьи и, оставив на ней свой узелок, ступая медленно и осторожно измученными ногами, подошла к ступеням и остановилась, не поднимаясь по ним и не поднимая глаз. Фиона в упор долго разглядывала ее с непонятным выражением, потом задала мужу несколько коротких вопросов, Аларих что-то весело ей отвечал.
Если бы Евфимия знала готфский язык, она бы поняла их диалог.
– А это еще кто такая?
– Это еще один подарок тебе, дорогая, – твоя новая рабыня.
– Слишком она горда и красива для рабыни.
– Где ты видишь гордость? Голова ее опущена, и в лицо тебе она не смеет глянуть.
– Или не желает. Не похожа она на рабыню, скорее на девушку из богатой семьи.
– Возможно, что так оно и есть, – равнодушно сказал Аларих. – Она была захвачена пиратами, а потом продана на рынке рабов в Риме. Там я купил ее.
– Так она кто и откуда?
– Не знаю. Я пробовал расспросить ее на разных языках, но она ни на одном не умеет или не хочет разговаривать. А приказы она понимает только на арамейском языке.
– Немая?
– Может быть.
– Кому нужна немая рабыня! Я ее немедленно отправлю на рынок и продам: кто-нибудь купит ее для забавы, мужчины ведь так непривередливы…
– Делай как знаешь, это теперь твоя собственность, – равнодушно сказал Аларих. – Можешь хоть убить ее. Я и сам был близок к этому, так она надоела мне своим упорным молчанием.
– А может, просто надоела? Наигрался с нею, и теперь она не нужна тебе.
– Ты смеешься надо мной, Фиона? Как я мог взглянуть на эту чернавку с интересом, если ехал домой к красавице-жене? Отправь ее к рабам, и пойдем в дом, я хочу отдать тебе и дочерям подарки.
Евфимия успела украдкой разглядеть законную супругу Алариха. Она была красива и чем-то похожа на него: светлая кожа, синие глаза и золотые волосы, заплетенные в толстую косу и уложенные вокруг головы короной. Все говорило о том, что оба принадлежат к одному народу. И крупной статью она была сходна с воином-мужем, и ростом почти вровень с ним. Хрупкая, нежная, со светло-оливковой кожей, с темными волосами и черными глазами, типичная эдесситка Евфимия почувствовала, насколько же они с Аларихом чужды друг другу по крови. «Не мог он любить меня! – с отчаянием подумала она. – Это был просто каприз соскучившегося по женщине воина». И почему-то эта мысль ударила ее больнее, чем обман и предательство Алариха.
Фиона подозвала к себе полную женщину в пестрой одежде и ярком платке, обвязанном вокруг головы, распоряжавшуюся слугами и рабами во дворе, и велела ей отвести новую рабыню на место.
– Найди для нее свободное помещение на нижней террасе, выдай постель и покорми ее. А завтра я решу, что с нею делать, – сказала Феона, беря мужа под руку и ведя его ко входу в дом.
* * *
Толстуха, выслушав приказ хозяйки, подошла к Евфимии и мановением руки велела ей следовать за ней. Евфимия молча подчинилась.
Они прошли в раскрытые ворота на хозяйственный двор. Здесь женщина остановила ее движением руки, достала из складок покрывала связку ключей и подошла к двери низкого здания с зарешеченными окошками под самой крышей. Она отперла дверь, вошла внутрь и вскоре вышла оттуда, неся в руках скатанный тюфяк и какой-то узел поверх него. Молча сунув тюфяк в руки Евфимии, она повесила узел на руку, снова заперла дверь кладовой и махнула свободной рукой, приглашая следовать за ней.
Женщины прошли через хозяйственный двор и оказались перед еще одной стеной с воротами, тоже приоткрытыми. За ними обнаружился плодовый сад, междурядья которого были заняты грядами с овощами. Сквозь сад и огород шла довольно широкая дорожка, мощенная серыми плитами, поросшими травой и лишайником.
Толстуха что-то непрерывно говорила, но, казалось, обращаясь не столько к спутнице, сколько к себе самой, и ответа не ожидала. Вдруг она резко остановилась и, схватив Евфимию за руку, заставила и ее остановиться, показывая рукой на что-то впереди. Евфимия остановилась и, перекрестившись, воскликнула испуганно:
– О Боже! Спаси и помилуй!
Впереди, свернувшись спиралью на разогретой солнцем каменной плите, лежала толстая пестрая змея. Евфимия с детства до ужаса боялась змей.
– Так ты вовсе не немая? Ты говоришь по-арамейски? – воскликнула толстуха.
– И ты тоже? – удивилась Евфимия.
– Да, это язык моего детства. Я родом из Пальмиры, – толстуха подобрала сухой ком земли и кинула его в змею, та не торопясь приподняла голову, потрогала воздух раздвоенным языком, перетекла через кольца собственного тела и, разматывая их за собой, попозла по камням в сторону капустной грядки.
– А я из Эдессы, – сказала Евфимия, переводя дух.
– Правда? А братец сказал, что купил тебя в Риме…
Евфимия, только что обрадовавшаяся и воспрянувшая духом, поняла, что, наверное, зря она заговорила на своем языке, – эта женщина, называющая Алариха братом, навряд ли станет ей другом. «Но пусть хотя бы не врагом!» – подумала она и вместо ответа спросила:
– Так Аларих твой брат?
– Молочный брат. Моя мать выкормила его грудью, вот так и вышло, что я, рабыня Кифия, стала его молочной сестрой. Моя мать была домоправительницей, а теперь я служу вместо нее. Мать умерла три года назад.
– Аларих тебя любит, он признает, что ты его сестра?
– На людях – никогда! А чтобы любить… Наш Аларих никого, кроме себя, не любит.
– И свою жену Фиону он тоже… не любит?
– Не знаю, я его об этом не спрашивала. И довольно болтать! Идем скорее, я покажу тебе твое жилище.
За садом и огородом была еще одна стена с небольшими воротами, а сразу за ними оказалась лестница, ведущая на очередную террасу. Они спустились по ней. Здесь тоже был сад, но росли в нем одни сизые оливковые деревья, лишь кое-где оттеняемые мрачными кипарисами и уже отцветшими зелеными кустами тамариска. Стоя на верхней площадке каменной лестницы, сложенной все из тех же известняковых плит, Евфимия увидела, что обширный этот сад упирается в берег реки, отделенный от него высокой стеной. Посреди сада располагалось низкое здание с навесом, под которым стояли деревянные бочки и глиняные кувшины – давильня, как догадалась Евфимия. Но больше нигде никаких домов она не увидела.
– Сейчас мы спустимся, и ты увидишь, где живут наши рабы, – предупреждая ее вопрос, сказала Кифия.
Они шагнули с последней ступени на землю, и только тогда Евфимия увидела, что терраса, с которой они только что спустились, представляет собой сплошную стену песчаника, заросшую темно-зеленым плющом, а в стене этой, будто ласточкины гнезда в песчаном береге, шли отверстия пещер, одни открытые, другие завешенные старыми половиками, истертыми шкурами, просто полотнищами.
– Что это? – в недоумении спросила Евфимия.
– Это жилища наших рабов, – ответила Кифия. – Некоторые из них свободны – те, на которых нет входной занавески. Выбирай себе любое!
– Это похоже на кладбище…[88]
– Ну что ты! Так живут и многие свободные бедняки, да и монахи тоже…
– И ты тоже?
– Ну да. Я могла бы жить в доме, у меня там есть своя каморка, и я в ней иногда ночую, но настоящий мой дом здесь. Неужели ты не понимаешь, что жить подальше от хозяев – это великое благо?
Евфимия не понимала: их немногие рабы и слуги жили в одном доме с хозяевами, хотя любому из них, попроси он, разрешили бы поселиться отдельно в садовом домике – том самом…
– Давай пройдемся по свободным пещерам, и ты выберешь себе жилье по вкусу.
– Я хотела бы жить подальше от всех, в тишине. Я ведь все равно не знаю языка, на котором говорят ваши рабы.
– Я тебя понимаю. Да, твоих земляков среди наших рабов нет, они говорят либо на готфском, либо на языках дальних стран между собой; они все издалека, кто из Африки, а кто даже из северных стран. Но если ты не боишься одиночества, я могу поселить тебя в самом уединенном месте – это за баней. Идем!
Они прошли дальше по каменистой площадке, отделяющей скалу от сада, и свернули за угол. Здесь зелень была гуще и разнообразней и вплотную подходила к каменной стене. По тропинке они прошли через проход в кустах и оказались перед узким потоком с перекинутым через него деревянным мостиком. От воды на дне потока поднимался пар.
– Это течет вода из нашей бани. Мы моемся в ней по очереди: мужчины утром, а женщины и дети вечером. Вода у нас всегда теплая, даже в зимнее время. Не у всех рабов есть такая роскошь, а?
Евфимия промолчала: в их доме рабы могли пользоваться баней после хозяев, а могли по надобности сами натопить ее, спросив позволения домоправительницы.
– Тебе, конечно, не мешает помыться с дороги, но сначала я покажу тебе твою пещеру. А в баню – сюда, вот по этой тропинке вдоль ручья. Идем дальше.
Они прошли через мостик и опять углубились в заросли. Но кусты так густо росли лишь вблизи воды, примерно через четверть стадии[89] они расступились, и женщины снова оказались на небольшой каменистой площадке под известковой стеной; здесь было всего три пещерных входа, и все они были открыты и пусты.
– Выбирай! – широким жестом предложила Кифия. – Я бы на твоем месте выбрала среднюю, так безопаснее: иногда в пустые пещеры забираются змеи и скорпионы, так пусть уж они сначала посетят крайние помещения, верно?
Евфимия молчала в растерянности. Жить здесь? Одной? Со змеями и скорпионами? А впрочем, какая разница… Они вошли в среднюю пещеру. В ней ничего не было, кроме небольшого стола из трех известковых плит, положенных одна на другую, каменного ложа вдоль одной стены и неглубокой ниши в другой. В дальнюю стену ниши были вбиты деревянные колья, чтобы вешать на них одежду. Над нишей, как и над дверным отверстием, – деревянные крючья для занавесок. Евфимия положила свой тюфяк на каменное ложе, где уже лежал узел, принесенный Кифией. Узелок с приданым будущего младенца она водрузила сверху.
– У тебя есть своя банная простыня?
– Есть.
– Бери ее. Я отведу тебя в нашу баню, оставлю тебя мыться, а сама схожу и принесу тебе еду и занавеси. Сегодня ты поешь одна, а с завтрашнего дня будешь ходить в общую столовую для рабов и слуг. Завтракаем мы сразу после утренней службы в церкви.
Евфимия радостно вздрогнула. Церковь! Наверняка священник ее говорит если не по-арамейски, то по-гречески; может быть, он выслушает ее и поможет?
– Церковь у нас тоже своя – для слуг и рабов. Хозяева ходят в городской храм. А служит у нас, представь себе, дальний родственник самой хозяйки.
Встрепенувшееся было сердце Евфимии снова похолодело в унынии.
* * *
Баня удивила Евфимию, до сих пор ничего подобного она не встречала: из все той же стены песчаника вытекал ручеек горячей воды и падал с небольшой высоты в овальный каменный бассейн, сотворенный самой природой из известкового осадка. Там вода остывала до приятной теплоты, а затем вытекала через край в меньший бассейн и дальше струилась в специально проложенном каменном русле к тому самому мостику, который они с Кифией недавно переходили. Рядом с большим и маленьким бассейнами стояли два больших горшка, накрытых деревянными крышками.
– Обед уже прошел, теперь мужчины сюда не придут, этот порядок у нас строго соблюдается, так что можешь раздеться совсем и мыться спокойно. Вот в этом горшке зола, а в другом песок. Когда кончишь мыться, возвращайся к себе, а я пока прикажу кому-нибудь из девушек принести тебе еду и воду для питья и умывания.
Евфимия поблагодарила свою новую знакомую, разделась и смело шагнула в бассейн. Когда она стояла, вода была ей по пояс, но она села на песчаное дно, погрузившись до самой шеи, и распустила свои чудесные волосы.
* * *
Когда, закончив купанье, Евфимия подошла к пещерам, она увидела, что вход в ее жилище уже завешен старым вылинявшим покрывалом. Евфимия откинула жалкий занавес, служивший дверью ее дома, на специальный колышек, вбитый в стену возле входа, вошла и увидела на столе деревянный поднос с половиной лепешки и куском сыра, кружкой и небольшим кувшином. В углу возле входа стоял еще один кувшин, накрытый перевернутой медной чашей, и Евфимия догадалась, что в нем вода для питья и умывания. Есть она не стала, только попила воды из маленького кувшинчика, а затем улеглась на жесткое ложе и принялась плакать. Здесь ей хотя бы никто не мешал. Так, в слезах, она и уснула.
Глава тринадцатая
Утром ее разбудила Кифия.
– Скорее вставай, лежебока, пора в церковь на службу! – бодро проговорила она, откинув занавес.
Евфимия и впрямь услышала в отдалении звон клепала[90], созывающий к обедне. Наскоро умывшись, она оделась и накинула на голову покрывало, пряча под ним не переплетенную косу: волосы можно расчесать и позже, когда будет время.
– Прости, что заставила тебя ждать, – сказала она Кифии, – я уже готова.
– Ничего, на первый раз прощается! Это первый звон, а еще второй будет, так вот после него опаздывать уже не стоит, – сказала та. – А впредь не рассчитывай, что старшая рабыня будет приходить тебя будить, сама вскакивай по первому звону. Ты вот еще о чем подумай, пока время есть: после церковной службы все наши завтракают в общей столовой, а после трапезы рабам, не имеющим определенного занятия, раздается работа на день. Ты заранее скажи мне, что ты умеешь делать: готовить, печь хлеб, ухаживать за скотиной, за цветами, огородничать, садовничать…
Кифия перечисляла, а Евфимия на все удрученно кивала головой[91]: ничего из перечисленного делать она не умела.
– Может быть, ухаживать за пчелами, доить коз, делать сыр – нет?
Евфимия опять покивала.
– А ткать или прясть?
Снова кивок.
– Неужели ты такая неумеха?
Евфимия смиренно промолчала. Не могла же она признаться, что умеет читать, писать и считать, знает географию, историю, греческий и латинский языки, а самое главное – отлично изучила Святое Писание, а Псалтирь так почти всю наизусть… И тут ее осенило!
– Я могу шить и даже вышивать золотом!
– Вышивать?! Нашла чем удивить во Фригии! Знаешь ли ты, что фригийские золотые вышивки считаются лучшими в Империи? Римляне все нарядные вышивки называют «фригионе», а вышивальщиков «фригио»[92].
– Я этого не знала…
– Ну так знай. И что же ты вышивала в своей Эдессе?
– Церковные облачения, пелены, епископские саккосы, орари, покровы…
– Ого! Ну, девушка, если так, то, считай, что ты устроена. Хозяйка наша держит целую мастерскую, где несколько рабынь вышивают наряды для семьи, для подарков и даже на продажу, хотя хозяйка держит это в тайне. А еще наши вышивальщицы исполняют заказы епископа для церкви. Это не приносит хозяйке денег, но повышает цену ее благочестию. Думаю, она тебя возьмет. У тебя случайно нет с собой какой-нибудь вышивки, Фионе показать?
Евфимия молча подошла к нише, тоже задернутой теперь старенькой простынкой, развязала узелок с недошитым детским приданым и достала шелковую ленточку с цветами и крестиками. Такими же цветами и крестиками, только гораздо пышнее и красивее, была расшита крестильная рубашечка, но ее Евфимия показывать ни хозяйке, ни даже Кифии не захотела.
– Ух ты, какая красота! Это закладка для кодекса[93]?
– Я еще не решила…
– Пускай хозяйка сама решает! – заявила Кифия, пряча ленточку под своим покрывалом. – А теперь давай поторопимся – второй колокол!
* * *
Службу в небольшой домашней церкви вел дрожащим голоском старенький отец Алексий, полуслепой священник с редкими седыми волосами и бородкой. Евфимия внимательно следила за ходом службы и приглядывалась к нему: ей надо было понять, может ли она открыться этому иерею, ведь он родственник хозяев! Рисковать она уже не могла, потому что понимала: если все откроется, хозяйка ее немедленно продаст какому-нибудь чужеземцу – и что тогда? Здесь есть хотя бы слабая надежда на заступничество Алариха, как-никак Евфимия носит его ребенка. А если ее продадут и повезут в дальние страны, сохранит ли она свое дитя в дороге? Нет, она не станет рисковать, она будет беречь свое дитя… Вот когда ребенок родится и чуточку подрастет, тогда можно будет подумать о возвращении в Эдессу. А пока надо не раздражать ни Алариха, ни хозяйку… Его настоящую жену.
Рабы и слуги поглядывали на тихо плачущую в сторонке новую рабыню: то ли она перепугана, то ли молится так проникновенно, но ее смиренный вид вызывал у всех жалость, и, когда она шла к причастию позади всех, многие даже старались поймать ее взгляд и ободряюще ей улыбнуться.
Столовая для женщин примыкала к церкви слева, и вход в нее был прямо с женской половины храма: в низком помещении стоял длинный стол со скамьями. Евфимии указали место на самом краю стола. Пожилая женщина прочла молитву, все уселись и начали завтракать. На завтрак раздали миски с вареной зеленой фасолью, по небольшой лепешке из муки грубого помола пополам с просом и по кружке кислого молока, разбавленного водой. За едой женщины тихо переговаривались.
Евфимия голода не чувствовала, но заставила себя съесть и выпить все до крошки и до капли, заботясь о ребенке, хотя еда показалась ей и пресной, и попросту невкусной.
Кифия не ела за общим столом, но явилась к концу завтрака и объявила:
– Сегодня вечером будет большой пир по случаю благополучного возвращения хозяина, поэтому все женщины, кроме скотниц и птичниц, отправляются помогать на кухню и украшать дом к празднеству. А ты, Евфимия, пойдешь со мной: тебя хочет видеть хозяйка.
Евфимия молча подошла к Кифии, и та повела ее из столовой к господскому дому.
– Вышивка твоя хозяйке понравилась, но она сказала, что еще не решила, оставить тебя для работы в мастерской или продать. Она хочет задать тебе несколько вопросов. Но ты не беспокойся: я же буду переводить твои ответы и, даже если ты скажешь что-то не то, я постараюсь тебя поправить. Она довольна, что ты хотя бы не немая. Постарайся только выглядеть как можно скромнее.
– Я постараюсь, – обещала Евфимия.
* * *
Фиона приняла их во внутреннем садике, где она как раз завтракала за маленьким столиком возле бассейна с небольшим фонтаном. Стол был заставлен вазами с фруктами и блюдами со сладостями. Жена Алариха была в небесно-голубом шелковом утреннем одеянии, очень шедшем к ее большим синим глазам. Маленьким ножичком она очищала спелую грушу и какое-то время делала вид, что не замечает вошедших женщин. Потом, оставив очищенный плод на тарелке, подняла глаза и долго смотрела на Евфимию. Наконец она начала разговор, а Кифия принялась переводить.
– Ты совсем не говоришь по-готфски? – спросила Фиона.
– Нет, – коротко ответила Евфимия.
– Из какой ты страны?
– Из Осроэны.
– Такой страны я не знаю. А на каком языке вы разговаривали с моим мужем в пути?
– Мы не разговаривали в пути с твоим мужем, – ответила Евфимия, решив не лгать, однако отвечать так, чтобы Фиону ее ответы не раздражали: в самом деле, раз она не знала, что Аларих – муж другой женщины, то она с чужим мужем и не разговаривала.
– У тебя был муж до того, как тебя захватили пираты?
Услышав этот вопрос в переводе Кифии, Евфимия поняла, что примерно наговорил Фионе Аларих. Несчастная эдесситка решила, что ей лучше не оспаривать его ложь, но в то же время постараться не лгать самой.
– Да, прежде у меня был муж, – ответила она, и глаза ее наполнились слезами. – Но теперь его больше нет.
– Понятно. Муж твой, значит, погиб, а ты попала в рабство. Скажи, а твой хозяин Аларих был добр к тебе?
Кифия перевела вопрос, и Евфимия, услышав его, опустила голову. Она не знала, как лучше ответить Фионе.
– Ну же! Отвечай мне правду, рабыня, был ли добр к тебе твой хозяин?
– Он был жесток ко мне! – ответила Евфимия наконец. – Жесток и груб!
Кифия невольно ахнула и заметно растерялась.
– Переведи слово в слово, что она сказала! – приказала Фиона.
И Кифии ничего не оставалось, как перевести.
Лицо хозяйки посветлело, но больше она ничего спрашивать не стала. Дальше разговор пошел уже легче.
– Я видела твою работу, закладку. Это все, что ты умеешь?
– Еще я умею вышивать золотом, в том числе для церкви.
– Я это проверю, – сказала хозяйка. – Отведи ее в мастерскую, Кифия, и скажи, чтобы ей дали работу для испытания.
И она принялась за свою грушу.
* * *
– Ух, ну ты меня и напугала, когда ляпнула хозяйке, что Аларих был жесток и груб с тобой! Это что, правда?
– Это чистая правда.
– Надо же… Обычно братец очень даже добр с молодыми и красивыми девушками и женщинами. А-а, понимаю! Он хотел тобой попользоваться, а ты слишком долго сопротивлялась? Что ты молчишь? Ну да ладно, мне-то какое дело. Алариха осуждать за это нельзя.
– Это почему же его нельзя осуждать за блуд? – спросила Евфимия.
– Да потому, что жену свою он не любит и никогда не любил. Когда его заставили жениться на ней, ему было пятнадцать лет, а ей двадцать, он был еще мальчишка, а она – взрослая девушка. Он у нее в полном подчинении и признавался мне, что чувствует себя счастливым и свободным, только когда находится в военном походе.
– Ты говоришь «заставили жениться»? Как это возможно?
– Его отец был человек хитрый, властный и богатый, но из простых, а Фиона происходит из весьма знатного, но обедневшего готфского рода. Она в родстве с предводителем вестготфов Аларихом, который, ходят слухи, вполне может стать нашим королем[94]. Она гордячка, и ей льстит, что ее муж носит то же имя, что и предводитель.
Домоправительница явно хвасталась перед новенькой своей осведомленностью.
* * *
Мастерская была построена в уединенном месте, в некотором отдалении от дома: это было помещение с большими окнами, стоявшее на холмике посреди сада; такое положение и большие окна давали хорошее освещение, необходимое для тонкой работы вышивальщиц. Внутри стояли на козлах деревянные рамы с натянутой на них материей – пяльцы. За пяльцами сидели женщины, в основном молодые, ведь с годами у вышивальщиц неизбежно портится зрение. На столах лежали мотки разноцветного шелка, серебряные и золотые нити, различные иглы, небольшие куски крашеной кожи, а в особых ящиках, разделенных на ячейки, лежали бисер разных цветов и округлые золотые чешуйки с отверстиями для украшения вышивок. Все было понятно и знакомо Евфимии, и в сердце ее пробудилась радость: если она будет заниматься этой работой, то сможет выдержать здесь долгое время – столько, сколько нужно, чтобы ребенок родился и подрос. Кто станет смотреть за ее ребенком, пока она будет заниматься вышиванием, об этом Евфимия пока не думала.
И еще одна непредвиденная радость ожидала в мастерской несчастную: оказалось, что старшая мастерица Кассия, тоже рабыня, как и все вышивальщицы, была родом из Греции и греческий язык еще не забыла.
– Тебе сегодня везет, поставь завтра свечку любимому святому! – сказала Евфимии Кифия и оставила ее в мастерской.
* * *
Ничто так не лечит душу, как молитва, и ничто так не успокаивает ее, как любимая работа! Недаром святые отцы говорили, что нет ничего лучше для христианина, чем молитва на устах и работа в руках. Умиротворение сошло на душу Евфимии впервые за последние дни. Для пробы Кассия поручила ей вышивать кресты на диаконском ораре[95] – золотой нитью по нанесенному ранее «настилу» из более толстых крученых ниток желтого цвета, чтобы ткань основы не просвечивала сквозь золотое шитье. Стежок за стежком к концу дня Евфимия вышила целиком четыре больших креста. Кассия, поначалу подходившая к ней каждые четверть часа, потом перестала следить за ее работой, вполне доверившись умению новенькой. Гречанка подыскала для Евфимии наперсток по размеру и выдала ей маленькую тканую сумочку из шерсти, которая подвешивалась к поясу, чтобы носить в ней свой наперсток, маленькие ножницы и кожаный игольник, которые у каждой мастерицы были свои. Вышивая, Евфимия читала мысленно молитвы и знаемые наизусть псалмы; иногда вышивальщицы пели негромко известные им всем молитвы на готфском языке; некоторые из них пелись на знакомые греческие распевы, и тогда Евфимия мысленно подпевала им на греческом или арамейском. К концу дня она совсем успокоилась и просила Бога только об одном: чтобы рабская ее жизнь, сколько бы она ни продолжалась, проходила именно здесь, за этой работой и среди этих добрых и благочестивых женщин.
Когда солнце начало клониться к закату, Кассия велела всем сложить работу, прочитала молитву на окончание дела и повела всех в церковь: на сегодня был назначен благодарственный молебен по случаю благополучного возвращения хозяина дома. Вот здесь Евфимию настигло испытание: Аларих с Фионой и их дочери, веселые, в нарядных одеждах, тоже присутствовали на богослужении. Но эдесситка благополучно пережила его: один только раз глянула она в сторону хозяев, стоявших на огороженном возвышении, и вот надо же, именно в эту минуту Аларих бросил небрежный взгляд на женскую половину для слуг и рабов, глаза их встретились – и оба сразу же отвели взгляд.
Евфимия не молилась об Аларихе, а твердила собственную молитву: «Боже, сохрани меня и мое нерожденное чадо! Помоги мне, Господи, во внезапных скитаниях и испытаниях моих!» Она даже не заметила, как вся семья хозяина покинула церковь, не дождавшись конца молебна, – пора было встречать гостей.
* * *
Проходя по саду вместе с другими вышивальщицами, в том числе и с Кассией, Евфимия заметила, что никто из них не сорвал ни одного плода с дерева, ни одной ягодки с куста. Ее это удивило: у них в доме слугам не возбранялось пользоваться дарами природы. И никто из слуг и рабов никогда этим не злоупотреблял: хоть и невелик был сад диакониссы Софии, а плодов на всех хватало. Она поделилась своими мыслями с Кассией.
– Ну что ты, хозяйка, знаешь, как следит за этим! Они потому и богаты, что берегут каждый фоллис[96], тряпочку и ниточку и каждую ягодку с куста! – сказала Кассия.
Евфимия вспомнила, как умело торговался Аларих с купцом в Нисибине, и вдруг спросила:
– Скажи, Кассия, а хозяйка не показывала тебе привезенную Аларихом красивую серскую вышивку в виде картинки на шелке?
– Пион и зяблик? Она висит в спальне хозяйки над изголовьем. Замечательная вещь! Хозяйка в восторге от этого подарка. Хотя роскошный персидский ковер и покрывало с птицами, которые он тоже привез для спальни, нравятся ей еще больше – они же больше размером!
Кассия захихикала, и Евфимия тоже заставила себя улыбнуться, хотя ее будто кольнуло самой тонкой и острой вышивальной иглой прямо в сердце.
* * *
Хотя почти не слышны были Евфимии звуки музыки, развлекавшей гостей в саду, только ритмичная дробь барабанов да изредка повизгивания флейт доходили сюда, а все же томление духа не давало ей уснуть. «Как быстро окончились и ушли в прошлое все мои праздники!» – тоскливо думала она, ворочаясь на жестком ложе. Прошло несколько часов, а она все никак не могла забыться во сне.
– Евфимия, ты не спишь? – раздался вдруг негромкий голос Кифии, и за ветхим занавесом мелькнул тусклый огонек масляного светильника.
– Нет, Кифия, я не сплю.
– Вот и хорошо! – сказала старшая рабыня, откидывая занавес и входя в пещерку. – А я к тебе с радостью, девушка! – она поставила на стол накрытую полотном корзинку, из которой высовывалось горлышко небольшой амфоры. – Тут все, что тебе может понадобиться. Это тебе братец прислал и велел сказать, что он постарается улучить минутку зайти к тебе. Видно, за время пути он тобой не натешился. Рада, небось?
Евфимия тихо ахнула.
– Ты только ничего особенного в голову-то не бери: Аларих ни одной молоденькой новой рабыни с отроческих лет не пропускал! Поиграется с тобой еще недельку-другую – и все. Так что если хочешь подарочков, проси их у него сразу, пока не успела надоесть. Ты светильник-то зажги, чтобы Аларих твою норку долго не искал! Да ладно, лежи, я сама зажгу, порадею для братика.
Кифия достала из ниши светильник, зажгла его и поставила на стол, поближе к входу.
– Все, побежала я! Хозяйка с другими матронами собирается ехать на ночное купание, надо проследить, чтобы в карруки уложили угощение, вино и все что надо. Это уж у нас в Иераполисе древняя традиция: когда все гости напьются, женщины едут купаться на травертины, а мужчины идут в пещерки к молоденьким рабыням. Прежде богатые женщины брали с собой на купание молодых рабов, так это и царица Клеопатра делала, но, с тех пор как Фригия стала христианской, их сопровождают только служанки.
Кифия удалилась со своим светильником, а Евфимия осталась сидеть, пораженная, взволнованная и униженная.
* * *
Время шло, ничего не происходило, все так же в отдалении звучали барабаны и флейты, и Аларих не появлялся. За это время Евфимия успела сто раз придумать и передумать, как ей вести себя с ним, что сказать, как отвергнуть раз и навсегда его притязания: ведь не как жену он собирался ее посетить, а как доступную рабыню! «Я все ему выскажу и прогоню его прочь!» – думала она и подыскивала слова, чтобы уязвить его посильнее. А он все не шел и не шел… Она подошла к столу и откинула полотенце с корзины. Там стояли горшки с вкусно пахнущей едой – уж явно не вареные бобы там были! А сверху стояли две небольшие мисочки: одна с солеными фисташками, а другая с маринованными оливками. Невольно Евфимия улыбнулась: «Не забыл…» Она даже съела горсть фисташек и несколько оливок. Потом она прилегла, измученная горькими мыслями и ожиданием, и сама не заметила, как уснула.
Проснулась она в объятиях Алариха; он крепко прижимал ее к себе одной рукой, другой снимая с нее одежду, и шептал: «Зяблик мой любимый! Как я по тебе стосковался!» Евфимия разрыдалась и сама обняла его крепко-крепко, как делала прежде…
* * *
– Ну вот, видишь, милая, как все просто и великолепно устроилось! Я буду приходить к тебе каждый раз, когда жена моя будет уезжать с подругами на ночные купания. Как только услышишь, что мы ждем гостей, так и сама жди гостя. Ты рада, моя дорогая девочка?
– Как я могу радоваться, что ты такое говоришь, Аларих! – воскликнула Евфимия, лихорадочно надевая тунику. – Как ты мог со мной так поступить? Ты обманул, ты предал меня, а теперь хочешь еще и пользоваться мной как безответной и беззащитной рабыней?
Аларих засмеялся и потрепал ее по щеке.
– Ну полно, полно, Зяблик! Разве ты меня разлюбила?
Она опустила голову и отвернулась.
– Да я и сам вижу, что ты любишь меня, как прежде! А может быть, и еще сильнее, а? Веди себя хорошо, будь послушной, и со временем я все для тебя сделаю. У меня есть загородная вилла[97], я сумею тебя перевести туда и сделать домоправительницей, и тогда мы будем жить там в свое удовольствие, как только мне вздумается съездить проследить за полевыми работами. А когда родится ребенок…
– Он родится сыном рабыни?
– Ну, милая, что сейчас об этом думать, ведь до его рождения еще так далеко!
– Всего четыре месяца.
– За это время многое может измениться. Ты просто люби меня и слушайся во всем.
– Нет! Я не хочу, чтобы мой сын родился рабом!
– А ты по-прежнему уверена, что у нас будет сын?
– Да, уверена. Няня мне сказала, а она никогда не ошибалась в таких вещах.
– Ах, эта твоя няня… Что теперь вспоминать о ней? Ты ее больше никогда не увидишь.
– Увижу! Ты должен вернуть меня в Эдессу до рождения сына!
– Об этом и не мечтай!
– Я хочу домой, к матери! К няне!
– Домой ты не попадешь, а няни твоей давно нет в живых.
– Почему ты думаешь, что няня умерла?
– Да потому… Да потому, что она такая старая, а пустилась в какие-то приключения! Наверняка Авен давно ее ограбил и убил, ведь у нее с собой было немало денег.
– Если ты об этом подумал, то почему не бросился за ними в погоню?
Аларих засмеялся.
– Зяблик мой, ведь ты и сама радовалась, что она больше не путается у нас под ногами, что уж говорить обо мне?
Евфимия опустила голову.
– Если бы няня была с нами, ты никогда не посмел бы со мной так поступить…
И вдруг она ахнула, сообразив, что Аларих, у которого все было задумано и просчитано заранее, никак не мог допустить, чтобы Фотиния сопровождала их в Иераполис.
– Скажи мне правду, Аларих, заклинаю тебя! Ты нарочно приказал преданному тебе Авену увести мою няню подальше от нас и потом убить ее?
Аларих встал.
– Мне надоело слушать твои глупости, Евфимия. Но если хочешь, я могу поклясться, что я не приказывал Авену ни уводить твою старую няньку, ни убивать ее!
– Разве я могу верить тебе, клятвопреступнику? – тихо проговорила Евфимия.
– Мне надоело слушать твои вздорные измышления и обвинения. В следующий раз изволь не только с любовью встретить меня, но с любовью и проводить! Я сказал!
С этими словами Аларих поднялся, быстро и молча оделся и, уже откидывая занавес, на пороге бросил:
– Приду, когда смогу.
Он ушел, а Евфимия опять уснула в слезах: нет, не стало ей легче после посещения Алариха!
* * *
А в мастерской все складывалось неплохо. Старшей мастерице нравилось, как работает Евфимия, а Кассия понемногу учила ее готфскому языку:
– Ты должна выучить язык этой страны, иначе как ты будешь воспитывать своего ребенка? Ему будет трудно жить, если он будет понимать только свою мать да нас с Кифией.
Евфимия не спорила, хотя надеялась, что, к тому времени когда малыш начнет разговаривать, они с ним уже будут в Эдессе.
Вышивальщицы уже знали, что Евфимия беременна, ее подвели мелки: этими тонкими палочками мела швеи наносили рисунки на ткань для шитья облачений. Никогда, даже в самом раннем детстве, ни одно лакомство не вызывало у Евфимии такого аппетита, как эти мелки. Слаще изюма и фиников они ей казались! Она не могла удержаться и потихоньку таскала их из шкатулки и грызла, как белка орешки.
Однажды старшая мастерица в упор спросила ее, не ждет ли она ребенка? Пришлось признаться, и старшая мастерица отправилась с докладом к хозяйке. Явилась Кифия и повела Евфимию к Фионе.
– Ох, беда, беда! Как же с тобой такое случилось, девушка? Нет-нет, молчи! Не смей мне говорить, кто отец твоего ребенка! Хозяйка даст тебе свое снадобье, и все обойдется.
– Постой! Какое снадобье? – тревожно спросила Евфимия, останавливаясь.
– А то самое, какое она заставляет пить всех рабынь, которыми дорожит, если они вдруг понесут неизвестно от кого. Она разрешает рожать только замужним рабыням, а замуж выходить разрешает лишь тем, кто занят на простых работах, но никак не в мастерских и не в доме. Я сама уже и не беременею больше после всех детей, которых скинула по ее приказу. О чем теперь жалею, конечно… Надо мне было хоть одного ребеночка уберечь.
– А как это можно сделать?
– Что «сделать» – скинуть или уберечь дитя?
– Конечно, уберечь!
– Надо просто сказать ей, что ребенок уже шевелится. Фиона считает, что после пяти месяцев это уже дитя человеческое, а не просто приплод, и грех на душу не возьмет.
– Спаси тебя Господь за то, что ты меня предупредила!
– Да пожалуйста! Только и ты уж не выдавай меня, ладно? Ох, если бы не братец, не стала бы я в такое дело мешаться!
Фиона встретила их в ярости: ее прежние подозрения вернулись к ней и она сразу приступила к допросу.
– Спроси у нее, где она забеременела?
– В Харране.
– Где это? Рядом с Эдессой?
– Это день пути от Эдессы.
– И кто же отец ребенка?
– Мой муж, который был у меня до того, как я стала рабыней, – отвечала Евфимия, спокойно глядя в глаза Фионе.
Та немного успокоилась, но продолжала хмуриться.
– Спроси, Кифия, ребенок уже шевелился?
– Да, и давно, ведь я ношу его почти шесть месяцев.
Фиона помолчала, что-то подсчитывая в уме. Если у этой чужестранки и впрямь был муж… Брови ее почти разошлись.
– Ладно, иди. Пока можешь продолжать вышивать, а там посмотрим. Я еще подумаю, как с тобой быть. Может быть, выдам тебя замуж за какого-нибудь раба, устрою твое счастье, так и быть…
Из господского дома они вышли вместе с Кифией.
– Ты такая бледная, Евфимия. Хочешь, я провожу тебя до мастерской?
– Нет-нет, я сейчас приду в себя, мне надо только отдышаться где-нибудь в тени.
– Так иди к себе, а я загляну в мастерскую и скажу, что тебе плохо после допроса хозяйки, это все поймут.
Евфимия добрела до своего жилища и легла на каменное ложе. Какой ужас, что она именно сейчас окончательно оттолкнула от себя Алариха! Ну что бы ей было сдержать язык и сердце и не допекать его каждый раз упреками и проклятиями! Ведь говорила ей мать: «Никогда никого не проклинай!» – вот она и допроклиналась. А будь она только ласкова с Аларихом, он, может быть, придумал, как поскорей перевезти ее в загородное имение, и там они с ребенком были бы в безопасности.
Ведь после того торжества по случаю его возвращения Аларих приходил к Евфимии еще несколько раз, пользуясь пирами, до которых и он, и Фиона были большими охотниками. В Иераполис съезжалась на целебные воды знать со всей Империи, и Фиона не упускала случая завести полезные знакомства.
Но все свидания начинались с объятий, продолжались на узком каменном ложе Евфимии, а заканчивались ее стенаниями и попреками. В конце концов Аларих заявил:
– Беременность твоя делает тебя похожей на твою няньку Фотинию. Впредь я терпеть твои попреки не намерен и больше не приду к тебе. Вот родишь сына – тогда поговорим. А сейчас прощай!
– Иди! Я тоже не хочу тебя видеть! Нам с сыном ничего от тебя не нужно, изменник и предатель!
На том они и расстались.
А вот сейчас Евфимия пожалела о том, что была так непреклонна с Аларихом. Ну, отчасти непреклонна…
* * *
Фиона, казалось, забыла о существовании Евфимии. Заказы на вышивки так и сыпались от лечившихся на водах аристократов: не только женщины, но и мужчины того времени носили одежды, расшитые серебром, золотом, жемчугом и каменьями. Мастериц не хватало, было взято еще несколько учениц из числа молодых рабынь, руки которых еще не было окончательно попорчены грубой кухонной или садовой работой.
– Вот родишь ребеночка, найдем ему какую-нибудь девчонку в няньки, а тебя я поставлю учить молодых вышивальщиц, – обещала Евфимии старшая мастерица. Но не случилось ни того ни другого.
Глава четырнадцатая
Ребенок еще раз попытался спасти мать от опасности: он родился недоношенным, как будто знал, что следует поторопиться с появлением на свет, чтобы доказать, что он в утробе столько времени, сколько показала Евфимия. Если и были у Фионы какие-то подозрения, они должны были окончательно рассеяться, и, похоже, так и случилось. Услышав от Кифии, что Евфимия рожает, хозяйка прислала к ней повитуху со всем необходимым, и та приняла роды прямо в пещерке. Поначалу дитя не хотело дышать, потом, после того как повитуха подняла его за ножки одной рукой, а другой похлопала по спинке, все-таки задышало и заплакало, но тут же уснуло, не взяв грудь. Повитуха заявила, что стоило бы окрестить младенца сразу же, потому что неизвестно, доживет ли он до завтра.
– Вот только крестика у меня с собой нет, – сказала она.
– У меня все давно приготовлено, матушка, – сказала Евфимия. – Кифия, там, в нише за занавеской, висит узелок – в нем приданое для малыша. Достань, пожалуйста!
– Чу́дно! – сказала повитуха. – А пузырек со святой водой у меня всегда с собой, когда я иду на роды.
Бледная от волнения Кифия достала узелок и развернула его на столе.
– О, да у твоего сыночка богатое приданое! Рубашечку крестильную мы надевать сейчас не станем: если ребеночек останется жив, ты его в ней снесешь в церковь на миропомазание и воцерковление. Ты мне только крестик дай, девушка, все остальное подождет, нам сейчас не до красоты.
Вместо купели повитуха наполнила водой из кувшина чашу, в которой умывалась Евфимия, и крестообразно вылила в него святую воду из пузырька.
– Как ты хочешь его назвать? – спросила она.
– Фотием, в честь моего отца.
Повитуха окрестила мальчика, трижды окунув его во имя Отца, и Сына, и Святого Духа, и нарекла Фотием. Кифия ей помогала, она же стала крестной матерью младенца, это получилось как-то само собой. Она и Символ веры прочла как восприемница.
– Ну, теперь если маленький Фотий и умрет, то умрет христианином! – удовлетворенно сказала повитуха, вытирая кричащего младенца и передавая его Кифии. Та ловко обернула дитя свивальником в маленький кокон, оставив снаружи только головку.
– Он не умрет! – сказала Евфимия слабым, но счастливым голосом. – Дайте мне его!
Она приложила сына к набухшей груди, и он принялся сосать.
– Ну вот, как окрестили, так и воскрес! – сказала довольная повитуха. – Пойду и скажу хозяйке, что у нее прибыток: родился еще один раб.
– А это ничего, что он такой махонький? – спросила Кифия.
– Это для вольной женщины он был бы мелок, а для рабыни – в самый раз. Я даже не стану говорить хозяйке, что он недоношенный, чтобы не огорчать ее, а то еще пожалеет молока для роженицы.
– Не говори, – согласилась Кифия. – Вот тебе за труды, матушка, и за молчание, – с этими словами она передала женщине серебряную монету.
«Кифия все знает, – подумала Евфимия, – это, наверное, Аларих велел ей заботиться о нас… Отец твой нас не бросит, малыш!»
Повитуха собрала в сумку орудия своего ремесла и отправилась с докладом к хозяйке, а Кифия побежала в мастерскую, чтобы сообщить всем радостную новость о рождении в мир нового христианина. Вышивальщицы принесли для младенца целую кучу тряпок, а для Евфимии – сменную тунику и чистые обрезки ткани для послеродовых нужд. Кассия принесла еще одну очень нужную вещь – теплое покрывало из овечьей шерсти: уже наступила осень и в пещерке по ночам становилось холодно. Гречанка тоже сходила к хозяйке, и Евфимии было разрешено неделю оставаться в своем жилище, после чего она должна была снова вернуться в мастерскую, но уже вместе с младенцем. Фиона разрешила Кассии поставить в углу мастерской колыбельку, которой пользовались рабыни для своих новорожденных; заказов на вышивки была прорва, сезон купаний кончался, и богатые гости Иераполиса хотели увезти с собой знаментые фригийские вышивки. Скандала, которого так боялась Евфимия, не случилось. Случилось гораздо худшее.
* * *
Аларих отсутствовал, когда у него родился ребенок. Узнав от Кифии о рождении сына, он улучил время и пришел вечером в пещеру Евфимии. Младенцу была неделя от роду, и назавтра Евфимия должна была вместе с ним явиться в вышивальную мастерскую и приступить к работе.
– Я пришел посмотреть на сына, – сказал он, входя в пещерку.
– Смотри. Он похож на тебя…
Взяв из ниши светильник и подняв его повыше, Аларих посмотрел на маленький длинный свиток с торчащей из него белокурой головкой. От света ребенок проснулся и открыл светлые голубые глаза.
– И вправду похож… Ну здравствуй, маленький готф! Поприветствуй своего отца!
Ребенок послушно запищал.
Аларих и Евфимия засмеялись.
– Давай назовем его Гайной, в честь нашего общего друга, – улыбаясь, сказал Аларих.
– Прости, не могу, – ласково и с сожалением сказала Евфимия. – Малыш родился недоношенным, я испугалась, что он умрет некрещеным, и повитуха окрестила его.
– И как же ты его назвала?
– Фотий…
Аларих сверкнул глазами.
– Это уж не в честь ли твоей няньки?
– Ну что ты, это в честь моего отца! Хотя Фотий и Фотиния по-гречески означают «светлый» и «светлая».
– В таком случае следовало бы назвать мальчика Фионом. Это значит «светлый» на нашем языке. И жене моей должно польстить. Ты зря поторопилась окрестить его, но я это исправлю – велю священнику окрестить его заново и назвать Фионом.
– Бог с тобой, Аларих, да разве так можно делать?
– А доверить крещение ребенка какой-то бабке разве можно?
– Да, можно. Так крестили сына Фамари. Наша Фотиния принимала у нее роды, мальчик тоже родился недоношенный и слабенький, и нянюшка сама его окрестила с именем Тума. Это было во время осады Эдессы, и священника мы тогда не могли дожидаться. Потом он, конечно, дополнил крещение Таинством миропомазания.
– Вечно эта ваша Фотиния… Но без священника и тогда все же не обошлось! Я поговорю с отцом Алексием и попрошу его заново окрестить младенца.
– Ты лучше расскажи ему все как есть и спроси совета. Он ведь знает, что это твой сын.
– Ничего он не знает!
– Как?! – ужаснулась Евфимия. – Неужели ты ему ни разу не исповедал свой грех?
– Какой грех, Евфимия?
– Двоеженство, конечно же!
– Ну вот что, милая. По-моему, ты после родов слишком осмелела. Кто дал тебе право судить меня и мои грехи? И не я ли велел тебе молчать о наших отношениях под страхом смерти?
– Я и молчала.
– Правильно делала. И не вздумай отцу Алексию что-нибудь выболтать на исповеди!
Евфимия опустила голову.
Аларих побледнел.
– Ты ему уже успела все рассказать на исповеди, – сказал он, больше утверждая, чем спрашивая.
– Да. Я ведь не думала, что ты умалчиваешь свой грех в Таинстве.
– Господи, ну какая же ты дура! Я исповедовался в своем грехе епископу в Лаодикии. Благодаря тебе, между прочим. Он отпустил мне грех, и больше я в нем не каялся и каяться не собираюсь.
– Но ты же продолжал грешить?
– А ты разве нет?
На это Евфимии возразить было нечего, и она промолчала.
– Значит, так. Пусть уж твой младенец носит то имя, какое ты ему дала. Только учти, с этого момента я его своим сыном не считаю. Да и вообще, откуда я знаю, что это мой ребенок? От тебя да от твоей няньки. С чего бы мне верить вам обеим, что это мой сын?
Евфимия ахнула.
– Но ты же взял меня невинную!
– А кто об этом знает?
– Но ты же сам видел, что мальчик…
– Что я видел? Что младенец светловолосый и голубоглазый? Да сколько готфов расхаживало по Эдессе перед нашей свадьбой и сразу после нее?! Тот же Гайна, который, кстати, имел постой в твоем же доме! Так что изволь молчать, моя милая, если не хочешь потерять своего ребенка. Иначе я прикажу его отнять у тебя и продам за гроши первому же работорговцу. Или подарю кому-нибудь.
– Святые угодники! – воскликнула Евфимия. – Да есть ли предел твоему коварству, Аларих?
– Можешь сколько угодно поминать святых угодников, можешь вспомнить даже мучеников Самона, Гурия и Авива, которых твоя недоверчивая мать взяла тебе в свидетели и покровители, можешь им жаловаться на меня, но людям ни слова, ни звука! Никому!
Уязвленная его словами и пораженная до глубины сердца, Евфимия молчала, глядя на Алариха полными слез глазами.
– Ты поняла меня, Евфимия?
– Да. Я только сейчас поняла тебя до конца…
– Можешь не начинать свое обычное нытье, я уже сыт им по горло! Ты сама все окончательно испортила, и на этом все наши отношения кончены. Я оставляю тебе и твоему ребенку жизнь, но с одним условием – живи и молчи. Я сказал!
С этими словами Аларих покинул пещерку, даже не оглянувшись на сына.
* * *
А жизнь продолжалась. Рано утром на другой день, проплакав всю ночь и горючими слезами испортив даже молоко: утром Фотий не захотел брать грудь и, глотнув два раза, отвернулся и уснул. Евфимия поменяла ему свивальник, обмыла его и понесла в церковь.
После службы отец Алексий совершил над младенцем Фотием Таинство миропомазания, провел обряд воцерковления и отпустил всех с миром.
В мастерской по этому случаю устроили маленький праздник. Все пяльцы с незаконченными работами накрыли чистыми полотнами, как делали всегда после работы, и на столе для раскройки накрыли скромный пир. Приглашена была, конечно, и Кифия, крестная мать младенца. Сам Фотий, одетый в свою нарядную крестильную рубашечку, мирно посапывал в колыбели, хотя простой и старенькой, но зато украшенной лентами. Пили разбавленное вино, заедали сластями и фруктами, принесенными Кифией.
Улучив минуту, Кифия шепнула Евфимии:
– Не печалься, голубка, а то опять сквасишь молоко для моего крестника! Наберись терпения, молись Богу, и все как-нибудь уладится. У братца моего характер вспыльчивый, но отходчивый. Вот ты поправишься, похорошеешь, как все мамочки, Фотий подрастет, и я уж устрою так, что Аларих заглянет к вам хотя бы на минуточку. А где минуточка, там и часок. Ты только веди себя с ним правильно, тут ведь одной любви мало. Думаешь, Фиона не любит своего мужа? Любит, страстно любит, а он от ее любви под вражеские стрелы убегает, потому что ему тесно и душно в ее жадных хозяйских объятиях. Так ты будь умней: дай ему во всем полную свободу, будь кроткой, послушной и ласковой, пой ему почаще любимую песню мужчин: «Все будет так, как ты хочешь, милый!» – Аларих и растает. А там, глядишь, он и отвезет вас в свой загородный дом, где ты будешь полной хозяйкой. А я, между прочим, уже намекаю Кассии, что не худо было бы устроить еще одну мастерскую для обучения новых учениц, где-нибудь подальше от города, чтобы девочки ни на что не отвлекались, а прилежно учились мастерству. Я пока не говорила ей, кто подходит на роль их наставницы, но ты, я думаю, догадываешься, кого она выберет. А не выберет сама, так я ей подскажу. А пока потерпи. Люди говорят: «Бог терпел и нам велел!» – забывая добавить, что «нам» почему-то всегда означает нам, женщинам.
И обе засмеялись. У Евфимии немного отлегло от сердца.
Глава пятнадцатая
Кончились все срочные заказы, наступило спокойное время. Теперь мастерицы исполняли только работы на церковь, которых было немного, да готовили вышивки впрок, к будущему сезону. В мастерской было тихо и тепло от двух больших жаровен, которые по приказу хозяйки постоянно меняли: она следила за тем, чтобы руки вышивальщиц не мерзли.
Маленький Фотий подрастал, ему уже сменили свивальники на маленькие теплые вязаные туники, и он с удовольствием ворочался в своей колыбельке и даже начинал садиться. Баловали его все, и, как только он начинал капризничать или просто гукать, кто-нибудь из мастериц тут же подходил к нему, чтобы взять на руки. А если была нужда, то и подгузничек ему меняли.
Из кухни для Евфимии каждое утро присылали в столовую кувшинчик молока и ставили на стол возле ее места. Молока у нее хватало, младенец рос, да и сама она похорошела, щеки порозовели, глаза снова заблестели. Она уже начала немного говорить по-готфски, а песни, которые пели мастерицы за работой, выучила почти все.
* * *
Отпраздновали Рождество Христово, за ним Богоявление[98]. Неспешно катились к весне тихие зимние месяцы. Аларих исчез из города. Кифия шепнула Евфимии, что он отправился в поход на юг, и это утешало молодую мать: она верила, что, будь он в Иераполисе, он бы непременно навестил ее, зашел хотя бы взглянуть на сына, если не к ней…
Мальчик рос, уже начал ползать и совершать путешествия по мастерской, исследуя все доступные ему уголки. Кассия приказала раньше времени вынести жаровни, чтобы малыш не обжегся, и, хотя в мастерской еще было прохладно, никто из вышивальщиц не возражал: все любили Фотия и согласны были ради него потерпеть небольшое неудобство.
Приближалась Пасха. На праздники приехал Аларих. Он пока не заглянул к Евфимии, но она затаенно улыбалась, думая о нем.
Между тем хозяйка заказала мастерицам сшить ей к празднику новый наряд белого цвета, богато расшитый серебром, шелками и жемчугом. Такие же наряды готовились и ее дочерям, только чуть скромнее. И как-то Фиона решила зайти в мастерскую посмотреть, как движется работа.
Был солнечный день, работать при таком свете было легко и удобно, мастерицы тихонько пели, а Фотий сидел над корзиной с обрезками и что-то довольно гукал, перебирая разноцветные лоскутки. При входе хозяйки вышивальщицы прекратили пение и встали. Фиона подошла к одним пяльцам, к другим, посмотрела на вышивки и осталась довольна. Она уже собиралась уходить, как в наступившей тишине раздался громкий радостный возглас малыша: это луч солнца упал на его золотую головку и заиграл на ярких лоскутках. Фиона покосилась на него и отвернулась, продолжая рассматривать вышивку. И никто не заметил, как Фотий, то ли привлеченный густым запахом розового масла, исходящим от одежды Фионы, то ли попросту принявши ее за мать, вдруг быстро подполз к ней и уткнулся ей в ноги.
– Что такое?! – резко вскрикнула Фиона. – Уберите это от меня!
Евфимия подскочила, подняла мальчика и прижала его к груди. А он, не испугавшись грозного окрика и не почувствовав испуга матери, протянул ручонку к ярким сине-золотым бусам, украшавшим грудь хозяйки.
Та, нахмурившись, отодвинулась, но принялась пристально разглядывать младенца, потом отвернулась и сказала Кассии:
– Унесите отсюда этого щенка! Я не желаю, чтобы мой наряд и платья моих дочерей провоняли младенцами!
Кассия молча склонила голову в знак послушания.
– Я проверю! – предупредила хозяйка и вышла за дверь.
Евфимия стояла ни жива ни мертва.
– Но в пещерке моей стоит такой холод! – сказала она Кассии, когда шаги хозяйки затихли. – Малышу будет там холодно и страшно одному! По ночам я согреваю его своим телом, но как он будет без меня днем, когда я буду уходить на работу?
– Не бойся, милая, и не кручинься, – сказала Кассия, подходя к ней и обнимая ее, – мы поставим в твое жилище жаровню и будем следить, чтобы в ней всегда были уголья.
– Но в пещеру в поисках тепла могут заползти змеи: я уже как-то согнала одну прямо с моей постели!
– А мы обложим колыбель изнутри овечьей куделью: мальчику будет в ней тепло и уютно, а змеи не заползут в такую колыбель: они, как и скорпионы, боятся овечьей шерсти, потому что овцы их загрызают.
– Почему она вдруг так разъярилась на моего сына, если осенью сама велела поставить его колыбель в мастерскую?
– Тогда она думала лишь о том, чтобы ты не стала медленнее работать, беспокоясь о ребенке. А сегодня она, должно быть, в скверном расположении духа, вот малыш и попался ей под горячую руку. Да еще, говорят, она вообще дурно относится ко всем маленьким мальчикам, ведь сама она никак не может родить сына Алариху.
Евфимия опустила голову и замолчала.
* * *
Расстроенная Кассия приказала девушкам помочь Евфимии перенести колыбель в пещерку и выстелить там полы необработанной куделью, хранящей запах овец.
А вечером к Евфимии пришла Кифия и разъяснила причину гнева Фионы.
– Хозяйка устроила сегодня ссору с Аларихом. Она кричала ему: «Неужели ты и теперь будешь отрицать, что сожительствовал с этой рабыней, ведь ребенок как две капли воды похож на тебя, у него даже улыбка твоя!»
– А что ответил Аларих?
– Ох, Евфимия, мне больно это тебе говорить, но братец мой повел себя как последний трус. Он сказал ей: «Я уже сто раз говорил тебе, что я не был с этой девкой. А если ты на нее гневаешься, так ведь она твоя рабыня, поступай с ней и ее пащенком, как сама знаешь».
Евфимия схватилась за голову обеими руками и зарыдала в голос. Кифия обняла ее и стала успокаивать, но та была безутешна.
* * *
Прошло несколько дней. Маленький Фотий оставался теперь один в пещере, а Евфимия мрачно сидела за вышивкой, не пела вместе со всеми и ни с кем не разговаривала. По нескольку раз в день она отпрашивалась у Кассии проведать сына, бегала к своей пещере, часто заставала бедного Фотия плачущим, брала его на руки, успокаивала, кормила, но всякий раз должна была снова возвращаться в мастерскую, подлив масла в светильник, который теперь постоянно держала зажженным.
Однажды она вошла в пещерку и услышала, что мальчик хрипит и задыхается. «Простудился!» – подумала она, но, склонившись к младенцу, увидела, что из его ротика течет пена синеватого цвета. «Змея укусила!» – в ужасе подумала Евфимия и, схватив клочок кудели, обтерла эту пену и сунула кудель в свою поясную сумочку, чтобы показать лекарю, а затем выхватила Фотия из колыбели и помчалась с ним к господскому дому.
– Помогите! Моего ребенка укусила змея! – кричала насмерть перепуганная молодая мать всем встреченным рабам и слугам. Ее окружили люди, сочувствуя ей, а кто-то догадался позвать Кифию и хозяйку.
– Лекаря! Скорее лекаря: мой ребенок умирает! – кричала Евфимия, прижимая к груди маленькое тельце, не замечая, что оно уже начало холодеть.
– Не умирает, а уже испустил дух! – холодно сказала Фиона, внимательно посмотрев на лицо младенца. – Заберите его у нее и заройте в навозную кучу, как падаль!
Кто-то и впрямь протянул руки, чтобы забрать из рук Евфимии мертвого мальчика.
Евфимия прижала его к груди и, обернувшись, к Фионе, закричала:
– Это ты убила моего ребенка!
– Замолчи, мерзавка! – крикнула Фиона и ударила ее унизанной перстнями рукой по лицу. Из оцарапанной щеки Евфимии потекла кровь. – Как ты смеешь клеветать на меня? Я прикажу запороть тебя до смерти!
– Успокойся, хозяйка! – сказала Кифия так громко, чтобы ее услышали все, в том числе и бедная мать. – Евфимия хочет сказать, что это ты приказала держать ребенка в пещере, и там его ужалила змея. Но скорее всего это не змеиный укус, а обычная детская горловая болезнь, при которой ребенок задыхается. Бедняжка сама не понимает, что говорит, уж пожалей ее, госпожа. А ребенка надо похоронить по-христиански, это крещеное дитя.
– Пусть научится думать, что говорит, – сказала Фиона, немного остывая. – Заберите у нее мертвое дитя и похороните как знаете, а ее отведите в камору для наказанных и заприте там: пусть посидит на холодке и придет в себя.
Ребенка у рыдающей Евфимии отобрали, а ее саму повели в камору – небольшой чулан с одним маленьким окошком под сводом, куда запирали провинившихся рабов. По дороге она вдруг подняла глаза и увидела на галерее второго этажа Алариха, наблюдавшего сцену во дворе и, судя по виду, даже и не помышлявшего вмешаться.
– Будь проклят, ты, детоубийца! Бог тебя накажет за это злодеяние! – крикнула она Алариху по-арамейски, но никто во дворе, кроме разве что Кифии, не понял ее и не обратил внимания на эти слова. Родного языка Евфимии люди не знали, а глаз ее не видели, потому что лицо несчастной было закрыто растерзанными в горе волосами.
* * *
Маленького Фотия обмыли, нарядили в его чудесную крестильную рубашечку, завернули в чистые пелены и отпели в домашней церкви. Потом Кифия и Кассия с вышивальщицами в сопровождении нескольких рабов отнесли крошечный трупик в большую погребальную пещеру для рабов на краю сада. Рабы отодвинули камень, закрывавший вход, женщины уложили маленький белый свиток на возвышении, среди других спеленутых мертвых тел, и снова задвинули тяжелый камень.
* * *
По прошествии семи дней Фиона приказала выпустить Евфимию из каморы и отправить на кухню – там теперь было место ее работы. Кифия приставила ее к сервировке подносов с едой, приуготовляемых для трапезы хозяев.
– А после тебе придется еще чистить котлы, но не все, а только самые дорогие и маленькие, – сказала домоправительница. – Это все поблажки, которых мы с Кассией смогли добиться. Хозяйка думала сразу отправить тебя на невольничий рынок и продать, но, хоть она и продолжает злиться, а виноватой себя все же чувствует. Кассия сказала Фионе, что твои руки нельзя портить садовой работой, ведь, даже если она захочет тебя продать, вышивальщица стоит вдесятеро дороже кухонной рабыни. Но мы надеемся, что через какое-то время хозяйка смягчится и вернет тебя в мастерскую. По крайней мере, весной, когда в Иераполис опять начнут съезжаться на купание богачи и вышивки опять пойдут нарасхват, ей придется это сделать. Если она не совсем дура, прости меня, Господи!
– Мне все равно, – равнодушно ответила Евфимия.
Старшая кухарка подвела ее к столу, на котором стояли с десяток серебряных и два позолоченных подноса.
– Поставь на них тарелки и чаши для вина. На золоченые хозяйские подносы – вот эти золотые чаши и тарелки, а на остальные – серебряные. Разлей вино по чашам, а на тарелки положи по две лепешки. Когда ударит колокол к обеду, слуги отнесут их на стол. В одну хозяйскую чашу налей неразбавленное вино, а в другую пополам с водой: хозяйка наша любит настоящее вино, а хозяин научился у греков портить вино водой, – и добавила, фыркнув: – У нас, готфов, вино разбавляют водой только лукавые продавцы! А чтобы не перепутать подносы, какой для хозяина, какой для хозяйки, мы на хозяйкин кладем веточку базилика. Все запомнила?
– Я запомнила, – тихо ответила Евфимия. Она механически исполняла все, что ей приказала старшая кухарка, но руки ее делали, а в голове крутились слова Кифии: «Хозяйка чувствует себя виноватой!» – и от них у Евфимии горело сердце и кружилась голова: была ли виновницей смерти ее сыночка горловая детская болезнь или змея из сада? Или та змея – сама Фиона?
Евфимия разливала вино по чашам, держа кувшин в левой руке, а правой ощупывала поясную сумочку: в ней все еще лежал клочок кудели, которым она обтерла пену со рта Фотия.
Несчастная женщина стояла над подносами в ожидании колокола, а сама все думала и думала. Если мальчика укусила змея, то, конечно, яд вполне мог быть и в пене. Лекарь определил бы и дал противоядие – если бы был лекарь! Но в пене, которую Евфимия отерла овечьей шерстью, оказалась бы лишь ничтожная часть змеиного яда, недостаточная для того, чтобы отравить еще кого-нибудь. А вот если Фиона влила какой-то сильный яд прямо в ротик мальчика, тогда…
У Евфимии кружилась голова и темнело в глазах, она держалась обеими руками за стол, пристально глядя в чашу с вином, возле которой лежала темная веточка базилика…
Ударил колокол. Раз, другой… Если делать, то надо спешить! «Я хочу знать правду!» – подумала Евфимия. Она вытащила кудель и дрожащими пальцами погрузила ее на дно чаши с вином, предназначенным для Фионы. «Теперь я увижу, ты ли дала что-то моему мальчику, от чего он умер. Если же это не ты, я буду знать, что смерть ему ниспослана Богом, и смирюсь с нею».
Глава шестнадцатая
В траур и ужас был погружен дом готфа Алариха, архонта имперской армии. Сам Аларих, две его дочери, все домочадцы и гости были потрясены смертью Фионы. Отпив несколько глотков вина из чаши, несчастная коротко вскрикнула, закатила глаза, выронила сосуд… Чаша покатилась по полу, а следом за нею и сама женщина. Когда подбежали и подняли ее, она была уже бездыханна.
Вино из чаши вылилось на пол, и тут все увидели на дне ее темный комок кудели.
– Вот чем отравили мою жену! – воскликнул Аларих. Он поставил чашу с доказательством преступления на дне на поднос и накрыл полотенцем. – Пусть никто не притрагивается к этому до прибытия дознавателей!
Он прошел на кухню, допросил старшую кухарку и прочих кухонных слуг, и все в один голос утверждали, что подносы к выносу готовила только что назначенная на кухню рабыня Евфимия, она же и вино разливала по чашам.
– В камору ее! Немедленно! – приказал Аларих. – И в пещеру ее пусть никто не заходит до прибытия дознавателей!
* * *
Такое страшное злодеяние должен был расследовать и судить только сам правитель области, но правителя как раз в этот момент не было в Иераполисе – он отправился по делам в Гордион, столицу Фригии. Семь дней ждали его возвращения, не погребая тела Фионы, а Евфимию держа в той самой каморе, в которой она уже сидела под замком после гибели сына. Дознаватели между тем обыскали пещеру Евфимии, увидели до сих пор не вынесенную колыбель умершего младенца, полную овечьей кудели, сходной с той, что нашли на дне чаши. Все опрошенные ими слуги подтвердили, что хозяйка ненавидела Евфимию, что она изгнала младенца из вышивальной мастерской, что, возможно, и послужило причиной его смерти от укуса змеи; теперь эта версия принималась всеми как очевидность, и все решили, что Евфимия отравила хозяйку из мести.
Правителя что-то задержало в Гордионе, и тогда решено было в ожидании его возвращения и суда поступить с отравительницей так, как поступали и прежде с убийцами: похоронить Евфимию живою в одном гробу с трупом отравленной ею госпожи: умрет она до приезда правителя, значит, таков суд Божий, а останется жива – правитель сам дознаниями и пытками выведает от нее подробности преступления и будет судить. Кто-то даже предложил привязать несчастную к уже разлагающемуся и кишащему червями трупу, дабы усилить ее мучения, но другие сочли эту меру не только чересчур жестокой, но и оскорбительной для госпожи. Под плач и стенания дочерей Фионы, ее родственников и специально нанятых плакальщиц покойную понесли на носилках к месту погребения, а окаменевшую от ужаса Евфимию, уже понявшую, что с ней хотят сделать, вели сзади, крепко держа за руки. Угрюмый Аларих шел сразу за носилками и на Евфимию ни разу не взглянул.
Когда труп был со всеми подобающими почестями и молитвами уложен на каменное возвышение, безмолвную от ужаса Евфимию втолкнули в гробницу, так что она упала на пол, не заметив широкого порога, и так осталась лежать. Специально вызванные Аларихом из казармы крепкие солдаты-нубийцы тут же заложили вход большим камнем и замазали щели известкой. Родственники Алариха и Фионы до конца проследили за их работой, а затем вернулись в дом, теперь принадлежащий уже одному Алариху, чтобы справить достойную тризну по почившей хозяйке.
Жители города, издали наблюдавшие за мрачной процессией и за жутким погребением живой отравительницы вместе с трупом ее жертвы, перешептывались, обсуждая случившееся, и некоторые пришли к заключению, что ужасная варварская казнь беззаконна не менее, чем приведшее к ней преступление, а потому надо бы сохранить жизнь преступнице до возвращения правителя и правого суда. Несколько возмущенных и сострадательных смельчаков сговорились ночью отодвинуть камень от гроба, вывести молодую женщину, если она к тому времени еще будет жива, отвести ее в городской совет и препоручить страже. Но, забегая вперед, скажем, что этому праведному намерению не суждено было сбыться, ибо, увидев, что по приказу Алариха погребальная камера была заставлена не обычной тонкой плитой известняка, но крупным и неподъемным даже на вид гранитным камнем, а боковые щели вокруг него замазаны известью, храбрецы отказались от своего плана: «Если Господу будет угодно, она и без нас спасется!» – сказал самый благочестивый из них, и все разошлись.
* * *
Первые часы страшного заключения Евфимия провела в беспамятстве, лежа на каменном полу гробницы. Когда она пришла в себя, сначала ей показалось, что ее окружает непроглядная тьма. Но потом она заметила, что вверху между камнем и сводом пещеры имеется щель почти с вершок, через которую в гробницу проникают свет и воздух. Впрочем, света хватало лишь на то, чтобы превратить тьму в тусклый сумрак, а воздуха – чтобы чуть развеять густой смрад, исходящий от разлагающегося трупа.
Евфимия бросилась к камню и принялась стучать в него сжатыми кулаками, взывая о помощи и милосердии: «Помогите мне кто-нибудь! Выпустите меня отсюда ради Христа, люди добрые!» Но ответом ей была полная тишина, нарушаемая лишь гудением мух возле узкой щели наверху: то ли они влетали в пещеру, влекомые трупным зловонием, то ли уже вылуплялись на самом трупе и, напитавшись до отвала, стремились наружу. Этого Евфимия не знала и знать не хотела, она лишь с омерзением смахивала с себя тех из них, что садились на нее и больно жалили обнаженные руки и лицо. Очень скоро она в кровь разбила костяшки пальцев о камень и кричать уже больше не могла, потому что голос ее превратился в едва слышный хриплый шепот. Тогда она перестала взывать к людям и обратилась к Богу и тем святым, которым когда-то поручила ее мать, выдавая замуж:
– Святые мученики Самон, Гурий и Авив, вам моя мать поручила меня, отдавая, сама того не ведая, злодею и клятвопреступнику. Помогите же мне, спасите меня, изведите меня из этой страшной темницы! Помогите мне, помогите, умоляю вас, святые Божии угодники!
Она молилась и молилась, а когда, вконец обессиленная, умолкала, в наступающей тишине ей казалось, что окружающий ее со всех сторон камень не пропускает ее молитв, что они не поднимаются в небо, а проскальзывают, как песок сквозь пальцы, и падают возле нее на холодный пол. «Почему, почему не слышат меня святые поручители? – думала она в отчаянии и муке. – За что должна я терпеть мне такое бесчеловечное и безбожное наказание? Меня обманули, предали, увлекли обманом в чужую страну, превратили в рабыню и погубили единственное мое дитя. Фиона умерла, упав в ту же самую яму, в которую столкнула моего сыночка. Это справедливое возмездие. Но чем же я-то прогневила Бога, что должна умереть рядом с ее смердящим трупом куда более страшной смертью, чем она? Она-то хоть умерла мгновенно, а сколько я должна мучиться, прежде чем и ко мне придет смерть? О, простите мне этот ропот, святые угодники эдесские, но услышьте же меня и помогите!»
Но как ни жаловалась она, как ни молила святых Самона, Гурия и Авива – ответа ей не было. И наконец она забылась тяжелым сном, скорчившись на пороге.
* * *
Проснулась она от звука чьих-то шагов и в ужасе открыла глаза. Уже наступила ночь, и во всю длину узкой щели над камнем проникал тонкий луч луны. Света от него было немного, он едва-едва выхватывал из тьмы центр погребальной камеры, но первое, что разглядела в этом свете Евфимия, был укутанный саваном труп Фионы. И вдруг она увидела, как саван стал медленно сползать с тела, показались лицо мертвой женщины и ее сложенные на груди руки. Евфимии почудилось, что в плохо различимом лице что-то изменилось, какая-то тень легла на него, как будто усопшая подняла руку и прикрыла ею лицо. А потом Евфимия уже совсем ясно увидела, как другая рука Фионы скользнула с груди на край погребального ложа и стала манить бывшую рабыню к себе.
Евфимия вскочила с порога, прижалась к стене и закричала. И только тут она различила в тусклом свете луны, как на теле покойницы, ее лице и руках шевелилось несколько черных существ. «Это же крысы!» – поняла Евфимия, закричав еще громче и затопав ногами. Крысы с писком попрыгали на пол пещеры одна за другой с тяжелым стуком, похожим на шлепанье сандалий, а после она увидела их силуэты в щели над камнем. В пещере все стихло, и труп Фионы снова стал неподвижным. Отерев со лба выступивший от страха пот, Евфимия поднялась и нашла в себе силы подойти к ложу Фионы. Лицо ее было ужасно: крысы уже успели отгрызть ей губы и оттого казалось, что Фиона злорадно улыбается или угрожающе скалится. Трясущимися руками Евфимия ухватила край савана, который крысы успели наполовину стащить, и натянула его на лицо покойницы, после чего отошла к противоположной стене гробнице и села на пол. Приблизиться к выходу из пещеры она больше не решалась, хотя воздух там был чуть менее смрадным: она боялась, что вновь осмелевшие крысы могут прыгнуть из щели прямо ей на голову. Но села Евфимия так, чтобы видеть щель. Она разулась, поджала под себя босые ноги, а сандалии поставила рядом с собой и держала на них руку. Она пристально глядела в подсвеченную луной щель и вскоре заметила прямо посередине ее горбатый силуэт. Она крикнула и бросила в него сандалию: не попала, но напугала – крыса с писком исчезла. Евфимия осторожно подошла к камню, подобрала свое оружие и вернулась на место.
«Не спать! Только не спать! Утром крысы уйдут и, может быть, придут люди. Если правитель Иераполиса завтра вернется в город, меня заберут отсюда на суд. А может, Аларих пожалеет меня и велит отодвинуть камень от входа… Еще одной ночи здесь я не переживу!»
Евфимия несколько раз засыпала в изнеможении, но почти тут же просыпалась от страха и тревоги. Потом все-таки уснула, как упала в омут, и какое-то время проспала тяжелым сном без сновидений.
* * *
Проснулась она уже утром, когда в щель над камнем проник солнечный луч. За каменной стеной пели птицы, но недолго – пошумели и разлетелись по своим делам. Зато снова басовито загудели мухи, роя́сь над трупом Фионы. Евфимия старалась не смотреть в ту сторону, но, если взгляд ее падал на страшную соседку, она думала в гневе: «Ей хорошо здесь лежать, ничего не чувствуя и не страдая, а почему я должна разделять ее судьбу?»
В погребальной камере было холодно и нестерпимо душно. О еде Евфимия и не вспоминала, но ее начала мучить жажда. «Хотя бы глоток воды, один только глоток!» – думала она. Рот ее пересох, губы потрескались и болели, а голос, когда она время от времени подходила к камню и звала на помощь, звучал тихо и хрипло.
Молиться она уже почти не могла, а если молилась, то в молитвах ее звучала обида на Бога и святых, оставивших ее без помощи в столь гибельном положении. Ей оставалось только ждать, надеясь на то, что правитель скоро вернется в город и узнает обо всем случившемся. Если это не произойдет слишком поздно…
Чтобы протянуть время, Евфимия стала вспоминать обо всем, что с нею произошло, с самого начала – с того дня, как она увидела лицо Алариха со стены Эдессы. Но, странное дело, теперь ей все вспоминалось уже совсем не так, как привыкла она думать о своей любви к Алариху бессонными ночами в пещерке рядом с безмятежно сопящим сыном. Страх или зловоние были тому виной, но воспоминания о ласках Алариха вызывали теперь у нее теперь только холодное негодование и гнев. Причем гнев этот был направлен не только на него, но и на самое себя. «Как я могла? – думала Евфимия. – Почему я не бежала от него, как только узнала правду? Разве не было у меня такой возможности? Не надо лгать самой себе – возможность такая была, и не раз. Хотя бы в ту ночь у Озера слез, где он убил так жестоко прямо на моих глазах прекрасную розовую птицу! После того как я узнала всю правду, разве не могла я ночью взять у него карту, которую ему подарил мой друг Товий, и уйти от него? На мне была еще моя одежда и драгоценности, да я могла бы что-то взять и из своих переметных сум, пока он спал, – он же всегда так крепко спит! С картой, в хорошей одежде я могла бы вернуться в Эдессу окольными путями, продавая по дороге свои драгоценности. Я могла бы просить помощи у добрых людей, меня бы взяли в караван за небольшую плату купцы, которых мы немало встретили по дороге! Да в первом же храме мне мог бы помочь священник, ведь не все же из них такие лицемеры и трусы, как тот лаодикийский епископ! Так что же помешало тебе бежать, несчастная Евфимия? – мысленно вопрошала она. И сама же себе честно отвечала: – Любовь моя мне помешала… На самом деле я хотела остаться с Аларихом любой ценой. Вот и заплатила цену, которой предугадать не могла».
Но, странное дело, никакой любви к Алариху она уже не чувствовала при этих словах. Более того, когда она, проверяя себя, попыталась вспоминать его поцелуи и объятия, вдруг почувствовала глубокое отвращение к нему и к себе, доходящее до тошноты.
«Я и потом много раз могла бежать, – сокрушалась она, – даже без денег и в одежде рабыни. Пусть нищей побирушкой, от храма к храму, но я могла дойти до родного дома, ведь я все время была в христианской стране! И не осмелился бы Аларих разыскивать меня как беглую рабыню, на это он не решился бы… Храбрый воин, в житейских делах он жалкий трус и лукавый обманщик».
В таких раздумья Евфимия и провела весь день. Под вечер мухи частью вылетели в щель, частью разлетелись по пещере, устраиваясь на ночь по темным углам, а люди так и не появились. В пещере стемнело, и оставалось только сидеть и ждать очередного нашествия крыс. А пока их не было, Евфимия, положив руку на снятые сандалии, задремала.
* * *
Очнулась Евфимия не от крысиного шороха и писка, а от грохота, раздавшегося прямо у нее над головой. «Это пришли за мною!» – подумала она и закричала:
– Я здесь, я жива! Выпустите меня, откройте скорей гробницу!
Никто ей не ответил, только снова раздался грохот и под сводом пещеры полыхнул синий отблеск молнии. «Это гроза и гром, – поняла Евфимия, – теперь уж за мной точно никто не придет. Зато не придут и крысы, ведь они боятся воды!»
Она сидела в полудреме и слушала шум ливня, следующие один за другим раскаты грома и треск молний. На покойницу она старалась не смотреть, потому что при блеске молний ей казалось, что саван на Фионе шевелится…
Вдруг раздался особенно сильный удар грома, оглушивший Евфимию, а вспышка молнии осветила почти всю погребальную камеру, и одновременно произошло несколько событий: закрывавший вход камень треснул из угла в угол наискось и покачнулся; пленница увидела, как с грохотом рухнул вниз отшибленный молнией кусок валуна, и почувствовала на лице дуновение ветра и крупные капли дождя, а снизу что-то холодное коснулось ее ног. «Змея?» – испугалась Евфимия в первое мгновение и отдернула ногу, но при свете следующей молнии увидела лишь быстро бегущий в пещеру поток воды шириной в ладонь.
«Чудо! – встрепенулось ее сердце. – Гроза разбила камень, и сейчас я выйду отсюда, но сначала – пить, пить, пить!» Евфимия рухнула на колени, нашарила бегущий со ступеньки ручеек и принялась собирать ладонями воду, нимало не беспокоясь о том, что́ там успела собрать с пола пещеры текущая вода. Женщина пила долго и все поглядывала на камень: ну когда же он рухнет?
Тем временем гроза отошла куда-то дальше, ливень прекратился, и только ручеек под ногами продолжал журчать. А камень рушиться все не собирался. Ощупав его, Евфимия поняла, что он раскололся на два треугольника и обе острые вершины их отломились: на месте верхней оказалась теперь довольно большая дыра, в которую проникал свежий воздух, а внизу в почти такое же отверстие все бежала и бежала вода.
Евфимия ощупала верхний камень, попробовала его толкнуть, сдвинуть, потом постучала по обеим половинам расколотой плиты в разных местах, но ни одна из них даже не дрогнула. Немного свежего воздуха и сколько угодно грязной глинистой воды – вот и все, чем одарил ее столь удачный удар молнии в гробовой камень. И никакого чуда… Она снова уселась на пороге, обернув мокрые, озябшие ноги краем покрывала.
* * *
Гроза и ливень давно кончились, а вода все текла и текла в пещеру, и вот она уже покрыла пол и остановилась, не доходя какой-нибудь пяди до верхнего края порога. Евфимия сидела на сухом камне, но понимала: если струящийся из-под камня ручей не иссякнет, в гробнице не останется сухого места, кроме ложа Фионы. Но ручей становился все уже, тише и наконец начал совсем иссякать.
Вскоре снаружи стало светать. Придут за нею сегодня или нет? И что она будет говорить судье, если придут и поведут на суд? Как ни странно, но пока она об этом еще не задумывалась… А пора бы!
Евфимия поменяла позу: ей приходилось то одним боком, то другим прижиматься к холодному камню, и сейчас она сидела лицом к трупу Фионы. Крысы в эту ночь так и не появились, а мухи еще не прилетели, и покойницу никто не тревожил.
И что же она скажет на суде, когда ее спросят, почему и за что она отравила свою хозяйку? Она скажет правду: за то, что та отравила ее сыночка.
А если она умрет здесь до того, как за нею придут, тогда что она скажет на суде Божием? Евфимия похолодела, хотя ей и без того было не жарко. Она представила себе, что душа ее предстала перед Богом, а рядом с нею стоит Фиона. И что же они обе станут делать – обвинять одна другую? Это глупо: Господь и так видит душу каждого человека и знает все его тайны.
Фиона, ревнивая обманутая жена. А думала ли Евфимия когда-нибудь о том, что происходит в душе несчастной Фионы? Боже мой, какой же ад творился в душе ее соперницы, какое пламя ревности в ней бушевало! Справедливой ревности, надо признаться, ведь Фиона – законная жена. Она ожидала мужа из похода, а он пришел и неизвестно откуда привел женщину, молодую, красивую и… беременную. И остались ли для Фионы тайной встречи Евфимии с Аларихом? Кто-то мог видеть его у дальней пещеры и донести хозяйке… А потом родился ребенок, как две капли воды похожий на Алариха!..
Что сказала, что сделала бы Фиона, если бы сразу узнала, что Аларих обманом увел Евфимию из родного дома и города? Да, Аларих грозил ей смертью, если она расскажет кому-нибудь правду, и она молчала. Но только ли из страха? Господи, прости меня, грешницу, нет, не только! Сердце и плоть Евфимии стремились к нему, и не страх, а желание быть с ним рядом как можно дольше, любой ценой и на любых условиях – вот что мешало ей вырваться из рабского плена! Не рабой Алариха и Фионы, а рабой собственной любви она была, и даже не любви, а мучительной привязанности, страсти. Она жила как бы в каком-то раздвоении: ей и хотелось вырваться из рабства и вернуться домой, в Эдессу, но и боялась она утратить жалкие крохи своей любви, теперь уже преступной. Так что же, получается, она сама тоже виновата перед Фионой?
А разве нет? Думать так тяжело, дико, невыносимо, но ведь перед Богом не солжешь… А почему только перед Богом? Вот же она перед нею лежит – оскорбленная ею женщина.
С трудом Евфимия поднялась на затекшие ноги, встала на своем пороге, прислонившись спиной к холодному камню, и медленно, запинаясь на каждом слове, заговорила:
– Фиона!.. Я не знаю, смогла бы я когда-нибудь при жизни простить тебе смерть моего ребенка, клянусь, не знаю… Но вот ты лежишь передо мной мертвая, а я стою перед тобой во тьме погребальной пещеры еще живая, но уже тоже приговоренная к смерти. Поэтому я скажу тебе так, как сказала бы, стоя перед Богом. Я виновата перед тобой в преступной страсти к твоему мужу. Да, моя обманутая невинная любовь к нему стала беззаконной с той минуты, когда я узнала о тебе, но я продолжала любить его. Прости меня за это, сестра моя по несчастью и соседка по могиле! Я должна была через Кифию или Кассию поведать тебе правду, ведь их мне, будто нарочно, послал Бог. И думаю, Фиона, если бы я сразу доверилась тебе, ты отпустила бы меня домой, в Эдессу. А я молчала и тем самым уже сама начала обманывать тебя. И прелюбодеяние против тебя мы творили с ним вместе, хоть я и винила во всем его одного. И за это ты тоже прости меня, сестра. Я видела в тебе соперницу, я ревновала Алариха к тебе, а ведь у меня не было на это никаких прав. И оправданий тоже никаких нет. И за эту ревность беззаконную ты тоже прости меня. Что еще сказать тебе, Фиона, сестра моя по гробу? Нет, смерть моего сыночка даже сейчас я простить тебе не могу, сердце не велит. Но вот просить Господа, чтобы Он простил тебе этот великий грех, – это я могу и буду делать. Потому что теперь я понимаю и твои терзания и муки. Я ведь только здесь и сейчас поняла, что нами обеими двигало, – и когда ты убила маленького моего Фотия, и когда я из мести убила тебя. Темные женские страсти ослепили и ввергли нас во тьму греха и беззакония, бедная сестра моя Фиона! Прости меня, если можешь. А я буду молиться за нас обеих святым эдесским угодникам Гурию, Самону и Авиву, которым препоручила меня моя мать, и Господу нашему и Спасителю Иисусу Христу!
Поклонившись покойнице, Евфимия снова села на порог и начала громко молиться:
– Господи, я верю, что Ты слышишь стенания души моей и видишь, в какой тесноте, тьме и каком смраде я нахожусь. Я знаю, Господи Сил, что я и прежде находилась в подобном же положении, но душевном, когда любовная страсть сковала меня и ввергла мою душу в темную греховную темницу. Ты освободил разум мой через невыносимые страдания, просветил сердце мое и дал мне чистосердечное покаяние. Прости же меня теперь, видя мое покаяние, Господи мой Боже!
И к святым угодникам эдесским обращалась она:
– Достославные мученики Самон, Гурий и Авив, святые земляки мои, вам моя матушка вверила судьбу мою, на вашей гробнице поклялся вероломный готф сочетаться со мной честным браком и беречь меня. Вы видите, чего стоили его клятвы и в какую пучину бедствий он вверг меня. Из страшной этой темницы, как Иона из чрева кита, взываю к вам: ради Господа нашего, за Которого пролили вы свою кровь, на которой клялся отступник, ради молитв принявшей его лживые клятвы обманутой матери моей, спасите меня!
Не успела она закончить свои молитвы, как вдруг ей показалось, что в пролом каменной двери проник сначала тонкий, как спица, солнечный луч, а затем неземное сияние разлилось по всей гробнице, заливая известняковые стены и даже ложе, на котором лежала под саваном мертвая Фиона; но скоро в этом свете зародились как бы три ослепительных вытянутых солнца, и слезы выступили из ослепленных сиянием глаз Евфимии, хотя еще совсем недавно она думала, что их у нее больше не осталось. Слезы застлали ей глаза, а затем пролились через край, и просветленным взором увидела она трех светоносных мужей, сияющих, как солнце, – святых мучеников Гурия, Самона и Авива. Исчезла не только тьма, но и смрад, заполнявший пещеру, теперь все помещение была наполнено несказанно прекрасным, слаще роз дамасских, благоуханием, исходившим от святых угодников. Они сказали ей:
– Ободрись, чадо, и не бойся: по молитвам твоим, но более по молитвам твоей матери и твоей нянюшки ты скоро получишь спасение.
И сейчас же все исчезло. Свет померк, видение растаяло, осталось только неземное благоухание. Евфимия почувствовала покой в сердце и доверчивую, сонную расслабленность во всем теле. Она прилегла на холодный порог и сладко уснула.
Глава семнадцатая
Евфимия просыпалась медленно и постепенно. Она лежала на полу, но не на камне, а на каком-то ковре. Пахло ладаном и горящими свечами, воздух был тепел и чист. Затем она услышала тихое пение: «Святый Боже, святый Крепкий, святый Бессмертный, помилуй нас!» Она узнала Ангельскую песнь Пресвятой Троице и приоткрыла глаза. Сначала она увидела огоньки свеч и лампад, а затем белое мраморное возвышение, возле которого она и лежала. Опираясь на руки, она приподнялась и встала на колени: перед нею была рака с мощами святых мучеников Самона, Гурия и Авива. Она увидела и их самих, парящих в светлом облаке над самой их ракой.
– Радуйся, дочь наша! – сказал старший из них.
– Узнаешь ли ты, Евфимия, место, в котором теперь находишься? – спросил ее младший.
– Да, узнаю, – прошептала Евфимия.
– Скоро ты увидишь и свою мать. Расскажи ей и всем, что случилось с тобой, – сказал третий угодник. После этих слов сияние над ракой тихо угасло, как бы втянувшись внутрь нее прямо сквозь мраморную крышку.
Евфимия поднялась и огляделась. Да, она была в церкви святых угодников. Она тихонько обошла раку и увидела две коленопреклоненные женские фигуры. «Матушка! Нянюшка!» – узнала она, но не стала окликать их, а тоже опустилась на колени и, заливаясь слезами, принялась возносить благодарные молитвы Господу и Его святым угодникам.
Кончилась служба, София и Фотиния поднялись с колен и только тут увидели, что их уже не двое, а трое… Они обнялись и без слов зарыдали в голос.
– Доченька моя, – сказала София, первой пришедшая в себя, – откуда ты явилась и что с тобой сталось, бедная моя? Как ты похудела, личико совсем осунулось, глаза запали… Я не узнаю тебя!
– Ласточка моя, – воскликнула Фотиния, – на кого ты похожа! Что это за тряпки на тебе? Да что же этот проклятый готф-убийца сотворил с тобой?
– Он и вправду хотел убить меня, – сказала Евфимия и вновь зарыдала, а мать и нянюшка присоединились к ней, не выпуская ее из объятий.
К ним подошел священник, поздоровался, благословил и спросил, о чем они так плачут и почему их теперь трое?
– Я привык, что вы двое каждый день приходите сюда молиться о вашей пропавшей дочери… Уж не она ли это?! – спросил он, бросая проницательный взгляд на Евфимию.
– Да, это наша пропавшая девочка, – сказала Фотиния.
– А плачем мы теперь уже не от горя, а от радости, – сказала София.
Их окружили и другие клирики и прихожане, и Евфимия рассказала им обо всем, что с нею приключилось. Когда она дошла до того дня, когда исчезла Фотиния, якобы сбежавшая с Авеном, София перебила ее:
– Ты еще узнаешь, как поступил вероломный готф с нашей нянюшкой. Но сейчас продолжай, доченька, свой рассказ!
Когда Евфимия закончила свою страшную и чудесную повесть, плакали уже не только София и Фотиния, но и все присутствующие женщины. Даже многие из мужчин, в том числе сам пресвитер, не могли удержать слез.
– Благословен Господь, спасающий уповающих на Него: «Вечером водворяется плач, а на утро радость»[99]. Благословенны и святые угодники Божии, мученики Гурий, Самон и Авив, не посрамившие веры поклоняющихся им. Воздадим же им хвалу, братья и сестры! – сказал он. А про себя решил записать удивительную историю Евфимии и матери ее Софии в назидание потомкам, что им и было исполнено.
Тут же был отслужен благодарственный молебен.
Только после этого София и Фотиния повели домой вновь обретенную дочь и питомицу.
* * *
Оказавшись снова в родном доме, стоявшем на соседней улице, совсем недалеко от церкви святых угодников, Евфимия первым делом попросила о бане, и обрадованные слуги тотчас бросились греть для нее воду и готовить одежды.
– Да сбрось же ты хотя бы покрывало, ведь на нем чистого места нет! – сказала Фотиния воспитаннице. Евфимия послушно сбросила покрывало.
– Боже мой! – воскликнула София, увидев две длинные белоснежные пряди волос по сторонам дочернего лица.
– Снимай, снимай, я говорю! – прикрикнула Фотиния. Выплакав в усердных молитвах почти все слезы, она стала плохо видеть, и ей показалось, что на голове Евфимии по-прежнему находится покрывало – с белыми краями. Но, тронув «покров» рукой, старуха все поняла… Только сама Евфимия не могла догадаться, отчего, увидев ее простоволосой, снова заплакали мать и няня, пока София не принесла ей зеркало.
– Это мне память о грехах моих и страданиях за них, – прошептала она, трогая белые пряди.
– Да какие же у тебя-то грехи, бедная моя безвинная овечка! – воскликнула София, в который раз обнимая дочь.
– А любовь-то неразумная к готфу? – напомнила Фотиния. – А что пошла наперекор желаниям матери? А что няньку свою старую не послушалась, когда я, узнав о том, что она непраздная, уговаривала ее вернуться в Эдессу, к матери?
– Не будем, нянюшка, докучать ей укорами и расспросами о том, о чем следует говорить только на исповеди священнику, – сказала София. – А тебе, доченька, одно скажу: неразумно было бы, попав в беду из-за любовной страсти, обвинять во всем только того, кто тебя вовлек в нее. Мы сами открываем страстям дверь в свое сердце, а потому и винить за их последствия мы должны в первую очередь самих себя. Я вижу, что ты это понимаешь, голубка, и больше мы об этом говорить не будем. Остальное скажешь на исповеди.
* * *
За трапезой, чисто вымытая самым дорогим розовым мылом[100], какое нашлось в доме, с промытыми до шелкового блеска черно-белыми своими волосами, Евфимия выслушала рассказ Фотинии о том, как Аларих пытался ее убить и как она добиралась до Эдессы.
– И в твоих страданиях, нянюшка, тоже я виновата, – сказала Евфимия, обнимая Фотинию. – Сколько же ты перенесла из-за меня и сколько молилась обо мне!
– Да, это уж точно, – ворчливо сказала нянька, – ни в одном монастыре монашки так не молятся, как мы тут молились с твоей матушкой!
Евфимии рассказали и другие эдесские новости. Без нее произошло перенесение мощей Мара Тумы в кафедральный собор, по поводу чего состоялось большое празднество. Девический хор обновился: подружке ее Мариам за время ее отсутствия тоже нашли жениха и она теперь готовилась к свадьбе, целиком погруженная в заботы о приданом, и в хоре больше не пела. А вот о брате Мариам Товии было сказано особо.
– Ты знаешь, доченька, как и все мы, что Товий преданно любил тебя с самого детства, но никто не думал, что преданность эта так велика и беззаветна. Когда вернулась Фотиния, Товий так приставал к ней, что она слово за слово рассказала ему всю правду. И что, ты думаешь, он сделал? Не зная названия города, в который увез тебя Аларих, он отправился обыскивать всю Фригию, чтобы найти тебя. Время от времени он передавал отцу известия с купцами, направляющимися в Эдессу, и в каждом писал: «Передайте госпоже Софии, что я продолжаю поиски и буду их продолжать до тех пор, пока не найду то, что мы ищем».
Евфимия на это ничего не ответила, только вздохнула.
* * *
В доме Софии водворились покой и тишина. Евфимия поселилась в своей комнате и большею частью сидела там или в саду, вышивая или читая святых отцов. Выходила она с матерью и няней только в храм Божий, но и там не разговаривала ни с кем, кроме священнослужителей, если те к ней обращались. Лицо ее постепенно светлело и обретало краски, снова делаясь на редкость красивым, но юным и безмятежным, как прежде, уже не никогда не стало.
Софию очень волновало положение дочери: кто она теперь – брошенная жена или вовсе никогда не бывшая замужем девушка, родившая и потерявшая ребенка? Естественно, что с этим вопросом она решила обратиться к Мару Евлогию, но не в соборе после службы, а нарочно отправившись в его уединение вместе с Евфимией и Фотинией, чтобы ничто не помешало их беседе.
Мар Евлогий не стал вводить женщин в свою пещерную келью, а принял их в специальной маленькой беседке в крохотном садике, построенной его духовными сыновьями специально для этой цели. Он еще раз выслушал всю историю Евфимии с самого начала, перебирая четки, задавая вопросы, а иногда просил женщин прерваться и долго молчал, молясь. И наконец сказал:
– Я не знаю, что думать о теперешнем положении Евфимии. Бракосочетание ее с коварным готфом церковь, конечно, признает незаконным и как бы не бывшим, и на этот счет я составлю для нее бумагу. Но она жила с ним в супружестве, почитая его истинным, и родила от него ребенка. Скажи мне, Евфимия, если бы Аларих разыскал тебя и предложил стать его женой, – теперь-то он вдовец, – как ты думаешь, согласилась бы ты в ответ на его уговоры?
– Нет, владыко! Никогда и ни за что я не стала бы даже слушать проклятого готфа! Я думаю, мне лучше уйти с матерью и няней в монастырь…
По тому, как содрогнулась Евфимия при одном его предположении о новых притязаниях «проклятого готфа», Мар Евлогий понял, что как ни сильна была любовная привязанность Евфимии, вся она без остатка выгорела в пережитых страданиях. Но надобно было еще подождать, чтобы и пепел унесло и развеяло живым дыханием жизни…
– Не будем забегать вперед, – сказал он. – О монастыре тебе думать рано: прежде ты должна исполнить епитимию, которую я наложил на тебя за отравление жены готфа. Конечно, чудо, которое сотворили с тобой наши святые мученики Гурий, Самон и Авив, само по себе говорит о том, что Господом твои грехи прощены, а вот простила ли ты сама себе то, что сотворила с соперницей?
– Но та же убила ее ребенка и моего внука! – вмешалась София.
– А вправе ли была наша Евфимия сама вершить суд и казнить преступницу?
– Нет, владыко, не вправе! – отозвалась сама Евфимия. – И я просила прощенья у мертвой Фионы.
– Когда была заключена с нею в одной гробнице и тоже ждала смерти?
– Да.
– Хорошо сделала. Но продолжай молиться и каяться.
– Я так и делаю, владыко.
– И всю жизнь молись за нее.
– Буду.
Фотиния ахнула:
– Да как же… – открыла она было рот, но епископ одним мановением руки остановил ее.
– Молчи, Фотиния. Воспитанница твоя сумела понять больше, чем ты. Похоже, что не вся на свете мудрость досталась тебе одной, матушка.
Нянюшка пристыжено умолкла.
– И вот вам мое слово, дорогие. Не делайте пока ничего особого и не загадывайте вперед. Придет срок – и все решится само собой по воле Божией. Дайте и Господу время на то, чтобы помочь вам. Иногда чудеса творятся мгновенно, а иногда – медленно и постепенно. Уповайте на Бога, родные мои, и предайтесь Ему целиком и полностью. Продолжайте жить, как жили, молитесь, ходите в церковь, любите друг дружку и никого не обижайте. Живите тихо, и в этой тишине да свершится воля Божия.
* * *
Из Фригии вернулся Товий. Расспрашивая именитых граждан и воинов по всем фригийским городам, он все-таки сумел найти того, кто по описанию узнал готфа Алариха, – и тот посоветовал купцу съездить в Иераполис.
Усадьбу Алариха в Иераполисе Товий нашел почти сразу, но хозяина дома не оказалось: слуга сказал ему, что после смерти жены готф почти сразу же отправился в поход против персов, а имением и домом распоряжается управитель. Товий представился управителю знакомым его хозяина из Эдессы, рассказал о подвиге, прославившем Алариха во время осады Эдессы эфталитами, и управитель, поскольку дело было к вечеру, предложил молодому купцу приют и ночлег. Товий, естественно, согласился. За ужином он спросил управителя, не приводил ли хозяин из прежних походов вторую жену, молодую и красивую? Управитель возмущенно ответил ему, что готфы, слава Богу, христиане, и многоженство у них не принято. Однако, когда подошло время отправляться на покой, пожилая домоправительница, слышавшая их разговор, вызвалась проводить Товия в его комнату и, войдя туда вместе с ним, сразу же спросила, причем на арамейском языке:
– Ты хочешь что-то узнать о Евфимии из Эдессы?
– Да! Ты знаешь о ней хоть что-нибудь?
– Я знаю о ней все, кроме того, куда она исчезла, – отвечала ему Кифия, это, конечно, была она.
Женщина рассказала купцу все, от появления Евфимии в доме Алариха в качестве рабыни до ее заключения в гробницу умершей Фионы. А дальше было вот что.
Через три дня после того, как обезумевшую от ужаса Евфимию втолкнули в пещеру вслед за трупом Фионы, заложили вход доставленным по приказу Алариха огромным тяжелым камнем и замуровали его, в Иераполис вернулся правитель области. Узнав о преступлении, случившемся в доме Алариха, и об устроенном над виновной рабыней самосуде, он немедленно потребовал ее освобождения из гробницы для расследования и сам отправился вместе с Аларихом и слугами к месту погребения знатных горожан. Первое, что все увидели, приблизившись к пещере, был разбитый сверху донизу и опаленный молнией камень. Его по частям отвалили от гроба – и никого не нашли, кроме лежащей на возвышении мертвой Фионы.
– Чудо! Ангелы Господни освободили Евфимию! Значит, она была невинна! – заговорили между собой слуги.
– Или у вашей убийцы были сообщники, разбившие и отодвинувшие камень и поставившие его на место после того, как выпустили ее, – сказал правитель. – Но нет обвиняемой – нет и суда. Мы продолжим следствие, если она найдется.
– На этом история Евфимии во Фригии закончилась, а сам Аларих при первой же возможности покинул Иераполис, – закончила свой рассказ Кифия. – Ты будешь продолжать искать ее?
– Да.
– Тогда утром не уходи сразу, я принесу тебе одну вещь, которую ты ей передашь с моим напутствием.
Наутро Кифия сама накормила Товия и проводила его, а на прощание дала ему небольшой узелок и велела передать его Евфимии со словами: «Я надеюсь, что тебе это еще пригодится».
Не подозревая, какая радость ожидает его в Эдессе, Товий не спешил с возвращением, останавливаясь в разных городах по торговым делам, договариваясь о покупках и продажах, и очень жалел о том, что ему так и не удалось встретиться с Аларихом.
Глава восемнадцатая
А все-таки они встретились, но произошло это не так скоро, как того хотелось Товию.
Прошло два года, Евфимия почти совсем успокоилась, хотя и оставалась всегда задумчиво-грустной. Мариам счастливо вышла замуж и благополучно родила сына Георгия. По этому случаю Евфимия хотела отдать подружке вышитые ею нарядные рубашечки Фотия, которые привез ей от Кифии Товий, но Мариам потупилась и сказала:
– И я, и обе бабушки Георгия столько нашили ему всякого добра, что сундучок уже не закрывается. Оставь это себе, дорогая: вдруг ты еще выйдешь замуж – а мы все на это надеемся, – и тогда тебе самой пригодятся эти чудесные вещицы.
Евфимия решила, что Мариам боится повредить дитяти, взяв для него одежки умершего младенца, грустно улыбнулась и не стала спорить: она понимала подружку, глаз не сводившую с ненаглядного своего сыночка.
* * *
Однажды Товий по дороге в одну из лавок своего отца, расположенную на берегу Дайсана, вдруг увидел идущего ему навстречу Алариха в компании других воинов-готфов. «Как же мне повезло, что он не один!» – подумал Товий и бросился ему наперерез с распахнутыми объятиями.
– Ах, друг Аларих! – приветствовал он его по-готфски. – Какими судьбами снова в нашу богоспасаемую Эдессу? На новые подвиги собрался или просто к теще в гости?
Растерявшийся и даже побледневший от неожиданности готф, уразумев первые слова Товия, мигом пришел в себя, оправился и обнял его.
– Радуйся и ты, Товий. Нет, я здесь один и по чистой случайности. Эфталиты снова зашевелились, и наше войско на всякий случай двинули в Эдессу. Но, кажется, они обходят ваш город стороной, так что мы долго здесь не пробудем.
– А Евфимия с тобой?
– Нет, она осталась дома.
– Как жаль… Но и тебе София, наверное, страшно обрадовалась!
– Нет, я ее еще не видел…
– Как так?
– Да мы с войском только сегодня на рассвете вошли в город.
– А, понятно… Надеюсь, ты опять остановишься у нее, а не в тесной казарме?
– Вообще-то, я собирался остановиться в гостинице.
– Даже и не думай! София страшно обидится, если узнает об этом. Знаешь, давай мы вот что сделаем. Я сейчас иду домой и по дороге зайду к ней, предупрежу ее о такой радости, а ты приходи к ужину.
– Хорошо, предупреди ее, что приду. Только знаешь, друг Товий, ты уж замолви словечко: мол, Аларих в Эдессе случайно, походом, а то я без подарка, а это, сам понимаешь, неудобно.
– Да ничего! Ты сам – лучший подарок для тещи! Ну, я побежал к ней с радостной вестью. Так помни – к ужину ждем тебя!
И Товий быстрым шагом направился к дому Софии.
* * *
– Я видел его! – не успев отдышаться, сообщил он с порога Софии, Евфимии и Фотинии, находившимся в атриуме.
– Кого «его»? – недоуменно подняла брови София.
– Злодея и проходимца, доставившего столько горя всем нам, Алариха зловредного! – и он рассказал о нечаянной встрече.
– Надо сейчас же идти к стратилату и просить ареста преступника! – сказала Фотиния.
– И тем самым дать этому скользкому ядовитому змею возможность опять вывернуться? – возмутилась София. – Нет, на этот раз мы поступим хитрее. Он придет к теще на ужин? Ну, так обрадованная теща вместо ужина закатит ему настоящий пир. На который созовет всех родственников и соседей. Готф не удивится, завидев стратилата Аддая среди гостей, – он знает, что мы с ним давние друзья. Не будет только Евфимии с няней, их мы спрячем до поры наверху.
– А за ужином вы дадите ему возможность плести небылицы и самому попасть в сплетенные им сети! – восторженно закончил за нее Товий.
– Вот именно.
* * *
К назначенному пиршеству заявились стратилат Аддай с двумя помощниками, дядюшка Леонтий, Товий с отцом и зятем, мужем Мариам, старый дядюшка Леонтий и еще пара надежных и уважаемых соседей, друзей Софии. Все они, включая стратилата, давно знали историю злоключений Евфимии, поэтому никому не пришлось ничего объяснять.
И вот готф явился в дом своей «тещи» и был встречен радостными возгласами и препровожден за пиршественный стол. И затем, что выглядело вполне естественно, София набросилась на него с вопросами:
– Отчего вы пропали, как в воду канули, как могли вы с Евфимией так долго совсем не давать о себе вестей? Здорова ли моя дочь, как перенесла она долгое путешествие? Хорошо ли вас приняли у тебя дома? Родились ли у вас дети, кто, мальчик или девочка? А может, уже и двое – ведь больше двух лет прошло?
Решив, что ему ничего в этом доме не угрожает, Аларих засмеялся и осмелился обнять Софию.
– Не все вопросы сразу, матушка, а то я их перепутаю и не смогу толком ответить! Нам не удалось послать тебе весточку потому, что за это время ни разу не случилось оказии в Эдессу, ведь мы живем в уединенном маленьком городке, – тут же легко принялся лгать Аларих. – Сразу о главном: у нас родился сын, мальчик здоров и уже начинает ходить. Назвали мы его Фотием, в честь отца Евфимии, – таково было ее желание.
– И наша няня Фотиния, надеюсь, тоже благополучна?
– А что ей сделается? Малыша нашего она любит без памяти. Ворчит только много, житья от нее нет… Ну да вы сами знаете свою старушку.
Вдруг на площадке лестницы, ведущей в верхние комнаты, раздался голос Фотинии, держащей за руку укутанную в покрывало Евфимию:
– Житья от меня нет, убийца? На этот раз ты угадал, негодяй, житья тебе не будет! Смотри сюда, преступные твои глаза, и отвечай: кто это?
– Не… Не знаю! – запинаясь, с самому себе непонятным ужасом глядя на неподвижную белую фигуру, проговорил Аларих.
София быстро поднялась по лестнице и встала по другую сторону дочери.
– Если моя дочь благополучно живет с маленьким сыном в твоем городе, то кто эта молодая женщина? – с этими словами София сбросила покрывало с головы Евфимии. – И почему в волосах ее седые пряди? Отвечай.
Аларих ошеломленно глядел снизу вверх на неподвижную Евфимию. Но он был бы не он, если бы и на этот раз не попытался выкрутиться, усилием воли взяв себя в руки:
– Я не знаю, кто эта седая женщина. Наверное, твоя родственница, София? Да, она чем-то похожа на мою жену, но Евфимия осталась в Иераполисе…
– Вот ты и проговорился наконец, Аларих, и назвал свой город, – сказал, подходя к нему, Товий. – Я был в Иераполисе и знаю от твоей домоправительницы Кифии, а также от других слуг и горожан, что произошло с вероломно обманутой тобой Евфимией, и буду свидетельствовать об этом на суде. Сказать тебе, что рассказывают в Иераполисе о рабыне Евфимии и ее госпоже Фионе?
Вот тут Аларих сломался. Он помертвел и опустил голову, руки его бессильно повисли, и помощникам стратилата даже не пришлось применять силу, чтобы разоружить его. Его увели.
Стратилат Аддай, чтобы не терять времени, тут же достал письменные принадлежности и, опросив всех присутствующих, сделал подробное описание преступлений Алариха, и все поставили свои подписи под этим обвинением.
* * *
На суд над вероломным готфом Аларихом собрался весь город, а потому решено было вершить его не в особом помещении, а прямо на городской площади. Судьями были старейшины Совета десяти, стратилат и епископ; истицей на суде была Евфимия, державшаяся спокойно и строго. Ни одной слезы не пролила она, пока читали длинное обвинение, но слушала внимательно, слегка нахмурив высокий лоб. Ее не допрашивали, лишь спросили, все ли правильно записано, на что она ответила утвердительно.
Мар Евлогий, председательствующий на суде, спросил готфа по прочтении:
– Верно ли все это, что мы сейчас выслушали?
– Да, это все правда до последнего слова, – отвечал нечестивый готф, не подымая головы.
– Как же не побоялся ты преступить законы человеческие и Божии, нарушив все, какие только можно, для ублаготворения своих греховных желаний и страстей? На что же ты рассчитывал, несчастный, творя все это? Неужто на Божие милосердие и жалость человеческую?
Аларих молчал. Толпа горожан шумела, переговариваясь в ожидании приговора. Решение было принято почти единогласно: сожжение заживо. Один только Мар Евлогий был против такого жестокого наказания и принялся просить суд о снисхождении, чего не делал даже сам осужденный.
– Я не хочу проявлять милосердие к этому человеку, – отвечал ему стратилат Аддай, – потому что сам боюсь подпасть под гнев Божий, чтобы не покарали меня святые за пренебрежение к ним, ведь он нарушил клятвы, данные на мощах мучеников, и с этого момента все, что творил этот человек, становилось преступлением и несло смерть. Я за сожжение!
– На костер его! – кричали эдесситы.
Преступника повели за городские стены, где еще с вечера был сложен хворост для казни, и все жители города шли следом. Шла Евфимия, а с нею София и Фотиния, шли Товий и все их соседи, шел, само собой, и весь состав суда. Шел даже старенький епископ Евлогий, но не для того, чтобы увидеть казнь преступника, а для того, чтобы по дороге продолжать умолять прочих членов суда о снисхождении.
Его не хотел слушать и не услышал никто, кроме Евфимии. Преодолев смущение и скромность, Евфимия вдруг вынула руку из материнской руки, прошла вперед и остановилась перед судьями.
– Можно и мне сказать слово? – робко обратилась она к стратилату Аддаю и судьям. Все удивились, и стратилат тоже, но ласково сказал ей:
– Говори, милая Евфимия, мы тебя выслушаем.
Евфимия глубоко вздохнула и начала, сначала тихо и робко, но к концу короткой речи голос ее окреп и долетал уже до края толпы:
– Высокий суд и граждане Эдессы! Господь велит нам прощать своих врагов и обидчиков. Много обид понесла я от этого человека и много мучений, душевных и телесных, вытерпела по его воле. Но Господь наш Иисус Христос единый терпел муки незаслуженно, будучи безгрешным. Я о себе такого сказать не могу, а потому нет в моем сердце радости видеть себя отомщенной и не хочу я, чтобы этот готф взошел на костер за нанесенную мне обиду. Я прощаю его и о том же прошу вас, высокие судьи и граждане Эдессы, я прошу о снисхождении к готфу Алариху. Простите его и отпустите с миром в его страну!
Впервые с начала судилища Аларих поднял голову и поглядел в лицо Евфимии. Но не надежда была в его глазах, а лишь безмерное, глубокое удивление.
– Благослови тебя Бог, Евфимия! Но я не прошу о помиловании, потому что не хочу жить. Да будет мне по делам моим, – сказал он в наступившей тишине и тотчас же он снова опустил голову.
Толпа ахнула и зароптала, а пораженные судьи обернулись друг к другу и громко стали обсуждать неожиданные речи Евфимии. Только епископ Евлогий, вновь обретя надежду на помилование преступника, воспрянул и воскликнул:
– Послушайте, дети мои, что сказала эта женщина, настоящая христианка! Давайте поступим по ее слову и помилуем преступника!
И суд, и граждане Эдессы наверняка так и поступили бы. Но старший военачальник-готф взревел громким голосом:
– Нет! Что бы ни решил суд и о чем бы ни просила эта святая женщина, но архонт, совершивший столь гнусное преступление, не уйдет от наказания! Я своей властью полководца караю его в назидание солдатам христианского войска!
Он быстрым шагом подошел к Алариху, по пути выхватив меч. Никто не успел остановить его, меч сверкнул на солнце, и преступная голова готфа скатилась в кучу хвороста, приготовленного для сожжения.
Евфимия покачнулась, глаза ее закрылись, и она упала бы, если бы Товий не подхватил ее. Так он и отнес ее на руках в город, в дом диакониссы Софии, где она пришла в себя только к вечеру.
А тело Алариха было все-таки сожжено во исполнение приговора. Но этого уже никто не видел, кроме стражников, потому что люди разошлись, потрясенные услышанным и увиденным.
Глава девятнадцатая, самая короткая
В «Истории о Евфимии, дочери Софии, и о чуде, которое совершили с ними исповедники Самон, Гурий и Авив» ни слова не говорится о том, что же дальше случилось с Евфимией. Вышла ли она снова замуж или осталась одинокой вдовой, ушла ли в монастырь вместе с матерью и няней… трудно сказать. Если даже стала она чьей-нибудь женой и родились у нее еще сыновья, она, конечно, со временем утешилась, но не забыла своего первенца. Если ушла в монахини и достигла с годами высокой степени духовности и мудрости, все равно оставались в ее душе шрамы от пережитых страстей и страданий.
Но в любом случае все эти воспоминания перекрывались ярчайшей памятью о происшедшем с нею великом чуде, явленном святыми мучениками Самоном, Гурием и Авивом, на арамейском – Шамуны, Гурии и Хабиба. Поэтому и не удивительно, что спустя века и века эти три угодника эдесских продолжали оставаться покровителями и охранителями честного и верного супружества. Часто предусмотрительные родители благословляли молодоженов их иконой, а обиженные жены обращались к ним за помощью в молитве и получали ее, и по сей день получают, иначе давно забылось бы людьми чудо, случившееся в Эдессе. Но они о нем не забыли.
Святые мученики эдесские Самон, Гурий и Авив, молите Бога о нас!
Конец и Богу слава!
Приложение 1. Житие св. Самона, Гурия и Авива 15 ноября ст. ст. / 28 ноября н. ст.
Когда на Церковь Божию было воздвигнуто нечестивыми царями Диоклитианом и Максимианом жестокое гонение и она была обуреваема бедствиями, как корабль в бурном море, в то время близ города Эдессы жили в уединении, как бы в тихом пристанище, два благочестивых и добродетельных мужа, Гурий и Самон. Воспитанные в самом городе Эдессе, они не захотели жить в нем по причине суеты и беззаконий, господствовавших в городе, но, избегая мира и мирских забот, ушли вон из города и, удаляясь нечестивых людей, стремились к Единому Богу, веруя в Него и усердно служа Ему день и ночь. И не только они сами неуклонно работали Господу, но и наставляли к тому других, кого только могли, и много язычников отвращали от безбожного идолопоклонства и приводили к истинному Богу. Узнав об этом, бывший тогда в Эдессе представитель римских царей, воевода Антонин, приказал немедленно взять их и всех, кто последовал их учению. Взятые язычниками, исповедники Христовы Гурий и Самон и с ними множество христиан содержались до времени под стражею. Затем Антонин, призвав захваченных христиан, приказывал всем подчиниться царскому повелению и принести жертву идолам; но ни один из них не захотел быть отступником от Господа своего. Тогда он приказал подвергнуть их биению; но затем сообразил, что если самих наставников склонить к идолослужению, то и другие, смотря на них, легко могут быть склонены к тому же, и в этих видах оставил для истязания только предводителей Христова стада, Гурия и Самона; прочих же, подвергнув биению, отпустил по домам, притворно показывая себя милостивым. А двух святых исповедников он призвал к себе на суд и сказал им:
– Великие цари наши повелевают вам, чтобы вы поклонились великому богу Дию и принесли ему курение в его храме.
Самон отвечал на это:
– Не будет того, чтобы мы отступили от истинной веры, за которую ожидаем получить бессмертную жизнь, – мы не поклонимся делу рук человеческих.
Тогда Антонин сказал:
– Повеление царей во всяком случае вы должны исполнить.
– Мы никогда не откажемся от святой и непорочной нашей веры, – отвечал Гурий, – и не уступим злой и пагубной воле человеческой; но мы исполняем волю Господа нашего, Который говорил: «Всякого, кто исповедает Меня пред людьми, того исповедаю и Я пред Отцом Моим Небесным; а кто отречется от Меня пред людьми, отрекусь от того и Я пред Отцом Моим Небесным» (Мф. 10, 32–33).
Тогда судья начал угрожать им смертью, если они не подчинятся царской воле. Но святой Самон смело сказал ему:
– Мучитель! Мы, исполняя волю Создателя нашего, не умрем, но жить будем вовеки; а если последуем царскому повелению, то и, не убитые тобою, сами погибнем.
Услыхав это, Антонин приказал бросить святых в мрачную темницу.
В то время прибыл в Эдессу правитель области Музоний, нарочно присланный царями для предания христиан смерти. Выведши святых мучеников Гурия и Самона из темницы, он поставил их пред собою и сказал им:
– Таково повеление царей всей земли, чтобы вы принесли вино и курение на алтарь Дия; если же не принесете, то я заставлю вас претерпевать различные мучения: посредством ударов раздроблю тело ваше, повесив вас за ноги и руки, разорву все суставы вашего тела; изобрету для вас новые и неслыханные мучения, которых вам не перенести.
На все это святой Самон отвечал:
– Мы более боимся червя неусыпающего и огня неугасимого, уготованного для всех отступников от Господа, нежели тех мучений, какие ты перечислил, ибо Тот, Которому мы приносим духовную жертву, прежде укрепит нас в перенесении мучений и сделает неодолимыми, а затем, избавив нас от рук твоих, вселит нас в светлые обители, где находится пребывание всех веселящихся. Итак, мы не боимся твоей угрозы, потому что ты вооружаешься только против тела, но не можешь повредить душе, которая, пока живет в теле, до тех пор все более очищается и просвещается наносимыми телу страданиями. «Если внешний наш человек и тлеет, то внутренний со дня на день обновляется» (2 Кор. 4, 16). «Посему… с терпением будем проходить предлежащее нам поприще» (Евр. 12, 1).
Правитель сказал снова:
– Оставьте свое безрассудство, послушайтесь моего совета и, отступив от своего заблуждения, исполните царское повеление, ибо вам не перенести тех мучений, какие я приготовил для вас.
Святый Гурий отвечал:
– Мы и не заблуждаемся, как ты думаешь, и не послушаемся твоего безумного совета, и не подчинимся царской воле. Не будем настолько малодушны и безумны, чтобы убояться твоих мучений и прогневать Господа нашего. Мы рабы Того, Кто, являя нам богатство Своей благости, положил душу Свою за нас; как же и нам не стоять за Него, даже до крови? Станем мужественно, укрепляемые Христом Иисусом, станем непоколебимыми при всех вражеских ухищрениях, станем, пока не низложим врага, восстающего на нас.
Видя их непоколебимость в вере, мучитель приступил к истязаниям. Он велел повесить святых, связав руку одного с рукою другого и привязав к ногам их тяжелый камень. В таком положении они терпеливо висели от третьего до восьмого часа; в это время правитель производил суд над другими.
После сего он спросил святых, соглашаются ли они подчиниться царскому повелению, чтобы освободиться от истязания; но они неизменно продолжали исповедывать истинную веру. Тогда мучитель приказал отвязать их и бросить в темницу, крайне тесную, в которой и свет дневной никогда не показывался, куда и ветер не проникал. В такой темнице они пробыли с первого дня августа до девятого числа ноября; с забитыми в дерево ногами, они претерпевали жестокие страдания, голод и жажду и, несмотря на то, не переставали возносить благодарение Богу.
После столь тяжкого и долговременного пребывания в темнице они снова выведены были на суд к правителю. Святый Гурий был уже едва жив, изнемогши от многих стеснений в темнице, от великого голода и жажды; а святой Самон казался крепким. Правитель спросил их:
– Не наскучило ли вам быть столько времени в темнице и не переменили ли вы своего ожесточенного сердца, чтобы послушать здравого совета и, почтивши наших богов, освободиться от настоящего тяжелого положения?
Святые отвечали:
– Что говорили мы тебе прежде, то и теперь говорим: не отступим от Господа нашего Иисуса Христа; мучай нас, как хочешь.
И вот мучитель велел отвести святого Гурия как больного в темницу, ибо он не хотел тогда мучить его, чтобы не ускорить его смерти и не потерять чрез это надежды когда-нибудь склонить его к своему нечестию; святого же Самона приказал повесить за одну ногу, вниз головою, а к другой ноге привязать железную тяжесть. В таком положении он висел со второго часа дня до часа девятого. Стоявшие кругом его воины из сочувствия к нему увещевали его подчиниться царскому повелению и избавить себя от тяжкого мучения. Он же ничего не отвечал им, но из глубины сердечной молился Богу и вспоминал от века бывшие чудеса Его:
– Господи Боже мой, без воли Которого ни одна птица не попадет в сеть (ср.: Мф. 10, 29), Ты Давидово сердце в скорби распространил (Пс. 4, 2) и пророка Даниила сильнее львов показал (Дан. 6–18; 14, 32). Ведающий немощь естества нашего, виждь брань, восстающую на нас; ибо тщится враг отторгнуть от Тебя достояние Твое; но Ты, благосердым Твоим оком призрев на нас, соблюди в нас неугасаемый светильник Твоих заповедей, светом Твоим исправь стопы наша и сподоби нас наслаждаться блаженством небесным, ибо благословен Ты во веки веков.
Когда страдалец молился так, один скорописец записывал слова его. Затем правитель велел отвязать Самона. Но он не мог стоять на ногах, потому что суставы в коленах и бедрах его вышли из своих мест. Тогда, по повелению мучителя, святого отнесли в темницу и положили возле святого Гурия.
Пятнадцатого ноября месяца правитель Музоний, вставши с пением петухов, пошел в палату, где он производил суд, в преднесении свечей и предшествии оруженосцев и, с надменностью сев на судилище, приказал привести к себе Гурия и Самона. Святой Самон шел посреди двух воинов, опираясь на них обеими руками и хромая, ибо ноги его вытянулись в суставах своих, когда он висел; святого же Гурия несли, так как он совсем не мог ступать; ноги его, вследствие того, что были сдавлены в дереве, покрылись ранами и согнулись. Взглянув на святых, правитель начал говорить:
– Вы имели довольно времени для обсуждения вопроса, что лучше избрать – жизнь или смерть. Скажите же, на что вы согласились? Наскучили ли вам прежние истязания и надумали ли вы исполнить повеление царей, чтобы остаться еще в живых и насладиться благами мира?
На это святые отвечали:
– Мы обсудили и избрали то, что нам послужит на пользу, избрали смерть за Христа, пренебрегши жизнью в суетном мире; довольно для нас и минувшего времени, в которое мы насмотрелись на дневной потухающий свет; души наши желают теперь перейти к немеркнущему дню.
Правитель сказал:
– Тяжело моим ушам слышать ваши сопротивные речи; вкратце даю вам полезный совет: положите фимиам на алтарь Дия и идите домой; если же не положите, то сейчас же велю отсечь вам головы.
– Говорить нам много нет надобности, – отвечали святые, – вот мы пред тобою; что хочешь делать, делай неотложно, ибо мы не перестанем утверждать, что мы рабы Господа нашего Иисуса Христа, Ему Единому поклоняемся и идолопоклонство отвергаем.
Тогда правитель сделал распоряжение, чтобы они были усечены мечем. Святые же, услышав об этом, возрадовались великою радостью, что скоро разрешатся от тела и пойдут к Господу своему. Правитель велел исполнителю казни положить мучеников на колесницу, отвезти далеко за город и там обезглавить их. Святые выведены были из города чрез Северные ворота; никто из граждан не знал об этом, ибо все были объяты глубоким сном. Привезши святых на одну гору, находящуюся в окрестностях Эдессы, воины остановились и велели исполнителю казни обезглавить мучеников. Сойдя с колесницы, святые попросили себе немного времени для молитвы и, горячо помолившись, сказали наконец:
– Боже и Отче Господа нашего Иисуса Христа, приими в мире души наши.
Обратясь к исполнителю казни, святой Самон сказал:
– Исполни, что тебе повелено.
Тогда, при рассвете дня, исповедники, преклонив свои святые головы под меч, были обезглавлены, и так скончались. Верующие, узнав о кончине святых мучеников, взяли святые мощи их и похоронили с честию.
По прошествии значительного числа лет нечестивый царь Ликиний, отделившись от Константина Великого, воздвиг в Никомидии гонение на христиан. Таким поступком он нарушил договор, какой заключил с ним Константин. Отдавая замуж за Ликиния свою сестру и назначая его соучастником в управлении римским государством, Константин положил такого рода условие, чтобы Ликиний, хотя он и язычник по вере, не делал никакого притеснения христианам, но предоставил каждому жить по своей вере, так что, кому какая вера нравится, тот и держался бы ее невозбранно. Однако Ликиний, не сдержав этого договора, и воздвиг гонение в восточных странах на христиан, и множество верующих предавал смерти различными способами. В это время в вышеупомянутом городе Эдессе, в котором прежде пострадали святые мученики Гурий и Самон, жил один диакон, по имени Авив, который, ходя по всему городу из дома в дом, учил людей святой вере и убеждал быть мужественными в исповедании Христа. Своею проповедью святой Авив неверующих обращал ко Христу, а верующих увещевал жить богоугодно. Узнав о нем, градоначальник Лисаний писал царю Ликинию, донося ему об Авиве, что он весь город Эдессу наполнил христианским лжеучением; при этом спрашивал, какое относительно него будет повеление. Лисаний писал царю, собственно, для того, чтобы получить от него право на мучение христиан, ибо ему еще не было поручено делать какое-либо насилие христианам. Царь немедленно отписал ему, чтобы он предал Авива смертной казни. Получив от царя такое повеление, Лисаний приказал отыскать святого Авива, для предания на мучение. Авив жил тогда в одной части города, в неизвестном доме, вместе с матерью и родственниками своими, стараясь о распространении святой веры, которую тайно насаждал там, где не мог делать этого явно. В то время как воины по всему городу искали блаженного Авива, он, узнав об этом, вместо того чтобы скрываться, выйдя из дома, отыскивал искавших его воинов, чтобы самому отдаться им в руки. Встретив в одном месте военачальника по имени Феотекн, он сказал ему:
– Вот тот, кого вы ищете, ибо я Авив, которого приказано отыскать вам; возьмите же меня и ведите к пославшему вас.
Феотекн, кротко взглянув на него, сказал:
– О человече, пока еще никто не заметил, что ты подошел ко мне, отойди и скройся, чтобы кто другой из воинов не увидел тебя и не захватил.
Авив отвечал:
– Если ты меня не возьмешь, то я сам пойду, и явлюсь к градоначальнику, и исповедаю Христа моего пред царями и владыками.
Услышав это, Феотекн привел его к Лисанию. Тот спросил его о роде и имени. Святый прежде всего объявил, что он христианин; затем, сказав свое имя, сообщил, что родом он из села, называемого Фелсея. Лисаний принуждал его принести жертву идолам и старался, то угрозою, то ласкою, отвратить его от Христа и склонить к идолослужению, а он, как бы столп непоколебимый и стена нерушимая, оставался тверд в исповедании Христовом. Мучитель, не имея возможности привести его к своему нечестию словами, начал принуждать его к тому делом: велел повесить его и строгать его тело железными когтями. После этого опять уговаривал его поклониться идолам и принести курение на алтарь языческих богов. Но святой твердо отвечал:
– Ничто меня не отлучит от Бога моего, хотя бы ты назначил мне в десятки тысяч раз более лютые мучения.
Мучитель спросил его:
– Какая вам, христианам, польза от тех мук, какие вы терпите за Бога вашего, и какая вам прибыль от того, что тела ваши раздробляются на части и вы самовольно избираете себе горькую смерть?
Мученик отвечал:
– Если бы захотел ты, мучитель, на самом деле обратиться к надежде обещанных нам от Бога нашего воздаяний, то, без сомнения, сказал бы то, что некогда сказал Апостол Господень: «Нынешние временный страдания ничего не стоят в сравнении с тою славою, которая откроется в нас» (Рим. 8, 8).
Мучитель засмеялся на слова мученика, как бы на безумные, сам будучи безумным; затем, видя, что не может отвратить доблестного страдальца от Единого Истинного Бога, осудил его на сожжение.
За городом был разведен большой огонь, и мученика повели на место казни. Он же шел, радуясь о том, что будет жертвою и всесожжением Богу. За ним следовали мать и родственники его; он утешал и увещевал их не скорбеть о нем, а, напротив, радоваться, что он идет ко Христу и будет молить Его о них. По прибытии к огню он помолился, дал матери своей и всем знаемым последнее целование, вошел в пламень и тотчас предал дух свой Господу. Когда огонь погас, мать с прочими верующими нашла тело святого сына своего неповрежденным от огня и, взяв его, помазала миром и погребла при гробе прежде пострадавших святых мучеников Гурия и Самона, ибо и святой Авив пострадал в тот же день (по прошествии значительного числа лет), в который прежде пострадали и те святые.
Когда же гонение прекратилось и воссияла православная вера, христиане соорудили церковь во имя сих трех святых мучеников и в ней положили, в одной гробнице, святые мощи их, источающие исцеления болящим и совершающие многие чудеса. Из них воспомянем здесь одно, преславно совершившееся, чудо.
Приложение 2. История о Евфимии, дочери Софии, и о чуде, которое совершили с ними исповедники Самон, Гурий и Авив
Сегодня следует нам вместе с пророком Давидом воспеть: «Близок Господь к сокрушенным сердцем и смиренных духом спасает». И еще: «Близок Господь к тем, кто взывает к нему с верой, и он исполняет желание боящегося его». Апостол Божий учит нас, говоря: «Все заботы ваши возложите на Господа, потому что он заботится о вас».
Теперь же о чуде, которое случилось в Эдессе некоторое время назад, расскажем мы вам, верующие сыны святой Церкви. Некий человек, верующий и достойный доброй памяти, священник из духовенства святой церкви в Эдессе, который был ризничим в святилище храма исповедников, поведал нам историю об этом чуде, совершившемся в его дни, как он узнал из уст девушки и ее матери после того, как Бог спас девушку и вернул ее в свою страну и в свой город при помощи и посредством божественной силы, скрытой в мощах святых исповедников, верных и милосердных во все времена. И беспокоился почтенный старец о том, что хранит молчание, таит и сберегает, а не передает для грядущих времен и поколений это великое чудо спасения. И поскольку действие поручительства мучеников и исповедников слышал и видел и потому, что был облечен говорить истину, поведал нам эту историю, пока еще мог говорить. И хотя слова его незатейливы и просты и разум старца ослабел, не пренебрегайте в душе своей этим великим чудом из-за бедности его слов.
В году 707-м, по летосчислению греков, вышли гунны, (направляясь) к земле ромеев. Они опустошали страну и брали в плен ее жителей. Так дошли они вплоть до Эдессы, но стратилат Аддай, (правивший) в это время, не дал жителям выступить против них из-за измены, которая (была) в центре. И по этой причине спустились войска ромеев и осели в Эдессе на долгое время. Некий солдат из этого войска, жестокий душою, встал на постой к одной верующей вдове, имя которой было София. И была у нее единственная дочь, молодая девица. Мать заботливо оберегала ее и воспитывала в правилах скромности. Она постоянно прятала ее, чтобы не увидел ее этот вероломный гот. Имя ее было Евфимия. Девушка эта была красива. Случилось так, что гот увидел ее, воспылал страстью и был пленен ею. И начал подольщаться к ее матери, чтобы она отдала ему свою дочь в жены. А она, женщина верующая, вознегодовала против него и не приняла его слов. Он же, мужчина, продолжал осаждать ее, то гневом встречая, то лестью и страстными клятвами пытался уговорить ее. И заказал гравировать золото. Он осаждал ее со всех сторон, чтобы она отдала ему эту рожденную свободной свою дочь. Она же прятала свою дочь, чтобы он не видел ее, а ему говорила: «Что ты терзаешь меня? Я вдова, женщина бедная и не могу я этого сделать!» Он лгал ей коварно, обещая многое, а она ему опять возражала: «Как это может быть? Ведь в твоей стране у тебя давно уже есть жена и дети». Он же, наглый, настойчиво клялся, что не брал он жены и нет детей у него, и принес золото выгравированное и положил его перед ней, говоря: «Смотри, нет у меня жены. Вот многочисленные украшения для твоей дочери я взял и выгравировал. И много еще даров сделаю я ей». Она же, женщина, снова сказала ему: «Что ты осаждаешь меня? Я женщина одинокая, уйди от меня!» Он еще настойчивей стал уговаривать ее и еще усиленнее клялся. И под сильным нажимом она, как женщина слабая, уступила и согласилась со словами: «О Бог, заступник сирот и вдов, поспеши на помощь ко мне! Господи, тебе вручаю я это дело, чтобы тебе было ведомо».
И долго еще препиралась мать девушки с этим готом. Потом она сказала: «Не могу я, чтобы ты увез от меня мою дочь в такую даль». Он же поклялся: «Если ты отдашь ее мне, мы скоро вернемся из нашей страны – я и она – и поселимся у тебя». После того как услыхала женщина эти настойчивые клятвы, она сдалась. Составили брачный контракт, и она отдала ему свою дочь в жены.
Через некоторое время даровал Бог мир. Когда стало известно, что этот вероломный возвращается к себе на родину, стала противиться мать девушки тому, чтобы дочь ее ехала вместе с ним, так как охватила ее жалость. После того как не смогла избавить ее (свою дочь) от него и (в споре) была побеждена ею, взяла своего зятя вероломного и свою дочь и привела их в храм мучеников, святых исповедников Гурии, Шамуны и Хабиба. И молились с горькими слезами мать и дочь. Помолившись, мать девушки подошла, взяла ее правую руку и, возложив на гроб святых исповедников, сказала своему зятю-лжецу: «Поручись мне тайной силой, скрытой в мощах этих святых, – и об этом будешь знать ты и они – каков ты будешь с нею».
Их же, блаженных, она умоляла, взывая: «Идите с нею и поддержите ее в чужой стране».
Приблизился гот, протянул свою руку и повел ее от гроба святых мучеников со словами: «Как я буду (обращаться) с ней, так и Господь (поступит) со мною. Вот эти святые – мои поручители в том, что я ее не обижу».
Помолились и уехали, а мать в глубокой печали и горьких слезах пребывала днем и ночью, лишенная возможности побыть со своей дочерью, увидеть ее.
И отправилась девушка с готом в многодневное путешествие. Когда они приблизились к городу этого обманщика на расстояние одного перехода, набросился он на нее, как жадный волк, сорвал с нее богатые одеяния, в которые она была облачена, снял золотые украшения, которые были на ней, и одел ее в одежду рабыни. Затем открыл ей все зло, содеянное по отношению к ней, сказав ей: «У меня есть жена, которую я взял много лет назад. Но ты помалкивай, не болтай ни ей, ни кому-либо другому о том, что было между нами. Не то злой смертью умрешь от руки (кого-нибудь) из рода жены или ее семейства, а они люди знатные в нашей стране».
Когда услышала девушка все это, стала жаловаться Богу, зарыдала громко, ударяя себя по лицу и груди, посыпая землей свою голову и лицо, и повторяла, покинутая, (обращаясь) сквозь слезы к готу: «Спасибо тебе, муженек. Во что ты превратил мое путешествие? Спасибо тебе, разбойник, среди бела дня похищающий свободных людей! Спасибо тебе за то, что ты открыл мне, что я рабыня, что вверг меня в иго рабства, а не убил мечом свои острым! Вот они, твои обещания! Вот прочность твоих клятв! Теперь я стану взывать к моим поручителям, которые были между мной и тобой, к той силе, что скрыта в мощах мучеников. На поручителей, которых ты дал мне, когда протянул свою предательскую руку и увел меня от них, возлагаю теперь я надежду мою и на их Господа. Посмотри, что ты сделал со мной!»
Все это повторяла она с молитвой, покинутая и одинокая, в слезах и стенаниях говорила так: «О Бог отцов моих, поддержи меня в чужой стране! Спаси меня и вызволи из ловушки, (расставленной) этим лжецом, который отплатил мне злом за добро, ненавистью – за любовь. Исповедники, поручители мои, посмотрите на свободу, которая ввергнута в иго рабства! О Бог, который сопутствовал Иосифу в земле Египетской, не отвращай от меня своих взоров. О Господи мой, пресеки порабощение свободных людей! Исповедники, от вас он увел меня, в вас верила моя мать!»
Когда гот прибыл (в город) и вошел в свой дом, жена его увидала красивую девушку, тотчас встревожилась, забеспокоилась и стала спрашивать мужа: «Откуда эта девушка? Кто она такая? Где ее родина? Что за дело у тебя с ней?» Он же, вероломный, ответил: «Она твоя рабыня. Я привез ее тебе из Сирии». Жена сказала ему: «Ты нагло лжешь! Разве я не вижу, что она не похожа на рабыню?» А он настаивал: «Она твоя рабыня!»
Когда увидела девушка все, что с ней случилось, (а именно то), что она превращена в рабыню, днем и ночью горько плакала, повторяя одно: «Исповедники, поручители мои, защитите меня в чужой стране! Исповедники, посмотрите на мое угнетение, вынесите приговор (этой) несправедливости!»
Ее госпожа прониклась сильной ненавистью и безграничной враждой к ней, постоянно была недовольна и била ее. А так как девушка не умела говорить на (их) языке и не могла оправдаться перед нею, она только плакала и мечтала о том, чтобы кто-нибудь поговорил с ней по-сирийски, но не было никого, кроме этого гота, который увел ее из ее страны: поскольку он долгое время пробыл в Эдессе, он немного умел говорить (по-сирийски).
Когда жена гота заметила, что девушка беременна, она не пожалела ее, а ожесточилась еще больше и требовала, чтобы та работала больше, чем могла, так что жизненные силы ее были на исходе.
Когда наступило положенное время, у нее родился сын, который был очень похож на отца. Когда жена гота увидела, что младенец так похож на своего отца, она стала терзаться ревностью и в сильном гневе упрекала своего мужа: «Смотри, как он похож на тебя! Здесь (твоя) болтовня и выдумки бесполезны!»
После того как она раздраженно повторила это еще и еще раз, он сказал: «Она принадлежит тебе. Можешь делать с ней что хочешь. Это твоя рабыня».
Затем соратница Иезавели, убивавшей пророков, прониклась недоброжелательством к этому ребенку и решила его погубить. Она приготовила смертельный яд, чтобы, когда представится удобный момент, дать ребенку лизнуть его, дабы он умер: один вид мальчика сильно раздражал ее.
В один из дней, когда младенец ползал по полу, он, наткнувшись на нее, подумал, что это его мать, и бросился к ней. Она пришла в ярость и тут же отправила его мать на базар, в одно отдаленное место с каким-то поручением. Убедившись, что матери нет поблизости, она взяла тот смертельный яд и дала его ребенку. Когда мать ребенка вернулась из того места, куда отправила ее госпожа, она нашла своего сына в агонии. Его рвало от того смертельного яда, и (пена) выступила на его губах.
Евфимия не могла сказать ни слова, лишь горько рыдала и звала исповедников к себе на помощь. (Потом) приняла решение в сердце своем, взяла кусочек шерсти и вытерла с губ своего сына яд, который принесла жена гота, положила его к себе под подушку и хранила с большой осторожностью. А мальчик умер и был похоронен.
Спустя немного времени после смерти сына Евфимия, одинокая и несчастная, готовила этому готу ужин, на который он пригласил своих товарищей. Вечером, когда стемнело, она улучила момент, который дал ей возможность сделать со своей госпожой то, что та сделала с ее сыном. И вернется зло ее на ее голову, и в ловушку, которую она подстроила, будет уловлена смертью сама.
Когда Евфимия прислуживала им как служанка и разносила вино, она вынула тот кусочек шерсти, которым вытерла (тогда) губы своего ребенка, и опустила его в чашу с вином, говоря (про себя): «Теперь я увижу, ты ли дала что-то моему мальчику, отчего он умер. Если же это не ты, я буду знать, что смерть ему ниспослана Богом». Подумав так, она взболтала (содержимое чаши) и дала ее жене этого гота. Госпожа ее взяла чашу и выпила. Она так же заснула вечным сном, и в смертельную яму, которую рыла, пала (сама).
Умерла жена гота и была похоронена.
Семь дней траура миновало. Родственники жены гота, разъяренные, как львы, догадались, что это служанка дала ей испить чашу смерти (и она умерла). Решили предать ее суду, чтобы подвергнуть суровому наказанию. Однако суд был далеко от этого города, и тогда у них явилась мысль вскрыть склеп и замуровать там Евфимию рядом с разлагающимся трупом (ее госпожи). Когда потащили ее с побоями к склепу, жители города увидели все это и пожалели несчастную женщину. Они решили прийти потом, открыть склеп и выпустить ее оттуда. А те, заперев Евфимию в склепе, прикатили тяжелый камень и привалили им вход в склеп, чтобы никто не смог открыть его. И постановили караулить склеп всю эту ночь, а утром вытащить ее из склепа, привязать к дереву и расстрелять стрелами. И когда услыхали плач и стенания, не пожалели ее. Особенно же мучительным был убивающий ее смрад зловонный, который шел от трупа. Тогда она обратилась с молитвами к Богу, говоря: «Бог Гурии, Шамуны и Хабиба, Ты, из-за истинной веры в которого положили эти святые выи свои на убиение; Ты, который принял их кровь в качестве живой чистой жертвы, приди на помощь рабе Твоей! Ты, который милосерден даже к грешникам, вызволи меня из этой ужасной беды! Гурия, Шамуна и Хабиб, поспешите ко мне с вашей защитой! Поручители-исповедники, помогите мне в этот час!»
И Бог внял ее мольбам и просьбам. Внезапно зловонный смрад трупа превратился в приятные ароматы, и в великолепном сиянии ей явились трое в образах людей, обращаясь к ней: «Не бойся, Евфимия, мы с тобой! Мы не оставим тебя, избавление близко, и в вере твоих отцов не будешь обманута ты».
И снизошел покой на душу Евфимии. Она заснула, и чудесной силой всемогущей чудо несказанное свершилось с ней, как с пророком Аввакумом в его время. Когда был голоден Даниил, брошенный в ров львиный в Вавилоне, еда из Иерусалима была послана ему при посредстве Аввакума. Точно так же божественной силой, скрытой в мощах святых мучеников-исповедников, к которым она взывала, Евфимия ночью вдруг оказалась на горе Орхай рядом с храмом святых мучеников-исповедников.
Когда взошло солнце, она как бы пробудилась от сна и увидела святого мученика Шамуну в образе старца, который стоял перед ней и говорил с нею: «Знаешь ли ты, где ты сейчас находишься и где ты оказалась?». Она подняла глаза и увидела святой храм исповедников. И вот поднимается солнце, и она идет к храму мучеников, чтобы войти туда… «Видишь, поручительство наше оправдалось. Иди с миром!» – сказал ей благословенный старец и тотчас скрылся из глаз. Посмотрела Евфимия вокруг, но не увидела его.
Когда она подошла к вратам храма мучеников и услыхала обычную службу, преисполнилась великой радостью, потом страхом и в каком-то оцепенении, как будто во сне, видела все окружавшее ее. А они пели псалом: «Своим голосом к Богу воззвал я, и пусть он услышит меня! Воззвал к нему своим голосом, и пусть он сжалится надо мной! В день несчастья моего к Богу иду я». И забилось сердце Евфимии радостно, и утешили ее слова эти и служба, которую там служили. Подошла она к гробу святых исповедников и бросилась ниц перед ними, говоря сквозь рыдания: «Вечером слезы, а утром – радость! Он послан был с неба и спас меня. Да благословит честь Твою Твоя страна! Небо и земля полны хвалы Тебе. Благословенно будь обиталище святых! Благословенна будь ваша божественная сила, скрытая в мощах ваших! Всякий, кто прибегнет к вам, не устыдится. Всякий, кто обратится к вам, не останется без ответа. Вас восхваляю я, угнетенная рабыня, которая стала свободна. Вам исповедуюсь я, плененная, которая вернулась в свою страну. Только вчера была я в городе гота, а утром – в городе благословенном, в Эдессе, в храме, где покоятся мощи моих поручителей, моих защитников, тех, кто спас меня от всех испытаний».
Когда все это повторяла она, частые слезы на гроб святых исповедников роняя, взглянул на нее церковный служитель и увидел, что она плачет. И когда кончилась служба, подошел к ней и спросил: «Что тебя так волнует, женщина? Что приключилось с тобой?»
И она, верующая Евфимия, рассказала о великом чуде, которое с ней случилось, с начала и до конца. Выслушав всю историю, подивился ризничий величию этого дела, однако усомнился и решил узнать всю истину и побывать в доме матери ее, Софии. Он тотчас же послал за ней, чтоб познакомиться с нею. Когда ей рассказали, что случилось с ее дочерью, то, услыхав эту новость, она взволновалась, так как подумала, что ее дочь вернулась вместе с мужем. Она поднялась в храм блаженных мучеников-исповедников и увидела там Евфимию, но не узнала ее, потому что та была одета в бедное платье. Евфимия же узнала свою мать, приблизилась к ней и поклонилась. Тут и София наконец узнала ее, и обе они пришли в сильное волнение от сильного чувства, охватившего их, обнялись и долго молчали, не в силах сказать ни слова от подступавших рыданий. И когда прошло достаточно много времени, – а они все продолжали стоять так – собрались вокруг братья этого храма мучеников и все, кто там оказались в то время, удивлялись рыданиям этих двух женщин. Тогда ризничий попросил Евфимию, чтоб она рассказала им все о божественной силе, скрытой в мощах исповедников: и как они вывели ее из склепа, в который она была замурована, и как перенесли оттуда в Эдессу – (на) расстояние, занимавшее много дней пути. И все, кто услышал эту историю, уверовали в Бога и восхваляли Его, Того, кто внемлет молитвам верующих.
И послала мать Евфимии за одеждами, чтоб она могла одеться как подобает, и они провели там (в храме) весь этот день. Когда же день склонился к закату, отправились в свои дома, уверовав в Бога из-за огромной той доброты, которую Он проявил к ним.
На следующий день весть о случившемся прошла по всему городу. Собрались горожане и все жители округа и, когда увидели ее, Евфимию, возликовали и уверовали в Бога, который не пренебрег теми, кто ему поклонялся. И долгое время проводили в молитвах в храме Божием, включая пятницы и воскресенья. Поднимались ко гробу святых мучеников и сидели там со всей преданностью и усердием.
Спустя короткое время эта огромная сила, несказанная, необъяснимая, которая скрыта в мощах святых мучеников, вновь проявила себя, отомстив, как это следовало. Справедливость восстала против лжи и коварства этого гота. По велению Бога, сам того не желая, пришел он в Эдессу с одним военачальником, который был послан туда царем, чтобы защитить эту страну от персидских и гуннских врагов, вставших против нее войною. И как пойман был фараон в Красном море, так и он оказался пойман в ловушку, которая была скрыта. И направил Бог его вероломство на его голову; и в яму, которую вырыл, сам он свалился; и сетью сокрытой был пойман. Клятвой своей пренебрег, поручительство мучеников святых он презрел, и сердце при этом осталось спокойно. И справедливость привела к тому, что в стране, где он клятвы презрел и был вероломен, тем был наказан и местью отмщен за ложь.
В один из дней вероломный гот шел по улице города. И увидел его один человек из числа соседей Евфимии и Софии, и заговорил с ним. Поскольку злонамеренный гот был озабочен, он не узнал этого человека, не задержался с ним, чтобы поговорить, как бы следовало поговорить с ним, а отнесся к нему невнимательно, поговорил небрежно и поспешил уйти. А сосед Софии и Евфимии, который узнал гота, тотчас же отправился к ним домой и сообщил: «Сегодня я видел этого вероломного и злонамеренного, который сделал вам столько зла, и говорил с ним! Разоблачите его и поступите, как в таком случае подобает!»
Они же, Евфимия и София, тотчас собрали соседей и всех своих близких и вместе решили: пусть никто не откроет ему, что Евфимия, дочь Софии, вернулась на родину.
И прилагали большие усилия, чтоб отыскать этого гота, а когда нашли его, говорили с ним приветливо, (чтобы не насторожить): «В доме тещи твоей тебе следует поселиться. Все это время она сильно беспокоилась за вас. Ей так хочется повидать тебя, расспросить о своей дочери!» Так усердно старались они выказать ему любовь свою, чтоб заманить его в дом Софии. Она же, София, спрятала свою дочь в одной из комнат внутри дома, дабы сразу же, в самый первый момент, он не увидел ее, чтобы вся ложь и вероломство его были открыты. И пришли все соседи и близкие в дом Софии, и собрались вокруг этого гота, а София, теща его, начала его спрашивать, говоря ему: «Как ты поживаешь и как поживает моя дочь Евфимия? Как прошло ваше путешествие? Кто родился у вас, девочка или мальчик? Я так беспокоилась за вас обоих, потому что была вдали от моей дочери. Я думала, что вам предстоит изнурительный путь и что дочь моя не перенесет трудностей этого путешествия».
Он, вероломный и лживый, не растерялся и, не задумываясь, отвечал ей: «Все было хорошо, спокойно и благополучно прошли мы весь путь и прибыли в нашу страну спокойно и благополучно. И ничего плохого не случилось с нами. Мы оба здоровы, и дочь твоя посылает тебе привет и кланяется много раз. Она всем очень довольна. Сын родился у нас, и моя любовь к вашей семье стала такой же, как любовь к ней. И если бы не так поспешно уходили мы из нашей страны, Евфимия тоже прибыла бы со мной сюда, чтобы повидать тебя».
Когда услыхала София наглую ложь этого гота, пришла в такое волнение, что стала рвать на себе одежды, вопя страшным голосом и причитая: «Что ты сделал с моей дочерью, негодяй! Где все твои клятвы и обещания? В какую пучину горя ты вверг меня! Знай, обманщик, что поручительства, которые ты мне дал, погубят твою лживую жизнь!» Повторяя все это, она вывела дочь свою и поставила перед ним, говоря ему: «Знал ли ты когда-нибудь эту девушку? Помнишь ли, где вы заперли ее? Это поручительства, которые ты давал, вернули ее мне. Достославные хранители-исповедники страны нашей спасли ее из (этого) ада. Они, святые мученики, над гробом которых ты простер свою руку и увел ее от меня, это они вызволили ее из склепа, в который вы замуровали ее живьем. Гурия, Шамуна и Хабиб, как стремительные кони в колеснице, домчали ее сюда, вырвав из ваших рук».
Когда гот услыхал все это и увидел девушку, он побледнел, как мертвец, и безмолвствовал, не в силах открыть рта, чтоб сказать хоть что-нибудь в ответ на эти упреки. Страх и ужас охватили его. И все, кто был там, окружили его, схватили и заперли в доме, тщательно охраняя его сообща.
И сделали запись (всех обстоятельств) дела, как (это) было, с начала и до конца: как он клятвами страшными клялся и обещания многочисленные давал, как запись о браке была составлена и он говорил, что ни жены, ни детей нет у него в своей стране, и как дал поручительства исповедникам-мученикам, простер свою руку и увел Евфимию от гроба, в котором покоились мощи святых Шамуны, Гурии и Хабиба. А потом они, эти святые, явились ей в склепе, когда воссиял вдруг свет яркий, великолепный. И исчезло зловоние, и легкий ветерок повеял вокруг, распространяя благоухание ароматов. И как они за одну ночь перенесли ее через это огромное расстояние.
Потом пошли, и сообщили епископу Евлогию, и дали ему прочесть эту запись. Когда прочитали ему, священнику, все, что было записано, он был удивлен и поражен наглостью этого человека, и пробудились у него интерес к этому делу и желание разобраться в нем. Он собрал весь клир и вместе с ризничим храма святых мучеников-исповедников отправился к достохвальному стратипату и сообщил ему об этой истории.
Когда прочитали стратипату все, что они записали, как это случилось, он и все, кто там находились вместе с ним, были изумлены тем, что сделал Бог посредством поручительства исповедников-мучеников, удивились тому, как дерзок был этот гот, не убоявшийся кары Господней.
Затем стратипат в великом негодовании и гневе приказал привести этого гота оттуда, где они заперли его, а также девицу Евфимию. И вот привели их, и поставили перед ним, перед достославным стратипатом и перед священником Божиим, Мар Евлогием, епископом этого города. Собрался весь город, и приказал он прочесть, что было записано в этой записи. И слушали гот и Евфимия. Потом спросили у гота: «Верно ли все это, что ты слышал сейчас и что было записано здесь о вас обоих?» – «Да, мой господин, – ответил нечестивец. Все это правда, и нет ни единого лживого слова».
Тогда стратипат удивился еще больше: «А если все это правда, как же ты не трепещешь от страха перед судом Божиим? И как посмел ты презреть законы победоносных римлян? И клятвы нарушить, и верность зароку, который ты дал святым исповедникам-мученикам, презреть? Как мог ты попрать свободу и в жестокое ярмо варварской власти впрячь ее?»
И тотчас же, не раздумывая, приказал стратипат вынести приговор и сжечь преступника на огне за то, что был так вероломен и свершил столь великое зло. А священник Мар Евлогий, мягкий и милосердный, стал просить за него, чтобы не поступали с ним так жестоко, а отнеслись с милосердием. Долго убеждал стратипата Мар Евлогий, но тот был непреклонен: «Не хочу я быть милосердным к этому человеку, чтобы не покарали меня святые за презрение к их покровительству и пренебрежение к ним. И не хочу, чтоб были сострадательны другие. И если кто-нибудь поступит так же, пусть не рассчитывает на сострадание и милость!»
Затем повели его, этого гота, и вывели из города. Потом суд решил заменить сожжение мечом, вняв мольбе его (Евлогия. – А. П.) и просьбам (его).
Потом все славили Бога и поклонялись Ему за то, что услышал молитвы тех, кто пришел к вратам Его и обратился к Его святым. Вечная слава благословенная Ему и Отцу Его, который послал Его к нам для нашего спасения, и Святому Духу! Ныне и во веки веков – аминь!
Кончилась история о чуде, которое совершили святые исповедники с Евфимией, обрученной с готом в городе Эдессе. Изложено это было в одной из древних книг и записано в столице государства – Константинополе Иоханнаном, монахом-отшельником.
Перевод А. В. Пайковой. (Перевод выполнен по изданию: Nau F. Hagiographie syriaque. Р. 66–72; 173–181.) Легенды и сказания в памятниках сирийской агиографии. Палестинский сборник. Вып. 30 (93). Л. 199.
Примечания
1
Эдесса, нередко Едесса (лат. Edessa) – древний город на севере Месопотамии, в современной Турции это город Санли-Урфа. Первоначально здесь располагался основанный ассирийцами город Осроя (Орроя, Озрое) (отсюда турецкое название Урфа, греческое Орра, арабское Ар-Руха, сирийское Орхой), имевший большое торговое значение. В 303 г. до н. э. Селевк I Никатор основал здесь военную колонию, назвав ее Эдессой по имени древней македонской столицы, город был заселен смешанным греко-македонским и местным восточным населением. В III–II вв. до н. э. Эдесса являлась одним из крупнейших центров эллинистической культуры и одним из центров раннего христианства, здесь были найдены древнейшие рукописи отцов Церкви.
(обратно)2
Во второй половине I в. до н. э., из-за затянувшейся войны с Парфией держава Селевкидов распалась, и Эдесса становится столицей Эдесского (Озроенского, Осроенского) царства. Господствующее положение в царстве занимали северо-арабские племена (возможно, набатеи), во главе которых были цари из Абгарской династии (правили с 132 г. до н. э. по 214 г. н. э.). Эдесское царство находилось, в большей или меньшей степени, сперва под протекторатом Парфии, а со времени походов Помпея (сер. III в. до н. э.) – Древнего Рима. С 217 г. н. э. Эдесса окончательно вошла в состав Римской империи. В описываемое время Осроена уже была провинцией Восточно-Римской империи.
(обратно)3
Диаконисса (греч. διακονος) – особая категория женщин в древней Церкви I–VIII вв., принявших посвящение и несших определенные церковные обязанности, но не принимавших участия в совершении таинств. К функциям диаконисс относились: приготовление к крещению; оказание помощи священнослужителям при самом крещении женщин; дела милосердия – посещение больных и бедных, раздача милостыни и устройство трапез; размещение входящих в храм женщин по порядку и наблюдение за их поведением во время богослужения. Апостольские постановления указывают, что диаконисса «без диакона ничего пусть не делает и не говорит», но при этом «никакая женщина да не приходит к диакону или епископу без диакониссы».
(обратно)4
Мар – почетное обращение у сирийцев, обозначающее духовное лицо; точное значение – «наставник в вере». Тума – сирийское произношение имени Фома.
(обратно)5
Святой апостол Фома был родом из галилейского города Пансады и занимался рыболовством. Услышав благовестие Иисуса Христа, он все оставил и последовал за Ним. Апостол Фома входит в число Двоенадесятицы святых апостолов, двенадцати учеников Спасителя. Святой апостол не поверил рассказам других учеников о Воскресении Иисуса Христа: «Аще не вижу на руку Его язвы гвоздинныя, и вложу перста моего в язвы гвоздинныя, и вложу руку мою в ребра Его, не иму веры» (Ин. 20, 25). На восьмой день после Воскресения Господь явился апостолу Фоме и показал Свои раны. «Господь мой и Бог мой!» – воскликнул святой апостол (Ин. 20, 28). «Фома, бывший некогда слабее других апостолов в вере, – говорит святитель Иоанн Златоуст, – сделался по благодати Божией мужественнее, ревностнее и неутомимее всех их, так что обошел со своей проповедью почти всю землю, не убоявшись возвещать Слово Божие народам диким». По Церковному Преданию, святой апостол Фома основал христианские Церкви в Палестине, Месопотамии, Парфии, Эфиопии и Индии. Свою проповедь Евангелия апостол закрепил мученической смертью. За обращение ко Христу сына и супруги правителя индийского города Мелиапора (Мелипура) святой апостол был заключен в темницу, претерпел пытки и, наконец, пронзенный пятью копьями, отошел ко Господу. Сегодня части мощей святого апостола Фомы есть в Индии, Венгрии и на Афоне.
(обратно)6
Паломница Эгерия – реальное лицо, известное по своим запискам о путешествии (Itinerarium, или Peregrinatio ad Loca Sancta – «Паломничество ко Святым местам»), написанным, вероятнее всего, в 381–384 гг.
(обратно)7
Аквитания (лат. Aquitania) – историческая область на юго-западе современной Франции. Впервые упоминается Цезарем (I в. до н. э.) как часть Галлии, расположенная между Пиренеями и рекой Гаронной.
(обратно)8
Мар Евлогий – реальное лицо, упоминаемое в Эдесских хрониках, в то время он был правящим епископом Эдессы.
(обратно)9
Посвящение кафедральных соборов Софии Премудрости Божией было известной византийской традицией.
(обратно)10
Эфталиты, или белые гунны, – объединение племен, образовавших в первые века государство на территории Средней Азии, Афганистана, Северо-Западной Индии и части Восточного Туркестана. Наиболее обоснованным является представление о принадлежности Э. к восточно-иранским племенам, хотя среди них могли быть и другие этнические группы. Ряд исследователей считает, что основной территорией Э. были Тохаристан и Восточный Афганистан. Ядро эфталитского объединения составляли, видимо, воинственные кочевые племена, подвергавшиеся воздействию оседлой городской культуры. Эфталитское объединение распалось под ударами индийских, сасанидских и тюркских правителей: в Индии в 530-х гг., в Средней Азии и Афганистане в 560-х гг. Самоназвание эфталитов – хиониты. Несколько хионитских царей носило имя Эфтал, отсюда и возникло название эфталиты. Сходство звучания слов «хион» и «гунн» (собственно, hon), видимо, и объясняет тот факт, что византийские историки называют хионитов (эфталитов) белыми гуннами. К началу V в. хиониты (эфталиты) завоевали земледельческие оазисы за Амударьей и создали могущественную державу на обширных пространствах Средней Азии, Афганистана, Северо-Западной Индии и части восточного Туркестана. Н. Гумилев пишет: «О народе, называемом эфталиты, мир узнал впервые в 384 г. н. э., когда при осаде Эдессы в персидском войске появились эфталиты, восточные соседи персов». «Вестник древней истории». 1959, № 1, с. 129–140. Таким образом, 384 г. и есть начало действия нашего романа, условно, конечно.
(обратно)11
Серес (Σηρες) – греческое название Китая.
(обратно)12
Язык арамейский, всем известный под именем сирийского, и есть, собственно говоря, эдесское наречие.
(обратно)13
Мар Апрем – преподобный Ефрем Сирин (ок. 309–373). О его жизни известно крайне мало. Судя по его произведениям, он получил хорошее образование, включавшее и знакомство с античным языческим наследием. Его наследие чрезвычайно обширно и включает в себя толкования на Священное Писание, проповеди и поучения, многочисленные гимны и молитвы, вошедшие отчасти в современное богослужение. Еще при жизни преподобного они были переведены на греческий язык.
(обратно)14
Назианзин – прозвание св. Григория Богослова по месту рождения близ города Назианза в Капподокии (Турция).
(обратно)15
Шербет – Турецкое слово «şerbet» заимствовано из других восточных языков, а сам напиток изобретен персами и на персидском называется «шарбат». Очень может быть, что ко времени действия романа этот прохладительный напиток уже был известен сирийцам от персов.
(обратно)16
Масьюн (от римского mancsio, «день пути») – время, затраченное на путешествие от одного ночлега до другого; по расстоянию это около 45 км.
(обратно)17
Перевод стихов Сергея Аверинцева.
(обратно)18
По-сирийски Мар Аддай. Фаддей – один из 12 апостолов, брат Иакова Алфеева. Упомянут в списках апостолов в Евангелиях от Луки (6, 16) и от Иоанна (14, 22), а также в Деяниях апостолов (1, 13). В Евангелии от Матфея (10, 3) и от Марка (3, 18) упоминается Фаддей, или Левей, прозванный Фаддеем. Его другое имя – Иуда, или Иуда Иаковль – по брату; в Евангелии от Иоанна Иуда на Тайной вечери задает вопрос Иисусу о Его грядущем Воскресении. При этом он назван «Иуда, не Искариот», чтобы отличить его от Иуды-предателя. Апостол Фаддей проповедовал в Палестине, в Аравии, Сирии и Месопотамии и умер мученической смертью в Армении во второй половине I в. н. э.
(обратно)19
По-сирийски Уфама, или Уккама.
(обратно)20
Предание повествует, что Христос явился в видении Эдесскому епископу и повелел спрятать Свое изображение. Епископ пришел ночью к воротам, зажег перед Образом лампаду и заложил его глиняной доской и кирпичами. Прошло много лет, и жители забыли о святыне. Так было до 545 г., когда персидский царь Хозрой I осадил Эдессу. В эти дни епископу Евлавию явилась Пресвятая Богородица и повелела достать из замурованной ниши Образ, который спасет город от разорения. Разобрав нишу, епископ нашел Нерукотворный Образ неизменным: перед ним горела лампада, а на глиняной доске, закрывавшей нишу, было подобное же изображение. После совершения крестного хода с Нерукотворным Образом по стенам города персидское войско отступило. В 630 г. Эдессой овладели арабы, но они не препятствовали поклонению Нерукотворному Образу, слава о котором распространилась по всему Востоку. В 944 г. византийский император Константин Багрянородный (912–959) пожелал перенести Образ в Константинополь и выкупил его у эмира – правителя Эдессы. С великими почестями Нерукотворный Образ Спасителя и то письмо, которое Он написал Авгарю, были перенесены в столицу империи. 16 августа Образ Спасителя был поставлен в Фаросской церкви Пресвятой Богородицы. О последующей судьбе Нерукотворного Образа (Убруса) существует несколько неподтвержденных преданий.
(обратно)21
Первоначально мощи хранились в небольшой часовне, а в новый кафедральный собор были перенесены уже при преемнике Мара Евлогия, епископе Кире. (См. Эдесские хроники.) С XIII в. мощи святого апостола Фомы были перенесены из Эдессы в Италию и хранятся в крипте кафедрального собора города Ортона в Италии. Части мощей хранятся в Индии, Венгрии, а также на Афоне, в Пантелеимоновском монастыре.
(обратно)22
Святой праведный Алексий, человек Божий, согласно житиям, подвизался на паперти Богородичной церкви в Эдессе как раз в конце IV – начале V вв. Высказывание сие есть домысел автора, но, если блаженный находился в Эдессе во время осады ее эфталитами, всенародное бедствие не могло пройти мимо его внимания, и можно предположить, что подобное предупреждение могло исходить из уст святого.
(обратно)23
К источнику живой воды: Письма паломницы IV в. М.: Паломник, 1994.
(обратно)24
См. К источнику живой воды.
(обратно)25
Гигантские столбы Трона Нимрода сохранились до сих пор, их можно увидеть в турецком городе Санли Урфа, бывший Эдессе.
(обратно)26
В некоторых старых источниках Эдесса так и переводится – Водена.
(обратно)27
Нимало не сомневаясь, что множество благочестивых преданий о чудесах Божиих основаны на истинных свидетельствах, в данном случае мы считаем должным привести упоминание сирийской эдесской хроники о том, что в ноябре 201 г. в Эдессе было сильное наводнение, во время которого воды разлившейся реки Дайсан разрушили дворец Абгара Великого и сильно повредили христианский храм, после чего река и была отведена в новое русло, а старое было превращено в городские пруды, на берегу которых был воздвигнут новый царский дворец. Эдесская хроника: пер. Н. В. Пигулевской//Сирийская средневековая историография: Исследования и переводы. СПб., 2000.
(обратно)28
Тишри – октябрь, Нисан – апрель: сирийский календарь по названиям месяцев совпадает с еврейским, но год по нему начинается с Тишри, а не с Нисана.
(обратно)29
Эдесские хроники.
(обратно)30
Осроэна стала полностью христианской, по одним данным, около 150 г. от Р. Х., по другим – между 170 и 214 гг. при царе Авгаре IX.
(обратно)31
См. К источнику живой воды.
(обратно)32
Готфам для постоянного расселения на восточных территориях Византии были выделены две области – Фригия и Лидия, называемые федерациями.
(обратно)33
Со времен последних ассирийцев в Эдессе правил Совет десяти. Традиции этого Совета были настолько устойчивы, что он пережил македонское и сирийское владычество, царский период, диктат Рима, власть персов, Византии, крестоносцев, господство мусульман… Правил он и в описываемое время в конце IV в. Поразительно, но Совет десяти просуществовал в Эдессе вплоть до 1924 года.
(обратно)34
Калиги – воинская обувь. Толстая подошва сандалий была покрыта шипами. Переплеты ремней часто доходили до колен. Калиги были хорошо приспособлены для длительных переходов.
(обратно)35
Архонт – эквивалент сегодняшнему общему понятию «офицер».
(обратно)36
Игра слов. Греческое название василька «кентавров цветок» связано с мифом о кентавре Хироне, излечившем настоем васильков рану, нанесенную ему воспитанником Гераклом.
(обратно)37
Стратилат (греч.) – основное значение «воевода», «военачальник». Однако это наименование не всегда поддается точному определению. В Византии это мог быть и титул, и должность, как правило военная, но, тем не менее, стратилат зачастую нес функции гражданского управления, следил за порядком во вверенном ему административном центре, области или городе.
(обратно)38
Хрисагир – особый византийский налог, собиравшийся с богатых граждан на содержание госудаственных служб и войска. Существовал до конца VI в.
(обратно)39
Ромеями называли себя все граждане Византии, если не имели нужды особо подчеркнуть свое происхождение.
(обратно)40
По-сирийски их имена звучат Шамуна, Гурия и Хабиб. Жития святых мучеников даны в Приложении 1.
(обратно)41
Самбука, или самбика, – древний ближневосточный струнный музыкальный инструмент, известный с вавилонских времен, имел выпуклый корпус и гриф с ладами.
(обратно)42
«Песнь песней Соломоновых» приводится в переводе И. Дьякова.
(обратно)43
Харран – древний город, сохранившийся до наших дней, что весьма удивительно, под тем же названием. С установлением республики турки провели настоящую топонимическую революцию, уничтожив почти все древние, эллинистические и христианские топонимы.
(обратно)44
Святая диаконисса Нонна, мать св. Григория Богослова.
(обратно)45
Подвиг Леонида и его воинов-гоплитов в битве при Фермопилах в 480 г. до н. э. описан Геродотом и стал на века христоматийным примером воинской стойкости и самоотверженности.
(обратно)46
Военные машины, стрелявшие стрелами, назывались эвтитонами (euthytonon, греч. стреломет), к ним относились и «скорпионы», а камнеметательные – палинтонами. Баллисты также относились к палинтонам.
(обратно)47
Нумидия – современный Алжир. Приведенная народная алжирская песня дошла даже до России и была очень популярна в послевоенные годы в СССР, переводчиком был указан известный джазовый музыкант и композитор Юрий Цейтлин. Автор должен признать, что для него возраст, а также истинное происхождение симпатичной песенки покрыты туманом, но поскольку все подобные песни во все времена и у всех народов более-менее одинаковы, то мы решили, что большой беды не будет, если девушки ее разок споют.
(обратно)48
В словарях часто указывается, что «сирокко» – итальянское название; может, и так, но произошло-то оно от арабского названия ветра «ширк» – по-арабски «восток».
(обратно)49
Аграф – застежка, пряжка.
(обратно)50
Энколпион – небольшой ковчежец прямоугольной, округлой или крестообразной формы с изображением Иисуса Христа, Богородицы или святых, носимый на груди.
(обратно)51
Гемма (лат. gemma – самоцвет) – ювелирный камень, обычно округлой или овальной формы, с вырезанным изображением.
(обратно)52
Глиптика (греч. glyptike, от glypho – вырезаю, выдалбливаю), искусство резьбы на драгоценных и полудрагоценных камнях, один из видов декоративно-прикладного искусства.
(обратно)53
Клятва приведена дословно по тексту «Истории Евфимии, дочери Софии…», см. Приложение 2.
(обратно)54
Особого отдельного чина венчания в то время еще не существовало.
(обратно)55
Мул живет до 50 лет, сохраняя работоспособность до 40 лет.
(обратно)56
Каррука – дорожная повозка или экипаж (обычно двухосный), часто закрытый, удобный для путешествий.
(обратно)57
Марк Красс – знаменитый римский полководец, разгромивший 60-тысячную армию Спартака; был действительно самым богатым человеком Рима, а следовательно, и мира. Журнал «Forbes» подсчитал, что состояние Красса в пересчете на нынешние деньги составило бы 169,8 миллиарда долларов.
(обратно)58
То же утверждает и Библейская энциклопедия, см. статью «Ур». Но мнения ученых в определении местоположения Ура расходятся, его располагают также на левом берегу Евфрата, на месте современного городища Тель-Мукайяр, в 20 км к ю.-з. от г. Насирия в Ираке.
(обратно)59
Останки крепости Харран сохранились до сих пор, но сомнительно, чтобы турки собирались ее реставрировать в ближайшее время, поскольку Харран не лежит на пути самых популярных туристских маршрутов.
(обратно)60
Всего в стене, окружающей Харран, было 12 ворот, из которых до наших дней сохранились полностью лишь Ворота Алеппо, да еще от четырех остались фрагменты.
(обратно)61
Кондакион (греч.) – палочка, на которую крепился и наворачивался свиток. Отсюда «кондак» в церковных песнопениях.
(обратно)62
Самосата – современный турецкий город Самсат, столица древнего государства Коммагены, о нем будет ниже.
(обратно)63
Небольшое Коммагенское царство со столицей в Самосате отделилось от державы Селевкидов в 163 г. до н. э. Местная династия царей происходила из армянской династии, также среди предков по отцовской линии некоторые восходили к Дарию I. История Коммагенского царства не отмечена особыми значительными событиями. Царям Коммагены удавалось удерживать на протяжении двух веков свою независимость. Только после смерти Антиоха III Коммагена была присоединена к Византии и вошла в провинцию Сирия.
(обратно)64
Антиох I, царь Коммагены (69–40 гг. до н. э.).
(обратно)65
Современный турецкий город Адана.
(обратно)66
Заповедник Немрут с усыпальницей Антиоха I, а также его летняя резиденция Арсамея в виде руин и уцелевших фрагментов сохранились до наших дней и доступны туристам.
(обратно)67
Стадий (мужск. род) – мера, принятая у многих древних народов; птолемеевский и римский стадии равнялись 185 метрам.
(обратно)68
Всего в древности было известно 16 различных городов с названием Антиохия – от имени Антиох. Самые знаменитые из них Антиохия-на-Оронте, давшая имя Антиохийскому княжеству, и Антиохия Писидийская, столица Писидии. Обе были основаны Селевком Никатором и названы в честь его отца Антиоха. Из Антиохии-на-Оронте ходил проповедовать апостол Павел, в ней была основана первая крупная община христиан; именно отсюда и пошло их самоназвание «христиане».
(обратно)69
Действие романа происходит в доисламский период, когда на мусульманском Востоке еще не было запрета на изображение живых творений.
(обратно)70
Мастерство китайской вышивки Сучжоу известно с 2000 г. до н. э., а на Запад вышивки попадали еще до нашей эры.
(обратно)71
То есть Китайской Венецией. Аквилея – древнее название Венеции.
(обратно)72
Китайское искусство вышивки Шу известно с глубокой древности до наших дней, исторически оно было связано с районом города Чэнду, который является столицей провинции Сычуань.
(обратно)73
Современный турецкий город город Мерсин.
(обратно)74
Бронзовый обол был введен в Восточно-Римской империи около 400 г.
(обратно)75
Современный город Анталья.
(обратно)76
Современная Алания.
(обратно)77
Современный турецкий курортный городок Памуккале.
(обратно)78
Травертин – промежуточное состояние камня между известняком и мрамором.
(обратно)79
Бальнеологический курорт на месте древнего курорта существует и сейчас, а комплекс «Термы Клеопатры», несмотря на ряд крупнейших разрушительных землетрясений в районе Иераполиса, сохранился и является главной достопримечательностью, приманивающей туристов.
(обратно)80
Аларих называет достопримечательности, фрагментарно сохранившиеся до нашего времени. Это же относится и ко всем зданиям, скульптурам и т. п., упомянутым в тексте: все они либо сохранились полностью, либо уцелели фрагментарно, и читатель, если ему представится такая возможность, может увидеть все то, что видели Евфимия и Аларих. К сожалению, по большей части в виде руин, ибо турки, привлекая туристов рассказами о «своих» древностях, реставрацией их практически не занимаются.
(обратно)81
Свято-Георгиевский храм в Алании довольно хорошо сохранился, как и окружающая его стена, и в настоящее время русская православная община региона ведет с властями переговоры о его восстановлении.
(обратно)82
Теперь это река Аксу. Судоходной она была примерно до конца IV в., затем внезапно обмелела, и судоходство на ней прекратилось.
(обратно)83
Испарта – еще один турецкий город, сохранивший древнее название.
(обратно)84
Сагалассос – некогда крупный и богатый город. Расцвет его длился несколько столетий, но после постигших его в VI в. двух бедствий: мощного землетрясения и эпидемии чумы жители покинули город и память о нем стерлась. Лишь в XIX в. случайно была найдена надпись с упоминанием Сагалассоса и начались раскопки забытого города.
(обратно)85
Соленое озеро Бурдур.
(обратно)86
Лаодикия, или Лаодикея (современный турецкий город Эски-Хиссар, в 6 километрах к северу от современного города Денизли) была основана у истоков реки Ликос в 261–263 гг. до н. э. царем селевкидов Антиохом II и получила название по имени жены царя Лаодики. Лаодикия во времена Римской империи и позже считалась чуть ли не первым городом Азии. Этому способствовало выгодное положение ее на торговой дороге, соединявшей Восток с Западом.
(обратно)87
Церемониальный проспект, недавно обнаруженный археологами; ширина его составляет 15 метров.
(обратно)88
Евфимия имеет в виду пещерные захоронения, принятые на Востоке.
(обратно)89
Около 50 метров.
(обратно)90
Клепало – железная или медная полоса, согнутая в полукруг, употреблявшаяся для созыва на службу на Востоке.
(обратно)91
У сирийцев кивок головой – жест отрицания.
(обратно)92
Лат. phrygionae и phrygio. Римляне действительно узнали вышивание золотом от фригийцев, но те, в свою очередь, усвоили это ремесло от персов.
(обратно)93
Кодекс – прототип современной книги, представлял собой скрепленную под общим переплетом пачку пластин или листов бумаги. Первыми кодекс вместо свитка стали использовать христиане первых веков.
(обратно)94
Аларих I (370–410), первый король вестготфов, правил в 395–410 гг.
(обратно)95
Орарь (греч. ōrarion) – часть дьяконского облачения в виде длинной ленты, перекидываемой через плечо.
(обратно)96
Фоллис (лат. follis) – чрезвычайно мелкая древнеримская и византийская медная монета. Появилась в Древнем Риме в III в., счет на нее шел горстями и мешками.
(обратно)97
Вилла (лат. villa) – загородное имение для летнего отдыха богатых римлян; варварская знать, когда их народы вошли в состав Римской империи, стремилась во всем подражать завоевателям и тоже могла позаимствовать обычай устраивать усадьбы в сельской местности.
(обратно)98
В христианской церкви с конца II века вплоть до IV века события Рождества вспоминались в день Богоявления, 6 января. Около 200 года Климент Александрийский упоминает о такой практике. Первые сообщения о появлении отдельного праздника Рождества и праздновании его 25 декабря относятся к середине IV века.
(обратно)99
Пс. 29, 6.
(обратно)100
Мыло известно с античных времен. Еще до нашей эры в Месопотамии научились добавлять содержащий соду пепел в вареное оливковое масло и получили первое в мире мыло. В Древнем Риме мыловарение стало отдельным промыслом, о нем Плиний Старший, живший в I в. н. э., написал в своей «Естественной истории».
(обратно)
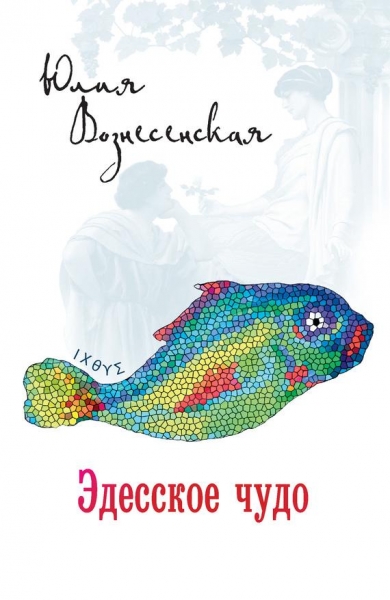


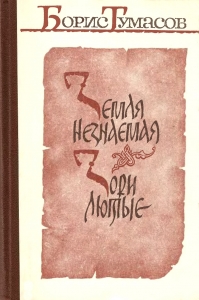
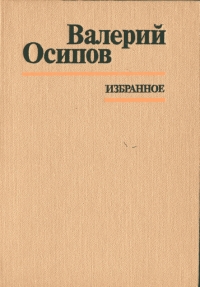
Комментарии к книге «Эдесское чудо», Юлия Николаевна Вознесенская
Всего 0 комментариев