Потемкин
Из энциклопедического словаря
Брокгауза и Ефрона.
T. XXIVA. СПб., 1898
ОТЕМКИН (князь Григорий Александрович, ок. 1739-1791) — знаменитый деятель екатерининской эпохи; родился в селе Чижеве, близ Смоленска, рано потерял отца (мелкопоместного дворянина), воспитан матерью, впоследствии статс–дамою, в Москве, где посещал учебное заведение Литкеля в Немецкой слободе; с детства проявил любознательность и честолюбие; вступив в Московский университет, в июле 1757 г. в числе лучших двенадцати студентов представлен был императрице Елизавете, но затем заленился и был исключен из университета «за нехождение».
Еще в 1755 г. записанный в рейтары конной гвардии, Потемкин при Петре III был вахмистром. Участие в государственном перевороте 28 июня 1762 г. (в чем состояло это участие — неизвестно) обратило на Потемкина внимание императрицы Екатерины II; он сделан был камер–юнкером и получил 400 душ крестьян.
Биографические факты ближайших последующих годов известны лишь в общих чертах; относящиеся к этому времени анекдоты об отношениях Потемкина к императрице и братьям Орловым, о желании его постричься и т. п. недостоверны.
В 1763 г. Потемкин сделался помощником обер–прокурора Синода, не покидая военной службы; в 1768 г. он пожалован в камергеры и отчислен от конной гвардии, как состоящий при дворе. В комиссии 1767 г. он был опекуном депутатов от иноверцев; состоял в то же время и членом духовно–гражданской комиссии, но ничем себя здесь не заявил, и в 1769 г. отправился на турецкую войну «волонтиром».
Он отличился под Хоганом, успешно участвовал в битвах при Фокшанах, Ларге и Кагуле, разбил турок у Ольты, сжег Цыбры, взяв в плен много турецких судов, и т. д.
В 1770-1771 гг. он был в Санкт–Петербурге, где испросил позволение писать к императрице, но большого успеха не добился.
В 1771 г. он был генерал–поручиком; императрица в это время уже переписывалась с ним и в собственноручном письме настаивала на том, чтобы он напрасно не рисковал жизнью. Через месяц после получения этого письма Потемкин уже был в Санкт–Петербурге, где вскоре сделан генерал–адъютантом, подполковником Преображенского полка, членом Государственного совета и, по отзывам иностранных послов, стал «самым влиятельным лицом в России».
Участие его в делах выразилось в это время в посылке подкреплений графу Румянцеву, в меньшем стеснении действий последнего в мерах против Пугачева и в уничтожении Запорожской Сечи. Несколько позже Потемкин был назначен «главным командиром», генерал–губернатором Новороссийского края, возведен в графское достоинство и получил ряд отличий и из‑за границы, где влияние его очень скоро стало известно: датский министр, например, просил его содействовать сохранению дружбы России с Данией.
В 1776 г. Иосиф II по желанию императрицы возвел Потемкина в княжеское достоинство Священноримской империи.
В декабре 1775 г. императрице был представлен Завадовский, после чего отношения ее к Потемкину немного охладились, но продолжали быть дружественными; мало влияния на положение Потемкина оказало и возвышение Ермолова в 1785 г.
За все это время имеется масса факторов, свидетельствующих о той силе, которая находилась в руках Потемкина: переписка его с императрицей не прекращается, наиболее важные государственные бумаги проходят через его руки, путешествия его обставлены «необычайными почестями», императрица часто делает ему ценные подарки.
Как видно из докладов Потемкина, его особенно занимал вопрос о южных границах России и в связи с этим судьба Турции. В особой записке, поданной императрице, он начертал целый план, как овладеть Крымом; программа эта, начиная с 1776 г., была выполнена в действительности. Событиями в Оттоманской империи Потемкин сильно интересовался и имел во многих местах Балканского полуострова своих агентов. Еще в 70–х годах им, по сообщению Герриса, выработан был «греческий проект», предполагавший уничтожить Турцию и возложить корону нового византийского царства на одного из внуков императрицы Екатерины II.
В военном деле Потемкин провел некоторые рациональные реформы, особенно когда стал фельдмаршалом, в 1784 г. он уничтожил пудру, косички и букли, ввел легкие сапога и т. д. есть, однако, отзывы, что небрежность Потемкина привела дела военного ведомства в хаотическое состояние. Чрезвычайно важным делом Потемкина было сооружение флота на Черном море; флот был построен очень спешно, частью из негодного материала, но в последовавшую войну с Турцией оказал значительные услуги. Колонизаторская деятельность Потемкина подвергалась многим нареканиям — и действительно, несмотря на громадные затраты, не достигла и отдаленного подобия того, что рисовал в своих письмах к императрице Потемкин, тем не менее беспристрастные свидетели — вроде К. П. Разумовского, в 1782 г. посетившего Новороссию, — не могли не удивляться достигнутому. Херсон, заложенный в 1778 г., является в это время уже значительным городом; Екатеринослав называется «лепоустроенным»; на месте прежней пустыни, служившей путем для набегов крымцев, через каждые 20-30 верст находились деревни. Мысль об университете, консерватории и десятках фабрик в Екатеринославе так и осталась неосуществленной; не удалось Потемкину и сразу создать нечто значительное из Николаева.
Из огромного числа деловых бумаг и писем канцелярии Потемкина видно, как многостороння и неусыпна была его деятельность по управлении Южною Россией; но вместе с тем во всем чувствуется лихорадочная поспешность, самообольщение, хвастовство и стремление к чрезмерно трудным целям. Приглашение колонистов, закладка городов, разведение лесов и виноградников, поощрение шелководства, учреждение школ, фабрик, типографий, корабельных верфей — все это предпринималось чрезвычайно размашисто, в больших размерах, причем Потемкин не щадил ни денег, ни труда, ни людей. Многое было начато и брошено; другое с самого начала оставалось на бумаге; осуществилась лишь самая ничтожная часть смелых проектов.
В 1787 г. предпринято было знаменитое путешествие императрицы Екатерины на Юг, которое обратилось в торжество Потемкина, с замечательным искусством сумевшего скрыть все слабые стороны действительности и выставить на вид блестящие свои успехи. Херсон, с своею крепостью, удивил даже иностранцев, а вид Севастопольского рейда с эскадрою в 15 больших и 20 мелких судов был самым эффектным зрелищем всего путешествия.
При прощании с императрицею в Харькове Потемкин получил название «Таврического».
В 1787 г. началась война с Турцией, вызванная отчасти деятельностью Потемкина. Устроителю Новороссии пришлось взять на себя роль полководца. Недостаточная готовность войск сказалась с самого начала; Потемкин, на которого возлагались надежды, что он уничтожит Турцию, сильно пал духом и думал даже об уступках. Императрице в письмах приходилось неоднократно поддерживать его бодрость.
Лишь после удачной защиты Кинбурна Суворовым Потемкин стал действовать решительнее и осадил Очаков, который, однако, взят был лишь через год: осада велась неэнергично, много солдат погибло от болезней, стужи и нужды в необходимом.
После взятия Очакова Потемкин вернулся в Санкт–Петербург, всячески чествуемый по пути; в Санкт–Петербурге он получил щедрые награды и часто имел с императрицею беседы о внешней политике: он стоял в это время за уступчивость по отношению к Швеции и Пруссии.
Вернувшись на театр войны, он позаботился о пополнении числа войск и медленно подвигался с главной массою войск к Днестру, не участвуя в операциях Репнина и Суворова. Осажденные им Бендеры сдались ему без кровопролития.
В 1790 г. Потемкин получил титул гетмана казацких екатеринославских и черноморских войск. Он жил в Яссах, окруженный азиатскою роскошью и толпою раболепных прислужников, но не переставал переписываться с Санкт–Петербургом и с многочисленными своими агентами за границею; о продовольствии и укомплектовании армии он заботился как нельзя лучше.
После новых успехов Суворова, в январе 1791 г., Потемкин снова испросил позволение явиться в Санкт–Петербург и в последний раз прибыл в столицу, где считал свое присутствие необходимым ввиду быстрого возвышения Зубова. Цели своей — удаления Зубова — ему не удалось достигнуть. Хотя императрица и уделяла ему все ту же долю участия в государственных делах, но личные отношения ее с Потемкиным изменились к худшему: по ее желанию Потемкин должен был уехать из столицы, где он в четыре месяца истратил на пиршества и тому подобное 850 тыс. рублей, выплаченных потом из кабинета.
По возвращении в Яссы Потемкин вел мирные переговоры, но болезнь помешала ему окончить их.
5 октября 1791 г., в степи, в 40 верстах от Ясс, Потемкин, собиравшийся ехать в Николаев, умер от перемежающейся лихорадки. Похоронен он в Херсоне. Императрица была сильно поражена смертью Потемкина. Отзывы о Потемкине после смерти, как и при жизни, были весьма различны. Одни называли его злым гением императрицы Екатерины, «князем тьмы» (ср. немецкий роман–памфлет 1794 г. «Pansalvin, Furst der Finstemiss, und seine Geliebte»), другие — в том числе сама императрица Екатерина — великим и гениальным человеком.
Во всяком случае, это был самый недюжинный из екатерининских временщиков, несомненно, способный администратор, деятельный и энергичный человек, избалованный, однако, побочными обстоятельствами, доставившими ему высокое положение, и поэтому лишенный равновесия и способности соразмерять свои желания с действительностью.
Начинания его на Юге России составляют несомненную его заслугу перед потомством. Созданные им города, особенно Екатеринослав, и теперь принадлежат к наиболее важным населенным пунктам нашего Юга. Пороки Потемкина — его женолюбие (связь даже с собственными племянницами), расточительность, пренебрежение к человеческой жизни — все это в значительной степени недостатки эпохи, когда он жил. Биография Потемкина обильна анекдотическими рассказами сомнительной достоверности; большая часть их принадлежит памфлетисту Гельбигу, поместившему биографию Потемкина в журнале «Minerva» (1797-1800). Панегирик Потемкина напечатал племянник его А. И. Самойлов («Русский архив», 1867). См. А. Г. Брикнер, «Потемкин» (СПб, 1891); A. M. Л., «Екатерининский временщик» («Исторический вестник», 1892, №3).
А. М. Л.
Николай Эдуардович Гейнце Князь Тавриды
Часть первая ИЗ КЕЛЬИ ВО ДВОРЕЦ
I В БОЛЬШОМ ТЕАТРЕ
а дворе стоял апрель 1791 года.
В этот год весна наступила в Петербурге сравнительно рано, и день был почти летний.
Это, впрочем, не помешало театралам–любителям наполнить сверху донизу Большой театр, бывший в столице еще новинкой [1], так как открытие его состоялось 22 сентября 1784 года, то есть за семь лет до описываемого нами времени.
В шестом часу вечера начался первый акт оперы Гольдини «На Луне», и зрители с напряженным вниманием следили за игрой артистов, восхищаясь музыкой знаменитого композитора того времени Паизиелло [2].
В эту эпоху спектакли начинались обыкновенно в пять часов вечера и кончались не позднее десятого часа.
На одной из скамеек партера сидел красивый молодой человек в форме гвардейского офицера. Высокого роста, с выразительными темно–синими глазами, с волнистыми светло–каштановыми волосами, с правильными чертами матово–бледного лица, он невольно обращал на себя взгляды мужчин и женщин, с различными, впрочем, выражениями. Во взглядах первых проглядывало беспокойство, у вторых же они загорались желанием.
Надо заметить, что в то время в Большом театре кресел было всего три ряда и садились в них одни старики, важные сановники. В ложах второго яруса можно было видеть старух с чулками в руках и стариков купцов в атласных халатах, окруженных чадами и домочадцами.
Молодой офицер, видимо, недавно находился в столице, так как во время антрактов и даже самого действия с любопытством провинциала осматривал на самом деле великолепно отделанную и освещенную театральную залу.
Вдруг взгляд его остановился на сидевшей одиноко во второй от сцены ложе первого яруса молодой даме. Она была брюнетка, лет под тридцать, ее черные волосы прекрасно окаймляли белое лицо, на котором рельефно выделялись розовые губки.
Гармоничное сочетание линий, изящество форм, не исключавшее некоторой полноты, — таковы были отличительные черты этой удивительной женщины; дальность расстояния немало мешала ему любоваться ею, но он догадывался, что она выиграла бы еще более, если бы было возможно посмотреть на нее поближе.
Было, пожалуй, несколько заносчивости в этих прелестных глазах, оттененных черными густыми бровями, в складках этого розового и улыбающегося рта; слишком много соблазнительного кокетства обнаруживалось, пожалуй, в ее манере держаться и поправлять складки своего платья, но эта утрировка принадлежала именно к числу тех недостатков, в которых можно упрекнуть почти всех хорошеньких, знающих себе цену женщин.
Но странная вещь. Когда глаза молодого офицера остановились на ложе, в которой сидела молодая женщина, ему показалось, что она сделала как бы совершенно незаметное движение удовольствия, тотчас же сдержанное, и чуть–чуть кивнула головкой.
Это его поразило. Он машинально посмотрел вокруг себя, желая узнать, к кому относится этот грациозный кивок, этот мимический разговор незнакомки; но увидел вокруг себя только почтенных старичков, которые ни в каком случае не могли принять на себя проявления чувств красавицы.
Неужели эта тонкая улыбка была предназначена ему? Неужели это он вызвал беглое и мимолетное движение мечтательных глаз, которые затем с очевидной аффектацией то обращались на сцену, то осматривали зрителей.
Кровь бросилась в голову молодому офицеру. Сначала, впрочем, он этому не поверил, потом невольно поддался мысли о возможности такого внимания.
Самолюбивое чувство укреплялось в его сердце, и когда к концу второго акта оперы тот же кивок головой был сделан в третий раз, он храбро отвечал на него таким же кивком и улыбкой.
К каким последствиям все это могло привести? Каким очарованием или каким горем может окончиться это приключение? Каким образом он мог даже продолжать его, совершенно не знакомый с нравами и жизнью Петербурга?
Все эти вопросы лишь на мгновенье мелькнули в голове молодого человека, так как, когда он самодовольно ответил на последний знак, дама в ложе, видимо, обрадовалась, что ее поняли.
Когда окончился третий акт, молодой человек вышел в коридор взять оставленную шинель.
Капельдинер, который, казалось, кого‑то ожидал, быстро приблизился к нему и сунул ему в руку маленький клочок бумаги, сложенный вчетверо.
Молодой офицер развернул его и прочел написанное наскоро карандашом следующее:
«Приезжайте сегодня вечером, вас ждет карета на площади, в стороне от других. Позвольте, прекрасный мечтатель, отвезти вас туда, куда зовет вас любовь».
Он дважды прочел эту записку и тотчас же решился. Этот «прекрасный мечтатель» совершенно вскружил ему голову. Не долго раздумывая, он победоносно пробрался сквозь густую толпу, наполнившую фойе театра, и вышел на площадь, где действительно заметил стоявшую в стороне от других экипажей карету.
Слуга, одетый в черную ливрею, стоял у дверцы. При приближении офицера он отворил ее, подножка опустилась, и молодой человек без дальних рассуждений вскочил в карету.
Как только дверца захлопнулась, молодой офицер почувствовал, что несется к неизбежному, увлекаемый какой‑то неизвестной целью, его охватило странное, невыразимое ощущение. Тысячи смутных волнений поочередно сменялись в его душе: беспокойное любопытство, раскаяние в легкомыслии, радостная жажда предстоящей любви, которая во всяком случае не могла представляться особенно мрачною, так как была возвещена такими прелестными ручками и такой обольстительной улыбкой.
Была минута, когда ему приходила в голову тревожная мысль; он читал французские романы, где герой женскими интригами вовлекался в водоворот политических действий и, подобно ему, вдруг похищался в карете, запертой на замок.
Он поторопился спустить оконное стекло.
Оно очень легко действовало на пружинах. Дверцы тоже свободно отворялись.
Случилось то, что обыкновенно случается всегда: видя, что есть возможность уйти, он даже не решился попробовать.
Он начал смотреть по сторонам на окружающую местность, хотя ему, который только утром первый раз в жизни прибыл в столицу, эта местность не могла объяснить ничего.
Ехали довольно долго. Проехали мост. Вскоре прекратилась мостовая, и колеса экипажа, видимо, врезывались в рыхлую почву.
На дворе почти совершенно стемнело.
Кое–где мелькавшие огоньки в окнах убогих строений указывали на существование людей в проезжаемой местности.
Карета повернула в узкий переулок–тупик и остановилась у решетки, за которой стоял небольшой, но изящный деревянный домик с закрытыми наглухо ставнями.
Лакей спрыгнул с козел. Отворил калитку решетки и затем уже опустил подножку.
В то время когда молодой человек выходил из экипажа, тот же лакей три раза стукнул в парадную дверь домика, и она бесшумно отворилась.
Увлеченный таинственностью приключения, молодой офицер не заметил, что при выходе его из театра вышел и неотступно следивший за ним другой офицер и что другая большая шестиместная карета, запряженная четверкой лошадей, на довольно значительном расстоянии ехала следом за каретой, увозившей счастливого избранника красивой брюнетки.
Когда первая карета повернула в тупой переулок, вторая остановилась на углу.
Молодой человек между тем прошел в сени, вступил в маленькую, темную переднюю, устланную циновками и наполненную цветами; затем, следуя по пятам вертлявой, хорошенькой горничной, очутился в прелестном будуаре [1], меблированном в греческом вкусе, с обоями на греческий образец, освещенном алебастровой лампой, спускавшейся с середины потолка, и пропитанном тонким запахом какого‑то куренья, которое дымилось из жаровни, поставленной на бронзовом треножнике.
Начало предвещало многое.
Воображение юноши было польщено и очаровано.
Он сел или, лучше сказать, растянулся на изящной кушетке, против камина, в котором искрился блестящий огонек, примешивавший свой свет к свету лампы, и это двойное освещение распространялось отчасти и на самые отдаленные предметы.
Он обвел взглядом всю изящную роскошь окружающей его обстановки, и его взгляд прежде всего остановился на одном предмете, которого он сначала совсем не приметил: это была небольшая кровать с шелковыми занавесками, «поддерживаемыми позолоченными фигурками амуров, настоящая кровать для кратковременного отдыха какой‑нибудь красавицы, внезапно застигнутой приступом мигрени и желающей уединиться во что бы то ни стало.
«Итак, этот будуар служит иногда и спальней!» — мелькнуло в голове молодого офицера, и эта подробность показалась ему имеющей некоторое значение.
Между тем хорошенькая горничная, впустив его в комнату, тихонько удалилась, почти не взглянув на него и лишь сделав отрывистое движение, видимо означавшее: сидите и ждите.
Он и стал ожидать, осматривая окружающие его предметы.
Вдруг он вздрогнул.
Со стены, противоположной той, у которой стояла заинтересовавшая его кровать, глядел на него из массивной золотой рамы презрительно властный, знакомый в то время всей России взгляд голубых глаз.
С большого, прекрасно нарисованного масляными красками портрета смотрел на него как живой светлейший князь Григорий Александрович Потемкин–Таврический.
Молодой человек задрожал.
Кроме вообще в то время магической силы этого имени с ним у сидевшего в изящном будуаре прелестной незнакомки офицера были особые, личные, таинственные связи.
По желанию светлейшего князя он с поля военных действий из армейского полка был переведен в гвардию и послан в Петербург.
Приехав сегодня утром, он не замедлил явиться в Таврический дворец [3], но прием его светлейшим был отложен до завтра.
— Пусть погуляет, оглядится… — вынес ему милостивое слово князя докладывавший о нем адъютант.
Он воспользовался этим и поехал в театр.
И вот…
Все это мгновенно пронеслось в отуманенной голове вытянувшегося в струну перед портретом всесильного Потемкина молодого офицера.
II ДВОЙНИК
Явственно доносившийся до молодого человека разговор из соседней комнаты, отделенной от будуара, видимо, лишь тонкой перегородкой, вывел его из оцепенения.
— Катя, он еще там?
— Да, Калисфения Николаевна, вот уже с час как он ждет, хорошо еще, что я затопила камин.
— Я не виновата… Меня задержали в театре… Как нарочно, явились на поклон… и я уехала почти последняя… А знаешь, с моей стороны это ужасная смелость… Что, если узнает князь…
Молодой человек инстинктивно посмотрел на портрет.
— Но он такой прелестный, и к тому же еще и никого я так страстно не любила… вот мое единственное извинение… — продолжал голос.
«Неужели я так прелестен?» — самодовольно подумал, молодой офицер.
— Послушай, Катя, мне надоело ждать… Убери здесь все, я переоденусь сама, и приведи его сюда.
Он мигом вскочил. Сердце его сильно билось.
Нельзя не сознаться, что положение его было действительно довольно щекотливое.
Он сделал шаг к дверям, из‑за которых слышались голоса.
Они отворились. На их пороге показалась Катя и, посторонившись, пропустила молодого человека.
Он храбро вошел в другую комнату.
В изящном кабинете, отделанном точно так же в греческом вкусе, перед туалетом, на котором стояло зеркало, поддерживаемое двумя лебедями с золочеными головками, сидела прелестная незнакомка и снимала с головы какой‑то убор.
Заметив отражение вошедшего в зеркале, она вскочила и бросилась к нему с ловкостью газели.
Он почувствовал страстные, благоухающие объятия, кровь бросилась ему в голову; потом вдруг порывистым, нервным, неожиданным, необъяснимым движением он был отброшен, чуть не опрокинут, — отброшен этой прелестной женщиной, которой знойное дыхание он еще чувствовал на своем лице.
— Боже мой! — воскликнула она с неподдельным выражением удивления и ужаса и упала навзничь на стоявший вблизи диван.
На крик своей барыни в кабинет вбежала Катя и, ничего не понимая в происшедшем, с недоумением глядела на обоих, как бы спрашивая, что это значит.
— Боже мой! — вскричала она в свою очередь.
— Но что все это значит? — воскликнул, наконец придя в себя, молодой человек, задыхаясь от волнения.
— Я… я ничего не могу сказать… но, наверное, это не вы.
— Как это… не я?
— Вам лучше знать…
— Знать! Да ведь тут легко сойти с ума. Что это, комедия или мистификация?
В эту минуту прелестная хозяйка сделала жест своей горничной, и та поспешила к ней.
Обе женщины с минуту разговаривали шепотом.
— Ради Бога, — обратилась Катя к молодому офицеру, — выйдите туда. — Она указала ему рукой на дверь будуара.
Потерянный, ошеломленный тем, что случилось с ним в этот вечер, он машинально повиновался и вышел в будуар.
За ним послышался звук запираемого замка.
Совершенно уничтоженный, молодой человек упал на кушетку.
Прошло несколько минут, и он не успел еще привести в порядок своих мыслей, выделить их из того хаоса, в который они были погружены, и придать им некоторую стройность, последовательность и определенность, как в кабинете снова заговорили, вероятно не подозревая, что перегородка была чересчур тонка.
— Какое ужасное приключение! Как я несчастна! Какое необычайное сходство… Что делать? Я теряю голову! Как выпроводить его отсюда… Теперь уже ночь… — говорила барыня.
— Успокойтесь, Калисфения Николаевна, я сейчас поговорю с ним… И что же, что теперь ночь… Он не маленький… офицер, — отвечала горничная.
— Подожди… не лучше ли написать ему несколько извинительных слов… Ведь он, кажется, молод, в нем должна быть известная доля деликатности, он не захочет с досады погубить меня, да и к тому же на самом деле издали можно было ошибиться…
— Еще бы, я первая попала бы впросак; но все равно, — издали или вблизи, это совсем не одно и то же…
— Увы! Я сама очень хорошо вижу! А этот? Где же он и что он подумает!
«Итак, это была ошибка!» — с отчаянием подумал молодой человек и вскочил с кушетки.
Взгляд его упал на портрет светлейшего.
Он, казалось ему, насмешливо улыбался.
Вошла Катя, держа в руках записку. Она была написана наскоро, без подписи и заключала в себе следующее:
«Простите ли вы меня за ночное путешествие, которое я совершенно невольно заставила вас совершить, и за то, которое вам еще предстоит? Ваше сходство с одним из моих родственников, который должен был сегодня приехать ко мне, сделало все это. Мое непростительное легкомыслие довершило остальное. Умоляю вас, забудьте все, но особенно не сердитесь на меня за неприятность, которую я вам сделала. Клянусь вам, что для меня это гораздо хуже, нежели для вас, и вы должны мне поверить».
— Я сейчас выпущу вас, только достану ключ! — сказала Катя и вышла.
Молодой человек хотел отвечать на прочтенную записку несколькими словами, исполненными чувства оскорбленного достоинства, и начал искать перо и чернила на письменном столе. Вдруг ему попался под руку небольшой бархатный футляр.
Инстинктивно он открыл его.
В нем оказался портрет–миниатюра.
Молодой человек остолбенел. Это был его собственный портрет или же портрет его двойника.
На нем был изображен гвардейский офицер, черты которого были странным образом поразительно похожи на его собственные, в чем он мог как нельзя лучше удостовериться, приблизившись к большому зеркалу.
Тот же овал, те же линии, но с некоторыми оттенками, которые, впрочем, было весьма трудно заметить.
Он с недоумением положил портрет обратно и беспомощно обвел глазами будуар.
Взгляд его снова остановился на портрете светлейшего князя Таврического.
Ему снова показалось, что этот всесильный красавец насмешливо улыбается углами своего надменного рта.
— Пожалуйте! — вывела из столбняка молодого человека вошедшая с ключом Катя.
Он машинально последовал за нею.
Насмешливый взгляд Потемкина, казалось, провожал его, он чувствовал его на себе.
Катя вывела его из подъезда и проводила до калитки, которую и заперла за ним.
Молодой человек очутился один среди темного и пустынного переулка.
Он на минуту остановился, как бы для того, чтобы собраться с мыслями, затем твердой походкой пошел по деревянным доскам, заменяющим тротуар.
Он решил идти наугад, так как совершенно не знал местности, где он находится, да, впрочем, и это знание мало бы помогло ему, так как, как уже известно читателям, он был в Петербурге первый день.
«Будь что будет! Я проброжу по улицам до утра, а там спрошу дорогу в город, на Ямскую…» — думал он.
Не успел он сделать, однако, и двадцати шагов, как двое людей загородили ему дорогу и перед ним выросла черная масса, оказавшаяся каретой, запряженной четверкой.
— Князь Святозаров, именем светлейшего князя Григория Александровича прошу вас следовать за мной! — сказал грудной, приятный голос.
— Князь Святозаров! Вы ошиблись, господа! — сказал молодой человек, придя в себя от неожиданной встречи.
— Ваши уловки не помогут… Нам известно, что вы князь Святозаров, и его светлость требуют вас к себе…
— Повторяю, господа, вы ошибаетесь, моя фамилия Петровский, Владимир Андреевич… — возразил было молодой человек.
— Повторяю, что мы осведомлены лучше вас… Не заставляйте, господин офицер, совершать над вами насилие офицеру при исполнении им служебных обязанностей, прошу вас безоговорочно садиться в карету.
Один из стоявших перед ним вынул из‑под полы шинели потайной фонарь и осветил его и себя.
Наш ночной путешественник действительно увидел перед собой человека в военной форме, жестом приглашавшего его в открытую дверцу кареты, у которой стоял ливрейный лакей.
— Именем светлейшего князя Григория Александровича прошу вас, ваше сиятельство.
Молодой человек послушно взобрался на подножку и скорее упал, нежели сел в угол кареты. За ним вошел его спутник и уселся рядом.
Подножку подняли, дверца захлопнулась, и карета покатилась по рыхлой, немощеной улице.
Несчастный молодой человек некоторое время сидел с закрытыми глазами, без дум, без мыслей.
Приключение первого вечера в столице сбило его окончательно с толку.
Экипаж выехал на замощенные улицы, и шум колес о камни вывел его из оцепенения. Не открывая глаз, он начал соображать.
Кто этот князь Святозаров, за которого его принимают?
Не тот ли, который изображен там на миниатюре и сходство с которым заставило его совершить это ночное путешествие на окраину города, пережить столько сладостных надежд и такое горькое разочарование?
За этим князем Святозаровым следят по приказанию светлейшего князя Григория Александровича Потемкина, портрет которого красуется на видном месте в этом волшебном будуаре–спальне.
В этом должна быть несомненная связь.
Мысли молодого человека перенеслись на князя Потемкина, которого он видел лишь издали, но который играл, несомненно, какую‑то роль в его судьбе.
Владимир Андреевич припомнил свое детство в Смоленске, в доме родственников светлейшего. Он был воспитанником–приемышем. Кто были его родители — он не знал. Затем он был отправлен в Москву в университетскую гимназию, откуда вышел на военную службу в один из армейских полков и прямо отправился на театр войны с Турцией. Неожиданно, с месяц, с два тому назад, он был отозван и из своего полка переведен в гвардию, с командировкой в Петербург, в распоряжение светлейшего князя, генерал–фельдмаршала.
Что могло все это значить?
Эти вопросы жгли молодого человека, но, увы, оставались без ответа.
Вдруг карета остановилась.
Владимир Андреевич открыл глаза и, несмотря на темноту, различил из окна кареты величественное здание Таврического дворца.
III В ТАВРИЧЕСКОМ ДВОРЦЕ
Таврический дворец, один из многочисленных памятников блестящего царствования Екатерины II, до сих пор почти в неизменном виде сохранившийся на Воскресенском проспекте, с тем же обширным садом, прудами, островками, каскадами и беседками, два раза во время жизни светлейшего князя Григория Александровича Потемкина–Таврического находился в его владении.
Первоначально он был построен князем в виде небольшого домика, но после присоединения Крыма [4], по приказанию императрицы, архитектор Старов на месте прежнего дома построил роскошный дворец наподобие Пантеона.
Императрица назвала его Таврическим и подарила великолепному «князю Тавриды», как называли тогда не только в России, но и в Европе увенчанного лаврами военных побед Потемкина.
Главное здание дворца было вышиной около шести сажен, с высоким куполом и перистилем [2]из шести колонн, поддерживающих фронтон.
К обеим сторонам дворца пристроены флигеля, выведенные до самой улицы. Обширная площадь перед дворцом ограждена невысокой чугунной решеткой.
Внутреннее расположение дворца, вместе с пространством между обоими флигелями, представляет одну огромную залу, в середине освещенную окном, сделанным в куполе; два ряда колонн придают зале необыкновенно величественный вид.
На одной стороне залы расставлены мраморные статуи, на другой — зимний сад.
Вскоре, однако, князь Потемкин продал этот дворец императрице Екатерине II за 460000 рублей.
Незадолго же до начала нашего рассказа, а именно в феврале 1791 года, императрица снова подарила этот дворец князю Григорию Александровичу в числе многочисленных милостей и наград, которыми она осыпала его, прибывшего из Ясс с новыми победными лаврами [5].
В тот самый день и час, когда знакомый уже нам Владимир Андреевич Петровский, только что прибывший в Петербург и явившийся к нему и получивший через адъютанта милостивое «пусть погуляет», начал в Петербурге так печально окончившиеся столичные похождения, сам Григорий Александрович готовился к выезду во дворец.
Высокий, пожилой — Потемкину в то время перевалило за пятьдесят, — широкоплечий богатырь, в ярком мундире, обшитом сплошь золотым шитьем, с широкой грудью, покрытой рядом звезд и крестов, русских и иноземных, он уже вышел из кабинета.
Всякий, видавший светлейшего в первый раз, невольно преклонялся перед этим совершенством человеческой телесной красоты: продолговатое, красивое, белое лицо, правильный нос, высоконачертанные брови и голубые глаза, небольшой рот с приятной улыбкой и круглый подбородок с ямочкой.
Левый окривевший глаз был неподвижен и являлся резким контрастом с правым, полным жизни, светлым, зорким и несколько рассеянным.
Князь окривел в начале своей придворной карьеры по милости тогдашнего всезнайки фельдшера Академии художеств Ерофеича, изобретателя известной настойки, приложившего к больному глазу Григория Александровича какую‑то примочку.
На князя потеря глаза до того сильно подействовала, что он удалился в Невскую лавру, отпустил бороду, надел рясу и стал готовиться к пострижению в монашество.
Его спасли прозорливость и доброта императрицы.
Она сама лично навестила его и уговорила возвратиться в мир…
— Тебе не архиереем быть, их у меня довольно, а Потемкин один, и ждет его иная стезя.
Предсказание монархини сбылось.
Светлейший шел уже к парадной лестнице своей неуклюжей, перевалистой походкой, простой, несановитой и неделанной, производившей особое впечатление.
«Весь залитый золотом да орденами и регалиями, в каменьях самоцветных и алмазах — и так шагает по–медвежьи», — говорили современники.
Ряды придворных светлейшего блестящей живой изгородью тянулись от залы до подъезда.
Князя сопровождал его приближенный секретарь Василий Степанович Попов.
Это был подвижный человек лет сорока семи, среднего роста, с добродушно–хитрым татарским выражением лица. Уроженец Казани, он учился в тамошней гимназии и начал службу в канцелярии графа Панина [6] в первую турецкую войну, перешел потом к московскому главнокомандующему князю Долгорукову–Крымскому, который назначил его правителем своей канцелярии и выхлопотал чин премьер–майора.
После смерти Долгорукова Попов, успевший сделаться известным Потемкину как способный, трудолюбивый и деятельный чиновник, был взят им в правители своей канцелярии и скоро снискал неограниченное доверие князя.
Ко времени нашего рассказа он уже был генерал–майором, кавалером орденов до Владимира 1–й степени включительно.
Ряд придворных почтительно преклонялся пред шедшим властелином, который был, видимо, в самом лучшем настроении духа, но все с недоумением смотрели на голову вельможи.
Голова эта была светло–русая, в природных завитках, без пудры, которая считалась необходимой при дворе. Этим‑то и объяснялось недоумение окружающих.
Никто не решился, однако, заметить об этом светлейшему. Один из стоявших адъютантов князя шепнул на ходу об этом Попову.
— Ваша светлость, — обратился к нему Василий Степанович, ранее не обративший внимания на несовершенство туалета светлейшего, — ваша светлость! На вас чего‑то недостает.
Потемкин быстро взглянул в зеркало и отвечал:
— Правда твоя, недостает «шапки»!
Сказав это, князь уже при входе в подъезд вдруг круто повернул обратно и среди недоумевающих придворных вернулся в свой кабинет.
Вид его был мрачен, добродушно–веселая улыбка бесследно пропала с его красивых губ.
Князь захандрил.
Войдя в кабинет, он грузно опустился в кресло. Василий Степанович и несколько адъютантов вошли вслед за ним и стали в почтительном отдалении.
У всех на уме было одно: «Начинается!»
Действительно, начиналось.
Начинались дни, иногда даже недели, когда князь запирался в свою комнату и ложился на диван, небритый, немытый, растрепанный, сгорбленный, в поношенном халате и в утренних туфлях на босу ногу.
Сам князь чувствовал приближение этих дней. Достаточно было малейшей незначительной причины, чтобы ускорить их приближение.
«Подступает! Идет!» — говорил он сам себе, еще будучи на ногах и в сравнительно хорошем состоянии духа.
«Пришло! Захватило!» — решал он мрачно, уже лежа на диване.
Болезни этой не понимали не только окружающие светлейшего, но и он сам. Завистники объясняли ее придворными неудачами самолюбивого вельможи или попросту народным определением: «С жиру бесится».
Но это была, очевидно, болезнь сильная, давнишняя, с юных лет. Это была болезнь душевная, а не телесная.
К ней, впрочем, примешивались иногда недомоганья и слабость. Болезнь эта являлась, как лихорадка, периодически и держала больного иногда три–четыре дня, иногда более недели.
Припадки бывали то сильные, то слабые.
— Кофею! — произнес князь.
Адъютант князя Баур бросился отдать приказание метрдотелю.
Баур был любимый адъютант князя, которому он давал серьезные и щекотливые поручения.
В 1788 году во Франции разгорелась революция [7].
Светлейший, зорко следивший из своего очаковского лагеря за ходом европейской политики, нашел необходимым, ввиду предстоявших событий, достать из французского министерства иностранных дел некоторые важные бумаги, касавшиеся России.
Он призвал Баура и велел ему взять подорожную и скакать в Париж за модными башмаками для Прасковьи Андреевны Потемкиной, жены своего двоюродного брата, впоследствии графа, Павла Сергеевича.
Весть об этом облетела весь лагерь и возбудила толки и пересуды.
— Вот причудник! В Сибирь посылает за огурцами, в Калугу — за тесом, в Париж — за башмаками! — толковали в офицерских землянках.
Григорий Александрович между тем сунул в дорожную сумку Баура пакет на имя одного из парижских банкиров и несколько секретных писем к кое–кому в Париже, обнял его и отпустил, шутя и смеясь.
По приезде в Париж Баур вручил пакет и письма по адресам, а сам пустился по всем модным лавкам заказывать башмаки «pour madame Potemkin».
Князь знал, кого куда посылать и кому что поручить.
На другой день весь Париж толковал уже о странной фантазии русского вельможи — прислать своего адъютанта в столицу Франции за парой башмаков.
По этому поводу был даже сочинен и поставлен на сцену водевиль.
Но в то время когда парижане занимались разговорами о чудачествах князя, банкир отсчитал одной даме шестьдесят тысяч червонцев за то, чтобы она выкрала из бюро страстно влюбленного в нее министра «известные бумаги».
Золото сделало свое дело — бумаги очутились в руках Баура, а золото у корыстолюбивой сильфиды.
Первый достал модные башмаки, положил в карман бумаги и внезапно исчез из Парижа.
Обожатель сильфиды хватился пропажи, но было поздно — она была уже в руках Потемкина.
Такой был адъютант Баур, красивый мужчина, блондин лет тридцати с небольшим.
— Что же кофею? — с нетерпением повторил князь.
Все присутствующие по очереди спешили распорядиться о скорейшем удовлетворении желания светлейшего.
— Когда же кофей? — мрачно продолжал повторять Потемкин.
Наконец дымящийся душистый напиток в большой чашке севрского фарфора [8], на золотом подносе был принесен и поставлен перед Григорием Александровичем.
Последний до него не дотронулся. Он сердито отодвинул поднос и встал.
— Не надобно! Я только хотел чего‑нибудь ожидать, но и тут меня лишили этого удовольствия.
И князь, низко опустив голову, удалился в смежную с кабинетом комнату, служившую ему уборной, — разоблачаться.
«Начинается!» — снова мелькнуло в умах присутствующих.
Все на цыпочках вышли из кабинета и разбрелись по обширным апартаментам дворца.
IV КНЯЗЬ ХАНДРИТ
Князь захандрил.
Все во дворце затихло, как бы замерло.
Все ходили неслышной походкой, говорили шепотом, несмотря на то что светлейший находился в самой отдаленной комнате дворца.
В комнате этой, обшитой серым ситцем, на огромной софе лежит неподвижно этот «баловень счастья» и смотрит в одну точку. Одет он в атласный фиолетового цвета халат, с расстегнутым на груди воротом рубашки. Золотой крестик с двумя образками и ладанкой на шелковом шнурке выбились наружу и лежат поверх халата. Одна шитая золотом туфля лежит у босых ног на софе, а другая валяется на полу.
Князь лежит неподвижно, лишь по временам тяжело вздыхает и ворчит себе под нос.
Из отрывистых фраз можно было заключить об исходной точке этого состояния светлейшего.
— Что желал, к чему стремился — все есть… Исполнены все малейшие помыслы, прихоти… Чинов хотел, орденов — имею… денег… есть… Деревни… дома… есть… Драгоценности… целые сундуки… Пиры, праздники… давал и даю… Все планы… все страсти… все исполнилось… а счастья… счастья… нет… Все удачи не покроют… не залечат раны первой неудачи… Не залечат… никогда… никогда… — бормотал князь.
Тяжелые вздохи несчастного счастливца оглашали комнату.
В комнату, где лежал князь, имели доступ только самые близкие люди и благоприятели светлейшего, а из служащих — один Василий Степанович, навещавший по временам князя и зорко следивший за столом, на котором лежали бумага, карандаш, прутик серебра, маленькая пилка и коробочка с драгоценными камнями разного цвета и вида.
Когда князь о чем‑нибудь размышлял, то, чтобы не развлекаться и сосредоточить свои мысли на известном предмете, он брал в руки два драгоценных камня и тер их один об другой, или же обтачивал пилочкой серебро, или, наконец, раскладывал камни разными фигурами и любовался их игрою и блеском.
Что в это время созревало в его уме, он тотчас же записывал на приготовленной бумаге и потом, отворив дверь, звал Попова и отдавал приказания.
Такая бумага с карандашом, коробочка с драгоценными камнями, серебряный прутик и пилочка лежали на письменном столе кабинета светлейшего.
Бумага и карандаш клались и на игральный стол в то время, когда князь играл в карты, так как Потемкин и в этом занятии не оставался праздным и часто, прерывая игру, записывал то, что приходило ему в голову. Во время игры в комнату несколько раз входил Попов, становился за стулом князя и как только замечал, что бумага отодвинута, тотчас брал ее и спешил привести в исполнение написанное.
Впрочем, во время припадков князь редко брал в руки лежавший на столе карандаш, а если это случалось, то было уже верным признакам выздоровления.
В описываемый нами день до позднего вечера бумага была не тронута.
Князь продолжал лежать неподвижно. Даже принесенные кушанья убирались назад нетронутыми.
Припадок княжеской хандры был, видимо, сильнее обыкновенного.
Понятно, что отсутствие пудры на голове, видимая причина начала припадка, было только той каплей, которая переполнила сосуд. Начало непонятных припадков нелюдимости, доходившей до болезненного состояния, надо искать в более отдаленном от описываемого нами времени жизни Григория Александровича Потемкина.
Недаром он часто повторял не понятную ни для кого даже из близких ему людей фразу:
— Все удачи не покроют… не залечат ран первой неудачи… Не залечат… никогда… никогда…
Был первый час ночи, когда Василий Степанович, во время припадков хандры светлейшего проводивший ночи почти без сна и не раздеваясь, вышел из кабинета князя.
Навстречу ему быстро шел Баур.
— Наконец я его накрыл… — с нескрываемой радостью начал он. — Что светлейший?
— Лежит… Но кого же вы накрыли?..
— Князя Святозарова.
Попов отступил и удивленно окинул взглядом говорившего.
— Вы знаете?
— Что?
— Он умер.
— Кто?
— Князь Василий Андреевич Святозаров.
— Он здесь, живехонек… и здоровехонек.
— Послушайте… это что‑нибудь да не так; не далее как несколько часов тому назад я получил официальное донесение о смерти князя, убитого на дуэли, в доме его родителей… Княгиня Зинаида Сергеевна была здесь не более как е час времени, желала видеть светлейшего и просить как‑нибудь затушить это дело… Она приехала прямо от только что охладевшего трупа сына, горе ее не поддается описанию…
Баур, в свою очередь отступив шага на два назад, во все глаза удивленно смотрел на Попова.
— Кого же я привез?.. Я взял его там…
— Где?
— На Васильевском.
— А!
— Он вышел от нее, приехавши к ней из театра… Я видел его в театре и не мог ошибиться… Это он… Исполняя поручение светлейшего, я привез его прямо сюда… Вы разве не знаете, что светлейший пригрозил ему, что, если он еще раз будет у ней, он его на ней женит, а мне поручил следить за ним… Молодой князь, казалось, образумился и, боясь исполнения угрозы, оборвал связь… но сегодня из театра, видимо, не выдержал и, получив от нее записку, помчался… а я за ним… Прождал я, пока они там амурились, и захватил его… при выходе…
— Поздравляю… значит, вы поймали не того… это, конечно, вам делает честь, потому что мертвого привезти было легче, — улыбаясь, заметил Попов.
— Повторяю вам, я ошибиться не мог…
— Однако ошиблись… Не могла же ошибиться мать, приехавшая прямо от трупа своего единственного сына…
— Позвольте… Он тоже уверял меня, что я ошибаюсь, и называл себя Петровским…
— Теперь я понимаю… Вы правы… Он на самом деле поразительно похож на Святозарова… Я видел его сегодня утром, когда он явился к светлейшему.
— Вот так дела! — развел руками Баур.
— Да, дружище… На всякую старуху бывает проруха… Это не парижские башмаки… Тут сам черт не разберет, как перепутано… Светлейший, видимо, покровительствует этому Петровскому, и это покровительство имеет какое‑то отношение к княгине Святозаровой…
— Откуда вы это знаете?
— Знать не знаю ниоткуда, а догадываюсь, глаз у меня наметан стал на службе у его светлости…
— Что же теперь делать… Надо все же доложить князю…
— Об этом нечего и думать… Я было доложил ему о смерти князя Святозарова, так и сам не рад был.
— А что?
— Да понес такую околесицу, что хоть святых выноси… О небесном возмездии, геенне огненной… о своем навсегда разрушенном счастье, да и об этом Петровском, кстати.
— Вот оно что!
— Вскочил на софе и присел даже, как я ему сказал, потом снова лег, лицом к стене отвернулся и точно умер… Четвертый раз после этого к нему вхожу — не шелохнется.
— Как же быть?
— Ах, Баур, Баур, точно это вам в первый раз… надо выждать… А арестанта, за беспокойство, угостите‑ка ужином, я сам не прочь закусить; обедал наскоро, как всегда, когда беда эта стрясется со светлейшим…
— Хорошая мысль, Василий Степанович, прекрасная мысль… Может быть, вино развяжет этому Петровскому язык и мы узнаем что‑нибудь интересное… Пойдемте.
— Да вы куда его упрятали?
— Уж и упрятал… У меня в комнате… Как гость, честь честью…
— То‑то… а то не ровен час… нам самим головы свернет…
— Вы что‑то нынче, Василий Степанович, все загадки задаете…
— Да разве наша с вами здесь жизнь — не сплошная загадка?
— Пожалуй, и правда… — тряхнул Баур своей белокурой головой.
Они оба отправились в помещение Баура, жившего в Таврическом дворце.
Владимир Андреевич Петровский задумчиво сидел в кресле кабинета любимого адъютанта светлейшёго и, казалось, не переменил позы с момента ухода последнего с докладом о нем князю.
«Вот тебе и карьера, вот тебе и мечты о покровительстве всесильного, о придворной жизни, красавицах… — думал совершенно упавший духом молодой человек. — Красавицы! — он вспомнил коварную брюнетку и ее жгучий поцелуй. — Попутал бес, в какую попался кашу; может, всю жизнь придется расхлебывать…» — пронеслось у него в голове.
Он чутко прислушивался к царившей во дворце тишине. Малейший шорох заставлял его нервно вздрагивать.
— Что повесил голову, камрад? — дружески ласковым тоном заговорил Баур. — И впрямь подумал, что его привезли под гнев светлейшего… На посещение красоток вечерней порой у нас его светлость не гневается: сам грешит и людям прощает…
Петровский встал и с нескрываемым удивлением смотрел на Баура и слушал совершенно изменившийся тон его голоса.
Баур, нимало не смущенный, представил его Попову.
— Однако у меня от этой отдаленной прогулки разыгрался аппетит, я чаю, и вы тоже проголодались? — обратился он к Владимиру Андреевичу. — Ужин теперь будет очень кстати.
Он вышел распорядиться.
Петровский и Попов остались одни.
Последний заговорил о Петербурге, спрашивал о впечатлении, произведенном им на молодого человека, и, между прочим, заметил:
— Светлейший‑то завтра приказал вам явиться, но едва ли представление состоится — он заболел…
— Опасно? — с тревогой в голосе спросил Владимир Андреевич.
— Нет, но надо будет переждать несколько дней…
— Идемте закусим чем Бог послал! — сказал вошедший Баур. — Чем богат, тем и рад!
Все трое перешли в соседнюю комнату, в которой был сервирован роскошный и обильный ужин потемкинской кухни.
Невольный гость отдал должную честь яствам и питьям, но надежды Баура не оправдались — он оказался очень сдержанным на язык.
За ужином решено было, что он останется у Баура, а завтра пошлют за его пожитками на постоялый двор на Ямскую.
«Не знаешь, где найдешь, где потеряешь!» — подумал Баур, выслушав согласие Петровского поселиться у него.
Светлейший продолжал лежать на софе, отвернувшись лицом к стене, неподвижно смотря в одну точку на замысловатый рисунок ситца, которым были обиты стены.
Он был буквально поражен смертью молодого князя Святозарова и посещением княгини.
Перед ним неслись одно за другим воспоминания юности.
V ЮНОСТЬ ПОТЕМКИНА
Григорий Александрович Потемкин, впоследствии светлейший князь Таврический, был сын небогатого дворянина, отставного майора Александра Васильевича Потемкина.
Он родился в сентябре 1739 года, в имении своего отца, сельце Чижеве, около Смоленска.
До двенадцатого года он воспитывался в родительском доме, а затем был отдан в Смоленскую семинарию, так как в Смоленске в то время не было светских учебных заведений.
В 1755 году открылся Московский университет, и мать Потемкина (отец его умер в 1746 году) определила сына в учрежденную при нем дворянскую гимназию, записав его вместе с тем в лейб–гвардии конный полк рейтаром.
Молодой Потемкин с самых ранних лет отличался необыкновенной памятью, быстротой ума и чрезвычайным честолюбием, которое обнаруживалось во всех его поступках.
— Хочу быть архиереем или министром! — говорил он еще в бытность свою в семинарии.
В первое время по поступлении в гимназию Потемкин занимался очень прилежно, так что на другой же год получил за успехи в науках золотую медаль.
В 1757 году директор университета Мелиссино отправился в Петербург по делам службы и взял с собою, для представления куратору И. И. Шувалову [9], лучших студентов и учеников гимназии.
В числе последних находился Потемкин.
Все они через несколько дней по приезде были потребованы во дворец.
Императрица Елизавета обошлась с учениками весьма милостиво и, по ходатайству Шувалова, «для лучшего одобрения и поощрения учащегося юношества», пожаловала их чинами, с оставлением до окончания курса в университете.
Потемкин возвратился в Москву с чином капрала и снова отдался своим любимым занятиям, то есть книгам.
Он читал их без разбора, всегда лежа на постели.
Один из его товарищей, Матвей Иванович Афонин, впоследствии ординарный профессор Московского университета, купил на последние свои деньги исключительно для Потемкина только что вышедшую тогда в свет и наделавшую много шума «Натуральную историю» Бюффона [10].
Григорий Александрович взял книгу и так быстро пробежал все сочинение, что, казалось, только перелистал ее.
Афонин, оскорбленный таким невниманием, не скрыл от любимого товарища своего неудовольствия, но был чрезвычайно удивлен, когда последний подробно передал ему содержание книги и доказал, что познакомился с сочинением весьма основательно.
Другой приятель Потемкина, Ермил Иванович Костров, впоследствии небезызвестный поэт и переводчик «Илиады» [11], дал ему с десяток томов самого разнообразного содержания.
Григорий Александрович возвратил ему их через несколько дней.
— Да ты, брат, видимо, только полистал страницы в моих книгах, — заметил удивленный Костров, — на почтовых хорошо лететь по дороге, а книга не почтовая езда.
— Пусть будет по–твоему, — ответил Потемкин, — что я летел на почтовых. А все‑таки я прочитал твои книги от доски до доски; если не веришь, то изволь, профессорствуй, взбирайся на стул вместо кафедры, раскрой любую из своих книг и спрашивай громогласно, а я отвечу без запинки.
Оказалось на самом деле, что Потемкин не только прочел книги, но вник в каждое сочинение и твердо удержал в памяти прочитанное.
Он пересказал приятелю все как заданный урок. Близость с Афониным, Костровым и особенно с поэтом Василием Петровичем Петровым, впоследствии переводчиком Вергилиевой «Энеиды» и «Потерянного рая» Мильтона [12], имела большое влияние на развитие будущего государственного человека.
Особенно в благотворном смысле повлиял на Потемкина Петров.
Страстно любя греческую и латинскую словесность, Василий Петрович занимался ими с молодым своим приятелем, учил его языку Гомера и переводил вместе с ним «Илиаду».
В Григории Александровиче он нашел внимательного и любящего предмет ученика.
Вот как Петров охарактеризовал свои занятия с Потемкиным:
Читать певца Троянской брани Был, пишут, Александров вкус; Как сот, Потемкина гортани Приятен стих любимца муз.Василий Петрович перечитал с Потемкиным множество разнообразных сочинений по всем отраслям знания. Благодаря этому же Григорий Александрович впоследствии изумлял всех разнообразием своих познаний и был, по выражению принца де Линя, посланника при русском дворе, «мудрецом без книг».
Григорий Александрович, увлеченный примерами приятелей Кострова и Петрова, сам писал стихи и даже заслужил за это впоследствии стихотворную похвалу Василия Петровича:
Он без усилья успевает, Когда парит своим умом, И жарку душу выражает Живым и пламенным пером. Не тяжким праздных слов примесом Красот нам в слоге он пример; Ковда б он не был Ахиллесом, То был бы он у нас Гомер.Таков был юноша Потемкин.
Прошло пять лет.
Григорию Александровичу шел двадцать первый год.
Начальство гимназии считало его украшением заведения и возлагало на него блестящие надежды, как вдруг он внезапно охладел к ученью, перестал являться в классы и начал усердно посещать монастыри, где проводил время в беседах с монахами о религиозных предметах.
Университетское начальство, употребив безуспешно все исправительные меры, вследствие представлений инспектора гимназии профессора Антона Алексеевича Барсова, выключило Потемкина из гимназии «за леность и нехождение в классы».
Причиной, произведшей роковой поворот во внутреннем мире молодого человека, была, как и всегда, женщина.
Григорий Александрович влюбился, влюбился безумно и даже, увы, не безнадежно.
Ему отвечали взаимностью.
Безнадежная любовь находит противоядие в самолюбии, но для любви, разделенной и остающейся лишь в форме неосуществимой мечты, противоядия нет.
Такова была любовь и молодого Потемкина.
Между ним и любимой им девушкой легла пропасть, и рана не зажила до самой его смерти.
Григорий Александрович жил в Москве у приятеля своего покойного отца и соседа по имению в Смоленской губернии, Ивана Дементьевича Курганова.
Иван Дементьевич состоял главноуправляющим графини Ляны Ивановны Нелидовой, известной московской аристократки — статс–дамы императрицы Елизаветы Петровны, лично известной царствующей государыне.
На поклон к Анне Ивановне ездили все московские власти и вся московская знать.
Управление многочисленными имениями, рассыпанными в плодороднейших губерниях России, в которых были младшие управляющие, сосредоточивалось в главной конторе графини, во главе которой стоял Иван Дементьевич.
Это был высокий, худой старик, всегда с чисто выбритым лицом и с открытым взглядом добрых, честных, голубых глаз, до старости не потерявших своего юношеского блеска.
Он был вдовец и жил со своей единственной дочерью Настей, хорошенькой блондинкой с золотисто–льняными волосами, но каким‑то не детским — ей шел пятнадцатый год — вдумчивым выражением миловидного личика, в одном из обширных флигелей дома графини на Поварской улице, близ Арбатских ворот.
Дом этот, один из немногих сохранившихся до сих пор в Москве в своем прежнем виде, был построен полукругом в глубине обширного двора, огражденного с улицы массивной чугунной решеткою с двумя воротами, украшенными традиционными львами, со всеми причудами теперь, увы, отжившего барства.
Два флигеля своим фасадом выходили на улицу: в правом помещалась контора и людская, а в левом жил главноуправляющий Иван Дементьевич Курганов.
Оба флигеля были соединены с главным домом крытыми, теплыми галереями.
Товарищи юности, Иван Дементьевич и старик Потемкин, сохраняли, несмотря на разность житейских дорог, положения и состояний, самые искренние дружеские отношения до самой смерти последнего.
Когда мать Потемкина, Дарья Васильевна, привезла сына в Москву и посетила с ним приятеля своего покойного мужа, то последний сам предложил ей поместить Грица — так звали мальчика в родительском доме — у него, не позволив, конечно, даже заикнуться о каком‑либо вознаграждении.
Дарья Васильевна со слезами на глазах бросилась обнимать своего благодетеля и уехала в свое имение совершенно успокоенная за судьбу своего единственного детища.
Она и не предчувствовала, что в этом доме случится с сыном эпизод, который отразится на всей его жизни, что здесь он утратит навсегда свое личное счастье, чтобы принести его в жертву величию государства, что отсюда он выйдет, как это ни странно, несчастным «баловнем счастья».
Гриц, которому шел в это время шестнадцатый год, скоро освоился в чужом доме: подружился с четырнадцатилетней Настей, сумел привязать к себе Ивана Дементьевича и сделался в доме как родной.
Красивый, стройный, остроумный, веселый, он с самой ранней юности умел нравиться людям и привязывать их к себе своим добродушным, откровенным характером.
С Настей он скоро стал на «ты», и между ними возникло то чистое братское чувство, которое, подобно тихому ручейку, освещенному полуденным солнцем, мирно катит свои чистые, как кристалл, воды не только без бурь, но даже без малейшей зыби.
Жизнь флигеля шла совершенно отдельно от жизни главного дома графини, и связующим звеном, кроме деловых сношений Ивана Дементьевича с «ее сиятельством», была племянница графини, дочь ее брата, княжна Зинаида Сергеевна Несвицкая, ровесница Насти и большая ее приятельница, часто забегавшая во флигель и по целым часам без умолку болтавшая со своей подругой.
Эта дружба завязалась и продолжалась без ведома старой графини, жившей в главном доме со своей дочерью, молодой графиней Клавдией Афанасьевной, которой в момент нашего рассказа уже исполнилось восемнадцать лет.
VI СТАРАЯ ГРАФИНЯ
Жизнь графини Анны Ивановны Нелидовой была даже для тогдашней, полной всевозможного рода причудниками и причудницами, Москвы предметом толков и удивления.
Огромный дом был переполнен приживалками, число которых с прислугой доходило до ста пятидесяти человек.
Парадных комнат было множество, но Анна Ивановна почти никогда не выходила из своих внутренних апартаментов. Более всего поражала комната, где она спала: она никогда не ложилась в постель и не употребляла ни постельного белья, ни одеяла.
Она не выносила никакого движения около себя, не терпела шума, почему все люди ходили в чулках и башмаках и в ее присутствии говорили шепотом.
Без доклада к ней никто никогда не входил.
Чтобы принять кого‑нибудь, соблюдалась тысяча церемоний, и нередко желавшие видеть ее ожидали приема по нескольку часов.
В официантской сидело постоянно 12 официантов; на кухне было четырнадцать поваров и огонь никогда не гасился, так как Анне Ивановне приходила фантазия спросить чего‑нибудь закусить не в назначенный час, и это случалось зачастую ночью; для обедов и завтраков у нее, как и для сна, не было положенных часов.
Все делалось по капризу, по первому требованию ее сиятельства.
Комната, где она постоянно находилась, была обита малиновым штофом.
Посредине было сделано возвышение, на котором стояла кушетка под балдахином, от кушетки полукругом с каждой стороны стояло по шести ваз из великолепного белого мрамора самой тонкой работы, и в них горели лампы.
Эффект, производимый всей этой обстановкой, был поразителен.
В этой комнате Анна Ивановна совершала свой туалет, также необыкновенным способом.
Перед ней стояли шесть девушек, кроме тех, которые ее причесывали, на всех них были надеты принадлежности туалета ее сиятельства.
Графиня никогда не надевала того, что не было согрето предварительно.
Для этого выбирались красивые девушки от 16 до 20 лет; после двадцати лет их назначали на другие должности.
Даже место в карете, перед тем как ей выехать, согревалось тем же способом, и для этого в доме содержалась очень толстая немка, которая за полчаса до выезда садилась в карете на то место, которое потом должна была занять графиня.
Пока она собиралась, немка нагревала место на креслах, в которых Анна Ивановна всегда сидела.
Спала графиня на кушетке, на которой расстилалось что‑нибудь меховое, и покрывалась она каким‑нибудь салопом или шалью.
На ночь она не только никогда не раздевалась, но совершала даже другой туалет, не менее нарядный, чем дневной, и с такими же церемониями.
Надевался обыкновенно белый пеньюар, вышитый или с кружевами, на шелковом цветном чехле, затем пышный чепчик с бантами, шелковые чулки, непременно телесного цвета, и белые башмаки с лентами, которые завязывались, а бантики тщательно расправлялись, как будто бы графиня ехала на какой‑нибудь бал.
В таком пышном туалете графиня опускалась на кушетку и никогда не оставалась одна.
При ней было до сорока избранных женщин и девушек разного возраста, которые поочередно должны были находиться в ее комнате.
На ночь в комнату ее сиятельства вносились диваны, на которых помещались дежурные.
Они должны были сидеть всю ночь и непременно говорить вполголоса.
Под их говор и шепот дремала причудница, и, если только они умолкали, она тотчас просыпалась.
Стол ее был не менее прихотлив, как все остальное, и накрывался каждый день на сорок персон.
Сама она обедала с дочерью и племянницей за особенным столом, к которому приглашались только избранные, а зачастую даже в своей комнате, куда вносился уже накрытый стол на шесть персон, так как она требовала около себя абсолютной тишины и спокойствия.
Она не хотела знать никакой заботы, никакого горя, и, когда ее второй сын Михаил был убит на дуэли, ей решились сказать об этом только год спустя.
Старший сын ее, Николай, пропал без вести, уехав за границу.
Все доходы с имений привозились и сдавались Ивану Дементьевичу. В одной из комнат конторы стоял комод, куда ссыпались деньги по ящикам, по качеству монеты, и сам Иван Дементьевич хорошенько не знал, сколько ссыпалось и сколько расходовалось.
Дело велось по простоте, без книг и тройных бухгалтерий.
В доме было так много всевозможных редкостей, что комнаты были похожи на магазин.
Одних платьев счетом было пять тысяч.
Для них велась особенная книга, с приложением образчиков, по которым графиня назначала, какое платье желала надеть.
Два сундука были наполнены самыми редкими кружевами, ценностью до ста тысяч рублей.
Целая комната была занята разными дорогими мехами, привезенными, как говорили, из Сибири.
Графиня страшно любила наряжаться, забирала очень много в магазинах.
Когда ей нравились какие‑нибудь материи, то она покупала кусками, чтобы у других не было подобных.
Урожденная княжна Несвицкая, она вышла замуж поздно — под сорок лет: так долго не могла она найти себе человека по сердцу.
Граф Афанасий Григорьевич Нелидов прожил с ней не более десяти лет и умер от ожирения сердца, оставив ей по завещанию все свое громадное состояние, которое в соединении с огромным приданым графини и составило то колоссальное богатство, которое считалось первым даже в Москве, тогда городе неимоверных богачей.
Дочь графини Анны Ивановны, Клавдия Афанасьевна, была сильная брюнетка и резкими чертами восточного типа лица напоминала свою мать.
Те же злые глаза, те же надменно сложенные губы, тот же прямой нос с горбинкой и низкий лоб.
Ни она, ни мать в молодости не были красивы, они обе брали фигурой, сложением и посадкой.
Когда графине Клавдии, или Клодине, как звала ее графиня Анна Ивановна, было тринадцать лет, в доме ее матери появилась княжна Зина, десятилетняя девочка, дочь покойного младшего брата графини, князя Сергея Несвицкого, умершего молодым вдовцом.
Сначала девочки жили дружно, но это продолжалось каких‑нибудь два–три года, пока еще не успел окончательно сложиться властный и эгоистичный характер молодой графини.
Княжна Зинаида, гордая от природы, не дала себя совершенно подчинить своей взрослой кузине, и они разошлись, одна с затаенным злобным чувством, другая — нашедши себе утешение в дружбе с Настей Кургановой.
Годы шли; все хорошеющая княжна Зинаида Сергеевна возбуждала все большую и большую ненависть со стороны своей двоюродной сестры, пока наконец не случилось обстоятельство, доведшее это «родственное чувство» до своего апогея.
Но не будем забегать вперед.
Молоденькая Настя успела заинтересовать свою подругу рассказами о появившемся в доме мальчике Грице, который с годами делался стройным, красивым молодым человеком.
Детские игры и забавы с летами привели к другому чувству, заставившему юные сердца товарищей детства, как это бывает всегда, забиться сильнее и тревожнее.
Княжне Зинаиде шел в то время восемнадцатый, а Потемкину двадцать первый год. Молодые люди влюбились друг в друга.
В это же время в доме графини Нелидовой появилось новое лицо.
Это был князь Андрей Павлович Святозаров, прибывший из Петербурга, где он играл довольно значительную роль при дворе императрицы Елизаветы Петровны.
Он приехал в отпуск повидаться с родными, безвыездно жившими в Москве и входившими в тот высокий круг московского высшего общества, в котором вращались графиня Нелидова и ее дочь.
Князю было лет тридцать пять. Он шел по статской службе и метил в сенаторы или министры.
О его выдающихся способностях государственного человека говорили с полным убеждением в правительственных сферах.
Он стоял во главе одного из административных учреждений столицы, был на виду, но был холост.
Петербургские маменьки уже целые годы устраивали безуспешно облаву на выгодного жениха, желая доставить своим дочкам блестящую партию.
Проявление его в Москве, хотя и на время, вселило сладкие надежды в московских матерях взрослых дочек.
Графиня Анна Ивановна тоже наметила князя в женихи своей Клодине, а последняя, кроме того, без ума влюбилась в петербургского гостя.
На московских балах и «soirees dansante» князь был, видимо, увлечен величественной фигурой молодой графини Нелидовой, ее восточным типом и огненным взглядом черных глаз.
Он стал усиленно ухаживать за ней и сделал визит в дом графини.
Этот визит изменил его намерения.
Совершенная противоположность молодой графини, которой уже было за двадцать, ее двоюродная сестра княжна Зинаида, восемнадцатилетняя блондинка с выражением лица гетевской Гретхен, положительно заполнила сердце уже пожившего и не балованного женщинами князя, и он круто повернулся в ее сторону.
Совершилась безмолвная драма.
Гордая графиня Клодина заметила перемену в князе и, затаив в сердце злобу и ненависть к неожиданной сопернице, первая отстранила от себя намеченного ее матерью и избранного ею жениха, объявив матери, что не любит его и не может сделаться его женой.
— Не перестарок же я какой‑нибудь, что вы хотите сбыть меня с рук, maman, — заметила она. — Князь, кажется, к тому же совершенно растаял от прелестей Зинаиды, — язвительно заметила она. — Ему она как раз под пару, покорная овечка, да и вам, maman, сбыть ее с рук чем скорее, тем, думаю, лучше…
Графиня Анна Ивановна удивленно вскинула глаза на свою дочь, так как, вместе с другими свидетелями ухаживания князя на балах и вечерах за ее дочерью, думала, что последняя не прочь сделаться из фрейлин статс–дамой и переехать в Петербург уже княгиней Святозаровой.
Она прочла на лице графини Клодины серьезное решение.
— Как хочешь, ma chere, я тебя не неволю, ты ведь мне не мешаешь… — ответила старуха.
Князь Святозаров обратился таким образом из жениха Клавдии Афанасьевны в жениха Зинаиды Сергеевны.
Последняя, влюбленная в Потемкина, далеко не старалась увлечь блестящего жениха, что еще более раззадоривало последнего.
Он сделал предложение старой графине, и та после переданного уже нами разговора со своею дочерью дала согласие.
— Я поговорю с ней… и думаю, что это уладится, — сказала она восхищенному князю.
VII ПО МОНАСТЫРЯМ
Молодой Потемкин между тем в один прекрасный день признался Ивану Дементьевичу Курганову в своей любви к княжне Зинаиде Сергеевне.
Старик страшно взволновался:
— Вот глупости! Разве ты не знаешь, что княжна Несвицкая самая богатая невеста не только в Москве, но, пожалуй, и во всей России.
— Я это знаю, — отвечал Григорий Александрович, — но Зина любит меня.
— Почему ты это знаешь?
— Она сама мне это сказала.
Курганов окинул молодого человека строгим взглядом.
— Ты воспользовался тем, что моя дочь ее подруга, и увлек молоденькую девушку, почти ребенка, ты, еще сам мальчишка…
Григорий Александрович опустил голову.
— Если ты это сделал, то поступил более чем нехорошо… нечестно… Графиня Анна Ивановна, конечно, доверяя мне, смотрела сквозь пальцы на частые посещения моей квартиры ее племянницей… Ты сделал меня невольным нарушителем доверия ее сиятельства, ты, в благодарность за мою ласку, за любовь к тебе, как к сыну, опозорил мои седины.
— Иван Дементьевич, Иван Дементьевич… — бормотал смущенный юноша.
— Я хочу все знать… Говори…
Молодой человек рассказал ему в подробностях весь свой роман с молодой княжной.
Курганов выходил из себя. Его чистой совести представлялось все это в мрачном виде, он все преувеличивал и продолжал волноваться.
Он позвал свою дочь и стал упрекать ее в пособничестве этому «позорному делу» — его подлинное выражение.
Настя плакала и уверяла отца, что она не имела никаких дурных намерений, что ничего дурного и не случилось.
Старик несколько успокоился, убедившись на самом деле, что происшедший под его кровлей роман двух молодых людей остался на почве чистого чувства.
— Честь и дочь — мои главные сокровища, — сказал Иван Дементьевич, обращаясь к молодому Потемкину. — Ты поступил непорядочно, хотя я убежден, что неумышленно… Ты говорил ей о любви и нарушил ее сердечный покой, и за это ты должен быть наказан. Как, чтобы меня и мою дочь обвинили в пособничестве в ловле богатой невесты для сына моего друга… Одна эта мысль ужасает меня! Что подумает обо мне ее сиятельство! Она может потребовать от меня отчета… Ты понимаешь это, Гриц, сознаешь ты свою опрометчивость?
Потемкин стоял понуря голову.
— Ты можешь это поправить только тем, что более не увидишься с княжной.
Григорий Александрович тяжело вздохнул.
— Ты вздыхаешь, ты страдаешь при этой мысли, — продолжал старик, — но подумай только, как бессмысленна твоя любовь. Княжна Несвицкая — богачка, никогда не может быть твоей женой, женой теперь еще школьника, а впоследствии в лучшем случае гвардейского офицера с несколькими десятками душ за душою… Будь благоразумен… Соберись с силами, будь честен и забудь…
— Но она?! — воскликнул с болью в голосе молодой человек.
— Она выйдет замуж за князя Святозарова… Он сделал ей предложение… Говорят, он так же богат, как и она…
Григорий Александрович зарыдал как ребенок, закрыв лицо руками.
— Несчастный, как он ее любит! — пробормотал Иван Дементьевич.
Григорий Александрович на другой же день рано утром ушел из дома и вернулся только поздно вечером.
Такую жизнь он повел изо дня в день.
Княжна, конечно, узнала о странном поведении молодого человека.
Настя сочинила ей целую историю, что Потемкин решил теперь жить только для науки, что он сам недавно назвал будто бы свое увлечение княжной детской шалостью, согласившись с ее отцом, считавшим это чувство одной глупостью, а потому и избегает ее.
Княжна была поражена, неутешна, но, увы, не отступалась от своего чувства.
Настасья Ивановна, между прочим, передала своей подруге и сущность разговора ее отца с Григорием Александровичем, и княжна почувствовала себя оскорбленной.
С ее сердцем, с ее чувством, значит, только играли?
Она горько оплакивала свою потерянную иллюзию и разбитые мечты.
В это‑то время ее позвали к графине Анне Ивановне, которая передала ей о предложении, сделанном князем Святозаровым.
— Я уже выразила согласие… Надеюсь, что ты не пойдешь против моей воли, я тебе заменила отца и мать, — заметила графиня.
Княжна согласилась.
Князь был красив, знатен, ласков, может быть, только немного серьезен для такой молодой девушки.
Княжна чувствовала к нему симпатию и сказала себе: «Я его могу полюбить!»
Этой любовью к мужу она хотела вылечить рану своего молодого сердца.
Свадьбой не замедлили. Она была роскошна. Вся титулованная, сановная Москва присутствовала на ней. Молодые, сделав установленные визиты, через несколько дней уехали в Петербург.
Григорий Александрович Потемкин по–прежнему вел образ жизни, о которой народ очень метко замечает: «Одна заря вгонит, другая выгонит».
Домашние его почти не видели и не знали, где он проводит дни.
Иван Дементьевич находил нужным дать свободу молодому человеку.
«Пусть забудется… даже покутит малость… эта встряска только для него полезна…» — думал старик.
Потемкин, однако, и не думал кутить.
Он бросился в другую сторону и целые дни, не посещая классов, проводил в монастырских церквах.
Усердная и продолжительная молитва юноши обратила на него внимание монахов, с которыми он вскоре свел знакомство и стал проводить время в их кельях за беседой на тему о суете мирской жизни.
Полученное первоначальное воспитание в Смоленской семинарии сближало его с лицами духовного звания.
Он нашел среди них себе покровителей, которые поддерживали появившуюся в голове молодого человека мысль идти в монахи.
Последовавшее исключение Потемкина из гимназии еще более укрепило его в этом намерении. Свадьба княжны Несвицкой с князем Святозаровым окончательно подвинула его на этот решительный шаг.
Но для поступления в монашество необходимо было заручиться рекомендацией кого‑нибудь из лиц высшего духовенства.
В то время в Москве славился умом и подвижнической жизнью архиерей Амвросий Зертис–Каменский, впоследствии известный архиепископ московский и калужский.
Об искреннем желании юноши Потемкина было доложено его преосвященству покровителем молодого человека, монахом Чудова монастыря [13].
Его преосвященство пожелал увидеть будущего инока и подвижника, как говорил о нем докладчик.
С трепетом сердца вступил Григорий Александрович в архиерейские покои и остался ждать в приемной, пока служка пошел докладывать о прибывшем его преосвященству.
Много дум пронеслось в голове молодого человека, много ощущений переиспытал он за те десять–пятнадцать минут, которые он провел в приемной Амвросия.
Служка вернулся и попросил Потемкина следовать за ним.
Прошедши еще две комнаты, он отворил, дверь и пропустил в нее Григория Александровича.
Молодой человек очутился в образной архиерея.
Это была довольно обширная комната, две стены которой были сплошь увешаны иконами старинного художественного письма, некоторыми в драгоценных окладах, а некоторыми без всяких украшений, внушающими своей величественной простотой еще более благоговейные чувства… Двенадцать лампад слабым мерцанием освещали комнату, борясь со светом дня, проникавшим в узкие готические окна.
На высоком кресле в черном камлотовом [3]подряснике сидел почтенный старец, перебирая правой рукой надетые на левой кипарисовые четки.
Покрытый клеенкою войлок пола заглушал шаги.
Все в этом уголочке молитв московского иерарха [4]располагало к молитвенному настроению.
— Подойди сюда, сын мой Григорий! — раздался грудной, проникающий в душу голос Амвросия.
Потемкин приблизился и с благоговением и каким‑то душевным трепетом поцеловал благословившую его руку чудного старца.
Архиерей долгим проницательным взором обвел стройного, красивого юношу, казалось, созданного для счастья, любви и беззаботной жизни шумной молодости, и кротко улыбнулся углом рта.
Быть может, и в голове сурового по жизни монаха промелькнула именно эта мысль и он не мог представить себе этого полного жизни красавца в подряснике послушника, отрекающегося от этой еще не изведанной им жизни.
— В монахи, слышал, хочешь? — спросил его преосвященство.
— Имею искреннее желание, ваше преосвященство… — отвечал хорошо заученной формулой ответов Григорий Александрович.
— А давно ли это у тебя искреннее желание и почему явилось оно? — спросил, после некоторой паузы, пристально смотря в глаза гостя, Амвросий.
— С малолетства… — отвечал заученной фразой Потемкин и опустил глаза, не вынося проникающего в душу взгляда старца.
— Ой ли, с малолетства… Что же, родители изобидели?..
— Никак нет–с…
— Так с чего… Ты мне, молодец, признавайся как на духу… Между мной и тобой только Бог…
Он снова уставил свой взгляд на Потемкина.
Тот невольно опустился на колени у ног епископа и зарыдал так же, как зарыдал, когда Иван Дементьевич запретил ему видеться с княжной.
— Говори! — заметил Амвросий, дав ему выплакаться.
Григорий Александрович, прерывая свою речь всхлипыванием, откровенно и подробно рассказал весь свой роман с княжной Несвицкой, решение приютившего его Курганова, свадьбу княжны и свое исключение из гимназии…
— С этого‑то ты и захотел в монахи? — снова углом рта улыбнулся архиерей. — Отречься задумал от жизни, еще не живши… Думаешь, молиться‑то легче, чем учиться или служить… Нет, брат, не легко это, коли по–настоящему, а не по–настоящему совсем не надо, потому грех еще больший… больший… Бога ты не обманешь… Ты, чай, в службу записан?..
Григорий Александрович отвечал, не скрыв и получение чина капрала.
— Вишь, тебя наша матушка царица еще малышом уже пожаловала, а ты от службы увильнуть хочешь на монастырские хлеба… Ловок, я вижу, ты, брат… Вот тебе мой отеческий совет… Поезжай‑ка ты в Питер да послужи‑ка верой и правдой нашей милостивице, благоверной государыне… Коли годов через десять сохранишь желание в монахи идти — иди, а теперь нет тебе моего благословения…
Потемкин все продолжал стоять на коленях, понурив голову.
— Встань, — сказал архипастырь.
Амвросий тоже встал и подошел к вделанному в стене шкафу, отпер его и, вынув пачку денег, подал ее Григорию Александровичу:
— Здесь пятьсот рублей тебе на дорогу и на первое время… Поезжай и служи…
Григорий Александрович дрожащей рукой взял деньги.
Амвросий благословил его. Молодой человек облил руку старца слезами благодарности. Он вышел от него обновленный.
На другой же день он уехал в Петербург, простившись с Кургановым и не скрывши от него ничего.
Матери он тоже написал откровенное письмо.
VIII ПЕРВЫЙ ЛУЧ И ПЕРВЫЙ ЯД
Прибыв в Петербург, Григорий Александрович без всяких препятствий был зачислен в действительную службу вахмистром лейб–гвардии конного полка.
Это было в половине 1761 года, последнего года царствования императрицы Елизаветы Петровны, умершей внезапно 25 декабря 1761 года.
Полковая служба вскоре его сблизила со всей лучшей петербургской молодежью.
Он сделался одним из горячих приверженцев великой княгини Екатерины Алексеевны.
Непродолжительно было царствование Петра III, вступившего на престол после смерти Елизаветы Петровны.
Наступило 28 июня 1762 года — день государственного переворота, доставившего корону Екатерине II.
В числе окружавших в Петербурге молодую государыню представителей гвардии находился и вахмистр Потемкин.
Принимая присягу в верности от гвардии, императрица подъехала к конногвардейскому полку и обнажила шпагу.
Вдруг она увидала, что на ней нет темляка, и смутилась.
Начальство полка заметило это смущение и растерялось.
Григорий Александрович, не сводивший глаз с обожаемой всею молодежью того времени государыни, первый заметил это и, подскочив к смутившейся императрице, сорвал со своего палаша темляк и поднес его стоявшей перед полком с обнаженной шпагой Екатерине.
Государыня милостиво приняла услугу догадливого вахмистра и подарила его благосклонной улыбкой.
Императрицу поразили находчивость и присутствие духа молодого красавца.
Потемкин уже намеревался отъехать к своему месту, но лошадь его, привыкшая к эскадронному ученью, остановилась подле лошади императрицы и, не слушая ни шпор, ни усилий всадника, стояла как вкопанная.
— Как вас зовут? — обратилась к сконфуженному вахмистру императрица, желая ободрить его.
— Вахмистр Григорий Потемкин, ваше императорское величество, — отвечал Григорий Александрович.
— Откуда вы родом?
— Дворянин Смоленской губернии, ваше императорское величество!
— Давно на службе?..
— Второй год, ваше императорское величество!
— Не тяжелая служба?
— Теперь, когда жизнь каждого из нас посвящена вашему императорскому величеству, — легка…
— Хорошо сказано, господин подпоручик Потемкин… — сказала государыня.
Таким образом Григорий Александрович был произведен в подпоручики.
Через несколько дней ему было, кроме того, пожаловано шестьсот душ крестьян.
Первый луч счастья блеснул на него.
Набожный юноша всецело приписал это благословению архиерея Амвросия и деньгам, данным ему московским иерархом.
В нем заговорило честолюбие, и в этом чувстве ему захотелось утопить оскорбленное чувство первой любви.
Снова, как во дни раннего детства, в его голове засела мысль: «Хочу быть министром».
Эта новая, созданная им цель его жизни, казалось, успокоила его. Его мысли перестали нестись к дому на набережной Фонтанки, где жили князь и княгиня Святозаровы.
Последние жили очень замкнуто, и Григорий Александрович в течение проведенного в Петербурге года ни разу не встречался со своим прежним кумиром.
Светские петербургские сплетни, однако, не миновали его ушей и глубоко огорчали его.
В петербургском свете говорили, что брак Святозаровых нельзя отнести к разряду счастливых, что супруги не сошлись характерами и ведут жизнь далеко не дружную.
К несчастию, в этих толках было более правды, чём это бывает обыкновенно.
Княжна Зинаида Сергеевна, выйдя замуж лишь с надеждой полюбить своего мужа и этой второй любовью заглушить первое чувство, не нашла поддержки своим стараниям в князе Святозарове.
Молодой муж не понял ее.
Он чувствовал только, что сердце его жены не принадлежит ему всецело, и вместо того, чтобы стараться привлечь ее к себе лаской, он стал ревновать к прошедшему, сделался недоверчив и угрюм.
Он совершенно перестал улыбаться, молчал и окончательно удалился от общества, принудив к этому и жену. К каждому шагу, к каждому движению княгини он стал относиться с предубеждением.
Сам, быть может, не сознавая того, он сделался тираном.
Молодую княгиню это еще более оттолкнуло от мужа.
Через одиннадцать месяцев после свадьбы княгиня одарила мужа сыном.
Князь был на седьмом небе.
Можно было подумать, что он переродился, но, увы, не в пользу жены, — ее он как бы даже не замечал.
Какая‑то непонятная отцовская любовь поглощала его всецело.
У него была одна цель в жизни — его сын Василий.
Он окружил его всевозможными удобствами и роскошью, он расточал ему свои ласки, о нем он только и заботился, о нем он только и говорил, ему он только и улыбался.
Его друзья и сослуживцы смеялись над ним и говорили, что ему недостает только одного для полнейшего счастья: что он не может кормить сам грудью своего сына.
Княгиня была удалена от сына, она видела его только изредка. К нему приставили кормилицу.
Казалось, князь хотел быть один любим своим сыном.
Когда мать брала его на руки, он выходил из себя и кричал с беспокойством:
— Оставь, оставь, ты делаешь ему больно!
Он запретил ей даже целовать своего ребенка.
Княгиня покорно переносила весь этот ад семейного очага, эту полную невыносимых мук жизнь в золоченой клетке, но, все же чувствуя свое одиночество, свою беззащитность от домашнего тирана, она искала хоть кого‑нибудь, кому бы могла излить свою наболевшую душу, и нашла…
В несчастной княгине приняла участие ее двоюродная сестра, Клавдия Афанасьевна.
Надо заметить, что молодая графиня Нелидова недолго после свадьбы Зинаиды Сергеевны оставалась в девушках.
Она вскоре вышла замуж за графа Петра Антоновича Переметьева, старика лет под шестьдесят, годившегося ей не только в отцы, но, пожалуй, в дедушки.
Этот неравный брак наделал большого шума в Москве и был толкуем на разные лады в московском высшем обществе.
Цель графини Клодины была достигнута; она переехала с мужем в Петербург и, так же как княгиня Святозарова, сделалась статс–дамой при дворе императрицы.
Она‑то и приняла участие в своей кузине и выказала ей горячую привязанность.
Зинаида Сергеевна верила в эту запоздалую дружбу и платила ей искренней взаимностью.
Доверчивая и честная по натуре, она и не подозревала, что ее двоюродная сестра играет комедию и с адским расчетом ловко строит ей роковую западню.
Графиня Клодина поклялась отомстить за отбитого у ней жениха, князя Святозарова, и выжидала.
Какое мщение задумала она?
Она хотела во что бы то ни стало совершенно разбить их семейную жизнь и самой явиться в роли утешительницы князя Андрея Павловича, которого она не могла разлюбить до сих пор, но чувство это тщательно скрывала в тайнике своего сердца.
Она не была из разборчивых в средствах для достижения своей цели. Она бы ни на минуту не задумалась сделаться любовницей князя Святозарова, лишь бы доставить огорчение его жене, своей счастливой сопернице.
Этой‑то предательнице и доверилась молодая княгиня.
Окончательное охлаждение, происшедшее между супругами после рождения сына, было на руку светской интриганке.
Она воспользовалась невинными признаниями своей кузины, чтобы разжечь ревность князя Святозарова.
Вскоре она узнала всю тайну княгини Зинаиды Сергеевны.
Она любила молодого Потемкина и до сих пор не забыла его.
На этом графиня Клодина построила свой гнусный план.
Она знала, что молодой Потемкин в Петербурге. Слух о происшедшем в Петергофе стал быстро известен в высшем свете.
Вскоре она устроила, что молодой Потемкин был ей представлен и сделал визит.
Его пригласили вечером на маленький soiree.
Графиня привезла почти насильно к себе и княгиню Святозарову.
Так состоялась неожиданная для обоих встреча.
Графиня Клодина следила за ними во все глаза.
Это было в гостиной.
Она видела, как они оба смутились и растерялись.
Княгиня побледнела при виде молодого офицера и, едва поклонившись, вышла в другую комнату.
Потемкин посмотрел ей вслед и отошел к окну, чтобы скрыть охватившие его чувства.
Графиня Клодина все это заметила и осталась довольна.
«Они до сих пор любят друг друга, — сказала она себе. — Дело теперь только в том, чтобы раздуть огонь».
В это время в зале начались танцы.
Графиня подошла к Григорию Александровичу.
— Как вы задумчивы, — сказала она. — Почему вы не танцуете?
— Я никогда не танцую! — отвечал он печально.
— Это теперь говорят все молодые люди… Какие скучные делаются мужчины… Неразговорчивые, серьезные…
— Но если уж дан от Бога серьезный характер.
— Как у вас?
— Да.
— Тогда надо позволить развеселить себя такому капризному существу, как я… Мы ведь с вами старые знакомые, жили когда‑то под одной кровлей, хотя виделись довольно редко… Так прочь скуку… Я готова побиться об заклад, что знаю причину ее.
Потемкин побледнел.
— Садитесь здесь со мной. Тут нам никто не помешает и поговорим о вашем данном от Бога серьезном характере. Мне сдается, что он явился у вас не особенно давно.
— Вы думаете?
— Да, и знаю даже, с какого времени…
— Вот как!
— С тех пор, как княжна Зина вышла замуж.
Григорий Александрович вскочил как ужаленный.
— Что вы… говорите… — начал он, задыхаясь.
— Тише, тише… — засмеялась она. — Я читаю в вашем сердце, как в раскрытой книге. Вы все еще ее любите.
Он схватил ее за руку.
— Ради Бога, замолчите! — бормотал он.
— Кто же нас слышит? И ее ведь здесь нет, она в зале…
— Все равно… если бы вы знали…
— Что?
— Я чувствую, что не могу совладать с собой… О, говорите, как вы могли узнать тайну, которую я сам от себя скрывал… Может быть, она вам это сказала?..
— Несчастная Зина ничего не говорила мне… Я просто догадалась…
— Вы назвали ее несчастною?..
— Да, она несчастлива.
— Разве князь…
— Князь обожает ее… Но она его не любит…
— Она его не любит?!!
— Она не может его любить, потому что ее сердце принадлежит вам, потому что она осталась верной своей первой любви…
— О, замолчите, замолчите…
— Почему? Разве я говорю неправду, разве вы сами не заметили, как она побледнела, встретившись с вами, как она задрожала, кланяясь вам…
— Мне показалось, что она хотела избегнуть этой встречи.
— Конечно, при такой массе свидетелей она должна была бояться выдать себя.
Григорий Александрович задыхался от волнения.
Графиня Клодина положительно пожирала его глазами.
— Я люблю Зину и страдаю с ней вместе. Я бы так хотела видеть ее счастливой… Зачем вы не женились на ней?
— Я не смел об этом и думать…
— Жаль, что я не знала об этом ранее… Зина была бы теперь, вашей счастливой женой.
IX ЗМЕЯ
— Теперь я все понимаю! — продолжала коварная женщина. — Иван Дементьевич своим самолюбием и своей гордостью погубил две жизни… Он разлучил вас с Зиной и разбил вашу университетскую карьеру… В это время князь сделал предложение… Вы, быть может, не знаете, что сначала она отказала. Она, наверное, ждала… вас… Но так как вы скрывались от нее, она с отчаяния послушалась совета моей матери… Она, конечно, подумала, что вы никогда не любили ее.
— Бедная княгиня! — вздохнул Потемкин. — Она презирает меня теперь, ненавидит, быть может…
— О, я могу поклясться, что тот поцелуй, которым она подарила меня, предназначался для вас.
Григорий Александрович сомнительно покачал головой:
— Нет, нет, все кончено! Она жена другого… О, если бы я смел с ней поговорить, если бы я мог ей сказать…
— Что вы все еще ее любите?
— Нет, это было бы для нее оскорбительно… но я хотел бы объяснить ей свое поведение в Москве…
— Что же вас удерживает?
— Она не захочет меня слушать…
— В ее будуаре, может быть, — нет… Но здесь, у меня….
— За такое счастье я отдал бы свою жизнь! — сказал он дрожащим голосом.
Глаза графини Клодины блеснули.
— Это я вам устрою… Необходимо действительно, чтобы вы оба объяснились. Это будет для нее утешением, а для вас облегчением…
— Как вы добры.
— Хорошо, хорошо, вы меня поблагодарите после…
В это время в гостиную вошла княгиня Зинаида Сергеевна.
Графиня Клодина пошла ей навстречу, между тем взгляды княгини и Григория Александровича, продолжавшего стоять на том же месте, встретились.
Казалось, это были две встретившиеся молнии.
Княгиню поразила необыкновенная бледность молодого человека.
Ее сердце наполнилось жалостью.
Сославшись на головную боль, она простилась с хозяйкой, которая успела шепнуть ей:
— Я буду у тебя завтра… мне надо многое сказать тебе…
Княгиня вспыхнула. Она прочитала на губах подруги готовое с них сорваться имя Потемкина.
— Ты всегда моя желанная гостья… — с трудом проговорила она.
Подруги расцеловались.
— Так до завтра! — шепнула княгиня.
— Да.
Княгиня уехала.
Вскоре откланялся хозяину и хозяйке и Григорий Александрович.
На другой день, часов около трех, графиня Клодина уже была в будуаре княгини Святозаровой.
Последняя ожидала ее с нетерпением.
— Твои вчерашние слова, милая Клодина, ужасно обеспокоили меня, — начала княгиня Зинаида, когда подруга удобно уселась в кресле. — Я продумала о них всю ночь… У тебя есть, верно, передать мне что‑нибудь очень важное?
— Это зависит от того, как ты на это взглянешь… Дело идет о сохранении твоего спокойствия, даже о предупреждении опасности.
— Опасности! Ты меня пугаешь…
— Ты доверила мне часть твоей тайны, милая Зина, но сказала, с понятной сдержанностью, не все… Но настоящая дружба проницательна… Ты простишь меня, если я тебе скажу, что я все узнала.
— Все узнала! — воскликнула, дрожа, княгиня.
— Да, вчера я еще сомневалась, но твое смущение вечером мне все открыло.
Княгиня опустила голову.
— Но это не та опасность, о которой я говорю, — продолжала великосветская змея. — Главная опасность заключается в его любви к тебе… в любви безумной…
Княгиня радостно улыбнулась.
— Ты думаешь? — спросила она.
— К несчастию, я в этом уверена…
— Он тебе сказал это?
— Да.
— Что же он говорил тебе? — взволнованным голосом торопливо спросила княгиня.
Графиня Клодина рассказала о вмешательстве в любовь молодых людей Ивана Дементьевича Курганова.
— О, я теперь все поняла! — воскликнула княгиня, закрыв лицо руками.
— Несчастный открыл мне свое разбитое сердце, он говорил мне о своей безнадежной любви к тебе, о своем безысходном горе.
Княгиня Зинаида простонала, не отнимая рук от лица.
Графиня продолжала:
— Его отчаяние произвело на меня сильное впечатление… Сознаюсь тебе, мне стало искренно жаль его…
— Клодина, Клодина! — подняла голову княгиня Зинаида и вдруг испуганно спросила: — Ты не сказала ему, что и я несчастна?..
— Я от этого воздержалась…
— Значит, он думает, что я его не люблю…
— Милая моя, большинство женщин умеют скрывать свои чувства, ты же не принадлежишь к их числу. Твои глаза зеркало твоей души… Ты сама выдала себя ему с головой… Он понял, что ты не забыла его…
— О, горе мне! — воскликнула княгиня.
— В настоящее время он находится в отчаянном положении. Вновь вспыхнувшая страсть к тебе не остановится ни перед чем… Меня это заставляет опасаться… тем более что он теперь на хорошей дороге по службе… на дороге блестящей…
— Несчастный! — пробормотала княгиня.
— Его любовь безгранична, и, во всяком случае, он хочет тебя видеть, с тобой говорить.
— Это невозможно! — испуганно воскликнула княгиня.
— Эта мысль засела ему в голову… Чтобы добиться этого, он на все готов, он силой ворвется в твою комнату и, думаю, не побоится даже твоего мужа, если бы он загородил ему дорогу.
— И ты не объяснила ему все безумие этой мысли?
— Объяснить безумному?!
— Что же делать? Что же делать?.. — говорила княгиня, ломая руки.
— Это‑то и есть та опасность, о которой я упомянула и которую надо предупредить…
— Но как? Я не вижу средств!..
— Подумай, что может произойти, если между отчаянно влюбленным Потемкиным и твоим мужем произойдет стычка.
Молодая женщина задрожала.
— Клодина, Клодина! — умоляющим голосом сказала она. — Не покидай меня, посоветуй мне…
Несчастная сама лезла в западню.
Графиня, по–видимому, обдумывала и наконец сказала после продолжительной паузы:
— Знаешь, Зина, что бы я сделала на твоем месте?
— О, говори, говори…
— Чтобы предупредить с его стороны безумную выходку, я согласилась бы на его просьбу, я бы увиделась с ним.
— Что ты выдумываешь?! Пойми, как я могу его здесь принять, тайком от мужа?..
— Здесь, конечно, нет, но Петербург велик. Есть много, мест… где встретиться. Это может произойти будто бы нечаянно…
— Свиданье! — испуганно вскрикнула княгиня. — Я никогда не решусь на это!
Графиня Клодина закусила губу и окинула свою собеседницу злобным взглядом.
Это было, впрочем, лишь на одно мгновенье.
Она переломила себя и сказала ласково:
— Я ведь только сказала, что бы я сделала на твоем месте. Я опасаюсь за твое семейное спокойствие и хотела предупредить катастрофу… Впрочем, я не понимаю, что ты видишь дурного в этом свидании, тем более что им, быть может, можно спасти несчастного человека от самоубийства…
Княгиня тихо плакала.
— Подумай об этом, милая Зина, — продолжала графиня. — Дело идет о жизни и смерти почти юноши, одно твое слово может спасти или погубить его… Признаюсь тебе, что я дала ему слово, что уговорю тебя на это свидание… Это мой долг, а то бы он еще вчера наделал глупостей, которые могли кончиться смертью его или князя…
Графиня Клодина, видимо, принимала все меры, чтобы запугать княгиню Святозарову и заставить ее решиться на тот шаг, который нужен был ей для мщения.
Молодая женщина все еще не соглашалась.
Графиня решилась на последнюю ставку.
— Знаешь ли, чего я всего более опасаюсь? — сказала она.
Княгиня подняла на нее свои заплаканные глаза.
— Говори мне все, что ты думаешь…
— Что он вызовет твоего мужа на дуэль…
— Но по какой причине?..
— Боже мой, как ты наивна; конечно, он не скажет ему: «Я люблю вашу жену…» Мужчины всегда найдут какой‑нибудь повод для столкновения… Он умышленно оскорбит твоего мужа публично, и причина дуэли готова…
Княгиня Зинаида Сергеевна сидела как приговоренная к смерти.
— Что делать? Что делать? — повторяла она.
Графиня Клодина молчала.
— Скажи же мне хоть слово… Дай совет… — с болью в голосе обратилась молодая женщина к своей гостье.
— Я уже сказала… — хладнокровно отвечала та.
— Согласиться на свиданье… — задумчиво произнесла княгиня.
Графиня продолжала сидеть молча, перебирая кружева своего платья.
Молодая женщина тоже молчала. По ее лицу было видно, что внутри нее происходила страшная борьба.
— Я хочу его видеть, я буду с ним говорить! — воскликнула княгиня.
В глазах графини блеснула злобная радость.
— Я буду с ним говорить! — повторила княгиня. — Но где и как?
— Положись на меня! — с убеждением сказала графиня.
— Ты поможешь мне…
— Ты сомневаешься в моей дружбе?!
— И останешься около меня, чтобы, в случае чего, спасти меня от самой себя?
— Я обещаю тебе это.
— Но кто его об этом предупредит?
— Я.
— Скажи же ему, что я это делаю только для того, чтобы исполнить твое обещание… Слышишь?..
— Успокойся… Скажу все, что надо и что оградит твою честь…
— Где же мы можем увидеться?
— Я обдумываю это, и мне кажется, что я придумала.
— Так пусть это будет завтра, послезавтра, как можно скорей.
Графиня Клодина нежно обняла свою жертву и, притянув ее к себе, горячо поцеловала.
— Где же? — спросила с дрожью в голосе княгиня.
— Я скажу это тебе завтра… Сегодня я все это еще хорошенько обдумаю.
— Где же мы увидимся?
— Приезжай ко мне… в это же время…
— Хорошо… И это будет завтра же?..
— Этого я не знаю… Ты очень спешишь…
— Чем скорее, тем лучше… Я не успокоюсь до тех пор, пока все это так или иначе не кончится…
— Все кончится благополучно… — углом рта улыбнулась графиня. — Однако мне пора… Мне еще надо во дворец.
Обе женщины снова крепко расцеловались.
Искренен был поцелуй только со стороны княгини Зины.
X
АНОНИМНОЕ ПИСЬМО
Княгиня Зинаида Сергеевна на другой день аккуратно прибыла к своей «спасительнице», как она мысленно называла графиню Клавдию Афанасьевну.
Дом графа Переметьева находился на Невском проспекте, вблизи Фонтанки, следовательно, в очень недалеком расстоянии от дома Святозаровых.
Был прекрасный день ранней осени.
На дворе стоял сентябрь.
Подъехав к роскошному дому графа Переметьева, княгиня отпустила свою карету, приказав приехать за ней часа через три.
У подъезда дома она заметила карету графини.
«Ужели сегодня!» — подумала княгиня, и сердце у нее усиленно забилось.
Графиня Клодина ожидала ее действительно уже в шляпе и после первых приветствий объявила, что пора ехать.
Княгиня покорно, последовала за своей подругой.
Обе женщины сели в дожидавшуюся у подъезда карету, и она покатила.
— Куда мы едем? — робко спросила княгиня.
— На Васильевский…
— Он там ждет? — тревожно воскликнула княгиня.
— Нет! Свиданье назначено не на сегодня. Боже мой, как ты дрожишь, успокойся или…
— Я не знаю, что со мной. Я ужасно боюсь.
— Боишься, разве я не с тобою?..
— У меня какое‑то тяжелое предчувствие близкой беды.
— Какой ты еще ребенок!
— Клодина, если он там не ждет, для чего же мы едем в такую даль, на Васильевский?..
— Ты это узнаешь… — смеясь, ответила графиня.
Васильевский остров [14] в описываемое нами время входил в состав города лишь по 13–ю линию, а остальная часть, вместе с Петербургскою стороною по реке Карповке [15], составляла предместье.
Но и та часть Васильевского острова, которая лежала по эту сторону городской черты, была лишь полузаселена, улицы хотя и были, но по ним тянулись заборы, дощатые и решетчатые, за которыми при проезде мелькали деревянные, а еще реже, на счет, каменные строения.
На 10–й линии, куда привезла графиня Клавдия Афанасьевна княгиню Зинаиду Сергеевну, среди развалившихся хижин и заборов был лишь один почти новенький одноэтажный деревянный домик, весело выглядывавший из‑за палисадника, освещенный мягкими лучами сентябрьского солнца.
Дом казался необитаемым. По крайней мере, с переднего фасада пять его окон были закрыты ставнями и заложены болтами, и открытыми оставались лишь окна, выходившие в большой двор и тенистый обширный сад позади двора.
Карета остановилась, и графиня вышла из нее, предложив сделать то же самое и своей спутнице.
Княгиня с недоумением осматривала пустынную, немощеную улицу с деревянными мостками вместо тротуаров.
Клавдия Афанасьевна между тем дернула звонок, находившийся у калитки.
Из стоявшей в глубине двора сторожки показался высокий, несколько сгорбленный старик и медленной, развалистой походкой подошел к решетке.
Увидав графиню, он как‑то быстро выпрямился и так же быстро отодвинул засов.
— Здравствуйте, матушка, ваше сиятельство… — зашамкал он своим беззубым ртом, низко кланяясь приехавшим дамам.
— Здравствуй, Акимыч, все ли у тебя благополучно?
— Бог милостив, ваше сиятельство, все благополучно… и чему быть неблагополучному… тишь у нас да гладь да Божья благодать!..
— Отопри дом… — приказала Клавдия Афанасьевна.
Старик бросился, насколько позволяли ему его старческие силы, снова к сторожке и вышел через минуту уже к вошедшим во двор дамам, гремя ключами…
Направившись к дому, он отпер подъезд, и графиня с княгиней вошли в дом.
Он был небольшой, но очень уютный, вся меблировка, состоявшая из дорогой мебели, зеркал, бронзы, содержалась в образцовой чистоте.
Из окон, выходивших в сад и во двор, лились потоки света.
— Где мы? — удивленно спросила княгиня.
— У меня! — отвечала Клавдия Афанасьевна.
— У тебя!
— Да, этот дом принадлежит матери моего мужа, которая до самой смерти не хотела переезжать в другую часть города. После ее смерти муж оставил его таким, каким он был, но, конечно, ремонтировал, оттого он и выглядит почти новым. Старик Акимыч, бывший дворецкий старой графини, с женой и двумя взрослыми дочерьми, сторожит этот памятник его барыни как зеницу ока; старшая его дочь служит у меня камеристкой, и все семейство мне очень предано… Я вспомнила об этом домике, заботясь о тебе… Домик этот точно нарочно устроен для свиданий… влюбленных.
Княгиня вспыхнула и укоризненно посмотрела на свою подругу.
Та как будто не заметила этого взгляда и продолжала:
— Сегодня суббота… Через неделю я приеду сюда в это же время… Теперь ты знаешь дорогу и можешь приехать одна… Впрочем, карета, которая привезла нас сюда, будет ожидать тебя у подъезда моего дома и доставит тебя без хлопот в этот глухой уголок Петербурга… За это время я извещу Потемкина, и он также приедет сюда… Мы оба будем тебя ждать после трех часов…
— Если это уже так надо, то я приеду… — сказала княгиня с дрожью в голосе. — Но ты ведь будешь здесь, не правда ли?.. Ты будешь около меня? Ты мне это обещала…
— Да, да, если ты этого хочешь, успокойся…
— У меня нет больше от тебя тайн, Клодина; все, что бы я ни говорила с Григорием Александровичем, ты можешь слышать…
— Какое счастье, что я вспомнила об этом домике… — заметила графиня, не отвечая ничего на слова Зинаиды Сергеевны.
Они вышли из дома.
Акимыч почтительно ожидал их у крыльца.
— Иди садись в карету, я сделаю только кое–какие распоряжения… — сказала графиня и, подойдя к старику, стала ему говорить что‑то вполголоса.
Через несколько минут она вышла из калитки и села рядом с княгиней Святозаровой.
Менее чем через четверть часа они были уже дома, и княгине вскоре доложили, что за ней приехала карета.
Подруги расстались, крепко несколько раз поцеловавшись.
Неделя прошла.
Княгиня Зинаида Сергеевна с удовольствием бы провела эти дни наедине сама с собой, но графиня Клодина, видимо опасаясь, как бы ее подруга не раздумала и не разрушила бы этим весь хитро придуманный план, являлась к ней ежедневно и под каким‑нибудь предлогом увозила ее из дому.
В субботу утром князь Андрей Павлович Святозаров получил следующее письмо:
«Ваше сиятельство!
Один преданный друг считает своей священной обязанностью предупредить вас о деле, которое касается вашей чести и семейного счастия и которое известно уже всему Петербургу. Уже с месяц, как княгиня Святозарова назначает свиданья одному молодому офицеру. Эти свиданья происходят в 10–й линии Васильевского острова. Там есть единственный приличный дом с тенистым садом, и вы без труда найдете его. Сегодня, в субботу, они должны видеться там после трех часов! От вас зависит, ваше сиятельство, убедиться в справедливости этих слов и наказать тех, кто покрывает незаслуженным позором ваше честное имя».
Прочитав эти строки, князь, как пораженный громом, упал в кресло в своем обширном, роскошно отделанном кабинете.
Его била лихорадка, и он обезумевшими глазами смотрел на листок бумаги, который держала его дрожащая рука.
— Какая подлость! — хрипло простонал он и злобно скомкал роковое письмо.
Несколько минут он остался неподвижен и даже перестал дышать.
Затем он поднял голову, его побледневшие губы горько улыбались.
— Анонимное письмо! — с омерзением сказал князь самому себе.
Вдруг в груди его заклокотало ревнивое бешенство.
— Но если это правда! — прошептал он. — У меня нет врагов! И притом этот подробный адрес… Нет, это, должно быть, правда… Она не любит меня… О, позор, позор! Обманут, обманут ею… О, несчастная, презренная женщина… Ничто не удержало ее, бесстыдную, от преступной страсти — даже мысль о своем ребенке не могла спасти ее! Она украла мою честь и покрыла позором мое имя и колыбель своего ребенка… А я… я любил ее так искренне… я все еще люблю ее и теперь!.. О, как справедливо было мое подозрение… Это ужасно, ужасно!
Он вскочил в неистовстве.
Из его груди вырывались глухие стоны, его руки поднялись как бы кому угрожая.
Было мгновение, когда он хотел идти к жене и показать ей это письмо.
Если бы он это сделал, княгиня могла бы сейчас оправдаться, рассказав всю правду.
Но, к несчастью, князь этого не сделал.
Ревность — плохой советник.
Она овладевает разумом и сердцем и смущает самую сильную душу.
Князь решил убедиться и отомстить.
Дьявольский план графини Клодины удавался как нельзя лучше.
Князь неровными шагами стал ходить по кабинету, стараясь успокоиться, что было необходимо для появившегося в голове его плана.
Спокойствие между тем не давалось ему.
Напротив, он более и более расстраивал себя, припоминая поведение своей жены за последнее время. Оно представлялось ему в самых мрачных красках. Ее слова, ее движения, самое выражение ее лица восставали в его односторонне направленном уме уличающими фактами ее неверности.
Сомнение в ее виновности через какие‑нибудь полчаса выросло в твердую уверенность…
— О, я буду отомщен, я смою мой позор кровью…
Он бросился в детскую, чтобы у колыбели своего ребенка найти силу пережить те несколько часов, которые остались до полного убеждения в том ужасном факте, что он «обманутый муж» и что у его сына нет «честной» матери.
XI ДВОЙНОЙ ВЫСТРЕЛ
К завтраку граф вышел по наружности совсем спокойный.
Он принудил себя даже к разговору со своей женой.
При этом, однако, он пристально смотрел на нее и заметил, что она имела расстроенный и рассеянный вид.
«У нее нечистая совесть!» — подумал он.
После завтрака он спросил:
— Ты сегодня дома?
— Нет, я думаю выйти.
— Куда, можно полюбопытствовать?
— К Клодине.
— Но она, кажется, была вчера у тебя.
— Да, но я обещала ей сегодня привезти узор для подушки…
— Ты поедешь в карете?..
— Нет, я хочу пройтись, мне необходимо движение…
— Как хочешь… Я также еду.
С этими словами он вышел из столовой.
Княгиня вздохнула.
Ее снова охватил страх.
Но не ехать было нельзя. Графиня и он ждали.
«Быть может, я поступаю нехорошо, но я делаю так, как подсказывает мне моя совесть!» — подумала княгиня.
Князь Андрей Павлович вернулся к себе в кабинет и с силой дернул за сонетку.
Через минуту в комнату вошел камердинер.
— Велите заложить карету, но чтобы она не выезжала к подъезду ранее, нежели я скажу.
— Слушаю–с, ваше сиятельство! — сказал старый слуга и направился к двери.
— Степан! — остановил его князь. — Когда графиня выйдет из дома, доложишь сейчас же мне.
Камердинер вскинул удивленно–испуганный взгляд на своего барина, но тотчас потупился и, произнеся лаконически «слушаю–с», удалился.
Князь подошел к одному из библиотечных шкафов, стоявших по стенам обширного кабинета, отпер ящик и отворил его.
Вынув черной кожи футляр, он открыл его.
В футляре оказался изящно отделанный пистолет–двустволка.
Положив обратно футляр в ящик, он вынул из последнего пороховницу и мешочек с пулями. Медленно и тщательно зарядив пистолет, он сунул его в карман.
Медленными шагами начал он ходить по кабинету.
Дверь отворилась, и на ее пороге появился камердинер.
— Ее сиятельство изволили выйти из дому! — доложил он.
Князь вздрогнул, остановился, обвел слугу недоумевающим взглядом и вдруг, как бы что‑то вспомнив, быстро направился из кабинета, бросив на ходу камердинеру:
— Велите подавать карету!
Камердинер посторонился, чтобы пропустить князя, и, печально качая головой, пошел исполнять приказание.
Когда князь вышел из подъезда, он увидел свою жену в нескольких сотнях шагов от себя, уже подходящей к Аничкову мосту.
Князь Андрей Павлович пошел пешком, приказав экипажу следовать за собой шагом.
Он быстро дошел до моста, чтобы не потерять из виду жену.
Последняя шла не торопясь по Невскому проспекту и, не доходя до дома графа Переметьева, вдруг скрылась.
Это поставило графа в недоумение, но лишь на минуту.
Он увидел, что стоявшая у тротуара карета отъехала.
«Она села в заранее приготовленную карету!» — догадался он.
Вскочив в свою карету, он приказал кучеру следовать на расстоянии за ехавшим экипажем.
Бледный, со стиснутыми от внутренней боли зубами, он то и дело высовывался из окна кареты и страшным взглядом следил за экипажем, увозившим его жену на любовное свиданье.
Княгиня Зинаида Сергеевна ехала тоже ни жива ни мертва, хотя, конечно, и не подозревала, что в ста шагах от нее ехал за ней ее муж.
Графиня Клавдия Афанасьевна, понятно, и не подумала ехать в этот день на Васильевский остров.
Устроив ловушку своей подруге, она ограничилась лишь тем, что отдала на этот день соответствующие приказания Акимычу, его жене и дочерям на случай прибытия в западню намеченных ею жертв.
Сама же она в тот момент, когда обе кареты, с князем и княгинею Святозаровыми, уже подъезжали к 10–й линии Васильевского острова, спокойно обсуждала со своей портнихой фасон нового бального платья к предстоящему зимнему сезону.
Княгиня робко вышла из остановившегося экипажа и с замиранием сердца подошла к калитке.
Она оказалась отворенной.
Она вошла во двор и направилась к парадному крыльцу, тоже оказавшемуся незапертым.
Пройдя переднюю и залу, она очутилась в гостиной, окна которой выходили в сад.
Здесь она увидала совершенно незнакомого ей молодого офицера.
Это не был Потемкин…
— Поручик Евгений Иванович Костогоров… — представился он ей, почтительно кланяясь.
— Что вам угодно? — растерянно произнесла княгиня и зашаталась.
Он ловко подставил ей кресло, в которое она скорее упала, нежели села.
— Мой друг и товарищ Григорий Александрович просил… поручил… — начал, путаясь, молодой человек.
— Что он поручил вам? — снова, почти бессознательно, спросила княгиня, вся дрожа от волнения.
— Хотя он и желал бы очень видеться с вами, независимо от вашего настойчивого приглашения, переданного ему вашей знакомой…
Княгиня подняла голову и окинула его удивленным взглядом.
— Но, обдумав все серьезно и хладнокровно… он нашел, что это свиданье будет лишь лишней мукой для него и для вас… Вам лучше не видеться совсем… особенно наедине… Он просил вас извинить его… Он не будет…
— И это он… поручил… сказать… вам… когда сам…
Княгиня остановилась и побледнела еще более.
— За мою скромность… я ручаюсь вам честью нашего мундира… Притом я не имею удовольствия вас знать… не знаю и не хочу знать вашего имени… — сказал молодой человек, думая, что сидевшую перед ним барыню возмутила откровенность с ним Потемкина.
— Но где же графиня? — вдруг вскрикнула Зинаида Сергеевна.
Молодой офицер с недоумением посмотрел на нее.
— Я не знаю никакой графини и не видел здесь никого.
Княгиня поднялась в страшном волнении.
Она стала понимать правду.
В это время с улицы донесся шум подъехавшего экипажа.
— Это ловушка! — бормотала она. — Это ловушка! Но к чему? Зачем?
Молодой человек был изумлен.
В соседней комнате раздались тяжелые шаги.
Княгиня бросилась к двери и очутилась лицом к лицу со своим мужем.
— Измена, подлость! — вскрикнула она и стала перед князем, преграждая ему дорогу.
Лицо князя Андрея Павловича страшно изменилось. Он был бледен как полотно, губы его дрожали.
В руке у него был пистолет.
Он прямо подошел к молодому офицеру.
— Выслушай меня, выслушай меня! — кричала княгиня, бросаясь между мужем и молодым человеком.
Он с силою оттолкнул ее.
Он совершенно обезумел.
— Милостивый государь! Я клянусь вам, что я эту барыню… — начал было молодой человек, но не успел окончить фразы.
Раздался двойной выстрел.
Граф выстрелил из обоих стволов.
Несчастный молодой человек глухо вскрикнул и упал к ногам графа.
Княгиня с криком сделала несколько шагов к раненому, но вдруг зашаталась и упала около него.
— Я отомстил! — пробормотал князь, взглянув на свою жертву.
С этими словами он бросил пистолет в окно, в сад.
Затем он поднял свою жену на руки и понес ее, запачканную кровью, из дома через двор на улицу, где кучера весело болтали друг с другом.
Появление князя с бесчувственной княгиней на руках прекратило их разговор.
Оба кучера обменялись взглядами.
Князь положил свою жену в карету, сел рядом и велел кучеру ехать домой.
Княгиня очнулась уже около Невского проспекта. Она удивленно обвела глазами кругом себя и вспомнила все.
С каким‑то паническим ужасом она отодвинулась от своего мужа в угол кареты.
— Он умер! — простонала она.
— Я, защищая свою честь, убил твоего любовника!.. — сказал князь.
Глаза ее сверкнули гневом. Она уже готова была защищаться, но вдруг замолчала.
Незаслуженное оскорбление возмутило ее.
Если она решилась на это роковое, устроенное графиней свиданье, то только для того, чтобы спасти своего мужа от безумной выходки влюбленного в нее Потемкина, а теперь этот муж, убийца ни в чем не повинного человека, смеет бросать ей в глаза обвинение в неверности.
Она и Потемкин сделались жертвой гнусной интриги злой, хитрой и мстительной женщины; его друг, взявшийся исполнить его поручение, подсказанное благоразумием, поплатился за это жизнью, а этот убийца спокоен и считает себя правым.
— Почему же вы меня так же не убили, как и этого несчастного?.. — произнесла она, судорожно подергивая губами.
— Ты мать моего ребенка! — сказал он. — И, несмотря на все это, я люблю еще тебя…
Она вздрогнула.
— Да, — продолжал он ласково, — это правда, Зина, я все еще тебя люблю, я постараюсь забыть… — сдавленным шепотом проговорил он последние слова.
— Свое преступление… — сказала она.
— Позор, которым ты меня покрыла… — отвечал он. — И если ты хочешь, я могу тебя простить…
Она презрительно пожала плечами и сухо ответила:
— Я не нуждаюсь ни в чьем прощении, а в вашем в особенности… Забудьте сегодняшний день, если можете, а я, я не в силах забыть его.
В это время карета остановилась у подъезда.
Князь вышел и предложил руку жене, чтобы помочь ей, но она сделала вид, что не заметила его протянутой руки.
Войдя в дом, она тотчас ушла в свою комнату и заперлась изнутри.
XII ПРЕДСМЕРТНАЯ ЗАПИСКА
Оставшись наедине с собой, княгиня опустилась в кресло, закрыла лицо руками и неудержимо зарыдала.
Напряженные с того момента, как она очнулась в карете и вспомнила все, нервы не выдержали, и она должна была найти исход в слезах, крупными каплями катившихся из глаз несчастной женщины.
Ее муж — убийца ни в чем не повинного человека! Она участница этого преступления, главная причина смерти товарища друга ее детских игр, предмета ее первой и, кажется, последней любви — Потемкина.
Она вся дрожала при этом воспоминании.
Вдруг ей пришла на память графиня Клодина.
Лицо княгини исказилось от внутреннего волнения.
О как она ненавидела теперь эту женщину!
— Это чудовище! — вслух произнесла она с омерзением.
Она бросилась на колени перед висевшими в углу образами, ломала руки, рыдала и молилась.
В опустевшем домике на Васильевском острове происходила между тем другая, полная ужаса сцена предсмертных мук молодого офицера.
Он видел, как князь унес жену, и понял, что последний принял его за любовника, разбившего его семейное счастие.
Евгений Иванович хотя и присел на полу, но чувствовал себя очень слабым.
Он сознавал опасность своего положения и не обольщался надеждой на возможность жить.
В его уме сложилась какая‑то странная уверенность, что он ранен смертельно.
Вследствие этого он откинул всякую мысль о себе и задумался над положением остальных действующих лиц в этой роковой драме, где он разыграл роль случайной жертвы.
Только случайной — это он хорошо понимал.
Сидевшие в нем пули предназначались Потемкину. Последний, конечно, не знал об этом, посылая его на это роковое свидание.
Эта дама и ее муж, несомненно, принадлежат к высшему петербургскому свету, и ни он, ни она не повинны в его смерти. Она, понятно, менее всех, придя на свидание любви, рассчитывала сделаться свидетельницей убийства. Он, застав свою жену с любовником, каковым должен был быть сочтен каждый мужчина, находившийся наедине с его женой, имел нравственное право кровью похитителя его чести смыть позор со своего имени.
Значит, виновных в его смерти нет.
Так решил умирающий.
За что же они пострадают за него, если его труп найдут здесь и начнется следствие?
За что он заставит их испытывать все неприятности полицейских розысков?
Нет, никогда! Ведь этим он не вернет себя к жизни.
С усилием он расстегнул мундир и вынул из кармана записную книжку с карандашом. Вырвав листок, он написал слабеющей рукой следующие строки:
«В смерти моей прошу никого не винить… Я застрелился сам. Костогоров».
Спрятав записную книжку, он сунул в карман и написанную им записку.
Еще минута, и он бы опоздал. В глазах его потемнело, и он лишился чувств.
Пришедший вскоре Акимыч застал бездыханный труп.
Он бросился в полицию, которая вскоре прибыла на место и увезла покойника в часть, впредь до выяснения личности застрелившегося офицера.
Найденная в кармане записка, а в саду револьвер привели полицию к несомненному убеждению, что офицер застрелился.
Оставался открытым вопрос, как, зачем попал он в необитаемый дом графа Переметьева.
Спрошенный Акимыч отозвался положительным незнанием.
— Проветривал я, ваше благородие, комнаты, — отвечал он на вопрос квартального, — может, и забыл запереть входную дверь, а как его милость забрались туда и засели — мне неведомо.
На этом показании старик и уперся.
Весть о самоубийстве офицера на Васильевском острове, доложенная в тот же день государыне полицмейстером, облетела быстро весь город и достигла графини Переметьевой и князя и княгини Святозаровых — этих троих лиц, которые знали более по этому делу, нежели петербургская полиция.
Граф Петр Антонович Переметьев съездил к полицмейстеру, и этот визит сделал то, что неправдоподобному показанию Акимыча о том, что ему неизвестно, каким образом поручик Костогоров очутился в охраняемом им доме, дали полную веру.
На князя известие о найденной записке самоубийцы произвело самое тяжелое впечатление.
«Сильно же он любил ее, если ходил на свиданья, постоянно ожидая смерти, и, чтобы не набросить тень на любимую женщину, носил в кармане свой смертный приговор».
С княгиней произошло нечто необычайное.
Она вдруг безумно, страстно полюбила этого погибшего из‑за нее человека.
Утро другого дня застало ее не сомкнувшею глаз всю ночь.
Она провела ее в слезах и молитве за накануне ей неизвестного, а теперь дорогого покойника.
Ее жизнь была разбита — она это чувствовала.
Для нее не существовало теперь ни счастья, ни покоя.
Сердце ее навсегда закрылось для ее мужа.
Его ревность, его постоянно мрачное настроение навсегда оттолкнули ее от него.
Кровь невинного человека, которую он пролил, легла между ним и ею глубокою пропастью.
Они не могли более жить вместе.
Княгиня решила уехать и жить вдали от людей, похоронив свою молодость.
Только мысль о ребенке немного останавливала ее — она знала, что его не отдадут ей.
Но страсть и отвращение ее к мужу преодолели в ней материнское чувство.
Ее ребенок и без того так мало принадлежал ей.
Более всего ее гнала от мужа одна мысль, что он может подумать, что она хочет оправдаться перед ним. Она, напротив, не хотела, чтобы он хотя на минуту усомнился в ее виновности.
В этом она находила удовлетворение своей гордости, возмездие за свое глубоко оскорбленное чистое сердце.
Не хотела ли она своим молчанием пробудить в душе мужа угрызения совести?
Может быть!
Она боялась одного, что муж не пустит ее, что он захочет продолжать эту невыносимую для нее совместную жизнь.
Она встала с постели, отперла дверь и дернула за сонетку.
Через несколько минут появилась ее горничная Аннушка, молодая, миловидная брюнетка со вздернутым носиком и бойкими глазами.
— Анюта, прикажи принести сюда из гардеробной сундуки и чемоданы и уложить все мои вещи.
Аннушка хотя и знала от прислуги о размолвке между князем и княгинею, но все же сделала удивленный вид и остановилась, как бы не поняв приказания.
— Что же ты стоишь, разве не поняла меня?
— Поняла, ваше сиятельство, но разве вы… — девушка остановилась.
— Что «разве я»?
— Уезжаете?
— Да, я еду…
— Далеко?..
— Ты это увидишь, так как я возьму тебя с собою.
— Я готова ехать с вашим сиятельством хоть на край света.
— В таком случае торопись, так как мы должны уехать сегодня же.
Князю Андрею Павловичу не замедлили доложить, что княгиня готовится к отъезду.
Не прошло и часу после отданного Зинаидой Сергеевной приказания, как князь вошел в ее комнату.
— Правда ли, что вы хотите уехать?
— Да, даже сегодня…
— Сегодня!
— Это мое право…
— Может быть… Но вы не сделаете этого. Зина, умоляю тебя, обдумай хорошенько, пока есть время. Выслушай меня. Я люблю тебя, так люблю, что хочу забыть о случившемся.
Она покачала годовой.
— Князь, есть вещи, которые не забываются: кровь, которую вы пролили, покойник, который нас разлучает.
Андрей Павлович посмотрел на жену мрачным взглядом.
— Мне странно слышать от вас такие речи. Если я вас не упрекаю, если я не требую от вас отчета в поругании моего имени, то вы бы должны были молчать так же, как и я. Тот не преступник, кто защищает свою честь. Я убил негодяя!..
— Князь, не надругивайтесь над своей жертвой!
— Вы решаетесь заступаться за него при мне!
— Перед вами и перед целым светом.
— Но ведь это бесстыдство! — воскликнул он.
— Нет, князь, это только справедливо.
— Но ведь это был ваш любовник!
Княгиня промолчала, но потом вдруг спросила:
— Если вы думали, что я опозорила ваше имя, зачем вы не убили и меня?
— Признаюсь, у меня была эта мысль, но я вспомнил о нашем ребенке, и моя рука не поднялась на тебя… Твой сын защитил тебя… Он еще более, чем моя любовь, заставляет меня простить тебя и позабыть о случившемся… Ему одному ты должна быть благодарна за мое снисхождение… Я умоляю тебя остаться…
— Я твердо решила уехать, князь… Я хорошо обдумала. Мы не можем больше жить вместе.
— Да, конечно, я возбуждаю в вас отвращение, — сказал он глухим голосом. — Это понятно. Вы меня никогда не любили, а теперь вы меня ненавидите за то, что я убил вашего любовника.
Княгиня задрожала, глаза ее блеснули, но она не ответила ничего.
Она внутренне поклялась не защищаться ни одним словом.
— Вы мне не отвечаете?
— Это правда, я вас не люблю, — сказала она наконец. — Я не скажу, чтобы вы в меня вселяли ненависть, но мне жутко около вас… Я вас боюсь.
— Если вы уедете, то никогда не увидите вашего сына.
— Я это знаю.
— И это вас не удерживает?
— Нет…
— Могу я спросить вас хотя, куда вы едете?
— В мое имение, в Смоленскую губернию.
— Если вы так настойчиво решили, я вас не задерживаю.
Князь вышел.
В этот же день вечером княгиня выехала из Петербурга.
XIII ВЕЩИЙ СОН
Как громом среди ясного, безоблачного неба был поражен Григорий Александрович Потемкин при известии о смерти своего друга и посланника Костогорова.
Он хорошо понял, что за полицейским протоколом о самоубийстве Евгения Ивановича скрывается целая потрясающая жизненная драма, разыгравшаяся в необитаемом домике на 10–й линии Васильевского острова.
В своем пылком воображении Потемкин легко и подробно нарисовал себе почти близкую к истине картину появления оскорбленного мужа в момент разговора Костогорова с княгиней Святозаровой.
Но каким образом князь узнал о месте и времени этого свидания?
Интрига графини Переметьевой стала ясна Григорию Александровичу. Устройство этого свидания было местью со стороны отвергнутой невесты князя Святозарова. Григорий Александрович знал подробности сватовства князя в Москве — она и уведомила князя, она и направила орудие смерти на голову несчастного Костогорова, получившего пулю в сердце, предназначенную для него, Потемкина.
Григорий Александрович вздрогнул и невольно перекрестился.
Он был спасен положительно чудом.
Графиня Клавдия Афанасьевна своим змеиным языком сумела раздуть в неудержимое пламя тлевшую в его сердце искру любви к Зинаиде Сергеевне, и он не только решил идти на свидание с ней, но даже умолял графиню ускорить его; он заранее рисовал себе одну соблазнительнее другой картины из этого будущего свидания.
Несколько дней перед тем провел он почти в лихорадочном состоянии; несколько ночей без сна. В ночь под роковую субботу он также не мог сомкнуть глаз почти до рассвета, но утомленный организм взял свое, и под утро Григорий Александрович забылся тревожным сном.
Вдруг… Он ясно не мог припомнить, было ли это во сне или в полубодрственном состоянии, он увидал себя перенесенным в Москву, в келью архиерея Амвросия. Ему представилась та же обстановка свиданья с богоугодным старцем, какая была перед отъездом его в Петербург более двух лет тому назад.
— Не ходи, сын мой, оставайся, на погибель себе и ей идешь… — явственно услышал он голос Амвросия.
Три раза повторил старец эту фразу.
Потемкин проснулся или, лучше сказать, очнулся от этого кошмара, обливаясь холодным потом.
«На погибель себе и ей идешь…» — звучали в его ушах слова, слышанные во сне.
Они дали толчок другому направлению его мыслей.
Он начал рассуждать.
Это самое верное лекарство для влюбленных.
К каким последствиям могло привести в счастливом случае это свидание? Сделаться любовником княгини. Жить постоянно под страхом светского скандала. Каждую минуту на самом деле готовить гибель себе и ей! То чувство, которое он питал к ней в своем сердце, было первой чистой юношеской любовью, далеко не жаждущей обладания. Ему даже показалось, что обладание ею низведет ее с того пьедестала, на котором она стояла в его воображении, поклонение заменится страстью, кумир будет повержен на землю.
Он вспомнил, кроме этого, другой образ, виденный им недавно в Петергофе, лучезарный образ величественной, гениальной женщины, в руках которой находились судьбы России и милостивая улыбка которой была, быть может, для него преддверием почестей, славы, кипучей деятельности на пользу дорогого отечества, возвышения к ступеням трона великой монархини.
В нем проснулось честолюбивое чувство.
Петергофский образ заслонил собой образ московский.
«На погибель себе и ей идешь!» — снова прозвучали в ушах слова его вещего сна.
Он сидел раздетый на кровати в маленькой петербургской квартирке на Морской улице. Он жил в ней вместе со своим приятелем, Евгением Ивановичем Костогоровым, и даже их кровати стояли рядом.
Он познакомился с Костогоровым вскоре после приезда из Москвы, и через месяц–два они стали друзьями и даже из экономии поселились на одной квартире.
«Попрошу Костогорова… — думал Григорий Александрович, смотря на спавшего крепким сном Евгения Ивановича. — Писать неудобно, не ехать совсем и заставить ее понапрасну ждать еще неудобнее; пусть он съездит и деликатно, нежно, — он это умеет, — объяснит ей все горькие последствия мгновенного счастья…»
Спавший Евгений Иванович Костогоров был в своем роде человек примечательный.
Круглый сирота и уроженец Петербургской губернии, он потерял своих родителей, которых Он был единственным сыном, в раннем детстве, воспитывался в Петербурге у своего троюродного дяди, который умер лет за пять до времени нашего рассказа, и Евгений Иванович остался совершенно одиноким.
Всегда ровный характером, мягкий, обходительный, готовый на услугу, он был кумиром солдат и любимцем товарищей. Была, впрочем, одна странная черта в его характере. Несмотря на обходительность и услужливость, он умел держать не только товарищей, но и начальство в почтительном отдалении, внушая им чувство уважения, препятствовавшее сближению, и в особенности тем отношениям, которые известны под метким прозвищем амикошонства [5].
Сам он тоже держал себя в стороне от всех, но эта наклонность к уединению, эти старания избегать шумных компаний объяснялись добродушно знавшими его людьми созерцательностью его характера, его набожностью, действительно сильно развитою, и нисколько не оскорбляли товарищей, по–прежнему относящихся к нему со смешанным чувством любви и уважения.
С Григорием Александровичем свело Костогорова именно это чувство набожности. Только что готовившийся поступить в монахи, уйти от мира и его соблазнов, попавший в полк чуть ли не прямо из монастырской кельи, Потемкин, конечно, представлял из себя находку для Евгения Ивановича. Они очень скоро сделались приятелями, а затем и друзьями.
Этому способствовало и еще одно драгоценное свойство в характере Потемкина: он не любил, как он выражался, рыться в чужой душе, он предоставлял человеку высказаться самому, но никогда не расспрашивал.
Люди же с характером, как у Костогорова, страстно желают высказаться, но высказаться по своей воле, так как малейшее поползновение узнать что‑нибудь от них пугает их, и они уходят в самих себя, как улитка в свою раковину.
К этому‑то Костогорову и решил обратиться с просьбой заменить его на свиданье с княгиней Григорий Александрович.
Он припомнил теперь, как охотно и быстро согласился Евгений Иванович исполнить его просьбу, оказавшуюся роковой, несмотря на то что Потемкин не сказал ему даже имени дамы, с которой ему придется иметь объяснение.
В общих чертах лишь передал он своему другу историю своей любви и возникновение мысли о назначенном свиданье.
О причине, заставившей его отказаться ехать самому, Григорий Александрович умолчал.
Один Потемкин знал тайну смерти несчастного Костогорова. Все остальные, знавшие покойного, как на причину его самоубийства указывали на странности, обнаруживаемые при его жизни, и посмертная записка умершего — эта последняя, как это ни странно, чисто христианская ложь являлась в их глазах неопровержимым документом.
Найденный в саду пистолет, разряженный на оба дула, в другое время мог вызвать на размышление, так как являлось крайне странным, что самоубийца пускает в себя разом две пули и бросает в сад орудие самоубийства. Роскошь отделки пистолета могла вызвать соображение о непринадлежности его покойному, человеку бедному, жившему незначительным доходом с маленького имения в Петербургской губернии.
Соображения эти, впрочем, не пришли почему‑то в голову тем, кому следовало.
Евгений Иванович Костогоров был признан самоубийцей и, как таковой, при строгости тогдашних духовных властей, был лишен церковного погребения.
Товарищи покойного, в числе которых был и бледный как смерть Потемкин, проводили тело Костогорова за черту Смоленского кладбища [16] и, неотпетое, опустили в одинокую среди поля могилу.
Григорий Александрович вернулся с похорон разбитым и нравственно, и физически.
Он разделся и в течение целой недели, сказавшись нездоровым, не выходил из комнаты. Это был первый припадок хандры, потом преследовавшей его всю жизнь.
Образ покойного Костогорова как живой стоял перед ним, и Потемкин с рыданиями падал ничком на подушку, не смея по целым часам поднять головы.
Видение исчезало, и на смену появлялось перед Григорием Александровичем смеющееся, злобное лицо графини Клавдии Афанасьевны Переметьевой.
Потемкин в бессильной злобе сжимал кулаки.
Злоба была действительно бессильна, так как на другой день после «самоубийства» Костогорова графиня уехала из Петербурга, как говорят, в Москву, к своей матери, об опасной болезни которой она получила будто бы известие.
Отвратительный демонический образ графини сменялся печальным обликом княгини Зинаиды Сергеевны.
У Потемкина останавливалось сердце.
Только теперь, когда на любимую им женщину обрушилось несчастье, он понял, как действительно сильно он любил ее, как действительно сильно он любит ее и теперь.
С каким неземным наслаждением он припал бы к ее коленям и вместе с ней выплакал их общее горе, созданное их разлукой.
Зачем, зачем он предоставил Костогорову право умереть у ее ног?
Это право было его — он отдал его.
Он стал завидовать лежавшему в одинокой могиле.
«Видеться с ней? — мелькнуло в уме. — Нет! Никогда!»
Между ним и ею лежал труп его друга.
XIV СТРАШНЫЙ ЗАМЫСЕЛ
Вскоре в великосветских гостиных Петербурга распространилась весть об отъезде в свое родовое имение княгини Зинаиды Сергеевны Святозаровой.
Светская сплетня сделала свое дело, и имя княгини и ее странный, таинственный отъезд начали сопоставлять с не менее таинственным почти бегством из Петербурга графини Переметьевой и странно совпавшим с этими двумя эпизодами самоубийством офицера в необитаемом доме покойной графини Переметьевой.
Смерть графа Петра Антоновича Переметьева, происшедшая от апоплексического удара, поразившего старика через какую‑нибудь неделю после отъезда его молодой жены, подлила масла в огонь, и светские россказни обо всех этих происшествиях приобрели почти легендарную окраску.
Мы не будем рассказывать эти подчас довольно пошлые вариации светских сплетен, так как все они были далеки от той истины, которую мы, по праву бытописателя, открыли перед нашими читателями, скажем лишь, что эти толки заняли около месяца, срок громадный для скучающих одним и тем же известием и жаждущих новизны светских кумушек.
Отметим лишь один светский пересказ происшедшего, не лишенный благородно–рыцарской, романтической подкладки. Говорили, что покойный Костогоров влюбил в себя обеих задушевных подруг — княгиню Святозарову и графиню Переметьеву, и они обе назначили ему свидание в домике на Васильевском острове, чтобы он окончательно выбрал одну из них.
Костогоров, со своей стороны также влюбленный в обеих, не мог решиться, кому отдать предпочтение, и, чтобы не принадлежать ни той, ни другой, покончил с собой, пустив себе в сердце две пули, дабы убить в нем обе любви.
Князь Святозаров и граф Переметьев, узнав о коварстве своих жен, выгнали их из своих домов. Граф не перенес удара и умер; князь же отдался всецело воспитанию своего сына Василия, запершись у себя дома даже от близких друзей.
Известие об отъезде княгини Святозаровой достигло наконец и Григория Александровича Потемкина.
Чутким сердцем понял он, в связи с рассказом о жизни княгини, слышанным им от графини Переметьевой, всю разыгравшуюся семейную драму в доме князя Святозарова.
Из воспоминаний своего самого раннего детства он знал, что такое ревность необузданного мужчины. Его отец Александр Васильевич был человек гордый, порою необузданный и не стеснявшийся в своих желаниях, насколько это позволяло ему его положение. Так, при живой еще первой жене он женился на второй — Дарье Васильевне, урожденной Скуратовой, и всю свою жизнь мучил ее своими ревнивыми подозрениями.
Григорий Александрович вспомнил, сколько раз обливала эта несчастная женщина прижатую к ее груди его белокурую головку горячими слезами несправедливой обиды.
Выдержала ли бы она, если бы ревнивец–деспот вскоре не умер.
Потемкин старался узнать, куда именно уехала княгиня Святозарова, и, узнав, что ее родовое именье находится по соседству с маленьким именьицем его матери, тотчас отписал ей, прося постараться завести знакомство с княгиней и отписывать ему, что бы с ее сиятельством ни приключилось, держа в секрете это его поручение.
Мать Григория Александровича Дарья Васильевна, жившая безвыездно в своем именьице, скоро ответила на эту просьбу сына полным согласием, а затем описала и первое посещение ею княгини, которая приняла ее «милостиво и ласково» и показалась ей «сущим ангелом».
Вскоре пришло и второе письмо, в котором Дарья Васильевна уже прямо хвасталась пред сыном своей близостью к княгине Святозаровой. «Взяла она меня, старуху, к себе в дружество», — писала она и в доказательство приводила то обстоятельство, что княгиня поведала ей, что «она уже четвертый месяц как беременна». «Как она, голубушка, радуется, сына‑то у ней муж–изверг отнял, Господь же милосердный посылает ей другое детище как утешение», — кончала это письмо Дарья Васильевна.
На самом деле, когда княгиня узнала, что она готовится вторично быть матерью, невыразимая радость наполнила ее сердце.
У ней отняли первого ребенка, но Господь ее вознаградил, сжалившись над ней.
На коленях она благодарила Бога за это счастье.
Перед ней открывалась новая жизнь. Наступившая пустота будет наполнена, она будет жить для своего дорогого ребенка, она прольет на него всю теперь поневоле скрытую нежность своего любвеобильного сердца.
Она в первый раз плакала от радости. Ее посетила мысль о муже:
«Если бы он теперь приехал, я бы открыла ему свои объятия, я бы рассказала ему всю правду, я бы полюбила его — отца моего дорогого будущего детища…»
На другой же день она написала ему письмо.
«Господь меня не оставил. Он нас разлучил, но Он дает каждому из нас по ребенку, через пять месяцев я сделаюсь снова матерью», — написала она между прочим.
Она хотела прибавить: «Приезжай, я хочу забыть все, что произошло, я тебе докажу свою невиновность, и мы еще будем счастливы», но проснувшаяся снова в ее сердце гордость помешала ей написать эти строки.
Письмо княгини в том виде, в каком оно было написано, возбудило в князе Андрее Павловиче снова лишь сомнение и ревность.
Известие о беременности жены поразило его так сильно, что он чуть было не сошел с ума.
Несчастный рассчитывал время с самыми мучительными подробностями, и по его расчету выходило, что этот ребенок не его.
Это убеждение укрепилось в его уме.
Он оставил письмо жены без ответа, нанес ей таким образом новое оскорбление.
Она поняла, что между ней и ее мужем — все кончено.
Князь между тем в муках своих страшных сомнений не имел покоя ни днем ни ночью.
Всего более возмущало его то обстоятельство, что этот незаконный ребенок в один прекрасный день явится на свет, — к довершению удара, это будет сын, — под его именем и обкрадет его любимого сына, возьмет его титул и половину наследства.
Этого он не мог допустить ни в каком случае.
Но как?
Для достижения этого необходимо было одно, чтобы этот ребенок исчез.
Это был единственный выход.
Но нельзя же стереть ребенка с метрического свидетельства — значит, он не должен был иметь метрического свидетельства.
Но как это сделать?
Над этой‑то думой князь проводил бессонные ночи.
Наконец в голове его созрел план, который показался ему самым удачным.
Ребенка необходимо украсть тотчас после его рождения и подкинуть кому‑нибудь, как незаконного.
Он позвал в кабинет своего камердинера Степана Сидорова, которого все в доме, начиная с самого князя, называли сокращенно Сидорыч.
Это сокращение не было унизительно, а, напротив, указывало на некоторое почтение к близкому к барину слуге.
Сидорыч был однолеток графа и когда‑то товарищ его детских игр. Он боготворил графа и готов был за него идти буквально в огонь и воду.
Второе он даже доказал на деле, спасши тонувшего князя, когда еще последний был мальчиком.
Эта услуга, в связи с привычкой, сделала то, что Сидорыч стал необходимым для князя человеком, поверенным его сокровенных тайн, даже советчиком.
Он был человеком природного ума и, находясь постоянно при князе, даже вкусил от образованности, хотя очень поверхностно.
Впрочем, и образование самого князя не было особенно глубоким.
— Сидорыч, — сказал ему князь, — я знаю, что ты мне предан, ты доказывал мне это не раз, я за это платил тебе своей откровенностью. Чего я не мог тебе сказать, ты, вероятно, догадывался сам. Таким образом, ты знаешь все мои тайны, даже семейные… Сегодня я должен тебе дать очень важное поручение, которое будет новым доказательством моего к тебе доверия… Но раньше я должен быть вполне уверен, что ты готов мне слепо повиноваться.
— Вы знаете, ваше сиятельство, что на меня можно положиться! — просто отвечал Степан.
— Хорошо, так слушай! Княгиня, ты знаешь, беременна…
Камердинер почтительно наклонил голову в знак того, что это обстоятельство ему известно.
— Через каких‑нибудь два–три месяца у нее родится ребенок.
— Ваше сиятельство так любите детей, что, конечно, это доставит вам большую радость! — заметил Степан полупочтительно–полуфамильярно.
Нельзя было определить, звучала ли в его голосе ирония, или же он совершенно искренно произнес эту фразу.
Глаза князя Андрея Павловича сверкнули гневом.
— У меня только один ребенок… Тот, который родится, — не мой, я его не признаю и никогда не признаю.
Степан в ужасе отступил на несколько шагов.
Князь подошел к нему ближе и сдавленным шепотом заговорил.
Слуга почтительно слушал, но видимо было, что речь князя производила на него страшное впечатление.
Он становился все бледнее и бледнее.
— Понял? — спросил его князь.
— Понял! Слушаю–с! — таким же сдавленным шепотом произнес Степан и, шатаясь, вышел из княжеского кабинета.
XV ПРИ ДВОРЕ
Успокоившись за судьбу уехавшей княгини и зная, что мать не преминет исполнить его просьбу и будет сообщать обо всем, что случится с любимой им женщиной, Григорий Александрович перестал хандрить и бросился в водоворот придворной жизни.
Быть может, он старался забыться, а быть может, ко двору его влекло пробудившееся со всей силой честолюбие.
Кроме чина подпоручика гвардии, шестисот душ крестьян молодой Потемкин был сделан камер–юнкером.
Мечты честолюбца исполнялись: первый самый трудный шаг был сделан. Он стал известен государыне, которая невольно обратила внимание на величественного конногвардейца, образованного и остроумного.
В первые годы царствования Екатерины жизнь при дворе была непрерывной цепью удовольствий.
Увеселения были распределены по дням: в воскресенье назначался бал во дворце, в понедельник — французская комедия, во вторник — отдых, в среду — русская комедия, в четверг — трагедия или французская опера, причем в этот день гости могли являться в масках, чтобы из театра прямо ехать на вольный маскарад.
Собрания при дворе разделялись на большие, средние и малые.
На первые приглашались все первые особы двора, иностранные министры, на средние — одни только лица, пользовавшиеся особенным благоволением государыни. На малые собрания — лица, близкие к государыне.
Но последних гостей обязывали отрешиться от всякого этикета. Самой государыней были написаны в этом смысле правила, выставленные в рамке под занавеской.
Правила эти были следующие: 1) оставить все чины вне дверей, равномерно как и шляпы, а наипаче шпаги; 2) местничество и спесь оставить тоже у дверей; 3) быть веселым, однако же ничего не портить, не ломать, не грызть; 4) садиться, стоять, ходить, как заблагорассудится, не смотря ни на кого; 5) говорить умеренно и не очень громко, дабы у прочих головы не заболели; б) спорить без сердца и горячности; 7) не вздыхать и не зевать; 8) во всех затеях другим не препятствовать; 9) кушать сладко и вкусно, а пить с умеренностью, дабы всякий мог найти свои ноги для выхода из дверей; 10) сору из избы не выносить, а что войдет в одно ухо, то бы вышло в другое прежде, нежели выступит из дверей. Если кто против выше писанного проступился, то, по доказательству двух свидетелей, должен выпить стакан воды, не исключая дам, и прочесть страничку «Телемахиды» [17]; а кто против трех статей провинился, тот повинен выучить шесть строк из «Телемахиды» наизусть. А если кто против десяти проступится, того более не впускать.
При входе висели следующие строки, написанные государыней:
Asseyez vous, si vous voulez,
Ou il vous plaira
Sans qu’on vous le repete cent fois [6].
Григорий Александрович был принят сперва на средние, а затем и на малые собрания при дворе.
Государыня оказывала ему свое благоволение. Ей нравились в нем ум, находчивость и смелость.
Он выказывал эти качества очень часто.
Однажды императрица обратилась к нему с каким‑то вопросом на французском языке, и он отвечал ей по–русски.
Один из присутствовавших при этом знатных сановников заметил Потемкину, что подданный обязан отвечать своему государю на том языке, на котором ему задали вопрос.
Григорий Александрович, ни на минуту не смутившись, ответил:
— А я, напротив, думаю, что подданный должен ответствовать своему государю на том языке, на котором вернее может мысли свои объяснить: русский же язык я учу с малолетства…
В другой раз императрица играла в карты с Григорием Орловым. Григорий Александрович подошел к столу, оперся на него рукою и стал смотреть в карты государыни.
Орлов шепнул ему, чтобы он отошел.
— Оставьте его, — заметила государыня, — он вам не мешает.
Распространенное мнение о том, что возвышение Потемкина произошло почти с баснословной быстротою, далеко не верно.
Первые годы его служебной карьеры были из весьма заурядных, и повышение шло довольно обыкновенными шагами.
Будущему «великолепному князю Тавриды» приходилось в это время занимать неподходящие должности и делать страшные скачки от одного дела к другому.
Сперва он занимал казначейскую должность и надзирал за шитьем казенных мундиров; затем заседал за обер–прокурорским столом в Святейшем Синоде, «дабы слушанием, читанием и собственным сочинением текущих резолюций навыкал быть способным и искусным к сему месту», — как сказано в указе Синоду.
Занимая эту должность, он продолжал состоять в военной службе.
Вскоре, кроме того, Потемкин был отправлен курьером в Стокгольм для извещения русского посла, графа Остермана, о совершившейся перемене в правлении.
Там, между прочим, один из шведских вельмож, показывая королевский дворец, ввел его в залу, где хранились трофеи и знамена, отнятые у русских.
— Посмотрите, какое множество знаков славы и чести наши предки отняли у ваших! — сказал вельможа.
— А наши, — отвечал Потемкин, — отняли у ваших еще больше городов, которыми и теперь владеют.
Этот полный достоинства ответ молодого офицера не замедлил сделаться известным при петербургском дворе и в высшем свете.
Государыне особенно понравился этот ответ, и она была одна из ревностных распространительниц его в обществе.
Звезда Потемкина восходила, но восходила не по капризу фортуны–женщины, а в силу на самом деле выдающегося ума и способностей, в которых зоркий глаз повелительницы Севера, славившейся уменьем выбирать людей, усмотрел задатки будущего полезного государственного деятеля.
Служебные занятия у способного и сметливого Потемкина не отнимали много времени.
Свободное время он всецело посвящал двору и свету.
Высшее общество Петербурга в описываемое нами время отличалось широким гостеприимством, и каждый небогатый дворянин мог весь год не иметь своего стола, каждый день меняя дома знакомых и незнакомых.
Таких открытых домов, не считая в гвардейских полках, было множество.
Первыми аристократическими домами тогда в Петербурге признавались царские чертоги следующих сановников: графа Разумовского, князя Голицына, вице–канцлера Остермана, князя Репнина, графов Салтыкова, Шувалова, Брюса, Строганова, Панина, двух Нарышкиных, Марьи Павловны Нарышкиной.
Приемы у этих вельмож бывали почти ежедневно; на вечерах у них гремела музыка, толпа слуг в галунах [7]суетилась с утра до вечера.
Григорий Александрович, в котором принимала участие сама императрица, конечно, был во всех этих домах желанным гостем.
Он был на дружеской ноге с братьями Орловыми, из которых Григорий не называл его иначе как тезкой.
Впрочем, отношения этих знаменитых братьев, Алексея и Григория [18], к Потемкину не были искренни.
Они, как умные люди, предвидели его возвышение, в душе завидовали ему и втайне интриговали.
Много нашептывалось о молодом камер–юнкере государыне, и это нашептывание было несколько раз причиной временного невнимания императрицы к своему будущему знаменитому подданному–другу.
По странной иронии судьбы, Григорий Орлов первый способствовал приглашению Григория Александровича в интимный кружок императрицы.
Потемкин обладал удивительною способностью подделываться под чужой голос, чем нередко забавлялся Григорий Орлов.
Последний как‑то в разговоре с императрицей передал ей об этих «передразниваниях» молодого офицера.
Екатерина пожелала поближе познакомиться с забавником.
Спрошенный о чем‑то государыней, Потемкин отвечал ей ее же голосом и выговором, чем до слез рассмешил ее.
Так проводил жизнь в Петербурге молодой екатерининский орленок, еще не расправивший как следует крылья, чтобы воспарить ввысь к поднебесью и затмить всех орлов ее царствованья, включая и братьев Орловых.
Среди великолепного екатерининского двора, среди вихря светских удовольствий, сменяющихся одно за другим как бы в волшебном калейдоскопе, Григорий Александрович ни на минуту не забывал отдаленного села Смоленской губернии, где жила отшельницей его первая, святая, незабываемая любовь — княгиня Зинаида Сергеевна Святозарова.
С волнением распечатывал он еженедельно получаемые им от матери письма, всегда пространные, в которых словоохотливая старушка шаг за шагом описывала жизнь сиятельной затворницы — «ангела–княгинюшки».
Последнее из этих писем принесло роковое известие.
XVI СООБЩНИК
Время появления на свет второго ребенка князя Святозарова приближалось.
Камердинер князя Степан, которого мы оставили ушедшим неровною походкою из кабинета князя Андрея Павловича, знал в общих чертах судьбу, приготовленную его барином этому имеющему появиться на свет существу.
Добряк по натуре, он дрожал при мысли, что на его долю выпало исполнить это страшное дело.
Он был горячо предан своему барину и ставил своим долгом слепо ему повиноваться, но в этом случае душа его возмущалась и в его сердце происходила тяжелая борьба.
Исход ее был, однако, в пользу князя Андрея Павловича.
Сидорыч не нашел в своей холопской душе достаточно силы, чтобы открыто протестовать против замыслов его сиятельства и честно и прямо отказаться от возложенного на него гнусного поручения.
Он примирился с необходимостью и, как утопающий хватается за соломинку, схватился за мысль, что, может быть, эта чаша пройдет мимо него.
Вскоре он был снова позван в кабинет к князю.
Предчувствуя тему предстоящего разговора, он явился бледный, трепещущий.
Это после описанного нами разговора князя со своим камердинером было уже чуть ли не третье совещание сообщников.
Князю Святозарову, казалось, доставляло наслаждение растравлять рану своего сердца, умышленно бередя ее.
Разговор с единственным человеком, с которым князь мог говорить о своем несчастии, со Степаном, вследствие этого был всегда со стороны князя рассчитанно–продолжительным.
Он то начинал в подробности рассказывать Степану историю своей женитьбы, своей любви к жене и к первому ребенку, ее холодность, ее отчужденность от него, то старался выпытать у него, что он сам знает и думает по поводу его семейного разлада.
Так было и на этот раз.
— Разве ты не знаешь причины, почему княгиня уехала из Петербурга? — спросил, между прочим, Андрей Павлович, пристально смотря на стоявшего перед ним Сидорыча.
— Если ваше сиятельство настаиваете, то я отвечу вам правду — я догадался…
— Тогда, значит, ты знаешь, что жена меня обесчестила.
Степан печально наклонил голову.
— Да! — продолжал князь глухим голосом. — Несчастная имела любовника.
— Вы рассчитались с ним, ваше сиятельство…
— А, ты и это знаешь!..
— Да.
— В таком случае, ты хорошо понимаешь, что ребенок, который должен родиться, не имеет права носить имя князей Святозаровых.
Степан снова испуганно вскинул глаза на своего барина.
— Это не мой ребенок! — выкрикнул уже много раз повторенную им фразу князь.
— Если ваше сиятельство мне позволит… — вставил Сидорыч.
— Говори.
— Я думаю, что ваше сиятельство можете ошибаться.
— Я не ошибаюсь… Но к делу… Итак, ты берешься исполнить мое поручение?..
Степан вздрогнул, но тотчас пересилил себя и с трудом выговорил:
— Для вашего сиятельства я на все готов.
— Слушай же… Необходимо украсть ребенка прежде, нежели его успеют окрестить, а затем надо скрыть его…
— Ваше сиятельство! — только произнес Степан.
— Могу я на тебя рассчитывать или нет? — спросил князь, нахмурив брови.
— Конечно, но…
— Ну?
— То, что ваше сиятельство хочет предпринять, так серьезно…
— Я это знаю, но это необходимо… Я должен это сделать для моего сына.
— Ваше сиятельство подумали о последствиях, которые будут после исчезновения ребенка?..
— Конечно.
— И ваше сиятельство не боится?..
— Я ничего не боюсь, кроме этого незаконного ребенка…
— Но как же исполнить это дело, у вашего сиятельства, вероятно, уже составлен план…
— План… план… — схватился за голову князь. — Никакого определенного плана, надо просто похитить ребенка, пока его еще не крестили, пока он без имени… вот и все…
— Похитить… легко сказать.
— А еще легче исполнить! — с раздражением воскликнул князь. — С помощью этого можно исполнить все, если только человек не глуп как пробка…
Андрей Павлович выдвинул один из ящиков шифоньерки, у которой стоял, и стал кидать из него на письменный стол объемистые пачки крупных ассигнаций.
— Вот тебе средство и плата за услугу… Надо подкупить окружающих княгиню и с помощью их украсть ребенка.
Он продолжал бросать ассигнации. На столе их собралась внушительная кучка.
— Собирайся… и в дорогу… Каждая минута дорога.
Степан стоял как окаменелый. От вида этого богатства, лежавшего перед ним и отдаваемого в его бесконтрольное распоряжение, у него закружилась голова, остановилось биение сердца.
— Собирай же! — крикнул князь хриплым голосом.
— Ваше сиятельство… так много…
— Это мало сравнительно с услугой, но если ты доволен — тем лучше… Но смотри, если ты меня обманешь, я отыщу тебя на дне морском и живого изрежу на столько же частей, сколько тут ассигнаций…
— Все исполню, что смогу, иначе возвращу деньги вашему сиятельству, — отвечал Сидорыч.
— Тогда я убью тебя!.. — воскликнул князь.
Степан собрал пачки, и скоро они исчезли в его объемистых карманах.
— Что же надо делать с ребенком, если удастся украсть его?..
— Надо его отдать в какое‑нибудь бедное семейство на воспитание за хорошее вознаграждение. Я завещаю ему капитал, чтобы он мог жить безбедно, но главное, чтобы он никогда не узнал тайны своего рождения… Все это будет идти через твои руки… Мое имя не должно упоминаться… Об этом мы поговорим после, у нас будет впереди достаточно времени, теперь же поезжай с Богом…
— С Богом…
Печальная улыбка появилась на его губах.
Степан отправился к себе.
Много он передумал за этот день и ночь, которую провел без сна.
На другой день он уехал из Петербурга рано утром.
Князь еще не просыпался.
Он тоже провел бессонную ночь.
Степан выехал из Петербурга на почтовых и, послушный приказанию своего барина, не жалел на водку ямщикам и потому несся, как принято было называть в то время, по–курьерски.
Но ни быстрая езда, ни комфорт, который на средства князя мог позволить себе Сидорыч, не могли освободить его от тяжелых, навязчивых дум о страшном поручении, которое ему придется исполнить.
Его доброе сердце не могло не понимать всей гнусности затеянного им с барином дела, и ему то и дело мерещился во сне и даже наяву бедный, ни в чем не повинный ребенок, отнятый от родной матери и брошенный волей одного человека в совершенно другую обстановку, нежели та, которая принадлежит ему по праву рождения.
Действительно ли, что ребенок незаконный?
Имеет князь на это неопровержимые доказательства или же это лишь простое подозрение, укрепленное злобными чувствами покинутого мужа?!
Такие или почти такие вопросы не давали покоя несчастному Степану ни тогда, когда он как вихрь несся по столбовым дорогам, ни тогда, когда он, утомленный бешеной ездой, отдыхал в отведенной ему лучшей станционной комнате.
Что, если князь отнимает у матери своего собственного ребенка, что, если он его осуждает из пустого подозрения на низкую долю? Тогда ведь поступок его, Степана, является еще более чудовищным. Тогда ведь это такой грех, которому нет и не может быть прощения.
Холодный пот выступал на лбу верного слуги и сообщника князя Андрея Павловича Святозарова.
С другой стороны, Степану был дорог князь Андрей Павлович. Он любил его не только как своего барина, а как товарища детства, друга, родного человека. Для него он готов был на все. Он обещал оправдать его доверие и… оправдает его, хотя бы за это ему пришлось поплатиться геенной огненной.
Но, кроме этой геенны, которая в уме Степана стала представляться для него неизбежной, но с которой он, в силу своей любви к князю, почти примирился, есть и другой суд, суд земной, суд, более близкий, суд, который будет вместе с тем означать, что поручение им не исполнено, так как если он будет уличен в краже ребенка, права Последнего будут восстановлены.
А этого именно и не надо.
Ребенок должен исчезнуть, бесследно, навсегда… Как это сделать?
Роковой вопрос вставал перед ним. Князь разрешил его, указав на силу тех ассигнаций, которые зашиты у него, Степана, в нагруднике и кафтане.
Но такая ли сила они?
Степана начало брать сомнение.
Ведь не будет же княгиня молчать и бездействовать, когда у ней украдут только что рожденного ею ребенка. Ведь у ней есть тоже такая же сила, которую носит на себе Степан, даже, быть может, и большая.
Значит, чья еще возьмет?
Заподозренных окружающих княгиню арестуют, начнут от них допытываться истины и, быть может, даже наверное допытаются. Конец обнаруженной нити доведет до него, Степана, и до самого князя, а таким делам и сама государыня не потатчица, не посмотрит на сиятельное имя, а упечет туда, куда Макар и телят не гоняет!
Волосы становились дыбом под шапкой несчастного Степана.
В таких тяжелых думах он проехал всю дорогу и достиг наконец села Чижева, лежавшего в нескольких верстах от Смоленска и в двух верстах от именья княгини Святозаровой.
XVII СТРАШНЫЙ ТОРГ
Не зная, как и сам князь Святозаров, подробностей устроенного графиней Переметьевой свиданья княгини с Потемкиным, вместо которого явился на него покойный теперь Костогоров, Степан Сидоров избрал своим наблюдательным пунктом над имением княгини Зинаиды Сергеевны усадьбу Дарьи Васильевны Потемкиной, явившись туда под видом проезжего купца–скупщика хлеба и других сельских продуктов.
Усадьба, как мы знаем, отстояла от именья княгини всего в двух верстах и, несомненно, была совершенно пригодна для целей княжеского камердинера.
Домик старухи Потемкиной был старинный, построенный без фундамента, так что пол лежал почти на земле. Дарья Васильевна мало занималась своим домом, заботясь единственно только о тепле. И действительно, зимою у нее бывало жарко, но зато летом полусгнившая тесовая крыша пропускала течь, так что в зале во многих местах бумага, которой был оклеен потолок, отмокла и висела в виде широких воронок. Весной же или в сырую погоду нередко через лакейские и девичьи двери, если они оставались непритворенными, в комнаты проникали лягушки и давали о себе знать неблагозвучным шлепаньем по полу.
В этом домике все было по–старому, как будто жизнь, вошедшая в него в начале восемнадцатого века, забылась в нем и оцепенела; мебель, домашняя утварь, прислуга и, наконец, сама Дарья Васильевна, в ее шлафроке на вате и чепце с широкими оборками, — все носило на себе печать чего‑то, существовавшего десятки лет без малейшего изменения, старого, но не стареющего.
Среди прислуги Дарьи Васильевны самыми приближенными были старик Фаддей Емельянович и его жена Лукерья Петровна.
Для краткости их звали Емельяныч и Петровна.
Первый играл роль дворецкого, а вторая ключницы.
Как Емельяныч, так и Петровна любили выпить; оба они были одарены большими носами, оба были стары и нежно любили друг друга.
Подойдет, бывало, шестидесятилетняя Петровна к семидесятилетнему Емельянычу, так, не говоря ни слова, только посмотрит на него значительно, а Емельяныч, подняв свою седую голову, взглянет через окуляры, всегда торчащие на кончике его носа, пристально в глаза своей Петровны, и вот они уже поняли друг друга.
Фаддей Емельянович возьмет, положит в сторону всегда вертевшийся в руках его чулок со спицами, расседлает нос от окуляров, скинет с гвоздика свой неизменный длиннополый сюртук и ватный картуз, наденет, и вот они рука в руку идут в кладовую, где хранятся травник и другие целебные настойки, откуда через некоторое время возвращаются домой хотя и тем же порядком и с тою же любовью, как пошли, но уже со значительно разрумянившимися носами и уже не той твердой походкой.
В жизнь свою они никогда не ссорились, не спорили и ни в чем не упрекнули друг друга, и когда, гораздо уже позднее нашего настоящего рассказа, умерла Лукерья Петровна, то старик, переживший ее двумя годами, каждое воскресенье ходил версты за три на кладбище, едва передвигая от старости ноги, чтобы только посидеть на могиле своей Петровны.
Появление в усадьбе Дарьи Васильевны заезжего купца, человека бывалого даже в столицах, было приветствуемо гостеприимной по натуре Дарьей Васильевной с живейшей радостью.
Эта радость нисколько не уменьшилась даже и тогда, когда Дарья Васильевна, разговорившись с приезжим за чайком, узнала, что он никогда и не слыхивал о её сыне, офицере Григории Александровиче Потемкине.
Самолюбие матери было только несколько уязвлено.
Степан Сидорович, однако же, скоро изгладил это неприятное впечатление, рассказав кучу питерских новостей, а главное, выразив желание купить излишек хлеба, домашней живности, полотен и других сельских продуктов и выложив перед Дарьей Васильевной пачку ассигнаций в форме крупного задатка.
Старушка, жившая далеко не в большом достатке, при тридцати душах крестьян и двухстах десятинах земли, была очень обрадована свалившимся с неба деньгам и не знала, как угостить и как посадить тороватого гостя.
Ему отвели горенку рядом с помещением Емельяныча и Петровны.
— Ты у нас, батюшка, погости, не стесняйся… Гостю мы рады–радешеньки, — сказала Дарья Васильевна.
Степану Сидоровичу этого только и надо было.
На дворе стоял апрель 1763 года.
В этот год была ранняя весна, и погода стояла уже теплая.
— Погощу, матушка, если позволите, уж больно у вас место хорошо, а и погода стоит расчудесная, а я погулять люблю, подышать чистым воздушком! — отвечал гость.
— Погуляй, родимый, погуляй… — обрадовалась Дарья Васильевна.
Степан Сидорович действительно начал гулять.
Он навел точные справки о состоянии здоровья княгини Зинаиды Сергеевны.
Появления младенца ожидали со дня на день.
В доме находилась повивальная бабка, выписанная из Смоленска.
Все эти сведения Сидорыч получил от Аннушки, горничной княгини Зинаиды Сергеевны, уехавшей вместе с нею, как, вероятно, помнит читатель, из Петербурга.
Последняя, избалованная в столице, до смерти скучала в «медвежьей берлоге», как она называла княжеское именье, где было одно «сиволапое мужичье», с которым, по ее мнению, ей даже говорить не пристало.
Привыкшая к поклонению великосветских лакеев, она не обращала никакого внимания на глазевших на нее парней, не только деревенских, но даже и дворовых, совершенно «неполированных», как определяла их в разговоре с княгиней «питерская принцесса», — насмешливое прозвище, присвоенное Аннушке этими же «неполированными» парнями.
Встрече со Степаном Сидоровичем она обрадовалась, донельзя забросала его расспросами о питерских общих знакомых и тотчас начала жаловаться на свое печальное житье–бытье в медвежьей берлоге.
Хитрый и проницательный Степан Сидорович тотчас догадался, что преданная княгине горничная озлилась на свою барыню за пребывание в глуши и представляет удобную почву для его планов.
Он напрямик заговорил с нею о поручении, которое дал ему князь Андрей Павлович, и о хорошей награде, ожидавшей ее, если она будет усердной помощницей.
Он показал ей пачку ассигнаций.
— Тут три тысячи рублей… и они будут твоими, на них ты можешь и выкупиться на волю, и сберечь малую толику на приданое… В Питере выйдешь за чиновника и заживешь барыней, а князь не оставит и напредки своими милостями, мало — так получай и пять тысяч…
Так говорил соблазнитель.
Степан не ошибся в своей жертве.
Аннушка тотчас поддалась соблазну и продала свою барыню за пять тысяч ассигнациями.
— Надо тоже подмазать и Клавдию Семеновну… — робко заметила она.
Клавдией Семеновной звали повивальную бабку.
— Подмажем, не твоя забота… Ты только оборудуй, погутарь с ней и приведи ее сюда.
— Да как же это… живого‑то ребенка да украсть?.. Ведь там, окромя меня, прислуга есть… Не ровен час, попадешься — под плетьми умрешь… — недоумевала Аннушка.
— Надо так, чтобы не попасться… Да погоди маленько, я это дело обмозгую, еще ведь не скоро.
— Да Клавдия Семеновна говорит, что еще денька четыре, а может, и вся неделька.
— Значит, еще время нам не занимать стать… Погодь, обмозгую…
Степан Сидорович, несмотря на далекий путь, все еще действительно не обмозговал, как безопаснее устроить порученное ему князем страшное дело.
Как он ни думал, ни соображал, все выходило по русской пословице: «Куда ни кинь, все клин».
Покончив переговоры с Аннушкой, он снова стал обдумывать окончательно план, и снова ничего не выходило.
Счастливый или, вернее, несчастный случай помог ему выйти из затруднительного положения, когда приходилось чуть ли не отказываться от исполнения княжеского поручения, сделав половину дела.
Судомойка в доме Дарьи Васильевны Потемкиной — Акулина была тоже на сносях и, полезши в погреб, оступилась и родила мертвого ребенка — девочку.
В доме все завыли и заохали.
В числе сочувствующих несчастью был и Степан Сидорыч, только что вернувшийся со свидания с повивальной бабкой, соглашавшейся помочь его сиятельству за тысячу рублей, только чтобы «без риску» и «под ответ не попасть».
При виде мертвенького младенца Степана Сидоровича осенила мгновенная мысль.
План был составлен.
Он отвел в сторону Емельяныча и шепнул ему:
— Уступи‑ка мне младенца этого мертвенького, не хорони.
Старик даже отступил шага на два от говорившего.
— Что–о-о… Кажись, я недослышал…
— Уступи мне младенца… говорю… двести рублев дам, а то и поболе.
— С нами крестная сила… Сгинь… разрушься… «Да воскреснет Бог и расточатся врази его».
Емельяныч стал истово креститься.
Но дьявол, принявший, по его мнению, образ почтенного купца, не исчезал.
— Уступи, говорю, мне до зарезу надобно; коли двести рублей мало… еще сотнягу набавлю…
Видя, что он имеет дело не со «злым духом», а с человеком, у Фаддея мелькнула мысль, что купец повредился умом, и он опрометью бросился из людской, где лежала больная с мертвым ребенком, к барыне.
— Что еще? — воскликнула Дарья Васильевна, увидя бледного, как смерть, Емельяныча, вошедшего в угловую гостиную.
— С купцом нашим, матушка барыня, неладно…
— С каким купцом?
— Да вот с этим, с питерским…
— Что же случилось?
— В уме, видимо, повредился, родимый!
— Что же он сделал?
— Никаких пока поступков, только несет совсем несуразное.
— Что же, говори толком?
— Младенца просит продать ему за триста рублей.
— Какого младенца?
— Акулинина.
— Мертвого?
— Так точно…
— А ты ноне в амбар ходил?
— Ни маковой росинки.
Дарья Васильевна пристально посмотрела на Фаддея и, убедившись, что он совершенно трезв, сама сперва перетрусила не на шутку и, лить через несколько времени придя в себя, приказала привести к себе Степана Сидорыча.
XVIII НАЧИСТОТУ
Когда Емельяныч привел Степана Сидоровича к Дарье Васильевне, последняя сделала ему чуть заметный знак, чтобы он остался присутствовать при разговоре.
«Еще, оборони Боже, бросится с безумных глаз драться! — мелькнула у нее трусливая мысль.
Она пристально посмотрела на стоявшего перед ней с опущенной головой Степана.
Тот был окончательно смущен.
Осенившая его мысль при виде мертвого ребенка, разрешающая все сомнения и долженствовавшая привести все дело к счастливому концу, до того поразила его, что он тотчас полез с предложением уступить ему мертвого младенца к Фаддею Емельяновичу, не приняв во внимание, что подобное предложение, в свою очередь, должно было поразить старика своей необычайностью, и последний, несмотря на соблазнительный куш, не только откажется, но доведет этот разговор до сведения своей барыни.
Степан Сидорыч все это сообразил только тогда, когда уже старик, снова вошедши в людскую, сказал осторожно и мягко:
— Войди в комнаты, барыня тебя кличет…
Отступать было нельзя, и Степан машинально отправился вслед за Емельянычем, без мысли о том, как ему придется объяснить странное предложение, сделанное Фаддею.
Потому‑то он и предстал перед Дарьей Васильевной с поникшею головою.
— Ты чего это у меня тут смутьянишь… тебя честь честью приняли, как гостя, а ты так‑то за гостеприимство платишь… Думаешь, задаток дал, так у меня и дом купил, так возьми его назад, коли деньги твои в шкатулке в прах не обратились, ты, может, и впрямь оборотень…
Дарья Васильевна говорила отрывисто, стараясь придать возможную строгость своему голосу, хотя внутренне страшно трусила.
Мысль, что он оборотень, показалась до того страшной Степану Сидоровичу, что он невольно вскинул глаза на говорившую.
Дарья Васильевна в них не прочла ожидаемого безумия и несколько успокоилась.
— Что ты за шутки со стариком Емельянычем шутишь? Кажись, он тебе в отцы годится, а на–кось что выдумал, у него мертвых младенцев приторговывать… напугал и его да и меня даже до трясучки… Говори, с чего тебе на ум взбрело такие шутки шутить?..
Степан Сидорович стоял ни жив ни мертв; он чувствовал, что почва ускользает из‑под его ног, что так быстро я так хорошо составленный план рушится… Если он повернет все в шутку, случай к чему давала ему в руки Дарья Васильевна, мертвого младенца зароют, а за ним все‑таки будут следить, и все кончено.
План исполнения воли князя останется снова неосуществимым.
Все это мгновенно промелькнуло в голове Степана.
Он решил действовать начистоту и вдруг совершенно неожиданно для Емельяныча и для Дарьи Васильевны бросился в ноги последней.
— Не вели казнить, матушка барыня, вели помиловать, — заговорил он, лежа ничком на полу.
— Что, что такое, в чем простить?.. — встала даже с кресла Дарья Васильевна.
— Я не купец… не торговец…
— Кто же ты?
— Я камердинер его сиятельства князя Андрея Павловича Святозарова.
— Святозарова? — воскликнула Дарья Васильевна и снова, но уже совершенно машинально, опустилась в кресло.
— Точно так, матушка барыня, точно так–с…
Мы уже знаем, что Дарья Васильевна, по поручению сына, была знакома с княгиней Зинаидой Сергеевной и по ее рассказам, а также из писем Григория Александровича знала, что княгиня разошлась с мужем, который ее к кому‑то приревновал, и уехала в свое поместье, чтобы более не возвращаться в Петербург.
Других подробностей княжеской размолвки она не знала, но и этих сведений для нее было достаточно, чтобы сообразить, что появление камердинера князя близ именья его жены, появление с большой суммой денег, — из рассказов Емельяныча Дарья Васильевна знала, что у купца деньжищ целая уйма, — было далеко неспроста.
Покупка мертвого ребенка, в связи с каждый час ожидаемым разрешением от бремени княгини, — Дарья Васильевна знала это, так как бывала в Несвицком, имений княгини, почти ежедневно и даже отрекомендовала ей повивальную бабку, — тоже показалась для сметливой старушки имеющей значение.
Она вспомнила усиленные просьбы сына: по возможности сообщать ему подробные сведения о княгине и о том, получает ли она какие‑либо вести от своего мужа, то есть князя Андрея Павловича, камердинер которого теперь лежал у ее ног, и решила выпытать от последнего всю подноготную.
— Зачем же тебе или твоему князю понадобился мертвый ребенок? — уже прямо спросила она его.
— Все скажу с глазу на глаз, матушка барыня… — поднял с земли голову, не вставая с колен, Степан.
— Встань, — сказала Дарья Васильевна, уже совершенно оправившаяся от первоначального испуга. — Ступай, Емельяныч, ты мне больше не нужен.
Старик направился к двери, окинув подозрительным взглядом Степана Сидорыча.
Последний все продолжал стоять на коленях.
— Встань! — повторила Дарья Васильевна. — И рассказывай…
Степан поднялся с колен.
— Только не ври… — добавила Потемкина.
— Как на духу расскажу всю истинную правду, матушка барыня, — заявил Степан.
Он действительно во всех подробностях рассказал Дарье Васильевне поручение князя Андрея Павловича, не признающего имеющего родиться ребенка княгини своим, не скрыл и известного ему эпизода убийства князем любовника своей жены, офицера Костогорова, и кончил признанием, что им уже подговорены и горничная княгини, и повивальная бабка.
— Господи Иисусе Христе, Господи Иисусе Христе… — только шептала про себя набожная Дарья Васильевна, слушая страшный рассказ княжеского камердинера.
— Что же вы с младенцем этим делать‑то хотите, изверги? — прерывающимся от волнения голосом спросила она.
— Князь, как я вам докладывал, изволил приказать украсть раньше, чем его окрестят, чтобы, значит, он его фамилию не носил… Наша холопская доля — что приказано, то и делать надо… князь‑то у нас строг да и человек сильный… У самой государыни на отличке… Только как украсть‑то несподручно… княгиня тоже молчать не станет… и тоже управу найдет… так оно и выходит по пословице: «Паны дерутся, а у холопов чубы трясутся».
— Что же делать?
В силе и значении князя Святозарова Дарья Васильевна не сомневалась; она слышала сама эту фамилию, да и сын писал ей о его несметном богатстве и высоком месте при дворе. Бороться против его воли ей, как и Степану, казалось немыслимым, потому‑то она даже повторила как‑то рассеянно:
— Что же делать?
— Да уж я давно ума приложить к этому делу никак не сумею… Надумал я одно… тысячу–другую рублев повивальной‑то отвалить… согласится, живорезка… только уж грешно больно… младенец невинный… ангельская душа…
— Что же ты надумал?
— Да так, легонько давнуть, как принимать станет… много ли ему, ангельчику, нужно, и дух вон…
— С нами крестная сила! — не своим голосом крикнула Дарья Васильевна. — Душегубство какое задумал… И из головы это выбрось… грех незамолимый…
— Знаю, матушка барыня, знаю, и самому во как боязно, только что же поделаешь, тоже свою шкуру от князя спасать надо… Живого не украсть, как он приказал, а иначе никак не сообразишь, как и сделать… Княгиня‑то тоже не наша сестра, заступу за себя найдет…
— Ох, Господи! — вздохнула совершенно ошеломленная Потемкина.
— Вот, матушка барыня, как увидел я мертвенького Акулинина младенца, и озарила меня мысль — без греха тяжелого дело это оборудовать, и княжескую волю исполнить, и ангельской души не губить…
— Это как же?
— Подменить…
— Что–о-о?
— Подменить младенцев‑то… Акулинин‑то сойдет за княгинюшкина, а княгинюшкин‑то сюда, будто он Акулинин, а князь за деньгами не постоит, его на всю жизнь обеспечит… Уж больно я той мысли возрадовался, матушка барыня, да Емельянычу и бухнул… а он вишь как перепугался да и вас перепугал, матушка барыня!
Степан замолчал.
Дарья Васильевна тоже молчала, низко опустив свою седую голову.
Она думала.
План Степана Сидоровича относительно подмены ребенка показался ей не только удобоисполнимым, но и чрезвычайно удобным в том отношении, что она всегда будет в состоянии возвратить ребенка его матери и раскрыть гнусный поступок князя и его слуги. Для всего этого ей нужно было посоветоваться с сыном, которому она подробно и опишет все происшедшее здесь и сделает так, как он ей укажет.
«Ему с горы виднее, а мы здесь люди темные!» — мелькнуло в ее голове.
Горой почему‑то она считала Петербург.
— Что же вы мне, матушка барыня, скажете, как ваша милость решит, так и быть…
— Что же, по–моему, ты дело надумал… Я распоряжусь, поговорю с Емельянычем, возьми ребенка, а княгинина принеси сюда, да поосторожней, не повреди как‑нибудь да не простуди…
— Уж будьте покойны, матушка барыня, в целости и сохранности предоставим. Дозвольте к ручке вашей милостивой приложиться, сняли вы с меня петлю вражескую… от геенны огненной избавили…
Дарья Васильевна протянула Степану руку.
Тот горячо поцеловал ее.
Потемкина не чувствовала, что на ее руку капнуло что‑то горячее.
Степан плакал.
С его души на самом деле спала страшная тяжесть. Исполнить волю князя теперь было более чем возможно.
Она и была исполнена…
После разговора Дарьи Васильевны с Емельянычем Степан вышел на свиданье со своими сообщниками со свертком в руках.
В эту же ночь княгиня Зинаида Сергеевна Святозарова родила мертвого ребенка — девочку.
В доме же Дарьи Васильевны, в ее спальне, появилась люлька, где спал сладким сном спеленутый здоровый новорожденный мальчик.
Акулина была рада, что за ее ребенком, — от нее, когда она на другой день пришла в себя, скрыли подмену, — так ухаживает барыня, допуская ее лишь кормить его грудью.
Дарья Васильевна обо всем подробно написала сыну.
Это‑то роковое известие и получил от матери Григорий Александрович.
XIX ЕКАТЕРИНА–ЧЕЛОВЕК
В то время, когда совершились описанные нами в предыдущих главах события, которыми семья Потемкиных, сперва сын, а затем мать, роковым образом связала свою судьбу с судьбою семьи князей Святозаровых, Григорий Александрович вращался в придворных сферах, в вихре петербургского большого света, успевая, впрочем, исполнять свои различные обязанности.
Его выдающиеся способности позволяли ему употреблять на это гораздо менее времени, нежели бы понадобилось другому, и сама государыня, следя за успехами выведенного ею в люди молодого офицера, все более и более убеждалась, что не ошиблась в нем, что его ум, энергия и распорядительность принесут в будущем несомненную пользу государству, во главе которого поставила ее судьба.
Своим зорким взглядом великая монархиня провидела в Потемкине государственного деятеля, имя которого не умрет на скрижалях истории.
Но, несмотря на это, возвышения в чинах Григория Александровича, как мы уже имели случай заметить, шли Далеко не быстро, — государыня, видимо, испытывала его.
Потемкин, со своей стороны, платил ей восторженным благоговением, и это чувство придавало ему бодрость, веру в свои силы в достижении дели, которая, как мы знаем, была та же, что и в ранней его юности, и выражалась тою же формулою: «Хочу быть министром».
Эта мысль и эта уверенность преследовали Григория Александровича с утра до вечера и с вечера до утра, и, суеверный по природе, он еще более укрепился в них после виденного им сна, показавшегося ему чрезвычайно знаменательным.
Этот сон он видел как раз после получения им письма от Дарьи Васильевны, в котором старушка обстоятельно описывала совершившийся «пассаж» в доме княгини Святозаровой, просила совета, что сделать с посланным ей Богом при таких исключительных обстоятельствах ребенком.
Григорий Александрович несколько раз перечитал письмо, прежде чем принялся за ответ.
Он был сильно взволнован.
Все недавнее прошлое восстало перед ним, образы несчастного Костогорова и не менее, если не более, несчастной княгини Зинаиды Сергеевны появились один за другим перед его духовным взором.
— Нет, князю не удастся его дикая, нелепая месть… — вслух промолвил Григорий Александрович. — К тому времени, когда этот ребенок вырастет, я буду в силе, и эта сила даст мне возможность восстановить его права… Теперь же пусть пока его сиятельство вместе со своими достойными сообщниками утешаются мыслью, что достигли своей цели — повергли в ничтожество незаконного сына княгини…
Он сел писать письмо матери.
Он писал долго и медленно, и поздняя ночь застала его за этой работой.
Наконец он окончил и запечатал пакет.
Измученный пережитым и перечувствованным, он, наскоро раздевшись, бросился в постель, но долго не мог заснуть, княгиня и ее сын не выходили из его головы.
«Я возвращу ей его, когда буду министром…»
С этим решением он заснул.
Странный сон посетил его.
Он увидел себя в обширной, светлой комнате, стены которой увешаны громадными зеркалами.
В глубине этой комнаты на высоком троне сидела императрица в наряде, который она надевала в высокоторжественные дни, в бриллиантовой короне на голове, в светло–зеленом шелковом платье с длинными рукавами, в корсаже из золотой парчи, на котором одна под другой были приколоты две звезды и красовались две орденские ленты с цепями этих орденов.
Вся фигура императрицы была как бы прозрачной, и от нее лился лучами какой‑то фосфорический свет.
В комнате никого не было, кроме него, Потемкина.
Он преклоняет колена перед этим чудным видением и, случайно взглянув в одно из зеркал, видит, что несколько лучей, исходящих от императрицы, освещают его фигуру, так что и он сам кажется облитым фосфорическим светом.
Но странное дело: вдруг какая‑то темная дымка окружает его фигуру — он перестает видеть свое отражение в зеркалах, тогда как образ «русской царицы» разгорается все ярче и ярче.
Потемкин проснулся.
Снова величественный образ монархини наполнил его сердце, вытеснив оттуда все воспоминания прошлого.
Отправив наутро письмо, Григорий Александрович отдался суете придворной жизни, работе, вознагражденный за последнюю лицезрением своей «богини», как он мысленно называл государыню.
Не один он, впрочем, боготворил в то время императрицу — ее боготворила вся Россия.
Ее любили не только люди, но и животные.
Последние, даже те, которые дичились всяких ласк, встречая государыню, давали ей себя ласкать, чужие собаки со двора прибегали к ней и ложились у ее ног. После бывшего незадолго до нашего рассказа большого пожара в Петербурге голуби слетелись тысячами к ее окнам и нашли там пристанище и корм.
Про ангельскую доброту государыни ходили по городу целые легенды.
Императрица вставала в шесть часов, когда в Зимнем дворце все спало, и, не беспокоя никого, сама зажигала свечи и разводила камин.
Однажды она услыхала громкий, неизвестно откуда исходящий голос:
— Потушите, потушите огонь!..
— Кто там кричит? — спросила она.
— Я, трубочист, — отозвался голос из трубы.
— А с кем ты говоришь?
— Знаю, что с государыней, — отвечал голос. — Погасите только поскорее огонь, мне горячо.
Императрица тотчас сама залила огонь.
Она не любила тревожить прислугу и часто говаривала:
— Надо жить и давать жить другим.
Если она звонила, чтобы ей подали воды, и камер–лакей спал в соседней комнате, то она терпеливо ждала.
Встав с постели, государыня переходила в другую комнату, где для нее были приготовлены теплая вода для полоскания рта и лед для обтирания лица.
Обязанность приготовления всего этого лежала на особой девушке, камчадалке Алексеевой, часто бывавшей неисправной и заставлявшей императрицу подолгу ждать.
Раз Екатерина рассердилась и сказала:
— Нет, уж это слишком часто, взыщу, непременно взыщу…
При входе Алексеевой она, впрочем, ограничилась следующим выговором:
— Скажи мне, пожалуйста, Екатерина Ивановна, или ты обрекла себя навсегда жить во дворце? Смотри, выйдешь замуж, то неужели не отвыкнешь от своей беспечности, ведь муж не я; право, подумай о себе…
Однажды в Петергофе, прогуливаясь в саду, императрица увидела в гроте садового ученика, который имел перед собою четыре блюда и собирался обедать.
Она заглянула в грот и спросила:
— Как ты хорошо кушаешь? Откуда ты это получаешь?
— У меня дядя поваром, он мне дает…
— И всякий день постольку?
— Да, государыня, но лишь во время вашего пребывания здесь.
— Стало быть, ты радуешься, когда я сюда переселяюсь?
— Очень, государыня! — отвечал мальчик.
— Ну, кушай, кушай, не хочу тебе мешать! — сказала государыня и прошла далее.
Все служащие при государыне были к ней беззаветно привязаны, и полнейшее ее неудовольствие повергало слуг в большое горе.
Один из ее камердинеров, и самый любимый, Попов, отличался необыкновенной правдивостью, хотя и в грубой форме, но императрица на него не гневалась.
Как‑то государыня приказала ему принести часы, объяснив, именно какие.
Попов ответил, что таких у нее нет.
— Принеси все ящики, я сама посмотрю, коли ты упрямишься! — сказала императрица.
— Зачем их понапрасну таскать, когда там часов нет.
— Исполняй, а не груби… — заметил бывший при этом граф Орлов.
— Еще правда не запрещена — она сама ее любит… — возразил Попов. — Я принесу, мне что же.
Ящики были принесены, но часов не нашли.
— Кто же теперь не прав, вы или я, государыня? — спросил Попов.
— Я, прости меня… — отвечала та.
В другой раз, не находя у себя на бюро нужной бумаги, императрица сделала тому же Попову выговор.
— Верно, ты ее куда‑нибудь задевал! — сказала она.
— Верно, вы сами куда‑нибудь ее замешали… — грубо отвечал он.
— Ступай вон! — с досадой крикнула Екатерина.
Попов ушел.
Скоро, найдя бумагу в другом месте, она приказала позвать Попова к себе.
Последний, однако, сразу не пошел.
— Зачем я к ней пойду, когда она меня от себя выгнала… — возразил он.
Только по третьему зову предстал он перед очи своей государыни.
Раз рано утром императрица взглянула в окно и увидала, что какая‑то старуха ловит перед дворцом курицу и никак не может поймать.
— Велите пособить бедной старухе, узнайте, что это значит? — приказала она.
Государыне донесли, что внук этой старухи служит поваренком и что курица казенная — краденая.
— Прикажите же навсегда, — сказала Екатерина, — чтобы эта старуха получала всякий день по курице, но только не живой, а битой. Этим мы отвратим от воровства молодого человека, избавим от мученья его бабушку и поможем ей в нищете.
После того старуха каждый день являлась на кухню и получала битую курицу.
Волосы государыни были очень длинны, так что когда она сидела в кресле, достигали до полу.
Убирал их ежедневно парикмахер Козлов, жена которого жила вне Петербурга.
Государыня однажды осведомилась у него о здоровье последней.
— Пишет, государыня, что здорова.
— Как, неужели она не приезжает видеться с тобой?
— Да на чем, нанимать дорого, казенных же теперь не дают; вы нам много хлопот наделать изволили, сократив конюшни.
В то время только что ввели сокращения по конюшенному ведомству.
— Не верю, однако же, чтобы с такою точностью исполняли мое приказание и чтобы по знакомству выпросить было невозможно. Скажи мне откровенно?
— Сказал бы, — отвечал Козлов, — но боюсь, как бы не прознал это обер–шталмейстер.
— Нет, ручаюсь, что все останется между нами! — успокоила его императрица.
— Тогда знайте, что все старое по–старому; лишний поклон — и коляска подвезена, только не проговоритесь, не забудьте обещания.
— Ни–ни! — сказала царица и держала тайну.
В числе дворцовых поваров был один очень плохой, но государыня не уволила его и, когда наступала его очередная неделя, говаривала:
— Мы теперь на диете, ничего, попостимся, зато после хорошего поедим.
Однажды государыня выслушивала чей‑то доклад, а в соседней комнате придворные играли в волан, и так шумно, что заглушали слова читавшего.
— Не прикажете ли, — сказал он, — велеть им замолчать?
— Нет, — отвечала императрица, — у всякого свои занятия, читай немного погромче и оставь их веселиться.
Такова была Великая Екатерина как человек.
Недаром имя матушки царицы окружено было для современников ореолом доброты и мудрости.
Последнее качество, впрочем, уже было качество императрицы.
XX
ИМПЕРАТРИЦА
Кроме обаятельного образа человека и женщины в императрице Екатерине были все качества идеальной правительницы.
Она с большим правом и в лучшем смысле, нежели Людовик XIV [19], могла сказать: «Государство — это я».
Действительно, несмотря на свое иноземное происхождение, она так сроднилась с Россией, что составляла с ней одно целое, недаром русская история приняла для целой эпохи название екатерининской.
Государыня идеально усвоила себе русскую речь и даже многие русские привычки. Она парилась в русской бане и употребляла часто в разговоре пословицы.
Она была очень религиозна и строго исполняла все правила Православной Церкви, ходила на литургии, всенощные, говела и соблюдала посты.
Мнение народа она ставила выше всего, даже в мелочах.
Государыня редко каталась по городу — ей не позволяли этого многочисленные занятия, но однажды, почувствовав головную боль, она села в сани, проехалась и получила облегчение.
На другой день у государыни была тоже боль головы, и ей советовали употребить вчерашнее лекарство, то есть опять ехать в санях, но она отвечала:
— Что скажет про меня народ, когда бы увидел меня два дня сряду на улице?
С утра государыня садилась за дела; в кабинете все бумаги лежали по статьям, по раз заведенному порядку, на одних и тех же местах.
Перед нею во время чтения бумаг ставилась табакерка с изображением Петра Великого.
Императрица говорила, смотря на него:
— Я мысленно спрашиваю это великое изображение, что бы он повелел, что бы запретил или что бы стал делать на моем месте.
Занятия государыни продолжались до девяти часов.
После девяти первый к ней входил с докладом обер–полицмейстер.
Государыня расспрашивала его о происшествиях в городе, о состоянии цен на жизненные припасы и о толках про нее в народе.
Узнав раз, что говядина от малого пригона скота поднялась в цене с двух копеек до четырех, она приказала тотчас же выдать деньги на покупку скота и таким образом понизить цены.
После обер–полицмейстера входили: генерал–прокурор — с мемориями от сената, генерал–рекетмейстер для утверждения рассмотренных тяжб, губернатор, управляющий военной, иностранной коллегиями и т. д.
Для некоторых членов назначены были на неделе особые дни, но все чины в случаях важных и не терпящих отлагательства могли и в другие дни являться с докладами.
Из кабинета государыня переходила в парадную уборную, где представлялись ей некоторые вельможи в то время, когда ей убирали голову.
Туалет государыни продолжался не более десяти минут; прислуживала ей камчадалка Алексеева, гречанка А. А. Палакучи накалывала ей наколку, и две сестры Зверевы подавали булавки.
Прием в уборной государыни почитался знаком особенной царской милости.
В начале своего царствования государыня принимала все просьбы лично, но когда в Москве просители во время коронации стали перед ней на колени полукругом и преградили ей дорогу к соборам, а армяне подали ей вместо просьб свои паспорта, государыня лично уже просьб не принимала.
Скажем несколько слов о начале ее светлого царствования.
23 июля 1762 года императрица Екатерина II издала первый свой манифест, в котором говорилось о причинах, побудивших ее занять престол своего мужа.
В заключении манифеста императрица заявила, что она вступила на престол по явному и нелицемерному желанию своих подданных.
Для того чтобы закрепить дело 28 июня, императрица поторопилась назначением времени для своей коронации, и не далее как через неделю по восшествии своем на престол, именно 7 июля, был обнародован манифест об имеющей совершиться в сентябре месяце того же года коронации.
Этот манифест вышел в один день с манифестом о кончине Петра III.
1 сентября государыня выехала из Петербурга совершенно незаметно.
В столице не знали о цели ее поездки.
Распоряжения по торжеству коронации были поручены князю Никите Юрьевичу Трубецкому.
Приготовлением короны занят был И. И. Бецкий.
Сделанная корона поражала своим богатством: в ней находилось пятьдесят восемь одних крупных бриллиантов, большого жемчуга семьдесят пять штук; вообще корона оценивалась тогда знатоками в два миллиона рублей.
9 сентября императрица приехала в подмосковное село Петровское, а 13 сентября происходит ее торжественный въезд в древнюю столицу.
В числе сопровождавших императрицу лиц был и Григорий Александрович Потемкин.
Все улицы первопрестольной столицы были убраны ельником, наподобие садовых шпалер, обрезанных разными фигурами. Дома, балконы украшены были коврами и разными материями.
Для торжественного въезда императрицы устроено было четверо триумфальных ворот: на Тверской улице в Земляном городе, на Тверской улице в Белом городе, в Китай–городе, Воскресенские и Никольские в Кремле.
У Никольских ворот императрицу встретил московский митрополит Тимофей с прочим духовенством и говорил ей краткую поздравительную речь.
Коронация императрицы происходила с обычными церемониями 22 сентября.
Первенствующим архиереем при коронации был архиепископ новгородский Димитрий Сеченов, возведенный в день коронации в сан митрополита, а следующим за ним был митрополит московский Тимофей Щербатский.
На медалях, выбитых в честь коронации Екатерины, на лицевой стороне был изображен бюст императрицы, на другой стороне было написано вверху: «За спасение веры и отечества», внизу: «Коронована в Москве сентября 22 дня 1762 года».
По случаю коронации императрица многих из своих приближенных осыпала своими милостями, выразившимися в повышении чинов, в пожаловании шпаг с бриллиантами, в награждении орденами.
Имя Потемкина, однако, в числе награжденных не встречается.
28 сентября императрица давала праздник собственно для народа.
К этому празднику заказаны были особого рода экипажи, украшенные резьбою и позолотою, на них устанавливались жареные быки с многочисленной живностью и хлебами.
Эти экипажи в день народного праздника разъезжали по улицам города и служили источником народного угощения.
За ними тянулись другого рода экипажи и роспуски с установленными на них бочками пива и меда.
Как роспуски, так и самые бочки с пивом, тоже устроенные с особою исключительною целью, отличались оригинальностью своего убранства; бочки, например, по краям и иным местам были раскрашены под цвет серебра.
На многих открытых местах города поставлены были столы для нищих, с большим запасом всевозможного рода закусок. Кроме того, нищим раздавали и деньги.
Главный центр празднества находился на Красной площади и на Лобном месте.
Здесь установлено было множество столов с различными закусками. Бросались в глаза горы пирогов, лежавших на столах пирамидальными возвышениями, сидели целые стада жареных птиц, как живые, а близ них большие фонтаны выметывали в огромные чаны красное и белое вино.
На ближайших к Кремлю перекрестках стояли красивые балаганы и шатры с цветными флагами, перевитыми лентами.
В них находились также лакомые даровые припасы — груды золоченых пряников, маковые избойни.
Там и сям возвышались качели, высилась комедь с акробатическими представлениями, толкались куклы на помосте, слышался голос импровизатора–рассказчика, объясняющего затейливые картины.
Государыня в сопровождении большой свиты, с пышною обстановкою разъезжала по Москве и любовалась картиной народного празднества; между тем окружавшие ее бросали в народ жетоны.
Во время коронационных празднеств государыня предпринимала прогулки и катанья в подмосковные села, где царский поезд обыкновенно встречали крестьянские девушки в праздничных сарафанах и с веселыми хороводными песнями.
Празднества в Москве по случаю коронации продолжались целую неделю.
С таким торжеством начатое царствование и было рядом торжеств для России.
Народ боготворил матушку царицу, служащие знали, что их заслуги будут оценены с высоты трона, а их проступки не ускользнут от зоркого взгляда государыни, придворные боготворили императрицу, великодушную и щедрую.
Не любя разных попрошаек, она умела награждать.
Подарки она делала с таким уменьем и тактом, что их нельзя было не принять.
Она дарила всегда неожиданно: то пошлет плохую табакерку с червонцами, то горшок простых цветов с драгоценным камнем на стебле, то простой рукомойник с водою, из которого выпадает драгоценный перстень, то подложит под кровать имениннице две тысячи серебряных рублей, или подарит невесте перстень со своим изображением в мужском наряде, сказав: «А вот и тебе жених, которому, я уверена, ты никогда не изменишь и останешься ему верна», или пошлет капельмейстеру Паизиэлло, после представления его оперы «Дидон», табакерку, осыпанную бриллиантами, с надписью, что кареагенская царица при кончине ему ее завещала.
Бывали примеры, что государыня посылала подарки и обличительного свойства, для исправления нравов своих придворных и чиновников.
Так, узнав, что владимирский наместник берет взятки, Екатерина послала ему в подарок, в день Нового года, кошелек длиною в аршин.
Наместник развернул его у себя за обеденным столом, на глазах всех гостей.
Одному из вельмож, любившему выпить, государыня подарила большой кубок, а другому старичку, взявшему к себе на содержание танцовщицу, послала попугая, который то и дело говорил: «Стыдно старику дурачиться».
Один из вельмож, охотник до мелких рукоделий, подарил государыне расшитую шелками подушку своей работы.
Государыня подарила ему бриллиантовые серьги.
Императрица, как известно, отличалась необыкновенной вежливостью в обращении с людьми, и любимой ее поговоркой было: «Се n’est pas tout que d’etre grand seigneur, il faut encore etre poli» (не довольно быть вельможей, нужно еще быть учтивым).
По рассказам, государыня имела особенный дар приспосабливать к обстоятельствам выражение своего лица.
Часто после вспышки гнева в кабинете подходила она к зеркалу и, так сказать, сглаживала, прибирала свои черты и являлась в залу со светлым и царственно приветливым лицом.
Этими драгоценными свойствами правительница государства приобрела себе не только обожание подданных, но и удивление, скажем более — поклонение, иноземных современников.
Читатель, надеюсь, не посетует на нас за отступление от нити рассказа для слабого изображения человеческих и царственных черт великой императрицы, блеск которой с высоты трона отразился на целую эпоху, и хотя без краткого изображения этой, по выражению поэта, «богоподобной царевны» не могли бы быть поняты дальнейшие подробности нашего правдивого повествования.
Недаром поэты воспевали ее как «Северную Семирамиду», недаром философы ее времени удостоверяли, что «с Севера идет свет».
Победительница внешних врагов, она мудро управляла внутри своего государства, вызывая уважение и любовь своих подданных.
Становится понятным, почему восторженный Потемкин мог создать себе в благоговении к императрице почти религиозный культ, которому готов был принести всякие жертвы на разрушенном алтаре своей первой, чистой любви.
XXI НА ПОЛЯХ БИТВ
Прошло более шести лет.
Положение Григория Александровича в служебном отношении и при дворе было далеко не таково, чтобы вполне удовлетворить его колоссальное честолюбие.
Он за это время успел, однако, быть пожалованным в камергеры.
Это было в 1768 году, а за год перед этим был командирован с двумя ротами своего полка в Москву, где тогда собралась известная Большая комиссия для составления «Уложения».
В ней Потемкин участвовал в качестве опекуна депутатов от татар и других иноверцев, выбравших его «по той причине, что они не довольно знают русский язык», а также был членом комиссии духовно–гражданской.
Но все эти ранги, повторяем, были мелки для души, жаждавшей громких подвигов, богатства, власти, славы.
А такою, несомненно, была душа Потемкина.
Он убедился наконец, что во дворце, где кишели интриги и было так много конкурентов, ему не найти желаемой грандиозной фортуны, и решил искать ее на поле битвы.
Наступил 1769 год.
Была объявлена война Турции.
Григорий Александрович, продолжая находиться в Москве в составе Большой комиссии, обратился еще в конце 1768 года к государыне с умно и ловко написанным письмом, целью которого было произвести впечатление на императрицу. Он просил в нем дозволения ехать в армию.
Вот что писал он в нем между прочим:
«Беспримерные вашего величества попечения о пользе общей учиняет отечество наше для нас любезным. Долг подданнической обязанности требовал от каждого соответствования намерениям вашим… Я ваши милости видел, с признанием вникал в премудрые указания ваши и старался быть добрым гражданином. Но высочайшая милость, которою я особенно взыскан, наполняет меня отменным к персоне вашего величества усердием. Я обязан служить государыне и моей благодетельнице, и так благодарность моя тогда только изъявится во всей своей силе, когда мне, для славы вашего величества, удастся кровь пролить. Вы изволите увидеть, что усердие мое к службе вашей наградит недостатки моих способностей, и вы не будете иметь раскаяния в выборе вашем…»
Цель была достигнута.
В заседании Большой комиссии 2 января 1769 года маршал собрания Бибиков объявил, что «господин опекун от иноверцев и член комиссии духовно–гражданской Григорий Потемкин, по высочайшему ее императорского величества соизволению, отправляется в армию волонтером».
Григорий Александрович был переименован из камергеров в генерал–майоры.
Ему было всего тридцать лет.
С современной точки зрения, такая карьера может быть названа более чем блестящей, но в описываемую нами эпоху для лиц, приближенных к государыне, подобное повышение было заурядным.
Русская армия находилась под начальством князя Голицына, осаждавшего крепость Хотин на Днестре.
Эта при Екатерине первая война с турками, как известно, была рядом блестящих побед и торжеств русского оружия.
Русские войска покрыли себя неувядаемой славой под начальством графа Румянцева–Задунайского, назначенного на смену князя Голицына.
Выгодный мир при Кючук–Кайнарджи завершил разгром турок при Ларге и Кагуле.
Эта же война доставила первые лавры Потемкину.
Во все время продолжения военных действий с 1769 по 1774 год Григорий Александрович командовал отдельным отрядом и участвовал в сражениях при Фокшанах, Ларге, Кагуле, при осаде Силистрии и за свою распорядительность и личную храбрость получил чин генерал–поручика и ордена Святой Анны 1 степени и Святого Георгия 3–го класса.
Изучив еще ранее в Петербурге конную службу, Потемкин оказался не только лихим кавалеристом, но и прекрасным организатором кавалерийской атаки, что он блестяще доказал вскоре по прибытии в армию.
Князь Голицын во всеподданнейшем рапорте о поражении Молдаванжи–паши в августе 1769 года писал императрице между прочим следующее:
«Непосредственно рекомендую вашему величеству мужество и искусство, которое оказал в сем деле генерал–майор Потемкин; ибо кавалерия наша до сего времени не действовала с такою стройностью и мужеством, как в сей раз, под командою вышеозначенного генерал–майора».
Но и среди треволнений военной жизни, под свистом пуль, при радостных победных кликах, Потемкин душой стремился в Петербург, во дворец, к той, чей образ жил непрестанно в его душе.
Там был источник величия, милости и богатств.
Там жила «державная властительница», внимание которой, один благосклонный взгляд стоили в его глазах неизмеримо более истребления несметных полчищ врагов, взятия десятков крепостей.
Образ русской Минервы не покидал его воображения и был для него путеводной звездой среди опасностей военных подвигов.
Он верил в эту звезду.
Он стремился снова под ее животворные лучи.
Счастье ему благоприятствовало и на этот раз.
Выбор главнокомандующего армией графа Румянцева–Задунайского [20], отправившего курьера с донесениями к императрице, пал на Григория Александровича.
В конце 1770 года он прибыл в Петербург с отличными рекомендациями графа.
В письме Задунайского перечислялись заслуги Потемкина:
«Сей чиновник, имеющий большие способности, может сделать о земле, где театр войны состоял, обширные и дальновидные замечания, которые по свойствам своим заслуживают быть удостоенными высочайшего внимания и уважения, а посему и вверены ему для донесения вам многие обстоятельства, к пользе службы и славе империи относящиеся».
«Обширные и дальновидные замечания», о которых говорит Румянцев, вероятнее всего, были те грандиозные планы восторженного фантазера Потемкина, которые вылились впоследствии в форму знаменитого «греческого проекта», пугавшего так Европу в прошлом столетии и стоящего еще и теперь перед ней грозным привидением в образе «восточного вопроса».
Государыня благосклонно приняла и выслушала прибывшего с поля битвы Григория Александровича, но, увы, он понял, что час его возвышения при дворе еще не пробил.
Он пробыл в Петербурге несколько месяцев.
Положение его было далеко не из блестящих даже по части денежной. Он, впрочем, нуждался в деньгах и ранее.
Незначительный сравнительно с потребностями светской жизни доход с его имения заставлял его влезать в долги, даже мелкие: так, он задолжал несколько сот рублей мещанину Яковкину.
Последний занимался в Петербурге молочной торговлей.
В его лавке находилось в изобилии все, что нужно для военного человека: чай, сахар, кофе, сливки, молоко, хлеб, булки, мыло, клей, мел, позументы, сапожный товар, вакса, пудра, мед, огурцы, капуста, колбаса и проч.
Яковкин, как тогда говорили, был кормилец нижних чинов и даже офицеров половины гвардии.
Правда, он не дешево продавал гвардейцам свой товар, но зато он верил им в кредит.
Потемкин, служа в конногвардейском полку, забирал разную мелочь у Яковкина и был постоянно ему должен.
Он уехал в действующую армию не расплатившись, да и по приезде снова в Петербург принужден был забирать в долг у того же Яковкина, так как денег у него было мало.
«Не имей сто рублей, а имей сто друзей», — говорит русская пословица.
Григорий Александрович знал ее и постарался обзавестись друзьями при дворе.
По счастливой случайности, библиотекарем государыни был в то время его московский приятель Василий Петрович Петров.
Он воспитывался в Московской духовной семинарии, в которой, по окончании курса, сделался учителем поэзии, риторики и греческого языка.
В 1768 году он перешел на службу в Петербург, в штат придворной библиотеки, и вскоре потом отправился в Англию, где научился языкам: английскому, немецкому и французскому, а по возвращении был определен переводчиком при кабинете, а затем сделался библиотекарем.
Вторым близким к государыне лицом, с которым будущий «князь Тавриды» сумел сойтись на дружеской ноге, был Иван Тимофеевич Елагин, директор театров.
Оба они, а первый еще до приезда Григория Александровича из армии, постоянно старались напоминать государыне о Потемкине.
Петров воспевал его и в стихах, и в прозе.
По случаю победы при Фокшанах [21], где Григорий Александрович командовал самостоятельным отрядом, Петров написал четверостишье:
Он жил среди красот, и, аки Ахиллес, На ратном поле вдруг он мужество изнес; Впервый приял он гром — и гром ему послушен, Впервые встретил смерть — и встретил равнодушен.Вирши эти ходили по рукам при дворе и, конечно, были известны императрице.
Через Елагина и Петрова Григорий Александрович выхлопотал разрешение писать ее величеству и получать через них словесные ответы государыни.
Достигнув этого, Григорий Александрович в начале 1771 года снова уехал в армию.
Оттуда он не замедлил воспользоваться разрешением писать государыне.
Письма эти были хорошо обдуманы и не менее хорошо написаны.
Карабанов сообщает, что «с любопытством прочитывая все письма, государыня видела, с каким чувством любви и с какою похвалою изъясняется Потемкин насчет ее особы; она сперва приказывала передавать ему словесные ответы, а потом принялась за перо и вела с ним переписку».
Блестящий ум, беззаветная преданность, обширные замыслы для возвеличения России — все это высказалось в ярком свете в письмах восторженного молодого генерал–майора и не могло не повлиять на государыню в смысле благосклонности к такому подданному.
Обстоятельства при этом складывались таким образом, что такой именно человек, каким был Потемкин, становился необходим у кормила правления.
Турция за наши победы отплатила нам страшной чумой.
Произошел бунт в Москве, со всеми его ужасами. Его кровавой жертвой сделался архиепископ Амвросий, тот самый, который в бытность свою архиереем отклонил юношу Потемкина от мысли поступления в монастырь и дал ему денег на дорогу в Петербург.
Усмирение московских волнений и прекращение чумы было одним из последних дел Григория Орлова, о чем свидетельствуют до сих пор существующие в Царском Селе триумфальные ворота, на которых красовалась лаконичная надпись:
«Орловым от беды избавлена Москва».
Между тем возник Пугачевский бунт [22].
Несмотря на свою прозорливость, Екатерина вначале не постигла важности этого движения и считала его не более как частной попыткой дерзкого разбойника, но когда восстание охватило весь край, от Екатеринбурга и Уфы до Астрахани и Камышина, императрица увидела опасность, грозившую ее трону.
В такую трагическую минуту, не находя около себя никого, кроме ловких и опытных интриганов, Екатерина осознала свое одиночество и решилась опереться на могучую руку Потемкина, государственные способности, горячую любовь к ней и России, неукротимый характер и твердую волю которого она давно уже успела оценить.
Зароненные в ее душу Григорием Александровичем семена нашли подготовленную обстоятельствами плодородную почву.
Последний тем временем, находясь в действующей армии, по–прежнему проявлял храбрость и распорядительность, командовал уже целым резервным корпусом под Силистрией и отличался во многих делах, но душою и всеми своими помыслами все же был в Петербурге, у трона повелительницы Севера.
XXII ПРИЕМЫШ
В то время, когда весь поглощенный честолюбивыми замыслами Григорий Александрович Потемкин выказывал чудеса храбрости и недюжинные способности военачальника в войне с турками, между тем в Петербурге подготовляйся ему еще более высший служебный жребий, — пост правой руки мудрой государыни; в далеком Смоленске, в доме подполковника Василия Андреевича Энгельгардта, среди многочисленных дочерей последнего, рос миловидный десятилетний мальчик Володя — приемыш Василия Андреевича и его жены Марфы Александровны, старшей сестры Потемкина.
В городе немало удивлялись, что Энгельгардты, люди далеко не богатые, имевшие на руках четырех дочерей, взяли себе на воспитание пятого ребенка — мальчика.
Кто был этот приемыш — никому не было известно в точности.
Как причину принятия к себе на воспитание Володи указывали на желание обоих родителей Энгельгардтов иметь сына.
Этим удовлетворялось провинциальное любопытство, хотя злые языки, не довольствуясь этим, сочинили целые романтические истории о происхождении энгельгардтовского приемыша, как звали в Смоленске жившего у Энгельгардтов мальчика.
В этих историях играли то муж, то жена Энгельгардты.
Официально мальчик значился Владимиром Андреевичем Петровским.
Нам с тобой, дорогой читатель, не надо вместе со смоленскими обывателями того времени ломать головы над происхождением этого ребенка.
Мы видели его спящим в люльке в спальне Дарьи Васильевны Потемкиной на другой день его рождения.
Это был князь Святозаров, законный сын князя Андрея Павловича, лишенный последним и титула, и родителей.
Мальчик находился под особым покровительством Григория Александровича Потемкина.
Это, впрочем, содержалось в самой сокровенной тайне не только от посторонних, но даже и от самого Володи.
Получив от сына пространный ответ на свое не менее пространное письмо о случае с ребенком ангела–княгинюшки, Дарья Васильевна Потемкина буквально исполнила все, что писал ей Григорий Александрович.
Она окрестила ребенка и назвала Владимиром.
Восприемником его был соседний помещик Андрей Васильевич Петровский, по странной игре слепого случая носивший одно имя с настоящим отцом ребенка, князем Святозаровым.
Акулине было объявлено, что барыня берет ее сына на воспитание и сделает из него «барчонка», что только, конечно, порадовало кормилицу Володи, которая считала себя его родной матерью.
Впрочем, Акулине не пришлось долго радоваться на своего ненаглядного сыночка, такого красивого да нежного, точно впрямь «барчонок», она умерла в тифозной горячке, когда Володе был третий год в исходе.
Крестный отец мальчика, одинокий старик помещик, сосед по имению Дарьи Васильевны, так привязался к мальчику, что, когда ему пошел седьмой год, подал на высочайшее имя прошение об усыновлении сироты, сына дворовой девушки Акулины Птицыной Владимира, по крестному отцу Андреева.
На прошение это, не без хлопот со стороны Григория Александровича и его петербургских друзей, воспоследовало милостивое разрешение, и Владимир Андреевич стал дворянином Петровским и был записан в военную службу.
Андрей Васильевич вскоре умер, оставив в наследство своему приемному сыну свое маленькое имение с домом и всей обстановкой и десять тысяч рублей ассигнациями капитала.
Опекуном к мальчику был назначен Василий Андреевич Энгельгардт, который, когда мальчику минуло восемь лет, взял его к себе в дом для обучения грамоте.
За деревенским домом Петровского присматривала Дарья Васильевна и штат дворовых людей.
Из вещей Володе был дан в Смоленске только образ Казанской Божьей Матери, которым покойный Петровский благословил мальчика.
Образ этот имел свою таинственно–загадочную историю. Он достался Андрею Васильевичу от его родного деда Юрия Петровича.
Последний был денщиком Петра Великого, и государь из всех своих денщиков доверял ему исключительно.
Однажды оказался недочет в значительной сумме денег, ответственность за которую лежала на Юрии Петровиче.
Один из его товарищей, но кто именно — неизвестно, сделал на него донос, что недостающие деньги истрачены им самим.
Вследствие этого доноса как обвинитель, так и обвиняемый были арестованы и подвергнуты допросу.
Кто не знает тогдашнего способа допросов?
Не сознается, так пытать…
Обоих отвели в застенок.
Доносчик должен был быть первый подвергнут пытке по пословице: доносчику первый кнут, и если бы он выдержал, тогда приступили бы к пытке оговоренного, о чем последний и был предупрежден.
Когда Юрий Петрович сидел за перегородкой, отделявшей его от страшного застенка, он от утомления, сидя на лавке и прислонившись к углу, задремал.
И слышит он, как будто сквозь дремоту, кто‑то говорит:
— Нагнись! Под лавкой, где ты сидишь, найдешь образ Казанской Божьей Матери, возьми его и молись ему и будешь спасен.
Очнувшись от дремоты, Юрий Петрович тотчас же бросился шарить под лавкой, действительно нашел там образ Божьей Матери Казанской и начал ему усердно молиться.
Наступило наконец время допроса.
Слышит он через перегородку, что прошли в застенок и стали спрашивать его лиходея.
Тот поколебался.
Устрашенный страшными приготовлениями к пытке, он сознался, что сделал донос на товарища по злобе, и указал место, где мнимо растраченная сумма была спрятана.
Юрий Петрович выпущен был на свободу и найденный в застенке образ обложил серебряной вызолоченной ризою и завещал, чтобы образ этот вечно находился в его потомстве.
Этот образок висел над кроватью Володи Петровского в доме Энгельгардтов в Смоленске, и мальчик усердно утром и вечером молился ему за упокой души дяди Андрея, за здравие бабушки Дарьи, тетей Зинаиды, Марфы и дядей Андрея и Григория.
Так выучила его молиться Дарья Васильевна, но кто были тетя Зинаида и дядя Григорий, мальчик не знал, и на его вопросы ему отвечали, что он узнает это, когда вырастет большой и будет хорошо учиться.
Мальчик перестал задавать об этом вопросы, но тайна, окружавшая эти неизвестные ему имена, в связи с положением сироты, приемыша в чужом доме, выработала в нем сосредоточенность и мечтательность.
Ребенок ушел в самого себя и жил в своем собственном, созданном его детским воображением мирке.
Учился он, однако, очень хорошо, сначала под руководством гувернантки–француженки, вместе с дочерьми Энгельгардта, а затем учителя из окончивших курс смоленских семинаристов, передавшего своему ученику всю пройденную им самим премудрость.
Образование мальчик получил, таким образом, по тому времени превосходное.
За этим следил откуда‑то издалека тот же таинственный «дядя Григорий».
Дарья Васильевна по–прежнему жила у себя в Чижеве, наезжая, впрочем, несколько раз в год в Смоленск, погостить к дочери.
XXIII ПОБЕЖДЕННОЕ ИСКУШЕНИЕ
Других развлечений, кроме посещения Смоленска, у старушки Потемкиной не было, так как по смерти Петровского и отъезде в Петербург княгини Зинаиды Сергеевны Святозаровой она оказалась без близких соседей.
Княгиня Зинаида Сергеевна долго болела после родов. Произошло это более всего от нервного потрясения, при известии, что с таким нетерпением и с такими надеждами ожидаемый ею ребенок родился мертвым.
У несчастной сделалась родильная горячка, и она была буквально вырвана из когтей смерти усилиями всех лучших смоленских докторов.
Дарья Васильевна почти ежедневно посещала Несвицкое и просиживала около больной по нескольку часов.
Тяжело было старушке, но она этим, казалось ей, искупала свою вину перед несчастной женщиной, вину невольной участницы в причинении ей тяжелого горя.
Бедная мать при ней оплакивала смерть своей бедной девочки еще до рождения, недоумевала, как это могло случиться, и положительно разрывала на части сердце Дарьи Васильевны.
Наконец княгиня оправилась.
На дворе снова была весна.
Зинаида Сергеевна почасту и подолгу находилась в саду, где в одной из отдаленных аллей деревянный крест указывал могилу ее мертворожденной дочери.
Сюда приходила несчастная мать грустить о своем сыне.
С потерею сладкой надежды иметь утешение в другом ребенке в сердце Зинаиды Сергеевны с необычайной силой развилось и укрепилось чувство любви к оставшемуся в Петербурге сыну — маленькому Васе.
Ее женская гордость не позволяла ей вернуться в Петербург, хотя ее тянуло туда, пожалуй, гораздо более, чем ее горничную Аннушку.
Последнюю она вскоре после выздоровления отпустила от себя, дав ей вольную. Княгиня сделала это в вознаграждение за почти двухлетнее затворничество в деревне и за ухаживание за собою во время болезни.
Так, по крайней мере, сказала она обрадованной девушке, пребывание которой вблизи своей госпожи сделалось для нее после совершенного ею преступления невыносимым.
Теперь она мучилась уже не скукой, а угрызениями совести. Она осунулась и похудела, а княгиня Зинаида Сергеевна приписывала это скуке деревенской жизни и бессонным ночам, проведенным у ее постели.
Была, впрочем, и задняя мысль у княгини, когда она отпускала Аннушку на волю и снаряжала в Петербург. Она рассчитывала, что все‑таки там будет хоть один преданный ей человек, который будет уведомлять ее о сыне.
. Княгиня и не ошиблась. Аннушка хотя и ре часто, но все же отписывала своей бывшей барыне обо всем, что делается в княжеском доме.
Степан Сидорович оказался пророком — Аннушка вскоре по прибытии в столицу вышла замуж за канцелярского писца, который с ее слов и строчил послания княгине, и за них последняя, конечно, не оставалась в долгу и присылала гостинцы и деньги.
Других известий из Петербурга до княгини не доходило.
Однообразно скучные дни проводила молодая женщина в деревенской глуши, особенно в наступившую долгую зиму.
Старый княжеский дом, навевавший воспоминания счастливых детских лет, невольно заставлял княгиню Зинаиду Сергеевну переживать картины ее недалекого прошлого.
Венцом этих воспоминаний являлся ее девичий роман с юношей Потемкиным.
Со сладкой истомой вспоминала она их свидания под покровительством Насти Кургановой, мечты и грезы взаимной любви.
Вспоминалось ей горе непонятного для нее разрыва — странная перемена в поведении Грица и его отношений к ней и результат всего этого — ее несчастное замужество.
Вдруг все эти воспоминания окрашивались кровавым цветом — труп убитого у ее ног несчастного Костогорова восставал в ее памяти, а за ним все последующие тяжелые воспоминания; сцены с мужем, выезд из Петербурга, разлука с единственным сыном — ложились на ее душу свинцовой тяжестью.
Светлым лучом среди этого рокового, беспросветного мрака являлись те месяцы надежды на новое материнство, увы, надежды, похороненной под деревянным крестом в отдаленной аллее сада, в той самой аллее, где она еще ребенком любила шутя прятаться от старушки няни.
С утра до вечера, а порой и с вечера до утра, бессонными ночами, мучилась она этим кошмаром прошлого.
Развлекали ее посещения Дарьи Васильевны — они напоминали ей о все еще милом ей Грице.
Но старушка, после того как княгиня оправилась, стала реже посещать ее; Дарье Васильевне, как мы уже сказали, было тяжело оставаться с глазу на глаз с ее невольной жертвой.
Другой отрадой были письма Аннушки, но и они, как мы знаем, редко приходили в Несвицкое.
Жизнь Дарьи Васильевны Потемкиной тоже шла своей обычной колеей. Она вся была поглощена заботами о новом жильце старого дома — Володе.
Только один раз покой Дарьи Васильевны был нарушен нежданным и нежеланным гостем.
Месяца через два после родов княгини к Дарье Васильевне явился было снова Степан Сидорыч, чтобы вручить капитал, которым князь Андрей Павлович Святозаров пожелал обеспечить будущность княгинина сына, но старушка, хотя и приведенная в великий соблазн от внушительного количества пачек с крупными ассигнациями, которые положил перед ней на стол княжеский камердинер, устояла и, верная указаниям своего сына Григория Александровича, прогнала Сидорыча вместе с его бесовскими деньгами.
— Сгинь ты с глаз моих долой, уезжай, и чтобы я тебя никогда больше не видала, забирай свои деньги и с Богом, скатертью дорога.
Сидорыч сперва просто опешил и только успел вымолвить:
— Его сиятельство приказали…
Старушка напустилась на него еще пуще:
— Это тебе, холопу, его сиятельство приказывать может, а не мне, я столбовая дворянка, муж мой покойный майором был… Сказано — сгинь, пропади… собирай свои ассигнации!
Степан, послушный вторично данному приказанию, стал медленно снова укладывать в карманы вынутые им деньги.
Дарья Васильевна, надо сознаться, с сожалением смотрела, как они исчезли в объемистых карманах княжеского камердинера.
— Скорей, скорей… — задыхаясь, торопила она его.
— А как же насчет… — заикнулся было Степан.
— Насчет чего это еще? — перебила его Дарья Васильевна.
— Насчет княгинина ребеночка?..
— Какого там еще княгинина… Княгиня, олух ты этакий, родила мертвенькую девочку, ее и похоронили в княжеском саду, там и крестик есть… А ты, прости Господи, совсем ошалел, пришел сюда искать княгинина ребеночка…
Степан окончательно растерялся.
— А как же Володенька?..
— Володенька… — передразнила его Дарья Васильевна. — Володенька Акулинин сын… что взял… аспид, василиск… проклятый…
Сидорыч молчал.
Дарья Васильевна, рассерженная скорее на сына, приказавшего ей отказаться от княжеских денег, чем на Степана, продолжала изливать на него свою злобу.
— Ты вот что, — говорила она, крича хриплым голосом, — ступай от меня подобру–поздорову, а не то я сейчас доеду до княгини, а с ней в Петербург прямо к ногам матушки царицы, и вас с барином, душегубцев, на чистую воду выведем…
Степан, услыхав такие речи, поспешил сделать почти земной поклон и как угорелый выбежал из гостиной Потемкиной, где происходил этот разговор…
В тот же день он уехал обратно в Петербург.
XXIV ПРИМИРЕНЬЕ
Еще более нелюдимый и угрюмый князь Андрей Павлович Святозаров разделил, после отъезда своей жены, свою жизнь между службой и сыном.
Все свободное от занятий время он проводил около него, но образ жены, матери этого ребенка, все нет–нет да и вставал в его голове, а в глубине сердца шевелилось нечто вроде угрызения совести.
Отправив Степана с известным уже нам поручением, он сперва находился в волнении ожидания, в боязни, что он не сумеет исполнить порученное ему дело и что, наконец, похищение ребенка получит огласку, дойдет до государыни и его бесчестие будет достоянием не только всего Петербурга, но и всей России.
Последней приходила мысль, что потеря ребенка может гибельно отразиться на здоровье, даже на жизни его матери.
Князь после отъезда княгини, вспоминая, как он упрашивал ее остаться, как унижался перед ней, как предлагал своё полное прощение, все более и более озлоблялся против нее и дошел даже до убеждения, что он ее ненавидит.
Какое же ему дело, здорова ли, жива ли ненавистная ему женщина.
Растравливая свою злость, растравливая свое оскорбленное самолюбие, князь довел себя даже до мысли, что болезнь и самая смерть княгини не доставит ему ничего, кроме удовольствия.
Дни и недели томительного ожидания тянулись подобно бесконечной вечности.
Князь Андрей Павлович отдал приказание доложить ему тотчас о возвращении Сидорыча, хотя бы это было ночью.
Наконец Степан приехал.
Это было действительно ночью.
Разбуженный князь приказал позвать его к себе в спальню.
— Ну, что? — спросил он дрожащим голосом, когда Степан прямо в дорожном платье вошел в спальню и остановился у княжеской постели.
— Все благополучно–с, ваше сиятельство!
— Устроил?
— Как приказали, ваше сиятельство, сына у их сиятельства нет.
— А был сын?
— Точно так–с, ваше сиятельство.
— А что княгиня?
— Больны–с…
— Опасно?
Голос князя дрогнул.
— Никак нет–с… Обыкновенно… после родов…
— Она знает?
— Никак нет–с!
— То есть как же?.. Говори толком.
Степан медленно, со всеми подробностями своего путешествия, рассказал князю происшедшее в селе Чижеве, в двух верстах от имения княгини, передал свои затруднения исполнить волю его сиятельства, осенившую его мысль, при виде мертвого ребенка — Акулины, о подмене детей и полную уверенность княгини Зинаиды Сергеевны, что она родила мертвую девочку.
Князь слушал внимательно, и когда Степан кончил, то вдруг вскочил с постели и бросился на шею своему верному слуге.
— Спасибо, спасибо… Ты мне не слуга, а друг… — говорил князь, целуя запыленного Сидорыча и в губы, и в щеки.
— Что вы, ваше сиятельство, что вы… — лепетал растроганный Степан. — Мы и так вами много довольны…
В это время в соседней со спальней комнате, где помещалась детская, раздался крик ребенка.
— Вот, вот кто обязан тебе более, чем я, я завещаю ему покоить твою старость, — сказал князь Андрей Павлович и, наскоро накинув халат и надев туфли, отправился в детскую.
Около постели Васи уже стояла проснувшаяся няня.
Ребенок, оказалось, крикнул во сне.
Сидорыч остался ждать в кабинете.
Князь вскоре вернулся.
— Вот счет и оставшиеся деньги, — сказал Степан.
— Какие счеты, какие деньги… Оставь себе… Я перед тобой неоплатный должник, — заметил князь, садясь на постель. — Ты говорил, что отдал ребенка Потемкиной?
— Точно так–с, ваше сиятельство…
— У ней нет родственников в Петербурге?
— Сын, Григорий Александрович, офицер…
— Это ее сын! — как бы про себя заметил князь Андрей Павлович.
Он слышал о красавце Потемкине, в котором принимает участие сама императрица, и даже несколько раз видел его во дворце.
— Ты уверен, что она не проболтается?.. Не напишет обо всем сыну?
— Не могу знать… Но только думаю, ей не рука, так как денег она от меня две тысячи рублев взяла, а когда я ей объявился вашим камердинером и вышло, значит, никакого товару мне от нее не надо, деньги она мне не возвратила.
— Что же из этого?
— Значит, вроде сделалась как сообщница, на манер Аннушки…
— А…
— И притом же она при мне Акулине его за ее собственного ребеночка выдала и только сказала, что от скуки одиночества возьмет его к себе и воспитает, а потому ей, говорю, супротив нас идти не рука…
— Все‑таки ей надо отвезти капитал… Отдохнешь — да и снова в дорогу… Надо окончательно замазать ей рот, а то, не ровен час… Сын ее на хорошей дороге… Пообещай ей мое покровительство, это тоже поможет привлечь ее окончательно на нашу сторону.
Князь отпустил Степана и заснул так крепко, как не спал уже давно.
Сидорыч, несмотря на усталость с дороги, заснуть не мог.
Замечание князя Андрея Павловича относительно того, что Дарья Васильевна Потемкина проболтается или напишет сыну, который может довести все это до сведения начальства, а может быть, и самой царицы, произвело на Степана гораздо более впечатления, нежели на князя, которому пришло это соображение в голову, и лишило камердинера сладости отдохновения после исполненного трудного дела.
Он боялся и дрожал и за себя, и за князя и сам не мог понять, за кого он боялся более.
«Я что, я раб, мне что прикажут, то и делать должен… вот он… сам себе господин, он в ответе… Оно, конечно, постегают…»
Степан даже заворочался на своей постели, точно почувствовал жгучую боль от стеганья…
«Не миновать, постегают…» — заключил он.
Уже был совсем день, когда он заснул.
Не прошло и двух недель, как он сам напомнил князю Андрею Павловичу Святозарову, что следовало бы съездить в Чижево.
— Не ровен час, ваше сиятельство… — заметил он.
— Чего же ты опасаешься?
— Сумление берет, ваше сиятельство…
— Нет, кажется, ты прав, ей всего лучше молчать, я об этом думал.
— Все бы лучше окончательно переговорить… Спокойно и мне, и вашему сиятельству…
— Что ж, поезжай отвези ей деньги… Я от своего слова не отступаюсь…
— Не об этом речь, ваше сиятельство, я разузнать, что и как.
— Так поезжай хоть завтра.
— Чем скорей, тем лучше…
— Говорю, поезжай…
Князь вручил ему в тот же вечер пятьдесят тысяч рублей и отпустил в дорогу.
С не меньшим замиранием сердца, чем и в первый раз, ехал Сидорыч для окончательных переговоров в Смоленскую губернию.
Сердце–вещун чуяло что‑то недоброе…
Предчувствие оправдалось.
Мы знаем, как его встретили в Чижеве и как он принужден был без всяких разговоров поворотить назад.
В ушах его звучала угрожающая фраза Дарьи Васильевны: «Да, прямо к ногам матушки царицы и вас с барином, душегубцев, на чистую воду выведем…»
Он снова невольно сделал движение спиной, предвкушая удары плетью.
Проехавши несколько станций, Степан нашел в себе силы к более хладнокровному обсуждению случившегося.
«Грозит старуха, может, так, на ветер…» — явилась у него успокоительная мысль.
Он начал соображать именно в этом направлении.
То обстоятельство, что Дарья Васильевна упорно отказалась от факта нахождения у нее ребенка княгини и настойчиво выдавала его за сына Акулины, привело Сидорыча к мысли, что старуха сама спохватилась, что совершила преступление, и отпирается.
«Боится, старая, сама под ответ попасть… а я ее испугался… Вот уж подлинно — у страха глаза велики…»
Степан относительно успокоился.
По мере приближения к Петербургу его стал тревожить другой вопрос: что он скажет князю Андрею Павловичу.
Сказать правду, надо возвратить деньги, а между тем Степан, сэкономивший от своей первой поездки несколько тысяч, стал уже одержим незнакомым ему ранее чувством стяжания, да, кроме того, эти деньги давали ему возможность осуществить давно лелеянную им мечту: эти деньги давали ему в руки обладание женщиной, образ которой все чаще и чаще стал носиться в его воображении, но которая для него, крепостного человека, была недостижима. На волю его князь отпустит, а с деньгами она — его. Он, поехав к Дарье Васильевне, хотел ей отдать только половину, а теперь приходится их все возвращать князю — своими руками отдавать свое счастье.
Нет, ни за что!
Сидорыч стал усиленно, как он выражался, «мозговать» вопрос, как сохранить эти деньги в своем кармане.
Усилия его увенчались успехом уже при въезде в Петербург.
Явившись в кабинет князя Андрея Павловича, Степан, не говоря ни слова, упал ему в ноги.
— Что, что такое? — воскликнул не приготовленный к этому князь.
— Смилуйся, ваше сиятельство, виноват…
— Что, в чем, встань, говори.
— Деньги‑то я ей отдал…
— Ну, так что же, взяла, это и хорошо… — весело заметил Андрей Павлович.
— А мальчик‑то помер…
— Как умер?
— Умер… Недели за полторы до моего приезда отдал Богу душу…
Князь истово перекрестился.
— Это самая лучшая развязка…
— А она‑то, Дарья Васильевна, старая хрычовка, мне это опосля, как деньги забрала, сказала… Я было деньги назад требовать… Куда ты… В три шеи прогнала, а если что, сыну, говорит, напишу, а он самой государыне доложит… Сколько я страху натерпелся… Смилуйтесь, ваше сиятельство, может, сами съездите… такая уймища денег, и так зря пропадут.
— Успокойся, дружище, отлично, что она взяла, По крайней мере, у нее рот навсегда замазан… Было бы хуже, если бы ты их привез обратно…
Лицо Сидорыча просияло.
— А что княгиня? — спросил князь.
— Все, слышно, хворает, да, я чаю, скучает больше.
Князь опустил голову и задумался.
Степан вышел и, вернувшись в свою комнату, запер дверь и бережно уложил в свою укладку привезенные обратно княжеские деньги.
Он был капиталистом.
Оставалось добыть волю — он добудет ее.
Князь Андрей Павлович между тем совершенно успокоился. Смерть ребенка княгини примирила его не только с ним, но и с женою.
У него даже вдруг явилось сомнение, не ошибся ли он, обвинив жену; он припомнил ее слова, полные загадочного смысла, на которые он тогда не обратил внимания и которые теперь казались ему шагом к полному оправданию княгини Зинаиды.
«Она не захотела оправдываться из гордости, я запугал ее…» — мелькнула у него мысль, окончательно перевернувшая отношения к отсутствующей жене.
Прошло несколько месяцев. Наступила весна.
Князь взял отпуск и уехал из Петербурга.
Был чудный майский вечер.
Княгиня Зинаида Сергеевна Святозарова сидела, по обыкновению, в саду, около заветного креста, на сделанной по ее приказанию около него скамейке.
Она думала о своем сыне… о муже…
Голова ее была опущена на грудь.
Вдруг около нее раздался голос:
— Зина!
Княгиня вскочила.
Перед ней стоял в дорожном платье князь Андрей Павлович.
— Андрей! — воскликнула она и бросилась ему на шею.
Супруги расцеловались, как бы между ними ничего не
произошло.
Княгиня опомнилась первая.
— Здесь, здесь наша дочь, — указала она на деревянный крест, — наша, твоя…
Она снова бросилась ему на шею и залилась слезами.
— Верю, моя дорогая, верю… я был виноват перед тобой… — прошептал князь и на руках отнес почти бесчувственную жену в дом.
На другой день они выехали в Петербург. Он повез мать к сыну.
XXV У СТУПЕНЕЙ ТРОНА
4 декабря 1773 года Григорий Александрович Потемкин находился под Силистрией [23], осада которой русскими продолжалась уже довольно долго.
Следя глазами уже опытного военачальника за ходом этой осады, он мысленно продолжал находиться у трона обожаемой им государыни.
Он, конечно, не мог знать, что в этот именно день императрица Екатерина отправила ему письмо, которое он и получил во время праздника Рождества [24].
Это было для него двойным праздником.
«Господин генерал–поручик и кавалер, — писала ему государыня, — вы, я чаю, столь упражнены глазеньем на Силистрию, что вам некогда письма читать, и хотя по сию пору не знаю, преуспела ли ваша бомбардировка, но тем не меньше я уверена, что все то, что вы сами предприемлете, ничему иному приписать не должно, как горячему вашему усердию и ко мне персонально, и вообще к любезному отечеству, которого вы службу любите. Но как, с моей стороны, я весьма желаю ревностных, храбрых, умных и искусных людей сохранить, то прошу вас по–пустому не вдаваться в опасности. Прочитав сие письмо, может статься, сделаете вопрос: к чему оно писано? На сие имею вам ответствовать: к тому, чтобы вы имели подтверждение моего образа мыслей о Вас, ибо я всегда к вам доброжелательна».
Григорий Александрович несколько раз перечитал это драгоценное для него письмо.
Он знал боготворимую им монархиню, он умел понимать ее с полуслова, читать между строк ее мысли.
Он понял, что час его пробил, что царица и отечество требуют его исключительной службы при тогдашних тяжело сложившихся обстоятельствах внутренней жизни России.
Он бросил все и поскакал в Петербург.
Его отъезд причинил большое огорчение любившим его товарищам и подчиненным.
Солдаты утешались лишь тем, что их отец–командир покинул их по вызову самой матушки царицы.
Весть о письме государыни к Потемкину — причине его отъезда из армии, конечно, тотчас же с быстротой молнии облетела войска.
Императрица встретила его с особенным вниманием.
Он был представлен государыне Григорием Орловым, все еще продолжавшим стоять у кормила правления.
Воспользовавшись благосклонностью царицы, Григорий Александрович, памятуя русскую пословицу: «Куй железо, пока горячо», прежде всего поторопился вознаградить свое честолюбие.
Он был недоволен полученными им наградами, тем более что два генерала, Суворов [25] и Бейсман, стоявшие ниже его по линии производства, получили ордена Святого Георгия 2–й степени, и написал вскоре после своего приезда в Петербург письмо государыне.
Письмо было им подано через тайного советника Стекалова, находившегося у принятия прошений.
Оно было следующего содержания:
«Всемилостивейшая государыня! Определил я жизнь мою для службы вашей, не щадил ее отнюдь, где только был случай на прославление высочайшего имени. Сие поставя себе простым долгом, не мыслил никогда о своем состоянии и, если видел, что мое усердие соответствовало вашего императорского величества воле, почитал себя уже награжденным. Находясь почти с самого вступления в армию командиром отдельных и к неприятелю всегда близких войск, не упускал наносить оному всевозможный вред, в чем ссылаюсь на командующего армией и на самих турок. Отнюдь не побуждаемый завистью к тем, кои моложе меня, но получили высшие знаки высочайшей милости, я тем единственно оскорблен, что не заключаюсь ли я в мыслях вашего величества меньше прочих достоин? Сим будучи терзаем, принял дерзновение, пав к священным стопам вашего императорского величества, просить, ежели служба моя достойна вашего благоволения и когда щедроты и высокомонаршая милость ко мне не оскудевает, разрешить сие сомнение мое пожалованием меня в генерал–адъютанты вашего императорского величества. Сие не будет никому в обиду, а я приму за верх моего счастия, тем паче что, находясь под особым покровительством вашего императорского величества и вникая в оные, сделаюсь вяще способным к службе вашего императорского величества и отечества».
Недолго пришлось Григорию Александровичу ждать всемилостивейшего ответа.
На другой же день по отправлении им письма он получил письмо императрицы:
«Господин генерал–поручик. Письмо ваше г. Стрекалов мне сего утра вручил, и я просьбу вашу нашла столь умеренною, в рассуждении заслуг ваших, мне и отечеству учиненных, что я приказала изготовить указ о пожаловании вас в генерал–адъютанты. Признаюсь, что и сие мне приятно, что доверенность ваша ко мне такова, что вы просьбу вашу адресовали прямо письмом ко мне, а не искали побочными дорогами. Впрочем, пребываю к вам доброжелательная».
1 марта 1774 года Потемкин назначен был генерал–адъютантом, и вслед за тем ему был пожалован орден Святого Александра Невского.
Казалось, самое ненасытное честолюбие могло бы быть удовлетворено.
Григорий Александрович поехал во дворец благодарить за оказанные ему милости и был принят более чем благосклонно.
Вдруг после этого посещения князь сделался задумчивым, заскучал и перестал ездить во дворец.
В придворных сферах, где с неусыпным вниманием следили за восхождением нового светила, все были поражены.
Изумление достигло крайних пределов, когда узнали, что вновь назначенный генерал–адъютант, кавалер ордена Святого Александра Невского, удалился в Александро–Невскую лавру, отрастил бороду и, надев монашескую одежду, стал прилежно изучать церковный устав и выразил непременное желание идти в монахи.
Сама государыня была поражена.
Никто не мог найти причину такой странной перемены, казалось, в жизнерадостном, веселом и довольно молодом генерал–адъютанте.
Еще так недавно сама Екатерина, сообщая Бибикову о назначении его друга Потемкина генерал–адъютантом, закончила свое письмо словами:
«Глядя на него (то есть Потемкина), веселюсь, что хотя одного человека совершенно довольного около себя вижу».
И вдруг…
Причина, однако, была…
Этой причиной было чувство, которое не могло заглушить ни восторженное поклонение государыне, ни возвышение в почестях, никакие радости в мире, — чувство первой, чистой любви.
Приехав благодарить государыню и проходя по залам дворца, Григорий Александрович в одной из них совершенно неожиданно встретил князя Андрея Павловича Святозарова и его жену.
Они только что вышли от императрицы.
Совершенно не подготовленный к этой встрече, — княгиня Зинаида Сергеевна очень редко бывала при дворе, — Потемкин был положительно поражен и еле устоял на ногах.
Ему показалось, что все вокруг него окуталось непроницаемым мраком…
Григорий Александрович переломил себя, поклонился княжеской чете, как того требовал придворный этикет, и прошел далее.
Он нашел в себе силы выразить в самых утонченных выражениях свою верноподданническую благодарность императрице, но, вернувшись из дворца, не сумел совладать со шквалом налетевших на него воспоминаний прошлого.
Все вдруг опостылело ему: весь этот мишурный блеск, ожидаемая карьера правой руки повелительницы миллионов, богатство, роскошь, исполнение малейших капризов — все показалось суетным и ничтожным.
Молоденькая грациозная девушка с ласковыми, смеющимися глазами — княжна Несвицкая, — какою он ее видел более десяти лет тому назад, стояла перед ним, и этот дивный образ, потерянный им навсегда, заставил его проливать горькие слезы, как бешеного в бессильной злобе метаться по кровати, до крови закусывать себе ногти, чтобы физической болью заглушить нравственную.
Он нигде не находил себе места и метался, как дикий зверь в железной клетке.
Ему было тяжело в городе, он поехал за город, в Александро–Невскую лавру.
Там, в тиши монастыря, он в горячей молитве обрел тот душевный покой, который тщетно искал уже несколько дней.
«Вот та тихая пристань, которая чужда житейских треволнений…» — невольно сложилось в его уме.
Он не захотел скоро оставить обитель. Ему казалось, что за ее воротами снова, вместе с городским шумом, нахлынет на него смерч воспоминаний, леденящий его душу ужасом.
Григорий Александрович зашел к игумену и испросил у него разрешения погостить под кровлей святой обители.
Разрешение было дано, и, как мы уже сказали, слух о том, что Потемкин вдет в монахи, взволновал весь Петербург.
«Комедиант!» — решили злые великосветские языки.
Одна государыня своим чутким женским умом поняла, что у Григория Александровича есть затаенная душевная рана, что эту рану можно если не залечить, то, по крайней мере, смягчить ее острую боль только благосклонностью и милостью.
Провидя, что способности ее нового приближенного неоценимы и более чем необходимы для России, она снизошла до посещения своего удрученного неведомым ей горем верноподданного в келье Александро–Невского монастыря.
Эта высокая милость одна способна была влить живительный бальзам в наболевшую душу Потемкина.
Ласковые слова императрицы довершили остальное.
Не стараясь узнать, какое горе терзает его, она с присущими ей мягкостью и тактом обошла этот вопрос в разговоре с Григорием Александровичем. Она указала ему на тот высокий жребий, который выпадает на его долю велением судьбы, и сказала, что человек, призванный утешать горе многих, должен если не забывать о своем, то иметь настолько силы духа, чтобы не предаваться ему чрезмерно.
Григорий Александрович воспрянул духом.
Екатерина знала своего «ученика», как она любила называть Потемкина.
Она утешала его искусно нарисованной картиной славы и бессмертия на страницах истории.
Он должен жить и работать не для себя, а для России.
Таков был смысл слов великой монархини.
Императрица оставила Григория Александровича совершенно изменившимся.
«Я буду жить, я буду работать для нее… для России», — сказал он сам себе.
На другой день он появился во дворце, среди изумленных придворных, в богато расшитом генерал–адъютантском мундире, в орденах, веселый, бодрый, жизнерадостный…
С этого времени начинается исключительное влияние Потемкина на дела государственные и ряд великих заслуг, оказанных им России. Тонкий политик, искусный администратор, человек с возвышенной душой и светлым умом, он вполне оправдал доверие и дружбу императрицы и пользовался своей почти неограниченной властью — лишь для блага и величия родины. Имя его тесно связано со всеми славными событиями екатерининского царствования и справедливо занимает в истории одно из самых видных и почетных мест.
Звезда Григория Орлова закатилась, взошло новое светило — Потемкин.
Они виделись в это время очень редко.
Однажды Григорий Александрович, приехав во дворец, стал подниматься по лестнице.
Ему навстречу спускался Григорий Орлов.
Они столкнулись лицом к лицу.
Орлов пристально посмотрел на Григория Александровича.
— Что нового при дворе? — спросил, чтобы только что‑нибудь сказать, смущенный Потемкин.
— Ничего, кроме того, что я иду вниз, а вы поднимаетесь, — отвечал Орлов, указав рукой на верхнюю площадку лестницы.
Часть вторая В БОРЬБЕ С ЛУНОЮ
I СВЕТЛЕЙШИЙ
иллионная улица [26] была почти сплошь запружена экипажами, тут были и высокие щегольские кареты, новомодные берлины и коляски, старые громоздкие рыдваны — словом, экипажи всех видов и цветов, черные, синие, голубые, палевые и фиолетовые.
К подъезду Зимнего дворца, ведущему в апартаменты, отведенные светлейшему князю Григорию Александровичу Потемкину, то и дело подъезжают новые.
Лакеи и гайдуки [8]мечутся во все стороны, подсаживая и высаживая господ, лихо распахивают и захлопывают дверцы и с треском раздвигают высокие, в шесть ступеней, подножки, по которым приезжающие и уезжающие шагают, покачиваясь из стороны в сторону.
У Потемкина — прием.
Весь Петербург в приемные дни ездил на поклон к светлейшему.
Прошло около двух лет со дня его приезда в Петербург от стен Силистрии, а между тем за это короткое время с ним совершилась почти волшебная метаморфоза.
В 1774 году он был уже генерал–аншефом и вице–президентом военной коллегии.
В последней должности он оказал большие услуги России в смысле упрощения обмундирования войска. Обрезав солдатам косы, которые они носили до того времени, он избавил их от лишней работы над своим туалетом и от головных болезней, распространенных в войсках.
Он ввел в армии куртки, шаровары и полусапожки и сделал движение солдата легче и свободнее; введенные им солдатские шинели были гораздо удобнее прежних; зведены были более легкие ружья, и численность войска была умножена.
Приведем отрывок из интересного проекта Потемкина, им самим сочиненного:
«Завиваться, пудриться, плесть косы — солдатское ли сие дело? У них камердинеров нет; на что же пукли? Всяк должен согласиться, что полезнее голову мыть и чесать, нежели обсыпать пудрою, салом, мукою, шпильками, косами.
Туалет солдата должен быть таков - Что встал, то и готов!»Кроме того, сделавшись приближенным к государыне, он прежде всего обратил внимание на скорейшее усмирение Пугачевского бунта.
С присущими ему энергией и распорядительностью он принял тотчас же решительные меры и много способствовал подавлению мятежа, грозившего большой опасностью государству.
Затем при его содействии был заключен Румянцевым–Задунайским выгодный мир с турками при Кючук–Кайнарджи.
По заключении этого мира императрица издала следующий высочайший именной указ:
«Генерал–поручик Потемкин, непосредственно способствовавший своими советами к заключению выгодного мира, производится в генерал–аншефы и всемилостивейше жалуется графом Российской империи; в уважение же его храбрости и всех верных и отличных заслуг, оказанных им в продолжение сей последней войны, всемилостивейше награждаем мы его, Потемкина, золотой саблей, украшенной бриллиантами и нашим портретом, и повелеваем носить их, яко знак особого нашего благоволения».
Еще ранее этого ему были пожалованы ордена русские: Святой Анны и Святого апостола Андрея, и иностранные: прусского Черного Орла, датского Слона и шведского Серафима, и польские: Святого Станислава и Белого Орла.
Австрийский император Иосиф II [27] прислал ему, по просьбе императрицы Екатерины, диплом на княжеское достоинство Римской империи.
Потемкин стал «светлейшим князем».
Интересна маленькая подробность.
Незадолго перед тем Иосиф II отказал наградить этим титулом двух своих министров, за которых ходатайствовала императрица — его мать.
Одновременно с этими сыпавшимися на него положительно дождем милостями государыни, и милостями, кстати сказать, вполне заслуженными, Григорий Александрович был назначен новороссийским генерал–губернатором.
Сознавая свои заслуги, он понимал, что раболепствующая перед ним толпа не имела о них даже отдаленного понятия и низкопоклонничала не перед ним лично, а перед силой блеска и богатства, которых он являлся носителем Он для них был лишь «вельможей в случае», и они совсем не интересовались, какими способами добился он этого случая.
За это их глубоко презирал Григорий Александрович, и этим объясняется та надменность, с которой он держал себя относительно равных ему, и та задушевная простота, которая проявлялась в нем по отношению к низшим.
Потомки недалеко ушли от его современников, и большинство их отмечало лишь пятна, бывшие на этом солнце, не замечая, что эти пятна только черные тени от окружавшего его общества.
Вернемся, впрочем, в приемную светлейшего.
В огромной зале царит относительная тишина, усиливающаяся жужжанием сдержанного шепота.
Громадная толпа ожидает приема. Тут и высокочиновные, и мелкие люди. Все сравнялись перед недостижимым величием хозяина.
Все взгляды то и дело устремляются на затворенные наглухо высокие двери, за которыми находится кабинет светлейшего, всесильного и властного распорядителя миллионов, от каприза, от настроения духа которого зависит людское горе и людское счастье.
Из кабинета выходит адъютант и вызывает по фамилии приглашаемых в кабинет.
При каждом появлении этого рокового вестника даже жужжанье прекращается и наступает могильная тишь.
Вызванный скрывается за заветными дверями, и снова во всех углах раздается сдержанный шепот.
— Много, много может князь… все… — шепчет толстый генерал худому, как спичка, человеку в дворянском мундире, с треуголкой в руках.
— То есть как все? — робко задает вопрос последний.
— Все… говорю… все… Царица для него все сделает, а он порой царице скажет… коли прикажешь, государыня, твоя воля, исполню, а по совести делать бы то не надо, и шабаш, вот он какой, светлейший…
Дворянин сокрушенно вздыхает.
— Третий месяц каждую неделю являюсь, не могу добиться лицезреть его светлость… — слышится в другом углу сетование сановного старичка.
— Вызваны?
— Нет, по сепаратному, личному делу.
— Это еще что… Потеха тут прошлый раз была как раз в прием… Вызвал его светлость тут одного своего старого приятеля, вызвал по особенному, не терпящему отлагательства делу… Тот прискакал, ног под собой не чувствуя от радости, и тоже, как и вы, несколько месяцев являлся в приемные дни к светлейшему — не допускает к себе, точно забыл… Решил это он запиской ему о неотложном деле напомнить и упросил адъютанта передать…
— Ну и что же?
— Тот предупреждал, что худо будет, не любит ею светлость, чтобы ему напоминали… но передал…
— Принял?
— Принял, здесь, в приемной… Сам вышел.
— Вот как!
— Вызвали это вперед его приятеля… Князь оглядел его и говорит: «Дело, дело, помню, помню… Совсем было забыл, виноват… Вот, братец, в чем состоит дело: у меня есть редкий прыгун; так как ты очень высок ростом, то я спорил с ним, что он через тебя не перепрыгнет. Теперь спор решится». Князь сказал что‑то на ухо адъютанту, тот исчез, а через минуту откуда ни возьмись этот самый прыгун и как птица перелетел через приятеля его светлости. «Ну, я проиграл!» — сказал князь, обнял приятеля да и ушел к себе в кабинет. Прием приказал кончить…
— Однако это… — пожал плечами сановник–старичок.
— Что «однако», что это… Приятель‑то его светлости какое на другой день место получил, что десятку прыгунов можно дозволить через себя перескочить.
Говоривший наклонился к уху старичка.
— А–а… — многозначительно протянул последний. — Неужели?
— Да, вот вам и неужели… Для этого он его и вызвал из именья, способности его знал, а прыгун это так, каприз, не напоминай, сам вспомню… вот он каков, светлейший‑то…
— Нет, кажется, что с вами решили покончить, Антон Васильевич! — слышалось в третьей группе.
Говоривший был еще сравнительно молодой генерал с широкой грудью, увешанной орденами.
— Ох–хо–хо… — вздохнул рослый казак. — Тут, по приезде, я уже являлся к его светлости с объяснительными бумагами. Проект представил, значит, переделки в Сечи, кого удалить, кого переместить, так тайком, потихонечку…
— Ну, что же князь?..
— Швырнул бумаги мои в угол и сказал: «Право, не можно вам оставаться. Вы крепко расшалились и ни в каком виде не можете уже приносить пользы. Вот ваши добрые и худые дела».
Показал он мне тут толстую тетрадь, в которой написаны все хорошие и худые Дела Запорожья и размещены одни против других.
— Каких же больше? — усмехнулся генерал.
— Все записано верно, никаких обстоятельств из обоих действий не скрыто и не ослаблено, только «хитра писачка что зробив». Худые дела Сечи написал строка от строки пальца на два и словами величиною с воробьев, а что доброго сделала Сечь — часто и мелко, точно песком усыпал. От того наши худые дела занимают больше места, нежели добрые… Только одна надежда, что не выдаст Грицко Нечеса.
— Это кто ж такой?
— А сам светлейший… Он у нас под таким прозвищем уже более двух лет вписан в сечевые казаки…
— Вот как… Грицко Нечеса… По Сеньке и шапка… — съязвил уже совершенно сдавленным шепотом генерал.
— Полковой старшина Антон Васильевич Головатый!.. — выкрикнул явившийся из двери кабинета адъютант светлейшего.
Казак встрепенулся и, несколько оправившись, развалистой походкой направился к кабинету.
Григорий Александрович ходил взад и вперед по обширному кабинету, то приближался к громадному письменному столу, заваленному книгами и бумагами, у которого стоял чиновник, то удалялся от него.
Увидя Головатого, вошедшего в сопровождении адъютанта, почтительно остановившегося у двери, он круто повернул и пошел к нему навстречу.
— Все кончено… — сказал он. — Текелли доносит, что исполнил поручение. Пропала ваша Сечь.
Головатый пошатнулся. Вся кровь бросилась ему в лицо, и не помня себя он запальчиво произнес:
— Пропали же и вы, ваша светлость!
— Что ты врешь? — крикнул Потемкин и гневным взглядом окинул забывшегося казака.
Тот разом побледнел под этим взглядом: он ясно прочел на лице светлейшего его маршрут в Сибирь.
Антон Васильевич струсил не на шутку.
Надо было скорее смягчить гнев властного вельможи, и, несмотря на поразившее его известие об окончательном уничтожении родной Запорожской Сечи, Готоватый нашелся и отвечал:
— Вы же, батьку, вписаны у нас казаком; так коли Сечь уничтожена, так и ваше казачество кончилось.
— То‑то, ври, да не завирайся! — более мягким тоном сказал князь.
Затем уже хладнокровно он объяснил Головатому, что он и другие прибывшие с ним депутаты будут переименованы в армейские чины и отпущены из Петербурга…
— Ты будешь поручиком…
Головатый низко поклонился, хотя две слезы скатились по его смуглым щекам.
Это были слезы над могилой Запорожской Сечи.
Головатый вышел из кабинета.
Вскоре за ним появился адъютант и объявил, что приема больше не будет.
— Это со мной уже пятнадцатый раз… — вслух сказал сановный старичок.
Толпа хлынула к выходу. Говор сделался менее сдерживаемый, а на лестнице стоял уже настоящий гул от смешавшихся голосов.
Вдруг та же толпа почтительно расступилась на обе стороны лестницы и снова притихла, как по волшебству.
По лестнице поднималась маленькая старушка, одетая в черное платье из тяжелой шелковой материи.
Это была мать светлейшего князя Потемкина, знакомая нам Дарья Васильевна.
II В ЗИМНЕМ ДВОРЦЕ
Счастье делает людей неузнаваемыми.
То же случилось и с Дарьей Васильевной Потемкиной.
Кто бы мог в шедшей по лестнице дворца среди расступившихся почтительно сановных лиц почтенной, разряженной в дорогое платье старухе узнать бедную смоленскую помещицу, жившую в полуразвалившемея доме, где свободно по комнатам шлепали лягушки, — Дарью Васильевну, ныне кавалерственную статс–даму ее императорского величества.
Откуда взялась эта важная поступь, эта милостивая улыбка, играющая на ее губах?
Она даже как будто выросла, не говоря уже о том, что пополнела.
Все это сделало единственное в мире волшебство — счастье.
Дарья Васильевна за несколько месяцев до нашего рассказа прибыла в Петербург и поселилась в Аничковом дворце, незадолго перед тем купленном императрицею Екатериною у графа Разумовского и подаренном Потемкину.
Сам князь в нем не жил, но давал иногда в садовом павильоне дворца великолепные праздники.
С Дарьей Васильевной прибыли в Петербург и четыре ее внучки: Александра, Варвара, Екатерина и Надежда Васильевны Энгельгардт. Младшей из них было пятнадцать лет, а старшей шел восемнадцатый.
Светлейший дядя не жалел ничего для воспитания своих племянниц, и лучшие учителя и учительницы Петербурга были приглашены к ним преподавателями.
Нечего говорить уже о том, что приезжие мать и племянницы светлейшего были окружены почти царской роскошью и высшее общество столицы носило их на руках.
Все четыре сестры Энгельгардт были очень красивые девушки, и этим отчасти объясняется более чем родственная любовь к ним Григория Александровича — поклонника женской красоты.
Адъютант князя, бывший еще в зале, первый увидел вошедшую Дарью Васильевну и бросился с докладом в кабинет светлейшего.
Григорий Александрович тотчас вышел и встретил свою мать на середине залы.
Почтительно поцеловав ее руку, он повел ее в кабинет и кивнул адъютанту, давая знать, что он более не нуждается в его услугах.
Тот отвесил почтительный поклон и вышел из кабинета.
— Были, видели?.. — спросил Григорий Александрович дрогнувшим голосом.
— Сейчас от княгини… С час посидела у ней… Ничего, Мальчик поправляется, и она стала много веселее…
— Не наступил, значит, час кары Божьей… — с расстановкой, торжественным тоном произнес Потемкин.
— Что это ты, Гриц, говоришь, за что ее Богу наказывать?.. И так она без меры страдалица… Тяжело мне бывать у ней…
— С чего это, матушка?..
— Как с чего… Вот и нынче заговорила со мной о своей девочке… «Кабы, — говорит она, — жива была, играла бы теперь с Васей, — красные бы были дети…» А мне каково слушать, да знать, да сказать не сметь…
— Действительно… это трудно… для женщины, главное, сказать не сметь… — засмеялся Потемкин.
— Тебе все смешки да смешки, а мне да княгине слезки…
Григорий Александрович сделался вдруг чрезвычайно серьезен.
— А меньше было бы ей слез и горя, коли бы она знала, что сын ее жив, терпит низкую долю — неизвестно где и у кого… А это бы случилось, кабы я не вмешался и не написал бы вам тогда…
— Оно, пожалуй, Гриц, ты и прав… Но когда же ты возвратишь ей ее ребенка?.. Или он так и останется Петровским?..
— Может быть, так и останется… Я теперь об нем могу малость получше позаботиться, чем его батюшка, князь Святозаров… Кстати, видели вы его?
— Как же, видела… Просил передать тебе поклон… Веселый такой… радостный, у жены раза три при мне руку поцеловал… а она его в лоб…
— Значит… счастливы… — с горькой усмешкой заметил Григорий Александрович.
— По видимости, счастливы, только я, Гриц, здесь теперь у вас попригляделась — не узнаешь ведь придворных‑то лиц; он это улыбается, когда на душе кошки скребут; плачет, когда ему, может, скакать хочется… только Святозаровы, кажется, этому роду не подходят — простые, прямые люди, он, кажись, добряк, мухи не обидит.
— А убить человека может?..
— Что ты, Гриц, разве это было?
— Нет, я так, к слову…
— И за что ты его так не любишь, Гриц?
— Я? С чего вы это взяли…
— Не бываешь у них, а они такие ласковые да предупредительные…
— Кто ко мне да к вам не ласков да не предупредителен…
— Все‑таки…
— Что все‑таки, — горячо перебил ее князь. — Не верю я, маменька, в эту людскую ласковость, все они низкопоклонничают, так как я высоко стою, меня не достанешь… А могли бы ухватиться хоть за ногу, стащили бы сейчас вниз и растоптали бы с наслаждением, потому‑то и презираю я их всех, потому‑то вышучиваю с ними шутки, какие только моей душеньке хочется… Тут один тоже из них обыграл меня на днях, воспользовался моей рассеянностью и сфальшивил. Что мне с ним делать? Не судиться идти! И говорю я ему: ну, братец, с тобой я буду жрать только в плевки, приходи завтра… Прибегает чуть свет… Плюй на двадцать тысяч, сказал я ему… Он собрал все свои силы и плюнул, вон в тот самый дальний угол попал… Выиграл, братец, я дальше твоего носа плевать не могу! — заметил я ему и плюнул в рожу…
— Что ты, Гриц! — даже привстала Дарья Васильевна.
— В самую рожу… Что же бы вы думали? Взял деньги, обтерся… и по сей час ко мне ходит… Вот каковы они, люди…
— Не все же таковы.
— Все, — мрачно сказал Потемкин. — Значит, — вдруг переменил он разговор, — наследник выздоравливает, и княжеская чета счастлива и довольна…
— Кажись, что так, а так кто их знает…
— Конечно, они счастливы и довольны, что им! — махнул рукой Григорий Александрович.
В голосе его прозвучали слезы.
Это не ускользнуло от чуткого слуха матери:
— Что с тобой, Гриц?.. Не пойму я тебя… Кажется, счастливее тебя человека нет, а ты…
— Что я?
— Как будто не доволен ничем… Ведь уже, кажется, большего и желать нельзя…
— Вот то‑то, что вам кажется, что и счастливее меня нет, что и желать Мне большего нельзя… а между тем…
Григорий Александрович вдруг поник головой, и крупные слезы покатились по его щекам…
— Гриц, что с тобой? Ты плачешь… — вскочила в тревоге Дарья Васильевна.
Князь уже успел оправиться, тряхнуть головой и отвечал почти спокойным голосом:
— Нет, так, пустяки, это пройдет, я устал… этот прием…
— Ах, Гриц, Гриц… чует мое материнское сердце, что с
тобой что‑то неладное деется, а отчего — и ума не приложу… Сдается мне, скучно тебе одному… Жениться тебе надо…
— Жениться… мне?.. — удивленно уставился на Дарью Васильевну Потемкин.
— Да, тебе… Теперь за тебя какую ни на есть заморскую принцессу выдадут… молодую, красивую…
— Нет, я никогда не женюсь…
— Почему же? — робко спросила старуха, снова уже сидевшая в кресле.
— А потому, что нет и не будет мне по душе женщины, которая бы мне не надоела… Все надоедают, я это уже испытал…
— Это все оттого, что не в законе! — попробовала возразить Потемкина.
— А закон нарушать еще хуже, а я нарушу… уж такова природа моя, мне два раза любить не дано… Свята к женщине только первая любовь, а вторая то же, что десятая, это уж не любовь, а страсть… похоть…
— Я что‑то не пойму этого, Гриц…
— И не надо, только сватать меня оставьте… Невеста моя еще не родилась, да и не родится… Так вы и знайте.
В тоне голоса князя прозвучали ноты раздражения, наводившие ужас на всех и пугавшие даже его мать.
Она молчала и только печально качала головой.
— Что девчонки? — спросил после некоторой паузы Григорий Александрович.
Этим именем называл он своих племянниц.
— Веселятся да как сыр в масле катаются, благодаря твоим милостям; что им делается, тело нагуливают…
— И пусть нагуливают, тело первое дело… Я к вечеру к вам заеду, привезу малоазийской сласти, рагат–лукум прозывается.
— Уж ты их очень балуешь.
— Не для них, для себя выписал, адъютант уже с неделю как в Москву послан, сегодня обратно будет. Так, говорят, в Зарядье, близ Ильинки, купец продает ерворазборный…
— Причудник… — улыбнулась мать, видя, что сын снова покоен и весел. — Я поеду…
— С Богом, матушка… Так, значит, там все благополучно. Спасибо, что исполнили, съездили…
— Для тебя на все…
Григорий Александрович припал к руке своей матери и проводил ее из кабинета до передней, а затем снова вернулся в кабинет.
Не успел он войти, как следом за ним вошел один из его адъютантов.
— Ну, что? — нетерпеливо спросил князь.
— Все исполнено…
— Он здесь?
— Так точно, ваша светлость…
— Введите его сюда… и не пускать ни души…
Адъютант вышел.
Через несколько минут дверь кабинета отворилась, и на ее пороге появился знакомый нам камердинер князя Андрея Павловича Святозарова, Степан Сидоров.
С окладистой русой бородой и усами, одетый в длиннополый камзол, он был неузнаваем.
— Кто ты такой?
— Петербургский купец, Степан Сидоров, ваша светлость…
— Это твоя кондитерская на Садовой?
— Никак нет–с, ваша светлость, моей жены…
— Это все одно, муж да жена — одна сатана… Я вот что хотел спросить тебя, кто у тебя там девочка, так лет пятнадцати–шестнадцати, за прилавком стоит?
— Это моя падчерица Калисфения…
— Калисфения… — повторил светлейший, — хорошее имя… Только не рука ей сидеть за прилавком… Хороша очень…
— Такова воля матери, ваша светлость…
— Чья воля!.. — вскрикнул Григорий Александрович. — Я говорю мою волю…
Степан Сидоров испуганно попятился к двери.
— Отвести ее в Аничков дворец, я ее жалую камер–юнгферой к моим племянницам — фрейлинам ее величества…
Степан побледнел.
— Это невозможно, ваша светлость…
— Что–о-о… — загремел Григорий Александрович.
— Она турецкая подданная, и ее мать не согласится отпустить от себя, она будет жаловаться… — через силу, видимо побеждая робость, проговорил Степан.
— Жаловаться… на меня кому жаловаться! — крикнул вне себя от гнева князь. — Да будь она хоть чертова подданная и имей целых три матери, она будет моею… то есть она будет камер–юнгферой моих племянниц, слышал?
Степан молчал.
— Ее мать, — продолжал Григорий Александрович, — твоя жена, так ты, как муж, прикажи…
— Увольте, ваша светлость, не могу, — простонал Степан, опускаясь на колени. — Пожалейте девочку… у нее жених…
— Жених! — взвизгнул Потемкин. — Тем более, скорей ей надо поступить во дворец… Слушай, чтобы сегодня к вечеру она была там…
— Смилуйтесь, ваша светлость, — продолжал умолять Степан.
— Смилуйтесь! Я и так ей милость оказываю, а он смилуйтесь… Да что зря болтать с тобой… сказано, значит, так надо… Иначе я с тобой расправлюсь по–свойски…
Григорий Александрович подошел совсем близко к стоявшему на коленях Сидорычу и, наклонившись, сказал явственным шепотом:
— Я покажу тебе, как подменивать детей… Слышишь?..
Услыхав это, Степан Сидорыч упал ниц и остался некоторое время недвижим.
Он был поражен этими словами как громом.
Григорий Александрович между тем, не обращая на него никакого внимания, начал шагать по кабинету.
Прошло несколько минут.
«Не сдох ли он со страху?» — мелькнуло в голове светлейшего.
«Отдохнет!» — сам отвечал он на свои мысли.
Степан действительно отдох и поднялся с полу с еще более бледным, искаженным от страха лицом.
— Чтобы нынче вечером… — сказал князь.
— Слушаю–с, ваша светлость… — дрожащим голосом отвечал Степан.
— Ступай вон!
Сидорыч не заставил повторять себе этого приказания и ни жив ни мертв вышел из кабинета.
III УЗЕЛ
Если веревка разорвана и связана, то, несомненно, образуется узел.
Существует старинная сказка, где отец, желая сохранить мир между своими двумя сыновьями, подарил им небольшую доску и гвоздей разной величины, от самых мелких до самых крупных.
При каждой ссоре, по приказанию отца, они вбивали в доску гвоздь размера, сравнительного с ссорой.
Когда наступало примирение, гвоздь вынимался, но оставалось отверстие или, по меньшей мере, шероховатость.
Такой узел и такая шероховатость существовали и в отношениях князя Андрея Павловича Святозарова и княгини Зинаиды Сергеевны, несмотря на кажущееся их полное семейное счастье.
В разгаре самых чистых супружеских ласк у них обоих почти всегда мелькали в голове мысли, не только уничтожавшие обаяние этих чудных мгновений, но прямо отталкивающие их друг от друга.
В головке княгини мелькал то страшный образ окровавленного трупа несчастного Костогорова» то деревянный крест в задней аллее деревенского парка, тот крест, у которого состоялось быстрое, неожиданное примирение супругов.
В голове князя неслись те же образы, но иначе оттененные: труп Костогорова и новорожденный младенец, похищенный им у матери и умерший на чужих руках, вызывали в сердце князя не жалость, а чувство оскорбленного самолюбия и затихшей, но не угасшей совершенно злобы.
Появление князя Андрея Павловича в Несвицком в ту самую минуту, когда княгиня Зинаида Сергеевна была мысленно около оставленных в Петербурге мужа и сына, было до того для нее неожиданно, что вся выработанная ею система отношений к мужу рухнула сразу, и измученная женщина, видевшая в нем все же единственно близкого ей человека, инстинктивно, подчиняясь какому‑то внутреннему толчку, бросилась к нему на шею.
После таким образом состоявшегося примирения отступления быть не могло, и за ним невольно последовало объяснение.
Оно произошло не тотчас же, без всяких расспросов со стороны князя, действовавшего в этом случае с замечательным тактом, оно произошло потому, что являлось необходимым последствием состоявшегося примирения, и, наконец, потому, что самой княгине уже давно хотелось высказаться, излить свою наболевшую душу.
Она рассказала князю Андрею Павловичу роман своей юности, не называя имени его героя. Она объяснила ему, что встретилась с ним снова в Петербурге, в гостиной ее кузины, графини Переметьевой, и в мрачных красках, сгущенных озлоблением даже такого доброго сердца, как сердце княгини Зинаиды, обрисовала дальнейшее поведение относительно ее этой светской змеи, окончившееся убийствам не «героя ее юношеского романа», а его товарища, приехавшего по его поручению и ни в чем не повинного.
— Кого же ты любила в Москве?.. Я никого не видал у вас, кто бы мог остановить твое внимание, — уронил князь, выслушав повесть своей жены.
Он сказал это хладнокровно, хотя в душе у него поднялась целая буря ревности даже к прошлому. Кроме того, в его отуманенном мозгу против его воли появилось недоверие к словам жены, хотя они — он не мог отрицать этого — дышали искренней правдивостью, как исповедь сердца.
«Ей было время сочинять и не такую историю в деревенской глуши…» — подсказывало ему его прирожденное ревнивое чувство.
Он гнал от себя эту мысль, гнал всем усилием своего рассудка, но она, как бы вследствие этого, все чаще и чаще возвращалась в его голову и неотступно гвоздем сидела в его разгоряченном мозгу.
— Он не бывал у нас, ты не мог его видеть там, в Москве
— Где же ты его видела?
— У управляющего моей тетки…
— Какой‑нибудь разночинец! — не удержался князь от презрительного жеста.
— Нет, он дворянин, Григорий Потемкин… — отвечала княгиня.
— Потемкин… тот… самый… он сын твоей соседки! — вскочил князь в необычайном волнении.
Беседа супругов происходила уже в Петербурге, в будуаре княгини.
— Да… Но что с тобой! — спросила Зинаида Сергеевна.
— Ничего… Мне это показалось странным, я здесь с ним встречался…
Григорий Александрович не занимал в то время еще выдающегося положения, хотя в Петербурге все знали, что он пользуется благоволением государыни, которая часто в разговоре предсказывала «своему ученику» блестящую будущность в качестве государственного деятеля и полководца.
Волнение князя Андрея Павловича Святозарова объясняется далеко не признанием опасности подобного соперничества, а совершенно иными соображениями, пришедшими ему в голову при произнесении его женою имени Потемкина.
Его мать, игравшая главную роль в деле похищения его ребенка — ребенка княгини, — продолжал подсказывать ему ревнивый голос, — может, конечно, написать или рассказать сыну обо всей этой грустной истории, тем более для него интересной, что он близко знал одно из ее действующих лиц — княгиню, был влюблен в нее и хотя благоразумно воздержался, по ее словам, даже и от минутного свиданья с нею наедине, но все еще сохранил о ней, вероятно, в сердце некоторое воспоминание.
Значит, здесь, в Петербурге, есть свидетель его преступления. Он сам, даже в то время, когда был уверен, что ребенок княгини не его, чувствовал, что с точки зрения общества его поступок не может называться иным именем. Теперь же, когда сомнение в принадлежности ребенка ему, в невинности княгини стало даже для него вероятным, а минутами даже вопрос этот для него же стоял уже вне всякого сомнения, преступность совершенного им была очевидна.
«Он умер», — мелькало в его уме, и это обстоятельство отчасти уменьшало его беспокойство за свою честь, за доброе имя.
Графиня Клавдия Афанасьевича Переметьева после своего отъезда из Петербурга в Москву к больной матери так и не возвращалась на берега Невы.
На ее отсутствие было обращено особенное внимание на похоронах графа, состоявшихся с необычайной помпой.
Около месяца о графине в великосветских гостиных были самые разнообразные толки.
Прежде всего получили известие, что наследство после графа получили его племянники, так как графини Клодины не оказалось у матери, которая и не думала хворать.
Куда исчезла Клавдия Афанасьевна, с достоверностью сказать не мог никто.
Говорили, что она ушла в один из очень удаленных от Москвы и Петербурга женских монастырей, где, как уже говорили впоследствии, постриглась.
Это были, впрочем, только слухи, положительно утверждать их никто не мог.
Посудив и порядив, о графине забыли.
Не забыли ее только князь и княгиня Святозаровы.
Князь в исчезновении графини и в прошедших слухах о поступлении ее в монастырь находил подтверждение рассказа своей жены и одно из доказательств ее невинности.
Несчастному все еще нужны были подтверждения и доказательства.
Червь ревнивого сомнения точил его бедное сердце.
Было еще четвертое лицо, замешанное в этой грустной истории, — это камердинер князя, Степан Сидоров.
Его положение в княжеском доме стало с некоторого времени совершенно невыносимым.
Возвращение княгини в Петербург для него, как и для всего штата княжеских слуг, было совершенно неожиданным.
Надо заметить, что вся прислуга любила Зинаиду Сергеевну и встретила ее с большой радостью.
О возвращении ангела–барыни ее сиятельства много и долго толковали в людских и прихожих княжеского дома.
Только для Степана это возвращение было положительно ударом грома, нежданно и негаданно разразившегося над его головой.
Один вид княгини, глядевшей и на него, как на всех слуг своих, добрыми, ласковыми глазами, поднимал в его сердце целую бурю угрызений совести.
Несчастный не находил себе покоя ни днем ни ночью — исхудал и побледнел.
Была у него и другая причина беспокойного состояния духа, но оно было каплей в море мук, переносимых им в присутствии ее сиятельства.
Наконец он решился.
Это было уже через полгода после возвращения княгини и примирения супругов.
Однажды утром, явившись, по обыкновению, в уборную Андрея Павловича, он, по окончании княжеского туалета, остановился у притолоки двери.
Лицо его имело такое выражение, что князь невольно задал ему вопрос:
— Тебе чего‑нибудь надо?
— Так точно, ваше сиятельство.
— Что, говори…
— Облагодетельствован я вашим сиятельством, можно сказать, выше меры, сколотил на службе у вас изрядный капиталец… По совести, верьте, ваше сиятельство, за всю долголетнюю мою службу вот на эстолько не слукавил.
Степан указывал на кончик своего мизинца.
— К чему все это ты говоришь, я тебе верю так, ты знаешь…
— К тому, ваше сиятельство, что дело идет к старости…
— К какой это еще старости… ты мне ровесник, тебе нет еще тридцати пяти…
— Точно так, ваше сиятельство… но все же… однако же…
Степан, видимо, смешался.
— Говори толком, чего ты путаешь?
— Хотелось бы своим домом пожить, человеком сделаться…
— На волю хочешь?
— Коли ваше сиятельство дозволили бы выкупиться…
— Выкупиться… Ты сошел с ума… На что мне твои деньги… На днях ты получишь вольную.
Степан бросился к ногам князя и стал ловить его руки для поцелуев.
— Перестань, перестань… не за что, ты так много для меня сделал… Я пред тобой в долгу.
Андрей Павлович был отчасти обрадован этой просьбой Степана. Несмотря на привычку к нему с малолетства, постоянное присутствие его соучастника в поступке против жены, которую он по–своему все‑таки очень любил, было тяжело князю. Он несколько раз сам подумывал отпустить его на волю, но ему казалось, что этим он незаслуженно обидит преданного ему человека.
Теперь сам Степан просит его об этом, и князь, конечно, с удовольствием готов исполнить его просьбу.
— Встань, встань… — строго продолжал князь.
Сидорыч поднялся с колен.
— Что ты хочешь делать? — спросил Андрей Павлович.
— Торговлишкой думал заняться, ваше сиятельство.
— Смотри, не проторгуйся…
— Никак нет, ваше сиятельство, опытного товарища имею…
— Смотри, как бы ты не остался с опытом, а он с деньгами, — пошутил князь.
Степан улыбнулся.
— Никак нет–с, я сам тоже свою голову на плечах имею–с…
— Если что случится, обратись ко мне, помни, я у тебя в долгу… — заметил князь.
— Много благодарен вашему сиятельству, и так много довольны вашей милостью…
Степан вышел с низким поклоном.
Через несколько дней он получил вольную и стал, как он выражался, человеком.
IV ГРЕЧАНКА
На Садовой улице, невдалеке от Невского проспекта, существовала еще во время начала царствования императрицы Елизаветы большая кондитерская, род ресторана с бильярдными комнатами.
Кондитерская эта охотно посещалась офицерами и золотой молодежью того времени.
Говорили, что в задних комнатах этой кондитерской для завсегдатаев ее имелись ломберные столы, где можно было до утренней зари сражаться в азартные игры.
Это, впрочем, не было ни разу удостоверено полицейским протоколом.
Но не одни эти приманки привлекали посетителей в этот укромный, веселый уголок, прозванный среди молодежи того времени «Капуей».
Жена содержателя кондитерской, грека Николая Мазараки, неизвестно приблизительно когда и по каким причинам появившегося на берегах Невы, красавица Калисфения Фемистокловна, заставляла если не биться сердца, то смотреть, как кот смотрит на сало, многих петербургских ловеласов.
Насколько старый Мазараки был безобразен со своим ударяющим в черноту смуглым лицом, с красным, глубоким шрамом на правой щеке, длинным красноватым носом, беззубым ртом, лысой головой, жидкой растительностью на бороде и усах и испещренными красными жилками постоянно слезоточными глазами, настолько прелестна была его жена. В начале появления этой четы во главе кондитерской — двадцатитрех-, двадцатичетырехлетняя женщина в полном расцвете южной красоты. Высокая, стройная, с черной как смоль длинной косой, толстой змеей в несколько рядов закрученной на затылке и своей тяжестью заставляющей ее обладательницу закидывать голову и придавать таким образом всей фигуре величественный, царственный вид.
Высокая грудь, маленькие руки с тонкими пальцами, миниатюрные ножки довершали чисто классическую прелесть этой женщины, с гордым, властным видом стоявшей за прилавком и с видом полководца распоряжавшейся армией «гарсонов».
Такова она была в своем величавом спокойствии.
Она была, если только это возможно, еще лучше, когда ее громадные миндалевидные глаза дарили кого‑нибудь приветливым взглядом и когда ее красные, как кораллы, художественно очерченные губы складывались в радостную улыбку.
С этим выражением лица, против которого немногие могли устоять, встречала она почти всегда своих постоянных посетителей.
Хороша она была и в минуты вспышек гнева, когда ноздри ее правильного, с маленькой горбинкой носа раздувались, как у арабского коня, глаза метали ослепительные искры, а нежные, смуглые, матовые щеки вспыхивали багровым румянцем.
Такова она была изредка со своими подручными, чаще со своим мужем.
Она казалась неприступной.
Но наружность обманчива вообще, а женская по преимуществу.
Многие из завсегдатаев хвастали своей близостью с ней, но хитрая гречанка умела так вести свои дела, что нельзя было отличить хвастовства от правды — она была ровна со всеми при всех, а какова она была наедине, знали лишь те, кто был с нею. Каждый подозревал в другом обманутого соперника, и хвастовство близостью с Калисфенией было осторожно, под пьяную руку, в неопределенной форме.
Кованая большая шкатулка, а в особенности укладываемые в нее крупные ассигнации могли бы быть красноречивыми и убедительными доносчиками на свою хозяйку, но и шкатулка, и ассигнации молчали.
Молчал и старый муж.
Знал ли он это, или же до него не дошла очередь, так как известно, что мужья узнают о поведении своих жен последними.
Дела кондитерской шли прекрасно.
Все, что рассказываем мы, относится к тому же прошлому.
В начале царствования императрицы Екатерины Калисфении Мазараки было уже далеко за тридцать лет.
Ее муж умер за несколько месяцев до государственного переворота 1762 года.
Калисфения Фемистокловна осталась одинокой вдовой, но через восемь месяцев после смерти Николая Мазараки разрешилась от бремени девочкой.
Это странное совпадение вызвало среда постоянных посетителей кондитерской целый рад острот и каламбуров.
Свою новорожденную девочку гречанка тоже назвала Калисфенией.
Лета, конечно, наложили на Калисфению–мать свою, увы, непреодолимую печать, но наступавшее материнство, казалось, помолодило ее.
Несмотря на то что она уже приближалась к сорока летам — бабьему веку, — она все еще продолжала быть чрезвычайно привлекательной, хотя ряды ее поклонников поредели заметнее, нежели ее чудные волосы.
Смерть Николая Мазараки не отразилась совершенно на течении дела кондитерской, так как и ранее все это дело держала в своих руках «гречанка», так звали Калисфению Фемистокловну, конечно заочно, все посетители кондитерской.
Рождение дочери оказалось очень кстати для «гречанки»; стареющая красавица нашла в ней утешение.
Очень красивые женщины чрезвычайно трудно расстаются с мыслью о своей неотразимости и обыкновенно плохие математики по части прожитых Ими лет и возникающих от этого последствий для их наружности.
Так же было и с Калисфенией Фемистокловной.
Уменьшение числа поклонников и в связи с этим более редкие визиты в заветную шкатулку причиняли ей злобное огорчение, тем более что она не могла понять причины этой странной перемены отношений к ней ее посетителей.
Они еще ухаживали за ней, но в них уже не было, как прежде, этого прямо шального увлечения.
Ей приходилось делать авансы, а это не было в ее гордой натуре, и с этим помириться она не могла.
Вследствие этого она сделалась на самом деле почти неприступной.
Она вся, своей страстной натурой, отдалась любви к своей дочери.
Она окружила ее возможной роскошью и довольством.
Девочка уже через год обещала иметь разительное сходство со своей матерью.
Был, впрочем, один человек, который продолжал смотреть на Калисфению Фемистокловну бесповоротно влюбленными глазами.
Этот человек был знакомый нам камердинер Андрея Павловича Святозарова, Степан Сидоров.
Находясь в положении камердинера–друга лица, высокопоставленного в столице, Степан пользовался относительной свободой, и, приобретя, воспитываясь со своим барином, известный аристократический лоск, которым он умел при случае воспользоваться, он мог вращаться в публичных местах, далеко не совместных с его званием.
Приличная наружность, даже, пожалуй, красивая, степенный вид и платье с барского плеча делали то, что его принимали за чиновника или человека, живущего своими средствами.
Последними он умел показать, что не стесняется.
Умный и сметливый, он держался в различных ресторанах и кондитерских особняком, не заводя знакомств и не втираясь в компании. Пил он очень мало, а потому и знакомства под пьяную руку сделать не мог, да и бывал прежде в подобных местах чрезвычайно редко.
Случайно зашел он в кондитерскую Мазараки да сразу и сделался ее частым посетителем, норовя занять место против стойки, за которой величественно восседала уже сравнительно поблекшая Калисфения Фемистокловна.
Гречанка скоро пригляделась к частому посетителю и даже стала ему приветливо улыбаться.
Увядающей красавице было дорого то, что в то время как другие посетители ограничивались несколькими любезностями, иногда даже двусмысленными, Степан Сидорович — она знала даже его имя, — как прежде очень многие, неотводно смотрел на нее безумно влюбленными глазами.
Они однажды разговорились.
Он был очень осторожен. Он как бы вскользь только говорил о себе, сказал, что он купец, имел торговлю бакалеей в одном из больших губернских городов, да передал дело брату. В Петербург приехал присмотреться, нельзя ли какое‑нибудь дело открыть в столице.
Жить‑де ему все равно где; кроме младшего брата, родных у него нет, он холост и один как перст.
— Скука иногда такая возьмет, засосет за сердце, хоть ложись да помирай, только и впору… — закончил Степан Сидорыч свой рассказ.
Калисфения Фемистокловна заговорила тоже в мирном тоне о своем одиночестве, сиротстве, молодом вдовстве.
Трудно жить одной бабе, без близкого человека, и на деле это очень‑де отражается. За всем одной не усмотришь. Где уж! А на чужого человека положиться нельзя…
— Да, уж нынче народ стал продувной, пальца в рот не клади! — согласился Степан Сидорович.
Из этого краткого, но, как показалось Сидорычу, имеющего значение разговора он вынес убеждение, что он может иметь успех у молодой вдовы, конечно, при условии выхода на волю и некоторого капитальца.
Отсутствие обоих этих житейских благ, воли и денег, заставило Степана Сидоровича сдержать свои порывы, хотя образ красивой гречанки с той поры стал преследовать его еще настойчивее.
Степан Сидорович начал «мозговать» средства для приобретения воли и капитала.
И то, и другое далось ему в руки благоприятно сложившимися обстоятельствами.
Всякое людское горе служит основой людского же счастья.
Несчастье одного всегда — благополучие другого.
То же было и в данном случае.
Разыгравшаяся в княжеской семье тяжелая драма, окончившаяся разрывом между супругами, послужила исходным пунктом будущего благосостояния Степана Сидорова.
Читатели уже знают, как это произошло.
Степан сделался сперва капиталистом, а затем и «человеком», и «вольным казаком», как называл он сам себя, получив отпускную.
С высоко поднятой головой пришел он в кондитерскую вдовы Мазараки.
Его жизнерадостный вид не ускользнул и от Калисфении Фемистокловны.
— Что вы, наследство, что ли, получили, что так сияете? — спросила она, и в тоне ее голоса даже прозвучала завистливая нотка.
Радость ближнего всегда несколько неприятна людям, хотя в этом они ни за что не сознаются.
— Нет–с, зачем наследство… Наследство — это означает смерть… а я о смерти и думать не хочу… Да и зачем нам наследство… Нам на прожиток хватит, да и после нас останется… — хвастливо сказал Степан.
— С чего же вы такой радостный?
— К решению пришел о своей участи. С души бремя сомнения скатилось… Хочу попытать; или уж счастлив без меры буду, или совсем пропаду.
— Ну, последнему чего же радоваться… — улыбнулась Мазараки.
— Важно то, что к решению пришел, а там что будет — Божья воля… По–моему, пусть гибель, чем так, одно недоумение…
— Я что‑то вас сегодня не понимаю.
— Может, поймете… Дозвольте с вами объяснение иметь, сепаратное, наедине…
— Со мной! — удивилась Калисфения Фемистокловна, и в этом удивленном тоне было много деланного.
— С вами… с вами…
— Так пожалуйте ко мне в горницу… Вот отсюда… — приподняла она прилавок.
V ХОЛОП
С трепетным волнением последовал Степан Сидоров в «хозяйское отделение» кондитерской, как называли служащие помещение самой Калисфении Фемистокловны, в отличие от других комнат, находившихся за кондитерской, предоставляемых в распоряжение более почетных постоянных посетителей.
Помещение это состояло из маленькой приемной и спальни, обстановка которой виднелась в открытую дверь. Рядом со спальней была небольшая комната, где спала девочка с нянькой.
Убранство приемной дышало довольствием, без бросавшейся в глаза роскоши, и той уютностью, которая придается помещению только женской рукой посредством ничтожных безделушек, салфеточек и прочего, в общем созидающих манящую к себе картину.
Из отворенной двери соблазнительно выглядывали изящный туалет, тоже уставленный разными вещицами и принадлежностями из фарфора и хрусталя, и часть высокой кровати под белоснежным одеялом, из‑под которого для очень внимательного наблюдателя выглядывали шитые золотом миниатюрные утренние туфельки хозяйки.
Оттуда распространялась и раздражала нервы смесь запаха духов и здорового женского тела.
— Присаживайтесь, Степан Сидорович, и говорите, — сказала вошедшая Калисфения Фемистокловна, садясь в кресло и указывая введенному ею гостю на другое.
Степан Сидорович сел, но молчал.
Обстановка, окружавшая его атмосфера, царившая в этом уютном уголке его «богини», как мысленно называл Калисфению Фемистокловну Сидорыч, произвели на него ошеломляющее впечатление.
Все мысли, весь подготовленный смысл речи, которую он намеревался держать к овладевшей его сердцем красавице, мгновенно вылетели у него из головы, и одно желание обладать ею, сейчас, теперь, отуманило его мозг.
Он вдруг, совершенно неожиданно для Мазараки, вскочил и, охватив ее за талию, привлек к себе.
— Что вы, что с вами, вы сошли с ума! — вскрикнула Калисфения Фемистокловна, но крик этот был так сдержан, что не мог долететь до помещения кондитерской, в которой, кстати сказать, в то время было немного посетителей.
Видимо было, что случай с ней не был единичным и непредвиденным.
Калисфения Фемистокловна с силой оттолкнула от себя чересчур фамильярного гостя, и последний снова очутился сидящим в кресле.
Он скорее упал, нежели сел в него.
— О чем же вы хотели со мной говорить? — спросила как ни в чем не бывало Мазараки, спокойно снова усаживаясь в кресло.
Степан Сидоров опомнился:
— Простите… Виноват… Затмение нашло… одурь…
— Ничего, ничего, о чем, я спрашиваю, вы хотели со мной говорить?..
— Да вот об этом же…
— То есть о том, чтобы лезть со мной обниматься… Это любопытно и… странно…
— Нет–с… вы не так поняли… или я не так сказал…
— Одно из двух… это правильно.
— Точно так–с… Я, чтобы в законе…
— В законе? — переспросила Калисфения Фемистокловна.
— Да–с… в законе, а не как иначе, я тоже вас как следует понимаю…
— Вы мне делаете предложение… кажется, надо понимать так, — сказала, улыбнувшись, Калисфения Фемистокловна.
— Так–с, так–с, так и понимать надобно… — обрадовался Степан Сидорович.
— Благодарю вас за честь… — медленно, как бы раздумывая, заговорила Мазараки, — но я ведь не молоденькая девушка, а потому, извините, если бы и решилась вступить во второй брак, то по достаточном обсуждении этого дела и на разумных основаниях… Прежде всего я вас совершенно не знаю…
— Обо мне можете справиться в доме князя Андрея Павловича Святозарова, я с малолетства был при сиятельстве, — выпалил, перебивши ее и не обдумавши совершенно, что он говорит, Степан.
— Вы, при князе… Чем же вы были при нем? — воззрилась на него Калисфения.
Степан побледнел, смешался и молчал.
Он понял, что проболтался, и проболтался непоправимо. Врать теперь было бы бесполезно, справка у любого из княжеских слуг уличит его во лжи.
Надо было говорить правду.
Он сполз с кресла и опустился на колени перед Калисфенией Фемистокловной.
— Простите, виноват, я не купец, я бывший дворовый человек князя Святозарова, вырос с князем и до последнего времени служил у него камердинером… теперь получил отпускную…
В голове у него в это время почему‑то мелькала мысль, что ему уже во второй раз приходится сбрасывать с себя личину куща.
— Холоп, раб, илот… да как ты смел… вон! — вскочила она, как разъяренная тигрица.
Степан не двинулся. Он продолжал стоять на коленях, низко опустив голову.
— Теперь я вольный… Князь мне как друг… Денег у меня шестьдесят тысяч… все для вас… самую жизнь… — продолжал он бессвязно бормотать.
— Опять, чай, врешь, холоп! — кинула она ему, неровной походкой ходя взад и вперед по приемной.
— Убей меня Бог, коли вру… С этой минуты только одну правду от меня услышите.
— Чего вы на полу‑то ползаете… Встаньте, садитесь… — резко, но все же сравнительно более мягким тоном сказала Калисфения Фемистокловна.
— Простите… тогда встану, — сквозь слезы проговорил он.
— Хорошо, хорошо, прощаю… — уже совершенно смягчилась она и даже подала ему руку, чтобы помочь подняться с полу.
Степан послушно встал и так же послушно по ее приказанию снова сел в кресло.
На некоторое время наступило молчание.
По глазам Мазараки видно было, что она что‑то соображала.
Степан Сидорович сидел, не поднимая на нее глаз.
— Как же–с, Калисфения Фемистокловна… — первый заговорил он.
— Что как же? — спросила она.
— Положите, значит, гнев на милость…
— Что гнев… гнев пустяки… Меня рассердило то, что вы мне солгали… Ложь для меня хуже всего… Человеку, который солжет раз, я не могу уже верить… не могу уважать его.
— Говорю вам, перед истинным Богом, последний раз солгал перед вами, отныне моя душа будет перед вами как на ладонке, — произнес жалобным голосом Степан и, видимо, для того, чтобы придать больше вероятия своим словам, перекрестился.
Калисфения Фемистокловна молчала.
— Так как же? — снова спросил он.
— Что же вы думаете делать с вашими деньгами? — не отвечая на вопрос, как бы вскользь, желая переменить разговору сказала она.
— Да вот, издумал было с вами в компании дело вести… Сами вы вечор говорили мне, что можно дело расширить, да только вам без мужчины трудно… Положиться нельзя на чужого…
— Да, да, это правда, какие уж нынче люди, пальца в рот не клади… откусят…
— Я и смекнул, ежели мой капитал да к вашей опытности прибавить да мне для вас не чужим человеком сделаться, дело бы другое вышло, а то что у меня деньги в укладке задарма лежат, можно сказать — мертвыми…
— Это, конечно, последнее дело, капитал должен быть в обороте, приращаться, — заметила она.
— Теперь же мне он зачем. Ведь я бобыль. Один как перст. Умру… все равно в казну отберут, коли полиция да подьячие не растащат.
— Зачем это говорить. Вы молоды, женитесь, дети будут, им оставите.
— Нет–с, Калисфения Фемистокловна, коли вы меня, можно сказать, оттолкнули да так кровно обидели, ни на ком я не женюсь, в монастырь пойду и капитал туда же пожертвую… Богу, значит, отдам.
В голосе Степана прозвучали решительные ноты.
Калисфения Фемистокловна встрепенулась.
— Обидели… а вы не обижайтесь, мало ли что в горячности скажешь, не подумав, иной раз такую околесицу понесешь, что хоть святых выноси, и отталкивать я вас не отталкивала, зачем добрыми людьми пренебрегать, добрые люди всегда пригодятся…
— Значит, дозволите надеяться? — поднял на нее свои глаза Степан Сидорыч.
В них блеснул луч радостной надежды.
— Дайте подумать, на такое дело сразу решаться не годится…
— Только дозвольте надеяться, а я подожду, с удовольствием подожду…
— Ждите!
Калисфения протянула ему руку.
Степан прильнул к ней губами и впился в нее страстным, продолжительным поцелуем.
— Заходите, потолкуем, — освободила она наконец свою руку.
— Вы вот говорите — холоп, раб, а ежели теперь вдуматься, так ведь такой же человек, как и другие, — вдруг начал он, вспомнив нанесенную ему ею обиду.
— Говорю — погорячилась, а вы все помните, знаете русскую пословицу: «Кто старое помянет, тому глаз вон».
— Нет, я так, к слову, примером, завтра же я припишусь в здешние мещане, а там и в купцы, и при капитале мне тотчас почет.
— Конечно, если человек с деньгами, тогда иное дело… — милостиво согласилась Калисфения Фемистокловна и встала.
— Без денег что и князь, только кинуть в грязь… — пошутил успокоившийся Степан.
— А сердиться вы перестаньте… — ласково сказала она и снова протянула ему руку.
Он уже стоя снова прильнул к ней долгим поцелуем.
— Пойдемте… Там, кажется, народу поприбавилось, — кивнула она в сторону кондитерской. — Заходите утречком, на досуге все перетолкуем.
Она даже шутя и улыбаясь повернула его плечами к выходу.
Он вышел в кондитерскую.
Там действительно уже было несколько новых посетителей.
У прилавка стояла дама, и мальчик отпускал ей какое‑то печенье.
Увидав выходящего из‑за прилавка Степана, дама удивленно его окликнула:
— Степан Сидорыч!
Он тоже удивленно уставился на нее и наконец не менее удивленно произнес:
— Анна Филатьевна!
Это была Аннушка, бывшая горничная княгини Зинаиды Сергеевны.
— Какими судьбами вы сюда попали?..
— Дело было к хозяйке… — уклончиво произнес он, подумав про себя: «Нанесла нелегкая!»
— А я все к вам собираюсь.
— Ко мне…
— И к вам, конечно, да и к княгинюшке, навестить ее, повидать, уже сколько времени, как они приехали, а я все не соберусь, на дому все недосуг да недосуг…
— Меня‑то вы там уже не найдете… — сказал Степан.
— Это почему же?
— А потому, что я уже при князе не состою… — отвечал он пониженным шепотом.
— А при ком же?
— При самом себе, Анна Филатьевна, при самом себе…
— Это как же?
— Вольную князь пожаловал, так я от него на свою квартиру перебрался, здесь недалеко, на Садовой.
— А–а-а… — протянула Аннушка. — Ну, что же, княгиня успокоилась?..
— Ох, Анна Филатьевна, не нам бы с вами это и вспоминать… Много грехов на душу мы из‑за нее, голубушки, приняли…
— Да ведь мы не сами…
— Что я сам… Не моя была воля, княжеская… Да ведь сказать правду, вас ведь я не силком тянул…
— Вот вы какой… — деланно улыбнулась Аннушка. — А что ребенок? — шепотом добавила она.
— Умер.
— Умер?
— Месяца, родименький, не прожил и отдал Богу ангельскую свою душеньку.
— Ну, это к лучшему…
— И князь Андрей Павлович был того же мнения, когда я привез ему это известие…
— А все‑таки я к княгине зайду, поклонюсь ее сиятельству…
— И не тяжело вам будет? Мне так и смотреть на нее невтерпеж было…
— Оно, конечно, не радость, а нельзя, тоже она мне благодетельница, ни меня, ни мужа не забывает.
— Это еще, по–моему, хуже. Ну, да как знаете… Прощенья просим… Мне недосуг…
— Заходите…
— Ваши гости.
Степан Сидорыч вышел из кондитерской.
VI В ГРЕЧЕСКОМ ПЛЕНУ
Прошло два месяца.
Степан Сидорович за это время почти ежедневно бывал в кондитерской Мазараки и по утрам, и по вечерам.
Наконец они с Калисфенией Фемистокловной столковались.
Последняя наглядно убедилась, что ее поклонник действительно капиталист.
Для этого она очень наивно, чуть не сама, напросилась к нему в гости на кофе.
Сидорыч был на седьмом небе.
Он как ребенок радовался этому посещению. С утра привел в праздничный вид свою комнату — он нанимал ее от жильцов в доме недалеко от кондитерской, около Сенной — и — ждал с бьющимся сердцем наступления назначенного часа.
То и дело приотворял он дверь своей комнаты, прислушиваясь не только к раздававшимся в квартире звонкам, — в квартире, кроме него, было еще несколько жильцов, — но даже ко всякому шуму на лестнице — его комната была крайняя.
Наконец она явилась.
Он бросился снимать с нее верхнее платье, усадил в покойное кресло у накрытого для кофею стола, уставленного всевозможными лакомствами.
— Прислуга подала самовар и кофейник.
Калисфения Фемистокловна меланхолически осматривала помещение ее поклонника.
Она была очень изящна, видимо, особенно потрудилась над своим туалетом.
Степан Сидорович наливал кофе, то и дело взглядывая на свою дорогую гостью.
Он млел и таял.
— Вот моя убогая келейка… — проговорил он.
— Комната очень миленькая… главное, все так чисто, аккуратно… В мужчинах это редкость, — заметила Калисфения Фемистокловна.
Сидорыч даже покраснел от удовольствия.
— Я чистоту люблю… чистота это первое дело… — скромно опустил он глаза.
— А вы уверены в ваших хозяевах? Замки в дверях, кажется, не особенно надежны… Да и прислуга… — шепотом заговорила она, наклонившись почти совсем близко к Степану Сидоровичу и обдавая его запахом сильных духов.
— Хозяева люди хорошие… и прислуга тоже, да и замок у двери, это так на вид он кажется ненадежным, хороший замок… — отвечал он тоже шепотом.
— Я к тому, мой друг, — она первый раз назвала его так нежно, — что хранить дома капитал опасно… Мы с вами так сошлись, что я думаю, что имею право спросить… подать дружеский совет…
Она сделала вид, что раскаивается в начатом разговоре, что не знает, удобно ли продолжать его.
Все это вместе со словами «мой друг» окончательно разнежило Степана Сидоровича, — он решил на искренность отвечать искренностью.
— Что вы, Калисфения Фемистокловна, я так вам благодарен за участие… Я ведь и сам понимаю, что, живя в комнате от жильцов, нельзя надеяться на особую безопасность, но я принял меры… Если и доберутся до моего сундука, он стоит вон там, под кроватью, то все равно ничего не найдут…
— Вот как… — сделала она печальное лицо.
— Хоть там денежки и лежат, да не для них, а для нас с вами… — засмеялся тихим смехом Степан Сидорович.
— Как же это? Это интересно…
— А если вам интересно, то после кофею я вам этот секрет покажу… От вас не утаю… может, надумаетесь, так ничего скрывать уж не придется.
Степан Сидорович посмотрел на нее маслеными глазами.
Она милостиво улыбнулась, бросила на него нежный взгляд и вдруг потупилась, как бы сконфузилась.
Выпив вторую чашку кофе, Калисфения Фемистокловна, по тогдашнему обычаю, опрокинула чашку.
— Еще чашечку! — заискивающе попросил Сидорыч.
— Нет, больше не хочу, благодарю вас…
— Одну…
— Нет, нет?
— Просить можно, неволить грех… — сказал Сидорыч, допив свою.
Он приказал прислуге убирать со стола самовар, кофейник и чайную посуду.
— Сластями побалуйтесь.
Калисфения Фемистокловна начала лакомиться.
Когда прислуга вышла с подносом из комнаты, Степан Сидорович встал, задвинул дверь на задвижку и, подойдя к кровати, выдвинул из‑под нее свою заветную укладку.
— Пожалуйте смотреть… занятная работа, один благоприятель смастерил…
Открыв сундучок, он показал Калисфении Фемистокловне хранившееся в нем разное белье и другие мелкие вещи.
— Видите, кроме тряпок, ничего нет, — говорил он, аккуратно вынимая содержимое и укладывая на кровать.
Сундук скоро опустел.
— Пусто? — спросил Степан Сидоров.
— Пусто, — отвечала гостья.
— Где же денежки?
— Не знаю.
В это время Степан Сидорович нажал пальцем дощечку. Раздался легкий треск, верхнее дно укладки приподнялось, и обнаружились уложенные рядком объемистые пачки крупных ассигнаций.
Читатель знает, какие это были деньги.
— Ах! — сдержанно воскликнула Калисфения Фемистокловна и почти любовно посмотрела на обладателя искусно сделанной укладки.
Опытным взглядом она окинула пачки и поняла, что ее будущий жених не преувеличил цифры своего капитала.
— Не правда ли, хитрая штука? — сказал Сидорыч, снова нажимая какую‑то дощечку.
Дно снова пришло в свое первоначальное положение.
— На что хитрее! — согласилась Калисфения Фемистокловна.
Содержимое сундука тем же порядком было в него уложено, он был заперт и снова вдвинут под кровать.
Степан Сидорыч отпер дверь.
Они снова уселись к столу.
— Когда же вы наконец решите мою судьбу? — заговорил Степан Сидорович.
— Удивительно, какой вы нетерпеливый человек… — улыбнулась Калисфения Фемистокловна. — Вам все сейчас вынь да положь…
— Это вы напрасно, уж сколько времени я жду… два месяца…
— Два месяца, — захохотала она. — Это, по–вашему, много… Люди годами ждут… Или я не стою, чтобы меня подождать?
Она взглянула на него исподлобья.
— Кто говорит, не стоите… Только вот не знаешь, дождешься ли.
— Ну, что уж с вами делать, видно, надо перестать томить… дождетесь, дождетесь.
Он схватил ее руку и припал к ней пересохшими губами.
Она не только не отнимала ее, но, напротив, наклонилась к нему и обожгла ему щеку поцелуем.
Он упал к ее ногам.
— Встаньте, встаньте, прислуга может войти, да и мне пора, засиделась.
— Куда же вы так скоро? — печально произнес он, поднимаясь с пола.
— Куда? Домой… приходите теперь вы ко мне… так и будем пока ходить друг к другу.
— И долго?
— Недолго…
Он помог ей одеться, сам отпер и запер за нею дверь, еще раз крепко расцеловав ей обе руки.
С этого дня Калисфения Фемистокловна действительно перестала томить своего поклонника.
День ото дня она делалась к нему все ласковее и ласковее, несколько раз даже позволила себя поцеловать и один раз сама ответила на поцелуй.
— Нашу сестру, бабу–дуру, долго ли оплести, — заметила она как бы в оправдание порыва своего увлечения, — лаской из нашей сестры веревки вить можно.
Степан Сидорович ходил положительно гоголем, не чувствуя под собою от радости ног.
Он даже как будто сделался выше ростом.
Наконец в один прекрасный день Калисфения Фемистокловна окончательно согласилась быть женою Степана Сидоровича и даже сама стала торопить свадьбой.
Это случилось вскоре после того, как он показал ей свое купеческое свидетельство.
Счастливый жених бросился со всех ног хлопотать.
Прежде всего он полетел к князю, прося его и княгиню быть у него посажеными отцом и матерью.
— На ком же ты женишься? — спросил князь.
— На Калисфении Фемистокловне Мазараки.
— На «гречанке»? — воскликнул Андрей Павлович, сделав удивленное лицо.
Он знал под этим прозвищем содержательницу кондитерской.
— Точно так–с, ваше сиятельство…
— Да ты, братец, сошел с ума?..
— Никак нет–с… У меня кое–какие деньжонки есть, в общее дело пустим… да, кроме того, полюбили мы очень друг друга.
— И она тебя?..
— Так точно…
— Ну, если так… Дай вам Бог счастья, кучу детей и куль червонцев… — пошутил князь. — Изволь, я благословлю.
Степан, по старой привычке, бросился в ноги Андрея Павловича.
— Встань, ведь ты купец! — поднял его князь.
— Вашей милостью, ваше сиятельство, вашей милостью.
Княгиня тоже согласилась.
Последнее благословение немного было не по душе Степану Сидоровичу. Оно должно было пробудить в нем укоры совести, но, прося князя, обойти княгиню было нельзя.
Со своей стороны Калисфения Фемистокловна достала себе посаженых отца и мать тоже из высокопоставленных лиц Петербурга, а потом и шаферов для нее и для жениха, который не хотел брать из своего бывшего крепостного круга.
В числе приглашенных были и знакомые нам Аннушка с мужем.
Свадьба была сыграна с помпой.
Кондитерская была на этот день закрыта, и вечером все помещение было предоставлено в распоряжение гостей, веселившихся до утра.
На другой день, как всегда бывает после праздника, наступили будни.
Жизнь кондитерской вошла в свою обычную колею.
Только для Степана Сидорова праздник продолжался.
Прошло уже около месяца, а он продолжал ходить в каком‑то праздничном тумане. Планы о вступлении в дело ведения кондитерской, строенные им во время продолжительного сватовства за Калисфению Фемистокловну, рушились.
Он и не думал приниматься за дело.
Не потому, чтобы его кто‑нибудь не допускал до дела, нет, он сам забыл о каком‑либо деле, он ходил как в полусне, без мысли, без заботы, весь отдавшись одной поглотившей его страсти, страсти к жене.
Калисфения Фемистокловна сумела разжечь и поддерживать эту страсть даже после того, как сделалась женой Степана Сидоровича.
Изучившая до мельчайших подробностей искусство нежной страсти, она применяла его для целей, понятных ей одной, но которые скоро станут понятны и читателям.
Здоровый мужчина, не избалованный утонченными женскими ласками, потерял голову.
То, что для человека, пресыщенного жизнью, является необходимостью, то для сына природы, каким был, несмотря на свою жизнь в столице, Степан, являлось излишеством, действовавшим губительно на нервную систему.
Приправы, без которых не может обходиться желудок гастронома, страдающего вечным катаром, губительны для здорового желудка
В чаду этих неиспытанных и одуряющих наслаждений Степан Сидоров не заметил, как капиталы из его укладки с — секретным дном перешли в руки его прелестной законной половины и как бесповоротно очутился он под ее бархатной, шитой золотом туфелькой.
Он оказался «в греческом плену», как это шутили над ним остряки — завсегдатаи кондитерской.
В ответ на эту шутку Степан Сидорович отвечал глупо–счастливой улыбкой.
Дни неслись. Утонченные ласки кончились, но прежнего положения относительно своей супруги вернуть было нельзя.
Степан Сидорович, впрочем, и не пытался.
Он был доволен даже в роли подручного своей жены.
В этой роли он и остался.
Через год после свадьбы у них родился сын, который назван в честь крестного отца, — которым был Андрей Павлович Святозаров, — Андреем.
Это обстоятельство несколько скрасило жизнь Степана Сидоровича, в ребенке он находил утешение в минуты сознания своих разрушившихся надежд и планов.
Младшая Калисфения уже давно стала ходить, но почему‑то дичилась и не любила отчима, который был с ней ласков и, как мог, баловал ее.
Мать зато не чаяла в ней души, и девочка отвечала ей пылкой привязанностью.
К чести Калисфении Фемистокловны надо заметить, что она, как умная женщина, никогда не выставляла напоказ ту жалкую роль, которую играет относительно нее второй муж.
Напротив, при посетителях и слугах она играла роль покорной жены и, где было нужно, всегда вставляла фразы вроде следующих:
— Не знаю, надо посоветоваться с мужем… Я бы ничего, но как муж…
Это щекотало забитое самолюбие Степана Сидоровича и тем несколько примиряло его с его положением.
Так шли годы, не внося в жизнь наших героев никаких изменений.
Младшей Калисфении шел пятнадцатый год.
Она унаследовала красоту своей матери, еще более привлекательную ввиду менее резких штрихов, наложенных на нее природою.
Полуразвившаяся фигура девочки обещала великолепно сложенную женщину. Полный огня взгляд черных глаз сулил неземные наслаждения.
Она стала заменять мать за прилавком кондитерской, и торговля в эти дни шла несравненно бойче.
Около нее уже стали увиваться поклонники. Она уже создала для «Капуи» новых завсегдатаев.
Жениха еще, конечно, не было — Степан Сидорович, говоря это князю Григорию Александровичу Потемкину, просто сболтнул.
В это же время и увидал ее последний, заехав раз на перепутье в кондитерскую Мазараки.
Этот визит был сделан им вследствие толков о красоте дочери «гречанки».
Светлейший взглянул и мысленно решил судьбу этой прелестной девочки.
Он считал, что сделает для нее благодеяние.
И он был прав.
При нравах той эпохи судьба младшей Калисфении не только могла бы быть, но непременно была бы еще печальнее
Выбор светлейшего должен был быть для нее более чем лестным.
Ей, наверное, позавидовали бы не только дамы, но и девушки даже высших сфер тогдашнего общества, где добродетель не считалась особенно ценным качеством.
Любовниц сильных тогдашнего мира ожидало и счастливое супружество, покойная жизнь и не менее покойная старость.
Так рассуждали тогда все.
Так рассуждал и Григорий Александрович.
VII НЕДОСТАТКИ СВЕТЛЕЙШЕГО
Самодурство, причуды и женолюбие были отрицательными качествами Григория Александровича Потемкина.
Сживаясь с гениальным умом, пылкой восторженной натурой и подчас совершенно рыцарским великодушным характером, качества эти имели причины, лежавшие вне «великого человека».
Мы отчасти из разговоров Григория Александровича с его матерью познакомились с его справедливым взглядом на окружавшее его общество, среди которого он царил много лет не как временщик, благодаря капризу своего могущественного властелина, а не сознаваемым им своим трудам и заслугам.
Он понимал, что у трона великой государыни он стоит целой головой выше всех других сановников, мало того что эти сановники пресмыкаются у его ног только потому, что он взыскан милостями императрицы, и, при малейшем неудовольствии с ее стороны, готовы первыми бросить в него грязью.
Князь платил им за это безобразными выходками самодурства и надменностью, переходящей всякие границы.
Они раболепной толпой теснились в его приемных, а князь зачастую совсем не принимал их и не выходил к ним, а если и появлялся перед ними, то босой, в халате, одетом прямо на голое тело.
Князь приближал к себе очень немногих. В числе их был и Михаил Гарновский.
Это был статный, красивый мужчина, по происхождению шляхтич. Он был поверенный светлейшего князя Потемкина и ловко обделывал как княжеские, так и свои собственные дела.
Он мог являться к князю в халате, тогда как в то же время перед небрежно валявшимся властелином стояли навытяжку министры и заслуженные генералы.
И часто случалось, что князь при появлении Гарновского говорил этой раззолоченной толпе:
— Подите вон, нам дело есть!
Те с низкими поклонами удалялись, чтобы завтра явиться снова перед очи могущественного князя.
Такое общество было благодатной почвой для развития прямо, идейного самодурства.
Что оно было именно «идейное», лучшим доказательством служит то, что Григорий Александрович проявлял его только перед равными себе. С низшими же, слугами и солдатами, он был самым простым задушевным барином, даже не позволявшим титуловать себя, и простой народ и солдаты платили за это восторженным обожанием Григорию Александровичу, как они звали его в глаза и за глаза.
Самодурство и надменность, понятно, не проходили бесследно и для самого светлейшего — он наживал ими массу врагов, которые старались клеветать на него и забрасывать его грязью, особенно после его смерти.
Много таких клевет перешло, как это всегда бывает с великими людьми, и в историю.
Не скупились на злословие относительно него, конечно втихомолку, его современники и при жизни князя.
Иногда это злословие достигало ушей самого князя.
Он отплачивал за него довольно оригинально.
Генерал Мелиссино имел неосторожность, говоря в одном обществе о Потемкине, выразиться, что счастье вытянуло его за нос, благо он у него велик.
Слухи об этом дошли до Григория Александровича, и Мелиссино был тотчас же вызван к нему.
В тревожной неизвестности прождал генерал часа четыре в приемной князя, пока не был позван.
Григорий Александрович принял его одетый в одну сорочку, с босыми ногами и, взяв за руку, подвел к зеркалу, перед которым лежала бритва.
— Померяемся носами, ваше превосходительство, и чей окажется меньше, тот и упадет под бритвою на пол? Да что и мерить? Посмотри, какая у тебя гладенькая пуговица, просто тьфу.
Потемкин плюнул ему прямо в нос.
— Ступай, — сказал он затем генералу, — да прошу впредь вздору не болтать, а покрепче держаться за меня, иначе может быть очень худо.
Другой чиновник, выйдя из певчих и получив чин действительного статского советника, недовольный обхождением с ним Григория Александровича, заметил:
— Разве не знает князь, что я такой же генерал.
Это передали князю, который при первой же встрече сказал ему:
— Что ты врешь! Какой ты генерал, ты генерал бас.
Григорий Александрович терпеть не мог, когда люди, приближенные им к себе, зазнавались, он давал им за это обыкновенно очень памятные уроки.
Князь, по обычаю вельмож того времени, держал открытый стол. В числе незваных гостей, почти ежедневно являвшихся обедать к светлейшему, был один отставной генерал.
Он всегда прежде других садился за стол и первый брал карту, когда князь изъявлял желание играть. Генерал был очень недалек, и потому Григорий Александрович терпел его и забавлялся его разговорами и суждениями.
Тот же по глупости вообразил, что Потемкин питает к нему особенное расположение и дружбу, начал гордиться и хвастаться этим, обещал многим свое покровительство и стал вмешиваться в дела князя.
Григорию Александровичу это надоело, он решил проучить нахала и показать всем, какую роль играет он при нем
Однажды генерал пришел к князю обедать раньше всех, так что в столовой не было никого, кроме двух любимых адъютантов светлейшего.
— Как жарко! — сказал Потемкин. — Поедем купаться.
Генерал обрадовался приглашению.
Поехали все вчетвером в Летний сад.
Генерал носил на передней части головы накладку.
— Где же мы станем раздеваться? — спросил он князя.
— Зачем раздеваться! — отвечал князь и вошел в бассейн в халате.
— Я так не могу! — заупрямился было генерал, но его шутя стащили в воду в мундире и купали до тех пор, пока не смыли с головы накладку.
После купанья генерал просился ехать домой, чтобы переодеться.
Григорий Александрович его не пустил, привез его к себе, заставил мокрого, с блестящей головой обедать, играть в карты, танцевать и быть таким образом целый вечер всеобщим посмешищем.
Генерал перестал хвастаться своею близостью к светлейшему.
Другой статский сановник считал себя тоже одним из близких людей в доме Потемкина, потому что последний входил иногда с ним в разговоры и любил, чтобы тот присутствовал на его вечерах.
Самолюбие внушило ему мысль сделаться первым лицом при князе.
Обращаясь с последним час от часу фамильярнее, он однажды сказал ему:
— Ваша светлость не хорошо делаете, что не ограничите число имеющих счастье препровождать с вами время, потому что между ними есть много пустых людей.
— Твоя правда, — отвечал Григорий Александрович, — я воспользуюсь твоим советом.
Вечером Потемкин расстался с ним, по обыкновению, очень ласково и любезно.
На другой день он приехал к князю и хотел войти к нему в кабинет, но перед ним вырос лакей.
— Не велено принимать!
— Как не велено, ты, верно, братец, ошибаешься во мне или в моем имени.
— Никак нет–с, ваше превосходительство, я довольно вас знаю, и ваше имя стоит первым в реестре лиц, которых его светлость, по вашему же совету, не приказал к себе допускать.
С этого времени князь на самом деле никогда уже не принимал зазнавшегося непрошеного советчика.
Не любил также светлейший князь и открытой лести, и раболепного прислужничества. К нему нельзя было, что называется, прислужиться, при нем надо было служить.
Состоять ординарцем при светлейшем князе считалось особою честью, потому что трудная обязанность — продежурить сутки в приемной перед его кабинетом, не имея возможности даже иногда прислониться, — выкупалась нередко большими подарками и повышениями.
Один богатый молодой офицер, одержимый недугом честолюбия, купил за большие деньги у своих товарищей право бессменно провести трое беспокойных суток в приемной князя, часто страдавшего бессонницей и катавшегося иногда в такое время на простой почтовой телеге то в Ораниенбаум, то в Петергоф, то за тридцать пять верст по Шлиссельбургской дороге в Островки, где и поныне возвышаются зубчатые развалины его замка.
К несчастью молодого честолюбца, сон, как нарочно, овладел князем, и под конец вторых суток добровольный ординарец истомился и изнемог, затянутый в свой парадный камзол.
Только перед утром третьего дня судьба улыбнулась ему.
Князь потребовал лошадей и поскакал в Петергоф, посадив его на тряский облучок повозки.
У счастливца, как говорится, едва держалась душа в теле, когда он прибыл на место назначения, но зато в перспективе ему виделись ордена и повышения.
— Скажи, пожалуйста, за какой проступок назначили тебя торчать у меня столько времени перед кабинетом? — спросил у своего спутника Григорий Александрович, очень хорошо понимавший трудности дежурства.
— Чтобы иметь счастье лишний час видеть вашу светлость, я купил эту высокую честь! — ответил подобострастно молодой человек.
— Гм! — значительно откашлянулся князь и затем добавил: — А ну–ко, стань боком.
Ординарец через силу сделал ловкий полуоборот.
— Повернись теперь спиной.
И это приказание было отлично исполнено.
— Посмотри теперь прямо на меня.
Молодой человек, подкрепленный надеждой, при таком тщательном, непонятном ему осмотре исполнил и это с совершенством.
— Какой же ты должен быть здоровяк! — произнес Потемкин и пошел отдыхать.
Счастье не вывезло честолюбивому ординарцу.
Он не получил ничего.
Оригинально проучивал Григорий Александрович и недобросовестных игроков.
Светлейший очень любил играть в карты, преимущественно на драгоценные каменья.
Как‑то один из вельмож проиграл ему довольно значительную сумму и уплатил ее бриллиантами, которые стоимостью были гораздо меньше проигрыша.
Князь узнал об этом лишь на другой день, когда велел ювелиру оценить каменья.
Не сказав ни слова и не показывая вида неудовольствия при встрече, он задумал наказать недобросовестного игрока и предложил ему принять участие в загородной прогулке.
Тот согласился.
Григорий Александрович позвал кучера, который должен был везти этого вельможу, и приказал ему устроить так, чтобы коляска при первом сильном толчке сорвалась с передка и упала, а кучер с передком ехал бы дальше, не оглядываясь и не слушая криков.
День был выбран холодный и дождливый.
Григорий Александрович, обыкновенно ездивший в карете, поехал на этот раз верхом, а все приглашенные на прогулку, по желанию князя, отправились в открытых экипажах
Отъехали довольно далеко от Петербурга в безлюдное, пустынное место, где негде было укрыться от дождя.
Небо между тем кругом заволакивалось густыми тучами.
На дороге пришлось проезжать громадную лужу.
Когда коляска, в которой сидел вельможа, въехала в воду, князь крикнул кучеру: «Пошел» — и сам, поворотив круто коня, поскакал назад, а за ним все сопровождавшие его.
Кучер, согласно полученному приказанию, хлестнул лошадей и дернул коляску так сильно, что она, сорвавшись с передка, села посреди самой лужи.
Вельможа начал кричать и браниться, но кучер, не слушая ничего, уехал на передке.
Как нарочно, в эту самую минуту полил проливной дождь.
Вымоченный насквозь, вельможа должен был поневоле тащиться назад в Петербург пешком несколько верст по колено в воде и грязи.
Насколько не любил князь недобросовестность, настолько же он не сердился на правду.
Один калмык, вышедший в люди в последние годы царствования Елизаветы Петровны, имел привычку говорить всем «ты» и приговаривал: «Я тебе лучше скажу».
Григорий Александрович любил играть с ним в карты, так как калмык вел спокойно большую игру.
Однажды, понтируя с каким‑то знатным молдаванином против калмыка, князь играл несчастливо и, рассердившись, вдруг с запальчивостью сказал банкомету:
— Надобно быть сущим калмыком, чтобы метать так счастливо.
— А я тебе лучше скажу, — возразил калмык, — что калмык играет, как князь Потемкин, а князь Потемкин — как сущий калмык, потому что сердится.
— Вот насилу‑то сказал ты «лучше», — подхватил, захохотав, Потемкин и продолжал игру уже хладнокровно.
Таковы были самодурство и причуды светлейшего князя Потемкина, почву, повторяем, для которых, и почву благодатную, давало само общество, льстящее, низкопоклонничающее и пресмыкающееся у ног умного и видевшего его насквозь властелина.
VIII ЖЕНОЛЮБЕЦ
Третьим недостатком светлейшего князя была страсть к женщинам, бывшая вместе с честолюбием преобладающей стороной его натуры.
Клевета современников шла в отношении этой слабости Григория Александровича так далеко, что удостоверяла за несомненное, что он в погоне за наслаждениями не щадил даже родственных связей.
В одной не изданной при жизни Потемкина брошюре, посвященной отношениям князя к его племянницам Энгельгардт, он назван Князем Тьмы.
Мы не будем касаться этих противоестественных отношений, имеющих под собою лишь весьма гадательные данные, но должны сознаться, что последняя четверть XVIII столетия, отличавшаяся обилием развратниц и ловеласов, имела в Григории Александровиче самого блестящего и счастливого представителя последних.
Мы уже описали внешность светлейшего князя, но тогда, когда ему было за пятьдесят, когда его портила угрюмость, набегавшая на его чело, изборожденное уже морщинами.
В описываемое же нами время он был положительным красавцем.
Высокого роста, пропорционально сложенный, он обладал могучими мускулами и высокой грудью.
Орлиный нос, высокий лоб, красиво вытянутые брови, голубые блестящие глаза, прекрасный цвет лица, оттененный нежным румянцем, мягкие светло–русые, вьющиеся волосы, ровные, белые, как слоновая кость, зубы — таков был обольстительный портрет князя в цветущие годы.
Даже потеря зрения в одном глазу не портила его внешнего вида.
Становится понятным, что по числу своих побед над прекрасным полом он не уступал герою романтических новелл — Дон–Жуану ди Тенорио.
Окруженный к тому же ореолом могущества, богатства и блеска, он был положительно неотразим дня женщин своего времени, далеко не лелеявших особенно светлых идеалов.
Григорий Александрович представлял из себя лакомую приманку для женщин, в особенности для искательниц приключений, тщеславных красавиц, пленявшихся мыслью приобрести земные блага посредством сближения с могущественным вельможей.
Мы знаем из разговора Григория Александровича с его матерью, вероятно не забытого читателями, как он глядел на женщин.
Они надоедали ему, он ими пресытился, как пресытился всевозможными яствами, и менял их одну на другую, как меняют ананасы на редьку и утонченные гастрономические блюда на солдатские щи с краюхой черного хлеба.
Других, кроме, если можно так выразиться, вкусовых, отношений у него не было к представительницам прекрасного пола.
Он глядел на них как на одну из сладких приправ на жизненном пиру, как на десерт после хорошего обеда.
Чувству любви не было места в сердце светлейшего князя.
Мы знаем, что эту любовь он похоронил еще в московском доме графини Нелидовой и над разрушенным алтарем этого божества построил себе храм честолюбия и восторженного поклонения царственной женщине.
Кроме княгини Святозаровой и императрицы Екатерины, для него других женщин–людей не существовало.
Другие были только игрушкой, лакомством.
Можно ли поставить ему это в вину?
Мы думаем, что на этот вопрос приходится ответить отрицательно.
Большинство женщин, не только описываемой нами эпохи, но и современных, только и могут вызывать в мужчинах вкусовые ощущения, как будто только в этом и кроется в жизни их назначение.
Их готовят к этому воспитанием.
Их туалеты, их отношение к мужчинам — все говорит за то, что они считают необходимым достижение этой цели.
Мы говорим о женщинах красивых, изящных, светских и почти всегда непременно пустых и бессодержательных.
Некрасивые же, предавшиеся какому‑нибудь делу, науке, литературе, теряют свой божественный образ и едва ли могут пробуждать уже в мужчине какие‑нибудь ощущения.
Они в счет не идут.
Вообразите же себе мужчину с разбитым первой несчастной любовью сердцем в обществе этих представительниц гостиных и будуаров и решитесь обвинять его в том, что он смотрит на них как на красивую принадлежность своего жизненного комфорта, как на предмет наслаждений, как на десерт, как на лакомство.
Они сами хотят этого — и достигают, чего хотят.
В чем же тут вина мужчины?
В таком же положении был и Потемкин относительно женщин своего времени, к довершению всегда готовых броситься в его объятия по одному мановению его руки.
Легко достижимое теряет прелесть.
Разбитое сердце Григория Александровича искало забвения в этих ветреных и зачастую продажных ласках, но не могло найти его.
Отсюда эта бесконечная цепь любовных приключений, считавшаяся современниками разнузданностью сластолюбца.
Обольстительный образ младшей Калисфении Мазараки не мог не произвести впечатления на пресыщенного женскими ласками Потемкина.
Взглядом знатока оценил он достоинства этой женщины–ребенка.
«Она чересчур молода, — решил он в своем уме, — но она разовьется под моей охраной, под моим наблюдением».
Он решил взять ее и создать себе не изведанное им еще наслаждение ожидания.
Для его могущества все было возможно, но в данном случае ему благоприятствовали и сложившиеся обстоятельства.
Отчим очаровавшей его девушки стал его невольным сообщником и безответным исполнителем его воли.
Так, по крайней мере, думал Григорий Александрович после ухода из кабинета Степана Сидорова.
Непременное и страстное желание чего‑нибудь достигнуть порождает в сердцах людей тревожное сомнение, доходящее до потери сознания своего права и своей силы.
То же случилось и с князем.
Он вдруг стал сомневаться в возможности обладать Калисфенией Мазараки и серьезно утешался мыслью, что приобрел себе помощника в лице ее отчима.
Перед перспективой достижения заманчивой цели он позабыл о своем могуществе.
Степан Сидоров, зная любовь своей жены к дочери, со страхом шел домой и обдумывал, как ему объявить непременную волю светлейшего князя.
Выбежав как угорелый из Зимнего дворца, он, выйдя на Невский, нарочно замедлил шаги, чтобы иметь время сообразить данное ему Григорием Александровичем тяжкое поручение.
«Жена ни за что не отпустит… С ней не сообразишь… Кремень–баба… На рожон полезет, и ничего с ней не поделаешь…» — размышлял он сам с собой.
«Что‑то будет тогда?» — возникал в его уме вопрос.
Холодный пот выступал на его лбу, и он чувствовал, как волосы его подымались дыбом.
Князь может погубить их всех одним движением своего мизинца.
Степан Сидоров снова ощущал на своей спине удары плетей, как тогда, когда он ехал исполнять поручение князя Святозарова.
«И понесла меня нелегкая в это Чижево…» — мелькала у него мысль.
«Да кто же мог тогда все это знать… предвидеть…» — оправдывал он самого себя.
«Ведь не втолкуешь моей греческой бабе, что его светлость всех нас может придавить ногтем… сам светлейший с ней едва ли сообразит и совладает…» — переносились его мысли к жене.
Он был в положении мыши, думающей, что сильнее кошки зверя нет.
Наконец, он довернул на Садовую и вскоре подошел к кондитерской.
«Будь что будет!» — в отчаянии сказал он самому себе и вошел в ворота, чтобы пройти задним ходом.
Калисфения Фемистокловна ждала его возвращения с нетерпением и беспокойством.
Внезапный вызов ее мужа к светлейшему князю Потемкину поверг ее в недоумение.
«Зачем ему понадобился мой вахлак?» — задавала она себе уж чуть ли не сотый раз вопрос и не могла найти на него ответа.
Вдруг ее осенила мысль.
Она даже выпрямилась, подняла голову, подбежала к большому зеркалу, находившемуся в ее приемной, и долго осматривала себя с головы до ног.
Самодовольная улыбка, появившаяся на ее сильно реставрированном лице, показала, что она осталась довольна этим осмотром.
Она хорошо помнила, что несколько дней тому назад светлейший удостоил посещением ее кондитерскую и выпил чашку шоколада.
Восстановляя в своей памяти подробности этого посещения, она припомнила, что он как‑то загадочно несколько раз посмотрел на нее, — она сама служила высокому гостю; а дочь была за прилавком, — и сказал ей даже несколько любезных слов.
При этом воспоминании она покраснела даже под слоем белил и румян, который покрывал ее лицо.
Она не сомневалась теперь более, что светлейший обратил на нее свое высокое внимание.
Сердце состарившейся красавицы сильно забилось.
Сделаться любовницей могущественнейшего в России вельможи — это было такое счастье, в предвкушении которого она задыхалась.
«Верно, князь вахлака упрячет на какую‑нибудь службу… да подальше отошлет, деликатный и умный мужчина…» — думала она.
«Только напрасно его светлость с ним церемонится… И так пикнуть бы не смел у меня… За счастье должен почесть, холоп! Тогда я кондитерскую продам, ну ее… Одно беспокойство… На серебре да на золоте буду есть… И красавец же он писаный… Тогда, как я близко поглядела на него, индо [9]у меня все поджилки затрепетали… Не молода я… Ну, да что же, умный мужчина завсегда понимает, что женщина в летах не в пример лучше зеленой девчонки…» — продолжала мечтать она.
В это самое время в дверях появился Степан Сидорович.
Его озабоченный, растерянный вид еще более убедил Калисфению Фемистокловну в основательности ее предположений.
«Ишь, вахлак, тоже опечалился, да оно, конечно, тяжело, коли сладкий кусок из‑под носа вырывают… догадывается…» — мелькнуло в ее голове.
— Ну, что… Зачем вызывал тебя его светлость? — обратилась она к мужу.
Тот бессильно опустился на кресло против сидевшей на другом жены и молчал.
— Что же ты молчишь, как воды в рот набрал… Побил тебя его светлость, что ли?
— Хуже…
— Что хуже?.. Чего ты загадки задаешь?.. Говори…
— Дай сообразить…
— Чего тут соображать… Я и так истомилась, тебя ожидаючи, раздумывая да разгадывая…
— Сейчас, сейчас все расскажу… Не обрадуешься…
Степан Сидорович вынул фуляровый с красными разводами платок и отер пот, обильно покрывавший его лоб.
— Что же такое печальное для меня мог сказать тебе его светлость?.. — с усмешкой спросила Калисфения Фемистокловна.
— Уж на что печальнее для честной женщины, матери… — начал было Степан Сидорович.
— Ты, ради Бога, это брось… Дело говори… Я без тебя знаю, что должны делать честная женщина и мать…
— Ну, коли так… Изволь, скажу напрямик… Его светлость обратил внимание…
— Догадалась, догадалась… — перебила его Калисфения Фемистокловна, даже припрыгнув на кресле.
— Догадалась? — удивленно взглянул на нее муж.
— Догадалась… Он когда на днях заезжал в кондитерскую кофе кушать, то так умильно глядел…
— Так, так вот и догляделся…
— Что же, я готова… Ты сам, чай, хорошо понимаешь… что воля его светлости, как для меня, так и для тебя, — закон… Это не кто‑нибудь другой… понимаешь… тут уж твои права ни при чем…
— Какие тут мои права… Все, полагаю, от тебя зависит, я, напротив, очень рад, что ты так скоро согласилась… Я думал…
— Что ты думал?.. Что я пойду против воли его светлости…
— Да…
— Ну, и глуп же ты, посмотрю я на тебя, да от нас с тобой тогда только мокро будет, понимаешь…
— Понимаю.
— Ну, так, значит, и толковать нечего, я готова…
— Значит, сегодня же ее и надо собрать и отправить…
— Кого ее?..
— Калисфению…
— Калисфению? Какую?..
— Как какую? Ведь не тебя же облюбовал его светлость… А кроме тебя одна у нас еще Калисфения…
Калисфения Фемистокловна закусила до боли нижнюю губу и как‑то вся даже съежилась.
Впрочем, надо сказать, что она тут же сразу сообразила, что предстоящая карьера ее дочери может иметь влияние на еще большее улучшение ее благосостояния. Оскорбленную в своем самолюбии женщину заменила торжествующая за успех своей дочери мать.
«Однако у него губа не дура, язык не лопатка, понимает, что сладко», — подумала она даже довольно непочтительно о светлейшем.
— Куда же ее отправить? К нему?
— Зачем к нему… Приказал отвезти в Аничков дворец, там живет его мать и племянницы… Жалует он Калисфению к ним в камер–юнгферы… Для прилику, знамо дело…
- A–а… Что же, надо с ней поговорить и отправить… Ничего не поделаешь…
— Конечно, со светлейшим не очень‑то будешь разговаривать. Жаль девчонку…
— Жаль… Ах, вахлак, вахлак… Такая ей судьба выходит… Моих советов слушаться будет… так заберет его в руки, что отдай все, да мало… а он жаль…
— Впрочем, это твое дело… — махнул рукой Степан Сидорович и вышел из комнаты.
Калисфения Фемистокловна позвала дочь, затворилась с нею в спальню и провела там с нею с глазу на глаз около двух часов.
О чем говорили они, осталось тайной, но молодая Калисфения вышла с разгоревшимися щеками, блестящими глазками и с гордо поднятой головой.
Она была очаровательна.
В тот же вечер состоялось ее переселение в Аничков дворец.
Калисфения Фемистокловна сама отвезла ее, виделась с предупрежденной уже сыном Дарьей Васильевной Потемкиной, которой и передала девочку с рук на руки, и испросила позволения раза два в неделю навещать ее.
«Пристроила…» — решила она самодовольно, возвращаясь домой.
IX ДОСТОЙНАЯ УЧЕНИЦА
Прошло около двух лет со дня описываемых нами событий.
Калисфения Николаевна Мазараки провела это время в Аничковом дворце, в обществе Дарьи Васильевны Потемкиной и Александры, Варвары, Екатерины и Надежды Энгельгардт, племянниц светлейшего.
Мы говорим «в обществе», так как, несмотря на то что Калисфения была назначена камер–юнгферой к девицам Энгельгардт, она ни одного дня не исполняла эту должность.
Молодость, красота, сравнительно светский лоск и кое–какое образование, данное ей матерью, а главное, ласковое отношение к ней могущественного сына и дяди сделали то, что Дарья Васильевна обращалась с ней как с дочерью, а девицы Энгельгардт как с подругой.
У Калисфении была своя роскошно отделанная, по приказанию князя, комната. Она вместе училась и вместе читала с племянницами князя.
Только во время визитов она не выходила в приемные комнаты и, вообще, ее старались не показывать посторонним. Это делалось тоже по воле Григория Александровича, баловавшего свою любимицу и дарившего ей ценные безделушки и наряды.
Племянницы князя, поставленные в особые условия в высшем петербургском обществе, не отличавшемся тогда особенно строгим нравственным кодексом, как ближайшие родственницы могущественнейшего вельможи тоже не выделялись особенной нравственной выдержкой, а, напротив, были распущены через меру среди легкомысленных представительниц тогдашнего петербургского «большого света».
Князь Потемкин, нравственные правила которого были более чем сомнительны, звал даже сам одну из них «Надежда безнадежная».
Дарья Васильевна, не находя поддержки для строгости в сыне, от которого они все зависели, смотрела сквозь пальцы на поведение не только его, но и его любимиц — своих внучек.
В такой среде окончательно развилась и распустилась, как роскошный цветок, Калисфения Николаевна.
Уроки матери довершили остальное.
Дочь ее оказалась достойной ученицей.
Она была и ее портретом в молодости, но еще несколько прикрашенным.
Ожидания Григория Александровича оправдались.
Ему должна была достаться женщина, затмевающая своей красотой всех тогдашних петербургских красавиц.
Подготовленная матерью, посещавшей очень часто свою дочь и беседовавшей с ней о предназначенной ей судьбе, Калисфения ждала только мановения руки светлейшего, в которого влюбилась сама до безумия, чтобы сделаться его покорной рабой.
Но рабой — властительницей.
Мать вооружила ее всеми тайнами женской власти, всеми секретами женского могущества.
Хитрая и опытная куртизанка передала дочери все свои познания по этой части.
— Красота, — говорила ей она, — это богатство… Женщина, обладающая ею, — это капиталистка… Она может уделять проценты с этого капитала, но не отдавать его целиком… Мужчину надо всегда оставлять желать и сознавать, что исполнение этого желания зависит не от его воли, а от каприза женщины. Если мужчине не остается ничего желать… он пойдет искать в других возникновения этого желания, и женщина погибла для него навсегда… При умении распоряжаться своим капиталом — красотой, можно если не совершенно исключительно сохранить себе мужчину, то всегда заставить его вернуться. Пока он знает, что он не взял все, — он будет возвращаться брать…
Калисфения–дочь внимательно слушала Калисфению–мать.
Речи эти западали в ум и сердце молодой девушки и находили в них благодатную почву.
Она запомнила их и решила применить их к жизни с того дня, как в ее изящные ручки попадется этот величественный красавец.
День этот настал.
Калисфения Николаевна переехала из Аничкова дворца в нарочно выстроенный собственно для нее и роскошно отделанный в греческом вкусе домик на одной из отдаленных линий Васильевского острова, в тот самый, где мы застали ее в начале нашего правдивого повествования.
Григорий Александрович утопал в блаженстве.
Он утолял жажду божественным нектаром и не мог утолить ее.
Он вкушал роскошные яства и не мог насытить своего всевозраставшего голода.
Уроки Калисфении Фемистокловны пошли впрок.
Малейшие капризы «прекрасной гречанки», как звал ее прознавший о ее существовании «большой свет», исполнялись светлейшим князем.
После него она стала могущественным существом в Петербурге.
По страшному упорству никогда не желавший дать с себя снять портрет, Григорий Александрович уступил просьбе Калисфении и приказал одному из художников срисовать себя.
Этот портрет мы видели в будуаре Калисфении Николаевны.
Она со своей стороны исполнила единственное желание князя — не заводить близких и многочисленных знакомств и нечасто появляться в общественных местах.
Посещение театра ей было разрешено.
Необщительная по природе Калисфения Николаевна не особенно тяготилась этими условиями своей жизни, с летами потерявшими свою первоначальную силу.
К дочери переселилась мать, сдав кондитерскую всецело Степану Сидоровичу, оставшемуся жить с подраставшим сыном Андрюшей на прежней квартире.
Дела кондитерской шли много тише, но это не беспокоило Калисфению Фемистокловну.
Она была довольна судьбой дочери и своей собственной.
Выдающаяся красота «прекрасной гречанки» и таинственность, ее окружавшая, сделали то, что в нее чуть ли не поголовно влюбилась вся тогдашняя «золотая молодежь» Петербурга.
Все, впрочем, хорошо понимали, что соперничать со светлейшим князем Потемкиным немыслимо и что красавица Калисфения недосягаема.
Появление ее на общественных гуляньях делало то, что молодежь толпами следовала за ее экипажем, чтобы только издали полюбоваться на красавицу.
Этим, быть может, объясняется предписанное ей Григорием Александровичем полузатворничество.
Калисфения Фемистокловна оказалась права.
Дочь, буквально следуя ее наставлениям, достигла того, что Григорий Александрович хотя нельзя сказать, чтобы отличался верностью в своей привязанности к ней, но важно было уже то, что «прекрасная гречанка» ему не надоедала.
Виделся, впрочем, он с ней после нескольких недель довольно редко.
Среди наслаждений любви светлейший ни на минуту не забывал о делах.
Дел же у него в это время было много.
Уже с конца 1774 года он именуется новороссийским генерал–губернатором.
Хотя он только изредка посещал вверенные ему области, но это не мешало ему распоряжаться всем из Петербурга и отсюда же зорко следить за точным исполнением его распоряжений.
В Петербурге он, как мы знаем, жил с царским великолепием в апартаментах, отведенных ему в Зимнем дворце, пользовался придворными экипажами, столом и ежемесячным жалованьем в двенадцать тысяч рублей.
Государыня то и дело выражала свое благоволение полезному государственному деятелю, дарила ему земли, крестьян, дворцы и громадные суммы денет.
Годовой доход князя достигал суммы трех миллионов рублей, но все же едва покрывал его колоссальные издержки.
Многочисленные и трудные занятия по управлению обширным краем и военными силами государства не препятствовали Григорию Александровичу следить, кроме того, за ходом европейской политики.
В его голове возник грандиозный план.
Заветная мечта и ее осуществление не покидал! Григория Александровича до самой смерти.
Она состояла в доставлении России господства над Черным морем, уничтожении Турции путем дележа этого государства между Россией и Австрией и, наконец, восстановления Греческой империи под скипетром одного из внуков Екатерины.
Проект этот, несмотря на кажущуюся неосуществимость, был построен на верных основаниях.
Хотя, в конце концов, он был оставлен, но попытки к его осуществлению дали все‑таки для России результаты.
Они сблизили нас с Черным морем, расширили значительно границы России на западе и на юге, проложили дорогу в Грецию и на Кавказ и позволили не только принять участие в разделе Польши, но даже извлечь при этом разделе наибольшие для России выгоды.
Этот‑то грандиозный проект занимал ум светлейшего князя в описываемое нами время независимо от светской жизни и бесчисленных романтических приключений этого труженика–сластолюбца.
Война с Турцией, война решительная, сделалась его заветной мечтой.
— Это будет не простая война, — восклицал князь, — а новый российский крестовый поход, борьба креста и луны, Христа и Магомета. Чего не сделали, не довершили крестоносцы, должна сделать, довершить Россия с Великой Екатериной. Я здесь, в груди моей, ношу уже давно уверенность, что Россия должна совершить это великое и Богу угодное дело — взять и перекинуть луну через Босфор, с одного берега на другой, в Азию.
Лелея эту мысль, князь постепенно проводил ее в жизнь, подготавливая все для ее осуществления на деле.
Прежде всего в пустынном Новороссийском крае, по мановению руки светлейшего, происходили положительно чудеса.
Как из земли вырос ряд городов: Екатеринославль, Николаев, Херсон.
Последний, заложенный в 1778 году на устье Днепра, предназначался для устройства верфи, на которой предполагалось построить многочисленные корабли для будущего Черноморского флота.
Великолепная гавань для этого флота тоже была уже основана — это Севастополь.
Пустынные, лишенные обывателей, но богатые производительными силами земли степи привлекали массу поселенцев.
Всюду кипели гигантские работы, хотя далеко не было осуществлено то, что задумывал князь.
По его мысли, в главном городе Новороссии — Екатеринославле, пространство которого определялось в триста квадратных верст, должны были возникнуть «судилища, наподобие древних базилик», лавки вроде «Пропилей в Афинах», музыкальная консерватория и проч.
Соборный храм в Екатеринославле должен был быть, по проекту Григория Александровича, на «аршинчик» выше знаменитого храма Петра в Риме [28].
Этот «аршинчик», так характеризующий вообще русскую натуру, указывал на грандиозность проектов светлейшего, увы, далеко не осуществленных.
Но и то, что было создано, приводило в восторг современников, императрицу и радовало предприимчивого и энергичного Потемкина.
Последний особенно гордился Черноморским флотом и постоянно обращал внимание государыни именно на него.
— Я, матушка, — говорил он ей, — прошу воззреть на это место (то есть Севастополь) как на такое, где слава твоя оригинальная и где ты не делишься ею со своими предшественниками, «тут ты не следуешь по стезям другого».
Это любимое детище Потемкина — Севастополь [29] — в самое короткое время сделалось многолюдным приморским городом.
Рабочих тысячами вызывали из России. Корабельный лес привозили из Польши, Белоруссии и Воронежа; железо заготовляли на сибирских заводах и препровождали через Таганрог в Севастополь и Херсон.
В 1774 году небольшая эскадра линейных кораблей, фрегатов и малых судов, под начальством капитана I ранга графа Войновича, первого командира черноморского корабля «Слава Екатерины», крейсировала уже около берегов Крыма, а в 1785 году составлен штат Черноморского адмиралтейства и флота, которых непосредственным начальником был назначен Григорий Александрович, со званием «главнокомандующего Черноморским флотом».
В последнем полагалось содержать 12 линейных кораблей, 20 фрегатов, 23 ластовых и перевозных судна, 3 камеля и 13 500 человек флотской, солдатской и артиллерийской команды, не считая портовых и адмиралтейских.
Наряду с этими незабвенными на страницах истории русской славы трудами светлейшего князя им было совершено нечто еще более колоссальное, доставившее ему наименование Таврического и уж окончательно обессмертившее его имя в истории.
Мы говорим о присоединении Крыма — этого крупного бриллианта в венце екатерининской славы.
Этот подвиг светлейшего, заставивший умолкнуть даже злобных его завистников, совершенный неожиданно не только для Екатерины, но и для России, явился венцом его государственной деятельности и доказал его двойственную гениальную натуру.
Сибарит, сластолюбец, беспутный Дон–Жуан, Князь Тьмы, как называли светлейшего завистливые современники, доставляющий России своим трудом и энергией целую область, — явление исключительное не только в русской, но и во всемирной истории.
Оно стоит подробного описания.
X ТАВРИДА
По Кючук–Кайнарджийскому миру [30] был обусловлен отказ Турции от верховных прав на Крым и признана его независимость.
Вынужденные к подобной уступке неудачной войною и победами Румянцева, турки продолжали лелеять мечту о возвращении своей власти на полуострове и даже домогаться осуществления этой мечты.
Русские, со своей стороны, не могли оставаться равнодушными к подобным домогательствам и старались всеми силами им противодействовать.
В самом Крыму вследствие этого образовалось две партии, вступившие между собой в ожесточенную борьбу и находившие каждая себе поддержку в турецкой и русской сторонах.
Хан Сагиб–Гирей, расположенный к России, был свергнут, и на ханский престол возведен преданный турецким интересам Девлет–Гирей.
Эта перемена правления не могла быть приятна России, и вскоре Девлет–Гирей, в свою очередь, был лишен власти, и на его место возведен был на престол Шагин–Гирей.
Получив власть при помощи России, он, конечно, был на стороне русских и, кроме того, по внушениям петербургского кабинета, захотел быть совершенно независимым и предпринял в своем государстве ряд реформ, необходимых для его усиления.
Вместе с реформами Шагин–Гирей ввел некоторые европейские обычаи, чем и восстановил против себя все еще сильную староверческую турецкую партию.
В Крыму начались снова междоусобицы, в которых русское правительство должно было поддерживать Шагин–Гирея.
Положение становилось невозможным.
Затаенная вражда между Россией и Турцией в Крыму ежеминутно готова была вырваться наружу и превратиться в открытую войну.
Особенно ясно понимал это Григорий Александрович Потемкин.
Он был убежден в невозможности существования Крыма как самостоятельного государства и горячо убеждал императрицу действовать решительно и скорее покончить дело присоединения Крыма к России.
Его выдающаяся политическая дальновидность всецело обрисовывается в следующем письме к Екатерине.
«Крым положением своим разрывает наши границы, — писал он, — нужна ли осторожность с турками по Бугу или со стороны Кубанской — во всех случаях и Крым на руках. Тут ясно видно, для чего хан нынешний туркам неприятен: для того, что он не допустит их через Крым входить к нам, так сказать, в сердце. Положите‑ка теперь, что Крым наш и что нет уже сей бородавки на носу — тогда вдруг положение границ будет прекрасное: по Бугу турки граничат с нами непосредственно, потому и дело должны иметь с нами прямо сами, а не под именем других. Всякий их шаг тут виден. Со стороны Кубанской, сверх частных крепостей, снабженных войсками, многочисленное войско Донское всегда тут готово. Доверенность жителей в Новороссийской губернии будет тогда несумнительна, мореплавание по Черному морю свободно, а то извольте рассудить, что кораблям вашим и выходить трудно, а входить еще труднее. Еще вдобавок избавимся от трудного содержания крепостей, кои теперь в Крыму на отдаленных пунктах Всемилостивейшая государыня! Неограниченное мое усердие к вам заставляет меня говорить: презирайте зависть, которая вам препятствовать не в силах. Вы обязаны возвысить славу России. Посмотрим, кого оспорили, кто что приобрел: Франция взяла Корсику. Цесарцы без войны у турок в Молдавии взяли больше, нежели мы. Нет державы в Европе, чтобы не поделили между собой Азии, Африки и Америки.
Приобретение Крыма ни усилить, ни обогатить вас не может, а только покой доставит. Удар сильный, но кому? Туркам: это вас еще больше обязывает. Поверьте, что вы сим приобретением бессмертную славу получите, и такую, какой ни один государь в России не имел. Сия слава проложит дорогу еще к другой и больше славе: с Крымом достанется и господство на Черном море; от вас зависеть будет закрыть ход туркам и кормить их или морить голодом. Хану пожалуйте в Персии что хотите — он будет рад. Вам он Крым поднесет нынешнюю зиму, и жители охотно принесут и сами просьбу. Сколько славно приобретение, столько вам будет стыда и укоризны от потомства, которое при каждых хлопотах скажет: вот она могла, да не хотела или упустила. Если твоя держава кротость, то нужен в России рай. Таврический Херсон! Из тебя истекло к нам благочестие: смотри, Екатерина Вторая, паки вносит в тебя кротость христианского правления».
Письмо это, кроме того, что несомненно указывает на зоркий и правильный взгляд светлейшего князя на внутреннюю политику русского государства и его обширные познания в области европейской политики, является также красноречивым доказательством его беззаветной любви к родине и неусыпной заботы о славе обожаемой им монархини.
Кроме того, письмо это является опровержением ходившего при его жизни мнения завистников, перешедшего, как всегда бывает, в историю, что он успел настолько «обойти» государыню, что она не видела его злоупотреблений ее доверием, не видела самоуправства князя в деле ее управления.
Из приведенного письма, напротив, видно, как настойчиво Григорий Александрович путем обстоятельных доводов и даже указанием на суд истории и потомства старается добыть согласие императрицы на дело, даже очевидно полезное для России, без какового согласия он обойтись, видимо, не сознает себя вправе.
Так было и во всяком деле. Идея зачастую принадлежала Потемкину, но обсуждала ее всесторонне сама императрица и, только убежденная основательными доводами, давала свое согласие.
Правда, и проекты самой императрицы обсуждались ею с ее «первым советником», каковым был Григорий Александрович.
Она охотно выслушивала возражения и прислушивалась к замечаниям и хотя отстаивала свою мысль, но в случае доказанной ей несостоятельности ее взгляда отказывалась от него. Такова была эта, несмотря на происхождение, вполне русская душой монархиня, всецело придерживающаяся мудрой народной пословицы: «Ум хорошо, а два лучше».
Ум Потемкина она признавала давно и знала, что на этот ум можно положиться, но все же не настолько, что он мог действовать без ее согласия.
Она была монархиней в полном смысле этого слова.
Императрица хорошо понимала, что относительно значения Крыма Потемкин прав, но свести «бородавку с носу» ей, как и всем ее окружающим, казалось невозможным без войны с Турцией.
Начинать же войну с последней, не обеспечив себя со стороны соседних держав, и особенно Австрии, было немыслимо.
После долгих переговоров, при содействии того же Потемкина, удалось войти в соглашение с последней.
Австрийский император Иосиф II не устоял против соблазнительной перспективы поделить Турцию и заключил с русской императрицей секретный договор, которым договаривающиеся стороны взаимно обязались помогать друг другу в войне с Оттоманской империей, присоединить в случае успеха пограничные к их империям области, восстановить Грецию и образовать из Молдавии, Валахии и Бессарабии отдельную монархию под скипетром государя греко–российского вероисповедания.
Это соглашение развязало России руки относительно Крыма.
Григорий Александрович ожидал с нетерпением удобной минуты, чтобы нанести ему окончательный удар.
Повод к этому не замедлил представиться.
Потемкин находился в Кременчуге.
Был июль 1782 года.
Вдруг князь получил известие, что взбунтовавшиеся крымцы заставили Шагин–Гирея бежать и искать спасения в Керчи, под защитой русского флота, турки же, вопреки трактату с Россией, заняли Тамань и угрожают вторгнуться в пределы Крыма.
Приготовленный ко всяким случайностям, Григорий Александрович тотчас же сделал соответствующие распоряжения.
Он немедленно предписал генерал–поручику Павлу Сергеевичу Потемкину выгнать турок за Кубань, Суворову усмирить буджацких и ногайских татар, а генерал–поручику графу де Бальмену войти в пределы Крыма и водворить там спокойствие.
Все эти три поручения были исполнены быстро и успешно, почти без кровопролития.
Тогда Григорий Александрович предписал командовавшему Азовской флотилией, вице–адмиралу Клокачеву, оставя несколько судов в Керчи, сосредоточить остальные в Ахтиарской гавани, где граф де Бальмен уже воздвигал укрепления.
Светлейший, между тем пребывавший то в Кременчуге, то в Херсоне, тотчас вступил в переговоры с крымскими, ногайскими и кубанскими мурзами и где увещаниями, где золотом, где угрозами убедил их покориться России.
8 апреля 1783 года последовал высочайший манифест, объявивший, что русское правительство, желая положить конец беспорядкам и волнениям между татарами и сохранить мир с Турцией, присоединяет навсегда к своим владениям Крым, Тамань и всю Кубанскую сторону.
Граф де Бальмен привел к присяге старшин крымских, Суворов — ногайских и Павел Сергеевич Потемкин — кубанских.
Так давно занимавшее умы русских государей присоединение Крыма совершилось.
Благодаря неусыпной энергии светлейшего князя Григория Александровича Потемкина это великое дело было окончено без войны и потерь.
Присоединением к России целой области он ответил своим врагам, выставлявшим его изнеженным сибаритом, пустым волокитой, неспособным не только к государственному, но ни к какому делу.
А врагов у князя Потемкина было много.
Рассказывали, что однажды императрица обратилась к своему камердинеру Попову, отличавшемуся, как уже знают читатели, грубою откровенностью, с вопросом, что говорят в Петербурге о Григории Александровиче.
— Бранят… — лаконически отвечал Попов.
— За что же? — спросила государыня.
— За все… Да кто его любит… Только двое…
— Кто же это?
— Бог да вы…
Попов был прав; действительно, вся деятельность Григория Александровича была отмечена особым к нему благоволением Божьим.
Набожный князь носил уверенность в этом во всю свою жизнь.
Присоединение к России Крыма произвело страшный переполох в Константинополе.
Турки спешно стали готовиться к войне, но неожиданное объявление австрийского императора, что в случае разрыва он соединит свою армию с русской, умерило их воинственный пыл.
Благоразумные представления русского полномочного министра при диване Я. И. Булгакова [31] окончательно умиротворили турок.
Действуя чрезвычайно ловко и решительно, он не только успел отклонить турок от войны, но даже заключил с ними 23 июня 1783 года торговый трактат, а 28 декабря конвенцию, по которой статья Кючук–Кайнарджийского договора о независимости Крыма была уничтожена и Кубань назначена границей между обеими империями.
Все это, по собственному признанию Булгакова, было сделано им благодаря наставлениям и указаниям Григория Александровича, хотя последний скромно отказывается от этого в письме к Булгакову, где он, между прочим, писал: «Вы приписываете это мне и тем увеличиваете еще более заслуги ваши! Все от Бога; но вам обязана Россия и сами турки; ваша твердость, деятельность и ум отвратили войну. Турки были бы побеждены, но русская кровь также бы потекла».
По ходатайству Григория Александровича Булгаков был награжден чином действительного статского советника и орденом Святого Владимира 2–й степени.
Сам светлейший князь Потемкин, возвратившись в Петербург, за свой бессмертный подвиг был произведен 2 февраля 1784 года в генерал–фельдмаршалы, назначен президентом военной коллегии и генерал–губернатором Крыма, наименованного Таврическою областью.
С этого времени он официально титулуется светлейшим князем Потемкиным–Таврическим, а современные ему поэты называли его «великолепным князем Тавриды».
XI РАССЕЯННЫЕ ТУЧИ
По присоединении Крыма к России хан Шагин–Гирей, потерявший власть, получил обещание императрицы, что он будет получать в вознаграждение определенную ежегодную пенсию.
По неизвестным причинам уплата этой пенсии была отложена.
Хан заподозрил Григория Александровича в утайке назначенных ему денег, подал жалобу через приближенного к государыне Александра Петровича Ермолова, который поспешил воспользоваться этим случаем, чтобы настроить императрицу против князя, своего бывшего начальника и благодетеля.
Надо заметить, что Ермолов служил в лейб–гвардии Семеновском полку [32] и своей красотой и ловкостью понравился Григорию Александровичу, который взял его к себе в адъютанты и представил ко двору.
Он вскоре сделал блестящую карьеру, получил чин генерал–майора, орден Святого Станислава и Белого Орла 1–й степени и звание флигель–адъютанта, за все это обязанный Потемкину, которому и заплатил черной неблагодарность».
К начатым Ермоловым интригам против светлейшего присоединились все многочисленные его недоброжелатели и даже успели внушить императрице, что все делаемые им траты совершенно бесполезны и что даже присоединение Крыма не стоит таких больших жертв.
Григория Александровича расходившиеся доносчики стали даже обвинять в краже.
Императрицу все это чрезвычайно встревожило, она стала выказывать князю холодность и даже косвенно намекала ему на необходимость оправдания.
Но не таков был Потемкин.
Гордый и самолюбивый, он резко и холодно опровергал обвинения и даже отмалчивался.
Наконец он не только сделался сам невнимателен к государыне, но даже уехал из Царского Села, где в то время была императрица, в Петербург и бросился в вихрь удовольствий, казалось, только думая, как бы повеселиться и рассеяться.
Действительно, он проводил время со своими племянницами, зачастил к Калисфении Николаевне, но между тем эта праздность была только кажущейся, — он продолжал свою неусыпную заботу об устройстве вновь приобретенного края.
Первое преимущество, доставленное князем жителям Крыма, заключалось в том, что всем татарским князьям и мурзам были пожалованы права и льготы русского дворянства, населению дозволено было составить из среды своей войско, которое впоследствии участвовало под именем Таврического национального войска в войне России с Турцией, и, наконец, все назначенные прежним правительством каймаканы, кадии и муфтии были утверждены в своих должностях.
Татары вначале охотно, по–видимому, признавали себя подданными христианской державы, но вскоре, возбужденные магометанским духовенством и фанатиками, стали тайно уходить в Турцию.
Григорий Александрович, считая бесполезным и даже вредным удерживать людей, не расположенных к новому порядку вещей, не только не препятствовал эмиграции, но даже приказал снабжать желающих переселяться из Крыма пропускными билетами и денежными пособиями.
Эмиграция приостановилась.
Потемкин разделил Таврическую область на семь уездов, открыл таврические порты для свободной торговли дружественных с Россией народов, предоставив этим портам, в отношении коммерции, одинаковые преимущества с Петербургом и Архангельском, и заключил выгодные для черноморской торговли трактаты с Францией и королевством обеих Сицилий.
Скоро дикие степи новой Тавриды, подобно степям новороссийским, благодаря неусыпным трудам светлейшего, превратились в обработанные поля и прекрасные луга, развелось овцеводство, бедные татарские города и деревни начали терять свой жалкий вид, оживленные соседством богатых русских селений.
Такой благотворной для России деятельностью отвечал Григорий Александрович на гнусные подозрения придворных, временно разделяемые отчасти даже самой императрицей, находившей сгоряча в гордом молчании Потемкина подтверждение возводимых на него обвинений.
Двор, удивленный этой переменой, как всегда в описываемое нами время, пресмыкался перед восходящим светилом, каким, казалось, был Ермолов.
Родные и друзья князя пришли в отчаяние и говорили, что он губит себя неуместною гордостью.
Падение его считалось уже почти совершившимся фактом.
Все стали отдаляться от него, даже иностранные министры.
Один французский посланник граф Людовик Филипп Сегюр, сумевший заслужить особенное расположение государыни, остался верен дружбе с Потемкиным, посещал его и оказывал ему внимание.
При одном из свиданий граф откровенно сказал князю, что, по его мнению, он поступает неосторожно и во вред себе, раздражая императрицу и оскорбляя ее гордость.
— Как, и вы тоже хотите, — возразил ему Григорий Александрович, — чтобы я склонился на постыдную уступку и стерпел несправедливость после всех моих заслуг? Говорят, что я себе врежу, я это знаю, но это ложно, будьте покойны, не мальчишке свергнуть меня, не знаю, кто бы посмел это сделать?
— Берегитесь, — заметил Сегюр, — прежде вас и в других странах многие знаменитые любимцы царей говорили то же: кто смеет? — однако после раскаивались…
— Это были любимцы каприза, а не разума венценосцев, я другое дело… Но довольно об этом… Мне дорога ваша приязнь, но я слишком презираю моих врагов, чтобы их бояться. Лучше поговорим о деле… Ну, что ваш торговый трактат?
Сегюр в это время хлопотал о заключении между Россией и Францией торгового трактата.
Императрица поручила это дело графам Остерману, Безбородко, Воронцову и Н. В. Бакунину.
Все они были против трактата, только один Потемкин поддерживал домогательство Сегюра.
— Подвигается очень тихо, — отвечал граф, — полномочные государыни настойчиво отказывают мне сбавить пошлины на вина.
— Так, стало быть, — заметил Григорий Александрович, — это главнейшее преткновение? Ну, так потерпите только, это затруднение уладится…
Князь проговорил это таким уверенным и спокойным тоном, что привел в недоумение графа Сегюра.
Уезжая от него, он просто думал, что князь сам себя обманывает, не видя пропасти, в которую готовится упасть.
Грозовые тучи над головой светлейшего на самом деле стали сгущаться.
Ермолов принял участие в управлении и занял место в банке вместе с графом Шуваловым, Безбородко, Воронцовым и Завадовским.
Пронеслась весть об отъезде Потемкина в Нарву.
Родственники князя потеряли всякую надежду.
Враги торжествовали победу.
Опытные политики занялись своими расчетами.
Придворные переменили свои роли.
На Миллионной не было уже видно ни одного экипажа.
Граф Сегюр терял в Потемкине свою главную опору и, зная, что Ермолов скорее повредит ему, нежели поможет, так как считает его другом князя, опасался за успех своего дела.
Однако министры пригласили Сегюра на совещание и после непродолжительных переговоров согласились на уменьшение пошлины с французских вин высшего разбора и даже подали надежду на более значительные уступки.
Обещание Григория Александровича исполнилось, и граф не знал, как это сопоставить с его уже всеми решенным падением.
Через несколько дней все объяснилось.
Государыня, видя, что князь добровольно удалился от двора, стала более хладнокровно обсуждать его поведение.
Она пришла к совершенно правильной мысли, что часто оправдываться под тяжестью незаслуженных обвинений тяжелее и обиднее, нежели молчать и быть готовым пасть под гнетом несправедливости.
Придя к этой мысли, она сама снова призвала Потемкина в Царское Село.
Он явился туда победителем и начал пользоваться еще большей, чем прежде, милостью государыни.
Ермолов получил 130000 рублей, 4000 душ, шестилетний отпуск и позволение ехать за границу.
Тучи рассеялись.
Миллионная вновь ежедневно была запружена экипажами.
Когда граф Сегюр явился поздравить князя, тот поцеловал его и сказал:
— Ну что, не правду ли я говорил, батюшка? Что, уронил меня мальчишка? Сгубила меня моя смелость? И ваши уполномоченные все так же ли упрямы, как вы ожидали? По крайней мере, на этот раз, господин дипломат, согласитесь, что в политике мои предположения вернее вышли… Помните, что я сказал вам… Я любимец не каприза, а разума государыни…
Покончив с клеветою врагов, Григорий Александрович поехал в Москву, где, между прочим, встретился с бывшим там в отпуску своим товарищем юности, Василием Петровичем Петровым.
Последний повел его в недавно открытую типографию Селивановского, в которой принимал сам главное участие.
Войдя в наборную типографии, Петров сказал князю:
— Я примусь за дело, и вы, любезный князь, увидите, что благодаря ласке хозяина типографии я кой‑как понаторел в его деле.
Он тут же весьма быстро набрал и оттиснул следующие стихи:
Ты воин, ты герой, Ты любишь муз творенья, А вот здесь и соперник твой - Герой печатного изделья.Подав Григорию Александровичу листок с оттиском стихотворения, Василий Петрович заметил:
— Это образчик моего типографского мастерства и привет за ласковый ваш приход сюда.
— Стыдно же будет и мне, если останусь у друга в долгу, — ответил Григорий Александрович. — Изволь, и я попытаюсь. Но чтобы не ударить в грязь лицом, пусть наш хозяин мне укажет, как за что приняться и как что делать? Дело мастера боится, а без ученья и «аза» в глаза не увидишь.
Надо ли говорить, с каким усердием принялся Селивановский учить своего сиятельного ученика.
Потемкин и тут все сразу понял и сообразил.
Хотя гораздо медленнее Петрова, но все же довольно скоро набрал Григорий Александрович четыре строки и сказал Василию Петровичу:
— Я, брат, набрал буквы, как сумел, а ты оттисни сам, ты, как я видел, дока в этом деле.
Петров оттиснул набранное и прочитал:
Герой ли я? Не утверждаю. Хвалиться не люблю собой. Но что я друг сердечный твой - Вот это очень твердо знаю!В Москве Григорий Александрович пробыл лишь несколько дней, но и за это кратковременное отсутствие враги снова сумели смутить императрицу, и Потемкина в Петербурге ожидал хотя и не такой, как недавно, но все же довольно холодный прием.
Григорий Александрович снова сделал вид, что не обращает внимания на гнев государыни, и по–прежнему занимался делами и докладывал обо всем кидающемся в жизни вверенных ему областей императрице.
Во время одного из таких докладов государыня вдруг высказала свое намерение ехать в Херсон и лично обозреть новые присоединенные к империи провинции.
Ни к чему подобному Потемкин не был подготовлен, и хотя по мере сил он заботился о благосостоянии края, но для приема в нем императрицы этого не было достаточно. Он хотел бы показать ей эти области в блестящем положении.
«Императрица может пожелать ехать очень скоро. Как сделать что‑нибудь в такое короткое время?» — эти мысли как вихрь пронеслись в его голове.
Он побледнел.
Екатерина заметила это и посмотрела на него подозрительным взглядом.
Григорий Александрович понял, что это намерение поселили в уме государыни его враги.
Он быстро оправился.
— Государыня! — воскликнул он. — Простите ли вы мне мое мгновенное смущение… но неожиданное предложение вашего величества так обрадовало меня, что я до сих пор не смею верить этому счастью… Край, благословляющий имя вашего величества, с восторженной радостью узрит у себя свою обожаемую монархиню.
Екатерина не ожидала такого ответа и милостиво улыбнулась.
— Прошу одной милости, — сказал Потемкин, — не откладывать этого благого намерения.
— Нет, нет, я даже приглашу императора Иосифа встретиться со мной на пути!
— Этот чудный край, ваше величество, создан для свидания царей! — восторженно заметил Григорий Александрович.
Путешествие Екатерины на юг России было решено.
Князь немедленно после этого разговора принял все меры для приведения Крыма в самое цветущее состояние. Не щадя ни денег, ни трудов, отправил он туда множество людей, заставив их работать и днем и ночью.
XII ВОЗМЕЗДИЕ
Промелькнувший десяток лет не прошел, увы, бесследно для остальных героев нашего правдивого повествования.
Если на лучезарное, полное блеска и славы жизненное поприще светлейшего набегали, как мы знаем, тучки нерасположения государыни и гнетущих воспоминаний юности, то над головами других наших героев разразились черные, грозовые тучи.
Возмездие, которое ожидал Григорий Александрович Потемкин для князя Андрея Павловича Святозарова, началось, и не для него одного.
Первою его жертвою пал Степан Сидоров.
Мы оставили его в тот момент, когда он, неожиданно для самого себя, исполнил волю светлейшего удачно и легко, найдя не противодействие, которое ожидал, но даже поддержку в своей жене.
Ее быстрое согласие, с одной стороны, его обрадовало, так как он не на шутку перетрусил перед князем Потемкиным, но с другой — оно заронило в его сердце против жены какую‑то едкую горечь.
Честный по натуре, имея на совести единственное пятно — страсть к женщине, которая сделалась его женой, и совершивший даже, повинуясь этой страсти, присвоение, чужих денег, которые и перешли целиком в карман той же женщины, он не мог примириться с мыслью, что мать может не только хладнокровно отнестись, но даже радоваться гибели своей дочери.
В нем, простом человеке, нравственное чувство было гораздо развитее, нежели не только у его жены, но у всего тогдашнего так называемого «общества», в примерах которого она почерпнула и свой нравственный кодекс.
Он считал гибелью девочки то, что Калисфения Фемистокловна признавала ее торжеством и с неба свалившимся счастьем.
Он не стал с нею препираться по этому вопросу, тем более что не был в силах предотвратить гибель своей падчерицы — борьба с Потемкиным, особенно при знании последним его тайны, была бы с его стороны безумием.
Он понял только, насколько они с женой разные люди, понял только теперь, когда страсть к жене уже улеглась и когда появился жизненный вопрос, который они решили с такой резкою противоположностью мнений.
До этих пор, сперва отуманенный страстью, а затем ходивший как бы в угаре от осуществления своих мечтаний, он идеализировал связавшую с ним свою судьбу женщину.
Теперь он прозрел и вдруг почувствовал себя страшно одиноким. Его даже смутила мысль, что эта женщина, так охотно продающая свою дочь, могла продать себя и ему за его деньги, — только продать, так как ведь деньги перешли к ней.
Он стал припоминать подробности своего сватовства, и разного рода мелочи, тогда не замеченные им в чаду влюбленности, теперь восстали перед ним подтверждающими эту мысль фактами.
Да ведь он и сам, — припомнил он, — считал деньги средством приобрести ее расположение. Для этого‑то он только и присвоил их.
И он приобрел ее.
Когда его неправдой нажитый капитал из его укладки перешел в сундук Калисфении Фемистокловны, он был даже рад, так как цель, для которой были добыты им эти деньги, была достигнута, а они сами по себе жгли ему руки, пробуждая в нем тяжелые воспоминания.
Но никогда так ясно, как теперь, он не сознавал, что он купил свою жену.
Если он мог купить ее, то ранее мог купить и другой… Ранее… А почему не после него…
Его мысли как‑то невольно перенеслись на его сына Андрюшу, которому был девятый год в исходе.
Страшная мысль: его ли это сын? — каплей раскаленного свинца упала на его мозг.
Он вспомнил князя Андрея Павловича Святозарова.
Степан Сидорыч сидел в спальне.
Жена повезла Калисфению в Аничков дворец.
Был вечер. В спальне было совершенно темно, и Степан Сидорович не зажигал огня. Среди окружавшего его мрака ему было как‑то легче с его думами.
— Папа, ты здесь? — раздался детский голосок
Это вбежал Андрюша.
— Здесь, здесь, беги сюда, — сказал отец, и в голосе его прозвучала радость.
Приход ребенка был совершенно вовремя.
Адское сомнение вдруг исчезло из души Степана Сидоровича, когда он ощущал в своих руках мягкую и шелковистую головку сына.
— Мой… мой, — прошептал он. — Вот для кого я буду жить… я не один…
— Что ты шепчешь, папа? Как здесь темно, — пролепетал Андрюша, по–детски перескакивая от вопроса к выражению впечатления.
— Сейчас, голубчик, зажжем огонь, — сказал Степан Сидорович и, взяв за одну руку сына, встал, подошел к комоду и зажег свечу.
— Ты плачешь, папа? — спросил ребенок, увидав катившиеся по щеке отца слезы.
Это были слезы облегчения от страшной мысли.
— Нет, нет, ничего, не плачу, — отвечал отец, движением головы стряхивая с ресниц последние слезы. — Это я вспотел, очень жарко…
Степан Сидорович вынул фуляровый платок и вытер лицо.
— Здесь не жарко, — настойчиво проговорил мальчик. — Ты плачешь…
— Говорю тебе — нет… Видишь, я смеюсь.
Степан Сидорович действительно засмеялся.
Ребенок успокоился.
Вскоре вернулась Калисфения Фемистокловна.
Восторженно стала она рассказывать о приеме, сделанном ей и ее дочери Дарьей Васильевной Потемкиной и племянницами светлейшего. До мелочей описала роскошное убранство дворца, образ жизни, штат прислуги.
— В рай, в рай, прямо в рай отвезла дочурку, — воскликнула она в конце своего рассказа.
Степан Сидорович слушал безучастно, но Калисфения Фемистокловна, под впечатлением так недавно минувшего, не заметила этого.
На другой день жизнь вошла в свою колею.
Отсутствие молодой Калисфении было, конечно, замечено посетителями, но на их вопросы отвечали уклончиво: одним говорили, что барышня больна, другим — что она поехала гостить к родственникам.
Исчезновение «барышни» вскоре не замедлило отразиться и на торговле, но Калисфения Фемистокловна не огорчалась этим, она вся была поглощена блестящей судьбой дочери.
Медленность Григория Александровича в окончательном устройстве этой судьбы ее страшно бесила и порой наводила на страшные сомнения.
«А вдруг она ему разонравилась?» — задавала она сама себе вопрос, но тотчас, припоминая обольстительный образ своей дочери, решала его отрицательно.
«Что же он медлит?»
Этот вопрос оставался без ответа.
Ее успокаивало то, что князь балует ее дочь, делает ей подарки, подарки ценные.
«Приучает… деликатно… хочет, чтобы по–хорошему…» — решила она.
«Только бы девка его не полюбила… Тогда… беда…»
Калисфения Фемистокловна из откровенных разговоров с дочерью знала, что ей нравится Григорий Александрович.
— Я в него положительно влюблена! — раз сказала ей дочь.
— Влюблена, ну и Господь с тобой, будь влюблена… твой будет, от тебя не уйдет… — отвечала ей мать. — Только смотри не полюби его сильно.
— А что?
— Да то, что женщина, которая ихнего брата полюбит, ни в грош ими не ставится; им надо, чтобы играли с ними в любовь, а ежели какая из нашей сестры по глупости да всерьез к ним привяжется, пиши аминь всему делу… Мужчина такой помыкать начнет да потом и бросит, как ненужную тряпку… Помни это и люби только самое себя… Чай, если бы он, такой красивый да статный, не светлейшим бы был, а служил бы у нас в кондитерской, ведь не влюбилась бы в него?..
— Конечно, нет…
— Да если бы он тебя так не холил, подарков бы не дарил, а норовил бы с тебя взять… Мил бы он тебе был?
— Нет…
— То‑то же, любить надо настолько, насколько они для нас хороши да угодливы… оно и выходит, что в них надо любить только одну себя… Поняла?
— Поняла…
— И заруби себе на носу, что если всерьез его не полюбишь, то он тебя всегда любить будет, и холить, и нежить, и дарить… а с любовью‑то твоей и от ворот поворот укажет. Слушайся мать, она тоже ихнего брата насквозь видит…
— Я, мамаша, его так и не любила, чтобы себя забыть… Это, по–моему, глупо…
— Истинно глупо, истинно глупо… Ты у меня ведь умница.
Мать нежно поцеловала дочь в голову.
Наконец, как мы знаем, Калисфения Фемистокловна дождалась.
Ее дочь перебралась на новоселье.
Судьба ее была упрочена.
От нее зависело ее дальнейшее счастье.
Калисфения Фемистокловна не оставляла ее своими наставлениями и была довольна послушанием молодой женщины.
Вскоре она почти совсем переселилась на Васильевский остров.
Степан Сидорович не особенно огорчался отсутствием жены. Он всецело был занят кондитерской, в которую пригласил в качестве продавщицы красивую шведку, я своим сыном
Дела в кондитерской с появлением за прилавком шведки пошли лучше.
К сыну Степана Сидоровича пригласили учителя.
Мальчик занимался прилежно.
Ему уже был одиннадцатый год в исходе.
Отец им не нарадовался.
Наряду с грамотой и науками он стал приучать его и к торговле, рассчитывая передать ему дело кондитерской.
Вдруг громовой удар разразился над головой Степана Сидоровича.
Дело было на первой неделе Великого поста.
Во время масленицы он, по усиленным просьбам сына, водил его несколько раз на площадь Большого театра, где в описываемое нами время происходили народные гулянья, построены были балаганы, кружились карусели, пели песенники на самокатах и из огороженной высокой парусинной палатки морил со смеху невзыскательных зрителей классический петрушка.
Мальчик страшно увлекался этими зрелищами, и отец был доволен, видя разгоревшиеся щечки и блестящие глазки своего Андрюши.
Последний раз они были на балаганах в Прощеное воскресенье [33].
Вечером еще этого дня мальчик с радостным волнением передавал отцу пережитые впечатления, а на утро другого дня он уже не мог поднять головы от подушки.
У Андрюши, видимо простудившегося, открывалась, как тогда еще по–старинному называли, сильная «огневица».
Испуганный отец бросился сперва за докторами, а затем за матерью.
Несколько лучших врачей того времени явились к постели больного мальчика, прописали лекарство, предписали тщательный уход.
— Болезнь заразительная, — заметили они.
Калисфения Фемистокловна, приехавшая по уведомлению мужа, узнав об этом, страшно перепугалась.
Она была чрезвычайно мнительна, а тут еще могла быть опасность заразиться не только самой, но и перенести болезнь в дом дочери.
Это соображение пересилило в ней любовь к сыну, если только она была в ее холодном сердце, и она, дав мужу несколько советов, уехала обратно на Васильевский, даже не взглянув издали на больного Андрюшу.
Степан Сидорович совершенно обезумел.
Вместе с приглашенной сиделкой проводил он дни и ночи у постели метавшегося в бреду сына.
Чутко прислушивался он к неровному горячему дыханию ребенка, и каждый стон его смертельной болью отзывался в его сердце.
Врачебная наука оказалась бессильна.
После наступившего кризиса больной стал слабее и слабее с каждым днем.
Только тихое, еле слышное дыхание указывало на некоторую жизнь в этом обтянутом кожей скелете, в которого превратился еще месяц назад цветущий, пылающий здоровьем мальчик.
Степан Сидорович был тоже неузнаваем.
С поседевшими волосами на голове и бороде, с осунувшимся желто–восковым цветом лица и порой бессмысленно блуждавшими, всегда полными слез глазами, он производил страшное впечатление.
Платье сидело на нем как на вешалке.
Даже не особенно чувствительная к болезни сына и горю мужа Калисфения Фемистокловна, заехавшая как‑то раз в кондитерскую и беседовавшая с мужем через отворенную дверь комнаты, воскликнула:
— Да отдохни ты, на кого ты стал похож, ведь краше в гроб кладут…
Степан Сидорович только махнул рукой.
Наконец настал самый страшный момент.
Это было под утро.
Андрюша вдруг страшно заметался в постели, открыл свои такие недавно блестящие и веселые глазки, теперь отражавшие вынесенные страдания, но вместе с тем и какой‑то неземной покой.
Отец наклонился к нему.
Андрюша обвил его шею своими исхудалыми ручонками и прошептал:
— Папа, па…
Он не окончил.
Из его как бы пустой груди вырвался тяжелый, напряженный вздох. Голова как‑то странно откинулась на сторону.
В открытых, глубоко ушедших от худобы лица в орбиты глазах отразился вечный покой.
В объятиях отца лежал холодный труп сына.
— Возмездие! — вскрикнул дико Степан Сидорович и, почти бросив бездыханного сына на кровать, вскочил и вышел из комнаты, а затем и из дому, как был, без шапки и без верхнего платья.
Сына похоронили без него.
В кондитерскую и к себе на квартиру он более не возвращался.
Прошло около месяца, и даже предпринятые розыски как в воду канувшего Степана Сидоровича не привели ни к чему.
Калисфения Фемистокловна наскоро с убытком продала кондитерскую и вывезла лучшие вещи из обстановки находившейся при ней квартиры к дочери. Остальное все было продано вместе с кондитерской.
XIII ПРОПОЙЦА
Жизнь в доме князей Святозаровых текла для того времени более чем однообразно.
Едва ли был тогда другой дом в невской столице из числа домов высшего петербургского света, где бы царила такая патриархальность и такая чиста семейная атмосфера.
Все интересы князя Андрея Павловича и княгини Зинаиды Сергеевны сосредоточивались на их сыне Василии, подраставшем юноше, которому шел в то время шестнадцатый год.
Посещая изредка лишь официально двор и еще реже делая некоторые визиты, княжеская чета жила скромно и замкнуто, совершенно вдали от тогдашнего шумного большого света.
Сначала этот «свет» недоумевал и косился на них, как на отщепенцев, а затем явление это стало заурядным и малоинтересным по своей давности, и «свет» примирился с ним и махнул рукой.
Дома князей Святозаровых для него как бы не существовало.
Знали только, что князь и княгиня всецело поглощены воспитанием молодого князька Василия Андреевича Святозарова.
— Готовят, видно, восьмое чудо! Поживем — увидим! — язвили некоторые.
Действительно, князь Василий Святозаров, предназначаемый родителями, по обычаю, к военной службе, получил для того времени исключительное образование.
Целый поток учителей в гувернеров старался набить его голову всевозможной современной мудростью, чтобы сделать его чуть ли не энциклопедистом.
Этим занято было все время юноши, хотя нельзя сказать, чтобы уроки толпы учителей приносили молодому князю очень большую пользу.
Он усваивал из них, как это всегда бывает при очень обширной программе образования, лишь отрывочные сведения по различным научным отраслям, не зная основательно ни одного предмета.
Был лишь один видимый результат ученья — молодой князь говорил довольно свободно на нескольких иностранных языках.
Для того времени уже одним этим цель образования считалась более чем достигнутой — князь и княгиня были довольны и преподавателями, и сыном.
Что касается воспитания, то балованный сынок богатых и титулованных родителей рос, понятно, изнеженным, своевольным и капризным существом.
Малейшее желание его исполнялось.
«Вася хочет!» — эта фраза была законом не только для штата княжеских служащих, включая сюда и гувернеров, но и для самого князя и княгини.
Единственно, что достигалось подобным обособленным воспитанием — Вася не имел товарищей–сверстников и рос совершенно одиноким, — это чистота нравственности юноши.
Князь и княгиня сумели уберечь мальчика от тлетворных примеров и знания жизни, бившей довольно нечистым ключом за воротами княжеского дома, и в шестнадцать лет юноша был совершенным ребенком, не зная многого из того, что передается друг другу подростками с краской волнения на лице, сдавленным шепотом и варьируется на разные лады и что затем служит надежным щитом, когда на грани зрелых лет юношу неизбежно захлестнет волна пробудившейся страсти.
Наивность шестнадцатилетнего юноши, приятная для родителей, подчас до седых волос считающих своих детей малыми ребятами, едва ли может признаваться, особенно в мальчике, идеалом воспитания.
Окруженный китайской стеной от жизни, не зная ее совершенно, он все же будет принужден вступить в эту жизнь и на каждом шагу наталкиваться на неведомые ему житейские отношения.
Конечно, опыт — этот мировой учитель — ознакомит его впоследствии со всеми сторонами жизни, но попасться совершенно неподготовленным в руки этого сурового педагога едва ли можно пожелать своему ребенку.
Об этом забывает большинство родителей, стараясь показать своим детям жизнь с одного конца и старательно умалчивая об ее темных сторонах, а между тем с ними‑то и приходится вступающему, в жизнь юноше чаще всего сталкиваться.
В таком блаженном неведении жизни, в полном смысле этого слова, рос в родительском доме, окруженный раболепствующей толпой слуг и смотрящих в глаза мальчику с целью угадать его желание родителей молодой князь Василий Святозаров.
По наружности это был красивый юноша, еще не совсем сформировавшийся, но обещающий быть стройным молодым человеком.
Отношения между супругами Святозаровыми сделались самыми задушевными.
Общая их любовь к единственному сыну связала их крепкими, нерасторжимыми узами.
Прошлое с летами если не совершенно забылось, то, по крайней мере, не было частого повода для воспоминании о нем.
Лето семейство князей Святозаровых проведало на даче в окрестностях Петербурга, ни разу за все это время не посетив Несвицкого.
Княгиня лишь порой вспоминала деревянный крест, в отдаленной аллее тамошнего сада, но это воспоминание уже утратило свою острую горечь и появлялось лишь при редких посещениях Дарьи Васильевны Потемкиной, единственного лица, являвшегося в княжеском семействе представительницей его грустного прошлого.
Тяжелы были эти посещения и для князя Андрея Павловича, приветливого и утонченно любезно встречавшего мать могущественного человека.
Ему было совершенно не по себе в присутствии этой его невольной и непрошеной сообщницы.
«Какое счастье, что мальчик умер! — думал князь. — Иначе бы я не выдержал и во всем покаялся бы жене… Но каково бы было его снова теперь приучать к иной доле».
Князь, уже теперь совершенно убежденный, что это был его сын, не думал об охранении прав и богатства своего первенца — Васи.
«На обоих бы хватило!» — иногда посещала его грустная мысль.
Повторяем, это было только в редкие дни визитов старушки Потемкиной.
Несчастье, обрушившееся на его бывшего камердинера Степана Сидоровича, и его таинственное исчезновение дошли до сведения князя Андрея Павловича.
Он принял в своем бывшем слуге горячее участие и даже со своей стороны обратился к полицмейстеру с просьбою, в случае розыска пропавшего, уведомить его об этом.
Но прошел месяц, другой, а о Степане Сидоровиче не было ни слуху ни духу.
Явилось даже предположение, что он покинул Петербург.
Аккуратная в денежных расчетах, Калисфения Фемистокловна открыла, что в день ухода ее мужа из кондитерской у него в кармане должно было быть несколько сот рублей.
«Уехал, верно, к святым местам помолиться… Успокоится, вернется…» — хладнокровно решила она, перестав даже справляться об исчезнувшем муже.
В тоне этого высказанного ею решения звучала настолько равнодушная нотка, что, казалось, существование Степана Сидорова на белом свете было для нее совершенно безразлично.
Такова была черствая натура этой женщины.
Князь Андрей Павлович виделся с Калисфенией Фемистокловной и знал и ее предположение относительно судьбы ее мужа.
Не получая от полиции сведений о результате его розыска, он стал склоняться к верности этого мнения.
«Может, в какой дальний монастырь забрался… да там и остался…» — думал князь.
При воспоминании о монастыре ему невольно пришла на мысль графиня Переметьева, тоже, как и Степан, без вести пропавшая из Петербурга.
Однажды утром, когда князь Андрей Павлович, только что окончив свой туалет, вышел в кабинет, новый камердинер Тихон с таинственным видом вошел в комнату.
Князь заметил странное выражение лица слуги.
— Что такое? — спросил он.
— Сидорыч, ваше сиятельство, там пришли–с…
— Сидорыч, какой Сидорыч?.. А, Степан?.. — воскликнул князь. — Наконец‑то отыскался, зови его сюда…
— Не хороши–с они… ваше сиятельство, — запинаясь, заметил Тихон.
— Не хорош… то есть как не хорош?..
— Вид больно безобразный, и потом–с, хмельны очень…
— Пьян!
— То есть еле на ногах стоит…
— Так уложите… пусть выспится…
— Уж им на кухне предлагали… Никак с ними не сообразишь …
— Что же?
— К вашему сиятельству просятся… Дело, говорят, есть… Тайна… Путем и не поймешь…
Князь Андрей Павлович побледнел.
— Тайна! — машинально повторил он.
— Так точно, ваше сиятельство! Несуразное они что‑то несут… Известно, во хмелю, в сильном градусе…
Князь молчал и сидел задумавшись.
— Так как же прикажете–с?..
— Что? — спросил, точно очнувшись, ничего не слышавший князь.
— Насчет Сидорыча…
— Зови сюда…
— Сюда никак невозможно, ваше сиятельство, через чистые комнаты–с… Они–с все в грязи–с… На дворе‑то мокрота и слякоть…
— А…
Князь снова задумался.
— Проведи в гардеробную… Но чтобы там ни души…
— Слушаю–с… — удивленно вскинул на князя глаза Тихон и удалился.
Князь остался один.
«Тайна! Какая тайна?.. Просто спьяна городит вздор… — пронеслось в его голове. — Надо все‑таки его видеть… несчастный… пьян и весь в грязи…» — припомнил князь слова Тихона.
Он встал и медленно прошел в гардеробную, находившуюся на совершенно противоположной стороне дома.
Княгиня Зинаида Сергеевна еще спала.
То, что представилось глазам князя Андрея Павловича в гардеробной, превзошло всякие его ожидания.
Если бы он не знал наверное, что стоящее перед ним существо его бывший камердинер, а затем петербургский купец Степан Сидоров, однолеток его, князя, то он никогда не поверил бы этому.
Перед князем стоял, как‑то сгорбившись, расслабленный старик, одетый в невозможное рубище, покрытое толстым слоем липкой грязи.
Цвет когда‑то суконного, но теперь состоявшего из одной продранной в нескольких местах основы халата, подпоясанного грязной тряпкой, определить было невозможно.
Одна нога, обернутая в грязную онучу, была обута в лапоть, а другая в опорок дырявого сапога.
В красных, перезябших и трясущихся руках Степан держал дырявую шляпу, тоже неопределенного цвета, покрытую грязью.
Лицо не только изменило свое выражение, но даже, казалось, в нем не оставалось ни одной прежней черты.
Красно–сизый нос выделялся на опухшем синевато–бледном лице, обросшем почти совершенно седой всклоченной бородой, поседевшие также почти волосы на голове слепившимися косматыми прядями спускались с головы на лоб и на шею.
Один глаз был полузакрыт от огромного сине–багрового кровоподтека, а другой, слезящийся и воспаленный, имел какой‑то оловянно–безжизненный оттенок.
В то время когда князь Андрей Павлович вошел в гардеробную, стоявший Степан закашлялся.
Хриплый, стонущий кашель шел как бы из совершенно пустой груди, и от его приступов тряслось все исхудавшее тело несчастного пропойцы.
— Степан, ты ли это? — воскликнул князь.
Вместо ответа Степан Сидоров повалился в ноги князю, продолжая оглашать комнату страшным кашлем и употребляя, видимо, все усилия прекратить его.
Андрей Павлович с выражением немого ужаса смотрел на своего бывшего верного слугу.
Степан наконец стал на коленях, кашлянул последний раз и отер губы рукавом халата.
Рукав оказался смоченным кровавой пеной, которая окрасила и часть бороды несчастного пропойцы.
Князь с невольным отвращением отвернулся, но пересилил себя и снова сказал:
— Степан, что с тобой? Как ты мог так опуститься?
Тот безнадежно махнул рукой и на коленях ближе подполз к Андрею Павловичу:
— Не обо мне теперь речь, ваше сиятельство, мой конец близехонек, я скоро предстану на суд Вечного Судьи, со всем моим окаянством… Покарал меня Господь по делам и заслугам… Так пришел я теперь сперва на суд к вашему сиятельству, судите меня, простите меня и отпустите мне грех мой незамолимый…
Все это Степан произнес коснеющим, заплетающимся языком, видимо с трудом собирая мысли и выговаривая слова.
— Что ты… что ты… за что мне судить тебя, в чем прощать, какой грех отпустить тебе я смею… я сам во многом грешен… Может, грешнее тебя…
— Обманул я вас, ваше сиятельство, простите меня, окаянного. Бабья прелесть смутила… На капиталы польстился, бабу на них купил… Ох… горе мне… грешному…
— В чем ты обманул меня? — спросил князь, с сожалением выслушивая, как ему казалось, пьяный бред.
— Сын‑то ваш, Володенька, жив, — сказал Степан.
— Что–о-о?.. — воскликнул Андрей Павлович и пошатнулся.
Еле сдержавшись на ногах, он, шатаясь, дошел до стоявшего у одной из стен сундука и бессильно опустился на него.
XIV «НАШ СЫН ЖИВ»
— Что ты за вздор болтаешь? — сказал князь Андрей Павлович Святозаров, несколько оправившись от услышанного им рокового известия.
— Не вздор, батюшка, ваше сиятельство, а истинную правду говорю, подлое свое окаянство как на духу все открываю, чувствую я, что помру не нынче–завтра, так не хочу в могилу сойти с тайной от вашего сиятельства…
Подробно рассказал Степан Сидоров свою последнюю поездку в Чижево, свой разговор с Дарьей Васильевной Потемкиной, ее ответ и преступную мысль при поездке туда удержать половину капитала, а по возвращении утаить все деньги, что и было им исполнено путем выдуманного рассказа о смерти ребенка.
Это была полная, искренняя исповедь раскаявшегося грешника.
Степан затем перешел к описанию своей дальнейшей жизни, сватовства за Калисфению Мазараки.
— Она, она, весь соблазн от нее шел, точно отуманила меня, опутала, обвела, беспутная… — говорил Степан, прерывая свой рассказ всхлипываниями и тяжелыми передышками.
— Покарал меня Господь Бог в сыне моем, не дал мне, грешному, порадоваться, отозвал к себе ангела, отец которого душу свою черту продал… Ох, грехи, грехи незамолимые…
Приступ страшного кашля прервал голос Степана Сидорова.
Видимо, от сильного волнения и напряжения сил кровь хлынула из горла несчастного, и он без чувств ничком повалился на пол.
Князь Андрей Павлович сидел неподвижно и хотя, казалось, смотрел на своего бывшего камердинера и слушал его, но на самом деле мысли его были далеко от лежавшего у его ног Степана, или, лучше сказать, он не в силах был сосредоточиться на какой‑нибудь определённой мысли. Они какими‑то обрывками мелькали в его голове, не слагаясь ни в какую определенную форму.
Рассказ Сидорыча, из которого князь слышал только ту часть, которая касалась доказательства, что его сын жив, казалось, вносил в голову князя еще большую путаницу.
Припадок кашля, хлынувшая кровь и наступившая затем тишина привели князя в себя.
Он как‑то удивленно оглядел комнату, остановил вопросительно–недоумевающий взгляд на лежавшем у его ног в грязи и крови Степане, медленно провел рукой по лбу, встал и неровной походкой, брезгливо обойдя Степана, вышел из гардеробной.
В соседней комнате его ожидал камердинер.
Князь отдал приказание отвезти Степана Сидорова в больницу и удалился в свой кабинет.
И, приказав сопровождающему его камердинеру себя не беспокоить, князь заперся изнутри и бессильно опустился на кресло у письменного стола.
«Мой сын жив!..» — вот мысль, которая стояла в его уме без всяких выводов и заключений.
Казалось, она заняла все мыслительные способности князя.
Наконец силою воли ему удалось сосредоточиться и вызвать мысль о последствиях, которые порождает для него это известие.
Это была роковая, губительная работа.
Когда перед Андреем Павловичем предстала картина его будущего, он содрогнулся и, схватившись обеими руками за голову, бессильно упал на стул.
Его сын жив, но где он? Он в руках светлейшего князя Григория Александровича Потемкина, могущественнейшего после государыни лица в России, когда‑то в молодости влюбленного в его жену, княгиню Зинаиду Сергеевну.
То, что князь Потемкин, несомненно, принял участие в отвергнутом отцом сыне любимой им женщины, было для Андрея Павловича вне всякого сомнения.
Его мать, Дарья Васильевна, к которой сама судьба привела исполнителя воли князя Святозарова — Степана и которая сделалась его сообщницей, конечно, действовала по указаниям сына.
Этим объясняется принятие первых денег и отказ от вторых, от целого капитала в двадцать пять тысяч рублей.
Она успела в это время уже списаться с ним.
«Обратиться к ней!» — мелькнуло в голове князя, но он тотчас же отбросил эту мысль.
Она ответит ему то же, что ответила Степану во второй его приезд в Чижево.
Он вспомнил ее печально–загадочные взоры, бросаемые ею при ее редких посещениях на княгиню.
И эти посещения, — он теперь был убежден в этом, — совершаются по воле Григория Александровича, который сам никогда не переступал порог его дома и даже не сделал ему ответного визита приличия, который отдал всем.
Все мелочи, на которые он прежде не обращал никакого внимания, вырастали теперь в глазах князя в веские предзнаменования грозного будущего.
Значит, честь и доброе имя князя Святозарова находятся всецело в руках Потемкина.
При этой мысли Андрей Павлович заскрежетал зубами.
Он, как большинство придворной партии, глубоко ненавидел светлейшего князя — выскочку, parvenu, как звали, конечно шепотом, Григория Александровича.
Почему же он медлит обличить его, князя Андрея Павловича, и возвратить ребенка когда‑то любимой им женщине, княгине?
«Быть может, он сохранит эта тайну навсегда! — пробежала в голове Андрея Павловича успокоительная мысль. — Нет, он не таков, вероятно, готовит князю удар, удар публичный, он захочет позабавиться этим страшным приключением, этой роковой опрометчивостью князя… — тотчас и отвечал на нее Андрей Павлович. — Унизить князя Святозарова: сорвать с него маску высоконравственного человека в этот развращенный век, затоптать в грязь имя родовитого вельможи — это ли не победа развратника — Потемкина, для выскочки — светлейшего князя Римской империи!»
Князь дико захохотал.
«А быть может, он, этот мой сын, умер не тогда, а потом… — одну минуту подумал Андрей Павлович. — Нет, он жив, жив… Он растет где‑нибудь под чужим именем… Потемкин знает где и не нынче–завтра выведет его публично перед отцом страшной, грозной, живой уликой».
Андрей Павлович затрепетал.
Что сын его жив, он был почему‑то глубоко уверен.
Где же выход из этого положения? Что делать? Что делать? — ломал себе голову князь.
Он не находил в своем уме ответа на эти вопросы.
Выхода не было.
— Смерть! — шепнул в ухо Андрея Павловича какой‑то голос.
— Смерть! — повторил князь вслух и как‑то вдруг весь успокоился.
Смерть в представлении Святозарова на самом деле была единственным и лучшим выходом.
Она разрушит все планы Потемкина.
Честь фамилии Святозаровых будет сохранена, и это историческое имя перейдет незапятнанным к потомству, к его сыну Василию, и даже к этому, ко второму, если Потемкин возвратит его княгине.
Не будет же он глумиться над когда‑то любимой им женщиной и над самого себя наказавшим преступником, над мертвым?
Как ни было нелестно мнение князя Андрея Павловича о Григории Александровиче, но он разрешил эти вопросы отрицательно.
«А быть может, тогда он сам, при своем могуществе, выведет его в люди под другой фамилией, и даже княгиня не будет знать гнусного поступка мужа… — думал Святозаров. — Нет, она должна знать… Тогда, когда он будет в могиле… Она простит… Она ангел…»
Князь Андрей Павлович зарыдал.
— Да, да… смерть… — повторил он, заставив себя успокоиться и движением головы сбрасывая с ресниц последние слезы, а быть может, и отгоняя и иные мысли. — Это возмездие…
Ему пришли на память слова Христа, обращенные к апостолу Петру:
«Вложи меч в ножны. Подъявший меч от меча погибнет…»
И он, князь, — убийца Костогорова, должен стать самоубийцей.
Таков божественный закон возмездия.
Князь встал с кресла, несколько раз прошелся по кабинету, повторяя:
— Да, да, смерть, смерть…
Он подошел к тому же шифоньеру и, вынув из кармана ключи, открыл тот же ящик, откуда около пятнадцати лет тому назад вынул пистолет, которым он убил мнимого любовника своей жены — Костогорова.
Пистолет был заменен новым.
Андрей Павлович тщательно зарядил его, затем запер ящик и положил ключ в карман.
С пистолетом в руках он возвратился к письменному столу и сел в кресло.
Положив оружие, он достал два листа бумаги и начал писать.
Писал он недолго.
Это были два письма, Он их запечатал гербовой печатью и надписал адреса.
Затем он снова взял в руки пистолет и задумался.
В его уме, видимо, происходила борьба между желанием жить и необходимостью умереть.
Так, по крайней мере, можно было судить по его последним словам:
— Нет, смерть… только смерть!..
Он приложил дуло пистолета к виску.
Прикосновение металла к виску заставило его вздрогнуть.
Он почувствовал, что рука его трясется.
Он отнял пистолет от виска и направил его в рот.
Блеснул огонек.
Раздался выстрел.
Князя Андрея Павловича Святозарова не стало.
Его туловище с раздробленной головой грузно упало на одну сторону кресла.
Окровавленный мозг обрызгал кругом ковер и мебель.
Смерть была, конечно, моментальная.
В этот самый момент княгиня Зинаида Сергеевна, которой доложили о беседе князя со Степаном, об отправке последнего в больницу и о том, что князь после разговора со своим камердинером заперся в кабинете и не велел себя беспокоить, шла узнать у мужа, что случилось.
Она была уже в двух шагах от двери кабинета, когда раздался выстрел.
Как подкошенная, княгиня упала без чувств на пол.
Сбежавшаяся прислуга бережно отнесла ее в спальню, и пока горничная приводила ее в чувство, камердинер и лакеи бросились к дверям кабинета.
Они оказались запертыми.
Тотчас же было послано за полицией.
Когда в ее присутствии двери были отперты слесарем, глазам вошедших представилась уже описанная нами ужасная картина.
Все судебно–полицейские формальности и даже панихиды — князь был признан лишившим себя жизни в помрачении ума — были совершены в отсутствие княгини Зинаиды Сергеевны, с которой то и дело происходили истерические припадки.
Она лежала у себя в спальне и почти ни на шаг не отпускала от себя сына, который, впрочем, присутствовал на одной панихиде. Мальчик был поражен смертью отца и плакал навзрыд.
Лишь ко дню похорон княгиня несколько оправилась и в слезах проводила своего мужа в место вечного его успокоения, в фамильный склеп на кладбище Александро–Невской лавры.
С кладбища привезли ее домой снова без чувств.
Весть о самоубийстве князя Андрея Павловича Святозарова с быстротой молнии облетела Петербург и заняла на несколько дней праздные умы столичного великосветского круга.
Высказывались предположения, делались сопоставления.
Припоминали историю самоубийства Костогорова и разрыва между супругами, продолжавшегося более года.
До истины, конечно, никто не додумался.
Григорий Александрович Потемкин при получении известия о самоубийстве князя Андрея Павловича произнес только одно слово, не понятое никем из окружающих князя, кроме разве, отчасти, его матери.
Это слово было: «возмездие».
На письменном столе покойного князя Святозарова найдено было два запечатанных письма, на одном из которых стоял короткий адрес «полиции», а другое адресовано было на имя княгини Зинаиды Сергеевны.
В первом письме было только несколько строк:
«В смерти моей прошу никого не винить. Я застрелился сам. Князь Андрей Святозаров».
Только по прошествии шести недель, когда княгиня несколько успокоилась от постигшего ее горя, ей решились отдать предсмертное письмо мужа.
В нем было всего две строки, но эти строки заставили несчастную женщину побледнеть как полотно и впиться в них жадными глазами.
В письме стояло:
«Наш сын жив, прощай. Твой Андрей Святозаров».
Что могло значить это письмо? — вот вопрос, который возник в уме взволнованной княгини.
— «Наш сын жив», — повторила она слова письма. — Ну да, конечно, он жив, если он говорит о Васе. Но о ком же другом он мог говорить… Другого сына у меня не было… была дочь… она умерла… Что же это значит?..
«Быть может, Степан Сидоров, так как с ним последним говорил князь перед смертью, может что‑нибудь разъяснить по этому поводу?» — подумала она.
Княгиня бережно спрятала письмо в потайной ящик своей шифоньерки и послала справиться в больницу о здоровье Степана Сидорова.
Ей доставили справку, что он умер в день похорон князя Андрея Павловича.
Если в письме была тайна, то он унес ее в могилу.
Княгиня долго ломала голову над тем, что могло означать это странное, короткое письмо.
— Покойный просто хотел сказать вам, что у вас есть сын, который будет служить утешением в безвременной утрате мужа, — заметила княгине одна из ее немногочисленных светских приятельниц, которой она доверила эту тайну.
Эта приятельница была умнейшая женщина описываемого нами времени — Дашкова.
Княгиня Зинаида Сергеевна успокоилась этим объяснением.
XV
ЖЕНЩИНА–ПРЕЗИДЕНТ
Упомянутая нами приятельница княгини Святозаровой княгиня Екатерина Романовна Дашкова [34] является, как мы уже сказали, одной из выдающихся женщин екатерининского времени и вполне заслуживает отдельной характеристики, хотя и играет в нашем повествовании второстепенную роль.
Дочь генерал–аншефа графа Романа Ларионовича Воронцова, она родилась в 1743 году, следовательно, в момент нашего рассказа ей было под сорок лет.
Не отличаясь красотой, она еще в ранней молодости обнаружила замечательный ум и живое воображение.
На пятнадцатом году она вышла замуж за молодого князя Дашкова, но брак этот не был счастлив.
При восшествии на престол императрицы Екатерины она оказала ей много важных услуг, за что и получила звание статс–дамы ордена Святой Екатерины и пользовалась некоторое время нежной дружбой государыни.
В описываемое нами время эти отношения ее со двором были порваны вследствие ее гордого и чересчур честолюбивого характера.
Она только временно наезжала в Петербург и жила все время за границей, где занималась образованием своего единственного сына.
Во время катастрофы с князем Святозаровым она только что прибыла из‑за границы и, проведя в столице несколько месяцев, много способствовала смягчению тяжести обрушившегося на княгиню Зинаиду Сергеевну несчастья.
Екатерина Романовна уехала уже тогда, когда княгиня почти совершенно успокоилась!
— О, как мне жаль расставаться с тобой! — воскликнула княгиня Святозарова, прощаясь с Дашковой. — Если бы ты вернулась сюда совсем…
— Может быть… может быть… — утешила ее княгиня Екатерина Романовна.
Дашкова действительно вернулась совсем через три года.
В то время княгиня Зинаида Сергеевна уже жила вся одной любовью к своему сыну Васе, молодому, блестящему гвардейскому офицеру.
Прошлое было забыто — время излечивает всякое горе.
С разъясненным Дашковой смыслом посмертной записки мужа княгиня Зинаида Сергеевна согласилась совершенно, — она на самом деле нашла утешение в сыне, заставившее забыть ее безвременную и страшную кончину мужа.
В судьбе же княгини Екатерины Романовны произошел тоже поворот к лучшему.
Она снова вошла в милость к императрице.
Наступил 1782 год.
Императрица, высоко ценя замечательные дарования и литературные труды Дашковой, решила назначить ее директором императорской Академии наук
На одном из придворных балов государыня высказала Екатерине Романовне это свое решение.
Княгиня была поражена необычайностью для женщины такого назначения и не ответила ничего.
Императрица повторила ей свое предложение занять это место, причем отозвалась об ее трудах и дарованиях в самых лестных выражениях.
— Простите меня, ваше величество, — отвечала Екатерина Романовна, — но я не должна принимать на себя такой обязанности, которую не в состоянии исполнить.
— Почему же не в состоянии… Ах, я и забыла, ты ведь гордячка…
— При чем тут гордость, ваше величество?
— А разве ты забыла изречение: уничижение паче гордости…
— Тут этого нет, ваше величество, тут только есть искреннее сознание своей непригодности к такому ответственному посту…
— Пустяки, я тебя знаю лучше, чем ты сама, и надеюсь на тебя более, чем ты на себя…
— Назначьте меня директором над прачками, ваше величество, — заметила серьезно княгиня Дашкова, — и вы увидите, с какою ревностью я буду вам служить. Я не посвящена в тайны этого ремесла, но ошибка, могущая произойти от этого, ничего не значит в сравнении с теми вредными последствиями, которые повлечет за собой каждый промах, сделанный директором Академии наук…
— Повторяю, пустяки… Сколько директоров Академии наук были гораздо менее способными и достойными занимать эту должность, чем ты.
— Тем хуже для этих господ, — возразила Екатерина Романовна, — они так мало уважали самих себя, что взялись за дело, которое выполнить не могли…
— Хорошо, хорошо, — сказала императрица, — оставим теперь этот разговор; впрочем, твой отказ еще больше убедил меня, что лучшего выбора я не могла сделать.
Княгиня, сильно взволнованная, едва дождавшись окончания бала, поспешила домой и тотчас же села писать императрице.
Надеясь на великодушие государыни, Екатерина Романовна в своей записке высказала, между прочим, следующие мысли:
«Частная жизнь коронованной особы может и не появляться на страницах истории; но такой небывалый еще выбор лица для государственной должности непременно подвергнет ее осуждению: сама природа, сотворив княгиню женщиной, в то же время отказала ей в возможности сделаться директором Академии наук. Чувствуя свою неспособность, она сама не захочет быть членом какого‑либо ученого общества, даже и в Риме, где можно приобрести это достоинство за несколько дукатов».
Пробило полночь, когда записка была готова.
Императрицу, конечно, нельзя было тревожить в такое позднее время, но Екатерина Романовна нашла невозможным провести ночь в таком несносном положении и отправилась к Григорию Александровичу Потемкину, у которого никогда прежде не бывала.
Князь был в постели, но княгиня настойчиво потребовала, чтобы ему о ней доложили, так как она приехала по неотложно важному делу.
Григорий Александрович встал, оделся и очень любезно принял неожиданную гостью.
Екатерина Романовна передала ему свой разговор с императрицей.
— Я уже слышал об этом от ее величества, — сказал Потемкин, — и знаю хорошо ее намерение. Она решила непременно поставить Академию наук под ваше руководство.
— Принять на себя такую должность, — перебила княгиня, — значило бы с моей стороны поступить против совести. Вот письмо к ее величеству, заключающее в себе решительный отказ. Прочтите, князь, я хочу потом запечатать его и передать в ваши руки с тем, чтобы завтра поутру вы вручили его государыне.
Григорий Александрович пробежал бумагу и, не отвечая ни слова, разорвал ее на мелкие куски.
Екатерина Романовна вспыхнула.
— Это уж слишком, ваша светлость! Как осмелились вы разорвать письмо, адресованное на высочайшее имя.
— Успокойтесь, княгиня, — сказал светлейший, — и выслушайте меня. Никто не сомневается в вашей преданности императрице. Почему же вы хотите огорчать ее и заставить отказаться от плана, которым она исключительно и с любовью занимается в последнее время. Если вы непременно хотите остаться при своем намерении, в таком случае вот перо, бумага и чернила, — описываемый разговор происходил в кабинете князя, — напишите то же самое еще раз. Но, поверьте мне, поступая против, вашего желания, я, однако, действую как человек, который заботится о ваших интересах. Скажу более, ее величество, предлагая вам эту должность, может быть, имеет в виду удержать вас в Петербурге и доставить повод к более частым и непосредственным сношениям с нею.
Григорий Александрович сумел искусно затронуть самолюбие Екатерины Романовны.
Она обещала написать более умеренное письмо и прислать его со своим камердинером к князю, который дал слово на следующее утро передать его государыне.
Вернувшись домой, княгиня Дашкова снова принялась за письмо.
Оно было готово к шести часам утра и отправлено к Потемкину.
В то же утро княгиня получила чрезвычайно любезную записку императрицы и копию с указа, уже посланного в сенат, о назначении ее директором Академии наук.
Выбор императрицы оказался на самом деле чрезвычайно удачным.
Екатерина Романовна Дашкова много сделала для русской науки. Писала оригинальные переводные статьи и издавала в 1783 году журнал под названием «Собеседник любителей русского слова».
Вскоре после назначения директором Академии наук княгиня Дашкова выработала план Российской академии, энергично принялась за ее устройство и сделана была ее президентом.
Такова была чуть ли не единственная приятельница княгини Святозаровой.
Дружба между Святозаровой и Дашковой объяснялась сходством характеров обеих женщин.
Княгиня Зинаида Сергеевна в лице Дашковой преклонялась перед своим идеалом гордой, самостоятельной женщины, а Екатерина Романовна видела в ней друга, с полуслова разделяющего ее взгляды и мнения.
Екатерина Романовна отдыхала душой около княгини Зинаиды Сергеевны и за это платила ей сердечным сочувствием.
Княгиня же Святозарова нашла в Дашковой друга, которому открыла свою наболевшую душу.
Она рассказала ей всю свою жизнь, не скрывая ничего.
Княгине Дашковой были известны и юношеский роман ее подруги с Потемкиным, гнусная интрига графини Переметьевой, убийство Костогорова, разрыв с мужем, рождение ребенка — девочки и примирение.
Искренняя исповедь княгини произошла уже после смерти князя Андрея Павловича и истолкования княгиней Екатериной Романовной предсмертного письма покойного.
Быть может, если бы Зинаида Сергеевна рассказала подробно всю свою жизнь ранее, Дашкова бы воздержалась от такого авторитетного толкования письма самоубийцы–князя.
Проницательную и вдумчивую Екатерину Романовну поразила в рассказе–исповеди княгини Святозаровой, во–первых, странность рождения совершенно здоровой женщиной мертвого ребенка, когда, по уверению Зинаиды Сергеевны, ею были приняты все меры предосторожности и не было ни физических, ни нравственных причин для смерти ребенка в утробе матери, что шло в совершенный разрез с прочно установленной медицинской наукой теорией о необычайной живучести плода.
Некоторые совершенно незначащие фразы покойного князя Святозарова, сказанные им его жене после примирения, которые княгиня Зинаида Сергеевна запомнила и передала Дашковой, в связи со странными отношениями князя Андрея Павловича к своему камердинеру, за каких‑нибудь полчаса до смерти беседовавшему со своим бывшим барином, — все это привело Екатерину Романовну к догадке, что рождение княгиней Святозаровой мертвой девочки — очень странно и таинственно.
В чем заключалась эта тайна, Дашкова, конечно, могла догадываться только приблизительно.
Смысл фразы посмертного письма князя Святозарова: «Наш сын жив», не мог, при таких обстоятельствах, быть истолкован так категорически, как его сделала Екатерина Романовна, не знавшая ранее подробностей.
Говорится ли в письме о сыне Василии? — вот вопрос, который восставал теперь в уме княгини Дашковой, и она, по совести, не могла бы теперь разрешить его отрицательно, хотя у нее не было никаких оснований полагать, что у князя и княгини Святозаровых был другой сын, который считался последней умершим, а, по сведениям князя, был жив.
Зная, однако, что первое толкование письма покойного мужа совершенно удовлетворило княгиню Зинаиду Сергеевну, Дашкова даже намеком не позволила себе заронить сомнение в сердце успокоившейся женщины, своего друга.
Рассказ Зинаиды Сергеевны о ее сближении во время жизни в Несвицком с Дарьей Васильевной Потемкиной, редкое посещение ею княгини здесь и постоянное о ней со стороны старухи, казалось бы прежде беспричинное, соболезнование, не вызываемое в такой мере рождением мертвого ребенка, — так, по крайней мере, думала Екатерина Романовна, — давали последней в руки нить к некоторому разъяснению мучившего ее вопроса, и она ухватилась за эту нить, поистине Ариаднину [35], которая, быть может, была способна вывести ее из лабиринта тайны, которая окружала прошлое княгини Зинаиды Сергеевны.
Дашкова воспользовалась первым удобным случаем и сделала визит Дарье Васильевне Потемкиной.
Конечно, не с первого слова заговорила она с последней о княгине Святозаровой и ее жизни в Смоленской губернии.
С присущим ей умом и тактом, стороной, осторожно старалась Екатерина Романовна выпытать у Потемкиной все, что та знает о рождении Зинаидой Сергеевной мертвой дочери.
Но в данном случае можно было к обеим дамам всецело применить пословицу: «Нашла коса на камень».
Осторожная Дарья Васильевна отделывалась ничего не говорящими, короткими ответами.
Дашкова от нее так ничего и не добилась.
Она вынесла только из этого разговора впечатление, что тайна на самом деле существует и что Дарья Васильевна посвящена в нее.
Разъяснение этой тайны для Дашковой предстояло в будущем
XVI ПЛЕМЯННИЦЫ
Занятый осуществлением своих колоссальных проектов и разрешением государственных дел выдающейся важности и бесчисленными романическими интригами, светлейший князь Григорий Александрович не забывал заботиться и об устройстве судьбы своих любимых племянниц — сестер Энгельгардт.
Мы оставили их балованными, «нагуливающими тело» девушками, жившими вместе со своею бабушкой Дарьей Васильевной Потемкиной в роскошном помещении Аничкового дворца.
Три из них, Александра, Варвара и Надежда, были уже взрослыми девушками, когда по вызову дяди прибыли в Петербург, лишь младшей, Кате, шел в то время двенадцатый год.
Робко и недоверчиво смотрела провинциальная дикарка на новую, пышную обстановку и не скоро свыклась с тем положением, в котором она так неожиданно очутилась.
За прошедший десяток лет много изменилось.
Старшая, Александра, и вторая, Варвара, за это время вышли замуж, первая — за графа Ксаверия Браницкого, а Варвара Васильевна — за князя Голицына.
Катя выросла и своей красотой затмила всех своих сестер. В 1781 году и она, как ее сестры, была назначена фрейлиной.
Махнув пока рукой на третью свою племянницу, «Надежду безнадежную», Григорий Александрович позаботился найти поскорее жениха распустившейся подобно роскошному цветку красавице Кате.
Пример девической жизни трех старших племянниц заставил даже не отличавшегося особенно строгими правилами князя торопиться.
Достойный жених был найден.
Это был граф Павел Мартынович Скавронский.
Потомок Карла Скавронского, латыша–крестьянина, родного брата императрицы Екатерины I, в девицах Марты Скавронской [36], имел в гербе три розы, напоминавшие о трех сестрах Скавронских, «жаворонок» по–латышски — «Skawronek», так как от этого слова произошла их фамилия, и двуглавые русские орлы, в данном случае не только по правилам геральдики, свидетельствовавшие об особенном благоволении государя к подданному, но и заявлявшие о родстве Скавронских с императорским домом.
Сын графа Мартына Карловича Скавронского, генерал–аншефа, обер–гофмейстера и Андреевского кавалера времен Елизаветы, и баронессы Марии Николаевны Строгоновой, богатейшей женщины тогдашней России, граф Павел Мартынович от отца и матери получил два громадных миллионных состояния.
Молодой Скавронский был уже по рождению и богат, и знатен.
В младенчестве «го пеленали андреевскими лентами с плеча императрицы, в детстве и юности тщательно воспитывали, по обычаю того времени, под руководством иностранцев–гувернеров, и из него вышел блестящий молодой человек, в котором никто бы не мог узнать родного внука латышского крестьянина.
Природа, впрочем, не наделила его особенным умом. В нем была только одна неудержимая страсть — к вокальной музыке.
Он воображал себя выдающимся певцом, прекрасным музыкантом и талантливым композитором.
С летами эта страсть развивалась все сильнее и наконец перешла в чудачество, близкое к помешательству.
Находя оценку своим музыкальным дарованиям со стороны соотечественников недостаточной, граф решился надолго покинуть свое неблагодарное отечество и поехал искать себе известность и славу певца и музыканта за границу.
Оставшись двадцати двух лет от роду полным распорядителем богатств родителей, граф Павел Мартынович начал свое артистическое турне по Италии, этой стране красоты и мелодии по преимуществу.
Жажда к артистической славе усилилась там у него еще более.
Живя поочередно то в Милане, то во Флоренции, то в Венеции, граф Скавронский был окружен певцами и музыкантами, жившими на его счет буквально «припеваючи».
Он то и дело сочинял разные музыкальные пьесы и даже оперы и, тратя большие деньги, ставил последние на сценах главных итальянских городов.
Произведения эти оказывались ниже всякой критики.
Несмотря на это, знаменитые певцы и примадонны за большие суммы и дорогие подарки разучивали и распевали оперы графа.
Составленная прислужниками и прихлебателями сиятельного композитора клика заглушала своими восторженными аплодисментами свистки и шиканья неподкупленной части публики.
Окружавшие графа льстецы превозносили до небес его композиторский талант и этим еще более подбивали меломана–графа продолжать выгодные для них свои артистические сумасбродства.
Он верил этим похвалам, принимая их как дань неподдельного восторга и удивления его композиторскому гению, а долетавшие порою до его слуха свистки, шиканья и насмешки, а также беспощадные отзывы неподкупленных газет считал делом злобной зависти и интрига.
Увивавшиеся около него лица поддакивали ему в этом.
Страсть к музыке дошла наконец у графа до того, что прислуга не смела с ним разговаривать иначе как речитативом.
Выездной лакей–итальянец, приготовившись по нотам, написанным его господином, приятным тенором докладывал графу, что карета его сиятельства подана.
Метрдотель графа — француз торжественной кантатой извещал его сиятельство и его гостей, что подано кушать.
Кучер, привезенный из России, осведомлялся о приказании барина сильным певучим басом, оканчивая свои вопросы и ответы густой октавой.
Для торжественных случаев у графской прислуги имелись и арии, и хоры, так что бывавшие у чудака Скавронского обеды и ужины, казалось, происходили не в роскошном его палаццо, а на оперной сцене.
Со своей стороны, хозяин отдавал свои приказания прислуге в музыкальной форме; гости, чтобы угодить ему, вели с ним разговор в виде вокальных импровизаций.
В числе лиц, неразлучных с графом в его музыкально–артистических странствованиях по Италии, был и Дмитрий Александрович Гурьев [37], впоследствии министр финансов и граф, человек «одворянившегося при Петре Великом купецкого рода».
Он был сметлив, расторопен и пронырлив и, на свое счастие, не имел совершенно музыкального слуха.
Он совершенно спокойно мог переносить бой барабана, гром литавр, звуки труб, визг скрипок, завывание виолончели, свист флейт, вой валторн и рев контрабасов, хотя бы все это в сочинении Скавронского производило невозможную какофонию.
То приятно осклабляясь, то выражая на своем лице чувство радости, горя, восторга, безнадежности, словом, то, что домогалась произвести на слушателя музыка сиятельного композитора, Гурьев с напряженным, ненасытным, казалось, вниманием выслушивал длиннейшие произведения графа.
Павел Мартынович платил за это слушателю, способному понимать истинные музыкальные красоты, беспредельными любовью, привязанностью и доверием.
Пользуясь этим, Гурьев небезвыгодно для себя управлял всеми делами не знавшего счета деньгам молодого богача.
Музыка таким образом приносила ему изрядный доход.
Проведя в Италии пять лет, Скавронский вернулся наконец в Россию.
Ему шел двадцать восьмой год.
До императрицы Екатерины доходили слухи об артистических чудачествах молодого графа за границей, но государыня не видела в этом ничего предосудительного, а напротив, была довольна тем, что граф тратил свои деньги в чужих краях не на разврат, картежную игру и разные грубые проделки, чем отличались другие русские туристы, давая иностранцам плохое понятие о нравственном и умственном развитии русских аристократов.
По возвращении Скавронского в Петербург он стал считаться самым завидным женихом.
Маменьки, тетушки, бабушки наперерыв старались выдать за него своих дочерей, племянниц и внучек, но Павел Мартынович, влюбленный по–прежнему в музыку, и не думал о женитьбе.
Выбор князя Потемкина, искавшего мужа для своей младшей племянницы, Екатерины Васильевны Энгельгардт, пал тоже на графа Скавронского.
Помощником светлейшего в этом деле явился расторопный Дмитрий Александрович Гурьев, имевший неотразимое влияние на графа и желавший выслужиться могущественному вельможе.
Он ловко взялся за дело, и свадьба вскоре была решена.
Граф Павел Мартынович вдруг изменил музыке и без ума влюбился в красавицу невесту.
Он был до такой степени доволен этим браком, что за устройство его подарил свату — Гурьеву «в знак памяти и дружбы» три тысячи душ крестьян.
Свадьба состоялась в ноябре 1781 года и была отпразднована с необычайным торжеством.
Весь избранный придворный круг присутствовал на ней.
После свадьбы в Зимнем дворце состоялся блестящий бал и ужин в присутствии императрицы.
Жених приехал к венцу в карете, украшенной снаружи стразами [10], стоившей десять тысяч рублей.
После свадьбы начался ряд роскошных пиров в Апраксинском дворце.
Молодые поселились в собственном доме графа Скавронского на Миллионной.
Светлейший князь Григорий Александрович Потемкин был тоже со своей стороны очень доволен браком своей любимой племянницы.
Он баловал ее особенно перед другими сестрами.
Баловство это продолжалось и после замужества.
Екатерина Васильевна тоже очень любила дядю и часто проводила у него в кабинете и уборной целые часы, особенно когда на светлейшего находила хандра.
Прошло три года со дня замужества Екатерины Васильевны.
Однажды она вошла в уборную Григория Александровича, жившего в Зимнем дворце под комнатами, занимаемыми императрицей.
На туалетном столе она увидела портрет императрицы, осыпанный бриллиантами.
Портрет этот князь носил постоянно в петлице своего кафтана.
Взяв в руки портрет и стоя перед зеркалом, Скавронская шутя пришпилила его к корсажу своего платья.
— Иди, Катя, наверх к императрице и поблагодари ее! — крикнул совершенно неожиданно для Екатерины Васильевны лежавший на диване и хандривший Потемкин.
Скавронская удивленно, вопросительным взглядом уставилась на дядю и торопливо стала отшпиливать портрет государыни.
— Нет, нет, не снимай его, а так с ним и ступай! — еще громче крикнул Григорий Александрович.
Лениво приподнявшись, он взял лежавший перед ним карандаш и лоскуток бумаги, на котором и написал несколько слов.
— Ступай с этой запиской к государыне и поблагодари ее за то, что она пожаловала тебя в статс–дамы.
— Что вы, дядя, не надо, я пошутила… — торопливо заговорила Екатерина Васильевна.
— Иди, иди, я не шучу… — прикрикнул Потемкин.
Скавронская, видя его раздражение, волей–неволей должна была повиноваться.
Смущенная, предстала она перед императрицей и подала ей записку князя.
С недовольным лицом, с нахмуренными бровями прочла государыня эту записку и, несмотря на свое искусство притворяться и быть любезной, не могла на этот раз скрыть своего неудовольствия.
Не желая, впрочем, отказать Потемкину в его просьбе, она на обороте той же записки написала ему ответ, в котором уведомила его, что исполнила его желание и сделала его двадцатилетнюю племянницу статс–дамою.
В эти дни царствования Екатерины пожалование этого высокого звания было чрезвычайно редко, а для такой молодой женщины звание статс–дамы было положительно небывалым отличием.
Начались толки и пересуды.
Новую счастливицу начали встречать завистливыми взглядами.
Екатерина Васильевна, не любившая ни интриг, ни сплетен, была очень рада оставить двор, когда вскоре после этого ее муж получил место посланника в Неаполе.
Вот до чего баловал Потемкин свою молодую племянницу.
С любовью относился князь и к другим своим племянницам, а в особенности к Варваре Васильевне, по мужу княгине Голицыной.
Сохранилась переписка между дядей и этой племянницей, где попадаются выражения вроде «губки сладкие» и «улыбочка моя милая».
Но эти «сладкие губки» и «милая улыбка» тянули за каждую свою ласку и деньгами, и подарками, и надоедливыми просьбами о покровительстве родным и поклонникам.
Племянницы князя, за исключением Екатерины Васильевны, как жадная стая набрасывалась на подряды, рекомендовали могущественному дяде подрядчиков и срывали с последних громадные куртажи.
Светлейший видел все это, но имел слабость смотреть на действия «девчонок», как он продолжал называть даже уже замужних своих племянниц, сквозь пальцы.
Этим и объясняется более сильная привязанность Григория Александровича к скромной, далеко не алчной и не надоедавшей своими просьбами Екатерине Васильевне Скавронской.
Следует отметить как одну несимпатичную черту племянниц светлейшего то обстоятельство, что они как бы совершенно забыли, упоенные роскошью и счастьем, о бедном мальчике–сироте Володе Петровском, товарище их детских игр во время их скромной жизни в Смоленске.
По крайней мере, даже имя его никогда не упоминалось.
Таков был нравственный облик этих пресловутых племянниц знаменитого дяди.
Строго судить их, впрочем, нельзя — они были дочери своего века.
XVII СТРАСТЬ СКАЗАЛАСЬ
На Васильевском острове, в роскошной золотой клетке, устроенной Григорием Александровичем Потемкиным для своей «жар–птицы», как шутя называл князь Калисфению Николаевну, тянулась за эти годы совершенно иная, своеобразная жизнь.
Полная беззаботность, окружающее довольство, возможность исполнения всех мимолетных желаний и капризов, почти царская роскошь — все эти условия жизни молодой женщины, казалось, должны бы сделать ее совершенно счастливой.
Так, по крайней мере, думал ее светлейший покровитель.
Калисфения Николаевна действительно роскошно развилась за эти годы и была гораздо красивее своей матери, когда та была в ее летах.
Читатели, вероятно, не забыли нарисованный нами ее очаровательный портрет в начале нашего правдивого повествования, а между тем этот портрет относится к более позднему времени.
В описываемые же нами годы она была еще свежее, еще обольстительнее.
Была ли, однако, на самом деле счастлива Калисфения Николаевна?
Она и сама не могла решить совершенно утвердительно этого вопроса.
Порою она чувствовала себя в таком состоянии, которому она не могла ни подыскать названия, ни объяснить его причины.
Ее вдруг снедала такая безотчетная грусть, что ей донельзя противело все окружающее, ей хотелось куда‑то бежать, бежать без оглядки, но куда и зачем — на эти вопросы она не была в состоянии дать ответ.
Первый такой припадок грусти случился с молодой женщиной года через два после переселения ее на Васильевский остров.
Калисфения Фемистокловна страшно обеспокоилась.
— Что с тобой, Каля, что с тобой? — в необычайном волнении спросила она у плачущей дочери.
— Мне скучно, мама, скучно…
— С чего же тебе, дурочка, скучно… кажись, все у тебя есть, и наряды, и золото, и лакомства, разве только птичьего молока недостает…
— Не знаю сама с чего, а только скучно, скучно…
Молодая женщина зарыдала.
— Перестань, перестань, глаза испортишь, разве можно плакать, от слез глаза выцветают, уж я с твоим отцом в молодости и горе видала, да и то не плакала, боялась…
— Чего? — сквозь слезы спросила дочь.
— А вот того, что глаза выцветут…
— И пусть выцветут…
— Что ты, что ты, в уме ли ты!.. Тогда его светлость на тебя и не взглянет…
— И пусть не гладит… Противен и он мне, так противен… и все… и все…
— Шшш… — замахала на нее руками Калисфения Фемистокловна и боязливо стала оглядываться по сторонам, несмотря на то что они были только вдвоем с дочерью в будуаре последней. — Не ровен час, кто услышит…
— И пусть слышит, я и сама ему скажу, не поцеремонюсь…
— Ошалела совсем! — только махнула рукой мать и пошла к двери.
Дочь закрыла лицо руками и откинулась на спинку удобного кресла.
— Скучно, скучно! — снова простонала она и затопала ногами.
Калисфения Фемистокловна остановилась у двери, раскрыла было рот, чтобы что‑то сказать, но не сказала, а только покачала головой и вышла из комнаты, плотно притворив за собой дверь.
Она поняла.
Для нее, испытанной в деле страсти женщины, стало вдруг совершенно ясно состояние ее дочери.
Разменивавшийся на множество любовных приключений, Потемкин не мог дать ей того, что требовала ее страстная животная натура, унаследованная ею от ее матери, всосанная вместе с ее молоком, развитая этою же матерью чуть ли не с самого раннего периода зрелости девочки–подростка и подогретая праздностью и окружающей ее негой.
— Ей надо развлечься! — решила Калисфения Фемистокловна, весьма своеобразно, как мы увидим впоследствии, понимавшая последнее слово.
Надо заметить, что, несмотря на замкнутость жизни молодой Калисфении, ее мать, все еще мечтавшая о победах над мужскими сердцами, имела обширный круг знакомств среди блестящей молодежи Петербурга.
Стареющая красавица нельзя сказать, чтобы совершенно не понимала, что расточаемые ей любезности и подносимые подарки были направлены в адрес «потемкинской затворницы», но все же эти ухаживания приятно щекотали ее женское самолюбие, а между молодыми поклонниками Калисфении Николаевны находились и такие, которые в Деле задабриванья маменьки шли дальше ухаживанья, подарков и траты денег.
Калисфения Фемистокловна хотя и за счет своей дочери, но все же, как она выражалась, «еще жила».
Она старалась откинуть мысль, что ее подкупают даже ласками, и зачастую ей вполне удавался этот самообман.
Покровительствовать интрижкам своей дочери с ее поклонниками она и не помышляла, хотя и подавала им неясные надежды, так как это было для нее выгодно.
Кованая шкатулка снова начала отираться довольно часто.
Если она воздерживалась от осуществления подаваемых ею надежд поклонникам дочери, хотя это осуществление рисовало ей еще большую, чем теперь, прибыль, то она делала это исключительно из боязни светлейшего.
Григория Александровича она боялась как огня.
Заметив и поняв непонятную для самой ее дочери находившую на нее беспричинную тоску, Калисфения Фемистокловна серьезно задумалась.
«Тоскует, мечется, сама не знает чего хочет! — соображала она. — Знаем мы эту тоску, сами тоже в молодости тосковали… Не углядишь за молодой бабой, бросится на шею какому‑нибудь первому встречному, ни ей корысти, ни мне прибыли, да и влопается перед светлейшим как кур во щи… Сживет со свету тогда он и ее, и меня… Много ли нам перед ним надо… Давнул пальцем, и только мокренько будет…»
Так рассуждала сама с собой, сидя в своей комнате, на отведенной ей отдельной половине дома, старая куртизанка.
Мысль, что светлейший давнет пальцем, заставила ее задрожать.
Несколько успокоившись, она снова начала обсуждать вопрос, и мысли, вроде того что за бабой не усмотришь, что она одна попадется как кур во щи, снова еще с большей настойчивостью посетили ее голову.
Приходилось принимать риск на себя, то есть начать покровительствовать интригам пылкой дочери, но делать это так, чтобы не только светлейший, но даже комар не подточил носа.
Калисфении Фемистокловне было страшно, но она остановилась все же на этом решении.
Не скроем, что пополнение кованой шкатулки играло в нем роль главного двигателя.
— Порадею о дочке, своей шкуры не пожалею, а порадею, а то она так с тоски пропадет, всю свою красоту в слезах утопит… Что хорошего… И так, и этак, а светлейший от нее рыло отворотит…
Наедине с собой и мысленно она позволяла себе такие фамильярные выражения относительно князя Потемкина.
— Хитер, хитер Григорий Александрович, а баба хитрее его… Проведу и выведу… — утешала и подбадривала себя Калисфения Фемистокловна. — «Где черт не сумеет, там бабу пошлет», — вспомнилась ей русская поговорка.
Она даже улыбнулась.
Опасная игра, которую она вознамерилась предпринять, стала представляться ей заманчивой, возбуждающей нервы.
Она была в положении азартного по природе игрока, ставящего на карту все свое состояние и даже порою честь и жизнь.
Говорят, и в этом есть своя прелесть.
Калисфения же Фемистокловна по своей натуре была азартным игроком.
Можно быть им, никогда не бравши в руки карт.
Жизнь — есть также только колоссальное зеленое поле, где судьба мечет банк и люди понтируют.
«Смелость города берет», — говорит русская пословица, а эта смелость не есть ли жизненный азарт!
Калисфения Фемистокловна окончательно решилась.
Она стала постепенно подготавливать дочь к измене своему покровителю.
Она не встретила со стороны последней отпора.
Восприимчивая для такого семени почва была подготовлена самой Калисфенией Фемистокловной.
Она, кроме того, угадала причину болезни своей дочери.
В молодой женщине действительно сказалась страсть.
Осторожно, под покровом величайшей тайны, начались устраиваемые матерью свиданья с избранными поклонниками ее дочери.
Опасность и тайна придавали им особую прелесть.
Пришлось иметь преданных, хорошо оплачиваемых слуг, но этот расход был ничтожен сравнительно с приходом.
Кованая шкатулка Калисфении Фемистокловны наполнялась.
Чтобы быть справедливым, надо заметить, что Калисфения Николаевна не была посвящена матерью в финансовую сторону доставляемых ей ее «доброй маменькой» развлечений.
Получаемые ею подарки она, конечно, считала лишь знаками внимания и выражением чувств своих счастливых избранников.
С искусством опытной куртизанки Калисфения Фемистокловна не давала дочери привязаться ни к одному из ее обожателей.
Шли годы.
Потемкин находился в полном неведении относительно поведения своей «жар–птицы».
Калисфения Фемистокловна торжествовала победу над хваленой прозорливостью светлейшего.
Но она, так изучившая русские пословицы, забыла одну из них: «Как веревку ни вить, а все концу быть».
Конец действительно наступил.
Одним из последних рекомендованных и покровительствуемых Калисфенией Фемистокловной обожателей дочери был высокий, статный красавец, секунд–майор Василий Романович Щегловский.
Жизнь его была полна приключений, сделавших его имя окруженным ореолом героя.
Он вступил в военную службу солдатом при императрице Елизавете, участвовал в походе в Семилетнюю войну [38] и находился при штурме Бендер в армии графа Панина.
В 1777 году во время похода в Судакских горах был ранен в шею и в голову стрелою и в руку кинжалом. Обессиленный от потери крови, он упал и был взят в плен турками.
В плену он находился четыре года, до заключения мира.
Обласканный императрицей Екатериной, он сделался по возвращении из плена кумиром дам высшего петербургского света.
Ловкий танцор, он однажды на придворном балу в присутствии государыни переменил в малороссийской мазурке четыре дамы.
Императрица, восхищенная его ловкостью и грацией, рукоплескала и наградила ловкого танцора после бала золотой табакеркой.
Василий Романович был большой приятель Семена Гавриловича Зорича [39], любимца императрицы Екатерины.
Они были оба товарищами по службе, и оба молодыми, и оба красавцами, и почти одновременно были взяты в плен турками.
Храбрый майор Зорич был в тех же Судакских горах окружен неприятелем, храбро защищался, но когда увидал, что надо сдаться, закричал:
— Я капитан–паша.
Это слово спасло ему жизнь.
Капитан–паша по–турецки полный генерал. Зорича отвезли к султану в Константинополь.
Его важный вид, осанка, разговор — все побудило султана отличить его и даже предлагать перейти в турецкую службу, впрочем, с тем, чтобы он переменил веру.
Семен Гаврилович отказался, несмотря на угрозы, на пышные обещания.
Когда политические обстоятельства переменились, султан, пожелав склонить императрицу к миру, согласился на размен пленных и в письме поздравил государыню, что она имеет такого храброго генерала, как Зорич, который отверг вей его предложения.
Государыня приказала справиться, и по справкам ей было доложено, что никакого генерала Зорича не было взято в плен, а взят майор Зорич.
Возвращенный в Петербург, Семен Гаврилович был представлен императрице.
— Вы майор Зорич? — спросила Екатерина.
— Я, ваше величество, — отвечал он.
— С чего же вы назвались русским капитан–пашою, ведь это полный генерал?
— Виноват, ваше величество, для спасения жизни своей и чтобы иметь счастие служить вашему величеству.
— Будьте же вы генералом, — сказала императрица, — турецкий султан хвалит вас, и я не сниму с вас чина, который вы себе дали и заслужили.
И майор был сделан генералом.
В описываемое нами время он жил в своем роскошном именье в Шклове.
Василий Романович Щегловский жуировал в Петербурге один.
Увлекшись «потемкинской затворницей», он добился ее взаимности, не жалея золота для матери «жар–птицы».
XVIII В МОНАСТЫРЬ
Связь Калисфении Николаевны с майором Щегловским носила несколько иной характер, нежели ее мимолетные интрижки с другими.
Молодая женщина впервые увлеклась своим любовником, и увлеклась серьезно.
Происходило это, быть может, от их совершенно противоположных взглядов на жизнь и характеров.
Крайности, говорят французы, сходятся.
Калисфения Николаевна и Щегловский были несомненные крайности.
Он был образованный, начитанный идеалист, она — невоспитанная, полуобразованная, дитя природы, почти дикарка, обворожительная, полная неги восточная женщина.
Она жадно вслушивалась в его речи.
Он открывал ей новый мир, иной, нежели рисовала ей её мать.
— Верите ли вы в любовь? — раз спросила она.
— Слышать от прелестнейшей из женщин такой вопрос по меньшей мере странно.
— Это любезность, а я хочу слышать прямой ответ.
— Тогда я спрошу вас в свою очередь, что вы понимаете под словом «верить в любовь»?
— Ну, может быть, я не так выразилась, словом, я хочу знать, что вы думаете о любви?
— То, что думал Эзоп [40] о языке, что это все, что есть лучшего, и все, что есть худшего… — отвечал Василий Романович.
— Вы все шутите…
— Нисколько… Я говорю совершенно серьезно… Любовь есть все, что есть в мире великого, благородного, прекрасного, самого сладостного, самого сильного, — словом, самого лучшего, если она искренняя, полная, то есть заключает в себе все чувства, из которых состоит и без которых не может существовать: доверие, уважение, безграничную преданность, доходящую до жертв и до самопожертвования.
— О, как хорошо вы это говорите! — воскликнула Калисфения Николаевна.
— А с другой стороны, любовь есть все, что есть лживого, низкого, презренного, то есть все, что есть худшего, если она служит для удовлетворения грубого инстинкта и преходящего каприза. Первая дает высшее счастие, которое лестно испытать на земле, а вторая оставляет разочарование, презрение, отвращение и горькие сожаления. Одна возвышает душу, другая унижает ее. Одна внушает великие мысли, другая дурные, низменные помыслы.
— Я в первый раз слышу такое прекрасное определение любви! — наивно воскликнула Калисфения Николаевна.
Действительно, в жизненной школе своей матери она не могла услыхать его.
Василий Романович посмотрел на нее с восторженным сожалением, но промолчал.
— Отчего же не все понимают так, как вы, это прекрасное, возвышенное чувство… Отчего я не слыхала ни от кого такого чудного определения любви… Ужели все люди созданы для низменной любви…
— Увы, времена героев навсегда миновали, — отвечал Щегловский, — поэзия медленно умирает, как сломленный бурей роскошный цветок, вера в людях поколеблена, материализм торжествует всюду. Остались, без сомнения, и останутся и в будущем единичные личности, люди, преданные заветам прошлого, культу величайшей из религий, религии любви, но число таких отсталых, как принято называть их, людей уменьшается день ото дня. Скоро они будут так редки, как допотопные ископаемые. В наше время любовь — только удовольствие. Она подошла под вторую часть определения Эзопа: все, что есть Худшее…
Василий Романович засмеялся.
— Вы смеетесь? — удивленно спросила его молодая женщина.
— Я действую в этом случае по методе Бомарше: он всегда спешит смеяться, чтобы не заплакать… Я думаю, что все‑таки следует прикрывать легким газом печальную действительность…
Эти и подобные речи своеобразного поклонника увлекали молодую Женщину, открывая ей совершенно новый мир: она пресытилась уже лекарством, прописанным ей ее матерью, ей хотелось новых, неизведанных ощущений.
Она нашла их в связи с Щегловским, связи, подбитой им подкладкой романтизма, самоотверженной, идеальной любви, не мешавшей стремиться к ее «апофеозу», как называл идеалист Щегловский близость к любимой женщине.
Калисфения Фемистокловна не присутствовала при этих разговорах дочери с Василием Романовичем, иначе бы она чутко угадала опасность от такого восторженного, или, как бы она назвала его, «шалого», человека.
Опасность действительно была, и вскоре оказались ее печальные результаты.
Влюбленный по уши в Калисфению Николаевну, Щегловский, не охлажденный даже близостью к ней, был болтлив, как все влюбленные.
Его восторженные отзывы о «потемкинской затворнице» возбудили над ним насмешки товарищей и дали пищу злым языкам.
Сплетни о влюбленном в «прекрасную гречанку» майоре дошли до приближенных князя Потемкина, и эти последние не замедлили довести их до сведения светлейшего.
На последнего это известие не произвело, по–видимому, особенного впечатления. При его взгляде на женщин верность не считалась им в числе их прелестей. Качества женщины, по мнению Григория Александровича, заключались только в этих прелестях — женских же добродетелей он не признавал совершенно.
Хорошо понимая человеческую натуру, он и не ожидал, чтобы полная жизни и сил красавица Калисфения могла довольствоваться его редкими ласками, но, с другой стороны, он был твердо уверен, что дна изменила ему не по собственной инициативе, так как сделала бы это менее умело, что во всей открывшейся перед ним путем наведенных справок закулисной жизни его любовницы видна опытная рука куртизанки — ее матери.
Адъютант Баур, наводивший по поручению светлейшего эти справки, представил ему обстоятельный доклад именно в этом освещении.
Он даже разузнал и о заветной кованой шкатулке.
— Хорошо, я справлюсь с этой гадиной… — сказал Григорий Александрович, нахмурив брови.
Мысль его перенеслась на его последнего соперника, майора Щегловского.
Для Потемкина были почти безразличны интриги «жар–птицы» с безвестными молодыми офицерами и петербургскими блазнями, как тогда называли франтов, и он, повторяем, считал их даже естественными для молодой женщины, но красавец майор Щегловский, известный государыне и пользующийся ее благоволением, был уже, пожалуй, настоящим соперником.
Хвастающийся своею близостью к любовнице князя, он делал его уже смешным в глазах света, тогда как те, другие, пользуясь взаимностью Калисфении Николаевны, крали только крохи, падающие от стола господ, не смея заикнуться об этом, боясь гнева его, светлейшего.
Соперничество с Щегловским подняло целую бурю оскорбленного самолюбия князя Потемкина.
Он, конечно, мог уничтожить его одним взмахом пера, мог отправить в крепость, где и оставить на всю жизнь, — все это было в его власти.
Но теперь это имело бы вид устранения соперника, то есть признания его опасным, а это значило бы подлить масла в огонь светской насмешки.
Надо было действовать иначе.
Григорий Александрович подумал с минуту, ходя по своему кабинету, затем подошел к письменному столу и написал на бумаге несколько строк.
Это было поручение секунд–майору Щегловскому немедленно отбыть в Таврическую губернию для принятия участия в начавшихся там приготовлениях к приезду государыни.
Поручение было более чем лестно, а между тем удаляло от Петербурга и от Калисфении Николаевны влюбленного и болтливого майора.
Ввиду спешного дела на сбор командированному было дано всего двадцать четыре часа времени.
Объявить эту милостивую волю светлейшего к Василию Романовичу был послан один из адъютантов Потемкина, которому было строго наказано не дозволять иметь Щегловскому ни с кем секретных сношений, а искусно провести с ним эти назначенные для сборов сутки, оказывая всякую помощь.
Щегловский понял, что кроется под этим поручением, и был рад, что отделается лишь временным удалением из Петербурга, да еще с таким лестным поручением.
Не можем скрыть, что при роковой догадке, что светлейшему все известно, любовь майора к прекрасной «гречанке» сильно уменьшилась.
Своя рубашка ближе к телу даже идеалиста.
«Заслужу уж я его светлости за милость, — думал Василий Романович. — Ведь захотел бы, мог в каземате сгноить, где на него найдешь управу…»
С этой‑то надеждой «заслужить» выехал Щегловский на другой день к вечеру из Петербурга.
Адъютант Потемкина простился с ним за городской заставой, пожелав счастливого пути, и тотчас же по возвращении явился с докладом об исполненном поручении к светлейшему.
Через несколько дней Григорий Александрович поехал на Васильевский остров.
Калисфения Николаевна встретила его, по обыкновению, цветущая, сияющая и довольная.
Она и не притворялась.
Отъезд Щегловского опечалил ее на какие‑нибудь полчаса; ей, признаться сказать, довольно‑таки надоел восторженный поклонник–проповедник, и, не говори мать всегда в его пользу, она давно бы сама показала ему на дверь.
Князь тотчас все это смекнул и остался доволен.
Никогда он не был так ласков, так любезен со своей «жар–птицей».
Заведомые ее измены придали ей в его глазах даже какую‑то особенную пикантность.
Такова была странная натура светлейшего.
— Тот товар и хорош, который нарасхват!
Таким циничным афоризмом подтверждал Григорий Александрович свою мысль.
Мы знаем, что женщина в его глазах была не далеко от товара.
С вышедшей к нему во время его отъезда Калисфенией Фемистокловной князь был тоже очень милостив.
Это успокоило трусливую «старую куртизанку», на которую командировка Щегловского произвела впечатление удара грома.
«Узнал, все узнал… сгниешь… пропадешь!» — думала она.
Приезд светлейшего и его приветливость рассеяли ее опасения.
Увы, ненадолго.
Проболтав некоторое время с дочерью, лежавшей в постели, она удалилась на свою половину, но, войдя в свой будуар, остановилась как вкопанная.
Перед ней стоял офицер в адъютантской форме и два солдата.
Она сразу поняла все.
— По приказанию его светлости я вас арестую! — сказал офицер. — Предупреждаю, что всякое сопротивление будет бесполезно, в случае неповиновения мы употребим силу. Извольте одеваться.
— Куда… в Сибирь? — сдавленным голосом произнесла Калисфения Фемистокловна.
Она как‑то сразу вся съежилась и состарилась.
— Нет, много ближе! — улыбнулся адъютант.
— Позвольте мне уложиться…
— Все уложено… Мы распорядились ранее, отдав приказание вашей прислуге.
Офицер указал ей на маленький чемодан, который держал в руках один из солдат.
Верхнее теплое платье — дело было зимой — тоже было уже вынуто из шкафа и положено на кресло.
Калисфения Фемистокловна стала одеваться.
— Вы мне позволите взять еще шкатулку?
— Нет, по приказанию его светлости шкатулка должна быть передана вашей дочери.
Калисфения Фемистокловна вздрогнула.
— Она на нее имеет более прав, чем вы! Это подлинные слова его светлости, — добавил адъютант.
Преступная мать опустила голову.
В сопровождении двух солдат она вышла из дому.
У подъезда стояла тройка.
Один из солдат сел на облучок к ямщику, другой подсадил Калисфению Фемистокловну в повозку, сел рядом и крикнул:
— Пошел!
Тройка понеслась.
Оставшись в доме, адъютант приказал после отъезда матери доложить о себе дочери.
Та в страшной тревоге вскочила с постели и, накинув капот, приняла позднего гостя.
Он передал ей шкатулку ее матери и письмо Григория Александровича.
В этом письме светлейший уведомляя ее, что ввиду дурного на нее влияния ее матери он отправил ее на вечное заключение в монастырь. «В шкатулке, которая тебе будет передана, находятся деньги и подарки, за которые эта бессовестная женщина продавала твои ласки без твоего ведома. Вот какова твоя мать, постарайся не быть на нее похожей, чтобы с тобой не случилось того же», — заключал письмо светлейший.
К чести Калисфении Николаевны надо заметить, что она сделала жест омерзения, читая эти строки, и они еще более ослабили и вообще не сильное впечатление, которое произвела на дочь судьба матери.
Калисфения Фемистокловна, посеяв в сердце дочери лишь холодный эгоизм, пожала плоды своих трудов.
Она действительно была заключена в Спасский монастырь в Казани, откуда тотчас же прислала отчаянное письмо дочери с просьбой выхлопотать ей прощенье у светлейшего.
Калисфения Николаевна, однако, благоразумно об этом даже не заикнулась перед Григорием Александровичем, довольно часто ее навещавшим.
Об ее матери он даже не упоминал, как будто ее никогда и не было на свете.
Молчала и молодая женщина.
Она даже повела почти затворническую жизнь.
Это, впрочем, продолжалось только до отъезда светлейшего из Петербурга, после которого у «жар–птицы» появились новые поклонники, и в числе их князь Василий Андреевич Святозаров.
Но не будем опережать событий.
XIX НА ЮГ
Прошло более двух лет после высказанного императрицей Екатериной намерения посетить вновь присоединенные провинции, или, как она в течение этих двух лет шутя говорила, «обозреть свое маленькое хозяйство», прежде чем это намерение осуществилось.
Наступило 1 января 1787 года.
День Нового года прошел при дворе, по обыкновению, торжественно и шумно.
Весь двор и дипломатический корпус собрались поздравить государыню.
На улицах было необычайное оживление.
На другой день это оживление еще более усилилось. Народ положительно запрудил все улицы Петербурга от Зимнего дворца до Московской заставы.
Этот день был назначен государыней днем торжественного ее выезда из столицы в далекое путешествие.
Весть об отъезде матушки царицы с быстротой молнии облетела весь город с пригородами, и народ широкой волной повалил к Зимнему дворцу проводить свою обожаемую монархиню.
Ровно в полдень началась пальба из пушек и колокольный звон, и при этих смешанных звуках торжества императрица выехала из дворца с многочисленной свитой.
В этой свите находились, между прочими, посланники: австрийский — Кобенцель, французский — Сегюр и английский — Фицгерберт.
Они попеременно ехали в одной карете с императрицей.
Длинный императорский поезд медленно продвигался среди моря обнаженных голов.
Громкое «ура» раскатывалось по городу и заглушало и пушечную пальбу, и колокольный звон.
Картина была умилительная, встречающаяся только в России, где восторг народа при виде своей царицы–матушки или царя–батюшки искренне непосредствен и сердечно шумен.
Подобные овации не поддаются описанию — Человеческое перо слишком слабо для выражения народного восторга при виде его государя.
Не одними, хотя и красноречивыми, русскими «ура» сопровождал народ поезд своей обожаемой государыни.
Слышались и другие, прямо от сердца исходившие крики.
— Счастливого пути, матушка царица! — раздавалось в одном месте.
— Да здравствует государыня! — неслось в другом.
— Матушка наша, царица светлая, вернись скорей… — раскатывалось в третьем.
Государыня милостиво кланялась и видимо была растрогана этим выражением любви и преданности своих подданных.
Под гул таких искренних, сердечных народных приветствий выехала императрица из Петербурга, но не тотчас же отправилась на Юг.
В Царском Селе была продолжительная остановка.
Государыня прожила там четыре дня, и лишь с 6 января началось это незабвенное на скрижалях русской истории путешествие Екатерины по России.
Государыня ехала не спеша.
Выезжала она обыкновенно в десять часов утра, в полдень была остановка для обеда до трех часов, а в семь часов вечера приезжала на ночлег, в заранее определенное место.
На каждой станции было заготовлено от пятисот до шестисот лошадей.
Всюду прием был достоин высокой путешественницы.
Маршрут путешествия был рассчитан предусмотрительным Потемкиным так, что государыня не могла чувствовать ни усталости, ни скуки.
Обеды обыкновенно готовились в нарочно для этой цели отремонтированных и роскошно убранных казенных зданиях, реже — на помещичьих мызах.
В последнем случае владельцам имений по распоряжению Григория Александровича были отпущены громадные суммы, так как некоторые даже сравнительно богатые помещики не могли бы принять достойным образом государыню и были бы поставлены в затруднительное положение.
Вся столовая посуда и белье каждый раз были совершенно новые и после обеда отдавались в подарок хозяевам, — на память о посещении высокой гостьи.
Необычный восторг и счастье распространяла государыня всюду, где ни появлялась.
Следом за ней неслись благословения и самые искренние лучшие пожелания.
Если попадались более длинные расстояния без селений и жилья, то перед взорами путешественников в назначенном месте как из земли вырастали роскошные дворцы, нарочно выстроенные по приказанию Потемкина.
Здесь ввиду отсутствия хозяев серебряную и золотую посуду императрица дарила, кому‑нибудь из своей многочисленной свиты.
На границе каждой губернии императрицу встречал местный губернатор и сопровождал до границы другой губернии.
В некоторых даже небольших городах императрица останавливалась на несколько дней, не столько для отдыха, сколько для внимательного изучения экономического состояния этих городов.
От наблюдательности государыни, несмотря на приготовленные народные встречи, не ускользало ничего — она выносила из всего того, что видела, знание не только казовой стороны своего государства, но и старательно от нее скрываемую оборотную сторону медали.
Впрочем, в большинстве случаев она встречала радовавшие ее сердце картины.
Григорий Александрович умел показать товар лицом.
Деятельные приготовления начались еще с 1784 года.
Григорий Александрович отправил бригадиру Синельникову и другим своим непосредственным подчиненным ордера с подробным расписанием, где надо было строить дворцы, по проектам, набросанным самим светлейшим, где должны были проходить обеденные столы, ночлеги, станции.
Это были, так сказать, подготовительные работы, главные же приготовления на Юге происходили уже под личным наблюдением самого князя.
Тысячи рабочих, согнанных из разных областей государства, трудились над созданием Екатеринослава, города, которому Потемкин в своем пылком воображении предназначил возвещать во веки веков «славу Екатерины», и он должен был, по его проекту, превзойти все величайшие европейские города.
Кременчуг князь возвысил на степень столичного города, по крайней мере по внешнему виду.
Возникали целые города.
Так, возникли Алешки, на левом берегу Днепра, против Херсона, город, не существовавший еще в октябре 1786 года, а в апреле 1787 года уже отстроенный и населенный малороссами и запорожцами.
Полковнику Корсакову, которому было поручено устройство дороги в Крым через Кизикерман и Перекоп, Григорий Александрович писал:
«Сделать богатой рукой, чтобы не уступала римским. Я назову ее Екатерининский путь».
Наряду с этими грандиозными работами князь не забывал и мелочей. Прослушивал торжественную ораторию, приготовленную к приезду Екатерины известным итальянским капельмейстером и композитором Сарти, собственноручно написал тему, которую должен был развить в своей приветственной речи духовный вития архиепископ екатеринославский и таврический Амвросий.
На триумфальных воротах в Перекопе, по приказанию князя, красовалась надпись: «Предпосла страх и принесла мир».
Наконец положительно триумфальное шествие государыни приблизилось к Киеву.
Здесь встретил свою повелительницу Григорий Александрович Потемкин и его племянницы: графиня Александра Васильевна Браницкая и Екатерина Васильевна Скавронская.
В Киеве государыня должна была сделать продолжительную остановку.
Надо было ожидать вскрытия Днепра, так как дальнейший путь предстоял водою.
Гигантская, почти титаническая работа была предпринята и в короткое время исполнена под наблюдением Григория Александровича.
Днепр был очищен от порогов, и вместе с появлением на его водах Екатерины эти воды сделались судоходными.
Десятки великолепно отделанных галер, составивших целую увеселительную флотилию, с весенних дней запестрели на великой реке.
В них должно было разместиться три тысячи человек.
Галера императрицы носила название «Днепр» и была отделана с необычайной пышностью.
На «Буге», так называлась галера Потемкина, ехал сам устроитель этой исторической феерии.
Галера «Десна» приспособлена была для обширной столовой, где государыня давала торжественные обеды.
Южная весна вступила в свои права.
В день отплытия императорской флотилии стояла великолепная погода.
Галера «Днепр» шла впереди, а за ней следовало еще сорок девять судов.
Во всех этих судах были устроены великолепные каюты, кабинеты, будуары для дам.
Яркое солнце с ясного светлого неба освещало покрытые роскошной растительностью берега.
Как в волшебном калейдоскопе, перед взорами очарованных путешественников сменялись восхитительные пейзажи.
Оживленные сбежавшимся народом доя приветствий своей обожаемой монархини берега, на которых то и дело попадались богатые селения, красивые дачи, поля, засеянные пшеницей, пастбища, наполненные стадами, указывали на несомненное благосостояние жителей.
Императрица была в самом лучшем настроении духа.
Она воочию убедилась, что все наговоры врагов ее знаменитого избранника и ученика были черной клеветой.
Положительным триумфатором ехал на «Буге» сам «маг и волшебник» Потемкин.
Он совершенно переродился.
Во время остановки в Киеве на него было нашла обычная хандра.
На этот раз припадок ее был страшен и продолжителен.
Он уехал из дворца и нашел себе временный приют под тихой сенью Печерского монастыря [41].
Здесь, в обширной келье, немытый, нечесаный, в одном халате, лежал он на низенькой койке, окруженный толпой льстецов, жаждавших милостей.
Суровый, грубый, он не стеснялся в обращении с этой толпой.
Даже относительно таких лиц, как граф Румянцев–Задунайскии, он оказывал полное пренебрежение.
Ему было не до них, ни до устроенного им грандиозного шествия по России императрицы, ни до самой императрицы.
Картины далекого прошлого неотступно стояли перед духовным взором несчастного «баловня счастия», и за возвращение хотя на мгновенье пережитых им сладких минут свиданья с княжною Несвицкой в доме графини Нелидовой он готов был отдать свое могущество, власть, свое историческое имя и целый рой окружавших его красавиц.
Но, увы, прошлое было невозвратимо.
Оно дразнило его из своего заманчивого далека и указывало, что его могущество имеет границы.
Это доводило его до бешенства — он рвался и метался и как буря налетал на окружающих.
Все кругом трепетало.
«Светлейший хандрит» — это была одна из самых страшных фраз того времени.
Хандра прошла только за несколько дней перед отъездом из Киева, и ею, по счастию, не омрачилось ни на один день дальнейшее путешествие.
В особенно населенных местах путники останавливались и выходили на берег.
Торжественна встреча ликующего, одетого в праздничные платья народа, пальба из пушек и фейерверки ознаменовывали эти кратковременные остановки.
Что бы ни писали современники, а за ними их потомки, о будто бы непроизводительно истраченных громадных средствах на это путешествие государыни, тяжелым бременем упавших на состояние русских финансов, путешествие это, несомненно, послужило ко благу всех губерний и областей, через которые проезжала императрица, потому что обогатило их. Оно показало, насколько эти страны плодородны по самой природе своей и как мало нуждаются в обработке. Наконец, оно обратило внимание правительства на новоприобретенные земли, ободрило жителей и, так сказать, предуготовило то блистательное и непоколебимое положение, которым эти страны пользуются в настоящее время.
Путешественники приближались к месту, где должна была состояться встреча русской императрицы с облагодетельствованным ею польским королем Станиславом Августом Понятовским [42].
XX ПУТЬ В ВИЗАНТИЮ
В Каневе государыня пробыла менее суток.
Встреча ее с польским королем Станиславом Августом Понятовским состоялась по заранее установленному церемониалу.
Современники отметили одну подробность, относящуюся к Потемкину.
При встрече с королем князь поцеловал у него руку.
Объяснялось это тем, что будто бы у светлейшего было желание получить польскую корону, а по польским законам королем мог быть гражданин и подданный этого государства.
Целованием королевской руки Григорий Александрович торжественно засвидетельствовал свои чувства к Польше.
Императрица приняла короля очень любезно, хотя и спешно, так как австрийский посланник торопил государыню, заявляя, что его император уже выехал из Леопольдштата.
Императрица и без того опоздала к назначенному времени свиданья.
Польский король, впрочем, был очень доволен и расстался с Потемкиным в самых дружеских отношениях.
Императрица после свиданья послала королю орден Святого Андрея Первозванного.
Этот орден получил и король шведский в бытность свою в Петербурге.
От Канева берега Днепра становятся дики и скалисты. Русло реки невозможно было совершенно освободить от множества подводных камней, и некоторые из них там и сям еще торчали из воды.
С величайшей осторожностью плыли между ними суда императорской флотилии.
Утро 5 мая было великолепно, но с полудня небо стало покрываться тучами, которые делались все чернее и чернее, подул сильный ветер, и волны сердито бурлили и с силой разбивались о борта галер, сильно накреняя их то в ту, то в другую сторону.
Гребцы выбивались из сил, чтобы поскорее выбраться из опасного места, но усилия их оставались тщетными. С минуты на минуту усиливавшийся ветер, дувший навстречу судам, мешал им подвигаться вперед.
Гребцами овладел ужас, который скоро сообщился и всем путешественникам.
Одна императрица была спокойна.
Наконец разразилась настоящая буря.
Ветер злобно завывал между ущельями береговых скал.
Галеры как щепки бросало из стороны в сторону, грозя ежеминутно разбить вдребезги о подводные камни.
На судах, следовавших за императорскими, наступила общая паника.
Женщины плакали и молились.
Мужчины бросились на помощь выбившимся из сил гребцам.
В галере, на которой находилась императрица, оказалась течь.
Опасность была еще сильнее, а между тем все окружающие императрицу, ободренные ее присутствием духа, были почти спокойны.
Не слышно было ни жалоб, не видно было суматохи, царившей на прочих галерах.
Спустились густые сумерки.
Все окуталось непроницаемым мраком.
Вдруг столб синеватого пламени вспыхнул вблизи императорской галеры и осветил картину общего смятения.
Раздался крик ужаса.
Многим казалось, что настала минута гибели.
Сразу не могли даже сообразить причины этого огненного грозного призрака.
Лишь через некоторое время дело объяснилось.
Оказалось, что загорелось судно, нагруженное вином и шедшее навстречу императорской флотилии.
Воспламенившееся вино кипело, как огненная лава, вода клубилась, как будто в адском котле, и обгорелые обломки судна погружались со страшным шипением в клокочущие волны.
Картина была ужасна и поразительна.
Лишь к рассвету ветер утих и тучи рассеялись.
Опасность миновала.
Оригинальная флотилия прибыла в Кременчуг.
Императрица со всею свитой вышла на берег и в экипаже проследовала в выстроенный для нее великолепный дворец, окруженный роскошным садом.
Письма Екатерины к невестке и другим лицам были восторженны: государыня была положительно очарована всем виденным уже ею по дороге, а между тем в Крыму ее ожидали еще большие чудеса.
С Кременчуга началось полное торжество князя Потемкина. С этого города сразу бросалась в глаза разница с только что оставленным малорусским наместничеством, особенно в устройстве военной часта.
Под городом, на другой день по приезде туда государыни, были устроены маневры двенадцатитысячного корпуса.
Маневры удались на славу.
Особенно отличался кирасирский полк, названный полком князя Потемкина–Таврического.
Сомнения, внушенные императрице насчет «легкоконных» полков, сформированных светлейшим, сразу распались.
— О, как люди злы! — сказала она принцу Карлу Иосифу де Линь, сопровождавшему в числе других дипломатов государыню, указывая ему на бравую конницу. — Как им хотелось обмануть меня!
Екатерина была так доводы» всем, что, желая пристыдить и наказать доносчиков, послала санкт–петербургскому губернатору следующий высочайший рескрипт:
«Я приехала сюда и нашла третью часть той превосходной конницы, коей существование многие зломыслящие люди отвергали; но я видела сие войско, и видела его в таком совершенстве, до какого никакой корпус еще не достигал. Прошу вас сказать всем людям, не верующим оному, и истину сию утвердить моим письмом, и таким образом посрамить ложное суждение неблагонамеренных господ. Наконец надлежит воздать должную справедливость и похвалу людям, посвящающим себя с полной ревностью и успехом на службу своей государыне и отечеству».
Из Кременчуга императрица направилась далее в Крым.
В нескольких верстах от этого города, в степи, состоялась встреча государыни с графом Фалькенштейном.
Под этим именем путешествовал австрийский император Иосиф II.
Свиданье произошло в уединенной хижине казака, в присутствии Потемкина, графа Ксаверия Браницкого и принца Карла Генриха Нассау–Зигена.
После свиданья император поехал сопровождать императрицу в путешествии по Крыму.
В Херсон Екатерина въехала в великолепной колеснице. С ней сидели Иосиф II и Потемкин.
Перед изумленными путешественниками на месте, где за семь–восемь лет перед тем была лишь пустынная степь и развалины, предстала крепость, арсенал со множеством пушек, три готовых на верфях корабля, несколько церквей, красивые здания, купеческие суда в прекрасном порту, словно как из земли выросший новый город, богатый и многолюдный.
Множество домов было занято не только русскими, но и иностранцами.
В роскошных магазинах были выставлены драгоценные товары.
Везде была заметна жизнь и промышленная деятельность.
Государыня остановилась в адмиралтействе.
Насколько оно было великолепно украшено для приема августейшей посетительницы, можно судить уже по тому, что один воздвигнутый в нем трон стоил около пятидесяти тысяч рублей.
В Херсоне императрица пробыла довольно долго.
При ней были спущены на воду три судна: два линейных корабля с шестьюдесятью шестью и фрегат с сорока пушками.
За что князь Потемкин был пожалован кайзер–флагом по своему званию главнокомандующего Черноморским флотом.
Во время одной из прогулок по городу Григорий Александрович умышленно повел государыню к древним воротам, на которых сохранилась надпись на греческом языке:
«Отсюда надлежит ехать в Византию».
Эта древняя надпись не заключала в себе ничего особенного и, видимо, служила лишь для указания пути в столицу Греции.
Но светлейший придал ей другое значение, сообразное с не покидавшим его ум «греческим проектом».
Указав императрице на надпись, он сказал:
— Путь открыт, ваше величество, недостает только вашего разрешения…
Императрица выразительно посмотрела на него и многозначительно улыбнулась.
Время неслось быстро среди различных осмотров и увеселений.
Представившиеся императрице татары желали показать ей свое искусство в различных военных играх.
Екатерина смотрела на них из кареты, в которой сидела вместе с австрийским императором.
Вдруг в самом пылу военных эволюций двухтысячный татарский отряд устремился на карету императрицы и вмиг окружил ее.
Иосиф II смутился, а императрица, сразу догадавшись, что эта эволюция была сделана по приказанию Потемкина, не выказала ни малейшей робости.
Государыня не ошиблась. Это был действительно один из сюрпризов светлейшего, старавшегося разнообразить впечатления, производимые на императрицу разными зрелищами.
В числе сопровождавших императрицу в Херсон был и знакомый нам соперник князя Потемкина по молодой Калисфении Василий Романович Щегловский.
Незадолго до отъезда из Херсона было получено известие, что один из мостов, по которому надо было ехать, разрушен бурей и заменяется новым.
Императрица спешила выехать, а еще неизвестно, был ли готов новый мост.
Григорий Александрович послал Щегловского за двадцать семь верст, узнать, построен ли мост.
Часа через три, когда государыня села за обеденный стол, Василий Романович возвратился, загнав несколько лошадей и проскакав пятьдесят четыре версты не более как в три часа.
Войдя в столовую императрицы, где находился и Потемкин, Щегловский, с трудом переводя дыхание, едва мог промолвить:
— Ваша светлость, мост готов…
— Как, — сказала императрица, — он уже и съездил? — и так была довольна, что сняла с руки своей бриллиантовый перстень и подарила Щегловскому.
Херсон произвел на императрицу неизгладимое впечатление.
При путешествии в глубь страны это впечатление еще более увеличивалось.
Чудная природа Крыма, великолепное Черное море, ласкающий, нежащий воздух, роскошные горные панорамы еще сильнее подействовали на государыню.
Императрица намеревалась из Херсона ехать в Кинбурн, но известие, что там стоит сильная турецкая эскадра, побудило ее отправиться сухим путем через Перекоп в Тавриду.
Князь Потемкин с принцем Нассау–Зигеном отправились вперед.
Переехав через Борисфен, они увидели детей знаменитейших татар, собравшихся тут, чтобы приветствовать императрицу.
Поговорив с ними, они двинулись к Каменному мосту, до которого оставалось около тридцати верст и где был назначен ночлег.
По дороге ожидало их до трех тысяч донских казаков со своим атаманом.
Они проехали вдоль их фронта, очень растянутого, так как они строились в одну линию.
Когда они их миновали, то вся эта трехтысячная ватага пустилась вскачь мимо кареты, в которой ехали князь и принц.
Равнина мгновенно покрылась казаками и представляла величественную картину, способную воодушевить всякого.
Казаки сопровождали их до следующей станции, то есть около двенадцати верст, и у станции снова выстроились в боевой порядок.
Между ними был полк калмыков, точь–в-точь похожих на китайцев.
Подъехав к Каменному мосту, они нашли тут хорошенький домик, построенный в маленьком земляном укреплении, и тридцать прекрасных палаток, приготовленных для ночлега.
Императрица прибыла также, сопровождаемая казаками.
Равнина, усеянная людьми, мчавшимися во весь опор, то нападая, то отбиваясь друг от друга, производила впечатление настоящего поля сражения.
Австрийский император по приезде с императрицей все время говорил об удовольствии, доставленном ему казаками, а государыня сказала Григорию Александровичу с милостивой улыбкой:
— Это один из ваших сюрпризов.
Потемкин приказал повторить маневры.
Императрица и Иосиф II взошли на валы; чтобы лучше их видеть.
Весь вечер только и речи было о казаках
Император много расспрашивал их атамана, который ему, между прочим, сказал, что они делают обыкновенно по шестьдесят верст в день во время похода. Ни одна кавалерия в Европе не может в этом отношении с ними сравниться.
Император был в восхищении и расточал князю Потемкину вполне им заслуженные похвалы.
На другой день прибыла жена казацкого атамана с дочерью, очень красивой девушкой.
На них были длинные платья из золотой и серебряной парчи и собольи шапочки с расшитым жемчугом дном, жемчужные ожерелья и головные уборы и браслеты.
Их представляла графиня Браницкая.
Затем казацкие офицеры и двести казацких ветеранов подходили к руке императрицы.
Путешественники отправились далее в Перекоп.
В доме соляного пристава был приготовлен превосходный завтрак. Императрице были здесь показаны все сорта добываемой соли — один из них издает запах малины.
Сев снова в карету, государыня со свитой отправилась к тому месту, где были разбиты прелестные палатки для обеда.
На месте ночлега были поставлены палатки на манер татарских. Для императрицы был устроен из палаток целый дом, от которого она была в восторге.
С места ночлега были уже видны горы.
Начиналась волшебно–прекрасная страна — Таврида.
XXI В КРЫМУ
20 мая императрица прибыла в древнюю столицу крымских ханов — Бахчисарай и остановилась в ханском дворце.
От Перекопа ее конвоировала блестящая татарская гвардия, составленная из родовитых мурз.
Их яркие костюмы и джигитовка приводили в восторг государыню и ее венценосного попутчика — Иосифа II.
Это были те самые татары, которые еще недавно возмущались, когда из них хотели образовать правильные полки и подчинить их дисциплине.
Теперь им вверили охрану императрицы и ее окружали тысячи татар, готовых стать на ее защиту.
Во время переезда в Бахчисарай с Екатериной чуть было не случилось несчастье.
На одном из крутых спусков забыли затормозить коляску. Лошади, не будучи в силах удержать тяжелый экипаж, понесли и чуть не опрокинули кучера.
Коляска, в которой сидело восемь человек, при этой бешеной скачке, казалось, каждую минуту должна была разлететься вдребезги, а пассажиры убиты или изувечены.
Татары, считавшие гибель экипажа неминуемой, кричали:
— Алла, Алла, спаси ее! Алла, Алла, спаси!
Императрица между тем ни на минуту не потеряла присутствия духа, и на лице ее не отразилось ни малейшего испуга.
Напротив, по приезде в Бахчисарай она была очень весела и в положительном восторге от всего виденного и от своего дворца.
Особенно ей понравилась большая, роскошно отделанная зала, вокруг которой по сторонам был изображен на арабском языке следующий девиз: «Что ни говори клеветники и завистники, ни в Испании, ни в Дамаске, ни в Стамбуле не найдешь подобной».
В этой же зале находились цветы и плоды, сделанные из воска господином Тоттом во время его пребывания в Крыму, о чем он упоминает в своем сочинении.
Принц Нассау–Зиген обратил на них внимание императрицы.
— Удивительно, что все сделанное Тоттом достается мне в руки, — заметила она, обращаясь к австрийскому императору. — Он изготовил двести орудий в Константинополе, — они все принадлежат мне. Он украшал этот дворец цветами, — они мои. Странная судьба!
Вошел Сегюр.
Императрица переменила разговор, начала шутить и смеяться.
— Я заболталась… — кинула она принцу Нассау–Зигену.
С наступлением ночи все горы, окружающие город, и все дома, расположенные амфитеатром, были иллюминованы многочисленными огнями.
Зрелище было великолепное.
Наутро императрица присутствовала у обедни в местной церкви, по окончании которой свита, мурзы, муфтии и татарские офицеры подходили к ее руке.
В этот день празднуется память Святых Константина и Елены и было тезоименитство ее внука, Константина Павловича.
Вечером повторилась роскошная иллюминация, бывшая накануне.
22 мая, в девять часов утра, высокие путешественники тронулись далее и в полдень прибыли в Инкерман.
Здесь ожидало императрицу, кстати, самое эффектное зрелище.
В построенном для государыни дворце во время обеда вдруг отдернули занавес, закрывавший вид с балкона, и глазам восхищенных зрителей представилась великолепная картина: освещенная ярким солнцем Севастопольская гавань с десятками больших и малых кораблей — зачатком славного Черноморского флота.
На эскадре был поднят кайзер–флаг, или штандарт, пожалованный Потемкину.
Из частных лиц князь получил его третий.
В ту минуту, когда эскадра салютовала, императрица встала, вся сияющая, с огненным взглядом, и провозгласила тосты.
— Надобно выпить за здоровье моего лучшего друга! — чокнулась она с императором.
После обеда принц Нассау–Зиген подошел к императрице и сказал, что он так тронут всем виденным, что поцеловал бы ее руку, если бы на то осмелился.
— Князя Потемкина, которому я всем обязана, следует поцеловать! — заметила она, милостиво протягивая руку принцу.
Тот почтительно поцеловал ее.
— Не думаете ли вы, что это те же турецкие суда, которые стояли у Очакова и не пустили меня к Кинбурну? — смеясь, сказала она.
— Эти суда, — отвечал принц Нассау–Зиген, — только ожидают вашего приказания, чтобы отправиться за судами, стоящими под Очаковом.
— Как вы думаете, осмелюсь ли я на это? — снова заметила она, обращаясь к принцу де Линю. — О нет, эти люди слишком страшны!
Император смеялся.
Из разговора было видно, что война с турками желательна для всех.
Затем все присутствующие сели в шлюпки и поехали в Севастополь.
Государыня с Иосифом II ехала в шлюпке, заказанной Потемкиным в Константинополе и совершенно сходной с султанской.
Вот как описывает эту поездку один из ее участников, граф Сегюр:
«Проехав залив, мы пристали к подножию горы, на которой полукружием возвышался Севастополь. Несколько зданий для склада товаров, адмиралтейство, городские укрепления, четыреста домов, толпы рабочих, сильный гарнизон, госпиталь, верфи, пристани, торговые и карантинные, все придавало Севастополю вид довольно значительного города. Нам казалось непостижимым, каким образом, в 2000 верстах от столицы, в недавно приобретенном крае, Потемкин нашел возможным воздвигнуть такие здания, соорудить город, создать флот, утвердить порт и поселить столько жителей. Это действительно был подвиг необыкновенной деятельности».
Надо прибавить, что все это было сделано в баснословно короткое время.
Подтверждением этому служит сообщение Черткова, находящееся в записках Гарновского.
«Я был с его светлостью, — рассказывает Чертков, — в Тавриде, Херсоне и Кременчуге, месяца за два до приезда туда её величества. Нигде ничего там не было отменного; словом, я сожалел, что он позвал туда государыню по–пустому. Приехал с нею, Бог знает, что там за чудеса явились. Черт знает, откуда явились строения, войска, людство, татарва, одетая прекрасно, казаки, корабли… Какое изобилие в яствах, напитках — словом, во всем, — ну, знаешь, так, что придумать нельзя пересказать порядочно. Я иногда ходил как во сне, право, как сонный, сам себе не верил ни в чем, щупал себя: я ли? где я? не мечту ли, не привидение ли я вижу? Ну, надобно сказать правду: ему, ему только одному можно такие дела делать, и когда он успел все это сделать?»
На самом деле, только чародей Потемкин мог проделывать такие вещи.
Шлюпка проехала мимо эскадры, состоявшей из трех 66–пушечных кораблей, трех 50–пушечных и десяти 40–пушечных фрегатов.
Они приветствовали императрицу тремя залпами.
Шлюпка подошла ко входу в гавань.
У пристани была великолепная лестница из тесаного камня. Роскошная терраса вела от нее ко дворцу императрицы.
Последняя повторяла все время:
— Надеюсь, теперь не скажут, что он ленив!
Она, конечно, подразумевала Григория Александровича.
На другой день Екатерина посетила порт и ездила за двадцать верст в море, где флот провел в глазах ее ученье с пальбою и разные эволюции, окончившиеся примерным нападением на деревянную крепостцу, нарочно для этого устроенную на северном берегу рейда.
Она была подожжена, когда в нее бросили шестую бомбу.
Крепостца была наполнена горючим материалом, и взрыв был очень эффектный.
Императрица была в восхищении.
«Весьма мало знают цену вещам те, кои с унижением бесславили приобретение сего края, — писала она из Севастополя к московскому генерал–губернатору П. Д. Еропкину [43]. — И Херсон, и Таврида со временем не только окупятся, но надеяться можно, что если Петербург приносит восьмую часть дохода империи, то вышеупомянутые места превзойдут плодами бесплодных мест. Кричали против Крыма, пугали и отсоветовали обозреть самолично. Сюда приехавши, ищу причины такого предубеждения безрассудного. Слыхала я, что Петр Первый долговременно находил подобные в рассуждении Петербурга, и я помню еще, что этот край никому не нравился. Воистину сей не в пример лучше, тем паче что с сим приобретением исчезает страх от татар, которых Бахмут, Украйна и Елисаветград поныне еще помнят. С сими мыслями и с немалым утешением написав сие к вам, ложусь спать. Сегодня вижу своими глазами, что я не причинила вреда, а величайшую пользу своей империи».
Из Севастополя государыня поехала через Бахчисарай, Симферополь, Карасубазар и Старый Крым до Каффы, которая называется ныне Феодосией.
В Карасубазаре был зажжен великолепный фейерверк.
Император заметил, что он никогда не видел ничего подобного.
Сноп состоял из 20 тысяч больших ракет.
Иосиф II призывал фейерверкера и расспрашивал его о количестве ракет.
— На случай, — говорил он, — чтобы знать, что именно заказать, ежели придется сжечь хороший фейерверк.
Иллюминация тоже была великолепная.
Все горы были увешаны вензелями императрицы, составленными из пятидесяти тысяч плошек.
Сады также были роскошно иллюминованы.
Каффа, или Феодосия, была единственным местом Тавриды, где сохранились древние памятники.
На монетном дворе была выбита медаль, которую Потемкин поднес императрице.
Все было приготовлено, чтобы выбить еще несколько медалей, но государыня прошла далее, не остановившись, и передала медаль Мамонову, который положил ее в карман.
С одной стороны медали была изображена императрица, а с другой надпись о том, что она соблаговолила посетить монетный двор в сопровождении графа Фалькенштейна.
Из Феодосии государыня отправилась обратно в Россию.
В Кизикермане она рассталась с Иосифом II.
Он провел час в ее кабинете и в ту минуту, когда она собиралась сесть в карету, хотел поцеловать ей руку, но она не допустила этого, и они обнялись.
Затем император прошел вперед к экипажу и снова хотел поцеловать ей руку, но они дружески расцеловались.
По отъезде государыни подъехал в карете Григорий Александрович.
Император, севший уже в карету, вышел из нее и направился к его экипажу.
Князь в свою очередь вышел из кареты.
Император простился с ним, приветствовал его по поводу всего того, что ему удалось показать императрице, поцеловал князя, сел в карету и уехал.
Пребывание Екатерины на Юге было, как мы уже имели случай заметить, полнейшим торжеством для князя Потемкина.
Императрица в самых милостивых и признательных выражениях одобрила все, им сделанное, и по его ходатайству осыпала наградами его сотрудников.
Сам Потемкин получил похвальную грамоту, в которой подробно были прописаны знаменитые заслуги, оказанные им отечеству.
Григорий Александрович провожал императрицу до Полтавы и тут тоже представил ей величественное зрелище, достойное великой государыни.
В окрестностях Полтавы, на полях, прославленных победой Петра I [44], внезапно появились две армии и вступили в сражение в том же боевом порядке, в каком Петр Великий победил Карла XII.
Офицер, представлявший шведского короля, был в точно таком же костюме, в каком был Карл XII на этом знаменитом сражении.
Потемкин в Полтаве простился с императрицей.
Он питал надежду, что она наконец согласится объявить Турции войну, — выгнать турок из Европы было, как мы знаем, его заветной мечтой, — а потому счел выгодным остаться в Крыму, откуда ему удобнее было приступить к военным действиям.
Долго еще отголоски этого путешествия звучали в России и Европе.
Сопровождавшие Екатерину посланники разнесли в своих письмах по всем странам о могуществе великолепного князя Тавриды.
Но лучшею наградою Григорию Александровичу были письма государыни, которая долго не могла забыть виденного.
«А мы здесь чванимся, — писала она князю на возвратном пути из села Коломенского, — ездою и Тавридою и тамошними генерал–губернаторскими распоряжениями, как добрыми без конца и во всех частях».
Из Твери: «Я тебя и службу твою, исходящую из чистого усердия, весьма, весьма люблю, и сам ты бесценный; сие я говорю и думаю ежедневно».
Из Царского Села: «Друг мой сердечный, Григорий Александрович! Третьего дня окончили мы свое шеститысячеверстное путешествие и с того часа упражняемся в рассказах о прелестном положении мест вам вверенных губерний и областей, о трудах, успехах, радении, усердии и попечении и порядке, вами устроенных повсюду, и так, друг мой, разговоры наши, почти непрестанные, замыкают в себе либо прямо, либо сбоку твое имя либо твою работу».
Эти письма красноречиво доказывают как живость воспоминаний Екатерины о пережитых впечатлениях, так и ее искреннюю и глубокую благодарность старому другу.
Ободренный благосклонностью и милостью государыни, Григорий Александрович снова стал лелеять свой излюбленный «греческий проект».
Ему казалось, что он уже накануне его осуществления.
Крест на мечети Софии уже сиял в его пылком воображении.
Еще о войне с турками никто и не думал, а он спешно готовился к ней, стягивая во вверенные ему области войска, запасаясь провиантом и артиллерийскими снарядами в таком количестве, какое было потребно для продолжительных военных действий.
Повторяем, он надеялся получить в скором времени согласие императрицы отбросить турок в Малую Азию и восстановить Греческую империю, вручив ее скипетр внуку государыни, великому князю Константину Павловичу [45].
Эту надежду он основывал на некоторых словах и замечаниях, сделанных Екатериной во время ее пребывания в Тавриде.
Турция сама пошла навстречу нетерпеливым ожиданиям светлейшего.
Война стала неизбежной.
XXII РАЗРЫВ С ТУРЦИЕЙ
Описанное нами путешествие императрицы Екатерины в Крым и ее дружеское свидание с австрийским императором произвело сильное впечатление в Турции.
Диван хотя ранее и изъявил согласие на присоединение Крыма к России, но согласие это не было искренне.
Турецкое правительство очень хорошо понимало всю важность для него потери этого полуострова.
Россия, уничтожив последнее татарское царство, вместе с тем приобрела весь северный берег Черного моря, откуда неприятельские корабли при первом удобном случае могли появиться под стенами Константинополя.
Предупредить опасность и броситься врасплох на врага — вот единственный выход, который был подсказан Турции отчаянием и вместе с тем благоразумием.
Послы иностранных держав — английский, французский и прусский, которым было неприятно возвышение России и возможность завладения ею Черным морем и Константинополем, поддерживали задор турецкого правительства.
Летом 1787 года, когда императрица только что успела вернуться в Петербург, султан прислал послу нашему, Булгакову, ультиматум, в котором требовал выдачи молдавского господаря Маврокордата, нашедшего приют в России; отозвание из Ясс, Бухареста и Александрии русских консулов, допущение во все русские гавани и торговые города турецких консулов; признание грузинского царя Ираклия, поддавшегося России, турецким вассалом и осмотр всех русских кораблей, выходящих из Черного моря.
Булгаков, конечно, отверг эти требования и был заключен, по приказанию султана, в семибашенный замок.
5 августа 1787 года была объявлена война.
Она застала Россию действительно врасплох.
Войска русские были разбросаны на обширном пространстве, многие крепости еще не окончены вооружением, в продовольствии чувствовался недостаток по случаю почти повсеместного неурожая, и, наконец, перевозочные и госпитальные принадлежности, понтоны и осадный парк не могли быть заготовлены и доставлены ранее зимы или, в лучшем случае, осени.
Положение Потемкина, как защитника Новой России, было чрезвычайно затруднительно.
Он пал духом.
Императрица старалась поддержать его нравственно письмами.
Турки открыли военные действия нападением за Кинбурн.
Узнав это, Екатерина писала Григорий Александровичу, между прочим, следующее:
«Что Кинбурн осажден неприятелем и уже четверо суток выдержал канонаду, я усмотрела из твоего собственноручного письма; дай Бог его не потерять; ибо всякая потеря неприятна; но положим так, то для чего же унывать, а стараться как ни на есть отмстить и брать реванш; империя останется империей и без Кинбурна; то ли мы брали и потеряли? Всего лучше, что Бог вливает бодрость в наших солдат там, да и здесь не уныли, а публика лжет в свою пользу и города берет, и морские бои и баталии складывает, и Царьград бомбардирует. Я слышу и все сие с молчанием и у себя на уме думаю: был бы мой князь здоров, то все будет благополучно, если бы где и вырвалось что неприятное. Молю Бога, чтобы тебе дал силы и здоровья, унял ипохондрию. Как ты все там делаешь, то и тебе покоя нет; для чего не берешь к себе генерала, который бы имел мелкий детайль? Скажи, кто тебе надобен, я пришлю; на то даются фельдмаршалу генералы полные, чтобы один из них занялся мелочью, а главнокомандующий тем не замучен был. Что не проронишь, того я уверена; но, во всяком случае, не унывай и береги свои силы; Бог тебе поможет и не оставит, а царь тебе друг и покровитель. Проклятое оборонительное положение! И я его не люблю. Старайся его скорее оборотить в наступательное, тогда тебе, да и всем легче будет, и больных тогда будет менее; не все на одном месте будут».
Хандра Потемкина не проходила.
Новое неожиданное несчастье повергло его в положительное отчаяние.
Его любимое создание — севастопольский флот, на который князь возлагал все свои надежды, при первом выходе в море подвергся страшной буре, которая унесла один линейный корабль в Константинопольский пролив, где турки взяли его со всем экипажем; остальные корабли и суда были так повреждены, что с трудом вернулись в Севастополь. Эскадру Войновича, как некогда знаменитую армаду Филиппа II Испанского [46], истребили не враги, а бури. Баловень счастья окончательно упал духом.
«Матушка государыня! — писал он императрице 27 сентября 1787 года. — Я стал несчастлив; при всех мерах, мною предпринимаемых, все идет навыворот. Флот севастопольский разбит бурей; остаток его в Севастополе — все мелкие и ненадежные суда или, лучше сказать, неупотребительные; корабли и большие фрегаты пропали. Бог бьет, а не турки. Я, при моей болезни, поражен до крайности; нет ни ума, ни духу. Прошу, о поручении начальства другому. Верьте, что я себя чувствую; не дайте чрез сие терпеть делам. Ей–Богу, я почти мертв; я все милости и имение, которое получил от щедрот ваших, повергаю к стопам вашим и хочу в уединении и неизвестности кончить жизнь, которая, думаю, и не продлится. Теперь пишу Петру Александровичу (Румянцеву), чтобы он вступил в начальство, но, не имея от вас повеления, не чаю, чтобы он принял, и так Бог весть, что будет. Я все с себя слагаю и остаюсь простым человеком; но что я был вам предан, тому свидетель Бог».
В порыве отчаяния Потемкин предлагал вывести войска из Крыма.
Письмо его всецело обрисовывает характер Григория Александровича.
Этот сын счастья, почти не знавший неудач и все легко приводивший в исполнение, при первой неудаче вдруг впал в страшное уныние и готов был отказаться от всего, что, несомненно, составляло его лучшие дела.
Трогательное зрелище представляет нам в эти дни история. Екатерина, старая годами, но бодрая духом, в ласковых, задушевных письмах вливает свежую энергию в душу тоскующего и отчаивающегося громадного ребенка, как называли Потемкина некоторые современники.
«Конечно, все это не радостно, однако ничего не пропало, — отвечала ему 20 октября императрица. — Сколько буря была вредна нам, авось‑либо столько же была вредна и неприятелям; неужели, что ветер дул лишь на нас. Крайне сожалею, что ты в таком крайнем состоянии, что хочешь сдать команду; это мне более всего печально. Ты упоминаешь о том, чтобы вывести войска из полуострова. Я надеюсь, что сие от тебя письмо было в первом движении, когда ты мыслил, что весь флот пропал… Приписываю сие чрезмерной твоей чувствительности и горячему усердию… Если сие исполнишь, то родится вопрос, что же будет и куда девать флот севастопольский? Я думаю, что всего лучше было, если бы можно было сделать предприятие на Очаков либо на Бендеры, чтобы оборону обратить в наступление. Прошу ободриться и подумать, что бодрый дух и неудачу поправить может. Все сие пишу тебе, как лучшему другу, воспитаннику моему и ученику, который иногда и более имеет расположения, нежели я сама; но на сей случай я бодрее тебя, понеже ты болен, а я здорова. Ты нетерпелив, как пятилетнее дитя, тогда как дела, на тебя возложенные теперь, требуют терпения невозмутимого».
Кроме утешения, которое черпал Григорий Александрович в милостивых письмах мудрой государыни, счастливый оборот военных действий влил живительный бальзам в его наболевшую душу.
Суворов после кровопролитного боя отразил турок от Кинбурна с огромным уроном.
Мы впоследствии ближе познакомим наших читателей с этим знаменитым полководцем, в описываемую нами войну обессмертившим себя неувядаемыми лаврами непобедимого.
Григорий Александрович, повторяем, несколько приободрился.
С грустью, но уже сравнительно спокойно, он стал говорить о потере флота.
«Правда, матушка, что рана сия глубоко вошла в мое сердце. Сколько я преодолевал препятствий и труда понес в построении флота, который бы через год предписывал законы Царю–городу! Преждевременное открытие войны принудило меня предпринять атаковать раздельный флот турецкий с чем можно было, но Бог не благословил. Вы не можете представить, сколь сей нечаянный случай, меня почти поразил до отчаяния».
Императрица между тем продолжала настаивать на необходимости взять Очаков.
2 ноября 1787 года, после кинбурнского дела, она, между прочим, писала:
«Понеже Кинбурнская сторона важна и в оной покой быть не может, дондеже Очаков существует в руках неприятельских, то за неволю подумать нужно о сей осаде, будет тако захватить не можно по вашему суждению».
«Кому больше на сердце Очаков, как мне? — отвечал Григорий Александрович. — Несказанные заботы от сей стороны на меня все обращаются. Не стало бы за доброй волей моей, если бы я видел возможность… Схватить его никак нельзя, а формальная осада по позднему времени быть не может и к ней столь много приготовлений! Теперь еще в Херсоне учат минеров, как делать мины и прочему. До ста тысяч потребно фашин и много надо габионов. Вам известно, что лесу нет поблизости. Я уже наделал в лесах моих польских, откуда повезут к месту. Очаков нам нужно, конечно, взять, и для того должны мы употребить все способы, верные для достижения сего предмета. Сей город не был разорен в прошлую войну; в мирное время укрепляли его беспрерывно. Вы изволите помнить, что я в плане моем наступательном, по таковой их тут готовности, не полагал его брать прежде других мест, где они слабее. Если бы следовало мне только жертвовать собой, то будьте уверены, что я не замешкаюсь ни минуты; но сохранение людей, столь драгоценных, обязывает идти верными шагами и не делать сомнительной попытки, где может случиться, что потеря несколько тысяч пойдет не взявши; и расстроимся так, что, уменьшив старых солдат, будем слабее на будущую кампанию. Притом, не разбив неприятеля в поле, как приступить к городам? Полевое дело с турками можно назвать игрушкой; но в городах и местах таковых дела с ними кровопролитны».
Так писал и осторожный, и жалевший солдат Потемкин. За наступившими холодами военные действия прекратились.
Со стороны неприятеля они ограничились лишь неудавшимся нападением на Кинбурн.
Это произошло вследствие замешательства в Египте и восстания албанского правителя Махмуда–паши, отвлекших турецкие силы с театра русско–турецкой войны.
Зимой Григорий Александрович деятельно занялся приготовлениями к предстоящей кампании.
Войска были пополнены рекрутами и снабжены всеми средствами, необходимыми для ведения войны.
Госпитали и провиантские склады значительно умножены и расположены в удобных местах.
Укрепления Кинбурна и других приморских пунктов усилены.
Черноморский флот был исправлен и умножен.
Продовольственные припасы были заготовлены в изобилии.
Войска были разделены на две армии: Екатеринославскую в 80000 человек и 180 орудий, Украинскую — в 37 000 человек и 90 орудий и отдельный Кавказский корпус из 18 000 человек.
По плану кампании, составленному самим Потемкиным, Екатеринославская армия, предводимая самим князем, должна была охранять Крым и взять ключ Бессарабии — Очаков; Украинская армия, под командой Румянцева, овладеть Молдавией. Австрийский император, который на основании договора с русской императрицей тоже объявил войну Турции, должен был занять Сербию и Валахию.
Предполагалось затем соединить все три армии, перейти Дунай и там, на полях Болгарии или за Балканами, нанести туркам решительный удар и предписать условия мира.
План был задуман прекрасно, но исполнение его не вполне соответствовало предначертанию.
В мае 1788 года большая часть Екатеринославской армии, в числе 46000 человек, собралась у Ольвиополя и двинулась по обеим сторонам Буга.
Переход совершали медленно, и лишь к 28 июня силы были стянуты под Очаковом.
В это же время Румянцев с Украинской армией переправился через Днестр, расположился, чтобы отвлечь турок, между этой рекою и Прутом и отделил одну дивизию для обложения Хотина.
Турки, со своей стороны, тоже приготовились к упорной борьбе. Они успели усилить к весне свои полчища до 300 000 человек.
В Очакове, Бендерах и Хотине находилось более 40000 человек.
Такою же силою охранялись линии по Днестру; следовательно, для действий в поле оставалось более 200 000 человек.
Султан решил обратить главные усилия против австрийцев, которые вступили в Сербию и Валахию, ограничиваясь с другой стороны лишь удержанием русских войск.
С этою целью 150–тысячная армия, предводительствуемая верховным визирем, двинулась к Белграду.
Очаковский гарнизон был доведен до 20000 человек, а новый крымский хан Шах–Бас–Гирей, избранный в Константинополе, сосредоточил до 50000 турок у Измаила.
Таковы были силы обеих армий: неприятельской и нашей.
Первым пунктом, с которого началась эта вторая серьезная «борьба с луною», был Очаков.
Вся Европа обращала на него напряженное внимание.
Многие знатные иностранцы стремились туда, желая участвовать в деле, обещавшем отличие и славу.
Григорий Александрович между тем медлил.
— Зачем терять даром людей? Не хочу брать Очаков штурмом — пусть добровольно покорится мне, — говорил князь и в надежде близкой сдачи крепости не торопился с осадой.
Григория Александровича смущали, во–первых, преувеличенные слухи о минах, устроенных французскими инженерами, и он ожидал получения из Парижа верного плана крепости со всеми ее минными галереями, а во–вторых, и главным образом, он слишком дорожил жизнью солдат.
Крест и луна стояли друг против друга, не вступая в решительную борьбу.
Развязка, однако, была недалека.
Часть третья СРЕДИ СТЕПЕЙ
I ОЧАКОВ
роходили дни, недели, а осада Очакова не продвигалась вперед.
Лишь в половине августа 1788 года была заложена первая параллель на расстоянии версты от города, а к половине октября русские батареи приблизились к ретраншементам [11]не более 150 сажен.
Григорий Александрович был в нерешительности.
Происходило это, с одной стороны, оттого, что он нашел Очаков отлично защищенным.
Французские инженеры, вызванные султаном, употребили все свое в это время славное искусство, чтобы сделать крепость неуязвимой.
Она была, кроме того, окружена внешними сооружениями, которые могли служить укрепленным лагерем для целой армии.
Очаков имел фигуру четырехугольника, продолговатого и неправильного, примыкавшего одной стороной к Днепровскому лиману.
Эта сторона была прикрыта простой гладкой каменной стеной, а три другие обнесены валом, с сухим рвом и гласисом.
Впереди была воздвигнута линия редутов, а в углу, образуемом морем и лиманом, пятиугольный замок с очень толстыми стенами.
Осадные работы были чрезвычайно трудны вследствие песчаной и каменистой окрестной местности.
Турки поклялись держаться в крепости до последней крайности.
С другой стороны, причина медленности осады лежала в свойстве натуры светлейшего главнокомандующего.
Он был лично храбр и смел в составлении предначертаний, но когда приходилось их исполнять, то затруднения и заботы волновали его так сильно, что он не мог ни на что решиться.
Он сам сознавал это и зачастую говаривал:
— Меня не соблазнят победами, воинскими триумфами, когда я вижу, что они напрасны и гибельны. Солдаты не так дешевы, чтобы ими транжирить и швырять по–пустому… Упаси Бог тратить людей, я не кожесдиратель–людоед… Тысячи лягут даром… Да и полководец я не по своей воле, а по указу… не в моей это природе… Не могу видеть крови, ран, слышать стоны и вопли истерзанных, изуродованных людей… Гуманитет излишний несовместим с войною. Так‑то…
И он медлил и медлил отдать решительное приказание.
Все, между прочим, ожидали этого приказания с нетерпением.
Многие даже роптали на эту черепашью осаду.
Что таил в своем уме князь — не было известно никому.
Состояние его духа было, по обыкновению, переменным.
То он был в «Кане Галилейской», как называл он свои веселые дни, то «сидел на реках Вавилонских», как он образно именовал дни своей тяжелой хандры.
Чужая душа потемки. Душа светлейшего для всех его окружающих и даже самых близких была непроглядной ночью.
Григорий Александрович всегда тщательно скрывал свои планы и намерения и с этой целью даже, делая одно, говорил другое.
Во время этой бесконечно длящейся очаковской осады в Главную квартиру прибыл присланный австрийским императором военный уполномоченный, принц Карл Иосиф де Линь.
— Когда сдастся Очаков? — спросил он светлейшего, явившись к нему тотчас же по приезде в армию.
— Ах, Боже мой! — воскликнул Григорий Александрович. — В Очакове находятся восемнадцать тысяч гарнизона, а у меня столько нет и армии. Я во всем претерпеваю недостатки, я несчастнейший человек, если Бог мне не поможет!
— Как? — сказал удивленный де Линь. — А кинбурнская победа… отплытие флота… неужели все это ни к чему не послужит?.. Я скакал день и ночь. Меня уверяли, что вы уже начали осаду!
— Увы! — воскликнул Потемкин. — Дай Бог, чтобы сюда не пришли татары предать все огню и мечу. Бог спас меня — я никогда этого не забуду. Он дозволил, чтобы я собрал все войска, находившиеся за Бугом. Чудо, что до сих пор удержал за собою столько земли.
— Да где же татары? — допытывался де Линь.
— Везде, — отвечал князь, — в стороне Аккермана стоит сераскир с великим числом турок; двенадцать тысяч неприятелей находятся в Бендерах, Днестр охраняем, да шесть тысяч в Хотине.
Принц де Линь недоверчиво покачал головой и, убедившись из этой беседы, что от Григория Александровича ничего не узнаешь, переменил разговор.
— Вот, — сказал он, подавая князю пакет, — письмо императора, долженствующее служить планом всей кампании; оно содержит в себе ход военных действий. Смотря по обстоятельствам, вы можете сообщить их начальникам корпусов. Его величество поручил мне спросить вас, к чему вы намерены приступать.
Григории Александрович взял пакет.
— Не позже как завтра я дам вам непременно ответ.
Принц де Линь удалился.
Прошел день, другой, неделя, две, а ответа от Потемкина принц не получал.
Де Линь решился наконец напомнить князю об его обещании и наконец получил от него лаконичную записку:
«С Божьей помощью, я сделаю нападение на все, находящееся между Бугом и Днестром».
Послав этот ответ, Григорий Александрович позвал к себе войскового судью незадолго перед тем сформированного «войска верных черноморских казаков», уже известного нашим читателям Антона Васильевича Головатого.
— Головатов, как бы взять Березань?
Из укрепления Березань, построенного недалеко от Очакова, турки очень часто беспокоили вылазками нашу армию.
— Возьмем, ваша светлость! А чи, будет крест за то? — спросил прямо Головатый.
— Будет, будет, только возьми.
— Чуемо, ваша светлость, — сказал Антон Васильевич, поклонился и вышел.
Немедленно послал он разведать о положении Березани и узнал, что большая часть гарнизона вышла из укрепления для собирания камыша.
Головатый быстро посадил казаков на суда, пристал спокойно к берегу, без шума высадил отряд и без сопротивления овладел Березанью.
Затем, отпустив свои суда, он переодел казаков турками и выставил из них караулы.
Гарнизон возвратился и, ничего не подозревая, беспечно входил малыми отрядами в укрепление.
Казаки забирали их по частям.
Березань была взята.
Антон Васильевич явился с ее ключами к Потемкину.
— Кресту твоему поклоняемся, владыко! — громким голосом запел он, входя в ставку к светлейшему.
Он поклонился низко князю и положил к его ногам ключи Березани.
Объяснив, каким образом ему удалось исполнить порученное ему дело, он заключил свой рассказ той же церковной песнью:
— Кресту твоему поклоняемся, владыко!
— Получишь, получишь! — Воскликнул обрадованный Григорий Александрович, обнял Головатого и возложил на него орден Святого Георгия 4–го класса.
Принц де Линь остался недовольным скрытностью и ответом Потемкина.
Вскоре после получения им письма и взятия Березани он однажды в разговоре в присутствии Григория Александровича заметил, что хитрить в войне хорошо, но также необходима и личная храбрость полководца.
При этом принц привел пример личной храбрости австрийского императора Иосифа II, оказанной им в каком‑то сражении.
Григорий Александрович промолчал.
На другой день, надев парадный мундир, во всех орденах, окруженный блестящим штабом, князь отправился осматривать только что заложенный на берегу Черного моря редут, почти под самыми стенами Очакова.
Ядра и пули сыпались со всех сторон.
Находившиеся в свите князя генерал–майор Синельников и казак были смертельно ранены.
Казак испустил жалобный вопль.
— Что ты кричишь? — сказал Потемкин и продолжал хладнокровно распоряжаться работами.
Окружающие начали представлять ему опасность, которой он себя подвергает.
— Спросите принца де Линя, — отвечал с досадой князь, — ближе ли к неприятелю стоял при нем император Иосиф, а не то мы еще продвинемся вперед.
Больше всех осуждали князя за медленность осады иностранные вояжеры и эмигранты, кишмя кишевшие при Главной квартире.
Для того чтобы судить, какого сорта были эти иностранцы, расскажем следующий эпизод.
Известный французский генерал Лафайет прислал к принцу де Линю инженера Маролля, рекомендуя его за человека, способного управлять осадой крепости.
Де Линь отправился с ним к Потемкину.
Войдя в ставку князя, Маролль, не дожидаясь, чтобы его представили, спросил:
— Где же генерал?
— Вот он! — указал ему один из княжеских свитских.
Маролль фамильярно взял Григория Александровича за руку и сказал:
— Здравствуйте, генерал! Ну что у вас тут такое? Вы, кажется, хотите иметь Очаков?
— Кажется, так, — отвечал Потемкин.
— Ну, так мы его вам доставим, — продолжал Маролль. — Нет ли у вас здесь сочинения Вобана и Когорна? Не худо бы иметь также Реми и прочитать все то, что я несколько забыл или даже не так твердо знал, потому что, в сущности, я только инженер мостов и дорог.
Князь, бывший в эту минуту в хорошем расположении духа, расхохотался на нахальство француза и сказал:
— Вы лучше отдохните после дороги и не обременяйте себя чтением; ступайте в свою палатку, я прикажу вам принести туда обедать…
Казавшийся лентяем, Григорий Александрович Потемкин зорко следил за исполнением обязанностей, подчиненных ему, даже сравнительно мелких служащих.
Во время осады Очакова ночью, в сильную снеговую метель, князь сделал внезапно проверку и смотр траншейных работ и не нашел дежурного инженер–капитана, который, не ожидая главнокомандующего в такую погоду, оставил пост свой на время под наблюдением молодого офицера.
Кончив смотр и возвращаясь домой, Григорий Александрович встретил по дороге неисправного траншейного начальника.
— Кто ты такой? — спросил Потемкин.
— Я инженер–капитан Селиверстов.
— Через час ты им уже не будешь! — заметил князь и пошел далее.
Действительно, не прошло и часу, как капитан получил отставку и приказание удалиться из армии.
Строгость светлейшего, впрочем, не превышала меры.
Один из офицеров черноморского казачьего войска, имевший чин армейского секунд–майора, в чем‑то провинился.
— Головатый, пожури его по–своему, чтобы вперед этого не делал.
— Чуемо, наияснейший гетмане! — отвечал Антон Васильевич.
Головатый на другой день явился с рапортом к князю.
— Исполнили, ваша светлость.
— Что исполнили?
— Пожурили майора по–своему, как ваша светлость указали.
— Как же вы его пожурили; расскажи мне?
— А як пожурили? Прости, наияснейший гетмане. Положили да киями так ушкварили, что насилу встал.
— Как, майора!.. — закричал Григорий Александрович. — Как вы могли…
— Правда таки, — ответил Головатый, — що насилу смогли. Едва вчетвером повалили; не давался, однако справились. А що майор? Не майорство, а он виноват. Майорство при нем и осталось. Вы приказывает его пожурить: вот он теперь долго будет журиться, и я уверен, что за прежние шалости никогда уже не примется.
II ПЕРЕД ЛИЦОМ НЕПРИЯТЕЛЯ
В то время когда русская армия с нетерпением ждала решительного приказания идти на штурм Очаковской крепости и роптала на медленность и нерешительность вождя, когда сотни человеческих жизней гибли от стычек с неприятелем, делавшим частые вылазки, и особенно от развившихся в войсках болезней, главнокомандующий жил в Главной квартире, окруженный блестящей свитой и целой плеядой красавиц.
Около роскошно убранной ставки Григория Александровича каждый вечер гремел громадный оркестр под управлением Сарти, устраивались пиры и праздники, тянувшиеся непрерывно но целым неделям.
Волшебник Сарти, как называл его Потемкин, особенно угодил светлейшему исполнением кантаты собственного сочинения на слова: «Тебе, Бота хвалим», причем припев «свят, свят» сопровождался беглой пальбой из пушек.
В числе красавиц, гостивших в то время при Главной квартире, были княгиня Голицына, графиня Самойлова и жена двоюродного брата светлейшего, Прасковья Андреевна Гагарина.
В угоду своим дамам Григорий Александрович не жалел ничего.
Все малейшие их капризы исполнялись.
Для них он выписывал с особыми фельдъегерями разные диковинки: икру с Урала и Каспия, калужское тесто, трюфели из Периге, итальянские макароны из Милана и каплунов из Варшавы.
Узнав однажды, что два кавказских офицера, братья Кузьмины, отлично пляшут лезгинку, князь тотчас же их выписал из Екатеринодара с курьером.
Те прискакали, лихо отплясали перед его светлостью лезгинку и на другой же день были отпущены назад.
— Молодцы, потешили, спасибо! — поблагодарил братьев Потемкин.
— Офицеры народ лихой, на все руки… — заметил кто‑то. — Взять хоть, например, ваша светлость, вашего адъютанта Спечинского.
— Разве есть у меня такой? — спросил Григорий Александрович.
Надо заметить, что многие адъютанты только числились состоявшими при светлейшем князе, что считалось высокой честью, но в дело он не употреблял и даже некоторых совершенно не знал, ни в лицо, ни по фамилии.
— Спечинский числится в числе адъютантов вашей светлости, — поспешил объяснить находившийся тут же Попов.
— А–а… — протянул Григорий Александрович. — Ну, так что же этот… как его… — обратился князь к говорившему.
— Спечинский, ваша светлость…
— Ну, да, Спечинский.
— Да, он обладает необыкновенной памятью, знает наизусть все святцы и может без ошибки перечислить имена святых на каждый день.
— Что ты, это, братец, интересно… Василий Степанович, выпиши‑ка его сюда… Он где?
— В Москве, ваша светлость.
— Пошли в Москву… выдай на дорогу деньги, пусть приедет… это любопытно…
Спечинский принял приглашение с восторгом, вообразив, что Потемкин нуждается в нем для какого‑нибудь государственного дела, обещал многим своим знакомым протекцию и милости, наскоро собравшись, проскакал без отдыха несколько суток в курьерской тележке и прибыл под Очаков.
Это было рано утром.
Светлейший еще был в постели.
Спечинский тотчас же был потребован к нему.
Григорий Александрович, ожидая выписанного им адъютанта, держал всегда при себе святцы.
Они лежали на столе у его кровати.
— Правда ли, — спросил князь, окинув вошедшего равнодушным взглядом, — что вы знаете наизусть все святцы?
— Так точно, ваша светлость.
— Какого же святого празднуется восемнадцатого мая? — продолжал Григорий Александрович, открыв наугад святцы.
— Мученика Феодота, вата светлость.
— Точно, а двадцать девятого сентября?
— Преподобного Кириака, ваша светлость.
— Точно. А пятого февраля?
— Мученицы Агафии.
— Верно, — сказал князь и закрыл святцы. — Благодарю, что потрудились приехать. Можете отправиться обратно в Москву хоть сегодня же.
Разочарованный адъютант печальный поехал восвояси, хотя и получил хорошую денежную награду.
Надо заметить, что он приехал не вовремя.
Светлейший в это время готовился, говоря его же образным языком, «сидеть на реках Вавилонских».
Среди праздников и разного рода чудачеств проводил время осады главнокомандующий, казалось забывая о деле, а между тем часто, в самом разгаре пира, делал распоряжения, поражавшие всех своею обдуманностью и знанием расположения предводимых им войск.
Только однажды из самолюбия и желая похвастаться исполнительностью своей армии князь отдал необдуманное приказание.
Турки при содействии служивших у них французских инженеров вместо взятой Головатым Березани в одну ночь построили впереди Очакова отдельный редут.
Это укрепление, выдававшееся на довольно значительное расстояние от крепости, стало сильно вредить нашим осадным работам и батареям.
Потемкин в сопровождении своего блестящего штаба и иностранных гостей отправился лично осмотреть этот выросший вдруг как из‑под земли редут.
— Однако укрепление это построено на славу, взять его будет трудно и на это надо будет потратить немало времени… — заметил принц Нассау–Зиген.
— Ваша правда, — отвечал князь, — но через два–три часа его не будет.
Затем, обратясь к генерал–поручику Павлу Сергеевичу Потемкину, Григорий Александрович приказал ему поручить одному из храбрейших штаб–офицеров немедленно же взять редут с батальоном гренадер, а в помощь им назначить пять батальонов пехоты и несколько сотен кавалерии.
Штаб–офицер, получив приказание, объяснил невозможность исполнить его днем и просил или отложить его до вечера, или дать солдатам фашиннику для закидки рва и штурмовые лестницы, в противном случае, говорил он, люди погибнут совершенно даром.
Павел Сергеевич оценил справедливость этих доводов и сообщил князю о разговоре своем с офицером, равно и о том, что при армии нет фашинника и лестниц.
Григорий Александрович сам очень хорошо видел, что, не подумав, без расчета, выпустил слово, но отменить его значило показать пустую похвальбу.
Самолюбие князя было задето, и он, внутренне досадуя на себя, сказал с наружным равнодушием:
— Хоть тресни, да полезай.
Слова эти буквально были переданы штаб–офицеру.
Последний собрал свой батальон, велел гренадерам стать в ружье, сомкнул их в колонну и, сообщив о приказании главнокомандующего, громко сказал:
— Итак, товарищи, надо нам помолиться Господу Богу и его святому угоднику Николаю Чудотворцу, попрося помощи свыше. На колени!
Солдаты упали на колени и стали усердно молиться.
Молился на коленях и батальонный командир.
Наконец он встал. Встали и солдаты.
— Теперь с Богом, вперед. Помните, братцы, по–суворовски, точно так, как он, отец наш, учил нас.
Осенив себя крестом и взяв ружья наперевес, батальон, обреченный на верную смерть, быстро направился к турецкому укреплению, твердо решив или взять его, или погибнуть.
Григорий Александрович молча следил за гренадерами, и лишь только они приблизились к редуту, велел двинуть беглым шагом приготовленные к подкреплению их войска с полевой артиллерией.
Турки в недоумения смотрели на происходившее и, наконец догадавшись, открыли убийственный огонь.
Гренадеры шли вперед, несмотря на осыпавшие их ядра и пули, и шагов за тридцать перед рвом остановились на мгновенье.
Три роты сделали залп из ружей в турок, усыпавших вал, и с криками «ура» бросились в ров, а оттуда полезли на укрепление.
Четвертая, рассыпавшись по краю рва, била пулями по головам неприятелей.
Произошла ужасная схватка, и минут через десять наши солдаты ворвались в укрепление, наповал поражая отчаянно защищавшихся турок.
Укрепление было взято, гарнизон его переколот, но подвиг этот стоил потери трехсот лучших солдат.
Иностранцы диву дались перед геройством русского войска.
Светлейший главнокомандующий торжествовал и велел тотчас же представить к наградам уцелевших храбрецов.
Прошло несколько дней.
Штаб–офицер, взявший укрепление, был приглашен к столу князя — честь, которой удостаивались немногие из офицеров в его чине.
За обедом Григорий Александрович завел разговор о заселении Новороссийского края и вдруг, обратясь к штаб–офицеру, спросил его:
— Вы которой губернии?
— Слободско–Украинской, ваша светлость.
— Имеете именье?
— Отец мой имеет.
— И хозяйственные заведения есть?
— Есть, ваша светлость.
— А какие?
— Посевы, сады, заводы винокуренные, конские и рогатый скот. Есть овцы и пчелы.
— А пчелы ваши лесные или в хозяйстве разведенные?
— Домашние, ваша светлость.
— Э… домашние ленивы и крупнее лесных.
— Точно так, ваша светлость, прекрупные.
— А как?
— Да с майского большого жука будут.
Потемкин улыбнулся.
— И!.. А ульи какие же?
— Ульи и летки обыкновенные, ваша светлость.
— Да как же такие ваши пчелы лазят в летки?
— Ничего нет мудреного, ваша светлость, у нас так: хоть тресни, да полезай…
Григорий Александрович закусил губу и прекратил разговор.
Он понял, что штаб–офицер намекает на его необдуманное приказание штурмовать среди белого дня и без лестниц турецкое укрепление.
Вскоре этот штаб–офицер со своим батальоном был удален из‑под Очакова под предлогом усиления корпуса Суворова, охранявшего Херсон и Кинбурн.
Осада между тем все тянулась.
Но наконец дальше медлить было нельзя.
В Петербурге недоброжелатели князя громко говорили о его промахах и сама императрица высказывала неудовольствие.
Надо было решиться на штурм Очакова, и Потемкин решился.
Это было 6 декабря 1788 года.
Стоял сильный мороз, и кровь, лившаяся из ран, моментально застывала.
Так говорит преданье.
Начался приступ.
Турки сопротивлялись с отчаянным упорством, но ничем не могли удержать победоносного русского солдата. Битва была страшная и кровопролитная.
В недалеком расстоянии от места сражения на батарее сидел, подперев голову рукой, генерал с одной звездой на груди.
Тревожное ожидание отражалось на его лице.
Он обращал свой унылый взор то к небу, то к месту битвы.
Ядра со страшным свистом летали вокруг него, в нескольких шагах от него лопнула граната и осыпала его землею, но он даже не двинулся с места, а продолжал, вздыхая, произносить:
— Господи, помилуй! Господи, помилуй!
Вдруг взор его, как бы прикованный, остановился на одном пункте… Русские мундиры показались на городских валах.
— Ура! Ура! — раскатилось вдали.
От валов до бастионов был один шаг, русские овладели ими.
Очаков был взят.
— Тебе, Бога хвалим! — громким голосом воскликнул генерал и осенил себя истовым крестным знамением.
Генерал этот был — сам Потемкин.
Он тотчас же отправил донесение императрице и вскоре получил орден Святого великомученика и победоносца Георгия первого класса и шпагу, украшенную алмазами, в шестьдесят тысяч рублей.
Все офицеры, бывшие при взятии Очакова, получили золотые кресты, а нижние чины — серебряные медали на Георгиевской орденской ленте.
В числе отчаянно дравшихся под стенами Очакова был и наш знакомец — Щегловский, уже ранее пожалованный золотой саблей и капитанским чином за храбрость и орденом Святого Георгия за взятие в плен турецкого паши.
За долгое сопротивление город был предан на три дня в добычу победителям.
Десятка два солдат от отрада Щегловского возвратились к нему с мешками золота и, поощренные удачей, отправились снова на поиски.
Несколько раз возвращались они с сокровищами, но раз пошли и не вернулись более.
Василий Романович должен был вскоре выступить, взять сокровища не было возможности, да и была опасно.
Завалив землянку с серебром и золотом, он покинул Очаков.
Он уже более не возвращался туда никогда, и неизвестно, сохранился ли этот скрытый им клад.
К фельдмаршалу в числе пленных был приведен очаковский комендант сераскир Гусейн–паша.
Потемкин гневно сказал ему:
— Твоему упорству мы обязаны этим кровопролитием.
— Оставь напрасные упреки, — отвечал Гусейн, — я исполнил свой долг, как ты твой, — судьба решила дело.
Взятие Очакова произвело потрясающее впечатление не только в Петербурге и Константинополе, но и во всей Европе.
III ДОЛГ ПЛАТЕЖОМ КРАСЕН
Очаков пал.
Добыча была громадна. На долю Потемкина, между прочим, достался изумруд величиной с куриное яйцо.
Он послал его в подарок государыне.
Как мы уже говорили, Григорий Александрович сам сознавал необходимость решительных действий и, желая поднести ключи Очакова императрице в день ее тезоименитства, назначил днем штурма 24 ноября.
К этому дню, однако, не успели окончить все приготовления, и штурм был отложен до 6 декабря.
Войска узнали о намерении главнокомандующего с восторгом. Солдаты, встречаясь между собой, обнимались и поздравляли друг друга.
Интересен приказ, отданный князем по армии 1 декабря 1788 года:
«Истоща все способы к преодолению упорства неприятельского и преклонения его к сдаче осажденной нами крепости, принужденным я себя нахожу употребить наконец последние меры. Я решился брать ее приступом и на сих днях, с помощью Божиею, приведу оный в действо. Представляя себе торжество и неустрашимость войска российского и противуполагая оным крайность, в которой находится гарнизон очаковский, весьма умалившийся от погибших во время осады, изнуренный болезнями и терпящий нужду, ожидаю я с полной надеждой благополучного успеха. Я ласкаюсь увидеть тут отличные опыты похвального рвения, с которым всякий воин устремится исполнить свой долг. Таковым подвигом, распространяя славу оружия российского, учиним мы себя достойными названия, которое имеет армия, мною предводимая; мне же останется только хвалиться честью, что я имею начальствовать столь храбрым воинством. Да дарует Всевышний благополучное окончание».
Приступ продолжался всего час с четвертью.
Мы уже знаем, что русские солдаты не щадили никого, кроме женщин и детей, озлобленные долгим ожиданием и отчаянным сопротивлением.
Наполненный трупами Очаков представлял страшное зрелище.
Не было возможности похоронить их, а потому трупы, вывезенные на лиман, оставались там до весны, когда и стали добычей подводного царства Черного моря.
Трофеи победителей состояли из 310 пушек и мортир и 180 знамен.
Число пленных простиралось до 283 офицеров и 4000 солдат.
Число убитых с неприятельской стороны превышало 10000 человек.
С нашей стороны было убито и ранено 150 штаб- и обер–офицеров и свыше 3000 нижних чинов.
Взятие Очакова было для России тем важно, что оно открыло для нее свободное плавание по всему Днепру, обеспечило плавание по Черному морю и обуздало турок и татар, утвердив владычество России в Малой Татарии и в Крыму.
Взятие этой крепости, кроме того, способствовало утверждению спокойствия в этом крае и даровало средство к приведению его посредством земледелия и торговли в цветущее состояние.
Действия Украинской армии были сравнительно ничтожны. Румянцев, недовольный предпочтением, оказываемым Потемкину, провел все лето в бесплодных переходах по Молдавии и ограничился сдачей Хотина и занятием Ясс.
Австрийцы потерпели во всех своих предприятиях полнейшую неудачу, император Иосиф, лично предводительствовавший армией, был разбит турками и, возвратясь в столицу, помышлял уже не о победах, а о защите собственных владений.
Григорий Александрович лично распоряжался расстановкой армии по зимним квартирам в Очакове и Молдавии, а конницы за Днестром.
В это время небольшой отряд турецких пленных был отправлен под присмотром турецкого чиновника в Яссы.
Дорогой пленники, по наущению чиновника, бросились на сопровождавший их слабый конвой казаков, разбили его и пустились в бегство, но вскоре были пойманы и приведены в Главную квартиру.
Потемкин потребовал к себе турецкого чиновника и сделал ему грозный выговор.
— Как бы поступил верховный визирь с русскими, если бы они сделали то же самое, что и ты? — спросил он.
— Верховный наш начальник велел бы отрубить голову русскому чиновнику, — трепещущим голосом отвечал турок.
— А я… я прощаю тебя… — сказал Григорий Александрович.
Турок упал к ногам великодушного главнокомандующего.
Не только отдав все распоряжения, но и убедившись в их точном исполнении, светлейший отправился в Петербург, куда призывала его императрица, обрадованная взятием Очакова оправдавшим ее надежды на «друга и ученика».
Он пристыдил своих врагов.
«За ушки взяв обеими руками, — писала государыня Григорию Александровичу, — мысленно целую тебя, друг мой сердечный… Всем ты рты закрыл, и сим благополучным случаем доставляется тебе еще раз случай оказать великодушие ложно и ветрено тебя осуждающим».
Екатерина вызывала его в Петербург для совещания о плане будущей кампании и о делах со Швецией, которая, пользуясь затруднениями России на юге, объявила нам тоже войну.
Светлейший по дороге заехал в Херсон и там прожил около двух недель для распоряжений по части кораблестроения.
В числе многочисленной свиты, сопровождавшей победителя, были знакомый наш Василий Романович Щегловский я молодой поставщик армии первой гильдии купец Яковкин.
Щегловский лично испросил у князя позволение ехать с ним в Петербург для свидания с родными.
— С родными ли?.. — подозрительно спросил его Потемкин.
— Только с родными, Ваша светлость, — отвечал Василий Романович, делая ударение на первом слове.
— Хорошо, поезжай, но смотри, только с родными…
— Слово офицера, ваша светлость… — сказал князь.
— Хорошо, говорю, поезжай, но если…
Светлейший не договорил и вышел из приемной.
История другого спутника князя, Яковкина, является чрезвычайно интересной.
Его отец был тот самый петербургский торговец, который, если не забыл читатель, был «кормилец гвардии», отпускавший в долг солдатам и офицерам незатейливые товары своей лавочки.
В числе его должников был, как мы знаем, в молодости и Потемкин.
Вскоре после отъезда Потемкина в Новороссийский край для приготовления к встрече государыни старый Яковкин, не получая уплаты от множества должников, совершенно проторговался и обанкротился.
Заимодавцы, рассмотрев его счеты, признали его должником несостоятельным и посадили в тюрьму.
Сын Яковкина — юноша восемнадцати лет, предвидя беду, с согласия своего отца скрылся, имея в кармане всего семнадцать рублей.
Тщетно кредиторы отыскивали его — он проводил где день, где ночь и потом приютился у раскольников, в одной из белорусских губерний.
Вследствие просьбы кредиторов, правительство присудило отдать старика Яковкина, еще стройного и ловкого, в солдаты. Ему забрили лоб и определили на службу в полевые полки.
В то время когда отец тянул тяжелую солдатскую лямку, сыну его часто приходило на мысль явиться к светлейшему князю и получить с него должок, простиравшийся до пятисот рублей.
«Но как осмелиться беспокоить могущественнейшего из вельмож? Да и допустят ли к нему?» — раздумывал молодой Яковкин.
Однако до Яковкина стали доходить слухи, что светлейший очень милостив к простому народу и солдатам, допускает их к себе без замедления и что только одни высшие чины не смеют войти к нему без доклада, а простого человека адъютанты берут за руку и прямо вводят к князю.
Слухи эти хотя и были преувеличены, но заключали в себе значительную долю правды.
Они ободрили Яковкина, он решился и, помолившись Богу, пустился пешком в армию к Очакову.
Здесь он отыскал знакомого маркитанта, расспросил его, когда, как и через кого можно достигнуть до светлейшего, и, подучив подробное наставление, явился в княжескую ставку и, доложив о себе адъютанту, был приведен к Григорию Александровичу.
— Кто такой? Что тебе нужно от меня?
Яковкин задрожал. Сердце его замерло, он упал на колени и трепещущим голосом сказал:
— Я Яковкин, сын бывшего мелочного торговца в Петербурге.
Потемкин задумался.
Это имя, этот человек напомнили ему былое, давно прошедшее.
Опустив голову, он, по обыкновению, грыз ногти, а потом вдруг весело улыбнулся и сказал:
— А, теперь только я вспомнил тебя — тогда еще мальчика, и отца твоего — честного человека. Встань! Ну, как поживает твой старик?
— Давно не видал его, ваша светлость, он отдан в военную службу по приговору заимодавцем.
Яковкин рассказал все, как было.
— Вы глупы оба, — заметил князь, — почему он не писал ко мне? Почему ты тогда же не явился? А!.. В каком полку твой старик?
— В Нижегородском пехотном полку служит солдатом, ваша светлость. А я, отец ты мой, не смел явиться к тебе, опасался… Да наконец услышал от одного проезжего офицера, что ты, государь милостивый, принимаешь милостиво всех нас, бедных, решился и вот пришел к тебе, отец мой! Не оставь и меня, и отца моего…
Яковкин снова упал на колени перед светлейшим.
— Встань! Встань! — сказал князь и, обратясь к адъютанту, добавил: — Баур! Возьми его на свои руки! Одень и все, все ему. Да, кажется, я должен отцу твоему, Яковкин?
— Так, ваша светлость, было малое толико!
— А сколько? Ведь я согрешил, забыл и что должен‑то был.
— Да четыреста девяносто пять рублей двадцать одну копейку с деньгой.
— Ну, хорошо. Ступай теперь. После увидимся.
Яковкин опять бросился в ноги князю и со слезами благодарил его.
Через несколько дней Яковкин был вымыт, выхолен и одет щегольски в кафтан из тонкого сукна, подпоясан шелковым кушаком, в козловых сапогах с напуском и рубашке тонкого александрийского полотна с косым, обложенным позументом [12], воротом, на котором блестела золотая запонка с крупным бриллиантом.
В таком виде он был представлен князю Бауром.
— А, господин Яковкин, здравствуй! — весело встретил его Потемкин. — Да ты сделался молодцом.
Яковкин упал на колени.
— Ваша светлость, да наградит же вас Господь Бог! От милости твоей я не знаю, жив ли я или мертвый? Вот третий день я как во сне, живу словно в раю. О, спасибо же вам, отец родной!
Князь был в духе и разговорился с молодым человеком.
Узнав, что он умеет хорошо читать и писать, знает арифметику и мастерски считает на счетах, Григорий Александрович спросил его:
— Скажи‑ка мне, Яковкин, не хочешь ли ты быть поставщиком всего нужного в полевые лазареты для больных моей армии?
— Ваша светлость, да у меня не только лошади с повозкой, но и кнутовища нет, а рад бы душой служить вашей светлости, — ответил Яковкин, не поняв вопроса.
— Не то, — возразил князь, — ты не понял, Василий Степанович, — обратился он к Попову, — старого поставщика долой, расчесть, он испортился, а Яковкина на его место, он первой гильдии купец здешней губернии. Растолкуй ему, в чем дело. Для первых оборотов дать ему денег взаймы, дать и все способы. Все бумаги, приготовить и представить ко мне. Ну, Яковкин! Теперь ты главный подрядчик. Поздравляю!.. Э, Василий Степанович! А что о старике?
— Писано, ваша светлость, — отвечал Попов, — к полковому командиру, чтобы он произвел его в сержанты, имел к нему особенное внимание и об исполнении донес вашей светлости.
— Хорошо, — сказал Григорий Александрович, — да не забудь: через шесть месяцев он аудитор с заслугой на подпоручий чин. Вот, — продолжал князь, обращаясь к Яковкину, — и отец твой сержант, а после будет и офицер.
Яковкин залился слезами и осыпал поцелуями ноги князя.
Он честно повел порученное ему дело и вскоре разбогател с легкой руки светлейшего.
Его‑то и вез с собою в Петербург Григорий Александрович на побывку и для свиданья с отцом, которого князь перевел в петербургский гарнизон.
IV ТРИУМФ
Едва ли триумфы полководцев классической древности были более великолепны, нежели триумф светлейшего князя Григория Александровича Потемкина при его возвращении в Петербург после взятия Очакова.
В пространственном отношении он, несомненно, превосходил их всех, так как это было триумфальное шествие по всей России…….
Во всех попутных городах в ожидании светлейшего триумфатора звонили в колокола, стреляли из пушек, зажигали роскошные иллюминации.
Жители и все власти, начиная с губернатора до мелких чиновников, выходили далеко на дорогу для встречи князя и с трепетом ждали этого земного полубога.
Григорий Александрович, одетый в дорожный, но роскошный костюм: в бархатных широких сапогах, в венгерке, крытой малиновым бархатом, с собольей опушкой, в большой шубе, крытой шелком, с белой шалью вокруг шеи и дорогой собольей шапкой на голове, проходил мимо этой раззолоченной раболепной толпы, как Голиаф [47] между пигмеями, часто даже кивком головы не отвечая чуть не на земные поклоны.
Его, пресыщенного и наградами, и почестями, не радовали эти торжества встречи, эти знаки поклонения, эти доказательства его могущества и власти.
Совершенные им дела он не считал своими — он их исключительно приписывал Богу.
Князь, как мы уже имели случай заметить, был очень набожен и не приступал ни к какому делу без молитвы. Любимым предметом его бесед было богословие, которое он изучил очень основательно.
Великолепные храмы, построенные им на Юге России, и богатые вклады, пожертвованные разным монастырям, до сих пор служат памятниками его набожности.
Относя все свои успехи и удачи Промыслу Божию, он видел в них лишь проявление особенной к себе милости и благоволения Господа.
Ещё недавно, в бытность князя в Новогеоргиевске было получено известие о первой морской победе принца Нассау–Зигена над турками:
— Это произошло по воле Божьей, — сказал Григорий Александрович окружающим. — Посмотрите на эту церковь, я соорудил ее во имя Святого Георгия, моего покровителя, и сражение под Кинбурном случилось на другой день его праздника.
Вскоре принц Нассау прислал донесение еще о двух новых победах своих.
— Не правду ли я говорил, — радостно воскликнул князь, — что Господь меня не оставляет. Вот еще доказательство тому. Я избалованное дитя небес.
Сообщая Суворову об удачных морских действиях принца Нассау, Григорий Александрович писал:
«Мой друг сердечный, любезный друг! Лодки бьют корабли, пушки заграждают течение реки. Христос посреди нас! Боже! Дай найти Тебя в Очакове!»
Во время осады Очакова князь однажды сказал принцу де Линю:
— Не хотите ли посмотреть пробу новых мортир. Я приказал приехать за мной шлюпке, чтобы отвезти на корабль, где будут производиться опыты.
Де Линь согласился, и они отправились на лиман, но, к удивлению, не нашли там ни одной лодки.
Приказание князя почему‑то не было исполнено.
Делать нечего, пришлось остаться на берегу и смотреть издали на опыты.
Они удались прекрасно.
В эту минуту появилось несколько неприятельских судов.
На корабле поспешно начали готовиться к обороне, но второпях забыли о порохе, насыпанном на палубе и покрытом только парусом.
При первых же выстрелах порох вспыхнул и корабль вместе с экипажем взлетел на воздух на глазах Потемкина и де Линя.
— То же самое воспоследовало бы и с нами, — уверенно, с набожным видом сказал он принцу, — если бы Небо не оказывало мне особенной милости и не пеклось денно и нощно о моем сохранении.
Таким безусловно и глубоко верующим человеком был князь Григорий Александрович.
В столицу Потемкин прибыл вечером 4 февраля 1789 года. Дорога от Царского Села до Петербурга была роскошно иллюминирована. Иллюминация, в ожидании князя, горела по вечерам целую неделю. Мраморные ворота были украшены арматурами и стихами из оды Петрова «На покорение Очакова», выбранными самой императрицей:
Ты с блеском внидешь в храм Софии!Екатерина была совершенно уверена в дальнейших успехах Потемкина.
— Он будет в нынешнем году в Царь–граде! — сказала она Храповицкому [48] после получения известия о падении Очакова.
О, пали, пали — с звуком, с треском Пешец и всадник, конь и флот! И сам — со громким верным плеском Очаков — силы их оплот Расторглись крепки днесь заклепны. Сам Буг и Днепр хвалу рекут, Струи Днепра великолепны Шумнее в море потекут.Несметные толпы ликующего народа сопровождали торжественный поезд победителя до самого Петербурга.
Григорий Александрович остановился в Эрмитаже.
Мысль создать Эрмитаж явилась у государыни совершенно случайно.
В 1766 году, проходя через кладовую Зимнего дворца, в комнате верхнего этажа императрица нечаянно обратила внимание на большую картину, изображающую «Снятие со Креста».
Картина эта после кончины императрицы Елизаветы была перенесена сюда из ее комнаты.
Екатерина долго любовалась ею, и здесь у нее родилась мысль завести у себя картинную галерею.
Вскоре она повелела собрать все лучшие картины, находившиеся в других дворцах, а также приказала своим министрам и агентам при иностранных дворах скупать за границей хорошие картины и присылать к ней.
Таким образом были приобретены в течение нескольких лет известные богатые картинные коллекции принца Конде, графов Брюля и Бодуэна, берлинского купца Гоцковского, лорда Гаугтона и еще много других.
Кроме покупок императрица заказала лучшим художникам снять копию с ложи Рафаэля [49].
К собранию картин императрица присоединила коллекцию античных мраморов, приобретенных в Риме, купила также все мраморные статуи у известного в то время мецената Ив. Ив. Шувалова; затем государыня приобрела у принца Орлеанского богатейшую коллекцию разных камней, античных гемм и стала покупать найденные в раскопках древности: монеты, кубки, оружие и прочее.
Положив основание художественной части Эрмитажа, государыня избрала его местом отдохновения в часы, свободные от государственных занятий.
Здесь она делила свой досуг в беседе с Дидро, Гриммом, Сегюром, принцем де Линь, Потемкиным, Шуваловым, Строгановым и многими другими остроумнейшими людьми своего времени.
Эрмитажем, собственно, называлась уединенная комната, где теперь хранятся эскизы и рисунки Рафаэля и других великих художников.
Она‑то и дала имя всему зданию.
Из этой комнаты был выход в так называемую «Алмазную комнату», в которой по приказанию императрицы были собраны из всех дворцов и кладовых и из московской Оружейной палаты разные редкости из финифти и филиграна, агата, яшмы и других драгоценных камней.
Тут поместили все домашние уборы русских царей и бывшие у них в употреблении вещи: часы, табакерки, кувшины, зеркала, бокалы, ножи, вилки, цепочки, солонки, чайные приборы, перья, букеты.
Здесь хранились, между прочим, филигранные туалеты царевны Софьи Алексеевны и царицы Евдокии Лукьяновны; хрустальный кубок императрицы Анны Иоанновны; серебряная пудреница Елизаветы Петровны; золотая финифтяная чарочка царя Михаила Федоровича; часы, служившие шагомером царю Алексею Михайловичу; модель скромного домика, в котором обитал Петр Великий в Саардаме; кукла, одетая по–голландски — копия с хозяйки этого домика; изображения Полтавской битвы и морского сражения при Гангуте, высеченные резцом Петра; табакерки, игольник и наперсток работы Екатерины.
Впоследствии эта достопримечательности были расставлены по галереям Эрмитажа.
Первою из этих галерей считалась та, которая примыкала к южной части висячего сада.
Все три галереи были со сводами и имели около трех сажен ширины и четыре вышины.
Окна выходили только в сад.
Из первой галереи выстроен в своде переход через переулок в придворную церковь Зимнего дворца.
Вторая галерея, западная, примыкала к застройке флигеля, через который государыня из внутренних покоев ходила в Эрмитаж.
По обеим сторонам дверей находились вазы из белого прозрачного мрамора с барельефами, на подножках цветного мрамора, в четыре фута [13]вышины.
Подле них стояли два женских портрета в восточных нарядах, в подвижных рамах.
Они были сделаны на императорской шпалерной фабрике.
В третьей, восточной, галерее были еще такие же две вазы.
В последней комнате все стены и промежутки между окон были покрыты картинами.
Окруженный с трех сторон галереями, а с северной залом Эрмитажа, висячий сад имел вид продолговатого четырехугольника около двадцати пяти сажен длины и двенадцати сажен ширины.
Своды были покрыты землей на три фута, так что сад имел такую же вышину, как пол в галереях.
Сад был покрыт дерном, а между роскошными рядами прекрасных березок шли дорожки, посыпанные песком.
В конце каждой из них стояли статуи из белого мрамора работы Фальконе на подножьях из дикого камня.
В северной части сада была устроена высокая оранжерея с галереей вверху.
В эхом зимнем саду содержалось множество попугаев и редких птиц, обезьян, морских свинок, кроликов и других заморских и наших зверьков.
От галереи, с восточной стороны, шли комнаты, в одной из которых стоял бюст Вольтера в натуральную величину из красноватого мрамора, на столбе из дикого камня.
В прилегающих к этим и другим комнатам стояло еще несколько бюстов Вольтера: один из фарфора, другой из бронзы, сделанные с оригинала Гудоном.
Все эти комнаты были украшены бронзовыми группами из жизни Древней Греции и Рима.
Подле угольной комнаты к оранжерее находился зал, вместо стены с одной стороны были громадные окна в сад; рядом с залом была столовая комната.
Пол здесь состоял из двух квадратов, которые вынимались, и из них поднимались и опускались посредством особого механизма два накрытых стола на шесть приборов.
Императрица здесь обедала без присутствия слуг.
В этой комнате стояли два бюста работы Шубина: графа Румянцева и графа Шереметева [50].
Из этой комнаты шла арка ко второму дворцу Эрмитажа.
В первой овальной зале этого дворца со сводами и высокой галереей, поддерживаемой тринадцатью столбами, никаких украшений не было.
Висели только два рисунка с изображением цветов, писанные великой княгинею Марией Федоровной [51], и несколько географических карт.
В небольшой угловой комнате за этим залом сохранялся токарный станок Петра Великого и разные выточенные им работы из слоновой кости.
Рядом, в овальной комнате, стоял большой бильярд и маленькая «фортуна».
Стены этой комнаты были увешаны картинами.
В небольшой комнате, «диванной», рядом с бильярдной, стоял драгоценный столик из разноцветных камней, а в углах бюсты адмиралов: гр. А. Г. Орлова и В. Я. Чичагова.
В соседней комнате находились две драгоценные вазы: одна из стекла аметистового цвета, а другая фарфоровая, с тонкой живописью.
Тут же было одно из первых и древнейших фортепьяно с флейтами.
В комнате рядом помещались две мраморные группы и большой фарфоровый сосуд на круглом пьедестале, в четыре фута вышины, из голубого состава, работы Кенига.
В следующем, полукруглом зале находилось изображение римских императоров Иосифа и Леопольда и бюст князя Потемкина–Таврического.
Уборная императрицы кроме обыкновенной мебели имела следующие редкости: играющие часы работы Рентгена, бюсты Цицерона и Вольтера, античное изображение Дианы с собакой из слоновой кости, античный стол, горку из уральских драгоценных камней с каскадами из аквамаринов.
В следующем, большом зале висело шесть хрустальных люстр и были расположены разные китайские редкости.
Первая комната, на восточной стороне, по каналу, вела к лестнице главного входа в Эрмитаж, сделанной из одноцветного камня; напротив нее был переход через канал в придворный театр.
В комнате перед проходом построен был греческий храм, в котором стояло изображение из мрамору «Амур и Психея».
Далее, во всю длину по каналу, шли «ложи Рафаэля», расписанные фресками.
Затем следовали кабинеты минералогические и императорская картинная галерея и скульптурных и античных мраморов [14].
Таков был Эрмитаж при его основательнице, императрице Екатерине.
Потемкину было отведено помещение во втором дворце.
Императрица, желая особенно почтить его, предупредила его представление и сама первая посетила его.
Своеручно возложила она на князя орден Святого Александра Невского, прикрепленный к драгоценному солитеру [15], и подарила сто тысяч рублей.
Через несколько дней, при утверждении доклада о наградах за очаковский штурм, государыня приказала выбить медаль с изображением князя и пожаловала ему, «в вящее доказательство своей справедливости к благоразумному предводительствованию им Екатеринославской армией», фельдмаршальский жезл, украшенный лаврами и алмазами, и золотую шпагу, тоже с алмазами и с надписью: «Командующему Екатеринославскою сухопутною и морского силою, успехами увенчанному».
Шпага была поднесена Григорию Александровичу на большом золотом блюде, имевшем надпись: «Командующему Екатеринославскою сухопутною и морскою силою и строителю военных судов».
При дворе и у вельмож начались балы и праздники. Все наперерыв старались представлять зрелища, которыми можно было бы польстить честолюбию светлейшего фельдмаршала.
Главнейшие подвиги его, а особенно очаковский приступ, были представлены в танцах, музыке и фейерверках.
Все искусства соединились для прославления подвигов победоносного полководца.
Потемкин снова совершенно заслонил своей колоссальной фигурой мелкую придворную толпу, которая буквально пресмыкалась у его ног.
V СМОТРИТЕЛЬ ПАМЯТНИКА
Снова разной формы и цвета экипажи стали запружать каждый день в приемные часы светлейшего Миллионную улицу.
Снова массивные двери дворца то и дело отворялись, впуская всякого рода и звания людей, имевших надобность во властном вельможе.
А надобность, эту имели очень многие.
Иные ехали благодарить за оказанное покровительство, другие искали заступничества сильной руки Потемкина, те надеялись получить теплое местечко, а те шли на горячую головомойку.
Большинство же торчало в его приемной лишь для того, чтобы обратить на себя взимание случайного человека, выказать ему лицемерное почтение, принести, дань далеко не искреннего уважения, преклониться кумиру со злобной завистью.
Григорий Александрович хорошо знал настроение большинства этой низкопоклонничающей знати, которая еще так недавно старалась обнести его перед государыней всевозможной клеветой, а теперь ползала перед ним в прахе и тем же подлым языком готова была лизать его ноги, а потому и не очень церемонился со своими гостями, заставляя их по целым часам дожидаться в его приемной и по неделям ловить его взгляд.
В один из таких дней, в самый разгар княжеского приема, к роскошному подъезду дворца, робко озираясь, нерешительной походкой подошел дряхлый старик с косичкою, выглядывавшей из‑под порыжевшей шляпы духовного фасона, в нагольном полушубке, сильно потертом, и с высокой палкой в руках, одетых в рукавицы.
Обут старик был в валенки, обшитые кожей, сильно пообившеюся.
В подъезде то и дело сновали разодетые сановники и военные генералы, а отворявший дверь швейцар в расшитой золотом ливрее показался пришедшему важнее и строже всех этих приезжающих.
Старик остановился в сторонке и растерянным, боязливым взглядом стал смотреть на роскошные двери, охраняемые таким знатным господином, изредка своими подслеповатыми, слезящимися глазами решаясь взглянуть на последнего.
Седенькая, жиденькая бородка старичка мерно покачивалась, указывая на нерешительное раздумье ее обладателя.
С час времени простоял старик неподвижно, пока наконец не обратил на себя внимания важного на вид, но добродушного швейцара.
— Ты чего, дедушка, тут на ветру мерзнешь, ходь сюда, в подъезд, здесь не дует.
— Разве дозволено… — тихо, как бы про себя сказал старик и робко подошел к подъезду.
— Ты кого ждешь, што ли, дедушка? — спросил швейцар.
— Поспросить думал во дворце, может, знают, где живет Григорий Александрович, может, твоя милость знает…
— Какой Григорий Александрович?
— Потемкин.
— Его светлость?
— Уж не знаю, милый человек, как его здесь величают… А по мне так Гриша.
— Гриша!.. Поди ж ты какой… Первого, можно сказать, после матушки царицы вельможу, а он — Гриша…
— Первого… не врешь?.. — вскинул удивленный взгляд на швейцара старик.
— Конечно же первого… Да ты, брат, откуда взялся?..
— Из Смоленской губернии, родименький, из села Чижева, дьячок я тамошний… вот кто…
— Как же тебе светлейший‑то доводится, что он для тебя Гриша…
— Доводиться‑то никак не доводится, а грамоте я его обучал мальчонком, за уши, бывало, дирал, за милую душу, хлестко дирал, ленив да строптив был, постреленок…
Старик улыбнулся беззубым ртом, весь отдавшись воспоминаниям прошлого.
— Вот оно что… Значит, повидать своего выученика приплелся, каков он стал, поглядеть…
— Да, вот разыскать бы его, посмотреть, может, куда‑нибудь меня, старика, пристроит…
— Пристроит, коли захочет, как не пристроить, барскую мамзель, гувернантку, бают, к гвардейскому полку приписал и жалованье положил… он у нас чудесник…
— А проживать‑то где он изволит? — спросил старик.
— Как где? Да здесь…
— Во дворце?.. — удивился старик.
— А то где же ему проживать, говорю, вельможа первеющий.
— Первеющий…
— Коли повидать желательно, в самый раз ходь, дедушка, кверху, в приемную…
— Ты, внучек, коли в дедушки меня записал, зубоскалить‑то брось… Над стариком смеяться грешно… Ишь, что выдумал, ходь вверх, в приемную… Так я тебе и поверил…
Много времени и слов пришлось истратить швейцару, пока он убедил старика дьячка, что не смеется над ним и что, поднявшись наверх, в приемную, он может повидать своего Гришу.
Для вящей убедительности он даже позвал лакея, который подтвердил его слова и проводил старика в приемную.
Волшебная обстановка, ленты, звезды, толпы придворных, преклонявшихся перед прежним деревенским школьником, ошеломили окончательно старого дьячка, и он стоял ни жив ни мертв между благоговейным страхом, смутной надеждой и мгновеньями безысходным отчаянием, покуда не упал на него рассеянный взгляд могучего вельможи.
Григорий Александрович узнал своего бывшего учителя, несмотря на долгий промежуток лет, разъединивших их в разные стороны, и, к удивлению придворных, бесцеремонно им раздвинутых, подошел к старику и приветливо взял его за руку.
— Здравствуй, старина!
— Какой же молодец стал ты, Гриша! — прошептал растерявшийся дьячок, окончательно обезумевший от лент, от неожиданного приема, от роскошной, никогда и во сне им не виданной обстановки. — Какой же ты молодец стал! — повторил он.
— Зачем ты прибрел сюда, старина? — ласково спросим его князь.
— Да вот пятьдесят лет, как ты знаешь, все Господу Богу служил, да выгнали за неспособностью. Говорят, дряхл, глух, глуп стал, так матушке царице хочу чем‑нибудь еще послужить, чтоб не даром на последях землю топтать, — не поможешь ли у ней чем‑нибудь?..
— Поможем, поможем, старина, ты теперь у меня отдохни, тебя накормят, напоят и спать уложат, а завтра потолкуем, куда тебя приспособить: утро вечера, сам знаешь, мудренее.
Григорий Александрович отдал адъютанту соответствующие приказания.
— Да ты, Гриша, на голос мой не надейся, теперь я, голубчик, уж того — ау, — заметил дьячок.
— Слышу! — подтвердил, улыбаясь, князь.
— И видеть‑то того — плохо вижу, уж раз сказал, что обманывать!..
— Разумеется!.. — согласился Потемкин.
— А даром хлеб есть не хочу, вперед тебе говорю, ваша светлость…
— Хорошо, хорошо, успокойся и ступай…
Дьячка увел адъютант во внутренние апартаменты.
Прием вскоре окончился.
На другой день рано утром, когда еще князь был в постели, дьячок был позван к нему в спальню.
— Ты говорил вчера, дедушка, что ты и хил, и глух, и глуп стал? — спросил Григорий Александрович.
— И то, и другое, и третье, как перед Богом сказать справедливо…
— Так куда же тебя примкнуть?
— Да хоть бы в скороходы или в придворную арапию, ваша светлость.
— Нет, постой! Нашел тебе должность! Знаешь ты Исаакиевскую площадь? — вскочил князь с кровати.
— Еще бы! Через нее к тебе тащился из гавани.
— Видал Фальконетов монумент императора Петра Великого?
— Еще бы! Повыше тебя будет!
— Ну, так иди же теперь, посмотри, благополучно ли он стоит, и тотчас мне донеси.
Дьячок вышел.
Открытие памятника Петру Великому состоялось за семь лет до описываемого нами времени, а именно 7 августа 1782 года, в присутствии государыни, прибывшей в шлюпке, при выходе из которой была встречена всем сенатом во главе с генерал–прокурором А. А. Вяземским и, сопровождаемая отрядом кавалергардского полка, отправилась в сенат, откуда и явилась на балконе в короне и порфире.
Со слезами на глазах императрица преклонила главу, и тотчас спала завеса с памятника, и воздух огласился криками войска и народа и пушечными выстрелами.
Поэт того времени В. Рубан по этому случаю сочинил следующее восьмистишие:
Колосс Родосский, днесь смири свой гордый вид! И нильски здания высоких пирамид Престаньте более считаться чудесами! Вы смертных бренными соделаны руками. Нерукотворная здесь Росская гора, Вняв гласу Божию из уст Екатерины, Пришла во град Петров чрез невские пучины И пала под стопы Великого Петра!Действительно, камень, служащий подножием колоссальной статуи Петра Великого, взят близ деревни Лахты, в двенадцати верстах от Петербурга, по указанию старика крестьянина Семена Вишнякова.
Камень был известен среди окрестных жителей под именем «камня–грома».
По словам Вишнякова, на него неоднократно всходил император для обозрения окрестностей.
Камень этот лежал в земле на 15 футов глубины и зарос со всех сторон мхами на два дюйма толщины.
Произведенная громовым ударом в нем расселина была шириною в полтора фута и почти вся наполнена черноземом, из которого выросло несколько довольно высоких берез.
Вес этого камня был более четырех миллионов фунтов.
Государыня приказала объявить, что кто найдет удобнейший способ перевезти этот камень в Петербург, тот получит семь тысяч рублей.
Способ этот придумал простой кузнец, а князь Корбург, он же граф Цефалони, купил его у него за ничтожную сумму.
В октябре 1766 года приступили к работам для поднятия камня.
От самого места, где лежал камень, дорогу очистили от леса на десять сажен в ширину.
Весь путь был утрамбован.
Везли камень четыреста человек на медных санях, катившихся на медных шарах.
Как скоро камень достиг берега Невы, его спустили на построенную подле реки плотину и затем на специально приготовленное судно.
22 сентября 1767 года, в день коронации Екатерины, камень был торжественно провезен мимо Зимнего дворца, и на другой день судно причалило благополучно к берегу, отстоящему на 21 сажень от назначенного места для памятника.
В июне 1769 года прибывший из‑за границы архитектор Фальконе [52] окончил гипсовую модель памятника.
Голову всадника сделала приехавшая француженка девица Коллот.
Для того чтобы вернее изучить мах лошади, перед окнами дома Фальконе было устроено искусственное возвышение вроде подножия памятника, на которое по нескольку раз в день въезжал вскачь искусный берейтор попеременно на лучших двух лошадях царской конюшни: Ле Бриллиант и Ле Каприсье.
25 августа 1775 года начата была отливка памятника и окончена с отделкой в 1777 году.
Модель змеи делал ваятель Академии художеств Гордеев.
Такова краткая история памятника и этой «нерукотворной Россовой горы», которая, по образному выражению поэта, «пришла в град Петров чрез невские пучины и пала под стопы Великого Петра».
О том, благополучно ли стоит этот памятник, и послал Григорий Александрович справиться своего бывшего учителя, старого дьячка.
Дьячок вскоре вернулся с докладом.
— Ну, что? — спросил Потемкин, все еще лежа в постели.
— Стоит, ваша светлость.
— Крепко?
— Куда как крепко, ваша светлость.
— Ну и очень хорошо! А ты за этим каждое утро наблюдай да аккуратно мне доноси. Жалованье же тебе будет производиться из моих доходов. Теперь ступай.
Обрадованный получением места, дьячок отвесил чуть не земной поклон и вышел.
Григорий Александрович позвал Василия Степановича Попова и сделал распоряжение относительно аккуратной выдачи жалованья «смотрителю памятника Петра Великого».
Дьячок до самой смерти исполнял эту обязанность и умер, благословляя своего «Гришу».
VI ПОПУЩЕНИЕ
В описываемое нами время в одном из пустынных переулков, прилегающих в Большому проспекту Васильевского острова, ближе к местности, называемой «Гаванью» [53], стоял довольно приличный, хотя и не новый, одноэтажный деревянный домик в пять окон по фасаду, окрашенный в темно–серую краску, с зелеными ставнями, на которых были вырезаны отверстия в виде сердец.
К дому примыкал двор, заросший травой, с надворными постройками, и небольшой садик, окруженный деревянной решеткой, окрашенной в ту же серую краску, но значительно облупившуюся.
Над калиткой, почти всегда заложенной на цепь, около наглухо запертых деревянных ворот была прибита железная доска, надпись на которой хотя и полустерта от дождя и снега, но ее все еще можно было прочитать:
«Сей дом принадлежит жене губернского секретаря Анне Филатьевне Галочкиной».
Его владелицей была знакомая нам бывшая горничная княгини Святозаровой и сообщница покойного Степана Сидорова в деле подмены ребенка княгини — Аннушка.
Был поздний по тому времени зимний вечер 1788 года — седьмой час в исходе.
Ставни всех пяти окон были закрыты, и в сердцевидных их отверстиях не видно было огня в комнатах — казалось, в доме все уже спали.
Между тем это было не так.
Войдя, по праву бытописателей, в одну из задних комнат этого домика, мы застанем там хозяйку Анну Филатьевну, сидящую за чайным столом со старушкой в черном ситцевом платье и таком же платке на голове.
Чайный стол накрыт цветной скатертью. Кипящий на нем больших размеров самовар, посуда и стоящие на тарелках печенья, разные сласти и освещавшая комнату восковая свеча в металлическом подсвечнике указывали на относительное довольство обитателей домика.
Сама Анна Филатьевна с летами изменилась до неузнаваемости — это была уже не та вертлявая, красивая девушка, которую мы видели в имении княгини Святозаровой в Смоленской губернии, и даже не та самодовольная дама умеренной полноты, которую мы встретили в кондитерской Мазараки, — это была полная, обрюзгшая женщина с грустным взглядом заплывших глаз и с поседевшими, когда‑то черными волосами.
Меж редких бровей три глубоких морщины придавали ее почти круглому лицу невыразимо печальное выражение.
Одета она в темное домашнее платье.
Разговор со старушкой, с год как поселившейся у ней, странницей Анфисой, оставленной Анной Филатьевной для домашних услуг, «на время», «погостить», как утверждала сама Анфиса, все собиравшаяся продолжать свое странствование, но со дня на день его откладывавшая, вертелся о суете мирской.
В комнате было тихо и мрачно.
Воздух был пропитан запахом лекарств и давал понять всякому приходящему, что в доме лежит тяжело больной, и заставлял каждого и тише ступать по полу, и тише говорить.
Муж Анны Филатьевны Виктор Сергеевич Галочкин лежал на смертном одре.
— Вы говорите, Анна Филатьевна, болесть — оно точно божеское попущение. Им, Создателем, каждому, то есть человеку в болестях, быть определено; а плакать и роптать грех. Его воля — в мир возвратить али к Себе отозвать, — говорила певучим шепотом Анфиса.
— Да я, матушка, и не ропщу, а со слезой что поделаешь, не удержу; ведь почти двадцать пять годов с ним в законе состоим, не чужой!
— Вестимо, не чужой, матушка, что и говорить.
— То‑то и оно‑то, может, за эти годы какие от него обиды и побои видала, а муку его мученическую глядеть невмочь; и как без него одна останусь, и ума не приложу. Все‑таки он, какой ни на есть, а муж — заступник.
Анна Филатьевна заплакала.
— Это вы, матушка, правильно: муж и жена — плоть едина, и в Писании сказано; а я к тому говорю, что болесть — это от Бога, а есть такие попущения, что хуже болести. Это уж он, враг человеческий, посылает. Теперича, к примеру, хозяин наш, Виктор Сергеевич, по–христианскому кончину приять приготовился; ежели встанет — слава Создателю, и ежели отыдет — с душою чистою…
— И что ты, Анфиса, не накличь.
— Что вы, матушка Анна Филатьевна, зачем накликать? Наше место свято. Я вот вам про солдатика одного расскажу: от смертной болести Божией милостью оправился, а противу беса, прости Господи, не устоял, — сгиб и души своей не пожалел. Силен он — враг‑то человеческий.
— Расскажи, матушка, расскажи, авось забудусь я. За разговором‑то мне и полегчает…
— Было это, родимая моя, годов назад пятнадцать; в эту пору я только что овдовела. Деток, двух сынков, Он, Создатель, раньше к Себе отозвал; осталась я аки перст и задумала это для Господа потрудиться — по сиделкам за больными пошла — княгинюшка тут одна благодетельница в больницу меня определила. Недели с две это я в больнице пробыла; привозят к нам поздно ночью нищего солдатика, на улице подобрали и положили его в мою палату. Известное дело, дежурный дохтур осмотрел, лекарства прописал, поутру главный, Карл Карлович, царство ему небесное, добрый человек был, палаты обошел, с новым больным занялся. Порядок известный. Лежит солдатик это неделю, другую, третью, лекарством его всяким пичкают, а не легчает. Дохтура с ним бились, бились и порешили на том, что не встанет. Карл Карлович при нем это громко сказал и всякую диетию для него велел прекратить. «Давайте ему все, что он ни пожелает», — приказ мне отдал. Ушли это они из палаты‑то, а солдатик меня к себе подзывает. «Нельзя ли, — говорит, — мне медку липового?» Наше дело подневольное: Карл Карлович давать все приказал, ну я и послала. Принесли это ему медку на тарелке — я тем временем с другими больными занялась. Подхожу потом к нему, а он спит, и тарелка уже порожняя. И что бы вы, матушка, думали? — в испарину его с эфтого самого меда ударило. Поутру доктора диву дались: наполовину болесть как рукой сняло.
— Ишь ты, мед какой пользительный! — вставила слово Анна Филатьевна.
— Не от меда, матушка, а такое, значит, уже Божье определение. Донесли это, значит, Карлу Карловичу, он сейчас мне свой приказ отменил, на диетию посадили снова, лечить стали. Солдатик поправляется, ходить уже стал, но грустный такой, задумчивый.
— С чего же бы это?
— Я, матушка, и сама дивовалась; больные‑то все перед выпиской веселые такие, а этот как в воду опущенный. Выбрала я минуточку и спросила его об этом. «Нечего, — говорит мне, — радоваться, капитал съел».
— Это то есть как же?
— Да так; рассказал он мне, что как доктора‑то его к смерти приговорили, он это услыхал, и грусть на него в те поры напала, кому его капитал достанется. А было у него в ладанке, на кресте, пятьсот рублей — все четвертными бумажками — зашито. И порешил он их съесть; мед‑то ему дали, он их изорвал, смешал с ним да и слопал, прости Господи!
— Ишь, грех какой! — удивилась Галочкина.
— Грех, матушка, грех, вражеское попущение!
— Ну, а ты ему что же?
— Я, вестимо, утешать начала: Бог‑де дал, Бог и взял. Куда тебе! Только пуще затуманивается. Ну, я и оставила, авось, думаю, так обойдется: погрустит, погрустит да и перестанет.
— Что же, перестал?
— Какой, родная, в эту же ночь в коридоре на крюке удавился. Вот он, бес‑то, горами ворочает.
— Грехи… Слаб человек! Слаб! — заахала Анна Филатьевна.
— Уж именно, матушка, что слаб… Как сразу ему, бесу‑то, прости Господи, поддаться, он уж насядет да и насядет… Я это солдатику в утешение говорила: «Бог‑де дал, Бог и взял», ан на поверку‑то вышло, дал‑то ему деньги не Бог, а он же, враг человеческий… Петлю ему на шею этими деньгами накинул… да и тянул всю жисть, пока не дотянул до геенны огненной…
— До геенны… — побледнела Галочкина.
— А вестимо, матушка, до геенны… Кто руки на себя наложит, уж ведь и греха хуже нету, непрощаемый, и молиться за них заказано, потому все равно не замолишь, смертный грех, матушка…
— Откуда же у него эти деньги взялись? — спросила Анна Филатьевна.
— Земляк его, матушка, опосля в больницу приходил, порассказал… Сироту, младенца, покойный, вишь, обидел… обобрал то есть… Господами был его жене на пропитание отдан, не в законе рожден был, и денег пятьсот рублей на него положили, а он эти деньги прикарманил, как в побывку ходил, от жены отобрал, а ребенок‑то захирел да и помер…
Анна Филатьевна сидела бледнее стоявшей перед ней белой чайной чашки и молчала.
— А еще в Писании сказано, — продолжала Анфиса. — «Аще кто обидит единого из малых сих, легче будет ему, да обесится жернов осельный на вые его и потонет в пучине морстей» — вот он какой грех младенца‑то обидеть… Как‑никак и когда, а скажется.
— Скажется! — машинально повторила Галочкина.
— Скажется, матушка, скажется, — снова заговорила Анфиса, не замечая произведенного на Анну Филатьевну впечатления от ее слов, — недаром Сам Господь Иисус Христос сказал, что «их есть Царствие Божие». Грешно младенца малого, да еще сироту, обидеть, ох грешно… Такой грех смертный, незамолимый…
— Вот оно что! Господи, прости меня, грешную, — шептала между тем Галочкина, и смысл этого шепота можно было скорее угадать по движению ее побелевших губ, чем слышать…
Анфиса заметила, что с ее хозяйкой творится что‑то неладное.
— Расстроила я вас, матушка, еще пуще своими глупыми речами… Пойду я к себе на куфню… За чай и сахар благодарствуйте.
— Нет, нет, погоди, Анфисушка… Мне одной боязно…
— И чего тут боязно, Богу помолитеся да и спать лягте… Нонешнюю ночь у больного, кажись, всю глаз не сомкнули… Чай, сморились совсем…
— Нет, я днем вздремнула и спать теперь не хочу…
— И как же не хотеть, на что же ночь эту самую Господь Бог дает… Денной сон сил не подкрепляет… Больной‑то наш, кажись, притих… заснул, батюшка.
— Нет, ты посиди, а я схожу к нему понаведать…
Анна Филатьевна встала и, шатаясь, прошла в соседнюю комнату, где лежал больной Виктор Сергеевич.
Через минуту из этой комнаты раздался неистовый крик и шум от падения на пол чего‑то тяжелого.
Анфиса бросилась туда, и ее глазам представилась следующая картина: на постели с закатившимися глазами и кровавой пеной у рта покоился труп Галочкина, на полу навзничь лежала без чувств Анна Филатьевна.
VII БЫЛА ЛИ ОНА СЧАСТЛИВА?
Обморок с Анной Филатьевной был очень продолжителен, или, скорее, он перешел в болезненный тяжелый сон.
Она совершенно пришла в себя только поздним утром другого дня.
Блуждающим взглядом обвела она вокруг себя.
Она лежала раздетая на двухспальной кровати, занимавшей добрую половину небольшой комнаты, служившей спальней супругам Галочкиным.
Кроме кровати, в спальне стояли комод, стол, а в углу киот–угольник с множеством образов в драгоценных ризах, перед которыми теплилась спускавшаяся с потолка на трех металлических цепочках металлическая же, с красным стеклом, лампада.
Анна Филатьевна уже месяца два как спала одна в спальне, так как больного Виктора Сергеевича перевели в более просторную комнату рядом со столовой, где и поставили ему отдельную кровать.
Поэтому, проснувшись одна, Анна Филатьевна не удивилась.
Удивило ее только странное, монотонное чтение, доносившееся из соседних комнат.
Анна Филатьевна некоторое время внимательно вслушивалась.
Это читали Псалтырь.
Мигом она вспомнила все происшедшее накануне.
Страшный рассказ Анфисы, ожидаемая давно, но все же показавшаяся ей неожиданной смерть мужа, не успевшего отдать последний долг, приличествующий христианину, умершего одиноко, в ее отсутствие.
Перед ней встала картина мертвых, закатившихся глаз, кровавой пены, и она даже теперь почувствовала на правой руке, которой она дотронулась до лба мужа, могильный холод.
Она вспомнила, что не выдержала и лишилась чувств.
С этого времени она уже ничего не помнила — ей было так хорошо.
Не были ли это самые счастливые часы ее жизни?
Она закрыла глаза и притворилась спящей.
Она сделала это умышленно.
Анна Филатьевна догадалась, что Анфиса уже распорядилась, обмыла покойника, отыскала читальщика, и вот сейчас, как только она, Анна Филатьевна, встанет, на нее со всех сторон налетят люди, с которыми ей надо будет разговаривать, отдавать приказания, делать распоряжения, торговаться, даже браниться, — словом, жить в том своеобразном значении слова, в каком понимают жизнь очень многие вообще, а «гаваньские жители» в особенности.
Жизнь — это отсутствие покоя.
Анне Филатьевне не хотелось жить — ей хотелось покоя.
Она и прибегла к маленькой хитрости.
Пусть думают, что она еще не проснулась.
Конечно, это не может продолжаться долго, но час–другой она может урвать у жизни, которая ее ожидает, как только она спустит ноги с мягкой пуховой перины, лежащей на широкой кровати.
А так сейчас ее не побеспокоят!
Как бы в подтверждение этой мысли, раздался легкий скрип двери, она приотворилась, и в нее просунулась голова Анфисы с озабоченно–беспокойным лицом.
Анна Филатьевна вся притихла и даже крепче, чем следует спящей, зажмурила глаза.
Этого, конечно, не могла заметить Анфиса; она поглядела на лежавшую, прислушиваясь к ее легкому дыханию, покачала головой и притворила дверь со словами, видимо обращенными к самой себе и выражавшими мысль старушки:
— Пусть спит, болезная, что тревожить, и без нее управлюсь, панихидку‑то отслужим уж к вечеру…
Она удалилась от двери.
Анна Филатьевна слышала, как затихла скользящая походка ее суконных башмаков, но не открыла глаз.
С закрытыми глазами думать легче.
Человек невольно сосредоточивается.
Анна Филатьевна думала.
Перед ней проносилась вся ее жизнь со дня ее свадьбы с Виктором Сергеевичем, с тем самым Виктором Сергеевичем, который теперь лежит там, под образами, недвижимый, бездыханный…
Она сделалась чиновницей–барыней.
Она купила это положение на деньги, добытые преступлением, преступлением подмены ребенка, обидой сироты…
Анна Филатьевна вспомнила вчерашний рассказ Анфисы.
Она невольно вздрогнула под теплым, ваточным одеялом, покрытым сшитыми уголками из разных шелковых материй.
Одеяло было пестрое, красивое.
«Когда и как, а все скажется… Грех это…» — силилась она припомнить слова старухи.
«Скажется? А может быть, уже и сказалось?» — задала она себе вопрос.
В самом деле, была ли она счастлива?
Анне Филатьевне в первый раз в жизни пришлось поставить себе ребром этот вопрос.
Она затруднялась ответом даже самой себе.
Со многими людьми может произойти то же самое, если не с большинством.
Как много людей живут без всяких целей, интересов, чисто растительной жизнью, для которых понятия о счастье узки и между тем так разнообразны, что вопрос, поставленный категорически: счастливы ли они? — поставил их невольно в тупик.
— С одной стороны, пожалуй, и да, а с другой, оно, конечно… Живем ничего, ожидаем лучше…
Вот ответ, который вы получите от них после некоторого раздумья.
Да и что такое счастье?
Понятие относительное, но все же… человек может быть и даже должен быть счастлив, хотя мгновеньями.
Если человеку вообще не суждено сказать на земле: я счастлив, то ему, по крайней мере, дается возможность сказать: я был счастлив.
И это уже большое утешение.
Была ли хоть так счастлива Анна Филатьевна?
С одной стороны, пожалуй, и да… а с другой, оно, конечно…
Эта именно или вроде этой фраза сложилась в уме лежавшей с закрытыми глазами Галочкиной после долгого раздумья над вопросом: была ли она счастлива?
И действительно, с одной стороны, ее жизнь катилась довольно ровно.
Первые годы муж служил. На часть ее денег они купили себе тогда домик. Виктор Сергеевич, впрочем, запивал и во хмелю был крут; Анне Филатьевне приходилось выносить довольно значительные потасовки… Анна Филатьевна терпела, потому трезвый он был хороший человек… Первого ребенка она выкинула, свалилась с лестницы в погреб и выкинула. После того было еще четверо детей — три мальчика и одна девочка, и все они умирали, не дожив до году, только последняя девочка жила до семи лет… жила бы и до сих пор, здоровая была такая, да ее забодала корова, насмерть забодала… Анна Филатьевна с год ходила как сумасшедшая после смерти Оли — так звали девочку. Больше детей у нее не было.
«Дети — Божье благословенье!.. — вспоминалось Галочкиной. — Значит, на их доме благословения нет…»
«Скажется, как и когда, а скажется…» — снова лезли ей в голову слова Анфисы.
Она вернулась к своим воспоминаниям.
Вскоре после смерти девочки муж стал прихварывать и вышел в отставку… На службе он скопил деньжонок, так что вместе с оставшейся частью капитала образовалась довольно солидная сумма.
Виктор Сергеевич стал отдавать деньги в рост.
Дела пошли ходко.
Все окрестное неимущее население Васильевского острова полезло за деньгами к Галке, как попросту называли Галочкина.
Вслед за мужем и у Анны Филатьевны развилась страсть к стяжанию, к скопидомству, к накоплению богатств.
В этом смысле они были удовлетворены.
Доходы с каждым годом росли.
Две комнаты дома, отведенные под кладовые, были полны всякого рода скарбом, принесенным в качестве заклада; тут были и меховые шубы, и высокие смазные сапоги, каждая вещь была под номером.
Книги вел сам Виктор Сергеевич.
В комоде, стоявшем в той же кладовой, пять ящиков были наполнены золотыми и серебряными вещами, тоже занумерованными.
Проценты брались большие.
Бедность ведь и терпелива, и податлива.
Дом Галочкиных был полная чаша.
Они сладко ели и мягко спали.
«Но в этом ли счастье? — задумалась Анна Филатьевна. — Нет, не в этом!» — решила она мысленно.
Виктор Сергеевич изредка продолжал запивать и расхварывался все сильнее. Наконец слег.
«Теперь он умер…» — вспомнилось ей вчерашнее.
Монотонное чтение Псалтыря снова явственно доносилось до ее ушей из соседних комнат.
Она теперь одна со всеми накопленными богатствами…
К чему они ей?
Ведь и у солдатика, о котором рассказывала Анфиса, было богатство — пятьсот рублей.
Его деньги, как и ее, были нажиты не трудами праведными, а это ведь…
«Скажется, как и когда, а скажется», — снова прозвучала в ее ушах фраза Анфисы.
Он обидел младенца–сироту, а она…
Анна Филатьевна вспомнила со всеми ужасающими душу подробностями появление в Несвицком Степана Сидорова, искушение, которому он подверг ее… Страшную ночь родов княгини Зинаиды Сергеевны… Подмен ребенка.
Руки ее похолодели.
Ей показалось, что она и теперь держит в руках переданный ей трупик девочки.
Это ощущение холода мертвого тела как‑то страшно соединились с ощущением, испытанным ею вчера, при прикосновении рукой ко лбу мертвого мужа.
Она вся задрожала и как‑то съежилась под пестрым одеялом.
«Легче будет ему, да обесится жернов осельный на вые его и потонет в пучине морстей, — припомнились ей вдруг слова Анфисы. — Вот что ожидает того, кто обидит единого из малых сих».
А она обидела.
«Накинет бес петлю… Тянет, тянет да и дотянет до геенны… А у нее разве на шее не такая же петля?..»
Вчера умер муж, завтра может умереть и она.
Все под Богом ходим!
А каково предстать на суд Всевышнего так, без покаяния… Не даст Господь покаяться, как вдруг призовет.
Анна Филатьевна вспомнила, что Виктор Сергеевич умер без покаяния.
Она не раз говорила ему намеками, стороной, чтобы он исповедался да приобщился… Куда тебе… сердился… Ты что меня раньше времени хоронишь… Она, бывало, и замолчит… А вот теперь вдруг и нет его…
Не допустил Господь до покаяния.
Тоже ведь бедняков да сирот обижал, «малых сих».
Там, в кладовой, на стенах, в узлах и в комоде все слезы бедняков да сирот хранятся… Каждая вещь, может, кровавым потом нажита да горючими слезами облита, прежде чем сюда принесена! Так‑то! Все за это самое…
Такие отрывочные мысли бродили в голове Анны Филатьевны.
Мерное чтение Псалтыря при каждом возвышении голоса читальщика доносилось между тем явственно до ее ушей.
«Что же делать? Что же делать?» — мысленно, со страхом задавала она себе вопросы.
Она открыла глаза и обвела вокруг себя беспомощным взглядом.
Этот взгляд остановился на киоте с образами.
Кроткие лики Спасителя, Божьей Матери и святых угодников глядели на нее, освещенные красноватым отблеском чуть теплившейся лампады.
Вдруг Анну Филатьевну осенила мысль.
Она вскочила с постели и, как была, в одной рубашке, босая, упала ниц на голый пол перед киотом.
Она молилась.
Сначала молитвенные помыслы перебивали, как это всегда бывает, другие мирские мысли, но потом, когда силой воли она принудила себя сосредоточиться, ей почудилось, что она не молится, а беседует с добрыми друзьями, готовыми прийти на помощь, посоветовать, выручить из беды, разделить тяжесть горя.
Тяжесть, лежавшая в ее груди, стала как будто подниматься кверху, вот подошла к самому горлу.
Анна Филатьевна залилась слезами.
Это были великие слезы примирения с Богом, примирения со своей собственной совестью.
Долго еще горячо и усердно молилась Анна Филатьевна.
Наконец она встала с колен и присела на край кровати.
Лицо ее за ночь как будто похудело и казалось каким‑то просветленным.
Скрипнула дверь, полуотворилась, и в ней показалась голова Анфисы.
— Встали, матушка родимая, одевайтесь да выходите, болезная, гробовщик пришел.
— Сейчас! — отозвалась Анна Филатьевна и стала тревожно одеваться.
Через четверть часа она уже окунулась в омут жизненной сутолоки.
VIII ИСПОВЕДЬ
Совершенно оправившаяся Анна Филатьевна твердой походкой вошла в залу, где в переднем углу лежал покойный Виктор Сергеевич.
Он почти не изменился, только черты исхудавшего за время болезни лица еще более обострились.
Одет он был в его старый вицмундир, три свечи горели по сторонам и у изголовья покойника.
Анна Филатьевна опустилась на колени и с полчаса пролежала ниц лицом у самого стола, на котором лежало тело ее мужа.
Она не плакала.
Встав, она начала отдавать приказания и делать нужные распоряжения.
К вечеру был принесен гроб, и за вечерней панихидой в него положили тело.
Все соседи, близкие и дальние, перебывали в доме, чтобы поклониться покойному.
Большинство пришедших движимы были, впрочем, далеко не желанием отдать последний долг покойному, а любопытством, что происходит в том доме, ворота которого были почти постоянно на запоре и в который только ходили по нужде, за деньгами.
Весть, что умер Галка–ростовщик, с быстротой молнии облетела весь Васильевский остров, и вся беднота невольно встревожилась.
— А вдруг Галчиха, — так звали Анну Филатьевну клиенты ее мужа, — вещи‑то не отдаст, скажет, муж брал, а я знать не знаю, ведать не ведаю.
И они побежали смотреть, что делает Галчиха, чтобы вывести из ее наружности, настроения духа, как она думает поступить.
Такт, присущий последнему нищему, не позволял говорить о делах в присутствии покойника.
Анна Филатьевна ходила по комнатам, распоряжалась, стояла на панихидах с сухими глазами, покойная, почти довольная.
Так, по крайней мере, показалось некоторым.
— Ишь, кремень–баба, слезы не проронит! — шептались в толпе, окружавшей гроб. — Пропали наши манатки, пропали…
— У меня самовар… пять рублев стоил… полтинник дал… за полтинник пропадет, хороший самовар…
— А у меня, родимые, салоп черно–бурый, канаусом крытый, старый, оно говорить нечего, маменькин… — бормотала ветхая старушка, — а еще хороший, теплый–растеплый… три рубля отвалил покойный, не тем будь помянут, царство ему небесное… Пропадет…
— Вестимо, пропадет… — утвердительно, тоже шепотом, решил чиновник в вицмундире и пальто нараспашку. — У меня табакерка жалованная, отцовская, сто рублей ей цена… за пятнадцать… Ну, да я потягаюсь, до царицы дойду.
— Мужчинам, вам хорошо, управу как раз найдете, — томно закатив глаза, тихим шепотом говорила молодящаяся дама с раскрашенным лицом и с подведенными глазами и бровями. — У меня браслет, покойный муж еще в женихах подарил, сувенир… С жемчугом… Как твои зубки, говорил покойный, — осклабилась дама беззубым ртом. — За три рубля… Пропадет…
— Пропадет… — снова изрекал чиновник.
— Ах, mon Dieu… — восклицала дама.
— Сапоги смазные, онамеднясь только и заложил за три гривны… Сама принимала, может, отдаст… — заявлял какой‑то оборванец. — Ужели пропадут… Сапоги первеющие… Пропадут…
— Пропадут… — эхом шептал себе под нос чиновник.
Таково, вместо молитвенного, было настроение окружавших гроб покойного Виктора Сергеевича.
Как ни тихи были эти разговоры, но они достигали порой ушей вдовы.
Анна Филатьевна на них только загадочно улыбалась.
Ее улыбка, замеченная многими, еще более утверждала их к роковой догадке, что она не отдаст заложенные вещи.
Большинство склонялось к мнению чиновника, все продолжавшего повторять, как заключение на раздававшееся кругом сетование:
— Не отдаст!..
— Придется тягаться… — решили многие.
— Что тягаться… Ведь номерок и то своей рукой записал… Где ж доказать… Квартальный им свой человек… Ишь перед вдовой рассыпается… Чувствует, что перепадет… Иродово племя…
Местный квартальный надзиратель, доводившийся Анне Филатьевне кумом по последней дочери, действительно разговаривал с ней в это время, называя ее кумушкой.
Это не ускользнуло от слуха окружающих.
— Квартальный‑то ейный кум.
Эта фраза, сказанная кем‑то, начала переходить из уст в уста.
— Пиши пропало… — решило большинство.
— До царицы дойду… потому жалованная… — ворчал чиновник.
Панихида окончилась.
Это была последняя панихида перед днем похорон.
Отпевание тела состоялось на другой день, в церкви Смоленского кладбища.
Анна Филатьевна купила могилу на одном из лучших мест кладбища, возле церкви.
На вынос собралось также много народа, был и чиновник, хотевший дойти до царицы, и крашеная дама, и оборванец, заложивший сапоги.
Были и приглашенные — знакомые соседи, с местным квартальным во главе.
По окончании печального обряда вдова стала оделять нищих…
Милостыня, сверх ожидания, была очень щедрая…
— На помин‑то души муженька расщедрилась… да только вряд ли замолят… скаред был покойничек, не тем будь помянут, царство ему небесное, — вставляли лишь некоторые ядовитое замечание, узнав об обильной милостыне, розданной Анной Филатьевной.
После погребения приглашенные поехали назад в дом, где был им предложен поминальный обед.
Анна Филатьевна вышла с кладбища под руку с квартальным надзирателем.
— Задобрит, шабаш… пропадут… — шептали снова в толпе при виде этой пары.
— До царицы дойду… — ворчал чиновник.
Наконец кладбище опустело.
Виновник всей этой тревоги остался один под свеженасыпанным холмом.
После поминального обеда, продолжавшегося до вечера, наконец все провожавшие разошлись.
Анна Филатьевна осталась вдвоем с Анфисой.
Последняя занялась уборкой посуды и, только управившись, заметила, что Галочкина сидит у окна, не переменяя позы, в глубокой задумчивости.
— Анна Филатьевна, матушка, Анна Филатьевна… — окликнула ее старушка.
Та не отвечала.
Анфиса подошла ближе и дотронулась до плеча сидевшей.
— Анна Филатьевна…
— А!.. Что? — точно очнувшись от сна, произнесла Галочкина.
— С чего это вы так задумались… Все время молодец молодцом были… на людях… когда не грех бы и покручиниться, а тут вдруг затуманились, ровно в столбняке сидите…
— Ох, Анфисушка, столько дум, что и не передумаешь…
— О чем, матушка, думать‑то… Покойного не вернешь… Надо и без него жизнь доживать…
— Доживать… Страшно…
— И чего, матушка, страшиться…
— Смерти, тоже так же, без покаяния…
— Да разве покойный‑то… Как же вы, матушка, мне сказывали, что исповедался и он Таин Святых принял…
— Ох, Анфисушка, голубушка, обманула я тебя, грешная, ты в Невскую лавру помолиться пошла, к вечеру вернулась, я тебе и сказала, чтобы ты к нему не пошла его уговаривать.
— Ахти, грех какой.
— Сколько разов я сама его Христом Богом просила: исповедайся ты да приобщись, слышать не хотел… Что ты меня спозаранку в гроб кладешь… еще поправлюсь… на спажинках отговею, сам, на ногах отговею… Серчает, бывало, страсть…
— Ахти, грех какой, ахти, грех какой… — продолжала качать головой Анфиса.
— Грех, грех…
Наступило молчание.
Сумерки стали сгущаться. В комнате была полутьма.
— Что же, матушка, очень‑то убиваться о том, нищую‑то братию ты сегодня как следует быть оделила — замолят за его грешную душеньку… Милостыня — тоже великое дело. Вклад сделай в церковь‑то кладбищенскую… Сорокоуст [54] закажи… В лавру тож… помолятся отцы святые… — первая заговорила Анфиса.
— Все сделаю, Анфисушка, все сделаю… — со слезами в голосе отвечала Анна Филатьевна.
— Что, касаточка? Я вот, матушка, по весне по святым местам пойду, может, со мной какие жертвы угодникам Божиим пошлешь.
— Вот что я, Анфисушка, надумала, — вдруг вскинула на нее глаза Анна Филатьевна. — С тобой по святым местам походить…
— Оно что же, для души ах как пользительно… А дом‑то как же? Мирское это: оно удерживает… Еще Господь Иисус Христос сказал: «Легче верблюду пройти сквозь игольные уши, чем богатому войти в царствие Божие».
— Я дом продам, Анфисушка, на что мне дом…
— Продашь?.. — удивилась старуха.
— Продам, Анфисушка, продам… и все деньги бедным раздам… Христовым именем с тобой пойду по святым местам.
— И что ты, Анна Филатьевна, что‑то несуразное толкуешь… Прости меня, Господи…
Старуха перекрестилась.
— Ничего нет тут, Анфисушка, несуразного… Это я еще на другой день смерти Виктора Сергеевича решила… Так и будет, ведь я нынче нищей‑то братии пятьсот рублев раздала…
— Пятьсот! Да в уме ли ты, матушка, такую‑то уйму денег…
— Куда они мне, все раздам…
— Да с чего же ты это?
— А помнишь, Анфисушка, намедни, как мужу‑то умереть, ты мне рассказывала про нищего солдатика.
— Помню, расстроила только тебя…
— Не расстроила, а совесть у меня зазрила в те поры… Страшно стало…
— Не пойму я что‑то! Чего же тебе‑то страшно?
— А вот сейчас и поймешь, Анфисушка! Припомни, ты сказала, что нечистый этими деньгами на него петлю накинул, да и тянул, и дотянул до геенны огненной…
— Сказала.
— А мои‑то деньги тоже мне на шею нечистым, прости Господи, петлей накинуты.
— Господи Иисусе Христе… С нами крестная сила… — лепетала Анфиса, истово осеняя себя крестным знамением.
— Слушай, Анфисушка, ты женщина праведная…
— И, какая праведная, матушка…
— Слушай и не перебивай, я тебе как на духу во всем откроюсь, тогда ты сама скажешь, что мне остаток своих дней не о мирском, а о небесном думать надо…
Тихим шепотом, со всеми мельчайшими подробностями, рассказала Анна Филатьевна Анфисе всю свою жизнь у княгини Святозаровой, отъезд в Несвицкое, подкуп ее покойным Степаном Сидоровичем, подмен ребенка, который был отправлен к соседке Потемкиной.
— Вот на какие деньги, Анфисушка, разжились мы с Виктором Сергеевичем… Он, покойничек, царство ему небесное, об этом, в могилу сошел, не узнал… На духу я не признавалась, ты одна знаешь, суди меня… Разве деньги эти не петля дьявольская… Господи, прости меня, грешную…
Старушка, несколько раз крестившаяся во время рассказа Анны Филатьевны, молчала.
— Вот какова я, окаянная… Грех совершила незамолимый, смертный, младенца обидела… В геенну себе путь уготовила…
Анна Филатьевна залилась горькими слезами.
Анфиса вышла из своего оцепенелого состояния.
— Коли искреннее раскаяние чувствуешь… Бог простит… Он милостив… «Не до конца прогневается, ниже век враждует…» — в Писании сказано… Не мне отговаривать тебя от твоего подвига… Сам Господь, быть может, вразумил тебя… Только вот что, княгинюшке своей ты все это расскажи, может, она сыночка своего и найдет…
— Ох, идти‑то мне к ней боязно… — сквозь слезы прошептала Анна Филатьевна.
— Что тут боязно, передо мной покаялась и перед ней покайся… К Богу‑то идти надо с душой чистою…
— Ох, боязно…
— Со мной пойдем, чего не сможешь… я доскажу…
— Пойдем, Анфисушка, пойдем… Только вот с этими закладами справиться, с завтрашнего дня, чай, ходить начнут узнавать, что и как…
— Как же с ними ты сделаешь?..
— Раздам, все раздам… дарма, за помин души раба Виктора.
— Пойдем‑ка спать теперь, касаточка, утро вечера мудренее. Помолимся, да и на боковую…
Анна Филатьевна с Анфисой отправились в спальню.
Долго молились они перед образами, и обе плакали.
Кончив молитву, старушка перекрестила Анну Филатьевну и пошла в кухню.
Она сразу заснула.
Анна же Филатьевна не могла от пережитого волнения долго сомкнуть глаз и задремала только под утро.
IX НЕОЖИДАННАЯ БЛАГОДЕТЕЛЬНИЦА
Был седьмой час утра, когда в парадной двери дома Галочкиной раздался первый звонок.
Анна Филатьевна еще спала.
Первым посетителем оказался тот чиновник, который на панихидах и накануне на похоронах пророчил всем, что заложенные у Галки вещи пропадут, и грозился дойти до самой царицы.
Ему отворила Анфиса.
Она встала рано и была очень сосредоточенна.
Ее на самом деле поразила исповедь ее хозяйки и благодетельницы.
Проснувшись и помолившись Богу, она раздумалась о людских прегрешениях.
— Вот, кажется, живут люди… дом — полная чаша, истинно Божеское благословение на нем почиет, а поди ж ты, что на поверку‑то выходит… Что внутри‑то гнездится… Так и яблоко или другой плод какой, с виду такой свежий, красивый, а внутри… червь… Так‑то…
Эти философские рассуждения старушки прервал раздавшийся звонок.
Анфиса поплелась к двери…
— Пошли… поехали… Прости, Господи!.. — ворчала она.
Чиновник вошел с видимо напускной важностью.
— Хозяйка дома?
— Спит еще…
— Спит. Мужа вчера похоронила, а спит.
— Да что же ты ей, батюшка, не спать прикажешь, столько дней налаявшись и всю ночь глаз, может, не сомкнувши… — рассердилась Анфиса.
— Ночь, говоришь, не спала?
— Вестимо, не спала, этакое горе.
— Ну, им, богатеям, такое горе с полгоря… Деньжищ, чай, покойный уйму оставил?
— А ты, ваше благородие, считал…
— И считать нечего… знаем… слухом, чай, земля полнится…
— Не всякому слуху верь, ваше благородие, да если и впрямь денег много… разве с ними‑то, окаянными, горя люди не видят… еще большее…
— Да ты, кажись, тетка, начетчица, с тобой не столкуешь. Мне бы хозяйку повидать…
— Вот проснется… выйдет…
— Проснется… выйдет… Мне тоже недосуг, на службу царскую надобно…
— Так и иди на службу, а уж не обессудь, будить не стану; пусть поспит, болезная…
— С чего это ты к ней больно жалостлива, али вчерась щедро одарила?
— Это тебе, ваше благородие, ни к чему. А будить для тебя не стану, вот весь и сказ… — окончательно озлилась старуха.
Чиновник, видя непреклонность служанки, смирился:
— Что же, и не буди, коли на самом деле она всю ночь не спала… я подожду.
У него мелькнула мысль, что, если Галчиху разбудят, она встанет злая и, пожалуй, что табакерка его и впрямь пропадет.
Надежда дойти до царицы, при близком знакомстве хозяйки дома с местным квартальным, представилась ему вдруг делом довольно затруднительным.
— Что же, посиди, я не гоню… — смилостивилась и Анфиса
Чиновник сел на один из стульев, стоявших по стенам залы.
Анфиса тоже присела.
— Я, собственно, насчет одной вещи.
— Заложена?
— Заложена.
— Отдаст…
— Не врешь?.. Потому у меня теперь денег нет, подождать попросить пришел недельки с две до жалованья… — заметил чиновник.
— Отдаст… так отдаст…
— Как так?
— Так, без денег…
— Да ты, тетка, в уме ли?
— Да чего же ты, ваше благородие, диву дался… точно отдать нельзя.
— Без денег?
— Ну, вестимо, без денег… На помин души покойника, все раздаст, что заложено было… Вечор мне так сказала, так и сделает…
— Не врешь?
— Пес врет, ваше благородие.
— Ну, дела, дивные дела… От Бога, видно, ей так внушено было…
— Вестимо, не от беса, прости, Господи!
Старуха перекрестилась.
— Так ты, тетушка, вот что, ее не буди… Пусть спит… — сказал чиновник.
— Да я и не буду…
— Я и говорю, не буди… Добреющая, видно, у ней душа… Не ожидал, признаюсь, не ожидал… — потирал руки чиновник. — Без денег и без процентов… Дивные дела… А уж за душеньку покойного мы замолим.
— Вестимо, молиться надо…
— Пусть спит, голубушка, пусть спит… — говорил чиновник.
— Ты вот что, ваше благородие, здесь побудь, а я пойду на куфню, самовар наставлю, а ежели кто позвонится, уже не поставь себе в труд, отвори…
— Иди, иди, тетушка, я отворю… — тотчас же согласился чиновник.
Анфиса ушла.
— Дивные дела, дивные дела! — продолжал повторять чиновник, ходя по зале.
Через несколько времени раздался звонок.
В дверь влетела раскрашенная дама.
— Вы уже здесь! Как я рада! — воскликнула она при виде отворившего ей чиновника. — Видели? Отдает?
— Тсс…
— А что?
— Спит…
— Кто?
— Анна Филатьевна…
— Галчиха?
— Тссс…
— Вот новости… Спит…
— И чего вы кричите, сударыня, пусть спит, благодетельница, мы и подождать можем… Мне ихняя старушка сказала, что всю ночь не спала.
— Благодетельница, вы говорите…
— Конечно, благодетельница, когда решила все заложенные вещи даром раздать…
— Ужели?..
— Да, сударыня, именно так мне сказала старушка… На помин, значит, как бы души покойника…
— Сувенир?
— Да, так на манер сувенира.
— И вы поверили?.. Я ни в жисть не поверю…
— Не верьте, вот встанет, поверите… Старушка Божья врать не станет.
— Это было бы хорошо… Мой браслет… Сувенир мужа с жемчугом… Как твои зубки, сказал покойный, подавая мне его…
Дама улыбнулась своим беззубым ртом.
Снова раздался звонок.
Чиновник отворил, но оставил дверь полуоткрытой.
В комнаты стали набираться разные люди, в числе которых были и старушка, заложившая маменькин салоп, и оборванец, заложивший сапоги.
Все сообщали друг другу известие, что вдова решила раздавать заклады даром…
— Ура! — вдруг закричал во все горло оборванец.
— Тсс… — раздалось со всех сторон.
В залу вбежала Анфиса и напустилась на парня, указанного всеми, как на виновника крика.
Старушка подошла к нему совсем близко.
— Ты чего это орешь, в кабаке нечто ты?
— Виноват, бабушка, с радости…
Анфису заставили повторить слышанное ей от Анны Филатьевны решение раздать даром заложенные вещи.
— Спит? — спросили некоторые.
— Встала, чай пьет! — отвечала старушка и снова удалилась во внутренние комнаты.
— Пусть кушает… Мы подождем! — послышались замечания.
Наконец Анна Филатьевна вышла.
Вся толпа шарахнулась на нее.
— А вы не все вдруг… По одному, — распорядилась вышедшая с ней вместе Анфиса.
Порядок водворился.
Анна Филатьевна со спокойным, несколько грустным лицом отбирала по нескольку номерков и направлялась с ними в кладовую, откуда выносила с помощью Анфисы вещи и отдавала владельцам.
— Помяните в своих молитвах, да успокоит Господь душу новопреставленного раба Виктора… — говорила старушка каждому, получающему заклад.
— Будем поминать, будем, благодетельница… Упокой его душу в селениях праведных! — говорили, кланяясь, владельцы вещей.
— Уж и помяну я покойного! — вскрикнул радостно оборванец, получив обратно свои смазные сапоги.
Все уходили с радостными, веселыми лицами из того дома, куда еще недавно загоняли людей только нужда и безысходное горе.
Ушедших сменяли другие, уже знавшие о решении Галчихи раздавать даром заклады.
Весть об этом почти моментально облетела Васильевский остров, и до позднего вечера бедняки все приходили в дом Галочкиной и, уходя оттуда, расточали ей свои благословения и пожелания всего лучшего в мире.
На другой день повторилось то же самое.
Так продолжалось почти целую неделю.
Наконец все вещи были розданы.
Эти радостные лица бедных людей, эти благодарности, полные искреннего чувства, эти благословения, идущие прямо от сердца, произвели необычайное впечатление на Анну Филатьевну.
В эти дни она была счастлива.
«Вот в чем счастие! — думала она. — Мало быть довольной самой, надо еще быть окруженной довольными людьми…»
Улыбки этих бедняков отражались тоже улыбкой на лице Галочкиной, как в зеркале.
Анфиса ходила вся сияющая, счастливая и шептала молитвы:
— Господи Иисусе Христе, прости ее, грешную, Господи Иисусе Христе, пошли ей силы на искус…
Когда последний бедняк с последним закладом вышел из дома, Анфиса заперла за ним дверь и вернулась в залу.
Анна Филатьевна бросилась ей на шею.
— Спасибо, родная, спасибо, родимая, спасибо, милая… — шептала она, покрывая лицо старухи нежными поцелуями.
Анфиса почувствовала, что на ее лицо и шею капают горячие слезы ее хозяйки.
— Что ты, матушка, что ты, голубушка, — бормотала старушка. — Меня‑то тебе благодарить с какой стати?
— Тебя, Анфисушка, только тебя одну и благодарить мне надо… Не будь тебя, коснела бы я в этом скаредстве, не видала бы вокруг себя лиц радостных… Не была бы, хоть на минуту, да счастлива…
— Все Бог, матушка, один Бог…
— Бог и послал тебя мне, Анфисушка… Не расскажи ты мне про этого несчастного солдатика, может, ничего такого, что теперь случилось, и не было, а теперь у меня с души точно тяжесть какая скатилася, а как исповедуюсь с тобой вместе перед княгинюшкой, паду ей в ноги, ангельской душеньке, да простит она меня, окаянную, и совсем легко будет… Силы будут остатние дни послужить Господу…
— Когда же пойдем мы к ее сиятельству?..
— А вот дай, Анфисушка, дела все справить, от денег‑то бесовских совсем отвязаться, дом продать… Тогда уж и пойду, перед странствием…
— Не долгонько ли это будет откладывать?
— Недолго, Анфисушка, недолго… За ценой на дом ведь не погонюсь, мигом покупщик явится… Филат Егорович уже обещал мне это быстро оборудовать…
Филатом Егоровичем звали местного квартального.
— Оно, конечно, за дешевую цену дом‑то, да со всей движимостью, кому не надо и тот купит, — заметила Анфиса.
— Купят, голубушка, купят… А завтра чем свет на кладбище поедем, да в лавру, в другие церкви вклады сделаем, на вечный помин души покойничка… А что от дома выручим, с собой возьмем, по святым местам разнесем, в обители святые пожертвуем, но чтобы на себя из этих денег не истратить ни синь пороха.
— Вестимо, зачем на себя тратить… Ну их, и деньги‑то эти… Всю Расею–матушку из конца в конец обойдем, Христовым именем и сыты будем, и счастливы…
Так и порешили обе женщины.
X СЛЕЗА ПОТЕМКИНА
Жизнь княгини Зинаиды Сергеевны Святозаровой текла тихо и однообразно.
Она, как мы знаем, после смерти мужа совершенно удалилась от двора и посвятила себя сыну и Богу.
Последнее выражалось в широкой благотворительности княгини, благотворительности, заставившей говорить о себе даже черствый чувством Петербург.
Все нуждающиеся, все несчастные, больные, убогие находили в княгине Зинаиде Сергеевне Святозаровой их ангела–хранителя, она осушала слезы сирот, облегчала страдания недужных и порой останавливала руку самоубийцы от приведения в исполнение рокового решения.
Имея свое независимое громадное состояние, получив законную часть из состояния мужа, она, кроме того, через несколько лет после его смерти унаследовала колоссальное богатство своей тетки графини Анны Ивановны Нелидовой, умершей в Москве среди той же обстановки, в которой мы застали графиню в начале нашего правдивого повествования, не изменив до самой смерти своих привычек и, казалось, нимало не огорченной таинственным исчезновением графини Клавдии Афанасьевны Переметьевой.
Старуха никогда не хотела слышать о завещании и умерла без него.
Ближайшей родственницей и единственной наследницей после нее оказалась княгиня Зинаида Сергеевна Святозарова, так как единственная оставшаяся в живых дочь графини уже более двадцати лет находилась в безвестном отсутствии.
Деньги «московской чудачки» попали в хорошие руки.
Даже небольшая часть процентов с огромного капитала могла обеспечить не десятки, а сотни семейств бедняков.
Княгиня по смерти мужа уменьшила громадную дворню почти наполовину и один из надворных флигелей отвела для богадельни на двадцать старушек, благословлявших вместе со всеми бедняками столицы имя ангела–княгинюшки Зинаиды Сергеевны.
Сама княгиня помещалась в верхнем этаже двухэтажного княжеского дома, апартаменты же нижнего этажа всецело были отданы в распоряжение молодого князька Василия Андреевича.
Последний, попав прямо из объятий маменьки в среду удалых товарищей–офицеров, как это всегда бывает с мальчиками, которых держат в хлопках, развернулся, что называется, вовсю.
Ни один товарищеский кутеж не обходился без его участия, он был зачинщиком всевозможных шалостей и проделок тогдашней молодежи.
Ухарство заставляло его пить, часто против его желания, и его поведение доставляло много горьких минут любящей его матери.
Она нежно выговаривала ему порой.
Он давал ей обеты воздержания, ласкаясь как ребенок, и княгиня Зинаида Сергеевна таяла под лучами этой сыновней ласки, таяла как воск под лучами солнца.
Сынок же принимался снова за прежнее.
Так шли годы.
С Потемкиным Зинаида Сергеевна не встречалась, с Дарьей Васильевной, последние годы болевшей сильно ногами, виделась лишь несколько раз, сделав ей краткие визиты.
Из‑за шалуна Васи, как она называла своего сына, ей, впрочем, пришлось один раз, уже по возвращении Григория Александровича из‑под Очакова, явиться самой к нему просительницей.
Дело заключалось в следующем.
Несколько офицеров, с князем Святозаровым во главе, позволили себе сыграть какую‑то злую шутку с одним из близких к государыне лиц, почтенным графом Александром Андреевичем Безбородко.
Последний среди шалунов узнал одного Святозарова и объявил, что пожалуется на него самой государыне.
Дело могло принять дурной оборот для молодого князя.
Он во всем покаялся матери.
— Единственное спасенье попросить светлейшего… Съезди, мама…
К Потемкину! — вздрогнула княгиня.
— Ну да, к нему… Он один может спасти и отвратить гнев государыни…
— Хорошо… я съезжу, — сказала Зинаида Сергеевна после продолжительной паузы.
Много потребовалось ей силы воли, чтобы решиться на этот шаг.
На другой день она была в приемной светлейшего.
— Кого там нанесло? — спросил Григорий Александрович адъютанта, сидя в кабинете и кивая в сторону приемной.
Адъютант начал говорить фамилии.
Князь рассеянно слушал.
— Княгиня Святозарова, — произнес адъютант.
— Кто? — вскочил светлейший.
— Княгиня Зинаида Сергеевна Святозарова… — повторил адъютант.
— Ты не ошибся?.. — спросил Григорий Александрович.
Голос его дрогнул.
— Никак нет–с, ваша светлость, я лично знаком с ее сиятельством и сейчас только говорил с нею… Она приехала просить вашу светлость по поводу ее сына…
— Сына… какого сына?.. — уставил Потемкин на адъютанта свой единственный здоровый глаз.
Глаз этот выражал сильное душевное волнение.
— Князя Василия Андреевича… — просто отвечал адъютант, с недоумением наблюдая волнение вельможи.
Он не понимал, да и не мог понять причины.
Григорий Александрович вздохнул свободнее.
— Проси, проси сюда… скорее… Как можно заставлять дожидаться ее сиятельство… — заторопился светлейший.
Адъютант кинул на него чуть заметный удивленный взгляд и поспешил исполнить приказание светлейшего.
Через несколько минут дверь отворилась, и в кабинете Потемкина появилась княгиня Зинаида Сергеевна.
При виде этого до сих пор дорогого ему лица, этих светлых, почти таких же, как прежде, светлых, глаз, часто мелькавших перед ним и во сне и наяву, Григорий Александрович еле удержался на ногах от охватившего его волнения, но силой воли поборол его.
— Княгиня! — двинулся он навстречу неожиданной гостье. — Чем я обязан удовольствию видеть вас у себя… Несмотря на то что я очень рад, я начну с упрека… Если я вам нужен, вам стоило только написать, и я явился бы к вам.
— Вы слишком добры, ваша светлость, — сказала княгиня, опускаясь в подставленное ей князем кресло. — Я к вам с просьбой.
— С приказанием, княгиня…
Зинаида Сергеевна окинула его вопросительно–недоумевающим взглядом.
— Ваша просьба — для меня приказание… — пояснил светлейший свою мысль. — Потемкин всегда в полном распоряжении бывшей княжны Несвицкой.
Княгиня вспыхнула, а затем вдруг побледнела.
— Не будем тревожить прошлого, ваша светлость…
Очередь побледнеть настала для Григория Александровича.
— Для меня оно всегда настоящее… Но в чем дело, княгиня?
Зинаида Сергеевна рассказала ему подробно шалость молодого князя и грозящую ему беду.
— Один вы можете спасти его… — заключила она.
Потемкин улыбнулся.
— Это просьба не из больших, княгиня… Прикажите вашему шалуну быть у меня завтра вечером да скажите ему, чтобы он был со мной посмелее… Все уладится как нельзя лучше…
— Я не знаю, как благодарить вас, ваша светлость.
— Вместо благодарности я прошу вас, княгиня, если я понадоблюсь вам, прислать за мной просто, а не беспокоиться ездить ко мне, этим вы доставите мне большое удовольствие… Обещаете мне это?
— Хорошо, я обещаю вам… — протянула княгиня руку Григорию Александровичу.
Он наклонился поцеловать ее, по обычаю того времени.
Княгиня почувствовала, что ее руку чем‑то обожгло.
Это была слеза Потемкина.
Она вышла из кабинета почти шатаясь, с дрожащими на ресницах слезами.
Это были слезы волнения.
Василий Андреевич Святозаров явился в назначенное время к светлейшему.
Потемкин вышел из кабинета в обыкновенном своем наряде, не сказал никому ни слова и сел играть в карты.
В это время приехал приглашенный им граф Безбородко.
Григорий Александрович принял его как нельзя лучше, но продолжал игру.
Вдруг он подозвал к себе князя Святозарова.
— Скажи, брат, как мне тут сыграть? — спросил он его, показывая карты.
— Да мне какое дело, ваша светлость, играйте, как желаете, — отвечал согласно приказанию Василий Андреевич.
— Ай, мой батюшка, и слова нельзя сказать тебе; уж и рассердился… — улыбнулся Потемкин.
Услыхав такой разговор, граф Безбородко раздумал жаловаться.
Молодой князь был в восторге от этой выходки светлейшего и со смехом рассказал матери этот эпизод.
Княгиня слушала рассеянно.
Она спасла сына, но потеряла душевный покой, который добыла страшной нравственной ломкой. Задушевная речь Потемкина, капнувшая на ее руку его горячая слеза вновь унесли княгиню в далекое, чудное прошлое.
Гриша Потемкин как живой стоял перед ней.
Княгине было за сорок, но она замечательно сохранилась и нравственно и физически.
Она чувствовала, что она снова любит в светлейшем князе ее незабвенного Гришу.
Григорию Александровичу это свидание тоже не прошло даром.
Исполнив просьбу княгини, князь захандрил, и хандра эта продолжалась долго и была сильней обыкновенной.
Но вернемся к молодому князю Святозарову.
Несмотря на ухарство, кутежи и шалости, единственно, что осталось в нем под влиянием воспитания в родительском доме, это благоговение перед женщинами.
Благоговение это доходило до того, что он боялся их.
Товарищи, зная за ним это свойство, поднимали его на смех, нарочно наталкивали его на модных куртизанок, но исправить в желательном для них смысле не могли.
Молодой князь дичился и убегал от оргий с женщинами.
Это претило его чистой натуре.
Женщина и любовь для него были понятия нераздельные, одно из другого вытекающие.
Разделение этих понятий казалось ему отвратительным.
— Его надо познакомить с «гречанкой», — решил один из друзей князя, молодой граф Сандомирский, красивый мужчина, один из завзятых донжуанов того времени.
Читатель, несомненно, догадался, что под именем гречанки подразумевалась Калисфения Николаевна.
Граф Владислав Нарциссович, так звали Сандомирского, усиленно именно в это время ухаживал за ней.
Соперничества князя Святозарова он не боялся.
Граф не боялся ничьего соперничества.
Знакомство состоялось в театре.
Красивый, стройный и несколько застенчивый и дикий, молодой офицер понравился Калисфении Николаевне.
Она употребила все неотразимые чары своего кокетства, чтобы произвести впечатление на Василия Андреевича.
Она достигла цели.
Князь Святозаров ушел из ложи красавицы в каком‑то тумане.
Он влюбился, влюбился в первый раз в жизни.
С летами Калисфения Николаевна Мазараки унаследовала опытность и осторожность своей матери.
Не многие из ее поклонников решались хвастаться победой.
Она выбирала из них самых скромных, и прежде чем подарить своей хотя и мимолетной взаимностью, играла с ними, как кошка играет с мышью, прежде чем ее съесть.
Она продолжала получать громадные суммы из конторы светлейшего князя Григория Александровича, который во время своего отсутствия на театре военных действий находился с ней даже в переписке.
Поклонники ее осыпали и подарками, и цветами, предупреждали все ее желания, и она, таким образом, каталась, по народному выражению, как сыр в масле.
Жила она все в том же восточном домике на Васильевском острове.
Стоявшие к ее услугам в конюшне лошади и в каретном сарае экипажи уничтожали расстояние этого отдаленного места от центра города, каковым и тогда, как и теперь, была Дворцовая площадь, Морская и конец Невского проспекта, или, как тогда называли, Невская першпектива [55], примыкающая к последней.
Ежедневно в урочный час карета Мазараки появлялась в этих улицах, окруженная и пешими и конными поклонниками.
В числе последних были отличнейшие ездоки того времени, граф Сандомирский и князь Святозаров.
Последнего все сильнее и сильнее охватывало чувство первой любви.
Как известно, это чувство по преимуществу бывает платоническим.
Оно чуждо стремления к обладанию любимым существом, которое представляется любящему светлым, чистым образом, малейшая физическая близость к которому уничтожает его обаяние.
Нежный, прозрачный мрамор мечты не должен быть загрязнен малейшим прикосновением.
Это даже не любовь, это обожание, поклонение.
Для этого чувства совсем не надо, чтобы та или тот, к кому оно проявилось, обладал всеми теми свойствами, которые приписывает ему влюбленный или влюбленная.
Оно находит силу в самом себе, и эту силу пылкого воображения, которая является для влюбленного созданной им действительностью, нельзя разрушить никакими доводами благоразумия.
Таким именно чувством к Калисфении Николаевне было охвачено все существо князя Василия Андреевича Святозарова.
Молодая женщина чутьем угадала духовное настроение своего поклонника, и оно польстило ее самолюбие.
Какая из женщин откажется быть так любимой?
В Калисфении Николаевне проснулись, кроме того, временно заглохшие мечты юности, обновленные полузабытыми речами Василия Романовича Щегловского.
Она стала искать любви, которая есть все, что есть лучшее.
Она поняла, что такова именно любовь князя Святозарова.
Калисфения Николаевна искусно разожгла ее и с удовольствием видела, как брошенная ею искра разгорелась в пламя.
В этом пламени суждено было погибнуть несчастному князю.
XI ПО ДУШЕ
От княгини Зинаиды Сергеевны не ускользнула перемена, происшедшая в ее сыне.
Веселый, беззаботный, он сделался вдруг серьезен и задумчив.
Постоянно вращавшийся в обществе, участник всевозможных пикников и кутежей, он вдруг стал по нескольку вечеров подряд просиживать дома, поднимаясь наверх к матери.
Хотя последней это было очень приятно, но показалось подозрительным.
Чуткое сердце матери забило тревогу.
Тем более что в этом домоседстве сына княгиня видела далеко не желание проводить вечера в ее обществе, а причина его лежала в какой‑то тихой грусти, с некоторых пор охватившей все существо этого так недавно жизнерадостного молодого человека.
Бывая с матерью, князь Василий то задумчиво ходил из угла в угол по мягкому ковру ее гостиной, то сидел, смотря куда‑то вдаль, в Видимую ему одному только точку, и нередко совершенно невпопад отвечал на вопросы княгини.
— Что с тобой, Василий? — не раз восклицала Зинаида Сергеевна.
— Ничего, maman, так, я задумался…
— О чем?
Князь Василий давал объяснение, но оно явно оказывалось деланным и ничуть не успокаивало встревоженную мать.
Она стала доискиваться причины такого странного настроения ее единственного сына.
Из некоторых отрывочных фраз, которыми сын перекидывался при ней с посещавшими его товарищами, княгиня догадалась, что эти товарищи знают более ее внутреннюю жизнь сына.
К одному из них, а именно к графу Сандомирскому, она и решилась обратиться с расспросами.
В приемный день княгини он приехал с визитом ранее всех.
Они были вдвоем в гостиной.
Княгине показалось, что это был самый удобный момент для достижения намеченной ею цели.
— Много веселитесь, граф? — спросила она с напускной веселостью.
— Нельзя пожаловаться, нынешний сезон очень оживлен, особенно благодаря приезду светлейшего, который, кстати сказать, на днях снова уезжает…
— В армию?
— Да, он, видимо, серьезно задался мыслью выгнать турок из Европы и занять Константинополь.
— Мне кажется это мечтой…
— Для Потемкина сама мечта — действительность.
Граф Сандомирский после разнесшегося по Петербургу известия, что Григорий Александрович поцеловал руку у польского короля, сделался его горячим поклонником.
— Вы думаете? — рассеянно спросила княгиня, досадуя, что разговор, начатый ею, принимает другое направление.
— Не думаю, а убежден… У него в несколько часов строят корабли, в несколько дней созидают дворцы, в несколько недель вырастают города среди безлюдных степей. Это волшебник, княгиня. Это — гений! — восторженно говорил граф.
— Говорят… Я слышала… — заметила княгиня. — Но я потому спросила вас, веселитесь ли вы, — заспешила она, как бы боясь, что панегирист светлейшего князя снова переведет разговор на него, — что Василий чуть ли не по целым неделям вечерами не выходит из дома и… скучает…
Граф засмеялся.
Зинаида Сергеевна вперила в него беспокойно–удивленный взгляд.
— Василий — это другое дело… Ему не до светских развлечений… — со смехом заметил Владислав Нарциссович.
— Почему?
— Разве вы не знаете… Он влюблен…
— Влюблен… В кого?
— Виноват, графиня, но я не смею… Я, со своей стороны, по дружбе моей к нему, делал все возможное, чтобы представить ему всю неприглядность такого выбора, но, вы знаете, влюбленные — это безумцы.
Княгиня побледнела.
— Граф… вы… не можете… или, как вы говорите… не смеете… сказать, в кого влюблен мой сын… — дрожащим голосом, с расстановкой сказала княгиня. — Кто же она?
— Княгиня… — начал было Сандомирский.
— Мы одни, граф… Вы говорите не в гостиной, не с княгиней Святозаровой, вы говорите с матерью о ее сыне… Прошу вас… умоляю… назовите мне ее…
В голосе Зинаиды Сергеевны послышались слезы.
— Извольте, княгиня, тем более что это на самом деле серьезно, и, быть может, вы сумеете его образумить… Будете в этом смысле счастливее меня…
— Кто же она, кто?
— Гречанка… Потемкинская затворница… Жар–птица… Одна из его бесчисленных… но, кажется, самая любимая…
— Ах!..
Княгиня нервно вскрикнула и откинулась на спинку кресла.
С ней сделалась легкая дурнота.
Флакон с солями, всегда находившийся на столике, у которого сидела княгиня, был любезно подан ей графом.
Она поднесла его к носу и усиленно вдохнула.
Несмотря на замкнутую жизнь, княгине было известно о существовании в Петербурге прекрасной гречанки.
Она считала ее просто кокоткой.
Известие, что ее сын, князь Святозаров, влюблен в эту женщину, с таким даже не двусмысленным положением в обществе, окончательно ошеломило Зинаиду Сергеевну.
«Это хуже самоубийства… Это позор!» — мелькнуло в ее голове.
— Благодарю вас, граф, — необычайной силой воли взяла себя в руки княгиня, — вы мне этим открытием оказали большую услугу… Я постараюсь спасти его от этого рокового увлечения.
— Дай Бог, чтобы вам удалось… Мне не удалось… — деланно грустным тоном сказал граф и через несколько минут стал откланиваться.
Княгиня протянула ему руку, которую он почтительно поцеловал.
«Совершенно неожиданно устроил хорошее дельце… Княгиня его приструнит… Перестанет он набивать голову этой дуре разными сентиментальностями и позволять себя ей водить за нос… Только мешает другим… Ни себе, ни людям… Лежит собака на сене, сама не ест и другим не дает… Так, кажется, говорит русская пословица…»
Таковы были мысли спускавшегося с лестницы дома Святозаровых графа Сандомирского.
Его лицо выражало полное удовольствие.
Он сам усиленно ухаживал за Калисфенией Николаевной и считал ее затянувшийся платонический роман со Святозаровым главным препятствием для осуществления своих далеко не платонических целей.
Он надеялся, что княгиня прекратит этот глупый роман ее сына с содержанкой князя Потемкина.
Тогда дорога к сердцу или, лучше сказать, в будуар красавицы будет для него открыта.
«Удастся ли княгине?.. — возник в его уме тревожный вопрос. — Это, конечно, в ее же интересах… она сумеет…» — утешал он самого себя.
В подъезде он встретился с несколькими только что приехавшими визитерами.
Княгиня Зинаида Сергеевна вынесла стоически мытарства приемных часов.
Она старалась быть приветливой и любезной, старалась поддерживать разговор, когда думы ее были совсем не о том, о чем говорили с ней ее светские знакомые.
Наконец гостиная опустела.
Княгиня удалилась в свой кабинет.
«Что делать?» — восстал в ее голове роковой вопрос.
Она вспоминала о более чем любезном приеме, оказанном ей Григорием Александровичем Потемкиным, и о спасении им карьеры ее сына.
В ее голове мелькнула мысль.
«Он, один он и теперь может спасти его… Он сумеет его образумить… Это волшебник… Это гений…» — вспоминались ей слова графа Сандомирского.
Поехать завтра к нему… Нет… Он взял с нее слово, что она напишет ему, когда он ей понадобится…
Княгиня села к письменному столу.
Через несколько минут записка была написана.
Княгиня дернула сонетку.
Вошел лакей.
— Это письмо сегодня же отправить во дворец… Его светлости князю Потемкину.
Лакей бережно взял письмо и, произнесши стереотипное: «Слушаю–с, ваше сиятельство», — удалился.
Княгиня снова осталась одна и задумалась.
«Сын сказал ей, что и сегодня вечером он будет дома и зайдет к ней… — начала размышлять она. — Поговорить с ним… Нет… Нет, он даже не должен знать, что она получила сведения. Он будет допытываться от кого… Догадается… Это поведет к ссоре между ним и графом… Граф такой милый… Она и князю Григорию Александровичу скажет завтра, чтобы он действовал от себя… ведь она… его…»
Сердце княгини почему‑то вдруг болезненно сжалось.
Перед ней встал образ белокурого юноши Григория Потемкина там, в далекой Москве и в далекие от настоящего годы.
Княгиня ходила в это время по кабинету и как‑то инстинктивно приблизилась к зеркалу.
Отражение показало ей, что она еще очень моложава.
Несмотря на то что ей уже было далеко за сорок лет, княгиня замечательно сохранилась.
Свежий цвет лица и почти юношеский взгляд голубых глаз делали то, что ей можно было дать лет тридцать с небольшим.
Она порывисто отошла от зеркала.
Грустная полуулыбка, появившаяся на ее губах, говорила красноречиво, что она решила отрицательно какую‑то льстившую ее женскому самолюбию мысль.
Она стала ожидать сына.
Первый раз в жизни ей захотелось, чтобы он не пришел.
Желание ее исполнилось.
Князь Василий провел вечер вне дома.
На другой день часов около трех великолепный, известный всему тогдашнему Петербургу экипаж светлейшего остановился у подъезда дома Святозаровых.
Князь был аккуратен и явился в назначенный княгиней час.
Зинаида Сергеевна встретила его в зале.
Они прошли в угловую маленькую гостиную, находившуюся рядом с будуаром княгини.
Княгиня спустила портьеру и жестом указала князю на одно из стоявших кресел.
Григорий Александрович сел.
Княгиня опустилась на противоположное кресло.
— Прежде всего, княгиня, благодарю вас за память и исполнение вами слова написать мне, когда я вам понадоблюсь… А затем, что вам угодно?
— Ваша светлость, мне так совестно…
— Прошу вас, без чинов, кажется, мы слишком старые знакомые.
Сбиваясь и даже краснея, начала княгиня рассказ о несчастной любви ее сына к гречанке, к Мазараки, как, путаясь, называла княгиня Калисфению Николаевну.
— Вы одни, князь, можете помочь мне его образумить так, чтобы он не знал, что это идет от меня… Поговорите с ним, пугните его вашей властью, делайте, что хотите, только спасите его…
— Это уже не просьба, княгиня, тут обоюдный интерес… Он действует против меня… — заключил князь.
Княгиня вскинула на него испуганный взгляд.
— Успокойтесь, княгиня, я пошутил, — эта девочка, которой я когда‑то от скуки заинтересовался, кружит, как мне известно, головы многим из нашей молодежи, но не так серьезно, как вы рассказываете относительно князя Василия. Впрочем, он молод и, быть может, любит в первый раз.
Григорий Александрович вздохнул.
Княгиня вся вспыхнула.
— Но выбор из неудачных, — продолжал светлейший.
Княгиня горько улыбнулась.
— Во всяком случае, я сумею излечить его от этой дури, простите за выражение, княгиня.
— Именно дури… — улыбнулась Зинаида Сергеевна. — Значит, вы обещаете, и я спокойна…
Княгиня протянула Григорию Александровичу руку.
Он поклонился и поцеловал ее.
Этот поцелуй был дольше, чем этого требовал светский этикет, но Зинаида Сергеевна не отнимала руки.
— Положитесь на меня… Он даст мне слово позабыть ее и сдержит, — сказал князь.
— Я заранее благодарю вас… Вы во второй раз спасете его, — взволнованно сказала княгиня.
— Успокойтесь, все будет! хорошо… Я на днях повидаюсь с ним…
Князь встал и, снова поцеловав руку хозяйки, уехал.
Действительно, через несколько дней князь был вызван к Потемкину.
Светлейший принял его запросто, в спальне.
— А, соперник! — встретил он вошедшего князя Василия совершенно неожиданным для последнего возгласом.
Князь Святозаров вспыхнул и затем побледнел.
— Не годится князю Святозарову делать то, что заставляет его краснеть…
Князь стоял потупивши глаза.
Это странное начало разговора положительно поставило его в тупик.
Он долго не мог понять, серьезно ли говорит светлейший или шутит.
— Я выручил тебя в трудную минуту и избавил от козней, которые тебе готовил Безбородко, а ты вместо благодарности вздумал отбивать у меня любовницу.
— Ваша светлость…
— Что, ваша светлость, разве, я не прав! От меня ничто не укроется… Жениться, кажется, князю Святозарову на любовнице Потемкина не приходится… А ведь я и женю… Это убьет твою мать. Слышишь… женю… Это светский скандал… Похуже, чем дело Безбородко…
Князь молчал.
Да и что он мог возразить. Потемкин был прав. Он ведь знал, что Калисфения его содержанка. Ухаживая за ней, он совершал кражу.
— Ты сядь, чего ты стоишь… В ногах правды нет!.. — вдруг крикнул светлейший, лежавший на постели, и указал рукой на стоявшее около него кресло.
Князь Василий Андреевич машинально опустился на него.
— А ты не робей уж так, я ведь шучу. Я также, брат, не прочь поухаживать и за замужними, но если муж мне друг, да еще оказал мне услугу… никогда… И тебе не советую… нехорошо… Честь прежде всего… а потом… женщина…
— Простите, ваша светлость, — пробормотал князь Василий.
— Чего простить, я не сержусь. Сказал по душе… Моя — не трожь… и весь сказ…
— Не буду…
— Честное слово?..
— Честное слово!
— Ну, вот и шабаш… давай руку… верю… А то ведь женил бы… что хорошего.
Рука князя Святозарова утонула в широкой длани светлейшего.
— Приезжай сегодня ко мне вечером… Я тебе не таких красавиц покажу, как та, черномазая, лучше…
Князь Василий понял, что аудиенция кончилась, и откланялся.
Он окончательно пришел в себя только в своем кабинете.
XII РАСКАЯНИЕ
Прошло около двух недель.
Зинаида Сергеевна Святозарова сравнительно успокоилась за своего сына.
Урок, данный ему Потемкиным, — какой именно, княгиня не знала, — видимо, пошел впрок.
Она реже видела его задумчивым, он снова вернулся в товарищеский круг и завертелся по–прежнему в столичном омуте.
Это радовало княгиню.
Из двух зол надо было выбирать меньшее.
«Слава Богу, он позабыл ее! Вот было бы несчастье… Позор… Светский скандал», — мысленно говорила себе Зинаида Сергеевна.
Была ли она права совершенно, покажет будущее.
Пока что, повторяем, она успокоилась и отдалась снова исключительно благотворительности.
Жизнь ее, словом, вошла в свою обычную колею.
Княгиня в этот период своей жизни вставала и ложилась рано.
Был десятый час утра, когда ей доложили, что ее желают видеть две странницы.
Доклад этот сам по себе не представлял ничего особенного, так как по утрам к княгине ходила масса разного рода и звания людей, кто за пособием, кто поблагодарить за оказанное благодеяние, кто с вынутой «за здравие ангела–княгинюшки» просфирой, а кто с образком, освященным в дальних монастырях у мощей святых угодников Божьих.
Княгиня приказала провести вошедших в приемную и попросить обождать.
Зинаида Сергеевна сидела в своем уютном кабинете и была занята просмотром суточного рапорта смотрительницы ее богадельни, чем она занималась внимательно каждое утро.
Княгиня не ограничивалась отведением помещения для нашедших в ее богадельне приют старушек и предоставлении им полного содержания, она внимательно следила за их жизнью, за их нуждами и старалась предупредить последние, дабы они ни духовно, ни физически ни в чем не терпели недостатка.
Старушки при попечении княгини жили, по народному выражению, «как у Христа за пазухой».
Покончив с рапортом и сделав надлежащие пометки, она занялась корреспонденцией, которая каждое утро составляла довольно объемистую пачку.
Она сплошь состояла из просительных и благодарственных писем.
В иных эти оба содержания смешивались.
Надо заметить, что к одному из окон, выходящих во двор княжеского дома, был приделан большой деревянный ящик с разрезом для опускания писем и прошений.
Туда бедняки имели право с утра до вечера опускать их, хорошо зная, что наутро ангел–княгинюшка собственноручно их распечатает, развернет, прочтет и наконец положит милостивое решение.
При ящике состоял один из слуг, на обязанности которого лежало ранним утром выбирать накопившуюся за сутки корреспонденцию и всю целиком класть на письменный стол в кабинете княгини.
Княгиня действительно сама распечатывала письма, внимательно читала их и клала на каждое собственноручную резолюцию.
Особо назначенный конторщик приводил эти резолюции в исполнение.
На этот раз писем было сравнительно немного, и княгиня в какой‑нибудь час покончила с ними и позвонила.
Вошел дожидавшийся в соседней комнате конторщик и почтительно принял из рук Зинаиды Сергеевны просмотренную ею корреспонденцию.
Княгиня вышла в приемную.
Увидев входящую Зинаиду Сергеевну, две женщины, одетые по–дорожному, с котомками за плечами, встали со стульев, сидя на которых, видимо, до этого времени мирно беседовали, отвесили низкие поясные поклоны.
Княгиня пристальным взглядом окинула обеих странниц.
Этим взглядом она обыкновенно изучала приходящих к ней лиц, и первые ее впечатления никогда ее не обманывали.
«Обведет это тебя глазками, точно всю душу высмотрит! — говорили о ней обращавшиеся к ней бедняки. — И соврал бы ей, грешным делом, да язык не поворачивается; чуешь, сердцем чуешь, что ей, ангелу, ведомо, с горем ты тяжелым пришел али с нуждишкой выдуманной, от безделья да праздношатайства».
Одна из женщин была старуха, другая помоложе.
Лицо последней показалось знакомо Зинаиде Сергеевне.
— Аннушка… ты? — произнесла княгиня после некоторого размышления.
— Я, матушка, ваше сиятельство, я самая… — дрожащим голосом отвечала Анна Филатьевна.
— Что с тобой, ты так изменилась… тебя узнать нельзя… и этот наряд… Что это значит?.. — забросала ее вопросами княгиня.
Галочкина действительно страшно изменилась, особенно за время, которое ее не видала княгиня Святозарова, а она не видала ее более года, да и ранее Аннушка лишь изредка посещала свою бывшую госпожу, которой она была так много обязана и которой она отплатила такой черной неблагодарностью.
Анне Филатьевне было, по ее собственному выражению, «нож вострый» ходить к княгине, особенно после, вероятно, не забытого читателями разговора со Степаном Сидоровичем в кондитерской Мазараки.
Этот разговор навел ее на грустные мысли, он разбудил ее задремавшую совесть. Анна Филатьевна все реже и реже стала появляться в княжеском доме.
Изменилась Анна Филатьевна даже за тот сравнительно короткий промежуток времени, который промчался с тех пор, как она раздала последние заложенные у ее мужа вещи и решила продать дом, а затем уже и пуститься в странствование по святым местам.
Она страшно похудела и совершенно поседела.
Кожа на лице повисла морщинами, и с него исчезло прежнее самодовольное выражение сытости.
Глаза, уже далеко не заплывшие, а скорее навыкате, сделались больше, и в них появилось какое‑то щемящее душу отражение безысходного горя и перенесенного или, лучше сказать, переносимого страдания.
— Хозяина оне, матушка, ваше сиятельство, только надысь похоронили… — отвечала Анфиса, видя, что дрожащая, как осиновый лист, Анна Филатьевна не в силах более произнести слова.
— Муж у ней умер?.. — с соболезнованием переспросила княгиня.
— Так точно, ваше сиятельство, приказал долго жить Виктор Сергеевич…
— От чего?.. — как‑то растерянно спросила Зинаида Сергеевна.
Она только теперь заметила тяжелое душевное состояние своей бывшей горничной, и оно вдруг страшно взволновало ее.
— От болезни, матушка, ваше сиятельство, от болезни, месяца с два грудью промаялся… и недавно Богу душу и отдал… — отвечала Анфиса.
— Чахоткой?
— Так точно, ваше сиятельство.
— С чего же ты, Аннушка, уж так убиваешься, все под Богом ходим, в животе и в смерти Бог волен, я ведь вот тоже мужа потеряла, еще страшней было, да не прогневала Господа ропотом… — обратилась Зинаида Сергеевна снова к Анне Филатьевне.
Та молчала.
— И куда же ты это собралась… Ведь у тебя дом, хозяйство…
— Продала она, матушка, ваше сиятельство, и дом, и все продала…
— Продала, зачем?
— Так ей от Господа свыше указание было… — таинственно заметила Анфиса.
Княгиня окинула ее подозрительным взглядом.
— Какое указание? Куда же она дела деньги?..
— По церквам да по монастырям раздала на помин души покойничка… Виктор Сергеевич, царство ему небесное, не тем будь помянут, закладами занимался, так все залоги даром раздала… Деньги же, что за дом выручила, с собой несем, по святым местам да по дальним монастырям бедным раздадим… — продолжала старуха.
Зинаида Сергеевна поняла, что говорившая чужда в этом деле корыстных целей.
У княгини прежде всего мелькнула эта мысль.
Она навидалась разного рода странниц.
Мысленно укорила она себя за нехорошую мысль о ближнем и, видя, что Аннушка стоит перед ней с остановившимся взглядом, видимо ничего не понимая из совершающегося вокруг нее, уже более мягко обратилась к Анфисе:
— Так неужели, матушка, она так безумно любила своего мужа?
Старуха еще не успела ответить, как Анна Филатьевна совершенно неожиданно, как сноп, ничком повалилась к ногам Зинаиды Сергеевны.
Княгиня сперва испуганно отступила, а затем стремительно нагнулась, чтобы поднять лежавшую.
— Аннушка, Аннушка, что с тобой, что с тобой?.. — растерянно бормотала Зинаида Сергеевна, тормоша ее за плечо.
— Не замай ее… ваше сиятельство… пусть полежит, совесть ей не дозволяет смотреть вам в очи, ваше сиятельство, вот она к ногам и припала, прощенья, значит, вымолить хочет.
— Почему же ей совесть не дозволяет… в чем ей у меня просить прощенья? — выпрямилась княгиня, бросив удивленно–вопросительный взгляд на Анфису.
— Говорила она, что не сможет покаяться вашему сиятельству, и впрямь не смогла… Придется мне за нее поведать ее грех незамолимый против вас, княгинюшка.
Анна Филатьевна при этих словах старухи поднялась с пола, но продолжала стоять на коленях, опустивши низко свою голову.
— Какой грех, говори, что такое? — нетерпеливо спросила княгиня.
— Жила она у вас в деревне, как вы на сносях были, ваше сиятельство, — медленно начала Анфиса и вдруг остановилась…
— Ну, ну…
— Родили вы в те поры мальчика.
Зинаида Сергеевна вся превратилась в слух и даже наклонилась вперед всем корпусом.
Глаза ее были широко открыты.
— Камердинер покойного князя, супруга вашего, подкупил ее, окаянную, подменить ребенка на мертвую девочку, что родила судомойка вашей соседки… Потемкиной…
Княгиня слабо вскрикнула. Ноги у нее подкосились, и она медленно сперва села на пол, а потом опрокинулась навзничь.
На этот крик вбежала прислуга и понесла бесчувственную княгиню в ее спальню.
Этот же крик привел в сознание и Анну Филатьевну. Она вскочила на ноги.
— Ишь, болезная, как ее сразу скрутило… — заметила Анфиса.
— Но надо ей рассказать все… все… Ведь Степан Сидорыч сказал, что он, ребеночек этот, у Потемкиной.
— Другой раз зайти надо будет… к вечеру… Пойдем‑ка в лавру, помолимся…
— Ее сиятельство просит вас обеих к себе в спальню… — вернула горничная уже было выходящих из приемной женщин.
— Пришла в себя, значит, голубушка…
— Ее сиятельство лежит в постели… — бросила на них суровый взгляд служанка.
Она, как и вся прислуга в доме, боготворила Зинаиду Сергеевну и считала этих неизвестных ей богомолок причиной дурноты княгини.
Горничная пошла вперед.
Анфиса и Анна Филатьевна послушно последовали за ней.
Княгиня, уже раздетая, лежала в постели.
— Говори, Аннушка, говори… Что сделано, то не вернешь… Я много страдала, все вынесла… и это вынесу… Где он, где мой сын… Вот о ком написал мой муж перед смертью.
Голос Зинаиды Сергеевны прерывался.
Анна Филатьевна, облегченная исповедью за нее Анфисы, тоже прерывающимся голосом рассказала подробности происшествия в Несвицком, не умолчав и о том, что сынок княгини был отдан Степаном Сидоровичем Потемкиной.
— Простите меня, ваше сиятельство, простите окаянную, всю остатнюю жизнь буду замаливать грех свой перед Господом, только коли вы не простите, не простит меня и Он, милосердный.
— Бог простит тебя, а я прощаю…
Княгиня протянула ей руку.
Та припала к ней долгим поцелуем и облила ее всю горячими слезами.
— Не плачь… молись… за себя… и за меня… Это меня тоже Господь наказал за гордость.
Княгиня вспомнила свое поведение относительно мужа после убийства им Костогорова.
Дрожь пробежала по ней.
— Вот она, матушка, ваше сиятельство, и надумала иудины‑то деньги эти, с которых они и жить почали, все раздать бедным да по святим местам, а самой для Бога потрудиться со мной вместе странствиями, — вставила слово Анфиса.
— Простите, простите меня, окаянную! — плакала, припав к руке княгини, Аннушка.
— Прощаю, прощаю… Идите, помолитесь за меня…
Обе женщины вышли.
Зинаида Сергеевна некоторое время была в каком‑то оцепенении.
— Она знает, где он… Знает, наверное, и ее сын… — высказала она вслух свою мысль и дернула за сонетку, висевшую у кровати.
— Одеваться! — сказала она вошедшей горничной. — Да сперва вели заложить карету.
Та удивленно посмотрела на барыню, но тотчас же отправилась исполнять приказание.
Через каких‑нибудь четверть часа княгиня была уже в Аничковом дворце, но, увы, к Дарье Васильевне ее не допустили.
Старуха Потемкина была больна и лежала в постели.
Зинаида Сергеевна приказала ехать в Зимний дворец.
Там ей сообщили, что его светлость накануне выехал из Петербурга в Новороссию.
Княгиня села в карету и зарыдала.
Лакей отдал приказание кучеру ехать домой.
Выплакавшись, она несколько успокоилась и стала соображать.
— Написать… он ответит… — решила она.
Тотчас же по приезде домой она села писать письмо Григорию Александровичу Потемкину.
Она решила отправить его с нарочным вдогонку за светлейшим князем.
XIII СДАЧА БЕНДЕР
5 мая 1789 года Григорий Александрович Потемкин уехал из Петербурга к своей победоносной армии.
За это кратковременное пребывание его в столице он ко всему приложил свою могучую и искусную руку.
Она отразилась на ходе дел со Швецией, Польшей и Пруссией.
Его влияние на императрицу и доверие последней к нему ярче всего выразилось в том факте, что Потемкину были поручены обе армии: Украинская и Екатеринославская, и он явился, таким образом, полководцем всех военных сил на Юге и Юго–Западе.
Предводитель Украинской армии граф Румянцев–Задунайский, считая себя несправедливо обиженным, удалился в свою малороссийскую деревню.
Григорий Александрович получил для продолжения кампании шесть миллионов рублей.
Постоянно усиливавшаяся неприязнь поляков, сочувствовавших Турции и в силу этого отказавшихся доставлять провиант для Украинской армии, принудила его избрать главным театром своих действий не Подолию, а Бессарабию: он решился наступать по кратчайшей и удобнейшей для него операционной линии и от Ольвиополя к Нижнему Днестру и задался целью овладеть Бендерами и Аккерманом.
Сообразно с этим планом князь разделил вверенные ему войска, численность которых превосходила 150000 человек, на две части.
Одна, состоявшая из трех дивизий, под личным его предводительством, сосредоточилась у Ольвиополя; другая же, из двух дивизий и Таврического корпуса, под начальством генерал–аншефа князя Репнина, расположилась на реке Пруте.
Кроме того, дивизия Суворова была направлена к Бырладу для поддержания сообщения с австрийцами, которые занимали небольшим отрядом принца Кобургского Молдавию и собирали свои армии в Кроации, Славонии и Баннате, намереваясь двинуться к Белграду.
Намерение неприятеля было, видимо, стараться возвратить себе Очаков и овладеть Крымом.
Начало военных действий замедлилось в силу непредвиденных случайностей.
Растянутое расположение Екатеринославской армии и бури, свирепствовавшие на Днепре, не позволяли собрать ее к Ольвиополю ранее конца июня. Истощение молдаванских магазинов и сильное разлитие Прута, сорвавшего все устроенные на нем мосты и затопившего дороги, задержали Репнина в Молдавии.
В это же самое время умер султан Абдул–Гамид и его место занял юный Селим III.
Князь Потемкин, далеко не уклонявшийся от мирных переговоров с турками, считал за лучшее выждать, какой оборот примут дела в Константинополе вследствие перемены правительства.
Во время этого вынужденного обстоятельством бездействия Григорий Александрович заложил при устье Ингула, недалеко от Очакова, новый портовый город с верфью и назвал его Николаевом, в память святителя, в день которого был взят Очаков.
В половине июня великий визирь, получив повеление нового султана начать наступательные действия, перешел Дунай и направил 25–тысячный корпус на Фокшаны, чтобы вытеснить австрийцев из Молдавии.
Русские войска, стоявшие в Бырладе, поспешили на помощь к австрийским и соединенными силами разбили турок близ Фокшан.
Великий визирь, взбешенный неудачею, двинулся сам с 90–тысячной армией против союзников, а для отвлечения оттуда главных сил Потемкина велел сераскиру Гасан–паше выступить с 30000 из Измаила к Лапушне.
Обе эти армии потерпели полное поражение.
Суворов вместе с австрийцами разбил визиря наголову при Рымнике, а князь Репнин сераскира при Сальче.
Начало этой кампаний было, таким образом, много счастливее начала первой.
Эти победы русских повлекли за собой сдачу турецких крепостей на Днестре.
Потемкин почти без боя занял 14 сентября замок Гаджи–бей, где впоследствии была выстроена Одесса, 23–го — укрепление Паланку, 30–го — крепость Аккерман.
Интересна подробность взятия последнего.
Григорий Александрович послал сказать начальствовавшему в нем паше, чтобы он сдался без кровопролития.
Ответ, по мнению Потемкина, мог быть только удовлетворительным, а потому в ожидании его был приготовлен великолепный обед, к которому были Приглашены генералитет и все почетные особы, принадлежавшие к свите светлейшего.
По расчету Потемкина, парламентер должен был явиться к самому обеду.
Однако же он не явился.
Князь сел за стол в дурном расположении духа, ничего не ел, грыз, по своему обыкновению, ногти, и беспрестанно спрашивал, не едет ли посланник.
Обед оканчивался, и нетерпение светлейшего возрастало.
Наконец вбежал адъютант с известием, что парламентер едет.
— Скорей, скорей, сюда его! — воскликнул Григорий Александрович.
Через несколько минут в ставку вошел запыхавшийся офицер и подал князю письмо.
Распечатать и развернуть его было для князя делом одной минуты, но вот беда — оно было написано по–турецки.
Новый взрыв нетерпения.
— Скорей переводчика!.. — вскрикнул Потемкин.
Переводчик явился.
— На, читай и говори скорей, сдается крепость или нет?
Переводчик начал читать письмо, прочел раз, другой, оборачивает его, вертит перед глазами, но не говорит ни слова.
— Да говори же скорей, сдается крепость или нет! — загремел князь.
— А как вашей светлости доложить? — хладнокровно ответил переводчик. — Я сам в толк не возьму…
— Как так?
— Да изволите видеть, в турецком языке есть слова, имеющие двойное значение: утвердительное и отрицательное, смотря по тому, бывает поставлена над ним точка или нет…
— Ну, так что же?
— В этом письме есть именно такое слово. Если над ним поставлена точка, то крепость не сдается, но если эту точку насидела муха, то на сдачу крепости паша согласен.
— Ну, разумеется, насидела муха! — воскликнул Григорий Александрович и тут же соскоблил точку столовым ножом, приказал подать шампанское и первый провозгласил тост за здоровье императрицы.
Крепость Аккерман действительно сдалась, но только через двое суток, когда паше были обещаны подарки.
Донесение же государыне о сдаче этой крепости было между тем послано в тот же самый день, когда Потемкин соскоблил точку, будто бы насиженную мухой.
После взятия Аккермана Потемкин двинулся на Бендеры.
Во время этого движения в авангарде произошла ночью небольшая стычка.
Григорий Александрович, услышав перестрелку, немедленно сел на лошадь и поехал вперед.
Дорогой он встретил партию казаков, из которых один, весь в крови, шел пешком и во все горло пел песни.
Князь остановился, подозвал к себе казака и спросил его, что с ним случилось.
— Батько свитлый! — отвечал казак. — Отказаковался! Пропала рука! Сучий турчин отбив из громады.
Казак показал князю оторванную по самый локоть руку, которую он бережно нес, завернув в тряпку.
Григорий Александрович вздохнул, вынул из кармана десять червонцев и подарил их казаку.
Бендеры были обложены 28 октября.
В них находилось 16000 человек гарнизона.
Осадой крепости заведовал лично сам главнокомандующий.
Однажды он поехал на передовую линию, чтобы указать места для закладки осадных батарей.
Турки узнали его и усилили огонь.
Одно из ядер упало около самого князя и забросало его землей.
— Турки в меня целят, — сказал он спокойно, — но Бог защитник мой, Он отразил этот удар.
Постояв еще некоторое время на том же месте, князь поехал медленным шагом по линии, не обращая никакого внимания на учащенные выстрелы.
Однако осада сильной крепости в такое позднее время года могла иметь весьма невыгодные последствия для осаждающих, и потому Потемкин старался всеми мерами побудить гарнизон сдаться.
«Я через сие даю знать, — писал он командовавшему в городе паше, — что с многочисленной армией всемилостивейшей моей государыни императрицы Всероссийской приблизился к Бендерам с тем, чтобы сей город взять непременно. Закон Божий повелевает наперед вопросить. Я, следуя сему священному правилу и милосердию моей самодержицы, объявляю всем и каждому, что если город будет отдан добровольно, то все без вреда, с собственным именьем, отпущены будут к Дунаю, куда захотят; казенное же все долженствует быть отдано нам. В противном случае поступлено будет как с Очаковом, и на вас уже тогда Бог взыщет за жен и младенцев. Избирайте для себя лучшее».
Постоянные успехи и многочисленность русской армии, свежая еще в памяти гибель защитников Очакова и великодушие победителя к покорившемуся аккерманскому гарнизону, получившему свободу, сделали турок миролюбивыми.
Бендеры сдались.
В крепости было найдено 300 пушек, 25 мортир, 12000 пудов пороху, 22000 пудов сухарей и 24000 четвертей муки.
Григорий Александрович, верный своему слову, отпустил гарнизон и жителей в Измаил.
Приобретение такой сильной крепости без всякого урона было тем более приятно светлейшему, что в 1770 году эта же крепость три месяца была осаждаема графом П. И. Паниным и наконец взята кровопролитным штурмом, стоившим свыше 7000 человек убитыми и ранеными.
Потемкин донес государыне о взятии Бендер следующими стихами, написанными по–французски:
Nous avons pris neuf lancons Sans perdre un garson, Et Bender avec trois pachas Sans perdre un chat.(Мы взяли девять судов, не потеряв даже одного мальчика, и Бендеры с тремя пашами, не потеряв и кошки.)
С этим донесением отправлен был в Петербург Валерьян Зубов, осыпанный милостями императрицы.
Взятием Бендер окончилась успешная кампания 1789 года.
Действия австрийцев тоже были гораздо счастливее сравнительно с предшествовавшими походами: они заняли Валахию и успешно воевали на Саве и Дунае.
В ноябре месяце князь распустил войска на зимние квартиры между Прутом и Днестром и поселился сам в Яссах, которые избрал своим местопребыванием и главной квартирой.
26 декабря он получил от императрицы благодарственный рескрипт, оканчивавшийся такими словами: «Дабы имя ваше, усердною к нам службою прославленное, в воинстве нашем пребывало навсегда в памяти, соизволяем, чтобы кирасирский екатеринославский полк, коего вы шеф, отныне впредь именовался «кирасирским князя Потемкина полком».
Вслед за тем государыня пожаловала ему 100 тысяч рублей деньгами, в 150 тысяч лавровый венок, осыпанный бриллиантами и другими драгоценными каменьями, и звание «великого гетмана казацких войск, екатеринославских и черноморских».
Кроме того, императрица приказала выбить в честь Потемкина три золотые медали с его изображением в виде героя, увенчанного лаврами. На обороте одной медали была представлена карта Крыма, на другой — план Очакова и на третьей — Бендеры.
Посылая князю эти медали, государыня, между прочим, писала ему: «Я в них любовалась как на образ твой, так и на дела того человека, в котором я никак не ошиблась, знав его усердие и рвение ко мне и к общему делу, совокупленное с отличными дарованьями души и сердца».
Потемкина ожидали после этой кампании в Петербург, но он не поехал.
XIV В ЯССАХ
Блестящие успехи русского оружия не могли, однако, вывести Россию из того затруднительного положения, в которое она была поставлена в описываемое нами время.
В наступившем 1790 году эти затруднения достигли своего кульминационного пункта.
Война со Швецией не прекращалась. Польша собирала свои войска на наших границах. Пруссия, Англия и Голландия, опасаясь возраставшего могущества России, готовились, под предлогом пресловутого политического равновесия, помогать Турции и грозили войной, если не будет заключен мир с Портой, при условии возвращения последней завоеванных областей.
К довершению всего верный союзник Екатерины Иосиф II умер, а его преемник Леопольд II под влиянием берлинского кабинета и вследствие внутренних неурядиц поспешил заключить мир с Турцией.
Россия осталась одна, окруженная врагами.
Григорий Александрович Потемкин поневоле должен был ограничиться обороной взятых им крепостей, так как получить подкрепления войсками было невозможно.
Он даже завязал с турками мирные переговоры, бесплодно длившиеся до августа.
Сам же он проживал в Яссах.
Эта жизнь была рядом великолепных празднеств.
Обеды и рауты сменялись балами. Оркестр в 300 человек под управлением волшебника Сарти ежедневно оглашал роскошное помещение светлейшего и разбитый вокруг его ставки английский сад.
Цветник красавиц, среди которых особенно выдавались Потемкина, де Витте, Гагарина и Долгорукая, украшал эти волшебные праздники и лукулловские пиры.
Тосты за этих представительниц прекрасного пола сопровождались грохотом пушек, во время десерта им раздавались бриллианты целыми ложками.
Григорий Александрович усиленно ухаживал в это время за княгиней Гагариной.
Она находилась в интересном положении, и князь обещал ей собрать мирный конгресс в ее спальне.
На одном из таких праздников Григорий Александрович в порыве неудержимой страсти обнял княгиню при всех.
Та ответила ему пощечиной.
Не ожидавший этого Потемкин вскочил и, весь бледный, вышел из комнаты.
Гости похолодели от ужаса.
Наступило короткое, но казавшееся бесконечным тяжелое молчание.
Григорий Александрович через несколько минут снова появился среди гостей, веселый, улыбающийся.
— Мир, княгиня… — подошел он к виновнице переполоха и поднес ей дорогую брошку с великолепным солитером.
Праздник, омрачившийся на несколько минут, продолжался.
«Делу — время, забаве — час», — говорит русская пословица.
Следуя ей, Григорий Александрович, несмотря на беспрерывно сменявшиеся праздники, неусыпно и неустанно работал.
Курьеры от начальников частей то и дело прибывали в Яссы с донесениями и за получением приказаний главнокомандующего.
Между этими курьерами явился и присланный Суворовым ротмистр Софийского кирасирского полка Линев.
Это был очень умный, образованный и богатый человек, но чрезвычайно невзрачной наружности.
Посланный был тотчас же представлен князю.
Приняв от Линева депешу, Потемкин взглянул на некрасивое лицо, поморщился и произнес сквозь зубы:
— Хорошо! Приди ко мне завтра утром.
Когда на другой день Линев явился к князю, последний пристально посмотрел на него, снова поморщился и сказал:
— Ответ на донесение готов, но ты мне еще нужен, приди завтра.
— Я вижу, — резко ответил Линев, оскорбленный таким обращением, — что вашей светлости не нравится моя физиономия; мне это очень прискорбно; но, рассудите сами, что легче: вам ли привыкнуть к ней, или мне изменить ее?
Ответ этот привел в восхищение Григория Александровича.
Он расхохотался, вскочил, обнял Линева, расцеловал его и тут же произвел в следующий чин.
Горожане и жители окрестностей Ясс чуть не молились на светлейшего.
Его щедрость вошла в пословицу.
Один из окрестных крестьян, узнав, что князь охотник до огурцов, принес ему ранней весной несколько штук.
Потемкин удивился, откуда крестьянин мог так рано достать свежих огурцов.
Тот доложил, что у него есть нечто вроде парника и, как только поспели первые огурцы, он счел долгом угостить светлейшего.
Григорий Александрович щедро наградил его.
Слухи об этом вскоре распространились по окрестным деревням.
Когда наступило лето и огурцы выросли уже на грядах, одна крестьянка начала понукать своего мужа свезти огурцы светлейшему.
— Повези целый воз, князь тебя озолотит! — говорила она.
Муж было заупрямился, но баба поставила на своем и отправила его в Яссы с возом огурцов.
— Прихвати и несколько арбузов… — заметила она.
Но от арбузов мужик решительно отказался.
Григорию Александровичу доложили о приезде мужика.
Князь был в эту минуту чем‑то расстроен и сказал в сердцах:
— Выбросьте ему огурцы на голову…
Челядь с радостью принялась буквально исполнять приказание его светлости.
Пока в мужика швыряли огурцами, он обнаруживал не столько чувство боли, сколько чувство самодовольства.
— Хорошо‑таки я сделал, — приговаривал он, — что не послушался бабы и не взял арбузов, а то теперь ими меня бы убили до смерти…
Челядь смеялась.
Потемкин, увидя в окно исполнение своего приказания, о котором уже успел позабыть, послал узнать о причине такого веселого настроения слуг.
Ему доложили все в подробности.
Поведение мужика, избиваемого его собственными огурцами, прогнало хандру князя, он улыбнулся и велел дать ему довольно значительную сумму денег.
Кроме щедрости, князь заслужил любовь жителей Ясс и справедливостью.
Людям его была отведена квартира в доме одного купца.
У последнего случилась крупная кража, грозившая ему совершенным разорением.
Купец принес Потемкину жалобу, объяснив, что причина кражи была та, что люда светлейшего беспрерывно днем и ночью ходят со двора, вследствие чего нельзя запирать ни ворот, ни дверей.
Григорий Александрович, убедившись в справедливости жалобы купца, приказал немедленно вознаградить его сполна наличными деньгами из своей шкатулки.
Сюда же, в Яссы, явился из отпуска Василий Романович Щегловский.
Князь Потемкин, к которому он не замедлил представиться, принял его более чем сухо.
Он на его приветствие как‑то загадочно посмотрел на него исподлобья и не сказал ни слова.
Щегловский вышел из приемной бледный как полотно, еле держась на ногах.
Он понял, что светлейшему известно, что он не сдержал своего слова и виделся в Петербурге не только с родными.
Выдержав свой характер в присутствии князя в столице, Василий Романович после отъезда Потемкина не устоял против соблазна посетить несколько раз восточный домик на Васильевском острове.
Григорий Александрович, до мелочей зорко следивший за исполнением своих приказаний, был уведомлен об этом из Петербурга.
Этим и объясняется холодная, суровая встреча провинившегося.
Василий Романович понял, что его карьера окончательно погибла.
Не таков был светлейший, чтобы забыть и оставить безнаказанным человека, нарушившего данное им честное слово:
— Честь прежде всего… потом женщины!.. — говаривал, как мы знаем, Потемкин и твердо держался этого правила.
Щегловский чувствовал, что отныне над ним висит дамоклов меч [56].
Меч упал.
Между прочими возложенными на него служебными обязанностями, Василий Романович получил ордер сдать турецких пленных поручику Никорице.
Из числа этих пленных девять турецких офицеров бежали.
Об этом доложили светлейшему.
Не прошло и пяти дней, как за это упущение пленных без всякого допроса и суда Щегловский был в кандалах отправлен в Сибирь.
В Яссах же находился и созданный Потемкиным богатый подрядчик Яковкин.
Он уже был титулярный советник и ездил на своих лошадях.
— Я слышал, что ты купил себе именье? А отцу своему купил ли? — раз спросил его светлейший.
— Я для себя купил именье, ваша светлость, а для отца еще нет.
— Купи и ему. Он стар, и ему время на покой.
Воля князя была немедленно исполнена.
Старик Яковкин дослужился в это время благодаря, конечно, покровительству Потемкина уже до капитанского чина, вышел в отставку и зажил барином в своем именье.
Задаваемые чуть не ежедневно Григорием Александровичем пиры и праздники служили ему некоторым рассеянием от тяжелых гнетущих мыслей, которые невольно посещали его голову под влиянием сложившихся обстоятельств.
Старания князя, давно, кажется, разочаровавшегося в скором осуществлений своих крупных планов о мире, не увенчались успехом.
Конечно, мир, После всех блестящих успехов русского оружия, должен был бы быть почетным, между тем Порта, подзадориваемая иностранными державами, не особенно спешила вести переговоры и делать уступки.
Потемкин стал приготовляться к военным действиям.
Он послал адмирала Ф. Ф. Ушакова с эскадрой отыскивать турецкий флот.
«Возложите твердое упование на Бога, — писал ему набожный князь, — и при случае сразитесь с неприятелем. Христос с вами, я молю Его благость, да ниспошлет на вас милость и увенчает успехом».
Через несколько дней он снова писал Ушакову:
«Молитесь Богу! Он вам поможет; положитесь на Него; ободрите команду и произведите в ней желание сразиться. Милость Божия с вами».
Кроме того, светлейший призвал Головатого и спросил, нет ли у него из числа возвратившихся из Турции беглых запорожцев таких, которых можно бы было послать к Измаилу для разведывания о пришедшем турецком флоте и о положении островов на устье Дуная, ниже крепости.
— Отрывай, батьку, — отвечал Головатый, — я виду пораспытаюсь до коша [16].
Собрав казаков и сделав им вызов, Головатый нашел многих, способных выполнить поручение.
Оказалось, что некоторые из них даже знали инженерную науку, умели рисовать и брались начертить точные планы.
Когда Головатый донес об этом светлейшему, тот приказал немедленно снабдить казаков всем нужным, но Головатый остановил его:
— Треба только хлиба дать, а бильше ничего.
Вызвавшиеся на опасное поручение запорожцы в числе сорока человек отправились к устью Дуная, сели там на легкие рыбацкие лодки, взяли невод и объехали свободно весь турецкий флот, показывая вид, что они ловят рыбу.
Турки сначала было остановили их, но они уверили их, что они турецкие запорожцы, и были отпущены.
Таким образом смельчакам удалось снять подробные планы расположения турецкого флота и крепостей Измаила и Браилова.
Окончив поручение, запорожцы возвратились в Яссы.
Головатый представил планы князю, который был чрезвычайно удивлен верностью чертежей и подробностью собранных сведений и пожелал лично поблагодарить смельчаков–искусников.
Головатый привел их в залу и построил в одну шеренгу.
Все они были оборваны, ощипаны, в рубищах.
Некоторые не имели даже рубашек, не только платья и обуви.
Григорий Александрович вышел и, думая, что это стоят нищие, спросил:
— Где же они?
— Вот они, батько… — указал Головатый на запорожцев.
Князь был поражен представившейся ему картиной бедности и прослезился.
Он тут же произвел шестнадцать человек запорожцев в офицеры, а остальных, которые отказались от чина, велел обмундировать с ног до головы в лучшее казацкое платье и, сверх того, подарил каждому по сто червонцев.
Но ни денег, ни платья не хватило некоторым и на месяц, — все было пропито, и остались они опять в чем мать родила.
Наступил август.
Григорий Александрович получил неожиданно радостное известие о прекращении шведской войны.
«Велел Бог одну ногу высвободить из грязи, — писала ему государыня, — а как вытащим другую, то пропоем аллилуйя».
Мир со Швецией дал возможность усилить нашу армию и возобновить наступательные действия на Дунае.
Надо было сломить упорство Турции и взять ее последний оплот на театре войны — твердыню Измаил.
Для совершения этого дела, конечно, лучше всего было назначить Суворова.
XV СУВОРОВ
Александр Васильевич Суворов, этот знаменитый чудак–полководец, уже в описываемое нами время пользовался репутацией непобедимого.
Он был кумиром солдат, и одно его появление перед войсками уже предрешало победу.
Он украсил свое бессмертное чело первыми военными лаврами в Семилетнюю войну в 1759 году, участвовал в усмирении Польши в 1768 году и в подавлении пугачевского бунта в 1773 году, и везде с одинаковым успехом.
Про него говорили, что он нашел тайну побед.
Эта тайна, как все на свете, была очень проста.
Гений — это труд.
Этот афоризм английского ученого всецело оправдывается на истории величайшего русского полководца.
Расскажем вкратце его биографию.
Отец Александра Васильевича Василий Иванович Суворов был потомок шведского дворянина Сувора, переселившегося в Россию при царе Михаиле Федоровиче.
Потомки Суворова верой и правдой служили русским государям и пользовались их особой милостью, что доказывается тем, что Василий Иванович был крестником Петра Великого.
Служа при своем высоком восприемнике, он дослужился до чина капитана гвардии и после кончины императрицы Екатерины I вышел в отставку и поселился в своем именье в Новгородской губернии.
Там он занялся воспитанием своего единственного сына Александра, родившегося 15 ноября 1729 года.
Мальчик был очень худ и слаб, что беспокоило его отца и заставило его скрепя сердце решиться пустить сына по гражданской службе.
Маленький Саша, напротив, как бы унаследовал от отца любовь к военной службе и спал и видел себя солдатом.
После долгой борьбы с самим собою, по совету родственников, Василий Иванович решился исполнить желание сына.
Мальчик был в восторге.
Он был записан солдатом в гвардейский Семеновский полк.
Несколько лет провел он еще в родительском доме, и только в 1745 году, семнадцати лет, он вступил на действительную службу.
Отец его тоже, по восшествии на престол Елизаветы Петровны, событии радостном для всех приверженцев Петра Великого, покинул деревню и вновь был принят на службу в чине генерал–майора.
Молодой солдат Александр Суворов с первых же шагов заявил себя примерным служакой, а свободное от фронтовой службы время посвящал изучению военной науки.
Однажды летом 1749 года он стоял на часах в Монплезире в Петергофе.
Вдруг из большой аллеи вышла государыня.
Суворов не замедлил отдать ей честь.
Полюбовавшись очаровательным видом открытого моря, Елизавета, возвращаясь, обратила внимание на молодого солдата.
— Как тебя зовут? — спросила она.
— Александром Суворовым, ваше императорское величество.
— Ты не родственник генерала Суворова?
— Я его сын, ваше величество.
— Поздравляю тебя с таким отцом; старайся следовать по его стопам и служи мне верно и усердно. Я не забуду.
— Рад стараться, ваше величество.
— А вот тебе от меня рубль серебром… — сказала императрица, подавая ему серебряную монету.
— Всемилостивейшая государыня, — отвечал Суворов, — закон запрещает солдату, стоявшему на часах, принимать деньги.
— Ай да молодец… — улыбнулась Елизавета, и, потрепав его по щеке и дав поцеловать свою руку, она прибавила: — Ты, я вижу, знаешь службу. Я положу рубль на землю. Возьми, когда сменишься. Прощай.
Суворов снова отдал честь.
Когда его сменили, он поднял рубль и, поцеловав его, решил хранить, как святыню.
На другой же день рядового Александра Суворова потребовали к генералу.
— Поздравляю тебя, — сказал ему последний, — сейчас получен от императрицы приказ произвести тебя в капралы не в очередь. Продолжай служить, как служил до сих пор, и без награды не останешься. Ступай с Богом!
Весь сияющий, вышел от генерала Александр Васильевич.
Несколько времени спустя после произведения в капралы Суворов опять случайно встретил императрицу Елизавету Петровну.
— Здравствуй, капрал! — милостиво улыбнулась она.
— Здравия желаю, ваше императорское величество.
— Послушай, Суворов, — продолжала государыня, — я слышала, что ты не только не водишься со своими товарищами, но даже избегаешь их общества… Какая тому причина?
— Ваше величество, — отвечал Суворов, — у меня много старых друзей, а старым для новых грешно изменять.
— Кто же эти старые друзья?
— Их много, ваше величество.
— Назови мне кого‑нибудь.
— Слушаю, ваше величество. Старые друзья мои — Цезарь, Аннибал, Вобан, Когорн, Фолард, Тюрен, Монтекукколи, Роллен… всех и не упомню.
Императрица невольно улыбнулась, когда молодой солдат скороговоркой произносил имена знаменитых полководцев и историков, творения которых он не переставал изучать.
— Это очень похвально, — заметила государыня, — но не надобно отставать и от товарищей.
— Успею еще, ваше величество! Теперь же мне нечему у них учиться, а время дорого.
— Странный молодой человек! — сказала императрица одному из следовавших за ней придворных и, обратись к Суворову, добавила: — Старайся поскорей дослужиться до офицерского чина; ты, я вижу, будешь отличным офицером.
— Рад стараться, ваше величество! — отвечал молодой капрал, и когда императрица удалилась, милостиво кивнув ему головой, он прибавил вполголоса: — Нет! Я недолго буду ждать очереди в производстве по гвардии. Я подам прошение о переводе в армию… Чины мои на неприятельских пушках…
Еще два года прослужил Суворов и был произведен в сержанты.
В этом чине его посылали курьером в Польшу и в Германию, а по возвращении оттуда он получил чин фельдфебеля.
Наконец в 1754 году он был произведен в офицеры, а в 1757 году мы уже застаем его подполковником в действующей армии во время Семилетней войны.
Он командовал гусарами и казаками и в несколько недель превратил их в стаю орлов.
— Ребята, — говорил он солдатам, — для русских солдат нет середины между победой и смертью. Коли сказано вперед, так я не знаю, что такое ретирада, усталость, голод и холод.
Офицерам же он говорил следующее:
— Господа, помните, что весь успех в войне составляют: глазомер, быстрота и натиск!..
С одной сотней казаков он явился к стенам города Ландсберга.
Казаки, высланные вперед для рекогносцировки, вернулись и с беспокойством объявили, что в городе прусские гусары.
— Помилуй Бог, как это хорошо! — заметил Суворов. — Ведь мы их‑то и ищем.
— Не прикажете ли узнать, сколько их здесь?
— Зачем, мы пришли их бить, а не считать. Стройся, — скомандовал он своему отряду и крикнул: — Марш–марш!
Впереди отряда он во весь опор поскакал к городским воротам.
— Ломи! — скомандовал Александр Васильевич.
В несколько минут ворота были выломаны бревном, и казаки ворвались в город.
Неожиданное нападение смешало пруссаков, которые сдались, хотя были впятеро сильнее.
Таково было первое дело Суворова.
Близ Штаргарда он с небольшим отрядом был окружен пруссаками, которые закричали ему:
— Сдавайся!
— Я этого слова не понимаю, — отвечал Александр Васильевич и, крикнув «ура!», прочистил себе путь.
Таким образом, во время описываемой нами войны с турками имя Суворова уже было окружено ореолом славы — он был генерал–поручиком и участвовал, как мы знаем, в сражениях при Кинбурне и осаде Очакова.
Незадолго перёд штурмом последнего он был ранен пулей, ворвавшись и чуть не овладев одним из очаковских укреплений.
К телесным страданиям Суворова присоединились и душевные скорби.
Григорий Александрович выговаривал ему за последнее дело, где много легло русских солдат, и писал ему:
«Мне странно, что в присутствии моем делают движения без моего приказания пехотой и конницей… Извольте меня уведомить, что у вас происходить будет, да не так, что даже не прислали мне сказать о движении вперед».
Александр Васильевич, огорченный этим выговором, просил Потемкина позволить ему удалиться в Москву для излечения ран.
Он писал, между прочим, князю:
«Невинность не терпит оправдания; всякий имеет свою систему, так и по службе я имею свою. Мне не переродиться, и поздно! Светлейший князь! Успокойте остатки моих дней!.. Шея моя не оцарапана — чувствую сквозную рану, — тело мое изломано. Я христианин, имейте человеколюбие! Коли вы не можете победить свою немилость, удалите меня от себя. На что вам сносить от меня малейшее беспокойство. Добродетель всегда гонима. Вы вечны; мы кратки».
Потемкин отпустил Суворова, но не вследствие немилости, а искренно примирившись с ним, и называл его в письмах сердечным другом.
По взятии Очакова Александр Васильевич встретился с Григорием Александровичем в Петербурге.
Григорий Александрович неоднократно назывался к нему на обед.
Суворов всячески отказывался, но наконец был вынужден принять князя с многочисленной свитой.
Накануне назначенного для обеда дня Александр Васильевич позвал к себе лучшего княжеского метрдотеля Матоне и поручил ему, не щадя денег, изготовить великолепнейший стол; а для себя велел своему повару Мишке приготовить только два постных блюда.
Обед был самый утонченный и удивил даже Потемкина, но Суворов под предлогом нездоровья ни до чего не касался, за исключением своих двух блюд.
На другой день, когда метрдотель принес ему счет, простиравшийся за тысячу рублей, он подписал на нем: «Я ничего не ел» — и отправил князю.
Потемкин рассмеялся и тотчас же заплатил деньги и сказал:
— Дорого стоит мне Суворов.
Императрица приняла Александра Васильевича в Петербурге очень милостиво и пожаловала ему бриллиантовое перо на каску с изображением буквы К. в воспоминание славного кинбурнского дела.
В 1789 году Суворов снова вернулся в действующую армию.
Первыми славными делами его в эту кампанию были битвы при Фокшанах и на берегах Рымника.
В последней он явился спасителем австрийского корпуса, находившегося под начальством принца Кобургского.
Принц, увидав неожиданно перед собой турецкую армию, послал нарочного за помощью к Суворову.
— Иду! Суворов… — отвечал Александр Васильевич.
Тотчас по прибытии его принц приказал просить его к себе.
— Суворов Богу молится! — был получен ответ.
Принц, немного подождав, прислал вторично.
— Суворов ужинает, — получил он в ответ.
Третьему нарочному, присланному принцем, отвечали:
— Суворов спит.
Между тем он не думал спать, а с высокого дерева обозревал расположение неприятельских войск и слез только тогда, когда совершенно стемнело.
На рассвете он явился к принцу и условился с ним о нападении.
Турки между тем в надежде, что будут иметь дело с одними австрийцами и легко победят их, перешли через крутые берега Рымника и сами атаковали неприятеля.
Тут они неожиданно для себя встретились с суворовскими штыками.
Когда великому визирю доложили, что войском командует Суворов, он не поверил и сказал:
— Это, наверное, другой Суворов, потому что первый умер от ран в Кинбурне.
Турки обращены были в позорное бегство.
Суворов преследовал бежавших, не давал им пощады, приказав рубить их всех и не брать в плен.
Следствием рымникской победы было, как мы уже знаем, взятие Белграда, сдача Аккермана и Бендер.
Императрица истинно по–царски наградила победителя.
Александр Васильевич получил знаки ордена Андрея Первозванного, осыпанные бриллиантами, шпагу, тоже украшенную бриллиантами и лаврами, с надписью: «Победителю верховного визиря», диплом на графское достоинство с наименованием Рымникского и орден Святого Георгия первого класса.
Последняя награда особенно обрадовала Александра Васильевича.
Вот что писал он по этому случаю своей единственной, горячо любимой им дочери, воспитывавшейся в институте в Петербурге.
«Слышала ли, сестрица, — в письмах Суворов иногда в шутку так называл свою дочь, — душа моя. От моей щедрой матушки: рескрипт на полулисте, будто Александру Македонскому; знаки св. Андрея тысяч в пятьдесят, да выше всего, голубушка, первый класс св. Георгия. Вот каков твой папенька за доброе сердце. Чуть, право, от радости не умер».
Император Иосиф пожаловал Александра Васильевича графом Римской империи, а принца Кобургского в генерал–фельдмаршалы.
После сражения принц, сопровождаемый своим штабом, пришел в палатку Суворова, и оба полководца со слезами на глазах бросились друг другу в объятия.
Все эти подвиги и победы Александр Васильевич приписывал далеко не себе, а солдатам — чудо–богатырям, как он всегда называл их.
— Помилуй Бог, — говаривал он о них, — это моя семья, мои дети! Я с ними пройду весь свет, принесу Царь–град на плечах и сложу у ног моей матушки царицы.
Многие удивлялись привязанности к нему со стороны солдат.
— А знаете ли вы, — говорил Суворов, — за что меня солдаты любят и народ уважает?
— За ваши геройские подвиги.
— Полноте, геройские подвиги не мои, а того же солдата!.. Любит же он меня за то, что я забочусь о нем, люблю его как брата родного, как сына, рано встаю, пою петухом и не изгибаюсь ни перед неприятельскими пулями, ни перед дураками.
Солдаты и народ действительно боготворили Александра Васильевича.
Первые иначе не называли его как «отцом родным».
— Батюшка нам родной!
— Кормилец!
— Ясный сокол!
— Красное солнышко!
Таковы были, эпитеты Суворова, даваемые ему в народе и в войске.
Его‑то и избрал Потемкин для взятия твердыни Измаила, считавшегося неприступной.
Суворов тоже не понимал этого слова.
XVI ИЗМАИЛ
Наступил декабрь 1790 года.
Взять Измаил было тогда единственной мыслью Григория Александровича Потемкина.
О чем бы он ни начинал говорить, всегда кончалось тем, что он переводил разговор на эту неприступную, сидевшую неотступно в его мозгу турецкую твердыню.
По оборонительным средствам это была третья крепость в Европе: вал ее имел четыре сажени вышины, а ров семь сажен глубины и столько же ширины, шесть бастионов защищали стену крепости.
Гарнизон, снабженный на несколько месяцев провиантом, состоял из 35 000 человек отборного войска под командой храброго сераскира Аудузлу–паши.
Турки, таким образом, не без основания считали Измаил неприступным.
Гудович и Кутузов открыли осадные работы, но, не предвидя успеха, собрали военный совет, который, приняв в соображение наступление ненастной погоды, появившейся в войсках болезни, крайнее изнурение солдат и недостаток в продовольствии, решил снять осаду.
Известие это не успело еще дойти до Потемкина, когда, однажды вечером, де Витт, гадая светлейшему на картах, сказал, что Измаил сдастся через три недели.
— Я умею гадать лучше вас! — отвечал с улыбкой Григорий Александрович и вышел в свой кабинет.
Оттуда он немедленно послал приказ Суворову:
«Взять Измаил во что бы то ни стало».
Александр Васильевич понимал почти невозможность исполнить это приказание. Все лучшие военные авторитеты того времени признавали штурм Измаила делом неисполнимым.
Вся армия Суворова состояла из 28 000 человек, терпевших от болезней и недостатков.
Но… Солдат не рассуждает — Суворов стал готовиться к приступу, послав начальнику крепости письмо светлейшего главнокомандующего, в котором Потемкин требовал сдачи Измаила.
— Скорее Дунай остановится в своем течении и небо преклонится к земле, нежели сдастся Измаил! — отвечал гордый Аудузлу–паша.
Суворов послал ему вторично письмо от себя:
«Если сераскир в тот же день не выставит белого флага, то крепость будет взята приступом и гарнизон сделается жертвой ожесточенных воинов».
Это письмо осталось без ответа.
На Григория Александровича между тем напала нерешительность, и он послал Суворову вторичное приказание:
«Если предвидится невозможность взять Измаил, то оставить».
Александр Васильевич отвечал:
«Намерение мое твердо решено; два раза русские были у ворот Измаила: стыдно будет третий раз отступать».
Собран был военный совет.
Бригадир Платов — будущий герой Отечественной войны 1612 года [57], первый написал: «Штурмовать».
Другие написали то же.
Радостно принял это решение Александр Васильевич.
— Один день — Богу молиться; другой день — учиться; третий день — славная смерть или победа! — воскликнул он.
Из каждого полка были выбраны лучшие старые солдаты.
— Чудо–богатыри, — сказал им Суворов, — крепость непременно должна быть взята; это повелевает матушка царица, а воля ее — святой закон.
Наступила ночь на 11 декабря.
Еще часа за три до рассвета во всем русском лагере царила глубокая тишина.
Вдруг взвилась ракета и рассыпалась сотнями звезд во тьме ночи.
Штурмовые колонны стали по своим местам.
По второй ракете войско двинулось, а по третьей бегом бросилось к крепости.
Гробовую тишину не нарушал ни один выстрел.
Только в двухстах шагах от Измаила нападающие были встречены адским огнем со всех батарей и со всего вала.
Турки, зная хорошо Суворова, не спали и ожидали нападения.
Пули, ядра и картечь свистели в воздухе. Огненный дождь лился на русские войска. Весь Измаил светился от выстрелов.
Наши продолжали продвигаться вперед, не отвечали на выстрелы и подошли ко рву крепости.
Мигом стрелки рассыпались по краю рва, и под прикрытием их выстрелов русские спустились в ров, приставили к стенам лестницы и полезли на вал.
Завязался страшный рукопашный бой.
В числе бывших на валу находился и Кутузов, этот тоже будущий герой двенадцатого года, более двух часов боровшийся с малочисленным отрядом против несметного числа неприятелей, получавших беспрестанно свежие подкрепления.
Наконец он послал своего адъютанта к Суворову с донесением, что вскоре он не будет более в силах удержаться на валу, и просил помощи.
Суворов ответил посылкой 200 человек и велел передать Кутузову, что поздравляет его комендантом крепости Измаил.
Только Суворов мог сказать эти замечательные слова, и только Кутузов мог понять их.
Последний возобновил отчаянную битву.
Рассветало.
Битва продолжалась с обоюдным ожесточением.
Час проходил за часом, а кровопролитная резня не прекращалась.
Русские стояли уже твердой ногой в Измаиле и бились с неприятелем на улицах крепости.
Наконец победа была одержана окончательно.
Измаил пал.
Перо прозаика слишком слабо для описания подробностей этого свирепого штурма, где люди превратились в зверей, где кровь лилась потоками и где живые дрались, попирая ногами мертвых и даже полумертвых.
Недаром взятие Измаила, считавшееся беспримернейшим эпизодом всемирной истории, вдохновило гений Байрона, посвятившего в своем «Дон–Жуане» этому событию много чудных строк.
Приведем их:
Над крепостью раздался крик «Аллах!», Зловещий грохот битвы покрывая, И повторился он на берегах; Его шептали волны, повторяя; Он был и вызывающ, и могуч, И даже, наконец, из темных туч Святое имя это раздавалось, «Аллах, Аллах!» — повсюду повторялось. … … … … … … … … … … … . . Сдавался шаг за шагом Измаил И превращался в мрачное кладбище. … … … … … … … … … … … . . Нет, не сдались твердыни Измаила, А пали под грозою. Там ручьем. Алея, кровь струи свои катила… … … … … … … … … … … … . . Штыки вонзались, длился смертный бой, И здесь и там людей валялись кучи; Так осень, убор теряя свой, В объятьях бури стонет лес дремучий…Наш славный русский поэт Г. Р. Державин написал оду на взятие Измаила. Вот несколько стихов из нее:
Представь последний день природы, Что пролилася звезд река. На огнь пошли стеною воды, Бугры взвилися в облака; Что вихри тучи к тучам гнали, Что мрак лишь молньи освещали, Что гром потряс всемирну ось, Что солнце, мглою покровенно, Ядро казалось раскаленно: Се вид, как вшел в Измаил Росс.Трофеями штурма Измаила были: 200 орудий, 360 знамен, 10000 пленных и более нежели на два миллиона разных товаров и военных припасов.
Убитых со стороны турок было 15 000 человек, а с нашей — 10000 человек убитыми и ранеными.
Утром 11 декабря Александр Васильевич Суворов рапортовал князю Потемкину:
«Нет крепче крепости и отчаяннее обороны, как Измаил, павший перед троном ее императорского величества кровопролитным штурмом. Нижайше поздравляю вашу светлость».
Императрице Суворов рапортовал кратко:
«Знамена вашего величества развеваются на стенах Измаила».
Григорий Александрович торжествовал.
Город Яссы принял праздничный вид.
От дворца светлейшего по дороге к Измаилу были расставлены сигнальщики, и адъютанты князя- скакали взад. и вперед по всему протяжению.
Григорий Александрович ожидал к себе Суворова.
Но день проходил за днем, а герой Измаила не приезжал.
Оказалось, что Александр Васильевич, не любя никаких парадных встреч, нарочно приехал в Яссы ночью, а рано утром явился к Потемкину в длинной молдаванской повозке, заложенной парой лошадей в веревочной сбруе.
Один из адъютантов Потемкина узнал, однако, приехавшего в этом оригинальном экипаже и поспешил доложить об этом светлейшему.
Григорий Александрович вышел на крыльцо и обнял и расцеловал измаильского победителя.
— Чем могу я, дорогой граф Александр Васильевич, — сказал он ему, — наградить вас за все победы над врагами и за взятие Измаила… Скажите, друг мой!
Этот покровительственный тон оскорбил Суворова.
— Помилуй Бог, ваша светлость! — отвечал он, отвешивая чуть не земной поклон. — Сколько милости!.. Меня никто не может награждать, кроме Бога и всемилостивейшей нашей матушки, государыни царицы.
Григорий Александрович побледнел и закусил губу.
Молча он прошел в залу, где Суворов с почтительностью подчиненного подал ему рапорт.
Фельдмаршал холодно принял его и так же холодно расстался с Александром Васильевичем.
Его гордости был нанесен страшный удар.
Это не прошло даром Суворову.
Он был вскоре отозван в Петербург.
Императрица, желая вознаградить его, велела спросить, где он желает быть наместником.
— Я знаю, — отвечал Александр Васильевич, — что матушка царица слишком любит своих подданных, чтобы наказать мною какую‑либо губернию… Я размеряю силы с бременем, какое могу поднять… Для другого невмоготу и фельдмаршальский мундир.
Но фельдмаршальского мундира он не получил и сделан был лишь подполковником лейб–гвардии Преображенского полка.
Дочь его была пожалована фрейлиной.
Падение Измаила произвело сильное впечатление на Турцию, но, уверенная в помощи Пруссии и Англии, Порта отвергла мирные условия, предложенные ей Потемкиным, и решилась продолжать войну.
Вследствие этого Григорий Александрович, приказав войскам расположиться на зимних квартирах в Молдавии, начал деятельные приготовления к предстоящей кампании.
Расположение духа светлейшего было в это время далеко не из веселых.
Уже в последних письмах к нему императрицы он читал между строк, что государыня недовольна громадностью военных издержек и жаждет мира.
Между ею и им стали набегать черные тучки.
В Петербурге же при дворе появилось новое лицо — Платон Александрович Зубов — новое восходящее придворное светило.
Быстрое возвышение двадцатидвухлетнего Зубова [58] было неожиданно для всех, а особенно для Потемкина.
В 1789 году он был только секунд–ротмистром конной гвардии, на следующий год он уже был флигель–адъютантом государыни, генерал–майором и кавалером орденов: Святого Станислава, Белого Орла и Святой Анны и Святого Александра Невского.
При таких явных знаках благоволения монархини надменный Зубов не искал благосклонности и покровительства Потемкина и не обнаруживал к нему того раболепного уважения, с каким все преклонялись перед князем Тавриды.
Такая смелость глубоко потрясла душу человека, в течение пятнадцати лет привыкшего не видеть себе совместника в доверии императрицы, в ведении государственных дел и в общественном мнении относительно силы своей у престола.
Чувство оскорбленного колоссального самолюбия зародилось в груди всемогущего до этого времени вельможи.
Ни пышность, ни великолепие, его окружавшие, ни почести, везде ему воздаваемые, не могли залечить этой ноющей раны.
Особенно в Яссах, после взятия Измаила, был он мрачен, задумчив, скучен, искал развлечений и нигде не находил их.
Не скрывая своих чувств от государыни, Григорий Александрович писал ей в конце 1790 года:
«Матушка родная! При обстоятельствах отягощающих, не оставляйте меня без уведомления. Неужели вы не знаете меру моей привязанности, которая особая от всех. Каково слышать мне со всех сторон нелепые новости и не знать: верить мне или нет? Заботы в такой неизвестности погрузили меня в несказанную слабость. Лишась сна и пищи, я хуже младенца. Все видят мое изнурение. Ехать в Херсон, сколь ни нужно, не могу двинуться; в подобных обстоятельствах скажите только, что вы здоровы».
В начале февраля 1791 года Потемкин начал готовиться к отъезду из Ясс в Петербург и, сделав распоряжение по армии и флоту, 9 февраля снабдил князя Репнина следующей инструкцией:
«Отъезжая на кратчайшее время в С. — Петербург, препоручаю здесь командование всех войск вашему сиятельству, а потому и предписываю: сколь возможно, остаться до времени без движений, ради успокоения войск, разве бы нужно было подкреплять которые части. Флот гребной исправить вскорости. Как крепости Измаил, Килия и Аккерман должны быть уничтожены, то взять на то меры, употреблять Жителей на помянутую работу. Против неприятеля иметь всю должную осторожность. С поляками обходиться ласково и дружно, но примечать. Если бы турки вызвались на переговоры и предложили бы перемирие, не принимать иначе, как разве утвердят прелиминарно объявленный от меня им ультимат, состоящий в том, чтобы утверждено было все поставленное в кайнарджинском трактате и потом бывшие постановления; границу новую на Днестр и возвращение Молдавии и Валахии, на кондициях, выгодных для помянутых княжеств. Казначейство будет зависеть от вашего распоряжения, о чем и в Варшаву я дал знать. Работами судов на Пруте и Днестре поспешить прикажите и почасту наблюдать. Я в полной надежде, что ваше сиятельство все устроите у лучшему. Меня же уведомляйте чрез курьеров каждую неделю».
Мечты о восстановлении Византии снова начали копошиться в уме Потемкина, особенно вследствие того, что императрица под влиянием Зубова и его партии желала прекращения военных действий.
Григорий Александрович надеялся лично убедить государыню в необходимости продолжения войны.
Мысль о Зубове не давала ему покоя.
— Зуб болит, — говаривал он окружающим, — еду в Петербург вырвать…
Близкие к князю понимали этот намек.
Кроме этого государственного дела у князя было в Петербурге еще дело личное…
Он хотел сам возвратить княгине Святозаровой ее сына Владимира.
Получив в дороге письмо княгини, он тотчас же ответил ей, что ее сын с честью сражается с неприятелем и вполне достоин имени, которое носит его мать, и что по окончании кампании он сам привезет его к ней.
В письме он много не распространялся.
Тогда же Григорий Александрович написал императрице письмо с подробным изложением семейного дела князей Святозаровых и его в нем участия и просил высочайшего ее соизволения на восстановление прав усыновленного дворянина Владимира Андреевича Петровского, дарования ему княжества и фамилии его отца Святозарова.
«Только сделать это надо, матушка, секретно, чтобы злые языки о том не проведали и не оскорбили княгиню–страдалицу нелепым подозрением», — заключил свое письмо Потемкин.
Императрица отозвалась на это письмо чутким женским сердцем, и просьба Потемкина была исполнена.
Владимир Андреевич Петровский, за жизнью и воспитанием которого неусыпно следил князь, действительно, окончив курс в московском университетском пансионе, по собственному желанию пошел в военную службу, в армию, и в описываемое нами время служил в отряде Кутузова.
Во время штурма Измаила он был легко ранен и ко времени отъезда светлейшего находился накануне выписки из лазарета.
В день своего отъезда Потемкин подписал приказ о переводе Владимира Андреевича Петровского в гвардию, с откомандированием в распоряжение фельдмаршала.
XVII НА ПУТИ
Вторая поездка Григория Александровича Потемкина в Петербург с театра военных действий сопровождалась такой же торжественною обстановкою, как и первая, после Очакова.
Во всех городах были парадные встречи, при звоне колоколов и пальбе из пушек, если таковые, конечно, имелись в тех городах, которые проезжал светлейший фельдмаршал.
Роскошные пиры и праздники устраивались в честь победителя Очакова и Измаила в более значительных городах.
Ночью путь князя освещался горящими смоляными бочками.
Но пресыщенного властелина не тешили почести, не радовали торжества.
Он был уныл, сердит и мрачен.
Лишь при особом уменье приближенных к нему лиц в нем пробуждались интерес к чему‑нибудь и желание.
В одном из маленьких городов, лежавших на пути, жители ожидали проезда светлейшего с особенным нетерпением, так как хотели подать ему просьбу о городских нуждах.
Дни шли за днями.
Наконец ночью появился экипаж Потемкина.
Жители окружили его.
Но, на их беду, князь дремал и не велел себя тревожить и останавливаться в городе.
В этом затруднительном положении горожане обратились к одному из свиты светлейшего, и тот, тронутый их просьбами, согласился устроить дело.
Когда Григорий Александрович сердито спросил, скоро ли будут готовы лошади, он отвечал:
— Сейчас, ваша светлость! А какая здесь капуста, какой хлеб! — добавил он как бы про себя, со вздохом.
Потемкин вдруг встрепенулся:
— Где, братец, давай сюда!
Капуста и хлеб были мигом поданы.
Они оказались действительно прекрасными.
Князь покушал, похвалил, внимательно рассмотрел просьбу горожан и, найдя ее справедливой, тут же удовлетворил их желания.
Светлейший приближался к Тульской губернии.
Знали, что он выразил желание пробыть в Туле несколько дней, чтобы осмотреть оружейный завод.
— Тульский завод, — сказал дорогой Григорий Александрович, — есть такое государственное заведение, такой военный предмет, который заслуживает моего внимательного обозрения, и я непременно займусь этим делом тщательно и серьезно.
Когда это намерение светлейшего стало известно в Туле, все пришло в движение.
Везде готовились роскошные торжества, спектакли, иллюминации и разного рода увеселения.
Местные власти с неутомимой энергией спешили привести в порядок город и завод, в сладкой надежде хотя на одно слово похвалы полудержавного властелина, хотя на один взгляд одобрения.
Так ценны были милости светлейшего.
Тульский губернский предводитель с дворянством и чиновники всех присутственных мест были наготове по первой повестке явиться в парадных кафтанах к тульскому наместнику, генерал–аншефу Михаилу Никитичу Кречетникову, для представления могущественному вельможе.
По–видимому, и народ принимал живейшее участие в этой парадной встрече.
Множество крестьян пришли в Тулу из ближайших сел и деревень.
Все хотели посмотреть на человека, на которого обращено было внимание всех и слава о котором гремела по всей обширной России.
Ежедневно толпы этого пришлого люда собирались по Киевской улице и осаждали тогда еще существовавшие триумфальные ворота, дворец, где должен был остановиться высокий Путешественник, и крепость.
Михаил Никитич Кречетников, зная хорошо Григория Александровича, приказал на всякий случай приготовить на каждой станции все, что только могло удовлетворить причудливый вкус князя.
Тульский губернатор Андрей Иванович Лопухин ожидал дорогого гостя на границе Мценского уезда.
Все суетилось, готовилось, хлопотало.
Наконец светлейший въехал в Тульскую губернию и, нигде не останавливаясь, даже не вылезая из своего зимнего дормеза, продолжал путь.
Таким образом, сопровождаемый губернатором, капитаном–исправником и некоторыми чиновниками, он проскакал Малое и Большое Скуратово — станции, где переменяли лошадей, а Лопухин все еще не видал его.
Желая непременно представиться светлейшему и донести об этом свидании наместнику, Лопухин решил обратиться к любимому адъютанту князя — Бауру, который был не только ему знаком, но даже несколько обязан.
Это было в Сергиевске, в шестидесяти верстах от Тулы, где переменяли лошадей.
Баур, сидевший вместе с Григорием Александровичем, вышел из дормеза, и Лопухин попросил его каким‑нибудь средством доставить ему случай сейчас представиться князю.
— Хорошо, — ответил Баур, — я сделаю все, что могу, но за успех не ручаюсь.
Подойдя к дормезу и обращаясь к своим товарищам — другим адъютантам, которые от инея, облепившего их с головы до ног, были похожи на белых медведей, он громко сказал:
— Вот каков русский мороз: и без румян покраснеешь! Бррр… хорошо бы теперь, знаете, перекусить чего‑нибудь да подкрепиться водочкой.
Князь из наглухо закрытого дормеза не подавал голоса, хотя мог слышать этот разговор.
— Кто бы отказался от таких благ! — подхватил один из адъютантов, переминаясь с ноги на ногу у дормеза.
Потемкин молчал.
— Этак, пожалуй, чего доброго, застынешь как студень, — продолжал Баур.
— Ты шутишь, а нам не до шуток — мы смертельно перезябли.
Потемкин молчал.
— Ваша светлость, — крикнул наконец потерявший терпенье Баур, подойдя к самому окну дормеза, — здесь приготовлен вкусный завтрак.
Григорий Александрович сделал легкое движение.
— Тульские гольцы теперь только из воды, а калачи еще горячие. Право, все это стоит внимания вашей светлости.
Стекло дормеза опустилось.
— Алексинские грузди и осетровая икра заслуживают того же… — продолжал Баур.
— Гм!.. — отвечал Потемкин.
— А ерши, крупные, животрепещущие, так и напрашиваются в рот.
— Ой ли?
— Сверх того, ваша светлость, здесь мигом приготовят и яичницу–глазунью.
— Вели отворить карету! — крикнул Григорий Александрович, видимо соблазненный последним блюдом русской кухни.
Светлейший вышел из дормеза, вытянулся во всю длину своего роста, окинул блуждающим взором своих полузамерзших спутников и сказал Попову и Бауру:
— Пойдем.
Они отправились к почтовому дому, где их действительно ожидали сытные яства и Превосходное вино.
Когда с князя сняли шубу, он скорее упал, нежели сел в вольтеровское кресло в каком‑то изнеможении, которое, вероятно, было следствием продолжительной и необыкновенно скорой езды.
Баур, улучив минуту, доложил ему, что тульский губернатор сопровождает их и желает представиться его светлости.
— Попроси сюда господина губернатора, — отвечал Григорий Александрович и велел своему камердинеру подать флягу с водкой.
Баур бросился за Лопухиным в другое отделение почтового дома.
— Его светлость просит ваше превосходительство к себе… Пожалуйте скорее…
Лопухин не заставил себя ждать и вошел к князю, который, сидя откинувшись на спинку кресла, отвинчивал серебряную крышку у фляги, оклеенной красным сафьяном.
Увидя вошедшего, он сделал легкое движение головой, что означало поклон, и холодно сказал:
— Напрасно вы беспокоились, я слышал, что вы проехали с нами две станции.
— Три, ваша светлость, — отвечал Андрей Иванович.
— Напрасно, повторяю вам, — возразил князь, — я, право, не мог этого знать, потому что не выходил из кареты.
Крышка между тем была отвинчена.
Светлейший налил в нее из фляги тминной водки, которую всегда употреблял, выпил, потом налил Попову, а флягу отдал Бауру, который, в свою очередь, также налил из нее, проглотил свою порцию и передал флягу камердинеру.
— Я здесь немного отдохну и позавтракаю, — продолжал Григорий Александрович, обращаясь к Лопухину, — а вы поезжайте с Богом в Тулу и потрудитесь поклониться Михаилу Никитичу, с которым я сам скоро увижусь… Вас же лично благодарю.
Князь опять сделал легкое движение головой.
Андрей Иванович низко поклонился, вышел из комнаты, надел шубу, сел в сани и помчался в город.
Наступило продолжительное молчание.
Подали яичницу.
Баур напомнил о ней светлейшему, полулежавшему в кресле в мрачной задумчивости.
— Яичница готова, ваша светлость! — сказал Баур.
Потемкин встрепенулся как бы от сна и начал завтракать.
Его примеру последовала и свита, и скоро яичница, а за ней и другие кушанья были истреблены по–военному.
В этот день вечером вся Тула осветилась блестящей иллюминацией.
Светлейший въехал в город.
Наместник, губернатор, вице–губернатор, губернский и уездный предводители с дворянством, многие военные генералы, штаб–офицеры, гарнизон, все чиновники присутственных мест встретили его у дворца.
Григорий Александрович был на этот раз в хорошем расположении духа.
Он был крайне вежлив с Кречетниковым, повторил свою благодарность Лопухину, сказал несколько приветливых слов генералам, губернскому предводителю, вице–губернатору, похвалил почетный караул, ординарцев и, сделав всём остальным общие поклоны, прошел вместе с наместником и губернатором во внутренние покои дворца.
На другой день за обеденным столом, к которому было приглашено более сорока особ, Григорий Александрович, обращаясь к Кречетникову, сидевшему с ним рядом, сказал, указывая на некоторые кушанья:
— Я замечаю, Михаил Никитич, что вы меня балуете. Все, что я видел и вижу, доказывает особое ваше обо мне озабочивание.
— Очень рад, ваша светлость, — отвечал тот, улыбаясь, — что я мог угодить вам этими мелочами.
Взяв с тарелки огромную мясновскую редьку, стоявшую на столе под хрустальным колпаком, Потемкин отрезал от нее толстый ломоть и продолжал:
— У вас каждое блюдо так хорошо смотрит, что я начинаю бояться за свой желудок.
Редька ему чрезвычайно понравилась; но он, к удивлению всех, взял вслед за тем свежий ананас, разрезал его пополам и начал есть, заметив:
— У всякого свой вкус.
Когда наместник провозгласил тост за князя, музыка заиграла туш и артиллерия, привезенная из парка, открыла пальбу.
— Все это прекрасно, Михаил Никитич, — сказал князь Кречетникову, — но здесь нет еще одной вещи, до которой я большой охотник и которую вы, помните, прислали мне с курьером в Бендеры.
— Не могу догадаться, ваша светлость, — отвечал несколько изумленный Кречетников.
— Вы, кажется, и калужский наместник?
— Точно так, ваша светлость.
— А забыли, что тульские обварные калачи едва ли лучше калужского теста…
На другой день за завтраком светлейший уже ел калужское тесто.
Князь между тем не забыл главнейшей цели пребывания своего в Туле — оружейного завода.
Он посвятил ему два утра и осмотрел подробно во всех частях.
Многое он одобрил, но многое нашел требующим значительных улучшений и преобразований.
Он сделал тут же некоторые распоряжения и приказал начальству выбрать двух чиновников, которых хотел послать в Англию для изучения оружейного искусства.
Он изъявил, кроме того, желание вызвать оттуда же опытных и знающих мастеров для закалки стали, которую делали у нас очень дурно.
Эти предположения светлейшего осуществились уже после его кончины.
Два дня и два вечера толпился народ на тульских улицах, то бегал за каретой Потемкина, с любопытством и уважением поглядывая на знаменитого вельможу, то любовался иллюминацией, дивился прозрачным картинам, глазел на тысячи предметов, для него диковинных и чудесных.
Два дня и два вечера в Туле беспрерывно происходили торжества, спектакли, раздавались музыка и песни.
Наконец Григорий Александрович уехал, и город снова вернулся к своей однообразной и скучной жизни.
Императрица отправила навстречу светлейшему главнокомандующему графа Безбородко.
Она ждала своего друга с радостью, вельможи же которых он заслонил своим присутствием, с ненавистью.
Среди всей придворной толпы один только не боялся предстоящей встречи — это Платон Зубов.
Страшно честолюбивый и затаивший ненависть против Потемкина, не дававшего ему быть «первой персоной» в государстве, он, поощряемый большой партией при дворе и благоволением государыни, вздумал сломить гиганта.
Предстояла борьба великана с пигмеем.
Встреча князя в Петербурге, куда он прибыл 28 февраля 1791 года, была необыкновенна по своей пышности.
XVIII ДЕНЬ ПОТЕМКИНА
С первого взгляда казалось, что Григорий Александрович ничуть не утратил своего могущества.
Роль его в устройстве государственных дел по–прежнему была первенствующая.
Имя его имело такое же, как и прежде, обаяние в придворных сферах.
Но… — это «но» было и у Потемкина; хотя императрица и относилась к нему по–старому благосклонно, однако порой замечалось с ее стороны как бы какое‑то тайное предубеждение против князя.
Это были, видимо, результаты наветов графа Платона Зубова.
Светлейший по самому своему характеру не был склонен к мелким интригам — он привык сокрушать с маху, одним ударом, а не валить противника «под ножку».
Понятно, почему этот чисто русский богатырь не мог терпеть совместничества во власти с Зубовым.
Не желая иметь с ним частых встреч, князь не остановился в приготовленных душ него его прежних покоях в Зимнем дворце, а поселился в Таврическом.
Столкновений между этими «светилами», одним еще стоявшим в зените, а другим восходящим, не было, по крайней мере крупных.
Из мелких отметим лишь одно.
Вскоре после приезда Григория Александровича в столицу императрица объявила Зубову, что дарит ему за заслуги имение в Могилевской губернии, заселенное 15 000 душ крестьян, но потом спохватилась, вспомнив, что имение это уже подарено Потемкину.
Тогда она раз за обедом сказала князю:
— Продай мне твое могилевское именье.
— При всем моем желании исполнить желание вашего величества, — сказал, весь вспыхнув, Потемкин, догадавшись, для кого предназначается покупка, — исполнить не могу.
— Почему?
— Я продал имение…
— Кому?
— Вот ему… — оглянувшись кругом, сказал Потемкин, указывая на стоявшего за его креслам молодого камер–юнкера Голынского.
Императрица, догадавшись, что князь догадался о ее намерении, сильно смущенная, растерянно спросила Голынского:
— Как же ты это купил именье у светлейшего?
Григорий Александрович бросил на молодого человека выразительный взгляд.
— Точно так, ваше величество, купил… — ответил с низким поклоном догадливый Голынский.
В этом поступке виден гигантский размах «великолепного князя» — он не пожалел огромного богатства, швырнув его юноше, лишь бы это богатство не досталось Зубову.
В общем отношении Екатерина к своему подданному другу оставалась, однако, по–прежнему благосклонной. На него сыпались милостивые знаки внимания, награды и подарки.
Григорий Александрович, с присущим ему тактом, сам удалялся от Зимнего дворца, проводя время у себя в Таврическом.
В своей домашней жизни князь всегда держался порядка, к которому сделал привычку еще в молодости.
Он ложился спать и вставал в назначенные часы.
Впрочем, нередко, особенно в описываемое нами время, он проводил целые ночи хотя и лежа в постели, но не засыпая, Терпел от этого не столько сам князь, сколько Василий Степанович Попов, изумлявший всех своей неутомимой деятельностью.
Когда Григорий Александрович мучился бессонницей, то беспрестанно призывал его к себе, заставлял записывать мысли и планы, отдавал различные приказания и поручал тотчас же приводить их в исполнение.
Попов являлся всегда в полной форме, работал до утра, не смыкая глаз, и, несмотря на это, когда Потемкин просыпался, первым входил к нему с донесением.
Такая неутомимость Василия Степановича удивляла иногда даже самого князя, потому что Попов, не имевший буквально минуты покоя и исправлявший самые трудные и разнообразные обязанности, был постоянно весел и бодр.
Проснувшись и выслушав доклад Попова, князь на целый час садился в холодную ванну, потом одевался, отправлял краткое утреннее моление и выходил в столовую, где уже стоял завтрак, заключавшийся обыкновенно в чашке шоколада и рюмке ликера.
Затем, если был весел, приказывал своим музыкантам и певцам исполнять какую‑нибудь кантату.
Нередко он приглашал к завтраку и красавиц своих, которые, по выражению современника, «отличным образом прелестного своего обхождения и редкой красотою могли затмить самих граций».
Когда же князь был не в духе, что также случалось нередко, к нему никто не смел являться, за исключением должностных лиц, и все двери кругом затворялись, чтобы до него не доходил никакой шум.
После завтрака к Григорию Александровичу снова входил Попов, вручал полученные бумаги и письма и оставался до тех пор, пока не получал приказание удалиться.
Попова сменял секретарь, имевший доклад два раза в день, потом медик, наконец, все, прибывшие с поручением от разных правительств, иностранцы.
По отпуске последних Потемкин запирал свой кабинет и оставался часа два один.
Служить у Потемкина было трудно.
Василий Степанович Попов, отлично изучивший все отвычки светлейшего, никогда и ни в каком случае не начинал говорить первым и не осмеливался напоминать ему о каком‑либо деле, которое он почему бы то ни было медлил исполнять, потому что князь, никогда и ничего не зазвавший, терпеть не мог напоминаний.
Не только служившие при князе лица, но даже все вельможи и иностранцы без изъятия должны были приноравливаться к его характеру, если не хотели навлечь на себя его неудовольствия и гнева.
Перед обедом, если не было надобности собственноручно писать к императрице или не удерживали другие важные дела, Григорий Александрович обыкновенно ехал навестить кого‑нибудь из своих близких.
При возвращении он подписывал все приготовленные бумаги, отдавал пароль и в два часа садился обедать.
Насколько был великолепен двор светлейшего, по блеску и многочисленности равнявшийся королевскому, настолько был роскошен и его стол, к которому ежедневно собиралось несколько десятков гостей, званых и незваных.
В продолжение обеда играл прекрасный домовый оркестр князя, меняясь по очереди с хорами русских песенников и оперных певцов и певиц.
В это время Потемкин был почти всегда весел, разговорчив и любезен.
Хотя он величественностью своей осанки и обхождением, немного резким и гордым, внушал каждому какое‑то подобострастие к себе, тем не менее все современники согласны в том, что князь был очень внимателен и снисходителен к своим гостям и не делал между ними никакого различия.
Григорий Александрович старался строго следовать правилам умеренности и трезвости и для сбережения своего здоровья воздерживался иногда по целым месяцам от употребления вина и других излишеств.
После обеда, который продолжался не более двух, иногда трех часов, князь, посидев еще немного с гостями, удалялся в свой кабинет, где так же, как поутру, оставался некоторое время один.
Затем, если не препятствовали дела, он развлекался игрой в карты с приближенными к нему людьми.
Игра происходила всегда в глубокой тишине, потому что партнеры князя, зная его привычки, не говорили ну слова, кроме того, что следовало по игре или если Григорий Александрович не подавал сам повода к разговору.
Вечером Потемкин занимался гимнастикой или гулял пешком. Потом ехал в концерт или театр, если не назначал у себя вечера, что бывало довольно часто.
Кроме порядка, введенного в доме князя и соблюдавшегося им даже в походах, он нередко давал великолепные, стоившие огромных издержек балы, на которые приглашались все придворные, генералитет, офицеры.
Сознавая вполне необходимость и пользу развлечений, Потемкин заботился доставлять их не только себе, но и своим подчиненным.
«Чтобы человек был совершенно способен к своему назначению, — говорил он, — потребно оному столько же веселия, сколько и пищи; в рассуждении сего наипаче надлежит помышлять о солдатах, кои без того, быв часто повергаемы великим трудам и отягощениям, тратят бодрость и силы сердца. Унылое же войско не токмо бывает неспособно к трудным предприятиям, но и легко подвергается разным болезням».
Руководствуясь таким правилом, Григорий Александрович не жалел ни трудов, ни денег на устройство и содержание вверенных ему войск и этим приобрел себе искреннюю любовь подчиненных и солдат.
В тех случаях, когда около князя все веселилось, был весел и сам он, хотя нередко среди веселья внезапно подвергался припадкам своей обычной скучливости и раздражительности.
Григорий Александрович ужасно боялся болезней и питал отвращение ко всяким лекарствам.
Когда он заболевал, нужно было иметь необыкновенное терпение, чтобы переносить капризы и раздражительность, проявлявшиеся в нем в это время.
Доктора возились с ним день и ночь, как с ребенком, и должны были давать ему лекарства обманом, в пище и питье, потому что иначе он ни за что бы не принял их.
Несмотря на все просьбы и наставления медиков, он никогда не хотел слушаться их советов, не лежал в постели, когда того требовали обстоятельства болезни, и не мог долго выдержать диеты.
Как только силы ему позволяли, он тотчас же выезжал и без разбора ел все, что нравилось.
Скорое выздоровление производило в Потемкине чрезвычайную радость.
Вскоре после приезда в Петербург после падения Измаила он простудился на охоте.
Врачи уложили его в постель и прописали лекарство, которое, по обыкновению, осталось нетронутым.
Почувствовав ночью сильный лихорадочный пароксизм [59], Григорий Александрович кликнул камердинера и велел поддать себе горячего пунша.
Несколько стаканов этого напитка вызвали, разумеется, обильный пот, и князь вдруг почувствовал себя совершению здоровым.
Это привело его в такой восторг, что он немедленно велел осветить весь дом, готовить великолепный ужин и разослал гонцов будить всех своих знакомых и звать их сейчас же на бал.
Еще не рассвело, как все уже танцевали под звуки двух оркестров.
Потемкин сам открыл бал и старался доставить присутствующим разнообразные удовольствия, которые продолжались до самого обеда.
Вот мнение о великолепном князе Тавриды одного из его современников:
«При великих свойствах Потемкина, нельзя не дивиться и противоположностям, кои имел знаменитый вельможа в нравственном своем поведении. Характер его с этой стороны был из самых странных, каковой едва ли можно в сравнении приискать в другом великом муже; поэтому нельзя почти верить, чтобы человек в состоянии был предаваться стольким непостоянным страстям, как Потемкин. Люди, возраставшие с ним в молодости, обнадеживали, что он прихоти сии усвоил уже в совершенных летах, с приумножением его необычайного счастия, и что в молодости своей не оказывал он и следов такого нрава. Великое богатство, дозволявшее ему издерживать ежегодно свыше трех миллионов рублей, не в состоянии было доставить ему радость, чтобы он хотя один день в покое оным наслаждался. Он не щадил великих сумм для удовлетворения страстям своим, и прежде нежели что‑либо доходило к его употреблению, он терял уже желание, побудившее его в первые мгновения сделать на то издержки. Сколько странна была сия его перемена страстей, столько же быстро действовала и переменчивость его душевного состояния; несколько раз в день можно было видеть его в полном, веселии и удовольствии и столько же раз в совершенном унынии. Нередко случалось, что во время увеселений князь ясностью своего духа и радованием превосходил всех участвующих; но прежде нежели кто‑либо мог вообразить, со–делывался он столько унынен, как бы произошли с ним все несчастия в свете. Радость и огорчение с равномерной быстротой в нем действовать могли, и потому нельзя было воспринимать осторожности, чтобы заблаговременно избегать его гнева, поелику нрав его был вспыльчивый и действия оного следовали скорее, нежели можно себе представить. Малость в состоянии была доставить ему несказанное удовольствие и опять малость могла на целый день поверх гнуть в несносную скуку. Он имел некоторые часы, в которые сердце его таяло, иногда от радости, иногда же от сострадания; еще иные, в которые ему ничто на свете не нравилось, не могло восстановить ему понуренного духа. Он имел привычку непременно окусывать ногти, отчего всегда говорил сквозь пальцы и большею частью наморщив лицо; а сие представляло в нем вид недовольный. Чтобы не видеть уныния на лице других, Потемкин, особливо же в веселом духе, расточал свои сокровища, в другое же слезы невинности и бедности служили орудием к вящему раздражению его гнева; но через несколько мгновений приходил он в состояние, в котором о поступке своем раскаивался. Вообще, кроме занятий по своей обязанности, ни к чему на свете примениться не мог».
Мы знаем истинную причину такого, оставшегося для современников, не посвященных в роман юности Потемкина, странного душевного состояния светлейшего князя, этого «несчастного баловня счастия».
Загадочная хандра в последние приезды князя в Петербург повторялась с ним особенно часто.
Причиной ее, с одной стороны, была известная нам «болезнь зуба», вырвать который оказалось труднее, нежели князь предполагал, а с другой — душевное состояние княгини Святозаровой, с которой князь виделся несколько раз и которая с нетерпением ожидала заключить в объятия своего второго сына.
Хандра напала на князя, как мы знаем, и в день приезда в Петербург Владимира Андреевича Петровского, загадочным образом попавшего с первых же своих шагов в столице в восточный домик Калисфении Николаевны Мазараки, откуда под арестом его привезли в Таврический дворец.
XIX ДУЭЛЬ
Состояние духа княгини Зинаиды Сергеевны Святозаровой со дня полученного ею от Аннушки известия о том, что сын, рожденный ею в Несвицком, появления на свет которого она, как, вероятно, не забыл читатель, ожидала с таким нетерпением, жив, до самого получения ею ответа на ее письмо от Потемкина и даже после этого ответа едва ли поддается описанию.
Она, несмотря на громадную силу воли, ходила положительно в каком‑то тумане, с единственной мыслью о предстоящем свидании со своим ребенком, которого она никогда в жизни не видала.
Из письма Григория Александровича она поняла, что последний все время заботился о Володе, как уже она мысленно называла своего сына, и, несомненно, сделал его достойным имени, которое он будет носить.
«Которое носит его мать…» — вспоминалась ей фраза из письма Потемкина.
«Почему же он не написал «достойным имени своего отца»? — возник вопрос в уме Зинаиды Сергеевны. — Он Прав! — решила она через мгновенье, и горькое чувство к покойному мужу шевельнулось в ее душе. — Царство ему небесное! — остановила она сама течение этой мысли, которое могло разрастись до страшного обвинения. — Он искупил свою вину… страшной смертью… Он покаялся перед ней коротким предсмертным письмом… Он написал в нем «наш сын»… Он безумно ревновал ее, но ревность ведь признак любви… Можно ли обвинять в чем‑нибудь человека, который любит… Любовь искупает все…» — мелькали в уме княгини мысли, клонившиеся к защите несчастного самоубийцы…
Невольно в уме Святозаровой возникло сравнение между тем сыном, который с честью сражается с неприятелем, и этим старшим, который проводит время среди праздности и веселья, в то время когда там, на границах Турции, льется кровь героев.
Володя, ее сын, один из этих героев.
Княгиня припоминает все подробности о ее неожиданно найденном сыне, рассказанные ей Григорием Александровичем, несколько раз посетившим ее по приезде в Петербург после падения Измаила.
Он похож на Васю лицом и фигурой, только немного ниже ростом да выражение лица более серьезное, вдумчивое, перебирает в своей памяти Зинаида Сергеевна. Он до сих пор не знает, кто он. Князь скажет ему это здесь, на» кануне свиданья с нею… Потемкин для этого вызовет ее к себе… Свиданье произойдет при нем…
Княгиню всю охватывала нервная дрожь при одной мысли, что эта минута скоро наступит.
Скоро, очень скоро… Князь уже уведомил ее, что ее сын выехал из Ясс и… едет… Это было вскоре после приезда светлейшего… уже давно, значит… Авось доедет благополучно… а так он здоров, совершенно здоров… Ужели… накануне… Не может быть… Бог этого не допустит.
Таковы были беспокойные мысли княгини Святозаровой.
Сердце ее болезненно сжималось, точно чуя какую‑то близкую беду…
Беда на самом деле была у ворот, но не касалась ее нового — она так и называла его — «новый» — сына Владимира.
Мы оставили князя Василия Андреевича Святозарова в тот момент, когда он возвратился к себе после объяснения с князем Потемкиным по поводу его ухаживания за Калисфенией Николаевной Мазараки, объяснения, как мы знаем, сильно подействовавшего на молодого человека и заставившего его совершенно изменить свое поведение относительно «потемкинской затворницы».
Насколько сильно ранее он искал с ней хотя мимолетной встречи, настолько после он упорно и настойчиво стал избегать ее.
Это было для него тем более необходимо, что чувство к «прекрасной гречанке» далеко не потухло в сердце князя Святозарова.
Скажем более: властное потемкинское «не тронь — моя» и данное светлейшему честное слово, положив между ним и предметом его любви безбрежную пропасть, только усилило в нем обожание к этой женщине.
Она, со времени его объяснения со светлейшим, умерла для него, но память о ней была для него священна.
Он смешивал, как это всегда бывает с влюбленными, ее личность со своим чувством и чистоту последнего переносил на его предмет.
Фривольно и двусмысленно произносимое имя Калисфении заставляло его страдать и портило на несколько дней расположение его духа.
Товарищи знали это, и более чуткие и дальновидные щадили его и были осторожны в разговорах.
Увы, такой тактики держались не все.
Граф Владислав Нарциссович Сандомирский, бесплодно, как знаем, ухаживавший за красавицей гречанкой, ничего не выиграл, удалив со своей, как ему казалось, дороги князя Василия.
Скорее даже он проиграл.
На Калисфению разрыв с князем Святозаровым, так неожиданно начатый им самим, произвел неожиданное для нее самой впечатление. Ей вдруг страшно захотелось, чтобы князь Святозаров был снова у ее ног.
Это был каприз оскорбленного женского самолюбия — импульс, зачастую заменяющий у женщин любовь и страсть.
Она изобретала всякие способы, чтобы увидаться с князем, рассчитывая на силу своих чар, писала ему письма. Но Василий Андреевич оставлял их без ответа и не являлся ни к ней, ни в места, назначенные для свиданья.
Молодая женщина выходила из себя, рвала и метала. Это состояние духа далеко не способствовало победе над ней со стороны другого.
Граф Сандомирский оставался, как выражаются гадалки, при пиковом интересе.
Красавица перестала на него обращать даже небольшое, как прежде, внимание.
Пришлось отказаться от всякой надежды.
Фат по природе и воспитанию, пустой человек, с мелким самолюбьицем, граф Владислав Нарциссович был взбешен.
Он считал уничтоженным свой престиж «неотразимого», которым он так кичился в товарищеском кругу.
Он начал поднимать этот престиж, стараясь при всяком случае намекнуть, что он был близок к «жар–птице», но что она ему надоела.
— Слишком навязчива… не люблю таких… прямо бросилась на шею, так и висит, не стряхнешь… Ну, да я не из таковских – стряхнул… С такими, как она, чем круче, тем лучше… Видали мы их не одну сотню… какое, тысячу… — врал озлобленно отвергнутый ловелас.
Товарищи посмеивались, но слушали.
Многие знали, что он врет, но молчали.
«Какое нам дело… Пусть врет…» — думали, вероятно, они.
По счастливой случайности, это хвастовство графа происходило без князя Святозарова.
В тот самый день, с которого мы начали наше правдивое повествование, у князя Василия Андреевича Святозарова был товарищеский обед, обильно политый всевозможными винами.
После обеда все холостое общество собралось в кабинете князя с трубками.
Разговор перешел, сообразно настроению собравшихся, на женщин вообще и на Калисфению Николаевну в частности.
О последней заговорил Сандомирский.
Он стал, по обыкновению, рассказывать о своей к ней близости и вошел в самые пикантные подробности.
— Подлец!.. — вдруг не выдержав, вскочил князь Василий.
— Что–о!.. — в свою очередь крикнул граф.
— Подлец!.. говорю я, кто рассказывает так о женщинах. Если же вдобавок он, как ты, врет, то подлец — вдвойне!..
Граф Сандомирский было рванулся к князю с поднятой рукой, но его удержали.
— Ты мне за это ответишь!.. Думаешь, как самого тебя прогнала кокотка, так и всех…
Князь Святозаров поднял чубук и хотел ударить им графа, но его также не допустили сделать этого.
— Ты мне ответишь… за это… — прохрипел князь, вырываясь из рук державших его товарищей.
— Хоть сейчас… — отозвался тоже силившийся освободиться из непрошеных объятии офицеров граф.
— Сейчас… так сейчас… вот шпаги… Снимите!.. — прохрипел князь Святозаров.
Над диваном крест–накрест были расположены прекрасные парные дуэльные шпаги.
Этому обороту дела присутствующие не решались воспрепятствовать.
Дуэли были тогда в ходу.
Оскорбление, служащее поводом к дуэли, несомненно, имело место.
Двое из товарищей графа Сандомирского и князя Василия сами вызвались быть секундантами и начали говорить, что дуэль надо отложить до более удобного времени и назначить в более удобном месте.
— К чему… — сказал князь Василий, — он сам сказал сейчас… А я говорю здесь…
— Я согласен… — отозвался граф.
Секунданты подали противникам шпаги и поставили их на позиции.
Дуэль с хозяином дома, при весьма оригинальной обстановке, в его собственном кабинете, началась.
Князь Василий горячился.
Граф Сандомирский, напротив, совершенно овладел собою и хладнокровно рассчитывал каждый удар.
В этом было его преимущество, так как оба фехтовали прекрасно.
Горячность погубила князя.
Он сделал неосторожный выпад и открыл противнику правый бок.
Шпага графа Сандомирского почти до половины лезвия вонзилась в бок князя Святозарова несколько выше бедра.
Этот страшный удар был, видимо, не предвиден самим графом, быть может, и не желавшим убить товарища.
Владислав Нарциссович бросил эфес шпаги и в ужасе отступил.
Князь Святозаров медленно опустился на ковер кабинета.
Шпага дрожала в его боку.
Широко раскрытые глаза князя были полны предсмертного ужаса.
Все присутствующие окружили тяжелораненого.
В наступившем переполохе не заметили, как граф Сандомирский выбежал из кабинета, а затем из дома.
Один из товарищей быстрым движением вынул шпагу.
Кровь хлынула фонтаном и обагрила пушистый ковер.
Глаза раненого закатились.
С помощью сбежавшейся прислуги раненого раздели, уложили на диван и сделали первую перевязку.
Прибывший очень скоро врач констатировал безнадежное положение князя Василия Андреевича.
Княгиня Зинаида Сергеевна, несмотря на осторожность, с которой ей сообщили о случившемся несчастии, бледная как смерть, поспешила к смертному одру своего старшего сына.
Она приняла его последний вздох.
Он умер, не приходя в сознание.
Княгиню без чувств унесли наверх.
Все это произошло в тот самый вечер, когда Владимир Андреевич Петровский был в Большом театре и, принятый Калисфенией Николаевной за его брата князя Василия Святозарова, совершил после спектакля таинственное и загадочное для него путешествие в восточный домик Васильевского острова.
Обморок княгини продолжался недолго. Несчастная женщина, закаленная под ударами судьбы и поддерживаемая религиозным чувством покорности воле Божией, вскоре встала и почти спокойно стала делать необходимые распоряжения.
Дали знать полиции.
Та по горячим следам бросилась за графом Сандомирским, но разыскать его не могли: он как в воду канул.
Оказалось впоследствии, что он в этот же вечер бежал за границу.
Одинокая и беспомощная княгиня вспомнила, естественно, о Потемкине и о своем втором сыне, возвратить которого обещался ей светлейший.
Она приказала заложить карету и поехала в Таврический дворец.
Мы знаем, что Григорий Александрович не принял ее: у него был припадок жестокой хандры.
Через несколько часов после ее отъезда был привезен Бауром Петровский.
Хандра князя на этот раз продолжалась лишь с небольшим сутки.
Входивший на другой день несколько раз в кабинет светлейшего Попов застал его около четырех часов дня уже сидевшим за письменным столом.
Он осторожно доложил ему о случае с Петровским и повторил свой вчерашний доклад о дуэли между князем Святозаровым и графом Сандомирским, со смертельным исходом для первого, и о посещении княгини.
Князь молча выслушал первую часть доклада и мрачно улыбнулся.
На вторую часть он сквозь зубы сказал:
— Знаю!..
Наступило молчание. Григорий Александрович озлобленно кусал ногти.
— Петровского… сюда, — наконец произнес он.
Попов вышел, чтобы исполнить приказание.
Через несколько минут смущенный и бледный Петровский уже стоял перед светлейшим князем.
Григорий Александрович принял его почта ласково, несмотря на свое мрачное настроение духа.
Он подробно рассказал ему историю его рождения и воспитания и окончил сообщением, что по воле императрицы он теперь получил принадлежащий ему по праву княжеский титул и фамилию его отца и матери…
— Не обвиняй твоего несчастного отца… Быть может, каждый сильно любящий и дорожащий своей честью человек поступил бы так же, как и он… не обвиняй и мать… они оба и виноваты и не виноваты… Оба они были жертвой светской интриги… небывалой, возмутительной… Кроме того, возмездие за их поступок уже свершилось… Отец твой покончил жизнь самоубийством… брат вчера убит на дуэли… Ты теперь один, будь опорой, утешителем своей матери… Она… святая женщина…
У Григория Александровича на глазах блеснули слезы.
Расстроенный Владимир Андреевич плакал как ребенок.
Князь дал ему выплакаться.
— Поедем к матери! — сказал он ему, когда тот несколько успокоился. — Подожди меня в приемной, я оденусь.
Князь дернул за сонетку.
Владимир Андреевич, шатаясь, вышел из кабинета светлейшего и в изнеможении опустился на один из ближайших к нему стульев приемной.
XX ВОЛШЕБНЫЙ ПРАЗДНИК
Мириады мыслей неслись в голове молодого офицера.
Все это прошлое восстало перед ним общей картиной; дымка таинственности с нее исчезла. Все мучившие его еще с детства вопросы вдруг получили неожиданное разрешение.
Все для него стало ясно, включительно до эпизода вчерашнего вечера.
Она, эта красавица, приняла его за брата, за того брата, который теперь лежит мертвый, убитый на дуэли.
«Быть может, из‑за нее!» — мелькнуло в его голове Предположение.
Он инстинктивно угадал истину.
Владимир Андреевич вырос без родительской ласки.
Потребность в ней гнездится в сердце каждого человека. Имя «мать» звучит для всякого, даже дикаря, небесной мелодией.
«У меня есть мать! — это сознание, как вывод из объяснения князя, вдруг поселило в его душе какое‑то неземное спокойствие. — Поскорей бы только очутиться в ее объятиях, поскорей бы начать жизнь для нее…»
До сих пор его жизнь казалась ему бесцельной, теперь цель жизни была отыскана. Широкая волна энергии и подъема духа охватила все его существо.
Князь Владимир Святозаров — так мы теперь будем называть его — встал.
В это самое время вышел из кабинета Григорий Александрович Потемкин.
— Едем! — коротко обратился он к Святозарову.
Владимир Андреевич с сильно бьющимся сердцем последовал за князем.
В карете всю дорогу они молчали. Григорий Александрович усиленно кусал ногти, что было у него, как известно, признаком сильного волнения.
Княгиня молилась у гроба сына, когда ей доложили о приезде светлейшего князя Потемкина.
— Князь один? — спросила она лакея.
— Никак нет–с, с ними офицер.
Сердце княгини сжалось от охватившего ее волнения.
Она догадалась, что это — он, ее сын.
Зинаида Сергеевна вышла в гостиную.
— Княгиня… — сделал к ней несколько шагов Потемкин, — ваш сын Владимир…
Не успел он договорить этой фразы, как княгиня Святозарова была уже на груди Владимира Андреевича.
— Володя, дорогой, милый… — шептала она, рыдая.
— Мама, мама, — задыхаясь от волнения, говорил молодой офицер, и слезы крупными каплями падали из его глаз.
Потемкин, усиленно моргая глазами, смотрел на эту сцену.
Когда сын и мать выплакались и успокоились, когда он перестал покрывать ее руки поцелуями, обливая их слезами, а она с какою‑то ненасытностью целовать его в лоб, щеки, губы, Зинаида Сергеевна вдруг бросилась на шею Потемкину и поцеловала его прямо в губы.
Князь дрогнул и было в первое мгновение отшатнулся, но затем сжал княгиню в своих мощных объятиях.
— Княгиня… Зинаида Сергеевна… Зина… — заговорил он, не помня себя от нахлынувшего на него потока счастья.
— Вам, одним вам я обязана этим счастием… Вам я обязана моим возрождением… Вы единственный светлый луч во тьме моей жизни… Гриш… Григорий Александрович…
Она опомнилась и отшатнулась.
Потемкин тоже пришел в себя… Страдальческая улыбка промелькнула на его губах.
— Я рад, княгиня, что мог доставить вам утешение в вашем горе… — сдержанным тоном сказал он. — Я хотел бы поклониться покойнику…
Он прошел в залу.
Княгиня, опираясь на руку сына, последовала за ним.
Они все трое преклонили колена перед гробом усопшего князя Василия.
Вскоре Потемкин уехал.
Он присутствовал через два дня на похоронах молодого князя, которые отличались необыкновенной помпою и многолюдством.
Весь великосветский Петербург собрался проводить прах безвременно погибшего молодого человека, а главное, посмотреть на нового, неожиданно, точно с неба, свалившегося сына княгини Святозаровой — Владимира Андреевича.
История появления этого сына в самых разнообразных версиях уже успела облететь все петербургские гостиные.
Злые языки уверяли, что это побочный сын Потемкина и княгини, не признанный покойным князем Андреем Павловичем, простившим жену под условием, что плод ее любви к Григорию Александровичу не разделит ни титула, ни состояния с их сыном.
Теперь законный сын умер, а незаконный вступил в его права. Могущество светлейшего сделало эту метаморфозу.
Так шептались в гостиных.
Молодого князя похоронили в фамильном склепе князей Святозаровых, на кладбище Александро–Невской лавры [60].
Таинственная история семейства князей Святозаровых снова заняла умы петербургского большого света, и заняла бы на более долгое время, если бы его внимание не отвлек данный светлейшим князем Потемкиным волшебный праздник в Таврическом дворце.
Приготовление к этому празднику делалось уже давно, и также давно в обществе циркулировали слухи о тех и других подробностях его программы, но самый праздник превзошел, как это редко бывает, даже самые взыскательные ожидания, самую пылкую фантазию приглашенных, которых было множество.
Приглашен был буквально весь великосветский Петербург, кроме Александра Васильевича Суворова, которому светлейший не забыл нанесенной обиды.
К огорчению Григория Александровича, не могла, конечно, быть и княгиня Святозарова с сыном.
Наконец день праздника наступил.
Это было 8 мая 1791 года.
На площади перед Таврическим дворцом построены были качели и разного рода лавки, из которых безденежно раздавались народу не только яства и пития, но и платья, обувь, шляпы, шапки и прочее.
Народу, конечно, собралась несметная толпа.
К дворцовому подъезду между тем один за другим подкатывали богатые экипажи.
Над подъездом красовалась из металлических букв надпись, выражавшая благодарность Потемкина великодушной его благодетельнице.
Всех приглашенных было три тысячи человек, и все они, как мужчины, так и дамы, должны были явиться в маскарадных костюмах.
На самом Григории Александровиче был алый кафтан и епанча из черных кружев, стоившая несколько тысяч рублей.
Все это, по обыкновению светлейшего, сияло бриллиантами, а на шляпе его было их столько, что ему стало тяжело держать ее в руке, и он отдал ее одному из своих адъютантов, который и носил за ним эту неоцененную драгоценность.
Обстановка и убранство комнат были великолепные.
Из передней, не очень большой комнаты о трех дверях, входили в огромную большую залу с куполом и светом сверху. Под куполом устроены были хоры, на которых стояли невидимые снизу часы с курантами, игравшие попеременно пьесы лучших тогдашних композиторов; тут же помещены были триста человек музыкантов и певцов.
Во всю длину залы, в четыре ряда, шли высокие и массивные колонны из белого полированного гипса, образовавшие, таким образом, две узкие галереи, по четырем концам которых были громаднейшие зеркала.
Окна находились не в продольных, а в поперечных стенах комнат, и тут, у каждой из этих стен, устроено было по эстраде, отделявшейся от пола несколькими ступенями.
Одна из эстрад, предназначавшаяся для императрицы, была покрыта драгоценнейшим персидским шелковым ковром.
На каждой из эстрад стояло по огромнейшей вазе из белого каррарского мрамора [61], на пьедестале из серого; а над вазами висели две люстры из черного хрусталя, в которых вделаны были часы с музыкой.
Люстры эти стоили сорок две тысячи рублей.
Кроме того, в зале было еще пятьдесят шесть люстр и пять тысяч разноцветных лампад, белых и цветных, сделанных наподобие роз, тюльпанов и лилий и развешанных гирляндами.
При входе в залу, по обеим сторонам от дверей, устроены были ложи, задрапированные роскошными материями и убранные цветами.
Под ними были входы в четыре рада комнат, обитых драгоценными обоями. На стенах этих комнат красовались великолепные картины, купленные Потемкиным, как и описанные нами вазы из черного хрусталя, у герцогини Кингстон.
Из этих комнат особенным великолепием отличались комнаты, предназначенные для карточной игры императрицы и великой княгини Марии Федоровны. Обои в них были гобеленовые, софы и стулья стоили сорок шесть тысяч рублей.
В одной из этих комнат находился «золотой слон», то есть средней величины часы, стоявшие перед зеркалом на мраморном столе. Часы служили пьедесталом небольшому золотому слону, на котором сидел персиянин. Слон был обвешан жемчужными бахромами и драгоценными каменьями.
Из большой бальной залы был выход в зимний сад, в шесть раз больший эрмитажного и несравненно красивее его распланированный.
На дорожках сада и на невысоких дерновых холмиках стояли мраморные вазы и статуи, изображавшие гениев, из которых одни венчали очень сходно сделанный бюст Екатерины, а другие совершали перед ним жертвоприношения.
Посреди сада возвышался храм с куполом, достигавшим, до самого потолка, искусно расписанного в виде неба. Купол опирался на восемь колонн из белого мрамора.
Несколько ступеней из серого мрамора вели в этот храм к жертвеннику, служившему подножием изображению императрицы, иссеченному из белого мрамора.
Государыня была представлена в царской мантии, держащею рог изобилия, из которого сыпались орденские кресты и деньги.
На жертвеннике была надпись: «Матери отечества и моей благодетельнице».
Сад был увешан также гирляндами разноцветных лампад в форме цветов и плодов, оглашался пением певчих птиц и был полон ароматами от поставленных там и сям курильниц и фонтана, бившего лавандовой водой.
Эффект, производимый этой волшебной обстановкой, был чрезвычайный.
Сам Таврический сад, окружавший дворец, был точно так же великолепно убран и иллюминован. В нем построены были несколько, новых мостов из мрамора и железа, несколько павильонов и беседок, а в аллеях поставлены были новые статуи.
В шестом часу съехались почти все приглашенные, но в роскошных залах дворца царствовала чинная тишина.
Все ждали царицу праздника.
Пробило шесть часов, и из уст в уста стали передавать известие, что императрица едет.
Действительно, вокруг Дворца раскатилось громоподобное «ура». Это народ приветствовал свою «матушку царицу».
Екатерина с великими княгинями Александрой Павловной и Еленой Павловной подъехали ко дворцу.
Григорий Александрович принял ее из кареты, а в передней комнате встретил императрицу наследник престола Павел Петрович и его супруга Мария Федоровна.
Сопровождаемая всей высочайшей фамилией, государыня прошла на приготовленную для нее в большой зале эстраду, и начался балет сочинения знаменитого балетмейстера того времени Пика.
В балете участвовали двадцать четыре пары из знатнейших фамилий — на подбор красавцы и красавицы.
Все они были в белых атласных костюмах, украшенных бриллиантами, которых в итоге было на десять миллионов рублей.
Предводительствовали танцевавшими великие князья Александр и Константин Павловичи и принц Вюртембергский.
В конце балета явился сам Пик и отличился необыкновенным соло.
Стало уже смеркаться.
Григорий Александрович пригласил императрицу со всей высочайшей фамилией в театр, устроенный в одной из боковых зал, куда последовала и часть гостей, сколько могло уместиться.
Когда занавес поднялся — на сцене появилось лучезарное солнце, в средине которого в зеленых лаврах стояло вензелевое имя Екатерины II.
Поселяне и поселянки, воздевая к солнцу руки, выражали движениями благоговейные и признательные к нему чувства.
Затем следовали две французские комедии и балет.
В последнем представлен был смирнский купец, торгующий невольниками всех народов, между которыми не было ни одного русского.
После спектакля императрица в сопровождении великих князей и княжон прошла сперва в большую залу, а потом в зимний сад.
Там уже все приняло другой вид.
Дворец освещен был ста сорока тысячами лампад и двадцатью тысячами восковых свечей. Он был буквально залит светом, всюду отражавшимся в бесчисленных зеркалах, всюду дробившимся в хрустале и драгоценных украшениях.
— Неужели мы там, где и прежде, были? — спросила Потемкина Екатерина, изумленная и видимо довольная представившимся ей великолепным зрелищем.
Государыня проследовала в зимний сад.
Там заливались на все голоса соловьи и другие птицы.
На колоссальной, украшенной хрусталем пирамиде, находившейся между храмом и устроенной за ним лиственной беседкой, сверкало бриллиантовыми литерами имя Екатерины, от которого на все стороны исходило сияние.
На других пирамидах горели составленные из фиолетовых и зеленых огней вензелевые имена наследника престола, его супруги и обоих великих князей, Александра и Константина Павловичей.
Когда императрица со своей свитой подошла к храму, Григорий Александрович на его ступенях упал на колени перед изображением государыни и благодарил ее за все ее благодеяния.
Екатерина ласково подняла его и поцеловала в лоб.
По возвращении высочайших особ в залу начался бал.
Он открылся знаменитым польским гимном Козловского «Гром победы, раздавайся», слова которого сочинил Державин, с трескотней литавр, пением и пушечными выстрелами.
Императрица во время бала играла в карты с великой княгиней Марией Федоровной, а гости кроме обыкновенных танцев забавлялись плясками русской и малороссийской, музыкой, устроенными в комнате качелями и разными другими увеселениями.
Прохладительные напитки, плоды и конфеты подавались беспрерывно.
Угощался и веселился по–своему и народ в дворцовом саду, который тоже весь горел огнями. Иллюминованы были беседки, иллюминованы аллеи, иллюминованы суда, стоявшие на прудах, иллюминованы берега самих прудов. Роговая музыка и хор песенников попеременно услаждали слух несметной толпы гуляющих.
В двенадцатом часу начался ужин. Ужинали в той зале, где был спектакль, и в соседних комнатах.
На столе, за которым ужинала императрица с наследником престола и его супругой, был золотой сервиз, и сам Потемкин прислуживал императрице, пока она не попросила его сесть.
Сервировка и посуда и на других столах были драгоценные.
Нечего говорить, что ужин состоял из самых изысканных блюд.
После ужина бал продолжался до самого утра, но императрица с высочайшей фамилией уехала в исходе второго часа ночи.
Никто не помнил, чтобы она у кого‑либо оставалась так долго.
Когда она уже выходила из залы, с хоров, закрытых стеклянными сосудами, сиявшими яркими огнями, послышалось нежное пение с тихими звуками органа.
Пели итальянскую кантату, слова которой были следующие:
«Царство здесь удовольствий, владычество щедрот твоих; здесь вода, земля и воздух — дышат все твоей душой. Лишь твоим я благом и живу, и счастлив. Что в богатстве и в почестях, что в великости людей, если мысль — тебя не видеть — дух ввергает в ужас! Стой, не лети, время, и благ наших нас не лишай! Жизнь наша — путь печали: пусть на ней цветут цветы».
Императрица обернулась к провожавшему ее Потемкину и объявила ему свое живейшее удовольствие и признательность за прекрасный праздник.
Григорий Александрович упал перед Екатериной на колени, схватил ее руку и прижал к губам своим.
Она была глубоко тронута, он плакал.
На глаза императрицы навернулись тоже слезы…
Многие из присутствовавших при этом говорили йотом, что светлейший был растроган потому, что предчувствовал близкую смерть.
Предчувствовал ли он ее или нет — неизвестно, но смерть действительно уже избрала его своей жертвой, и во время этого «волшебного праздника» он в предпоследний раз видел императрицу в своем доме.
Ранним утром разъехались от Таврического дворца последние экипажи, и он опустел и принял свой угрюмый вид.
Угрюмый, проводив гостей, отправился на покой и его светлейший хозяин.
XXI ЗАКАТ
После данного Потемкиным «волшебного праздника» он еще около трех месяцев оставался в Петербурге.
Для такой отсрочки отъезда в армию, казалось, не было основательной причины, но князь просто хандрил и не хотел ехать.
Это странное поведение главнокомандующего породило в Петербурге массу слухов.
Говорили даже, что он хлопотал о разрешении основать из областей, отнятых у турок, особое царство и владычествовать в нем под протекторатом России.
Это были, конечно, выдумки досужих и праздных умов.
На самом деле на Григория Александровича напал продолжительный припадок его болезненной хандры, и он, бросив все дела, то валялся по целым неделям на диване в своем кабинете нечесаный, полураздетый, то задавал пиры и проводил в самых необузданных оргиях по нескольку дней и бессонных ночей подряд.
Временами «великолепный князь Тавриды» по целым часам стоял на коленях, бил с рыданием головой в пол перед образами в горячей молитве, то в бешеной злобе катался по широким оттоманкам, изрыгая страшные ругательства и проклятия, а иногда по целым дням сидел, уставившись в одну точку, грызя ногти, не слыша и не видя ничего и никого и не принимая пищи.
Вдруг среди ночи это мрачное настроение сменялось бурным весельем. Таврический дворец горел огнями, гремела музыка, пел хор певцов, начинались увлекательные танцы, дорогие вина лились рекой, и сам хозяин был как‑то необузданно весел и ухаживал за женщинами с пылкостью юноши.
Но в середине пира внезапно он нахмуривался, уходил на полуслове; музыка смолкала, огни потухали, и сконфуженные гости спешили разъехаться по домам.
Между тем на театре войны турки потерпели несколько чувствительных поражений. Еще в последних числах марта генерал–поручик князь Голицын, переправясь через Буг, взял Мачин, срыл его и потом овладел укреплениями на острове Концефане, лежащем против Браилова. В начале июня генерал–майор Кутузов [62] разбил турок при Пободаче, а командовавший на Кавказе генерал–аншеф Гудович взял приступом сильную и важную крепость Анапу; наконец, 28 июля князь Репнин одержал блистательную победу над верховным визирем при Мачине.
Диван, устрашенный мачинской победой и падением Анапы, предписал верховному визирю сделать Репнину мирные предложения.
Все эти победоносные подвиги русских войск не были известны в Петербурге.
Хандривший Потемкин не распечатывал пакетов князя Репнина, которые последний один за другим слал ему с курьерами, напрасно ожидавшими ответа светлейшего главнокомандующего в кордегардии Таврического дворца.
Слух о курьезном пленении дошел до придворных сфер, но не находилось смельчака доложить о действиях Потемкина императрице.
Узнал об этом и Алексей Григорьевич Орлов, а на другой же день он присутствовал за завтраком во дворце, среди небольшого кружка первых вельмож двора.
Тут среди других находился и остроумец того времени Лев Александрович Нарышкин.
Разговор зашел о необыкновенном молчании князя Репнина по поводу военных действий с турками. Больше всех возмущался поведением Репнина Нарышкин.
Орлов молчал, но под шумок разговора незаметно собрал со всего стола ножи и спрятал их под салфетку около своего прибора.
— Лев Александрович! Отрежь, благодетель, вон телятинки, что около тебя стоит, — обратился он к Нарышкину, сидевшему на противоположном конце стола.
— С удовольствием, Алексей Григорьевич, с удовольствием.
Нарышкин начал искать нож около телятины, около своего прибора, на всем столе, но безуспешно.
— Чудеса в решете… Точно от сущеглупых все ножи обобрали… Эй, кто там! — крикнул он.
— Постой, Лев Александрович, не надо ножей, вот они все здесь, это я нарочно… Ты вот говоришь, что Репнин вестей не шлет и здесь ничего о войне неизвестно! А и как же быть известным, коли все репнинские вести, как у меня ножи, у светлейшего Григория Александровича под спудом лежат.
— Как, что такое? Как под спудом?
— Да так!.. Он нынче в грустях находится и курьеров с письмами Репнина без ответа во дворце держит и писем не читает, и подступиться никто к нему не смеет.
— Да как же это можно?
— Нам с тобой не можно, а ему можно, — съязвил Орлов.
— Нет, это великолепно… — восхитился Нарышкин. — Обобрать все ножи и просить отрезать… Так и письма Репнина… Сегодня же буду у ее величества в Царском, насмешу ее до слез… Ножей нет, а отрежь…
Нарышкин хохотал от души.
Он действительно сообщил это императрице, но далеко не насмешил ее.
Государыня рассердилась.
Она призвала к себе Василия Степановича Попова и приказала ему немедленно доставить все пакеты Репнина, а затем сама приехала к Потемкину и объявила князю в решительных выражениях о необходимости отъезда в армию.
Григорий Александрович должен был покориться.
Он выехал 24 июля 1791 года.
Он ехал медленно, в покойном экипаже, но, несмотря на это, путешествие чрезвычайно утомляло его.
Но через несколько дней пути он вдруг ожил.
Эта бодрость, впрочем, была неестественная, а следствие сильного раздражения и страшного гнева.
По дороге Григорий Александрович встретил курьера, отправленного из армии в Петербург, и узнал от него, что князь Репнин уже подписал мирный договор с Турцией.
Забыв свою болезнь, Потемкин стрелой помчался в Галац.
Тотчас же по прибытии туда был позван князь Репнин.
— Несчастный, что ты сделал!.. — воскликнул Григорий Александрович.
— Я исполнил свой долг… — спокойно отвечал Репнин.
— Ты изменил мне…
Князь Репнин нахмурился.
— Как ты смел начать без меня кампанию? — неистовствовал Потемкин.
— Я должен был отразить нападение тридцатитысячного турецкого корпуса сераскира Боталь–бея.
— Но как дерзнул ты заключить мир не только без моего согласия, но даже не посоветовавшись со мной?.. Мир невыгодный, и в тот самый день, когда Ушаков одержал победу над турецким флотом у мыса Калиакрии, когда султан уже трепетал видеть русский флот под стенами Царь–града… Несчастный!
— Я исполнил свой долг, повторяю вам, ваша светлость.
— А я повторяю тебе… — с пеной у рта закричал Григорий Александрович, — что ты головой поплатишься мне за эту дерзость… Я велю тебя судить, как изменника…
— Ваша светлость… — возразил Репнин, с трудом сдерживая свой гнев, — если бы вы не были ослеплены в эту минуту гневом, то я заставил бы вас раскаяться в последнем слове…
— Угрозы… — зарычал Потемкин. — Да ты знаешь ли, что через час я могу приказать расстрелять тебя…
Князь Репнин гордо поднял голову и, пристально глядя на светлейшего, спокойно отвечал ему:
— Знаете ли, князь, что я могу арестовать вас, как человека, противящегося повелениям государыни.
Григорий Александрович остолбенел.
— Что это значит? — спросил он задыхающимся голосом.
— Это значит, что я повинуюсь и обязан отдавать отчет в своих действиях одной государыне императрице.
Потемкин понял, что во время пребывания его в Петербурге императрица уполномочила князя Репнина на самостоятельные действия.
Страшный удар был нанесен его самолюбию.
Он удалился к себе в кабинет и слег в постель, на самом деле совершенно разбитый и нравственно, и физически.
В это время, а именно в половине августа, в Галаце скончался брат великой княгини Марии Федоровны, принц Вюртембергский [63].
Григорий Александрович, полубольной, был через несколько дней на похоронах.
Выйдя из церкви, он в задумчивости вместо своей кареты сел было на похоронные дроги, но вовремя в ужасе отступил.
Эго произвело страшное впечатление на суеверного Григория Александровича.
Через пять дней его, уже совершенно больного, повезли в Яссы.
Тут болезнь князя ежедневно стала усиливаться, и натура, изнуренная трудами, страстями и невоздержанностью, не могла победить ее, несмотря на старание и искусство генерал–штаб–доктора Тимона и доктора хирургии Массота.
Сначала, впрочем, ему стало лучше, но по нетерпеливости своего характера он не берегся, то и дело нарушая правила диеты, и болезнь перешла в горячку.
К нему приехала его племянница графиня Браницкая.
Григорий Александрович пожелал приобщиться Святых Таин и послал за духовником своим, архиепископом херсонским Амвросием, который и прибыл к нему вместе с русинским митрополитом Ионою.
Оба они умоляли князя беречь себя, принимать лекарства и воздерживаться от вредной пищи.
— Едва ли я выздоровею, — отвечал он им, — сколько уже времени, а облегчения нет как нет. Но да будет воля Божия! Только вы молитесь о душе моей и помните меня. Ты духовник мой, — обратился Григорий Александрович к Амвросию, — и ведаешь, что я никому не желал зла. Осчастливить человека было целью моих желаний.
Амвросий и Иона не могли удержать рыданий и. обливаясь слезами, приступили к исполнению великого таинства.
Потемкин исповедовался и приобщился с живейшими знаками веры и тотчас ж велел собираться к выезду из Ясс.
— По крайней мере умру в моем Николаеве, — говорил он, — а то место сие, наполненное трупами человеческими и животных, более походит на гроб, нежели на обиталище живых…
2 октября дрожащей рукой он подписал последнюю официальную бумагу — полномочие генералам Самойлову, Рибасу и Лошкареву на окончательное ведение мирных переговоров с Турцией, а 4–го числа, бережно уложенный в экипаж, отправился в Николаев в сопровождении графини Браницкой, правителя канцелярии Попова и нескольких слуг.
С самого начала дороги Григорий Александрович жаловался по временам на сильную боль в желудке.
В общем, впрочем, он был в веселом расположении духа.
— Тише, тише! — кричал он во время приступов боли кучеру.
Ехали тихо и в день отъехали только двадцать пять верст.
К ночи припадки желудочной боли усилились.
Экипаж остановился.
Князя внесли в хату, стоявшую на дороге.
Он несколько раз спрашивал:
— Скоро ли рассветет?
Чувствуя удушье, он судорожно вырывал пузыри, заменявшие в хате стекла.
— Боже, Боже мой, как я страдаю… — изредка стонал князь.
— Дядюшка, успокойтесь, в Николаеве вы отдохнете, выздоровеете… — успокаивала его графиня Александра Васильевна.
— Выздоровею… — повторил Григорий Александрович. — К чему мне выздоравливать… Я лишний на этом свете… Императрица более не нуждается во мне…
Горькая усмешка пробежала по губам светлейшего.
— Дядюшка, вы несправедливы… Государыня до сих пор к вам расположена… Когда мир будет окончательно заключен…
— Мир… — заскрежетал зубами Потемкин, — мир! Я не хочу мира!.. Этот мир опозорит меня в глазах всего света… Я хочу войны, жестокой, упорной, неумолимой… и хоть бы мне пришлось вести ее на свой счет, я продал бы свое последнее именье и отдохнул только в Царь–граде…
Волнение еще более усилило боли…
Наконец занялась утренняя заря.
Потемкина снова уложили в карету и продолжали путь.
Боли несчастного страдальца все усиливались.
— О, как я страдаю, как страдаю… — то и дело повторял он.
— Потерпите, дядюшка, мы остановимся у первого дома…
— Не могу… стой… — пронзительно вскрикнул Григорий Александрович.
Кучер вздрогнул и остановил лошадей.
Место было совершенно пустынное. С одной стороны расстилалась бесконечная равнина, с другой чернелся густой лес…
Кругом не было видно ни одного жилища.
Браницкой стало страшно.
— Остановитесь! Мне дурно! Теперь некуда ехать, некуда ехать… я умираю… Выньте меня из кареты… я хочу умереть в поле…
Слуги, окружившие карету, поспешно разостлали белый плащ под деревом, стоящим при дороге, и положили на него князя.
Свежий воздух раннего утра облегчил страдания больного.
— Где ты… где! — произнес он слабым голосом, потухающим взором отыскивая свою племянницу.
— Я здесь, дядюшка, не угодно ли вам чего…
— Мне худо, очень худо, дайте образ…
Ему подали образ Христа Спасителя, с которым он никогда не расставался.
Он взял его благоговейно, поцеловал три раза, осенив себя крестом.
— Мне худо, очень худо, — повторил он.
— Пройдет, дядюшка…
Князь безнадежно покачал головой.
— Наклонись ко мне…
Александра Васильевна села рядом и наклонила свою голову к умирающему.
— Дай мне руку… вот так… Слушай… более тридцати лет… служил я государыне верой и правдой и теперь в предсмертную минуту сожалею только об одном… что прогневил ее…
— Оставьте, дядюшка, эти печальные мысли… они и несправедливы.
— Слушай… скажи государыне… Боже… опять… опять… эти страдания… Господи! в руце Твои предаю дух мой…
Князь замолчал и, казалось, успокоился.
Холодная рука его продолжала держать руку графини Браницкой.
— Его светлость отходит, — сказал стоявший рядом казак.
Все окружающие поняли горькую истину этих слов.
Александра Васильевна приложила руку к сердцу Григория Александровича.
Оно не билось.
Тот же казак положил на глаза усопшего две медные монеты.
Светлейший князь Потемкин–Таврический, президент государственной военной коллегии, генерал–фельдмаршал, великий гетман казацких екатеринославских и черноморских войск, главнокомандующий Екатеринославской армиею, легкой конницей, регулярной и нерегулярной, флотом Черноморским и другими сухопутными и морскими военными силами, сенатор, екатеринославский, таврический и харьковский генерал–губернатор, ее императорского величества генерал–адъютант, действительный камергер, войск генерал–инспектор, лейб–гвардии Преображенского полка полковник, корпуса кавалергардов и полков Екатеринославского кирасирского, Екатеринославского гренадерского и Смоленского драгунского шеф, мастерской Оружейной палаты главный начальник и орденов российских: Святого апостола Андрея Первозванного, Святого Александра Невского, Святого великомученика и победоносца Георгия и Святого равноапостольного князя Владимира больших крестов и Святой Анны; иностранных: прусского — Черного Орла, датского — Слона, шведского — Серафима, польского — Белого Орла и Святого Станислава кавалер — отошел в вечность.
Ночью, в той же самой карете, окруженной конвоем и освещенной факелами, привезли усопшего обратно в Яссы.
XXII ПОХОРОНЫ ПОТЕМКИНА
Графиня Александра Васильевна Браницкая была права, говоря своему покойному дяде Григорию Александровичу Потемкину, что он не прав, жалуясь на изменившиеся к нему отношения императрицы.
Екатерина на самом деле, выпроводив князя из Петербурга, как того требовала честь государства и его личная, нимало не уменьшила своего расположения к подданному–другу.
Целый ряд самых ласковых и ободряющих ее писем полетел вслед за Григорием Александровичем, едва он выехал из столицы.
Императрице нужно лишь было, чтобы он «для славы империи» уехал в армию; но она все‑таки по–прежнему ценила его таланты и сердце.
Когда донеслась до Екатерины первая весть о болезни светлейшего, она писала ему:
«О чем я всекрайне сожалею и что меня же столько беспокоит — есть твоя болезнь и что ты мне пишешь, не в силах себя чувствуешь оной выдержать. Я Бога прошу, чтобы он отвратил от тебя сию скорбь, а меня избавил от такого удара, о котором и думать не могу без крайнего огорчения».
«Обрадовал ты меня, — писала она в другом письме, — прелиминарными пунктами о мире, за что тебя благодарю сердцем и душой. Желаю весьма, чтобы великие жары и труды дороги здоровью твоему не нанесли вреда, в теперешнее паче время, когда всякая минута требует нового труда. Adieu, mon ami».
Болезнь князя очень сильно беспокоила государыню.
Подтверждением этого служит заметка в дневнике Храповицкого от 28 августа 1791 года: «Получено известие через Кречетникова из Киева, что Потемкин очень болен и что к нему поехала Браницкая… Печаль и слезы».
Опечаленная Екатерина на другой же день, то есть 29 августа, ездила ко всенощной в Невский монастырь и пожертвовала в тамошнюю церковь большое серебряное паникадило, золотую лампаду к раке Святого Александра Невского и несколько золотых сосудов с антиками и бриллиантами.
Вслед за тем четыре курьера, один за другим, привезли сведения, что князю все хуже и хуже.
Наконец 14 октября прискакал нарочный из Ясс с роковым известием, что Потемкина не стало.
Весть эта поразила императрицу как громом.
Она впала в совершенное отчаяние, заперлась в своем кабинете, плакала и долго не могла утешиться.
— Мне некем заменить Потемкина, — говорила она окружающим, — он имел необыкновенный ум, нрав горячий, сердце доброе; глядел волком и потому не пользовался любовью многих; но, давая щелчки, благодетельствовал даже врагам своим; его нельзя было купить — он был настоящий дворянин.
Уведомляя о смерти князя принца Нассау–Зигена, Екатерина писала:
«Это был мой ученик, человек гениальный; он делал добро своим неприятелям и тем обезоруживал их».
Письмо государыни к Гримму — великолепное надгробное слово светлейшему:
«Страшный удар разразился над моей головой, — писала императрица, — мой ученик, мой друг, можно сказать, мой идол, князь Потемкин–Таврический — умер… Это был человек высокого ума, редкого разума и превосходного сердца… Им никто не управлял, но он сам удивительно умел управлять другими».
«Древо великое пало — был человек необыкновенный», — сказал о Потемкине московский митрополит Платон.
Честолюбивый фельдмаршал граф Румянцев–Задунайский не любил Григория Александровича и постоянно завидовал его значению и влиянию при дворе.
Когда, как, вероятно, не забыл читатель, в 1788 году главное начальство над действующей армией против турок было вверено императрицей Потемкину, Румянцев оскорбился предпочтением, оказанным его противнику, уехал из армии и поселился в деревне, которую уже не оставлял с тех пор до самой своей кончины.
Он получил известие о смерти светлейшего, сидя за ужином со своими друзьями, князем Дашковым и Апраксиным.
Старый фельдмаршал быстро поднялся с кресла, стал на колени перед образом и громко произнес:
— Вечная тебе память, князь Григорий Александрович!
Затем, обратясь к Дашкову и Апраксину, удивленно глядевших на него, сказал:
— Чему вы удивляетесь? Князь был мне соперником, может быть, даже неприятелем; но Россия лишилась великого человека, отечество потеряло сына, бессмертного по заслугам своим.
Подробности об обстоятельствах, сопровождавших необыкновенную по своей внезапности смерть «необыкновенного человека», ходили из уст в уста по обширной России.
Кроме описанного нами происшествия с погребальными дрогами, рассказывали еще следующее предзнаменование кончины Григория Александровича.
На одной из черниговских церквей, во имя Святого Иоанна Богослова, до сих пор находится 600–пудовый колокол, отличающийся необыкновенно приятным звуком.
Народная молва говорила, что, когда Потемкина по приезде его в Чернигов в 1791 году встречали колокольным звоном во все городские колокола, он отличил звук богословского колокола и с удовольствием слушал его.
Захворав, он пробыл в Чернигове три дня и в продолжение всего этого времени велел звонить в колокол.
— Потемкин звонит по себе! — говорили в народе.
Когда князь выехал из Чернигова, колокол стащили и повезли в только что основанный Екатеринославль.
Народ со слезами провожал свою потерю.
Вдруг колокол воротился с дороги… с ним вместе пришла весть о кончине Потемкина.
Императрица велела похоронить Потемкина почти с царскими почестями и великолепием и поставить в Херсоне мраморный памятник.
Тело усопшего по прибытии в Яссы было поставлено в доме, где он жил прежде, в большой зале, которая к этому случаю была вся обита черным крепом с флеровыми перевязями по бортам. Часть залы была отделена для катафалка черной шелковой занавесью, обложенной по бортам серебряным позументом, и большими висячими серебряными кистями и подтянутой серебряным шнуром; несколько поодаль поставлена была балюстрада, обитая черным сукном и обложенная сверху по краям широким серебряным позументом.
Потолок этого отделения был задрапирован наподобие павильона черным сукном и увит крестообразно по краям белыми и креповыми перевязями.
Посредине отделения был поставлен амвон [17], обитый красным сукном, с тремя ступенями, обложенными по краям серебряным позументом.
На амвоне сделано было возвышение, покрытое богатой парчой, на котором стоял гроб, обитый розовым бархатом, выложенный богатыми позументами с серебряными скобами, на серебряных подножиях и покрытый великолепным златотканым покровом.
Над гробом возвышался огромный балдахин из розового бархата, обложенный по краям черным бархатом с богатым золотым позументом. Спуски его были из розового бархата, обложенные золотым позументом с бахромой и подтянутые шнурками с небольшими золотыми кистями. Балдахин стоял на десяти древках, обтянутых розовым бархатом и перевитых серебряными позументами, и укреплен к полу восьмью золотыми шнурками, на которых висели большие золотые кисти. Верх балдахина украшался черными и белыми страусовыми перьями, а внутренность была обложена белым атласом.
В головах, на особом возвышении, лежала на парчовой подушке княжеская корона, обвитая лаврами.
На первых ступенях гроба, у головы с обеих сторон, стояли табуреты, покрытые красным сукном с золотыми по краям позументами, на которых были положены подушки из малинового бархата, обложенные золотым позументом с бахромой и висячими по углам золотыми кистями. На них с правой стороны лежал фельдмаршальский жезл, а с левой пожалованный покойному императрицей золотой лавровый венок, усыпанный изумрудами и бриллиантами; с той же стороны лежала крышка от гроба, на которой были укреплены шпага, шляпа и шарф. На последней ступени были расположены на бархатных подушках все ордена умершего, по старшинству их, все знаки власти, полученные им от щедрот монарших.
По сторонам катафалка возвышались две пирамиды из белого атласа, увешанные перевязями из черного и белого крепа.
На пирамиде, стоявшей с правой стороны, виден был герб Потемкина, осененный двумя знаменами великого гетмана; на черной доске изображена была белыми буквами следующая надпись:
«В Бозе почивающий светлейший князь Григорий Александрович Потемкин–Таврический и проч. и проч., усерднейший сын отечества, присоединитель к Российской империи Крыма, Табани, Кубани, основатель и соорудитель победоносных флотов на южных морях, победитель сил турецких на суше и на море, завоеватель Бессарабии, Очакова, Бендер, Аккермана, Килии, Измаила, Анапы, Кючук–Кале, Суннии, Тульчи, Исакчи, острова Березанского, Хаджибея и Паланки, прославивший оружие Российской империи в Европе и Азии, приведший в трепет столицу и потрясший сердце Оттоманской империи победами на морях и положивший основание к преславному миру с оною; основатель и соорудитель многих градов, покровитель науки, художеств и торговли, муж, украшенный всеми доблестями общественными и благочестием. Скончал преславное течение жизни своей в княжестве Молдавском, в 34 верстах от столичного города Ясс, 1791 года, октября в 5–й день, на 52 году от рождения, повергнув в бездну горести не только облагодетельствованных, но едва ведающих его».
На пирамиде, стоявшей с левой стороны, находился герб, во всем подобный первому, осененный справа кейзер–флагом, слева — гетманским знаменем.
Девятнадцать больших свеч в высоких подсвечниках, обложенных золотой парчой, и множество меньших свеч, поставленных вокруг гроба, освещая катафалк, придавали всему великолепный вид.
При гробе были учреждены дежурства из одного генерал–майора, двух полковников, четырех штаб–офицеров, восьми обер–офицеров, одного генерал–адъютанта и одного флигель–адъютанта.
11 октября жителям города было объявлено, что желающие отдать последний долг покойному фельдмаршалу будут допускаться без изъятия.
Народ стоял толпами; горесть была написана на всех лицах; преимущественно военные и молдавские бояре проливали слезы о потере своего благодетеля и защитника.
В это время поставленный у дверей залы офицер раздавал нищим мелкие серебряные деньги.
Поклонение телу происходило в тот день от 3 до 6 часов пополудни.
В часы прихода для поклонения у головы усопшего стояли по обеим сторонам два генерал–адъютанта, у середины гроба по два офицера гвардии и два флигель–адъютанта, несколько подалее по два офицера Екатеринославского гренадерского полка, лейб–гвардии бомбардирской роты и кирасирского князя Потемкина полка, а у балюстрады по два офицера того же полка в супервестах.
Двенадцатого числа двери зала были отворены для публики от десяти часов утра до двух часов пополудни и от трех до восьми часов вечера.
В это же время по–прежнему происходила раздача нищим мелких серебряных денег.
Между тем один генерал–адъютант, два флигель–адъютанта на лошадях, в сопровождении одного эскадрона кирасирского князя Потемкина полка, в траурном одеянии, с литаврами, покрытыми черным сукном, возвестили городу о времени выноса тела, которое назначено было на другой день в 8 часов утра.
Тринадцатого числа полки Екатеринославский и Малороссийский гренадерский и Днепровский мушкетерский стали по обеим сторонам улиц, где долженствовало проходить шествие.
Когда духовенство собралось и все было готово, время выноса было возвещено одиннадцатью пушечными выстрелами и унылым колокольным звоном; пальба продолжалась через каждую минуту до самого внесения тела в монастырь Г9МИ, назначенный для совершения печального обряда.
Тело выносили из особенного усердия генералы, также штат покойного князя и назначенные к тому штаб–офицеры; балдахин несли гвардейские офицеры, кисти поддерживали полковники.
Шествие происходило в следующем порядке:
1) Эскадрон конвойных гусар усопшего фельдмаршала.
2) Кирасирский полк Князя Потемкина.
3) Дом покойного в трауре.
4) Верховые лошади в богатых уборах; каждую вели два конюха в богатых ливреях, в черных епанчах и шляпах.
5) Сто двадцать человек солдат с факелами, в черных епанчах и в распущенных шляпах с черным флером.
6) Двадцать четыре обер–офицера в траурном одеянии со свечами.
7) Двенадцать штаб–офицеров в траурной одежде со свечами.
8) Бояре княжества Молдавского, князья и посланники черкесские.
9) За ними должен был следовать генералитет, но генералы выносили гроб и шли по сторонам его до самого монастыря.
10) Духовенство.
11) Знаки отличия, из которых каждый несли штаб–офицеры с двумя обер–офицерами за ассистентов: а) ордена Святого Андрея Первозванного; б) Святого Александра Невского; в) Святого Георгия 1–го класса; г) Святого Владимира 1–го класса; д) Белого Орла; е) Святого Станислава; ж) прусского Черного Орла; з) датского Слона; и) шведского Серафима; й) Святой Анны 1–го класса; к) камергерский ключ; л) гетманская булава; м) гетманская сабля; н) жалованная шпага; о) венец золотой с бриллиантами; п) бант от портрета императрицы; р) фельдмаршальский жезл; с) гетманское знамя; т) княжеская корона.
12) Гроб на черных дрогах, запряженных восемью лошадьми в черных попонах, из которых каждую вел конюх в черной епанче и шляпе.
13) Парадная карета, покрытая черным сукном, запряженная 8 лошадьми, под черными покрывалами; при ней конюхи в парадных ливреях и черных епанчах.
14) Родственники покойного.
15) Шествие замыкали: эскадрон конвойных гусар, казачий полк великого гетмана и донской казачий полк князя Потемкина.
По совершении литургии преосвященный Амвросий, местоблюститель экзархии молдаво–валахской, вышел было сказать надгробное слово, но, зарыдав, не мог выговорить ни слова и возвратился в алтарь.
По окончании отпевания, когда запели «вечную память», сделано было одиннадцать выстрелов, а войска произвели троекратный беглый ружейный огонь.
Церковь огласилась рыданием присутствовавших.
Штаб- и обер–офицерам были розданы золотые кольца с именем покойного фельдмаршала.
Четырем полкам были розданы на каждого человека по рублю серебром.
Тело Потемкина оставалось еще несколько дней в монастыре, а затем было перевезено в Херсон и 23 ноября положено в крепостной соборной церкви во имя Святой Екатерины, в особом склепе, куда все желающие могли входить и служить панихиды.
Особенно горевали о Григории Александровиче солдаты.
— Покойный его светлость, — твердили они, — был наш отец, облегчал нашу службу, довольствовал нас всякими потребностями; словом сказать, мы были избалованные его дети; не будем иметь подобного ему командира; дай Бог ему вечную память!
Но были люди, которые обрадовались смерти светлейшего князя.
Прежде всего — все придворные.
И как им было не радоваться, если даже, по словам Массона, не панегириста князя, он был человек необыкновенный, исполин, заслонявший собою всех.
— Он созидал или разрушал, — говорит Массон, — или спутывал все, но и оживлял все. Когда отсутствовал, только и речей было, что о нем; а когда появлялся — глядели исключительно на него одного. Вельможи, его ненавистники, игравшие некоторую роль в бытность его в армии, при его появлении, казалось, уходили в землю, уничтожались при нем.
Рады были смерти Потемкина и его родственники, получившие от него огромное наследство в десять миллионов и неисчислимые художественные сокровища.
В память Потемкина государыня кроме памятника приказала изготовить грамоту с перечислением всех подвигов и хранить ее в соборной церкви Херсона.
В степях Бессарабии на том месте, где умер «князь Тавриды», возвышается небольшая пирамида.
XXIII ПОСЛЕСЛОВИЕ
Гигант пал!
Князь Тавриды, жизни и деятельности которого мы посвятили наше правдивое повествование, отошел в вечность.
Остается сказать лишь несколько слов о судьбе оставшихся в живых второстепенных выведенных нами героев и героинь и о судьбе останков светлейшего князя Тавриды.
Эта судьба последних, как и жизнь и смерть русского Алкивиада [64], не из обыкновенных.
Калисфения Фемистокловна Мазараки не выдержала монастырского заключения и, не получая ответа от своей дочери, поняла, что последняя оставила ее на произвол судьбы.
Бывшая куртизанка загрустила, а через год с небольшим после приезда в монастырь утопилась в монастырском пруду.
Начальство монастыря, впрочем, приписало это несчастной случайности, и наложившая на себя руки грешница была похоронена по христианскому обряду и нашла упокоение от полной треволнений жизни на монастырском кладбище.
О судьбе матери Калисфения Николаевна узнала лишь после смерти Григория Александровича, кстати сказать, не очень ее огорчившей — она уже успела себе составить большое состояние.
Равнодушно узнала она и о том, что ее матери уже нет в живых.
Эгоизм, почти нечеловеческий, нашел себе воплощение в этой красавице.
Возмездие, впрочем, не заставило себя ждать.
Года через три после смерти Григория Александровича она увлеклась венгерцем — наездником из цирка, который сумел быстро обобрать красавицу и убежать с ее капиталом за границу.
К довершению несчастия, Калисфения Николаевна заболела.
У нее сделалась оспа, поветрие которой было тогда в Петербурге.
Крепкий организм выдержал болезнь, но… она встала с постели уродом.
Когда она подошла к зеркалу, то невольно отшатнулась.
Изрытое лицо, глаза, лишенные ресниц, с воспаленными веками, поредевшие волосы сделали неузнаваемой за какие‑нибудь два месяца очаровательную женщину.
Калисфения Николаевна зарыдала.
Это были первые серьезные слезы ее жизни — горькие слезы безнадежного отчаяния.
Она поняла, что ее жизнь кончена.
Красота и деньги были главными рычагами ее существования.
У ней не было теперь ни того, ни другого.
На другой день ее нашли повесившеюся на шелковом шнурке в том самом будуаре, служившем алтарем поклонения ее исчезнувшей красоты, где было принесено столько жертв, где несколько томительно–сладких минут провел Владимир Андреевич Петровский–Святозаров.
Она висела на крючке, вбитом в потолок для снятой на летнее время люстры.
Искаженное лицо удавленницы обращено было к висевшему на стене большому портрету, из золотой рамы которого насмешливо смотрел на нее Григорий Александрович Потемкин.
Восточный домик после смерти Мазараки был приобретен родственниками покойного Потемкина и лучшие вещи, вместе с портретом светлейшего князя, вывезены, а другие распроданы.
Вырученные деньги, как выморочное имущество, поступили в казну.
Домик был заколочен наглухо.
О нем на Васильевском острове сложилось множество легенд, пока, пришедший в ветхость, он не был продан на слом уже в конце царствования императора Александра I.
Княгиня Зинаида Сергеевна Святозарова была глубоко потрясена вестью о кончине Потемкина.
Она нашла, впрочем, утешение в своем «новом» сыне, который свято сдержал слово, данное им светлейшему, — был опорой матери, умершей через десять лет после смерти Григория Александровича.
В царствование императора Павла и особенно Александра I князь Владимир Андреевич Святозаров сделал блестящую карьеру.
Аннушка и Анфиса нашли себе приют в одном из отдаленнейших и строгих женских монастырей и постриглись в монашество, сделав богатый вклад из оставшихся нерозданными денег, взятых с собою из Петербурга.
Игуменья этого монастыря отличалась святой, почти отшельнической жизнью. Она начала в нем с самых тяжелых трудов послушницы около тридцати лет тому назад и дослужилась до звания игуменьи за свое более чем строгое
Кто она и при каких обстоятельствах поступила в монастырь, — никто из монашенок не знал.
Для Аннушки в лице игуменьи, матери Досифеи, мелькнуло что‑то знакомое.
Бывшая горничная княгини Святозаровой стала напрягать свою память и вспомнила.
Мать Досифея оказалась не кто иная, как пропавшая без вести графиня Клавдия Афанасьевна Переметьева.
Императрица Екатерина пережила своего подданного друга на шесть лет.
В первый же год царствования Павла I [65], который не любил Потемкина и увидев из его бумаг, как много он вредил ему в мнении императрицы, херсонским губернатором были получены следующие бумаги.
Помеченная 18 апреля 1798–го. Секретно.
«Милостивый государь мой, Иван Яковлевич.
Известно государю императору, что тело покойного князя Потемкина доныне еще не предано земле, а держится в особо сделанном под церковью погребу, и от людей бывает посещаемо, а потому, находя сие непристойным, высочайше соизволяет, дабы тело без дальнейшей огласки в самом же том погребу погребено было в особо вырытую яму, а поверх засыпано землей и взглажено так, как бы его никогда не бывало. Вследствие чего о такой высокомонаршей воле вашему превосходительству сообщая, есмь в прочем с истинным и непременным почтением
вашего превосходительства милостивого государя моего покорный слуга
Алексей Куракин.
Марта 27 дня 1798 года».
Приказ был, конечно, немедленно исполнен.
Не прошло и месяца, как была получена бумага и о памятнике Потемкину, воздвигнутом по повелению Екатерины II.
Бумага эта, помеченная 7 мая 1798 года, была следующего содержания:
«Милостивый государь мой, Иван Яковлевич.
Господин действительный тайный советник генерал–прокурор и кавалер князь Алексей Борисович Куракин 10 минувшего марта сообщил мне высочайшее его императорского величества повеление, на имя его данное, чтобы сооруженный в Херсоне от казны в память князю Потемкину памятник был уничтожен.
А потому предписав о точном и немедленном исполнении сего высочайшего соизволения херсонскому коменданту, нужным почитаю об оном известить сим и ваше превосходительство. Имею честь быть с совершенным почтением
вашего превосходительства покорнейший слуга
граф Михаил Каховский.
Апреля 27 дня 1798 года».
Херсонский комендант вскоре донес, что высочайшая воля относительно памятника князя Потемкина исполнена.
Эти распоряжения подали основание молве, быстро облетевшей всю Россию к проникнувшей за границу, будто тело князя вынуто было из гроба и зарыто бесследно во рву херсонской крепости.
Молва эта была несправедлива — тело оставалось в гробу неприкосновенным.
В 1818 году при объезде епархии екатеринославский архиепископ Иов Потемкин, по родству, пожелал убедиться в справедливости носившегося слуха.
Ночью, 4 июля, в присутствии нескольких духовных лиц, поднят был церковный пол, проломан свод склепа и вскрыт гроб.
Архиепископ удостоверился в присутствии в гробу тела.
Рассказывали, что он вынул из склепа какой‑то сосуд и поместил его в свою карету; в сосуде этом, по догадкам, находились внутренности покойного.
Говорили, что сосуд отправлен был в сельцо Чижево, Смоленского уезда, на родину князя.
Предание гласит, что, захватив из склепа сосуд, иерарх взял и портрет императрицы Екатерины II, осыпанный бриллиантами, лежавший в гробу.
В 1859 году, по случаю внутренних починок в церкви, пять лиц спустились через пролом в склеп и, вынув из развалившегося гроба засыпанные землею череп и некоторые кости покойного, вложили их в особый ящик с задвижкой и оставили в склепе.
Около этого же времени, как рассказывают, из склепа взято было все до последней пуговицы, куски золотого позумента и даже сняты полуистлевшие туфли Потемкина.
Череп и несколько костей — вот что осталось от великолепного «князя Тавриды».
Sic transit gloria mundi [18].
Позднейшее потомство лучше оценило заслуги великого государственного мужа.
В 1836 году «благодарный Новороссийский край» с высочайшего соизволения воздвиг в честь Потемкина в центре Закона, в городском саду, новый бронзовый памятник, который изображает князя во весь рост, облеченного в рыцарскую мантию: лицо его обращено к завоеванной им Тавриде, а взор устремлен на Екатеринославль.
В одной руке он держит фельдмаршальский жезл — эмблему военных подвигов, в другой — подзорную трубу — эмблему зоркой проницательности.
Чудный вид принимает памятник среди деревьев, когда весеннее солнце яркими лучами играет на его блестящей поверхности.
Колоссальная фигура князя, превосходно исполненная знаменитым художником Мартосом [66], возвышается на гранитном пьедестале, окруженном чугунными колоннами и цепью.
В 1873 году херсонское земство повесило в церкви Святой Екатерины в память князя Таврического небольшую мраморную доску…
КОММЕНТАРИИ
НИКОЛАЙ ЭДУАРДОВИЧ ГЕЙНЦЕ (1852-1913) почти неизвестен современному читателю, между тем как в дореволюционной России он был неизменно среди самых признанных авторов, работавших в историческом жанре. Н. Э. Гейнце создано более сорока книг, и только теперь, в 90-е годы XX столетия, они возвращаются к нам. Среди самых заметных творений, принадлежавших перу писателя, - роман «Князь Тавриды». Несомненное достоинство этого исторического произведения - его многомерность, неоднозначность, панорамность взгляда на отечественную историю XVIII века вообще и на образ главного героя повествования - светлейшего князя Григория Александровича Потемкина-Таврического в частности.
Печатается по изданию: Гейнце Н. Э. Князь Тавриды: Исторический роман. М.: Современник, 1994. (Золотая летопись России).
[1] ...Большой театр, бывший в столице еще новинкой... - Другое название - Каменный театр - первое постоянное в Петербурге театральное здание (спектакли давались с 1783 г.).
[2] ...знаменитого композитора того времени Паизиелло. - Паизиелло - итальянский композитор, представитель неаполитанской оперной школы. В 1776-1784 гг. работал в России.
[3] Таврический дворец... на Воскресенском проспекте... - Дворец построен в 1783-1789 гг. (архитектор Старов). Проспект (точнее - улица) назван по Воскресенскому собору Смольного монастыря, расположенного здесь.
[4] ...после присоединения Крыма... - Крымский полуостров присоединен к Российской империи в 1783 г.
[5] ...прибывшего из Ясс с новыми победными лаврами. - Яссы - город в Румынии. В период русско-турецкой войны 1787-1791 гг. - местопребывание светлейшего князя Потемкина-Таврического.
[6] ...начал службу в канцелярии графа Панина... - Граф Панин Петр Иванович (1721-1789), генерал-аншеф, участник Семилетней и русско-турецких войн (1768-1774).
[7] В 1788 году во Франции разгорелась революция. - Имеется в виду Великая французская революция 1789-1794 гг.
[8] ...севрского фарфора... - художественные изделия фарфорового завода в Севре близ Парижа. Посуда с яркой, сочной росписью, скульптура (обычно бисквит) из мягкого фарфора в стиле рококо, с 1770 г. - в стиле классицизма.
[9] ...куратору И. И. Шувалову... - Русский государственный деятель, фаворит Елизаветы Петровны, генерал-адъютант. Покровительствовал просвещению; первый куратор Московского университета, президент Академии художеств.
[10] ...наделавшую много шума «Натуральную историю» Бюффона. - Имеется в виду «Естественная история животных» знаменитого французского натуралиста Жоржа-Луи-Леклерка Бюффона (1707-1788). В противоположность К. Линнею, отстаивал идею изменяемости видов под влиянием условий среды.
[11] ...Ермил Иванович Костров, впоследствии небезызвестный поэт и переводчик «Илиады»... - Помимо «Илиады» Гомера Костров (1750-1796) перевел «Золотого осла» Апулея и другие произведения.
[12] ...с поэтом Василием Петровичем Петровым, впоследствии переводчиком Вергилиевой «Энеиды» и «Потерянного рая» Мильтона... - Видный поэт екатерининской эпохи, Петров (1736-1799) известен как переводами, так и оригинальными произведениями (оды, сатира «Приключения Густава III»).
[13] ...Чудова монастыря. - Имеется в виду Алексеевский Архангело-Михайловский мужской монастырь в Московском Кремле.
[14] Васильевский остров - самый большой остров дельты Невы между Большой Невой и Малой Невой. Назван в конце XV в. по имени владельца - новгородского посадника Василия Селезня. Освоение территории острова началось в 1710-х гг.
[15] ...с Петербургскою стороною по реке Карповке... - ныне Петроградская сторона. Включает Петроградский, Аптекарский, Петровский, Заячий острова. Извилистая река Карповка разделяет Петроградский и Аптекарский острова.
[16] ...Смоленского кладбища... - Имеется в виду Смоленское православное кладбище в северо-западной части Васильевского острова на левом берегу реки Смоленка. На южной части острова Декабристов (старое название - Голодай), тоже на правом берегу Смоленки, расположена лютеранское Смоленское кладбище, старейшее из неправославных кладбищ Петербурга.
[17] ...страничку «Телемахиды»... - Речь идет о поэме Ф. Фенелона «Приключения Телемака» (1699) в переводе В. К. Тредиаковского. «Телемахида» стала нарицательным именем для обозначения тяжеловесных, неуклюжих стихотворных произведений.
[18] ...знаменитых братьев, Алексея и Григория... - Григорий Григорьевич Орлов (1734-1783) - граф, принимал деятельное участие в перевороте 1762 г., доставившем престол Екатерине II. Фаворит императрицы. Алексей Григорьевич Орлов-Чесменский (1737-1807) - граф, герой русско-турецкой войны 1769-1774 гг.
[19] …Людовик XIV.. - французский король (годы жизни - 1638-1715, годы правления - 1643-1715). Создал централизованное полицейское государство, вполне охарактеризованное его словами: «Государство - это я».
[20] Выбор главнокомандующего армией графа Румянцева-Задунайского... - Петр Александрович Румянцев-Задунайский (1725-1796) - граф, генерал-фельдмаршал. Выдвинулся в Семилетнюю войну. В 1764 г. - генерал-губернатор Малороссии. В русско-турецкую войну, в 1769 г., будучи главнокомандующим русской армией, разбил турок при Ларге, под Кагулом, взял Журжу, Измаил, Килию, Бухарест, перешел Дунай и заключил в 1774 г. Кючук-Кайнарджийский мир.
[21] По случаю победы при Фокшанах... - Фокшаны - город в Румынии. Имеется в виду победа в 1789 г. русско-австрийских войск под предводительством Суворова над турками.
[22] Пугачевский бунт - народное движение в царствование Екатерины II, получившее название «пугачевщина». Бунт, распространившийся по всему Поволжью, продолжался два года (1773-1775). Подавлен войсками Суворова.
[23] ...находился под Силистрией... - Силистрия - город в Болгарии на реке Дунай.
[24] ...праздника Рождества. - Рождество Христово (25 декабря) - двунадесятый праздник, учрежден Церковью в память рождения Иисуса Христа. В России с ним соединяется воспоминание об избавлении Отечества от нашествия французов в 1812 г.
[25] Суворов - Александр Васильевич Суворов (1730-1800) - великий русский полководец, генералиссимус. Участник Семилетней войны. Во время русско-турецких войн одержал победы при Козиудже (1774), Кинбурне (1787), Фокшанах и Рымнике (1789); взял штурмом Измаил (1790). В 1799 г. доблестно провел Италийскую кампанию.
[26] Миллионная улица - между Лебяжьим каналом и Дворцовой площадью. Возникла в 1711 г. в связи со строительством Зимнего дворца.
[27] Австрийский император Иосиф II (1741-1790) - австрийский эрцгерцог (с 1780 г.), император Священной Римской империи (с 1765 г.). Проводил политику так называемого просвещенного абсолютизма.
[28] …храма Петра в Риме - собор Святого Петра (1506-1614).
[29] …любимое детище Потемкина - Севастополь... - Основан в 1783 г. как военно-морской порт и крепость.
[30] По Кючук-Кайнарджийскому миру... - Кючук-Кайнарджи - деревня в Болгарии близ города Силистрии. Здесь заключен мир между Россией и Турцией (1774), по которому султан отказался от своих прав на Крым и Кубань.
[31] ...Булгакова... - Яков Иванович Булгаков (1743-1809) - дипломат времен Екатерины II. В 1783 г. добился согласия Порты на присоединение Крыма к России, предотвратив своей дипломатической ловкостью войну.
[32] ...в лейб-гвардии Семеновском полку... - Один из старейших русских гвардейских полков, сформированный Петром I вместе с Преображенским из потешных войск в 1687 г.
[33] Прощеное воскресенье - последний день масленицы, канун Великого поста, когда весь народ соблюдает обычай просить прощение друг у друга во взаимных обидах.
[34] ...княгиня Екатерина Романовна Дашкова... - урожденная графиня Воронцова (1743-1810). Знаменитая общественная деятельница времен Екатерины II. В 1780 г. назначается президентом Академии наук. Многое сделала для развития отечественной науки, литературы. Издавала журнал «Собеседник любителей русского слова».
[35] ...нить... Ариаднину... - По греческой мифологии - дочь критского царя Миноса помогла афинскому герою Тесею, убившему Минотавра, выйти из лабиринта, снабдив его клубком ниток, конец которых был закреплен при входе (отсюда выражение «нить Ариадны»).
[36] ...императрицы Екатерины I, в девицах Марты Скавронской... - Екатерина I (1684-1727) являлась дочерью литовца Самуила Скавронского. Во время Северной войны, в 1702 г., попав в русский плен, была представлена Меншиковым Петру I, который вскоре женился на ней.
[37] Дмитрий Александрович Гурьев (1751-1825) - граф, государственный деятель. Став в 1810 г. министром финансов, заявил себя сторонником Сперанского, а после его падения стал приверженцем политики Аракчеева.
[38] ...в Семилетнюю войну... - Семилетняя война (1756-1763) возникла из-за англо-французского конфликта и столкновения агрессивной политики Пруссии с интересами Англии, Франции и России.
[39] ...Семена Гавриловича Зорича... - Один из любимцев Екатерины II, по происхождению сербский крестьянин. Был произведен в генералы и флигель-адъютанты.
[40] Эзоп - знаменитый греческий баснописец, живший в VI в. до н. э. По преданию, был рабом из Фригии. Обладал неказистой внешностью. Впоследствии получил свободу. Ему приписывают сюжеты почти всех известных в античности басен («Эзоповы басни»). Среди первых переводчиков его басен - Позняков и Алексеев.
[41] ...Печерского монастыря... - Имеется в виду Киево-Печерская лавра, основанная в 1052 г. Здесь хранятся мощи преподобных Антония, Феодосия и других святых.
[42] ...польским королем Станиславом Августом Понятовским. - Речь идет о последнем польском короле Станиславе Августе Понятовском (1732-1798). Был избран в 1764 г. по желанию Екатерины II. При нем произошел раздел Польши между Россией, Пруссией и Австрией. В 1795 г. отрекся от престола. Умер в Петербурге.
[43] ...к московскому генерал-губернатору П. Д. Еропкину. - Петр Дмитриевич Еропкин известен своими энергичными мерами во время чумы в Москве (1771), за что получил от Екатерины Андреевскую ленту и 4000 душ крестьян, но от последних отказался.
[44] В окрестностях Полтавы, на полях, прославленных победой Петра I... - Во время Северной войны русская армия под командованием Петра I разгромила под Полтавой 27 июня 1709 г. армию Шведского короля Карла XII, который бежал в Турцию.
[45] ...великому князю Константину Павловичу. - Цесаревич, второй сын императора Павла I (1779-1831). С 1816 г. наместник Царства Польского. Отказался от престола после смерти Александра I в пользу своего брата Николая Павловича.
[46] ...армаду Филиппа II Испанского... - Филипп II (1523-1598) известен своим религиозным фанатизмом и мрачным, загадочным характером. Вел войны с Англией и Францией. Присоединил к Испании в 1581 г. Португалию.
[47] Голиаф - в библейской мифологии великан-филистимлянин, убитый в единоборстве пастухом Давидом (ставшим потом царем).
[48] ...сказала она Храповицкому... - Александр Васильевич Храповицкий (1749-1801) - писатель, автор трагедии, сатирических писем, хоров для оперы. Оставил Дневник, изданный в 1874 г.
[49] Ложа Рафаэля - так называемая галерея во втором этаже в Ватикане, плафон которой расписан Рафаэлем Санти сценами из Священного Писания.
[50] ...два бюста работы Шубина: графа Румянцева и графа Шереметева. - Федот Иванович Шубин (1740-1805), скульптор, представитель классицизма. Создал галерею психологически точных скульптурных портретов (бюсты А. М. Голицына, 1775; П. Р. Паниной, сер. 1770-х гг.; И. Г. Орлова, 1778 г.; М. В. Ломоносова, 1792). Бюсты Шереметева и Румянцева, а равно и Екатерины II - также из числа его лучших созданий.
[51] ...великой княгинею Марией Федоровной... - Супруга Павла Петровича (наследника престола, впоследствии императора Павла I; 1759-1828). Принцесса Виртембергская. Образовала целый ряд учебно-воспитательных и благотворительных учреждений. Позже было создано специальное Ведомство императрицы Марии.
[52] ...архитектор Фальконе... - Этьен-Морис Фальконе (1716-1791), французский скульптор. По приглашению Екатерины II в 1766 г. вылепил и отлил из бронзы конную статую Петра Великого («Медный всадник»).
[53] ...к Большому проспекту Васильевского острова, ближе к местности, называемой Гаванью... - Точное название до 1806 г. - Большая дорога. Проложен в 30-х гг. XVIII в. как дорога через слободы Ямбургского, Копорского, Санкт-Петербургского и Белозерского полков. Галерная гавань на Большой дороге заложена в 1721 г. Она дала название Галерному селению, где стали жить работные люди и матросы гребного флота.
[54] Сорокоуст - поминовения, совершаемые в церкви по умершим в течение сорока дней.
[55] ...Дворцовая площадь, Морская и конец Невского проспекта, или, как тогда называли, Невская першпектива... - центральная площадь Санкт-Петербурга. Возникла в середине XVIII в. в связи с возведением в 1754-1762 гг. Зимнего дворца. Морская улица протянулась между Дворцовой площадью и набережной Крюкова канала. Начинается она от арки Главного штаба и пересекает Невский проспект, расположенный между Адмиралтейским проспектом. Дворцовой площадью и площадью Александра Невского. Поначалу назывался Большой першпективной дорогой (1710-1720).
[56] Дамоклов меч. - Рассказывают, что сиракузский тиран Дионисий, желая охладить зависть к себе одного из своих приближенных по имени Дамокл, посадил его на свое место; тот, подняв вверх глаза и увидев над своей головой меч, висящий на волоске, быстро отскочил в сторону. Тогда Дионисий сказал ему, что если наслаждение властью тирана и велико, то зато велика и опасность, угрожающая ему каждую минуту.
[57] Бригадир Платов - будущий герой Отечественной войны 1812 года... - Матвей Иванович Платов (1751-1818), граф, атаман войска Донского. Один из самых популярных героев войны 1812 г.
[58] ...двадцатидвухлетнего Зубова... - Платон Александрович Зубов (1767-1822), князь, один из любимцев Екатерины II, получивший графское достоинство и имения с десятками тысяч душ. Его брат, Валериан Александрович (1771-1804), при Александре I был членом Государственного совета.
[59] ...лихорадочный пароксизм... - Приступ лихорадки, возвращающийся через какой-либо промежуток времени.
[60] …Апександро-Невской лавры. - Основана в Санкт-Петербурге в 1712 г. Петром I в память победы Александра Невского над шведами.
[61] ...каррарского мрамора... - Лучший из всех известных сортов мрамора. Добывается на севере Италии из горы Апуаны, у подножия которой стоит город Каррара, весь построенный из мрамора. Знаменитые произведения Кановы и Торвальдсена выполнены из каррарского мрамора.
[62] ...генерал-майор Кутузов... - Михаил Илларионович Голенищев-Кутузов (1745-1813). Князь Смоленский, генерал-фельдмаршал. Обессмертил свое имя в пору Отечественной войны 1812 г. Приняв 17 августа 1812 г. под Царевом Займищем главное командование над русской армией, действовавшей против французов, одержал вместе с войсками блистательные победы, главная из которых - на поле Бородина.
[63] ...принц Вюртембергский. - Иначе: принц Виртембергский. Брат русской императрицы Марии Федоровны, супруги Павла Петровича.
[64] ...русского Алкивиада... - Алкивиад (451-404 гг. до н. э.) - знаменитый афинский государственный деятель и полководец. Один из учеников Сократа.
[65] ...царствования Павла I... - Сын Петра III и Екатерины II Павел Петрович (1754-1801) вступил на престол в 1796 г. Установил существовавший вплоть до 1917 г. принцип престолонаследия. Убит заговорщиками в ночь на 11 марта 1801 г.
[66] ...художником Мартосом... - Иван Петрович Мартос (1754-1835) - русский скульптор, представитель классицизма. В мемориальной пластике Мартоса (надгробия Е. С. Куракиной, Е И. Гагариной) гармонично сочетаются гражданский пафос, идеальная возвышенность, обаяние и жизненность образов. Мартос создал также памятник Минину и Пожарскому в Москве на Красной площади.
Григорий Петрович Данилевский Потемкин на Дунае
Сей остальной из стаи славной
Екатерининских орлов…
Пушкин
одном из городов Бессарабии в минувшем году понадобилось занять под военный склад часть каменного здания, заваленного делами какой‑то всеми забытой интендантской комиссии. При переноске бумаг на чердаке архива среди разного хлама обратили внимание на старомодную безногую шифоньерку. В ней оказалась часть разных полуистлевших фуражных дел известного в походах Суворова Фанагорийского пехотного полка и связка тетрадей из синеватой, плотной, мелко писанной бумаги с заголовком: «Памяти российского Агамемнона». Сбоку одной из страниц приписка: «О моем, полном треволнений примечательных встреч и событий, незабвенном пребывании на Дунае, писал для своих детей и внуков секунд–майор Савватий Бехтеев».
В тексте найденной рукописи заменены лишь некоторые совсем устарелые слова, теперь мало даже понятные, и рассказ разделен на главы.
I
…Зимой, в начале 1790 года, в Петербурге было особенно много веселостей. Не забуду я той поры до конца жизни.
Выпущенный из кадет Морского корпуса во флотские батальоны, состоявшие лично при особе наследника цесаревича Павла Петровича, я проживал в Гатчине, но нередко отлучался на побывку и в столицу. Моим батальонным был сам государь–наследник, как генерал–адмирал и президент Морской коллегии; другими командовали Неплюев, Аракчеев и Малютин.
Моряки особенно любили цесаревича, но его «финанции» были нарочито необширны, а подчас и ой как скудны. Мундирчики наши, на прусский лад, короткие и темно–зеленые, были часто из перекрашенного суконца, а потому, побывав на солнце, даже притом пегие. Но мы не унывали, кое‑как, хоть тесненько, «обострожились» и, в поношенной амуниции, не уступая щеголям и петиметрам, отдавали охотно дань молодости и свету. Ах, время, время, неизгладимое в сердцах и в памяти тогдашних людей!
То был двадцать восьмой год преславного государствования великой монархини Екатерины Второй. Она старилась, но не уставала в знаменитых делах. Блеском был окружен ее престол. Первая турецкая война — румянцевская — кончилась; продолжалась вторая — потемкинская. Мы, кадеты, собираясь на свободе о том о сем потолковать, мало говорили о громких внутренних событиях протекших времен — о заседаниях в Зимнем дворце именитой комиссии для начертания Нового уложения, равно как о Пугачеве и укрощении его приснопамятного бунта. Зато на устах всех были имена Потемкина и Суворова, особенно последнего. Нас тянуло на Дунай, туда, где, казалось, так близко осуществление новой великой Восточной системы, сиречь бессмертного «греческого прожекта» светлейшего, изгнание турецких орд из Европы и всеми желанное воцарение на древнем византийском престоле второго внука императрицы, Константина. Так, нареченный в честь последнего Палеолога, павшего при разгроме турками Византии, одиннадцатилетний внук Екатерины в то время был нарочито окружен греками. Его кормилица, слуги и даже товарищи игр были природные жители Греции. В Петербурге был в тех же целях устроен греческий кадетский корпус. И некоторые жители Эллады писывали августейшему отроку просительные письма, с титулом: «Кротчайшему греческому самодержцу Константину Третьему». Государыня в январе устроила при дворе пышную свадьбу девицы Мурузи с Комненом и сама убирала к венцу невесту. Начинали учиться по–гречески…
Золотые, счастливые годы! Все мы тогда жили смелыми, возвышенными мечтаниями.
Был у меня товарищ по Морскому корпусу, Ловцов, малый пылкий, чувствительный и одаренный прекрасным сердцем. С ним в особенности мы любили проводить время в толках о военных материях. Я был резкий, шустрый мальчик, склонный к забавам и шалостям. И воспитание наше тогдашнее, по Эмилю, было более в естественных упражнениях, в играх, беганье на свободе, в танцах и других физических забавах. Война, подвиги смелых героев наполняли мое воображение. Наш корпус находился в то время в Кронштадте. Уединенная на морском берегу липовая аллея, в корпусном саду, была любимым местом наших бесед с Ловцовым. Бывало, забьемся туда, усядемся с книгами или гуляем вдали от других товарищей и от начальства. Мы поделили в корпусе главных героев: одни были за смелого в боях воителя Суворова, другие — за блистательного в политических замыслах пышного Потемкина.
По выходе из корпуса Ловцов списался с отцом и тотчас отправился в действующую против турок Дунайскую армию. Как я ему завидовал и как роптал на свою судьбу, особенно когда мой друг, проездом через Херсон, отписал мне в пространной цидуле, что там на городских триумфальных, в честь Потемкина, воротах дворянством были начертаны сии знаменательные слова: «Путь в Византию». Византия! Изгнание новых моавитян и возрождение, через Россию, падшей и забытой империи Палеологов! [1] Горячо билось в то время любовью к родине сердчишко только что выпорхнувшего из гнезда легкокрылого птенчика.
В Гатчине вокруг цесаревича было тоже пылкое настроение, хотя сам впечатлительно–чуткий и рыцарски–возвышенного духа государь–наследник поневоле сдерживался. На все его просьбы государыне–матери отпустить его к храброму российскому войску, стоявшему у Дуная, последовали ясные и бесповоротные отказы с советом: заниматься своим делом и ждать, «когда коснутся сего пункта».
В Петербурге, куда я «инова» наезжал повеселиться с товарищами, повертеться в театрах и на гуляньях, был заметен отличный от гатчинского и во многом несходный образ мыслей. В ближних дворских кругах старались всеми силами отвратить помыслы монархини от продления предпринятой войны, находя то рановременным, фантазическим и аки бы, ввиду французских происшествий, даже весьма вредительным для спокойствия и мирного процветания самой Российской империи.
В тайности же этой критикой подводились злые подкопы под сильного вельможу, первого тогдашнего пособника государыни, Потемкина. Светлейшему нашелся в тот именно год нежданный и негаданный соперник, юный будущий князь, тогда еще граф, Платон Зубов. Все начинало раболепствовать новому всевластному дворскому светилу, а вследствие того и тайно порочить каждое распоряжение князя Таврического, к тому же от обиженной гордости, в непостижимом бездействии, мирно жившего в то время среди блестящей свиты в Яссах.
Поместье моего отца, В***й губернии, было в соседстве с имением Зубовых, и мы хорошо знали всю их неказистую роденьку. Ух, сильно были чванливы и спесивы, и ой как жадны к власти и к почестям, а ума весьма средненького и даже простого. Наши домашние дела помешали мне проситься на Дунай. Долги отца, по поручительству за кого‑то из сродников, державшего винный откуп, грозили нам немалыми бедами. Но была тому и еще одна причина.
Вскоре по моем выходе из кадет на зиму в Петербург приехала моя двоюродная тетка, Ольга Аркадьевна Ажигина.
Поместье Ажигиных, Горки, было невдали от деревни моей бабушки и крестной матери, у которой я часто гащивал до поступления моего в корпус. И как я всякий раз радовался, когда бабушка, навещая соседок, возила и меня в красивую и преотменную усадьбу Горок. Дом Ольги Аркадьевны стоял у озера, на гребне далеко видного холма, весь в зелени старого, густорослого сада, сбегавшего по откосам и оврагам к воде, с боскетами, перекидными мостиками, качелями, гротами и островками.
По саду резвилась черноволосая, коротко, ежиком остриженная, в белом передничке, с карими глазками и с премилою родинкой на подбородке семилетняя Пашута, единственная дочь вдовой, хлебосольной, дородной и доброй, хотя несколько сердитой на вид Ольга Аркадьевны. Говорю — сердитой, потому что, бывало, нахмурит Ольга Аркадьевна свои черные прегустые брови — ну Зевс–громовержец или, по крайности, арабистанский лев. А из‑под бровей светятся такие ласковые, простые и сердечные глаза. Кажется, вот положит тебя, шалуна, под горячий час, на широкую свою ладонь, другою прихлопнет, только мокренько станет. А она вареньем кормит, целует да пыхтит, куда делся и гнев. Ну премилая и преавантажная была барыня.
О Пашуте нечего и говорить. Я как теперь вижу эту веселую, проворную и шаловливую, как котенок, резвушку. Не посидит на месте: разбросает куклы, цветные лоскутки, прыгает по стульям или вертится юлой по паркету, стоя на одной ноге. То присядет, охает, перецыганивает старую няню Меркульевну; то ураганом налетит на комоды и укладки матери, перероет все, нанесет вороха отрезков и всякого хлама и сядет с иглой у столика — куклам платья шить. Но глядишь — опять все бросила, размела, с собачкой–болонкой возится, гремит или вдруг стихла, пропала, ну точно ветром ее унесло. Ищут ее под мебелью, в занавесках, на хорах, на чердаке. Ольга Аркадьевна махнет рукой — бросьте, мол, ее, непутную; знамое дело… А потом встревожится: ну как выскочила егоза, попала в колодец или в сугроб; собаки опять же такие злые во дворе. Пыхтит, сердится, вызывает ее, выходи, Пашутка, от дьяконицы пирожков с маком принесли, поймали на проталинке снегиря. Выскочит она из какой‑нибудь норы, из‑за печки, из шкапа с платьем и заливается. Но вот ей исполнилось десять–одиннадцать лет. Она все та же юла, но стала выравниваться, хорошеть. Папильотки [19]носит, на плечиках модести, а с кошкой спит, пеленает ее и водит в каком‑то вязанном из гаруса уморительном колпаке.
Я был тремя годами старше троюродной сестрицы Прасковьи Львовны и, не скроюсь в том, когда ей исполнилось двенадцать лет, стал очень к ней неравнодушен. В деревне чего у нас не бывало: умильные переглядыванья при больших, вздохи, поднесенья цветов и нечаянные встречи в боскетах да в тенистых дремучих аллеях, а раз где‑то на мостике, искусно перекинутом через шумящий ручей, даже и нежданно сорванный, весьма перепуганный поцелуй, — словом, амурные мистерии по всей форме. Расстались мы на время, как бы накоротке, а случилось весьма надолго, почти на семь лет. И как я досадовал, что, отправясь в корпус, не предвидел столь долгосрочной разлуки!
В день последнего отъезда из Горок — это было осенью — Ажигина садила разный лесной молодняк в своем саду, и мы с Пашей на память тоже посадили в цветочной клумбе перед домом молоденький, в пол–аршина, дубок.
Троюродная сестрица Пашута под конец деревенской моей жизни тем особенно стала меня занимать, что вообразилась мне, по ее, впрочем, словам, какою‑то непризнанною, таинственной жертвой матери. «Ольги‑то Аркадьевны! — добавлял я себе впоследствии. — И не любят‑то ее как следует, варенья мало дают — зубы испортишь, — и по–французски Ломонда все велят учить, а он такой противный; в чулках и в переднике репейников нанесла с огорода, всю дымковую кисейную юбочку искромсала в поспевшем крыжовнике; бегаешь, как мальчик–сорванец, по сырости, горло застудишь; в чернилах не токмо персты, даже весь нос, писавши урок, перекрасила». И как, бывало, встретимся где в закоулке, шепчет Пашута на мамашу, да так всерьез, как что важное, по тайности, сдвинет брови, оглядывается и грозит, чтоб не проговорился. Тогда я не понимал причины тех шептаний, а после их относил к пересудам какой‑либо долгоязыкой, некстати льстивой приживалки либо к раннему чтению любовных рыцарских и всяких романов, которые Пашута брала у матери и тайком читала в своей горенке. Рыцари спасали героинь из‑за заперта, из неприступных вышек; ну и Пашута быстрыми, вглядчивыми глазками искала в Горках своего рыцаря. Помню последнюю нашу встречу в деревне. Был теплый осенний день. Посадив на клумбе, среди цветов, дубок, мы побежали под горку, к гроту. Паша села на качели. Я взялся за веревку и стал ее покачивать. Как теперь ее вижу — в косах, в голубом коротком платьице и в панталончиках. Она задумалась. Ленты кос и передник развеваются.
— О чем, Пашутка, думаешь?
— Ах! Сказку о жар–птице, о грифах вспомнила. Точно сижу на грифе и лечу, лечу… Земля, пруд, Горки и ты сам, точно дым, виднеются из облаков…
Хлопотливая и шумная корпусная жизнь мелькнула для меня незаметно. Пока бабушка была жива, я нередко писывал к ней и всегда слал поклоны «соседкам», спрашивая о здоровье троюродной сестрицы, о гротах, ее любимой кошке и о посаженном дубке. Баловница–бабушка, сама имевшая в жизни немало, как она говорила, амурных «гисторий», покровительствовала моему настроению. Через нее я препровождал «матушке кузине» собственного переписывания, с виньетками, романсы для пения Беллиграцкого, модные марши для фортепьяно Скарти, а иногда и преловко подобранные, иносказательные, с акростихами, куплеты. Пугала, бывало, бабушка.
«Представьте, mon bijou! — писала она. — В твою‑то Лаису, сердцеед и псовый охотник, один штык–юнкер, наши сосед, влюбился. Везде‑то он, mon coeur, мотается, где только ляжет ее следок; не пускает шаматона к Горкам на пушечный зык; так он — Dieu la garde! [20]- ночи напролет снует, по луне, верхом за озером и трубит в охотничий большущий рог, подает о себе голос…»
Со смертью бабушки сведения мои об Ажигиных прекратились. Домой о них я не решался писать… Там знали
о моем детском волокитстве, я же старался казаться теперь степенным и возмужалым. А где там степенность! Время, впрочем, взяло свое. Классные занятия, экзамены, выпуск в офицеры, обмундировка, новые товарищи и нешуточная строгая служба в Гатчине с веселыми побывками в столицу — все это мало–помалу незаметно изгладило мои деревенские впечатления — особенно урывки в Петербург.
Не было сверстника более меня в те годы падкого до всяких проказ и холостых кутежей. Рослый, статный, румяный, голубые глаза с поволокой, русая коса и букли в пудре и распомажены, надушен, находчив, весельчак, танцор и хохотун. Ах, где вы ныне, те прошлые, давние годы? Природная, вечная пудра посеребрила голову… «Кто будет на конском бегу? Бехтеев будет? Ну и мы там!» — бывало, решают товарищи. Театра, охоты, танцев, попойки без меня и не затевали. Где Бехтеев, там и жизнь, смех, пляс и всякие веселости. Попадался я и в разных превратностях: раз, побившись об заклад, в женском платье забрался я к вечерне в девичий престрогий пансион; в другой — проигрался в карты в Преображенском полку и, спустив на отыгрыш шубу, доехал обратно в Гатчину по морозу, зарывшись в одном мундирчике в чухонский воз с соломой. Были — впрочем, больше для виду — и волокитства за цыганками; но тощий кошелек не довел ни до чего серьезного.
Приезд Ажигиных меня переродил.
Нечего и говорить, как я обрадовался, когда в Гатчину до меня дошла весть из дому, что Ольга Аркадьевна решила провести зиму 1790 года в Петербурге. Матушка писала, что причиной тому было желание Ажигиной закончить образование уже взрослой дочери по музыке, танцам и рисованию, а вернее, чтоб дать своему «милу дружку Пашуте» случай побывать в столице. Да и как было не соблазниться! Здесь жила великая монархиня и был двор, и сюда всяк стремился тогда из глуши деревень взглянуть на новый мир и на модные столичные забавы. «Выйдет замуж, не до того будет, — сказала, навестив матушку, Ольга Аркадьевна. — Пойдут дети, муж не повезет; теперь сама еще, пока девка, владыка. Надеюсь, и ваш Савватий Ильич, как добрый знакомый и истинный кавалер, навестит нас».
Урожай хлеба и трав был в то лето в наших местах вообще изрядный, цены на сельские припасы стояли хорошие. Ажигина списалась с Чинклершей, своей кумой, бывшей в Петербурге за экономом Смольного монастыря [2], наняла у Николы Морского [3] недорогую, по приличию и по своему рангу, квартиру, чистую да укромную, отправила вперед нужные вещи и часть дворни, а сама переехала в столицу в начале января.
Помню, как билось мое сердце, когда по отписке родительницы я приехал из Гатчины и вошел в посеребренный от инея палисадник одноярусного, с антресолями и верхним балконом, деревянного дома Никольской попадьи.
Старый буфетчик Ермил, сидя в преогромных оловянных очках и с чулочными спицами в руках, не узнал меня в передней. Да и где было узнать в «стоярослом» плечистом, с завитою в букли косой флотском офицере былого неотесанного деревенского барчонка, камлотовые штиблеты и бумазейные камзолы которого кроились и шились не руками столичного первого портного Миллера, а седого крепостного закройщика Прошки.
Знакомые по Горкам столовые, семилоровые, с звонками и с музыкой «нортоновские» часы тетушки пробили полдень, когда я, оправясь в передней у зеркала, взялся за ручку зальных дверей. За ними слышались мягкие, нежные звуки клавесина, а им вторили порывистые, как бы нетерпеливые трели скрипки. Я вошел.
Дородная, несколько поседевшая тетушка в белом утреннем пудромантеле и в чепце на неубранных волосах, с недовольством глядя в ноты, сидела за клавесином. А среди комнаты, в светло–кофейном кафтане, на жирных, прудастых, ловко изогнутых ножках, в позиции, готовый на легкокрылый прыжок, стоял румяный, с строгой мордочкой старичок, танцевальный француз–учитель. Он вправо и влево размахивал скрипицей, нетерпеливо топал ножкой по полу, ударял смычком по струнам и собственными преуморительными, на женский манер, выгибаниями и приседаниями сопровождал плавные шассе, плие и глиссады своей ученицы. Как теперь вижу эту картину, хотя тому прошло столько долгих незабвенных лет.
Чуть взявшись концами пальцев за слегка приподнятый серо–дымчатый кисейный подол и гордо–рассеянно откинув красивую, с невысокою, a la Titus, прической голову, плясунья покачивалась, делая фигуру гавота, в тот миг, как я вошел.
- Chasses, balancez, jetez… et salut… en troisieme! — командовал, расшаркиваясь, старик. Меня увидали. Крик, шум, объятия, приветствия, расспросы. Танец брошен. Я остался обедать и на весь вечер.
В возмужалой, стройной девушке с деревенским здоровым загаром и с высокой крепкой грудью я в силу спознал былую резвушку Пашуту, с которой когда‑то вел детскую дружбу в хоромах и боскетах Горок. Большие карие глаза смотрели прямо и смело. Тонкая улыбка не сходила с подвижного лица. Пока мы говорили с Ольгой Аркадьевной, она рассеянно взглядывала то на меня, то на покрытые морозными узорами окошки, за которыми слышались бубенцы я санный гул проносившихся по наезженной гололедке городских саней.
— Весело вам здесь, сестрица? — спросил я Пашуту, когда мы остались вдвоем.
— Как вам сказать? — ответила она. — Для чего ж и приехали? Веселому жить хочется, помирать не можется.
— Вам ли думать о смерти?
— Да, так весело жить, — улыбнулась она. — Смех тридцать лет у ворот стоит и свое возьмет.
— Любо вас слушать, не горожанка. А уж матушка лелеет вас и, чай, ласкает? Одна ведь дочушка у ней…
— Еще бы! Она такая славная.
— Выезжаете?
— О да! В операх, балетах были.
— А знакомых приобрели?
— Зачем? Нам и без них приятно.
Вижу, сдержаннее стала, не идет, как прежде, на откровенность.
— Ну, Савватий Ильич, — сказала мне после первых двух–трех заездов Ольга Аркадьевна. — Ты ведь роденька, хоть и не близкая, да по сердцу. Я начистоту. Стыдно будет забывать тетку и сестренку. Уважь, почаще наведывайся к деревенщине, провинциалкам. Руководи, указывай Паше, что и как. Замок да запор девку не удержат. Ведь тебе все эти деликатесы и финесы как на ладони. Хотим поучиться да взглянуть на здешние вертопрашества. У вас тут всякие моды, карусели, куртаги, балы…
— Что ж, тетушка, с Богом! Раскошеливайте горецкие похоронки. Для кого ж и припасали?
— Так‑то так, голубчик. Да ой как здесь все дорого. Помоги, племянничек! Нельзя ли, понимаешь, уторговать, подешевле добыть тех и этих ваших всяких диковинок. Вот хоть бы модные магазейны, — вздохнула и тоже оглянулась Ажигина. — Да опять и эти ваши мастерицы… Шельма на шельме! Была я у Лепре и у Шелепихи на Морской… Ах, душегубки! Ах, живодерки! — прибавила Ольга Аркадьевна, закачав головой и даже зажмурясь.
- Maman, finissez! — перебила ее, полузакрывшись веером, Пашута.
— Что finissez? Что ты понимаешь да мигаешь? Правду ведь говорю… Опять же он не сторонний, а родня, и притом вежливый кавалер, ну и не откажет. А девичье терпенье- золото ожерелье…
Как мне ни было досадно и даже горько, что меня Ажигины почитали за родню, тем не менее скрепя сердце и охотно я им пособил где мог. Ездил с ними к Шелепихе и к Лепре, мотался по магазинам, по театрам и катаньям.
«Ожгла меня вконец эта Ажигина», — говорил я себе, не на шутку чувствуя, что с первой же встречи снова стал прикован к милому когда‑то предмету. Куда делись гонянья с товарищами, пирушки и сильный в то время картеж… Настали заботы о костюме — в порядке ли он; разоденешься, ни пылинки, на ямскую тройку — и в Петербург. Сперва по праздникам, а там и в будни при случае стал я неотменно ездить из Гатчины к Николе Морскому. Особенно любил я заставать Пашу по–домашнему, в корнете, то есть в распашном капотике. Привозил матушке сестрице новые французские книжки и гравюры, гамбургские и любекские газеты и модные ноты. Забьемся в ее горенку, она с ногами на софе, а я ей рассказываю. Читал с нею, рисовал и писал ей в альбом, а с Ольгой Аркадьевной играл, ради забавы, в фофаны и в дурачки и толковал о придворных и гатчинских новостях.
— Приезжайте, милый Савватий Ильич, — бывало, шепнет Пашута на расставанье. — В четверг опять концерт Паезиелло; уговорите мамашу, ах как хорошо пел вчера придворный хор…
Не совсем‑то приходились мне по душе чрезмерные выезды и увлечения Пашуты столичными веселостями и обычаями, а она от них была без ума.
— Молода, вырвалась из деревенской глуши! — оправдывал я сестрицу перед ворчавшей иногда ее матушкой, а сам вот как ревновал ее и к концертам, и к итальянским операм, и ко всякому выезду из дому.
«Время образумит и обратит ее к тому, кто не наглядится на нее, не надышится! — утешал я себя, провожая Ажигиных в экипаже в театр или пешком гуляя с нарядной кузиной по Аглицкой набережной [4]. — Пусть упивается забавами, пусть щеголяет и веселится. Она вспомнит прошлое, оценит мои чувства, а счастью моему быть недалеко».
II
Столичные веселости были в полном разгаре. Публика сходила с ума от нового балета «Шалости Эола». Всех пленяли в этой истинно волшебной пьесе танцовщики Пик, Фабияни и Лесогоров, особенно ж первые тогдашние балетчицы Сантини, Канцияни, Настюша Берилева и Неточка Поморева. Несколько раз мы посетили этот балет, как и славные комедии «Недоросль» и «Школа злословия».
Русская вольная труппа Книппера, игравшая в театре Локателли, у Невы, на Царицыном лугу, поставила в тот год комическую и презабавную оперу «Гостиный двор» — слова и музыка Михайлы Матинского, крепостного певчего графа Ягужинского. Весь город перебывал в этой опере, где роль жениха уморительно до слез играл московский актер из мещан, Залышкин. Мы были дважды в этой опере, последний раз незадолго до масленой, в день рождения Ольги Аркадьевны. Сама она после театра разболелась зубами, подвязала к щеке подушечку с ромашкой и не вышла к чаю.
Пашута, накинув на корнет теплую кацавейку, осталась одна со мной в гостиной. Толковали мы о том о сем, перебирали игру актеров, общество, которое видели в партере и в ложах. А после нескольких раздумий, вздохов и пауз я под влиянием вечера, проведенного в такой близости к несравненной, не мог более стерпеть.
— А помните ли, сестрица, Горки, прошлые времена? — спросил я, помолчав.
«И зачем я назвал ее сестрицей?» — спохватился я тут же в досаде.
— Как не помнить! — отвечала она, откинувшись в кресле. — Детские, милые увлечения.
— Помните Ломонда?
Она кивнула мне головой.
— Жива Меркульевна? Здравствует кошка? Цел, жив дубок?
Нежная улыбка была мне ответом из глубины заслоненного от лампы кресла.
— Ах, несравненное время! — произнес я. — Тогда ничто не мешало, так близко был мой рай
Сказав это, я спохватился и не смел поднять глаз. Но как было выдержать? Мне вспоминались не раз сказанные кузиной похвалы вечером в Смольном у кумы ее матери, где Пашута то с тем плясывала, то с другим из известных в городе щеголей, превознося их любезности, ловкость и вежливо расточаемые залетной провинциалке комплименты. Я ждал, что объявит Паша на мое признание… Она молча протянула мне из‑под кацавейки руку и, когда я коснулся ее поцелуем, сказала мне:
— Какой вы славный, добрый, Савватий Ильич, с вами так отрадно…
— И только…
Через день мы гуляли с Пашей по набережной вдоль Невы. Мостовая была скована морозом. Лихие рысачники проносились мимо нас, лорнируя мою спутницу в преогромные, вошедшие тогда в моду лорнеты.
— Ах, голубчик, Савватий Ильич! — сказала она, скользя легкою походкою. — Как весело! Вот жизнь! Ну как бы я хотела быть богатой…
— И зачем особое богатство? У вас ли с матушкой нет достатка?
— Нет, не то, не то…
— Родовая ваша вотчина первая в уезде, — продолжал я. — Как устроена, прилажена, и все для вас…
— Нет, скучно в деревне, глушь, пустота! То ли здешние люди — как обворожительны. Эта пышность, роскошь, жизнь бьет ключом. Экипажи какие, смотрите. Утром — свиданья, визиты… Ах, прелесть!.. Что ни вечер — танцы, балы. Деревня… Да кто же возьмет меня, хоть бы с нашими постылыми Горками?
— Прости, мое божество, — сказал я тихо, прижавшись к Пашуте. — Есть один — ужли его не угадаешь? И если небогат он достатком, зато искренним, горячим чувством. Он давно, давно у твоих ног…
Паша ни слова не ответила, только, склонившись, шибче пошла. Вечерело. Снег срывался и падал в тишине легкими хлопьями.
— Что ж ты ответишь тому человеку? — спросил я, заглядывая в лицо моей спутницы.
Она молча прошла улицу, другую. Стала видна их квартира. Вдруг она остановилась, обернулась ко мне. Грудь ее прерывисто дышала. Во всю щеку заиграл могучий ажигинский румянец.
— Не обманывает тот человек? — спросила она, пристально глядя на меня.
— Клянусь, он говорит от сердца.
— Ну так не беда, — ответила она. — Не богатый варит пиво — тороватый; дождик вымочит, солнце высушит. Кто принесет тучу, тот принесет и вёдро. А ему открой, что ответу быть через две недели. Тогда и приезжай.
— Отчего ж не теперь! Паша, Пашута…
Она вырвала руку и легкой козочкой вбежала на свое крыльцо.
Я опьянел, обезумел от восторга. «Вот скрытница, плутовка, как мучит. Да недолго сомневаться, ждать. Будет и на нашей улице праздник». Я потерял спокойствие, сон. Что ни день, с полковыми оказиями и по почте начались пересылки из Гатчины нежных, на цветной раздушенной бумаге, грамоток. Я исписывал целые страницы, справлялся об ее занятиях, здоровье, ревновал ее. «Верно, другой счастливец нашелся? — изливал я горе в письмах. — Оттого, знать, и медлишь… Много красавцев в Питере. Откройся, скажи, кто тебя пленил?» — «Много хороших, да милого нет, — отшучивалась в ответах Пашута. — Сватались к девушке тридцать с одним, а быть ей за одним».
Не утерпел я, примчался из Гатчины через неделю. Хотел осыпать Пашу укоризнами, а она ко мне с вопросом:
— Получил приглашение в Смольный?
— Какое приглашение?
— Бал–маскарад у мадам Цинклер. Вчера тебе послано.
— Ни за что не поеду, — сказал я.
— Пустяки, какое детство. Там весело будет, натанцуемся, наговоримся.
Я отступил шаг, выпрямился.
— Прасковья Львовна, — сказал я торжественно. — Сегодня я приехал, чтоб с вашего согласия сделать формальное предложение Ольге Аркадьевне.
— Ах, нет, нет, не теперь, — зажала она мне рот. — После бала — ну прошу тебя — после, чтоб мама не догадалась.
— Но какая причина? Разве не веришь, не любишь мамашу?
— Ах, люблю и верю, но лучше молчи теперь, молчи. Там, на вечере, будем свободны, ничем не связаны. Понимаешь, воля! Досыта нашалимся, набесимся. Ты смотри, как я писала, достань латы и шлем с перьями; я буду испанской цветочницей… Для всех тайно, и вдруг после… Ах, как весело… Мамаша‑то удивится… Ну, милочка, помолчи теперь. Согласен?
Тихий ангел пролетел между нами. «Ребенок, — подумал я, — страсть к тайне, к секретам. Вешние воды, девичьи сны. Это те же романы, читанные в сельской тиши».
— Согласен, но с одним уговором, — ответил я.
— С каким?
— Поедем кататься.
— Охотно. Мамаша, дайте нам буренького, — сказала Пашута входящей матери.
Ольга Аркадьевна была с утра что‑то не в духе; египетский модный пасьянс ей не удавался. Она крикнула Ермила, велела запрячь нам санки, и мы помчались.
Никогда не изгладится из моих воспоминаний эта поездка. Мы неслись по Фонтанке.
— Знаете, mon cousin, чей это дом? — спросила, оглянувшись за Измайловским мостом, Пашута.
— Как, — говорю, — не знать! Дом графа Платона Зубова.
— Тут и младший его брат, граф Валерьян, проживает, — сказала она. — Какой красавец…
— Щеголишка, пустохват; где, кстати, его ты видела?
— Показывали намедни в опере…
— Пожалуй, — заметил я с улыбкой, сам между тем вспыхнув. — Еще, может, чей‑нибудь ривал: ты изменишь… он твой супирант.
— Вот глупости, совсем этот Валерка, сказывают, ребенок, ну, ей–Богу, как девочка, — и щеки с пушком, и в ухе брильянтовая серьга… Ха–ха… Я без смеху на него не могла смотреть. Видел ты его?
— Нет, не видел, — отвечаю, а кошки под камзолом так и скребут. — Да и не жалею; первый шалберник, верхохват. Хороши нравы; недавно, слышно, с гусарской ордой, человек полсотни, с песенниками, барабанами, ложками и трещотками ночью подошел к дому одной молоденькой вдовы и так ее перепугал своей серенадой, что та чуть от страху не умерла… Что им, лишь бы попойки, обиды женщин, кутежи!
Полагаю, что, говоря это, я и бледен стал в те минуты. А Паша смеется, тормошит меня за руку.
— Ну какой он тебе соперник — ты человек, а то девочка какая‑то, херувим из леденчика.
Только и сказала; но не раз вспоминал я впоследствии те слова. Миновали мы Аничков двор [5], увидели Екатерину, с серенькими ливрейными лакеями катившую в возке по Невской першпективе, выехали к Летнему саду [6]. Петровские дубы и липы стояли в морозных блестках.
— И наш дубок когда‑нибудь вырастет, будет таким же, — сказала Пашута, кутая в шубку лицо.
— Велик ли стал? — спросил я.
— Да виден уж из цветов. Туго тянется он вначале, зато перерастет потом все дерева, всю мелочь.
Я обхватил Пашу. Бурый конь, фыркая, вынесся на лед, полетел по широкой Неве.
Не за горами был и условленный срок для объяснения с Ольгою Аркадьевной. Жаль мне было думать в мои заезды, что она ничего не знает. Бывало, сидит, мудреный свой пасьянс раскладывает и, глядя на Пашуту, будто думает: «Золото мое, когда же я тебя пристрою, и дождусь ли той счастливой поры?»
Накануне указанного мне дня был назначен тот именно бал–маскарад у жены эконома Цинклера в Смольном, куда меня так звала Пашута. Подобные вечеринки в самом здании учреждений, носивших смиренный титул монастыря, были в те годы не в диковинку. Составлялись они как бы с доброю целью: дать лучшим питомицам старших курсов, в присутствии классных дам, провести время и повеселиться не токмо с подругами, но и с родными, знакомыми подруг. Сюда допускались меж тем и кадеты выпускного разряда, а с ними, по протекции, пробирались гвардейцы и иных полков офицеры.
Цинклерша, познакомив Пашуту с начальницей Смольного генеральшей Лафон, добыла разрешение на свой вечер и для меня. Предполагались игры всякого рода, фанты, пение, потом танцы в характерных костюмах с монастырками. Я, разумеется, спроворил себе желаемый наряд в лучшем виде — достал его через товарищей из балетной гардеробной. Все уладив и приспособив, я стал с замиранием сердца ждать субботы на масленой, когда должен был состояться предположенный бал.
И вдруг — хлоп! — повестка, явиться к ротному. Я нацепил шпагу, оделся в полную форму и пошел. Встречает с тревожным видом.
— Слышал?
— Нет, ничего не знаю.
— Шведы‑то…
— Что ж они?
— Экспедицию флотом готовят против нас к весне.
— Ну, не поздоровится им, — сказал я.
— Я и сам так думаю. А между тем вот ордер генерал–адмирала. Повелевается тебе от цесаревича немедленно взять ямских и ехать секретно с этими бумагами к начальнику русского отряда Салтыкову в Выборг.
— Когда ехать?
— Сейчас.
— Вот тебе и масленая, — не утерпел я.
— А что ж, попроси в штабе фельдъегерскую, еще успеешь захватить конец блинов.
— Да нельзя ли замениться, попросить кого?
— Ну, не советую. Знаешь порядки его высочества, не любит он со службой шутить.
Огорчила меня эта весть. Делать нечего. Справил я себе фельдъегерский плакат и полетел, даже Пашу не известил, — думаю, успею к субботе. Для того по пути в Петербурге бросил на постоялом и припасенный маскарадный костюм. А дело вышло иначе и совсем плохо. Салтыкова в Выборге я не застал: он пировал на блинах у знакомца из окрестных помещиков. Пока я съездил туда, вручил ему секретные бумаги, вернулся с ним в город и выждал, когда тот всем распорядится, напишет и вручит мне по форме ответ, без коего мне возвращаться не дозволялось, не только кончилась масленая, но и наступил первый день поста. Как я сел опять в сани и как проехал в Петербург, где уж и остановиться мне было жутко, того не припомню. От огорчения — стыдно признаться — я не раз принимался плакать на пути.
Приезжаю в Гатчину, отдаю по начальству рапорт с поездки и бумаги, а сам думаю: «Когда‑то еще те шведы вздумают к нам в гости, а меня лишили вот какого удовольствия». Повертелся я на квартире, зашел кое к кому из товарищей, слышу — странная какая‑то история случилась в столице. Слух прошел, что какие‑то повесы в Петербурге, наняв ямскую карету, произвели похищение некоей, благородного и уважаемого дома, девицы. Молва прибавляла, что ее предварительно опоили каким‑то зельем, от коего она чуть не умерла, и что полиция, бросившись искать похитителей и похищенную, наскочила на такие лица, что поневоле прикусила язык и тотчас должна была прекратить дальнейшие розыски. Разумеется, толковали об этом, как всегда поначалу, в неясном и сбивчивом виде, и я сперва не обратил на эти россказни особенного внимания. Одни из рассказчиков были за смелых и ловких сорванцов, другие за жертву их обмана.
Но зашел я к нашему батальонному лекарю. Это был близорукий и страшно рассеянный немчик из Саксонии, по фамилии Громайер, общий друг и поверенный в делах. Он через минуту забывал, что ему говорили, а потому никто его не боялся и все с ним были откровенны. Умея отменно клеить из картона коробочки и укладки, он, кроме горчичников, ревеня и какого‑то бальзама на водке, почти не употреблял других медикаментов. И меня он, от гатчинской скуки, не раз принимался учить искусству клейки. Но мне это показалось тошнехонько, и я заходил к нему более почитать «Вольного гамбургского корреспондента», которого он выписывал на сбережения от жалованья. Я застал его за чтением какой‑то цидулки. «Грубияны, варвары, готтентоты», — ворчал он, пробегая немецкие строки петербургского коллеги. И когда я спросил, в чем дело, он, замигав подслеповатыми огорченными глазами, протянул мне письмо, средина которого начиналась особым заглавием: «Новая Кларисса Гарло».
С первых строк, в которых излагалось событие, занимавшее город, я вздрогнул и чуть не лишился чувств: передо мной мелькнули знакомые имена. Похитителями оказывались граф Валерьян Зубов и его родич и наперсник во всех его похождениях Трегубов, а похищенной — девица Ажигина. С трудом дочитал я мелко исписанные страницы, спокойно, по возможности, произнес несколько незначительных слов и поспешил уйти от лекаря. Тогда только я понял замешательство и сдержанность некоторых товарищей, бывших в последний день масленой в Петербурге, с которыми мне привелось перемолвиться о новой столичной авантюре. Я затаил на дне души роковое открытие и, сгорая нетерпением, стал молча ожидать поры, чтоб, не показывая своего настроения, под благовидным предлогом вырваться из Гатчины в Петербург.
Желанный случай настал. На второй неделе поста надо было ехать с заказом в интендантстве кое–какой батальонной амуниции.
Доныне ясно помню чувство, с которым я подъезжал к недавно еще дорогому и волшебному для меня приюту в доме попадьи у Николы Морского. «Если я так долго не навещал тетушки, — мыслил я, — то и она хороша, хоть бы строкой, в таких обстоятельствах, откликнулась. Значит, я не нужен, лишний стал. Посмотрим, чем оправдают свое приключение».
Я позвонил в заветный когда‑то дверной колокольчик. Ко мне вышла незнакомая, в лисьей душегрейке, старая женщина. То была, как я потом узнал, хозяйка дома.
— Госпожа Ажигина дома? — спросил я.
— Обе выехали.
— Куда? Давно?
Лицо ли, голос ли мой выдали меня — старуха поправила на себе душегрейку и, глянув как‑то вбок, объяснила, что ее бывшие постоялки, получив некоторые неотложные письма из своей вотчины, снялись и на первой неделе отбыли восвояси.
— Так и дочь? — спросил я почему‑то.
— И барышня, — ответила попадья, как бы думая: «Бедный ты, бедный, проглядел, а без тебя вот что случилось».
Я бросился к знакомым, в полицию, побывал в Смольном. На мои расспросы, даже с глазу на глаз, все отвечали нехотя и полунамеками. В зубовском доме швейцар объявил, что граф Валерьян Александрович выехал в Трегубовское, тверское поместье, на медвежью и лосиную охоту и вернется не ближе середины поста.
В тот же вечер я снова завернул к Никольской попадье. «Да вы не племянничек ли Ольги Аркадьевны?» — спросила она и, когда я назвал себя, пригласила зайти к ней. Что я перечувствовал, видя те самые горницы, хоть и не с той обстановкой и мебелью, где еще так недавно длились мои блаженные часы, того никогда мне не выразить. Вот зала, где стояли горецкие клавесины и где, освещенное ярким зимним солнцем, я увидел в памятное утро мое божество. Вот гостиная, где проведён вечер после оперного спектакля. Каждый уголок напоминал столько пережитых впечатлений, ожиданий, надежд.
Попадья усадила меня, откинула оконную занавеску и в сумерках указала через канал на противостоящий высокий дом.
— От тебя, сударь, нечего таить, — сказала она. — Ты свой и пожалеешь бедняжку. Тут они, шалберники, и устроили свою западню.
— Так действительно был обман, засада? — спросил я, чувствуя, как кровь бросилась мне в лицо.
— Был их грех, да и она не без вины.
— Это надо доказать, не верю! — вскричал я, вскакивая.
— Что ты, что! — остановила меня за руку попадья. — И себя, государь мой, и меня навек погубишь. Не знаешь нешто, что за люди?
— На них суд, гнев государыни. Я добьюсь, не все ж станут прикрывать.
— Веников, батюшка, много, да пару мало. А и в доброй тяжбе на лапти не добьешься.
— Так я заставлю их самих.
— Слушай лучше. Тетушка твоя добрая, да, извини, не в пронос молвить слово, высоко заносится и баламутка порядочная… Не наше, бабье, дело, а прямо скажу: ейная кума во всем первая доводчица и погубителька. Трегубову да графчику Валерьяну она другую из монастырок готовила, а вышло вон что. Видишь окошко? В нем они, треклятые, и караулку свою в скрытности устроили. Сняли там горницы, да и ну силки раскидывать. Что за оказия, как ни взглянешь, все маются какие‑то молодчики. Мало ли всяких наянов, и невдомек. Знаками все — то прямо с книжкой сядет, то боком, будто читает; а вечером свечи — две–три на подоконнике, было и больше. И все то по условию, были разные обозначения, потом пошли и цидулки…
— Как? Переписывались? — спросил я.
— Ну что опять вскинулся? Точно и твоих там не было!
— Не диво, что девка амурные грамотки пишет; коза во дворе, козел через тын глядит. Лишь бы сама пава перьё свое берегла.
— Что же вышло и как все случилося? — спросил я.
— Надавали глуп–человеку всяких обещаний, да притом и клялись. Она не верила, не допускала их близко. Только все порешилось на той самой маскараде у кумы, куда она, ряженая, ездила плясать. Бесом началось, бесом и кончилось. Ждали случая с смолянкой, одной княгинюшкой; начальница, видно, догадалась и той не пустила на вечер. Они ж сыпали приманку недаром и подкатили саночки Ажигиной…
— Как? Стало, она, — спросил я, — по своей охоте?
— Не разберешь. Весь вечер скучала, как в воду опущена, ни в игры, ни в танцы. Мать измаялась от духоты, уехала раньше, девицы же стали просить, она дочку на куму оставила. А при разъезде оттерлась Паша как‑то в суете, кинулись ее искать — и след простыл. Кучер с Ермилом подали карету — нет барышни. Укатили ее в другом экипаже, где лакей и кучер были переодетые господа.
— Боже! Настрадалась я, — продолжала рассказчица, — вчуже, глядя на твою тетку, как объявилась эта пропажа. Сперва охала она, трепыхалась все, будто путного чего ожидала, а сама глаз с икон не сводит, ночи напролет молится. То туда, в город, метнется, то сюда. Ничего не добиться: все заслонилось, точно в потемках. «Как полагаете, — спрашивает, — где и когда обвенчалась?» — «Да почему, — говорю, — думаете, что был венец?» — «Как почему? Клялся ведь, принцессой божился сделать, всех озолотив». — «Свадьбой, сударыня, не таки, — говорю, — дела кончаются, а вы бы, милая барыня, шкатулочки да сундучки ее перерыли: не было ль какой нерезонной в письмах передачи?» Она смолчала, заперлась на замок и тут‑то вдоволь, злосчастная, напилась полыни.
— Что ж в тех письмах?
— Твои ничего, и она вот как жалела, что ничего о тебе прежде не знала. А те сорванцы прямо как дурманом опоили простоту. Родителька‑де твоя всё дитей тебя считает: взаперти, мол, экую красотку–королевну держит, удаляет от хороших людей. И уж не упомню всего… Да! Вот еще… Нынче свет‑де уж не тот; пренебреги старьем да ветошью; брось постылый затвор; ключ, мол, тебе даден от железной двери — ужли его кинешь? Ах, душегубы… Будь ироиней, а не монашкой. Вот голубка‑то белая и стала ироиней, попала в сеть…
— Вы сказали, — заметил я, — что Ажигины вдвоем вернулись в деревню? Как же так, откуда взялась дочь?
— А уж это, сударь, завсегда так‑то с нашею сестрой, — заключила попадья. — На то наша мудрость да вера в мужчинские слова. И конец бывает куда как не по клятвам и божбе. На другой день слышит твоя тетка, что беглянка в скрытности объявилась у кумы. До утра только и была в отлучке. Пешая прибилась рано по холоду к заставе, а дальше подвезли ее охтенские дровяники. Как повидала ее Ольга Аркадьевна, так и с ног пала. Что ни спрашивали Пашу, ничего не открыла; ни слова не сказала. Легла ничком в подушку да так три дня лежала без пищи и сна, только вздыхала глухо да плечиками от слез подергивала. Съездила с ней Ажигина к Скорбящей, отслужила молебен и увезла ее молчком в деревню…
— Где ж была Прасковья Львовна?
— Никто не знает. Думают, увезли ее на дачу графа, да испугалась она либо опомнилась и как‑нибудь урвалась…
«Опомнилась, легко говорить! — подумал я. — Прощай навек, Пашута!»
Поблагодарив рассказчицу, я возвратился в Гатчину, на себя не похож. Хотел писать к Ольге Аркадьевне, к своим — рука не бралась за перо. «Изменила ты мне, на кого променяла мою приверженность, любовь? — размышлял я вне себя. — Какой урок! Но те‑то изверги, злодеи? Ужли на них и управы нет? Но кто вмешается, чье право? Брат одного из них в какой силе; у другого связи, богатство… Да и пошла ведь она охотой…»
И ударился я раз ночью, как теперь помню, в слезы; так плакал, так, что сам спохватился: это что же? Ан возмездие и вот в руки…
«Кому ж и мстителем быть за беспомощную девушку, — сказал я себе, — как не мне, если не по разбитому сердцу, хоть бы по одному родству?»
Распалился я этими мыслями так, что думал–думал и решил опять ехать в Петербург. В то время и в голову мне не приходило, что из того может выйти, в какие обстоятельства я буду поставлен и куда занесет меня нежданная–негаданная судьба.
Была весна. Наступил май. В Петербурге стало зело неспокойно. Шведы объявили нам войну. Сперва на это мало обращали внимания. Но вдруг прошел слух, что шведский флот вышел из Штокгольма и пустился на поиски нашего. Гатчинских морских батальонов еще не требовали в поход. Они неотлучно находились при резиденции наследника. Донесения об эволюциях штокгольмской эскадры меж тем приходили все тревожнее, и наконец стали тут и инде тараторить, что их дерзостные намерения могут вскоре нанести грозу и самой резиденции великой российской монархини.
В такое‑то время после долгой отлучки я навернулся в Петербург, куда надо было съездить за приемом батальонной амуниции.
III
Это было двадцать третьего мая 1790 года. Задержанный интендантскими непорядками, я заночевал в Петербурге и пробудился на заезжем дворе на Морской от грома нежданной и весьма внушительной пушечной пальбы. То шведский флот, прорвавшись мимо Свеаборга и Ревеля и открыв бомбардировку по нашему, с утра начал сражение близ Кронштадта, защищаемого адмиралом Крузом.
Изумленный город высыпал на улицы. Лица всех были бледны и встревожены. Всяк спрашивал и никто не знал, на что надеяться и чего ожидать. Все робко поглядывали поверх крыш, не летят ли чиненые бомбы.
Я за другими вышел на Адмиралтейскую площадь. Стекла дворцовых окон приметно вздрагивали от повторительных залпов, раскатисто и гулко доносившихся от взморья по Неве. Некто из ближней свиты, престарелый, но желавший казаться бодрым вельможа, как я узнал впоследствии, знаменитый Бецкий [7], будто ненароком вышел, поддерживаемый ливрейным лакеем, на крыльцо и стал, смеясь, обращаться к народу. Сам шутит, а глаза все на реку, и губы белешеньки. Он незадолго вовсе ослеп, но скрывал это от публики, и лакей его держал за рукав, чтобы дернуть, когда нужно было кланяться знакомцам при встрече.
— Охота, братцы, без дела стоять? — сказал Бецкий, обращаясь к народу. — Государыню, кормилицу нашу, беспокоите… Все кончится, верьте, благополучно. Ну где им, горе–богатырям, супротив русских? От Петра‑то Великого поговорку, чай, слышали?.. Погиб, как швед под Полтавой…
— То, ваше сиятельство, Полтава, — судачили в толпе, — а эвоси вон нас куда, к самому ему на порог вдвинули.
Слепой старец, прикусив язык, заковылял к своей карете.
Пальба к вечеру затихла, а с нею куда делись и сомнения. Столичный люд известно каков. Охотники до веселостей и всяких праздных утех мигом приободрились. Невская першпектива покрылась гуляющими. Началось гонянье беговых, охотницких дрожек, колясок в шорной аглицкой упряжи. Понесли хвосты расфуфыренные, с ливрейными драбантами, модницы. Зашмыгали, тараторя о шведской пальбе, гвардейские и статские петиметры. Зашел Я в военную коллегию: там одни писцы; мое дело не двинулось. «Что, — думаю, — останусь еще день, все равно ехать с пустыми руками. А к вечеру авось что‑нибудь объяснится и о шведах». Я же в те роковые дни возил о них первые секретные предуведомления.
И захотелось мне при этом воспоминании самому повеселиться, встретить товарищей, с горя с ними покутить. Из коллегии я зашел в книжную лавку Глазунова, узнать, нет ли там новых о политике ведомостей. Слышу разговор двух посетителей.
— Сегодня, — сказал один из них, — государыня повелела дать на Царицыном в театре трагедию «Рослав».
— Дмитревский [8], il grande, большой таленто! — произнес другой, старый, очевидно, иностранец. — В Париже с Лекеном, в Лондоне с Гарриком на одной сцене играл. Надо бы в театр.
Меня как бы что подтолкнуло. Я пообедал в Демутовом трактире, бросился на Царицын луг, в Книпперов театр. Там я взял себе наилучшее место в партере и до вечера бродил по набережной у Летнего сада.
Недавно переделанный из простого балагана, этот театр был новинкой для горожан. Лож не имелось, а кроме партера вдоль стен был сделан трехъярусный открытый балкон, отделения которого, без промежутков, искусно возвышались одно над другим. Живопись плафона и стен хоть и была изрядно пестра, зато общий вид зрителей, сидящих амфитеатром, как в древности, весьма хорош. На занавеси была изображена Фемида, принимающая поздравления благодарных россиян. Кроме парадного крыльца имелось еще несколько отдельных подъездов, просторных и столь умно устроенных, что давки, особенно во время несчастья, пожара, при выходе случиться не могло. Давно то было, и много после переиспытано, а я до мелочей ясно помню, как проведен мною был тот вечер.
Сел я, стараясь быть как можно спокойнее, на свою лавку.
Сбоку у меня старичок, тот самый иностранец, что у Глазунова подал мне мысль об этом спектакле. Мы разговорились. Он оказался итальянцем, учителем молодого графа Бобринского. Вижу, через ряд скамеек, против меня два вертлявых затылка, в разубранных первым парикмахером косах; гвардейские аксельбанты и галуны; тончайшим» духами отдает от платков, коими они машут при аплодисменте актрисам.
— Кто это? — спрашиваю итальянца.
— Граф Валерьян Зубов… Знаете?
— А другой?
— Его Санчо Пансо, Трегубов.
Я так и вскипел, но, странное дело, остался почти спокоен и тих, точно не слышал ответа соседа. Помню, как с легким сердцем и даже весело я прислушивался к игре актеров, а в междудействии — к шуму и к громкому говору, больше по–французски, с места на место переходивших театральных пересудчиков. Раздавалось и обычное в те годы щелканье орехов во время игры не только в задних рядах партера, но и в ближайших к сцене отделениях балкона, где заседали первые столичные модницы.
Больше всех вертелись граф и Трегубов. В самых патетических местах знаменитой княжнинской трагедии [9], как бы нарочито тем оказывая пренебрежение к высокому искусству Мельпомены [10], они с преглупою угодливостью то подавали знакомым дамам в нижние ложи лорнетки, цветы, то подносили им сласти или публикации о модах, причем непомерно гремели шпорами и саблями.
В одно из междудействий, утомленный духотой, я вышел с итальянцем подышать свежим воздухом, а кстати завернул и в особую при театре караулку, где, в видах бережности от огня, разрешалось курить. Желающие здесь же имели обычай распивать принесенные из лавок прислугой и привезенные из дому бутылки венгерского и прочих вин. Мы покурили и вышли.
Вижу, на площади у крыльца стоит в кругу припевал граф Валерьян Зубов.
— Что мне декламаторские таланты и это вытье вашего прославленного Дмитревского! Ужели не постыл он вам? Вот Неточка Поморева — это другая статья…
— Так решено? — спросил его Трегубов.
— У разъезда, господа, — объявил Зубов. — Сперва аплодисменты, цветы — а там…
Более я не расслышал. Взглянул на его румяное от экстаза, красивое и смеющееся женоподобное лицо и вдруг увидел под буклей, в ухе, брильянтовую сережку. Тут и вспомнилась мне Пашута. Все завертелось передо мной: офицеры, площадь, толпа, спешившая из караулки, экипажи, фонари.
— Вам бы, сударь, — сказал я, подойдя к графу, — не за актрисами гоняться.
Зубов смешался.
— Что вам угодно? — спросил он. — И кто вы такой? Не имею чести вас знать.
— А я вас доподлинно знаю, — ответил я, — не угодно ли на пару слов?
Он отошел со мной в сторону. Я назвал себя.
— Но в чем же ваша надобность ко мне? — спросил он.
— Час и место, государь мой, если вы памятуете, что есть честь.
— Дуэль? — спросил он вполголоса, покраснев.
Все его прихлебатели поотодвинулись при этом слове, и ни на ком нет лица.
— Что ж, — продолжал он, — я не прочь от сатисфакции; только не в таком месте, господин Бехтеев, конверсация, и притом убеждены ль вы доподлинно в моей токмо провинности? То было недоразумение, карнавальная шалость в масках, на пари… И притом не о вашей родственнице…
— Ни слова больше! Да или нет? — вскрикнул я, задрожав и хватаясь за шпагу.
Чувствую, меня схватили сзади, отводят дальше от публики. Оглядываюсь — два незнакомых артиллериста, открыто ставшие за меня. «Давно пора проучить зазнавшихся фаворитовых родичей и их друзей! — говорят они, пожимая мне руки. — Мы к вашим услугам». Я им назвал себя и место моей стоянки. Они подошли к графу и к его сателлитам [21]и условились о сроке и месте поединка. Установили драться вечером следующего дня на пистолетах за Калинкиной деревней [11].
Утром я отправил нарочного в Гатчину, извещая, что коллегия замедлила с выдачей порученных мне вещей и что я надеюсь все окончить через сутки. Пообедав где‑то в гостинице, я прокатился почему‑то мимо Николы Морского и по Неве и заблаговременно возвратился на постоялый. Тут я заперся в нанятой горенке и стал писать письма к родителям. Я писал с увлечением, орошая слезами последние, быть может, строки к дорогим сердцу людям, и откровенно, без утайки рассказал им все, что со мной произошло и к чему я по долгу совести готовился. Отнеся лично письмо в почтовую контору, я прилег отдохнуть.
— Было недалеко до вечера. Тревоги предыдущей бессонной ночи утомили взволнованный дух. Мне мерещилось близкое будущее: роковой, безвременный конец, сраженные горем отец и мать и отношение к моей судьбе Пашуты. Тяжелые, мрачные мысли роились в душе. Вот получается в родном доме мое письмо, а вот и приказ по флоту: исключается из списков убитый мичман такой‑то. Я не мог вздремнуть, встал и присел писать прощальное обращение к своей изменнице. С этою исповедью на груди я решил идти на барьер.
Много ли прошло времени, не упомню. Над одной строкой я задумался. Пашута как живая представилась моим мысленным взорам. Вот она девочкой, быстроглазая, стриженая, резвая, как перепелка, встречи в Горках, в вешние цветные дни, беготня по пахучему саду, прятки у гротов, катанья в лодке, качели у пруда. Затем переписка, бабушкины запугиванья влюбленным, трубящим в рог, отставным юнкером, пересылка поклонов, стихов. А вот она в Петербурге, уж матушка сестрица, Прасковья Львовна, хотя для меня все та же Пашута. Урок танцев, уморительный старичок учитель со скрипочкой; мать в пудромантеле за клавесином, пение романсов, чтение Ричардсона, Дидерота, Дефо [12], прогулки пешком и в санях на буреньком, беседы вдвоем. И так близко было счастье. И все улетело как сон. «Вы меня предали, продали, и кому же? Знаете ли вы, что за личность, на искательства которой вы поддались? Вы для него — минутная забава, одна из прихотей праздного, пустого, избалованного верхохвата. Отчего вы не сказали мне ранее и откровенно? Зачем безжалостно разбили любящее сердце? Говорят о какой‑то случайности, роковом недоразумении. Нет, вы недаром о нем говорили, интересовались им. Наконец… письма… Да, я узнал, вы их получали, а о них мне ни слова. Но знайте, никогда и ни в каких обстоятельствах…»
В дверь постучались.
«Секунданты, — подумал я, подписав и вложив в готовый пакет неоконченное письмо к Пашуте. — Что ж, други честные, сторонние, идемте — готов». Я опустил письмо в карман и отпер дверь.
Вместо бравых, возвышенных духом артиллеристов на порог из пристенков вынырнул невзрачный, коротконогий, одутловатый и с решительным видом пожилой полицейский поручик. Крупные губы, нос пуговкой и маленькие сторожкие недобрые глаза.
— Не вы ли мичман Бехтеев? — спросил он, придерживая шпажонку и оглядывая внимательно горницу и меня.
— Так точно.
— Извольте ж, государь мой, за мной в секунду следовать.
— Куда?
Вместо ответа он подал мне с внушительным видом запечатанный большою печатью пакет. Я вскрыл его, пробежал бумагу. То было требование о «неуклонной и беспродлительной, в чем буду» явке моей к лицу, имя которого было всем хорошо ведомо.
Меня как варом обдало, потом бросило в неудержимую внутреннюю дрожь. Я хотел было распорядиться, дать знать хозяйке, позвать слугу; но полицейский поручик ершом и стойко воспротивился.
— Что вы, сударь, — сказал он, скривя рот каким‑то наглым, преподлым манером. — Какие тут распорядки! В момент! В терцию–с повелено… Не на пляс, не на маскарадную вечеринку зовут ваше благородие, а к самому его высокопревосходительству, Степану Ивановичу, господину Шешковскому.
Я понял — возврата и послабления не было и быть не могло. Я взглянул в окно. На улице нас уж дожидалась городовая извозчичья крытая коляска. Я защелкнул дверь на ключ, и мы отправились. В коридоре я встретил растерянного постояльского слугу; с ключом я успел ему передать для отправки на почту и заготовленное письмо. Мы поехали.
Всю дорогу занимал мои мысли необычный, таинственный человек, которому так нежданно теперь передавала меня судьба. В корпусе и в Гатчине много о нем было шушуканий. Все знали, что знаменитый и страшный в то вообще мягкое время этот человек не сразу приобрел свою грозную репутацию. Он сперва занимался мирными науками и даже был не чужд обихода с музами; кропал стишонки и учился у какого‑то заезжего живописца писать акварельными красками ландшафты и изображения нежных амурных пасторалей.
В молодости лет Шешковский, как сказывали, даже попался в написании некоего вольнодумного на одного своего начальника пашквиля и был за то в немалой передряге и встряске. Но годы взяли свое. Бездарный, завистливый рифмослагатель и неудавшийся мазилка соблазнился первою отличкой по рангу. За ней пошли другие. Непризнанный, презираемый товарищами, Нерон бросил изменщицу–лиру и остался в длани с одним наказующим бичом.
Соученик и мой друг Ловцов в корпусе был вхож к одному вельможе, стороннику и одномышленнику Потемкина и мне не раз сказывал о его отношениях к Шешковскому.
Возвышенный духом и доброго сердца, Потемкин, радея о чести и славе обожаемой им монархини, решился при одном случае не токмо критиковать, но даже и упрекать свою венценосную благодетельницу и учительницу; «Ну, матушка–богиня, выдвинула ты на склоне своих дней из российского арсенала таковые две ржавые и гнусные пушки, так на Москве князь Прозоровский, а здесь Шешковский… Прости, великая, но как бы те пушки, не в меру усердия стреляя, не затемнили твоего имени». Что касается до личных сношений, то прямой пред всеми Потемкин уж ничуть не стеснялся с тайным советником Шешковским. Встречаясь с ним, он обыкновенно шучивал: «Ну, Степан Иванович, как изволишь кнутобойничать?» — «Помаленьку, ваша светлость, — отвечал вопрошаемый. — Помаленьку исполняем возложенные на нас службишки».
К такому‑то человеку меня везли на аудиенцию. Мы миновали Казанскую церковь [13], гостиный двор и приблизились на угол Итальянской и Садовой, где в одном из бывших домов Бирона находилось тогдашнее помещение Шешковского.
Меня ввели в небольшую приемную. Приехали мы туда засветло, но я долгонько дожидался хозяина квартиры, бывшего в ту пору где‑то в гостях. Совсем стемнело, когда наконец загремели внутри двора колеса его экипажа. Он вошел в свои апартаменты боковым, скрытым от посторонних ходом. Его прибытие я угадал по вытянувшимся лицам дежурных и по немалой суете, начавшейся в комнатах флигеля. Прошел один писец, другой, зашмыгали с бумагами вахтеры, разных ведомств курьеры. И вот затенькал где‑то глухой, дребезжащий колокольчик. Ему ответил судорожный бой моего сердца.
Меня позвали к Степану Ивановичу.
IV
Под влиянием общих толков я предполагал встретить нечто с первого раза ошеломляющее, нечто легендарное, вроде страшного дракона, крылатого, с огненным взором и с длинным змеиным языком.
Каково же было мое удивление, когда за столом, заваленным грудами бумаг, между двух, как теперь помню, восковых свечей я разглядел прямо сидевшую против меня добродушную фигуру невысокого, сгорбленного, полного и кротко улыбавшегося старика. Ему было под семьдесят лет. В таком роде я встречал изображения некоторых прославленных тихим правлением римских пап. Жирный, в мягких складочках, точно взбитый из сливок, подбородок был тщательно выбрит, серые глаза смотрели вяло и сонно; умильные полные губы, смиренно и ласково сложенные, казалось, готовы были к одним ободряющим, привет и ласку несущим словам. Белые, сквозящие жирком руки в покорном ожидании были сложены на животе.
Я вспомнил городские толки, что Шешковский тайно секал не токмо провинившихся юношей, но и важных, попадавшихся в «первых пунктах» взрослых мужчин и дам, а потому, боясь отравы, уже давно, окромя крепкого чаю, печенных вкрутую яиц, молочного и трех ежедневно освящаемых просфор, по нескольку дней ничего почти не ел. Так напоминала о себе совесть этому захватившему высокое доверие монархини ничтожному проходимцу.
Шешковский при моем входе с тою же улыбкой молча указал мне стул, опустил глаза в раскрытую перед ним бумагу и, сказав: «Так‑то, молодой человек, познакомимся!» — спросил мое имя, годы, ранг, а равно место жительства и состояние моих родителей. Голос его был так ласков и добр. Мне казалось, что я слышу старого друга детства, готового спросить: «Ну как матушка, батюшка? Давно ли получал о них вести? Жива ли бабушка?»
«Что же это? — подумал я, разглядывая сидевшего против меня доброхота. — Где же дракон?» Вскоре, однако, в его речи послышалась неприятная посторонняя примесь, будто где‑то неподалеку, в соседней комнате или за окном, начали сердиться и глухо ворчать два скверных кота.
— В кабале, в атеизме или черной магии, сударик, не упражнялся ли? — спросил меня Шешковский, глядя на лежавший перед ним лист. — И в каких градусах сих вольнодумных, пагубных наук ты обретался и состоял?
Я был ошеломлен. Что оставалось ответить? Пересилив, насколько возможно, волнение, я спокойно возразил, что ни в каких градусах не упражнялся и в них не состоял.
— Отлично… Так и следует ожидать от истинного россиянина. А не злоумышлял ли чего, хотя бы малейше, к возмущению, бунту или к какому супротивному расколу, — продолжал, всматриваясь в бумагу, Степан Иванович. — Каковой клонился бы к освященному спокойствию монархини или к нарушению обманными шептаньями, передачами и иными супротивными деяниями народной, воинской и статской тишины?
— Не умышлял.
— Хвалю… Истинные отечества слуги таковыми быть повсегда должны… А как же ты, — поднял вдруг насмешливо–холодный взор Шешковский, — а как же ты затеял публичный афронт, да еще с наглыми издевками, подполковнику, кавалеру Георгия четвертой степени и флигель–адъютанту графу Валерьяну Александровичу Зубову?
— На то я был вынужден его же кровной и сверх меры несносной обидой особе, близкой мне.
— В чем обида? — спросил, взглянув на меня из‑за свечей и тотчас зажмурившись, Шешковский. — В чем, говори…
— Не отвечу.
— Ответишь, — тихо прибавил, не раскрывая глаз, Степан Иванович.
— То дело чести, и ему быть должно токмо между им и мной…
— Заставлю! — еще тише сказал, чуть повернувшись в кресле, Шешковский.
Я безмолвствовал. Общее наше молчание длилось с минуту.
Я не давал ответа.
— Так как же? — спросил опять Степан Иванович. — Что вздумал! Ведь пащенок, песья твоя голова! Сам не понимаешь, что можешь вызвать! Все имею, все ведь во власти… четвертным поленом, не токмо что, бить могу и стал бы — да, помни, неизреченны милости к таким…
— Я не песья голова и не пащенок, — твердо выговорил я, глубоко обиженный за свое происхождение и ранг. — Чай, знаете гатчинские батальоны; я офицер собственного экипажа государя цесаревича. Притом вмешательство в приватные дела…
— Вот как, гусек, — проговорил, нахмурившись, но все еще желая казаться добрым, Степан Иванович.
— Не гусек, повторяю вам, а царев слуга. В мудрое ж и кроткое, как и сами вы говорите, правление общей нашей благодетельницы не мог я, сударь, предполагать, чтоб кого, без суда и законной резолюции, кто смел четвертным поленом бить.
Шешковский протянул руку к колокольчику, но остановился и со вздохом опять сложил руки на животе. Не ожидал он, видно, такого ответа.
— Изверги, масоны, смутьяны, отечества враги! — сказал он, качая как бы в раздумье головой. — Свои законы у вас! Хартии, право народов натуры! Мирабо, доморослые Лафайеты! Слушай, ты, глупый офицеришко, да слова не пророни…
Тут Шешковский точно преобразился. Глаза его проснулись. Руки задвигались по столу. И показался он мне в ту минуту моложе, бодрее и даже будто выше прежнего.
— Слушай, дерзновенный, — произнес он громче и с расстановкой. — Посягая на ближних слуг монарха, на кого святотатски посягаешь? Изволишь ли ведать персону его сиятельства графа Платона Александровича?
— Как не знать.
— Ну а ведь они тому — братец. Кому не воздал должного решпекта?.. Так вот тебе резолюция, пока на словах. Сроку тебе двое суток. Не токмо о поединке или о новых экспликациях, но чтоб ровно через сорок восемь часов от сего момента — слышишь ли? — духу твоего не пахло как в сей резиденции, так равно и в Гатчине.
— Но я на службе. Дозволите ли передать о том по начальству?
Шешковский улыбнулся, опять как бы в бессилии закрыл глаза и вздохнул. Пальцы его сплелись и снова старались смиренно уложиться на камзоле.
— Попробуй, — сказал он. — Ну, так, для–ради любознания попытайся…
Он достал табакерку, раскрыл ее и, щурясь с усмешкой на меня, потянул из нее носом.
— Не постигаю, — проговорил я. — Где ж правда, закон?
— Лучше без разговоров, — перебил Степан Иванович. — Либо прочь отсюда тишайше, по доброй воле; либо тележка, фельдъегерь и… Сибирь.
Я опустил голову, соображая, с каким злорадством бегали по мне тем временем торжествующие взоры Степана Ивановича.
— Итак, Бехтеев, вот готовый пакет, — сказал с прежнею мягкостью Шешковский. — Все готово и подписано. Напрасно, милый, было и спорить.
Голова моя кружилась. Я с трудом следил за ходом своих мыслей. Ясно было, что друзья графа успели принять все нужные меры. Случай в театре получил огласку, и меня решили тем или другим способом сбыть с глаз столичных говорунов.
— Так как же, в отпуск или вчистую? — спросил после небольшой паузы Степан Иванович.
— Лучше, батенька, вчистую, абшид, — прибавил он, не дождавшись моего ответа. — Поищи ходатаев, протекции; авось и государь цесаревич твою службу вспомнит и кстати пожалует. Никогда не упускай случай — сошлись на родителей: старые, мол, и требуют помощи, деревнишки сиротеют без призору, — ну и отпустят. А если нужно — дай знать, и я, в чем надобно, уж так и быть, помогу.
Я молча обернулся и хотел уйти. Помню, что притом даже не поклонился грозному Степану Ивановичу. За мной послышался заглушенный, веселый и дружеский смех старца.
— Ну куда ж ты, ветер–голова? Ан и не все ведь еще кончено.
Я остановился.
— Вот что… Подпиши‑ка, на всяк раз, так, для памяти, хотя вот эту бумажонку.
Он протянул мне по столу лист с заготовленным к рукоприкладству клятвенным и под страхом нещадной кары обещанием — выехать немедленно из столицы и ее окрестностей и молчать обо всем, что мною слышано от Степана Ивановича, господина Шешковского.
Как пьяный, как сонный я вышел на улицу, возвратился на постоялый, послал за почтовыми и к утру был в Гатчине.
Там я нашел два письма. Одно было из деревни от отца, другое от Ловцова, из Дунайской армии.
Отец писал, что дела наши по сельской экономии весьма неавантажны, что со дня на день грозит продажа с аукциона, по залогу в казну, всего нашего имения и что одно упование на Бога и на добрых людей. «Добрых! Где они?» — подумал я, дочитав эти строки.
Письмо Ловцова было об иной материи. Он рассказывал о Турции. Отряд Гудовича [14], при коем он служил, по–прежнему стоял у Нижнего Дуная, томясь в ожидании дел, коими между тем так медлил главнокомандующий.
«Светлейший, — писал Ловцов, — живет в Яссах, погруженный в полнейшее бездействие и в столь великую хандру, что приближенные не решаются ему делать намеков не токмо о дальнейших, всеми ожидаемых смелых предприятиях, но и вообще о текущих делах.
А время уходит; турки, пережив несносные тягости минувшей зимы, вздохнули, начали стягивать из Азии новые дикосвирепые полчища и открыли во всех мечетях и на базарах священную проповедь поголовного ополчения за веру. Они ввели в Дунай сильную гребную и парусную флотилию, укрепили побережные фортеции и, по словам лазутчиков, снабдили огромным гарнизоном и по соразмерности провизией стоящую на главном, исконном нашем пути к Стамбулу крепость Измаил».
Далекий мой друг описывал при этом случае благословенные страны, где он в то время находился, в столь увлекательных, живых красках, а страдания и надежды на русскую помощь единоверных нам греческих, болгарских, молдавских и иных народов так трогательно, что наши школьные беседы и мечтания о боевых походах и победах бессмертного Миниха [15] и славного Румянцева воскресли во мне с новою, неодолимою силой.
«Уж не перст ли Божий, не указание ли свыше? — подумал я, прочтя письмо Ловцова. — В подобную минуту — и такое напоминание! Неужели после этого выходить в отставку, ехать в деревню и навек закабалить себя и свою молодость в мирной, но дикой и сердце гнетущей глуши? Нет, лучше принести посильную пользу отечеству, пожертвовать неудавшейся жизнью там, на краю света, где, как мы все ждали тогда, загоралась заря воскресения близких нам и где гением Суворова и Потемкина, — я твердо верил в то, — готовились свету новые бессмертные подвиги и новые неувядаемые лавры русского оружия».
Отдав ротному отчет в исполнении порученных мне комиссий, я скорехонько собрался и обратился к любимцу, комнатному камердинеру государя–наследника Ивану Кутайсову с неотступной просьбой устроить мне в тот же день свидание, буде можно наедине, с его высочеством.
Пятнадцать лет назад пленный мальчишка–турчонок из городка Кутая, крестник цесаревича, его истопник, цирюльник и фельдшер, а в недальнем будущем, как всему свету известно, российский высокочиновный барон и, наконец, могучий, украшенный первыми кавалериями граф и владелец десятков тысяч подаренных ему крестьян — Иван Павлович Кутайсов близко знал нас всех, тогдашних гатчинских офицеров, и к нам благоволил.
Я застал цесаревичева слугу в гардеробной, за подготовкой для прогулки выездной амуниции великого князя.
— Что, сударь, деньга понадобилась? — спросил он, скаля зубы на мою просьбу.
— Нет, Иван Павлыч, по милости его высочества, еще не нуждаемся в том…
— Так отличку какую? А? Ты, ваше благородие, говори правду, зачем пришел?
Я решил пока скрыть принятую мысль и ответил, что получил письма от родителей, что они пожелали видеть меня, а как, ввиду шведского вторжения, морским батальонам, вероятно, повелено будет находиться в полном сборе, то я и решился искать доступа к его высочеству, для получения отпуска, хотя на краткую отлучку, восвояси.
— Шведское вторжение! Успокойся, бачка, — возразил с улыбкой Кутайсов. — Они уж далече… Что ж до авдиенции, так вот тебе она… Пойдем… А совет мой, сударик: коли что по службе, то побывай у Неплюева, особливо ж у Алексея Андреича Аракчеева [16].
Он приотворил дверь, провел меня к кабинету наследника, предупредил его о моей просьбе, и через минуту я был перед особой его высочества.
Государь–наследник цесаревич Павел Петрович принял меня в собственном малом кабинете. Он стоял, полуоборотясь к окну, и надевал большие, с раструбами, лосиные перчатки, поданные ему для прогулки. У крыльца, как было видно из окна, поигрывал подведенный рейткнехтом любимый его, столь известный впоследствии, белый англизированный верховой конь по кличке Помпон. Как теперь, вижу статную, рыцарски–благородную фигуру Павла Петровича: лиловый бархатный сюпервест, поверх короткого белого колета — кружевной шейный платок и такие же манжеты, высокие ботфорты со шпорами, треугол с плюмажем под мышкой и орденская звезда на груди.
Не забуду я, пока жив, благосклонного приема великого князя, хотя вначале на меня и погневались. Прием даже главных сотрудников цесаревича, Аракчеева и Неплюева, был также, по мере объяснений, сперва строгий, потом сочувственный. Как давно было и как между тем все ясно помню, точно вчера то совершилось.
— Перевода прошу, — осмелился я прямо сказать. — Вовсе увольнения из гатчинских батальонов.
Мне были хорошо знакомы быстрые, неудержимые вспышки этой безупречно–благородной и по врождению кроткой души, не терпевшей признака кривотолков или лжи.
— Обманул? Ивана Павлыча провел? Добился? Вон, вон, вчистую! Курятники, полотеры, торгаши!
Курятниками и полотерами в досаде в то время обыкновенно называли большую часть тогдашнего гвардейского офицерства, действительно в оны годы более походившего на богатых купцов и мещан, чем на военных.
— Меня требовали к Шешковскому, — в силу я проговорил.
— К Шешковскому? Что ты?
— С меня взята подписка в молчании.
— Ну как знаешь…
— Перед всеми, но не перед моим благодетелем должен я молчать, — ответил я.
Тут откровенно я передал все, что со мною произошло в Петербурге. Я говорил без стеснений. Меня слушали сумрачно, глядя в окно и изредка чуть слышно восклицая под нос, особенно при упоминании некоторых имен: «Coquins scellerants…» [22]
— И если, простите, — заключил я, задыхаясь от подступивших слез, — если государь цесаревич, коего обожать и коему служить я готов до гроба, соблаговолит оказать мне милость, молю о дозволении мне ехать не в деревню к отцу, а на Дунай, в действующую армию, куда ныне стремлюсь и по долгу совести, и по судьбе, постигшей меня.
— Жаль, жаль… то было так изрядно выпекся! После наших батальонов заразишься, погибнешь в праздности и тамошней распутной толкотне!
Я в то время уж знал причину особливого гатчинского неудовольствия на светлейшего, который не хотел или не сумел в омуте дворских интриг отстоять священного и искреннего рвения государя–наследника — быть при действующей армии.
— Впрочем, поезжай! Так и быть… Берусь лично устроить твое дело. Нынче ж будет доведено в Царское и доложено о тебе… На Дунае и впрямь не один ведь Пансальвин, Князь Тьмы… там Суворов, Гудович, Кутузов…
Я, склонясь в почтительном молчании, ожидал дальнейших сообщений.
— В Яссах будь недолго: балеты, комедиянты, когда войско рвется к бою; целый сераль разряженных модниц и замужних бесстыдных побродяжек, а еще не взял ни одной путной крепостцы, не то что пашалыка… Ну можешь готовиться, с Богом… Поезжай; повидаешь графа Александра Васильича, Михаилу Иларионыча, кланяйся им. А что найдешь нужным, отписывай ко мне — только осторожней. Понимаешь?
Не забуду последних часов моего пребывания в Гатчине. Надо было узнать от Аракчеева результат доклада в Царском. Аракчеева я дома не застал и положил вновь добиться аудиенции великого князя, как моего батальонного командира. Я сел в саду на скамье за кустарною клумбою, ближайшей к крыльцу цесаревича, и просидел здесь долго, не решаясь вновь просить Кутайсова и раздумывая то и се о предпринятом отъезде на Дунай. Солнце сильно припекало. Я очнулся, заслышав курц–галоп Помпона. Белый конь был взмылен. Его потемнелые бока тяжело дышали. Видно было, что цесаревич, для рассеяния пришедших мыслей, сделал немалый тур по окрестным полям и лесам.
Завидев меня и как бы ожидая моего обращения, он замедлился на ступеньках крыльца.
Я осмелился подойти и спросить, последовало ли разрешение государыни и дозволяет ли его высочество сообщить о том моему ротному.
Кивком головы он ответил утвердительно и с улыбкой махнул мне перчаткой с крыльца…
Великий князь сдержал слово. Он испросил обо мне разрешение государыни. Зубовым же было все равно, лишь бы с глаз меня долой. Они поддержали ходатайство цесаревича, был подыскан и благовидный к тому предлог. Меня командировали в южную армию с очередными депешами, отдав притом на усмотрение и в распоряжение светлейшего и обязав нигде не токмо не сворачивать с пути, но даже и не останавливаться.
Таким образом, лишенный возможности проведать родителей, я откланялся его высочеству, простился с товарищами и с фельдъегерской подорожной и с сумкой на имя фельдмаршала уехал прямо в Молдавию.
Надо, впрочем, сознаться, я свернул с дорога, заехал в Горки. Что я хотел там предпринять, не помню. Когда я приблизился ко двору, был уже поздний вечер. Ажигинский дом кое–где светился; я разглядел свет в гостиной и в комнате Пашуты.
Остановясь у ограды, я вошел в сад. «Нет! Объяснения не помогут», — решил я, возвращаясь. В отблеске гостиных окон я разглядел заветный дубок, прошел к нему, ухватил его за ветви, с силой рванул из мягкой клумбы, надломил и без оглядки уехал обратно по маршруту.
Чем более я удалялся от родины и приближался к югу, тем странней и непостижимей казалось мне все происшедшее со мной. «А уж как удивится Ловцов, — утешал я себя. — Он ожидает ответа на свое письмо, а вместо ответа — вот я сам…»
Дни становились жарче, небо прозрачней и синей. Вот украинские степи, Днепр, запорожские хутора и опять степи. Вот долгополые белые свиты и широкие войлочные капелюхи кишиневских царан. Вот кукурузные и табачные нивы, жидовские корчмы и лавчонки — арнауты, румыны, — цыганские грязные таборы, мамалыга с маслом, перец в каждом кушанье, овцы с курдюками, верблюды в возах, сторожевые вышки, казацкие разъезды, пехотный у какой‑то речки лагерь и цель поездки — столь ожидаемый город Яссы.
V
Сильно колотилось мое сердце, когда я приблизился к резиденции главнокомандующего и начал соображать, что вскорости должен буду предстать пред лицом мужа толикой силы, гения и столь многих, всюду гремевших противоположностей нрава.
Неподалеку от Ясс, у небольшой молдавской корчмы, меня догнал другой курьер. То был немолодой и как жук черный от пыли и загара провиантский офицер. Мы зашли освежиться в корчму, и как, разговорясь, узнали, что нам путь к одной цели, то и решили ехать остальные перегоны вместе. Он возвращался из командировки от главной квартиры, а потому возбудил во мне живейшее любопытство узнать, куда и зачем он ездил. Он, впрочем, более отмалчивался. В числе его поклажи были два небольших, упакованных в рогожи бочонка, которые он особенно бережно хранил и, несмотря на усталость, не спускал с них глаз.
«Верно, червонцы», — подумал я, но казны без конвоя не возят.
— Не порох ли? — спросил я, указывая на багаж.
— О, нет, — неохотно ответил мой сопутник. — Иначе как бы я мог курить! Не порох, а взорвать может мою судьбу почище всякой бомбы…
Он между тем разговорился со мной о других предметах и сообщил мне многое о светлейшем, о чем прежде я знай только слегка. Нам предстояло вместе явиться к князю. А потому остальной путь Потемкин не сходил у нас из беседы: как примет нас обоих, будет ли доволен и что с того выйдет каждому из нас.
Сын небогатого смоленского дворянина, князь Григорий Александрович Потемкин в молодости, как всем ведомо, обучался у духовных, а потом в Московском университете, из коего был исключен «за лень и частое нехождение в классы». Он обратил на себя внимание императрицы Екатерины еще при восшествии ее на престол. Попав из гвардейских офицеров в обер–секретари Синода, а вскорости и в генерал–адъютанты к ее величеству, он не раз, видя к себе из‑за придворных интриг охлаждение государыни, решался бросить свет и даже подумывал о пострижении в монахи. А когда ему вследствие неосторожного приложения к больному глазу примочки тогдашнего всезнайки, фельдшера Академии художеств Ерофеича пришлось на один глаз окриветь, то это так повлияло на его амбицию, что он и впрямь удалился в Невскую лавру, отпустил бороду, надел рясу и стал готовиться к пострижению. Прозорливость и доброта сердобольной монархини и тут его спасли. Екатерина его навестила и уговорила возвратиться к своему престолу. «Тебе, Григорий, не архиереем быть, — сказала она. — Их у меня довольно, а Потемкин один, и его ждет иная в мире стезя».
Слова государыни сбылись в точности.
Покоритель некогда грозного Крыма, основатель Екатеринослава, Херсона и Николаева и насадитель на месте буйного, дикопорожнего Запорожья тихой и плодоносной Новороссии, светлейший удостоился в помрачение наветов врагов показать государыне в ее путешествии на юг ново–созданные и возрожденные им области империи. На месте татарского аула Гаджибей он основал Одессу, а малоизвестную и заброшенную крымскую гавань Ахтиар обратил в разносящий ныне громы по всему Понту Эвксинскому и далее Севастополь. Здесь в 1787 году императрица увидела аки бы по мановению волшебного жезла возникшие укрепления, до четырехсот домов, склады, верфь и сильную духом моряков юную эскадру. Мысль великого Петра о южном флоте сбывалась.
После уничтожения новых мамелюков — Запорожской Сечи — Потемкин был возведен в графы и вскоре стал ближайшим помощником царственной своей учительницы во всех ее предначертаниях о юге. Смелый «греческий прожект» нашел в нем горячего и преданнейшего пособника. Потемкин стал грезить Дунаем, где некогда Святослав ставил города, Царьградом и Босфором, видевшими когда‑то ладьи и мечи Олега и Ярослава… Петр стремился на север и утвердился там. Потемкин разумно обратил взоры России на благодатные, родственные ей страны юга…
Монархиня любила и ценила гений светлейшего. Но она видела его слабости и их покрывала, хотя «инова» над оными и подтрунивала. Так, в правилах эрмитажа насчет его дистракции и всем известных привычек был ею вставлен пункт: «Всем быть веселыми, но ничего не портить и не грызть».
Произведенный в генерал–фельдмаршалы и награжденный воеводством Кричевским, Потемкин по смерти князя Григория Орлова и воспитателя цесаревича графа Никиты Панина стал при дворе главным и всемогущим лицом. Еще в первую турецкую кампанию, румянцевскую, он прислал о театре войны обширные и дальновидные примечания. Когда началась нынешняя, вторая турецкая, война, то он сперва командовал Екатеринославскою армией, а потом ему подчинили и Украинскую, освободив притом от команды над ней Румянцева. Покорив России Тавриду, он своим гением, без сомнения, предуготовил для потомков и освобождение Царьграда.
Штурм и взятие Очакова прославили Потемкина как полководца; но вид гибели тысяч людей, приводя его сердце в несказанное горе, был ему невыносим. Во время приступа пущенных в штыки суворовских егерей князь Григорий Александрович, сидя у батареи на валу, все время крестился и, закрываясь руками, бледный, вне себя, со слезами и с ужасом повторял: «Господи, помилуй их, помилуй!»
Нрав светлейшего был постоянною загадкой для общества, и не моему слабому перу изобразить для прославления в потомствах его примечательные черты.
То пышный, блестящий и жадный к веселостям и почестям, то мрачный меланхолик, враг раболепнных льстецов и мизантроп, с раскольниками начетчик, с дамами нежный Эндимион, Потемкин ноне являлся ко двору ликующий, беспечный, счастливый, смешивший до слез Екатерину уменьем перецыганивать ее голос, манеру, или скакал по Невской першпективе в зеленой бархатной бекеше, подбитой на тысячных соболях, в брильянтах и пуандишпанах. А завтра на целые дни, недели запирался в комнату и лежал здесь на диване, небритый, немытый, растрепанный, сгорбленный, в заношенном халате и в стоптанных туфлях на босу ногу. Угрюмо и молча хандря, он в такие часы, надо полагать, в удалении и тайности от всех обсуждал свои высокие пропозиции. По природе лентяй, он, принимаясь за выполнение задуманного, трудился без устали днем и ночью. Ожидая опасности, тревожился как малое дитя; когда же опасность приходила, он встречал ее беспечно и весело. Скупой и мот, вольнодумец и суевер, он был подобием тогдашней России; дикая необузданность граничила в нем с мягкостью воспринятых европейских обычаев.
Видом гордый сатрап, повадкой утонченный, во вкусе старинных французских нравов придворный, величественный, головой выше всех и красивый, как древний Агамемнон [17], Потемкин свободное от службы время проводил, читая, молясь либо компанствуя за пиршествами и волокитствуя. Считая себя баловнем Бога, он, как изнеженные грешницы, боялся черта. Ходила молва о сваренной им в восьмипудовой серебряной ванне ухе, ценою в полтысячи червонцев. Он верил в сны, разные приметы и, едучи на любовное свидание, крестился против каждой церкви и молельни.
Амурным похождениям светлейшего не было числа. И тут уж его нрав не стеснялся; в слепом и ревнивом бешенстве он зачастую срывал пышные головные уборы с возлюбленных и, не стесняясь ничем, гнал их прочь. Свои веселые дни он называл Каной Галилейской, а мрачные — сидением на реках Вавилонских.
Книги для Потемкина были насущным хлебом. Он их не читал, но жадно проглатывал. И в то время как соперник князя Платон Зубов омрачил последние годы правления мудрой монархини, раздувая ее болезненную подозрительность и преследуя таких писателей, каковы Новиков и Радищев, универсально образованный Потемкин дружил с смелым остряком–поэтом Костровым и с переводчиком Омира Петровым, читал в подлиннике Софокла, переводил историков, в том числе Флёри, любил поэзию, сам втайне писывал недурные стихи и покровительствовал гонимому сатирику Княжнину.
Юношей–студентом светлейший любил прислуживать в церкви, раздувал иереям кадило и выносил с дьячком перед Дарами свечу. Не забывал он этих наклонностей и на вершине почестей, жалея в шутку, что командует генералами, а не попами, и прибавляя в страстных эпистолях к предметам любви такие изречения: «Облаченный в архиерейство, преподал бы я тебе мое благословение — да победиши враги твоя красотою твоею и добротою твоею».
Враг любостяжания, всяких лишних прижимок, стеснений и малостей, Потемкин настоял на отмене в армии, во время походов, пудры, буклей и кос и на дозволении носить вместо кафтанов просторные куртки. Все отечественное чтя превыше иностранного, он ненавидел лесть и раболепство, как не выносил медицины и не слушался лекарей. Скрывая свои умозрения о государственных делах, он, как все от природы ленивые и вспыльчивые люди, терпеть не мог напоминаний о запущенных или забытых делах, как никогда же, боясь напоминаний о смерти и расчет с жизнью, не носил с собой и карманных часов.
Тратя из дарованных ему средств на свою жизнь до трех миллионов в год, Потемкин не умел подчас ограничивать себя и в служебных отношениях. Раз обратилась к нему одна важная придворная барыня: «Пристрой, голубчик князенька, да и пристрой мою гувернантку–мамзель к какому‑нибудь делу на казенный счет, я рассчитала ее, и она пока без места». Чтоб отделаться от беса–бабы, князь и причислил ту мамзель по форме к гвардии — на казенный паек. Много об этой и подобных его шутках толковали в то время, и сама государыня, осведомясь о забавной выходке Потемкина, немало тому смеялась.
То был век славной пышности и сказочного мотовства. При дворе незабвенной монархини, сказывали, угля для подогревания парикмахерских щипцов тратилось на пятнадцать тысяч рублей в год, а на самовары — на пятьдесят тысяч, и сливок выпивалось при дворе на четверть миллиона в год.
Со въездом в Яссы как я, так и мой сопутник стали невольно терять спокойствие и робеть. В приеме светлейшего лежала разгадка нашей участи. Мне предстояло либо попасть к делу — достойному, полезному, — либо затеряться на новой арене, как мелкой песчинке в морском коловороте, без всякого следа.
Провиантский фельдъегерь, бывший все время в спокойном и бодром духе, под конец крайне присмирел. На последней станции, пока нам запрягали, он куда‑то юркнул, а когда вскочил опять в тележку, я его не узнал. Он успел умыться, прибраться и из черного всклоченного цыгана стал миловидным, с располагающими чертами лица блонда–ном.
Разговорясь, где и как нам остановиться после приема князя, мы въехали в форштадт. Резиденция Потемкина была здесь же, невдали, на загородной, окруженной садами даче князя Кантакузена. Светлейший особенно любил это место, так как здесь было удобно давать городу и дамам его свиты непрерывные празднества, до коих он был такой охотник. «Вот квартира капельмейстера Сарти», — объявил мой сопутник, указывая отдельный флигель близ княжеского дворца. По его словам, Сарти содержал при князе до трехсот музыкантов и целую труппу балетных танцоров и танцовщиц- Балы сменялись театрами, фейерверки и кавалькады — концертами светского и духовного пения. «В прошлую зиму, — сказал мой сопутник, — этот волшебник Сарти исполнил у его светлости собственного переложения кантату «Тебе Бога хвалим», причем слова «свят, свят» сопровождались придуманною им беглою пальбой из пушек. В числе красавиц, гостивших в то время при главной квартире, мой сопутник назвал княгиню Гагарину, графиню Самойлову, и в особенности жену двоюродного брата князя Прасковью Андреевну Потемкину. Для этих дам светлейший выписывал с особыми фельдъегерями разные диковинки: икру с Урала и Каспия, шекснинских, в бадягах, жирных стерлядей, невскую лососину, калужское тесто, трюфли из Перигё, из Милана итальянские макароны и варшавских каплунов. А незадолго до моего выезда, — добавил сопутник, — прослышав, что некие два брата, кавказские офицеры Кузьмины, лихо пляшут по–цыгански, князь, выполняя чей‑то дамский каприз, выписал и этих Кузьминых. Те прискакали с курьером из Екатеринодара, отплясали усердно у его светлости по–цыгански и вновь уехали вспять». — «Что ж было с ними?» — спросил я сопутника. «Да ничего, все благополучно кончилось — исполнили по мере сил желаемое, услышали: «Спасибо, ребята!» — и беспрепятственно отретировались».
Был полдень, когда мы подкатили к ограде княжеского дворца. Солнце страшно пекло. На небе ни облачка. Кругом ни пеших, ни конных. Только часовые в белых куртках и шапках молча прохаживались у ворот. Мой сопутник сходил в какую‑то караулку, поговорил с дежурным, к скоро мы предстали перед любимым, ближним секретарем Потемкина генерал–майором Василием Степанычем Поповым. Последний, носивший по своей доброте у офицеров имя Васи и Васеньки, с важностью оглядел нас, опроси», взял от меня письма и провел нас в сад, говоря, что его светлость прогуливается, а где, он того не знал.
— Станьте здесь, — решил Попов, указав нам место невдали от дворца, у перекрестка двух дорожек. Сам же он, оправя свой красноворотый мундир, с ужимкой шевалье отошел к стороне, стал читать привезенные мной на его имя столичные письма и, как мне показалось, при чтении раза два на меня взглянул. Мой сопутник, идя в сад, осмелился спросить вполголоса Попова: «В духе?» — и, получив в ответ: «Так и сяк…» — еще более оробел и смешался.
Прошло несколько минут. Невдали за зеленью лавров и миртов послышался странный голос. Кто‑то грубым в несколько фальшивым басом мурлыкал про себя несвязную и аки бы ему одному понятную песню. В тишине, напоенной ароматом сада, стали слышны звуки мерных, тяжелых шагов. Точно грузный слон двигался своими мягкими, медленными ходилами. Я оглянулся: важный секретарь, попрятав письма, стад тоже навытяжку. На моем же товарище не было лица.
«Светлейший!» — пронеслось у меня в мыслях, и я с трепетом ждал появления обожаемого величественного вельможи, которого никогда не видел и который всегда мне рисовался в образе сказочного сатрапа или гомеровского Агамемнона.
Из‑за дерев на усыпанную песком дорожку вышел матерый, сказочный Илья Муромец. Вышел и стал смотреть на нас. Широкие плечи, серый поношенный халат нараспашку, обнаженная волосатая грудь, красная тафтяная рубашка, ненапудренная, в природных завитках, встрепанная, светло–русая, без шляпы, голова и на босу ногу узконосые желтые молдавские шлепанцы. В руке он держал сверток нот.
Светлейшему в то время было лет пятьдесят, но на вид он казался моложе, хотя не по летам сгорблен и мешковат. Я с умилением увидел совершенство телесной, человеческой красоты: продолговатое, красивое, белое лицо; нос, соразмерно протяженный, брови возвышенные, глаза голубые, рот небольшой и приятно улыбающийся, подбородок округлый, с ямочкой. Левый окривевший глаз был странно покоен рядом с светлым, зорким я несколько рассеянным правым глазом.
Попов назвал нас. Я подал князю адресованные на его имя конверт.
— Один умылся, а этот арап, — проговорил светлейший, вскрывая пакеты.
Я так и опешил. Глаза стали властно запорошены. Ну отчего и я не догадался прибраться? Потемкин прочел одно письмо, другое, поморщился и, зевнув, передал бумаги Попову.
— После, — сказал он, двинувшись далее и, очевидно, вовсе не думая в ту минуту ни о тех, кто ему писал, ни тем более о доставителе депеш.
Мы, не шелохнувшись, стояли молча.
— А знаешь, Степаныч, — замедлясь, обратился Потемкин к Попову, — что ответил мне с давешним гонцом Александр Васильич?
«Суворов», — подумал я, замирая от счастья услышать речь великого о великом.
— Матушке государыне похотелось узнать, — продолжал князь, — что делает генерал–аншеф граф Суворов? Ну, я ему, как ты знаешь, и отписал, а он в ответ. «Я на камушке сижу, на Дунай–реку гляжу».
Я взглянул на Потемкина: лицо его усмехалось и вместе было печально.
— Все вот музыку подбираю на эти слова, — добавил князь со вздохом. — Сарти прислал, да у него все итальянщина — а я одну смоленскую песню вспомнил… Не знаешь ли? Как девки капусту рубили и козла поймали. Вот бы в Питер послать.
Попов молчал.
— Так ты отличек у нас захотел? — вдруг обернулся ко мне светлейший. — В свитские, в штаб? Жако да чардаш с валашскими мамзелями отплясывать? Флотопехотный боец! Надоело питерское вертение в контратанцах? Прошу извинить — нет у меня для тебя места.
Я стоял ни жив ни мертв…
— И без того у нас вон с Василием Степанычем легион прихлебателей. И свои, и французы, и немцы, есть даже из Америки. Скоро нечем будет кормить. Можешь, сударь, отправляться подобру–поздорову обратно в Гатчину и репшектовать от меня пославшим тебя отменное мое почтение.
«Так вот он, мой идеал, герой! — помыслил я с горечью. — И чем я виноват, что прибыл не из другого места, а из Гатчины?»
Потемкин запахнулся, принял рапорт от моего сопутника и, не взглянув на бумагу, направился ко двору.
— Молю об одном, — решился я выговорить вслед князю, — удостойте меня послать в передовые отряды и в такое место, где бы я мог всем… жизнью пожертвовать для славы отечества и вашей.
Потемкин не слышал меня. Уйди он в то время, приговор мой был бы подписан. Я, по всей вероятности, уехал бы из армии на другой же день. Но вдруг князь уронил взор на рапорт провиантского курьера.
— Как? — воскликнул он. — Капуста из Серпухова… клюква… и подновские свежепросольные огурцы? И ты, пентюх, молчишь? Где они, где?
Офицер указал на припасенные под крыльцом бочонки.
— Михеича! — крикнул светлейший, присев в бессилии на ступени крыльца.
Явился, переваливаясь, толстый, в парике и в белом переднике, ближний официант и старый домашний слуга князя. Бочонки вскрыли. Но когда догадливый посол, подняв квашеные капустные листья и кочни, вынул из них что‑то белое и головатое и как бы с робостью сказал: «А уж это, ваша светлость, я на свой страх… Извините — мясновская редька–с…» — изнеженный, с притупленным вкусом князь растаял. У него слюнки потекли.
— Ах ты, скотина! Вот удружил! — даже плюнул светлейший, смотря на гостинцы, как на некую святыню, и дивясь гению посланца. — Маг, шельмец, маг! Шехерезада, сон наяву… — И, обратясь ко мне, он прибавил не в шутку: — Вот, сударь, истые слуги отечества; вот с каких ироев брать пример. А они в свиту, в прихлебатели! У вас вон уж и Державин Зубова в громких одах превозносит, а этот мне — редьку, да–с… Кто лучше? Этот беспримерно. Прав ли я, Василий Степаныч? Посуди! — обратился князь к Попову. — Главнокомандующий сыт, доволен! Будет довольна и сыта его армия. Ах они, буфоны, гороховые шуты! Громких дел им нужно, отчего не берем Тульчу, Исакчу?.. Эй, — крикнул он уходившим с бочонками слугам. — На лед, по маковку, да соломкой сверху… Михеич, голубчик, для–ради такого случая яичницу сегодня глазунью, да с свиным салом. Зеленого луку побольше…
И, щелкая шлепанцами, легко и бодро двинулся на крыльцо матерый Илья Муромец.
Попов придержал меня за фалду.
— Обожди, запрячься тут где‑нибудь! — шепнул он, поспевая за князем. — Придет добрый час, все авось перемелется… Меня просят за тебя; всерабственно готов служить его высочеству…
Мысленно благословляя цесаревича, я отправился в город и приискал себе в отдаленном и глухом его предместье небольшую каморку. Оттуда я наведывался к Попову. Но ждать «доброго часа» светлейшего мне пришлось долее, чем я мог думать.
После капусты и редьки князь было ожил; вскоре, однако, впал в прежнюю хандру. «Брак в Кане Галилейской» сменился вновь для него «сидением на реках Вавилонских». Напоминать ему обо мне — значило вконец испортить дело. Так прошло более двух недель.
VI
Однажды — так рассказывал мне впоследствии Попов — сидел светлейший с ногами на диване и, по обычаю, запустив гребнем пальцы в волосы, читал вновь привезенные: французские и немецкие газеты. Известия из Англии и Пруссии, особенно же из Франции, где тогда более и более разыгрывалась революция, сильно интересовали князя.
— А где тот‑то, флотопехотный боец? — спросил он вдруг Попова, который возле занимался разборкой и отправкой бумаг.
— Какой, ваша светлость?
— Ну да, помнишь, что в герои тут из Питера просился?
— Давно, полагаю, дома, — ответил знавший обычаи князя Попов.
— Жаль, — сказал Потемкин. — Забрался в такую даль — и вдруг с носом.
Попов услышал это — и ни слова.
— Согласись, однако, — пробежав еще два–три газетный листа, произнес светлейший, — Зубовы… да и весь их социетет!.. Вот, надо думать, бесятся: подслужиться кой–кому хотели моряком… Каких рекомендаций наслали… Ан и не выгорело…
— Не дали бы, ваша светлость, маху, — отозвался Попов.
— Как маху?
— Да ведь Бехтеев не зубовской руки…
Потемкин посмотрел через газету на Попова.
— Как не зубовской? — спросил он.
— Помнится, этот молодой человек даже что‑то сказал о ссоре и неудавшемся его поединке с братом Платона Александровича…
Потемкин спустил ноги с дивана и бросил газеты.
— Что ж ты молчал?
— Запамятовал, ваша светлость.
— Посылай ему тотчас курьера, зови.
— Извините, теперь, пожалуй, и не поедет.
— Как не поедет? Ко мне?!
— Обиделся, я чай… Строго уж ему отвечено.
— Вот как… Обидчивы нынче люди… А дослушай, чем бы его расположить?
Попов подумал и ответил:
— Надо прежде осведомиться, доподлинно ли Бехтеев уехал? Он что‑то сказывал об ожидании отписки от отца.
Меня тогда же, разумеется, нашли, но я был снова призван к Потемкину только на следующий день.
А накануне вечером у князя с Поповым был примечательный разговор. Огорченный нападками иностранных газет, светлейший для развлечения принялся тонкой пилкой обтачивать и чистить оправу какой‑то ценной вещицы. Кучка дорогих камней и жемчуга лежала перед ним на столе меж фарфоровых безделушек.
— Требуют, спрашивают, тормошат! — сказал он Попову. — Да возможно ль то все, как видишь, в моем каторжном положении? Со всех сторон такие вести, а меня там пересуживают, ризы мои делят, распятию предают, удаляют от моего солнца, счастья, жизни…
Князь помолчал.
— Я измучен, Василий Степаныч, бодрости лишен, сна, — продолжал он, налегая на пилку. — Слабею подчас от всяческих дрязг душой и телом, как малое дитя, а им подавай триумфы, победы, венки! Если бы все то знали… Изведут, отдалят, — произнес он, глянув в сторону и как бы видя вдали некие таинственные и другим непонятные откровения. — Ну что, полагаешь, нужно мне чего еще искать?
Попов не нашелся с ответом.
— Чего желать человеку в моей судьбе? — продолжал князь, не поднимая лица. — Меня ли соблазнить победами, воинскими триумфами, когда вижу, насколько напрасны и гибельны они. Солдаты не так дешевы, чтобы ими транжирить и швырять их по пустякам. Я полководец по высшей воле, по ордеру, не по природе; не могу видеть крови, ран, слышать стоны и вопли истерзанных снарядами людей. Излишний гуманитет несовместим, братец, с войной… Вот граф Александр Васильевич — тот на месте, ему и книги в руки… Отчего ж, спросишь, я здесь, а не при дворе?
Изумили Попова эти речи. Он ушам своим не верил и сказал — пока жив, не забыть ему, что услышал он в тот незабвенный час. Светлейший встал, медленно прошелся по горнице, открыл окно в стемневший сад и опять сел.
— Неисповедимы судьбы Божьи! — сказал он. — Низринул Иова, превознес Иосифа! [18] Чего я желал, к чему стремился — исполнено — все помыслы, прихоти. Нуждался в чинах, орденах — имею; любил мотать, играть в карты — проигрывал несметные, безумные суммы. Захотел обзавестись деревнями — надарено и куплено вдоволь. Любил задавать праздники, балы, пиры — давал такие, что до меня и не снилось. Пожелал иметь по вкусу дома — настроил дворцов. Драгоценностей имею столько, что ни одному частному человеку и во сне не снилось. И все мои страсти, планы во всем приводились в действо и выполняются… А клянусь тебе, нет и не может быть человека несчастнее меня!
Попов стал возражать.
— Не веришь? — спросил упавшим, как бы молящим голосом князь. — Думаешь, шучу? Нет и нет! Все вы стремитесь, надеетесь, авось грянут битвы — отличие, всем слава. Для меня ж, дружище, все в мире пустоши, тлен, гроб повапленный, уготованный человечеству… И не будь звена, не будь ласковых взоров оттоле, далече, ее повелений, — я бы жизнь свою, не задумавшись, истребил, разбил, вот как это…
Тут он схватил со стола дорогую саксонскую вазочку и, разбив ее об пол вдребезги, удалился в опочивальню.
Явившись по зову Попова, я был принят князем наедине. На этот раз Потемкин был тщательно выбрит, одет, отменно вежлив и добр. Пряди шелковистых, с заметною проседью волос красиво оттеняли его женственно нежный, высоко вскинутый лоб. Полные, как у счастливого ребенка, губы были осенены величавою, располагающей улыбкой.
— Ну, говори откровенно, — произнес он, — что за история у тебя вышла со вторым Зубовым?
Я изложил все подробно и без утайки. Лицо Потемкина при моем рассказе не раз омрачалось, и по нему пробегали судороги.
— Желание твое будет исполнено, — сказал он, когда я кончил. — Куда хочешь причислиться?
Я назвал передовой отряд графа Ивана Васильича Гудовича, где служил Ловцов.
— Завтра же можешь отправляться. И если в чем будет у тебя нужда, обращайся ко мне.
Я поклонился. Идол мой, сердечный герой вновь туманил мою душу восторгом, а глаза слезами.
— Ты молод, от судьбы не уйдешь, — продолжал князь. — Занесла тебя доля, садись на нашу ладью… Греческий прожект, путь в Константинополь… Вы, юноши, без сумнения, пленены… Чай, и твое сердце не раз замирало в восхищении от таких чаяний?.. Дай, Боже, монархине выполнить высокие священные обеты. Слава ее и верных ее слуг — широковетвистое дерево, и под его сенью когда‑нибудь отдаленные потомки с благодарностью вспомнят о нас. У корней того дерева ползают и шипят змеи… Не змеи ему опасны, а черви… По мелочи, тайком, под землей тотчас они, зубатые, жадные… С виду тихие, бесстрастные, знают наметку, а больше — как угодно–с… Платок на куртаге вовремя поднял с паркета — и пошел в гору… Мальчик писаный, сущий ребенок!.. А глядишь… Ну да прощай, Господь с тобой; кланяйся графу Ивану Васильичу…
Я поклонился и, высказав, как мог, мою признательность, направился к двери.
— Стой! — окликнул меня князь.
Я обернулся.
— Нужны тебе деньги?
— Пока не терплю лишений.
— Не нужны? Чудак ты человек. И мне, впрочем, ничего не нужно, вот он знает! — указал князь на входившего Попова, принимаясь грызть ногти, что, по молве, было признаком сильного в нем душевного волнения.
Мой приезд в отряд Гудовича, как и первое мое там пребывание, остались особенно памятны для меня. Свидание с Ловцовым было самое радостное, тем более что ему и в мыслях не грезилась наша встреча в Турции. Попов, обласкавший меня и почтивший впоследствии даже особым доверием, взял с меня слово молчать о переданной им беседе с князем, что я, при жизни его светлости; и побуждался свято выполнить. Но теперь; пробегая в памяти цепь долгих лет, не могу, милый сын и мои будущие потомки, не сказать вам о знаменательных событиях того времени, для чего, переправя со временем где нужно, и можете переписать сии листы для припечатания даже в публику.
Мне с годами стало вполне ясно тогдашнее, многим непонятное настроение Потемкина. Его мечты о восстановлении Византийской империи, о царстве Константина поколебались.
Верный союзник и товарищ Екатерины в войне с турками, австрийский император, больной, угрожаемый соседями и видя предательства и ферментации в собственных своих областях, а паче всего обманутый в надеждах на своих подданных–венгерцев, близился к кончине. Войска его были отозваны из Турции. Он умер в тот год весной. Его преемник под влиянием Голландии, Пруссии, особливо ж Англии без участия и ведома Екатерины завел негоции о мире с султаном. Недоверие Потемкина к австрийцам оправдалось на деле. Ему в таких обстоятельствах приходилось думать уж не о завоевании Царьграда. Он с горечью увидел, что турки начинают негосировать не о своем спасении, а спорят об утверждении; за Россией даже тех земель и прав, которыми в силу прежних завоеваний мы обладали несколько лет. Коснусь сего пункта подробнее.
Ослепление турок чуть было не обратилось в нашу пользу. Великий визирь, не дождавшись исхода переговоров, неожиданно перешел Дунай у Рущука, против коего в Журже стояли австрийцы. Поелику у турок было восемьдесят тысяч войска, австрийский же полководец был вдвое слабее, то и запросил он нас о помощи. Русские встрепенулись.
Отряду Суворова было поведено подкрепить австрийцев. Он бросился к Журже. Но с Потемкиным вновь начались колебания. Он то подвигал командированный отряд, то слал гонцов и вновь его останавливал. Десятого июля Суворов донесся до Килиен и прождал здесь две недели; двинулся к Гинешти и, к изумлению всех, стоял здесь целый месяц. В два дня с пехотой прошел семьдесят верст до Низапени и снова тридцать дней бездействовал. Наконец ему прислан ордер — сразиться. В три дня форсированным маршем с пехотой он прошел к Бухаресту сто двадцать пять верст, увиделся с австрийским фельдмаршалом, условился обо всем, расположил место битвы. Новая виктория готовилась огласить давно молчавшие берега Дуная… Но пришла весть, что заключен мир Австрии с Турцией, а с ней и приказ о немедленном прекращении военных действий.
«Для чего драться и терять людей за землю, которую уж решено возвратить врагам?» — писал Потемкин к Суворову, требуя его назад. Суворов повиновался. Расположась у Галаца, он советовал главнокомандующему овладеть посредством, гребного флота устьями Дуная, взять сильно укрепленный Измаил и, открыв доступ в Добруджу, двигаться далее без союзников. Ответа на вызов не последовало. Да и что было отвечать князю? Из Петербурга приходили дурные вести. Швеция перед тем грозила самой столице. Враги не дремали. Влияние Зубова росло с каждым днем; Потемкин терзался ревностью к власти, сомнениями в малодушной боязни с каждым новым курьером узнать о своем падении. Предупреждая опалу, низвержение с высоты почестей и славы, он хотел все бросить и удалиться в Смоленскую губернию на покой.
Но повеяло надеждой к лучшему. Война со Швецией без ведома стерегущей Англии кончилась в августе миром в Вереле. Двор ожил. Сорок линейных кораблей, четырежды разбивших шведский флот, ожидали приказа идти против Англии. Даже в угрозу Пруссии готов был двадцатитысячный корпус вторгнуться в Польшу. К Потемкину понеслись советы действовать смелей… Гудович с флотацией, где находился и я, в половине октября взял после сильной атаки крепость Килию. Булгаков и Мансуров на Кубани разбили наголову и взяли в плен со всею свитой, лагерем и множеством пушек турецкого сераскира Батталь–пашу. Но главное, на что указывал Суворов, — взятие Измаила и дальнейшее шествие за Дунай, — оставалось без исполнения. Недовольство в войске было всеобщее.
— Для чего ж мы не берем других, более сильных крепостей, не идем на Царьград? — роптали в армии и на судах. — Из‑за чего томимся в гирлах и по болотным пустырям, болеем и мрем не в битвах, а от молдавских лихорадок? Долго ли нам кормить своей кровью турецких комаров и слушать не гром орудий, а кваканье лягушек? Где наши соколы? Румянцев, Суворов? Отчего молчит Потемкин? Он обабился или турки подсыпали ему дурману! — Стали кое–где толковать уж и об измене, о подкупе…
Все это знал светлейший и оставался в упорном мирном дефансиве. Курьеры по–прежнему пересылались от него к государыне и обратно. Придворные трактаменты стали благосклоннее. Но князь, по–видимому, был погружен в прежнее безучастие ко всему, в бездеятельность, а кольми паче в лютую хандру. Кто‑то прислал ему редкое киевское издание «Книга хвалений, сиречь Псалтырь», и он погрузился в сличение его текста с прежними тиснениями.
«Яссы — Капуя светлейшего, — язвили его столичные и наши лагерные дармоедцы–остряки. — Опустился князь Григорий Александрыч, одряхлел не по летам, нравственно угас в напыщенности и сибаритстве своего двора. Видна птица по полету. Не бывать кукушке соколом. И пора давно освежить, поднять дух армии иным вождем. Песня Таврического спета…»
Больше всех судачили и шипели о князе иностранные вояжеры и эмигранты, им обласканные и в надежде легких триумфов кишмя кишевшие при главной квартире. В ожидании отличек, сняв мундиры и надев фраки, они исправно плясали на молдаванских балах и раутах и без устали чесали языки.
— Измаил, государи мои, не Килия и не Тульча, — отвечал Потемкин этим критиканам. — Локальное положение вовсе иное. За его твердынями сорок тысяч отборного войска, припасов на год и сам сераскир Аудузлу–паша. Хоть цапанье нам и не противно, но упаси Бог тратить людей; я не кожедиратель–людоед… Тысячи лягут даром. Все вы привыкли к театральным легким эффектам… Опера–буффа в ущерб строгим старым концертам всех перековеркала…
— Так что ж делать? — кипятились залетные гости.
— А вот что. Война надоела Турции, авось и мы, как это ни прискорбно, кончим с подобающим достоинством — дипломатией…
Ропот и гнев дешевого политиканства на светлейшего росли. Взоры и слух мерзились виденным и слышанным на его счет. Все ожидали его смены. Он между тем, ускромив остервененное злоречием сердце и брося Псалтырь, затеял новое и небывалое по причудам празднество.
Невдали от ясского лагеря Потемкин повелел, якобы для генерального «ревю» — соорудить в поле подземную палату. Убрал ее колоннами, бархатом, шелками и бронзой, а вокруг поставил два полка с барабанами, ружьями и батареей из ста пушек. И когда светлейший «за ужиной» вышел с гостями из землянки и, подняв кубок вина, дал знак, что пьет в честь гостей, барабанщики ударили тревогу, ружья подняли батальный огонь; а за ними и пушки огласили окольность далеко слышными оглушительными залпами.
Так развлекал Потемкин умы легковерных пересудчиков, и не чаявших, что между тем он готовил и чем соображал поучтивствовать российским врагам.
Около того же времени я получил нерадостные вести от родителей! Ненасытный и алчный Обер–прокурор первого департамента Сената, отец Зубова, пользуясь своим положением, занимался покупкой на барыши выгодных тяжебных дел. Узнав, что соседнее с его В**-й вотчиной наше поместье описано к продаже с аукциона, он внёс куда следует свои деньги и против всяких прав и законов выкупил это имение без публичных торгов. Гражданская палата, а за ней и наместническое правление выдали графу вводный лист, а моим родителям предложили из поместья выехать в кратчайший срок. Отместка за мою историю с его сыном сказывалась здесь ясно. Нам грозило полное разорение.
Я вспомнил обещание помощи светлейшего и решил при случае просить отпуска в Яссы. В войске между тем пронеслась весть, что турки, видя наше бездействие, сами составили новые калькуляции и замыслили перейти в наступление на наш авангард, бывший под командою Кутузова.
VII
Было начало октября. Стояла теплая, сухая, только этим благословенным краям свойственная в такую пору погода.
Отряд генерал–майора Михаила Илларионовича Голенищева–Кутузова охранял линию Днестра от Бендер до Аккермана. Очаков уж прославил имя этого генерала. Здесь два года назад он был ранен в голову, причем пуля, войдя в висок, вылетела в затылок.
Кутузов получил повеление передвинуться к югу. Разбив два турецких передовых табора, он направился к гирлам, близ которых и расположил свой отряд. Под его началом было несколько гренадерских и егерских полков, две тысячи донских и запорожских казаков и часть флотилии, при коей состояли я и Ловцов. Флотилия находилась под охраной казаков, занимавших аванпостами холмистый берег у молдавской деревушки Петешти.
Этим движением Кутузова завершились, впрочем, наши тогдашние действия. Турки, запершись в Измаиле, молчали и нас не тревожили. Опять настала однообразная скука, тщетные ожидания наступлений и общее неведенье и тишина.
Близилась осень с ее дождями, холодами, а там и зима. Зная настроение главной квартиры, все убедились, что кампания этого года кончилась, и на досуге толковали о том, где и как придется «оборкаться» на винтер–квартиры.
Нельзя сказать, чтоб мы утопали в роскошах, но мы и не жаловались на судьбу. Роптали одни господа «замотайлова десятка». В отряд по мысли светлейшего подвезли несколько сот нагайских войлочных палаток. Солдаты окопали их канавками, обсыпали снизу землей и обставили свежим камышом, натасканным из гирловых заводей и озер. Жилось, повторяю, не ахти как. Темные вечера коротались беседами за чугунным чайником, песнями с гитарой, пуншем, а иногда и картами в макао. Более играли в казацком корпусе Платова, имевшего повсегда изрядный запас цимлянского. С возвышенности, на которой стоял лагерь пехоты, были видны прибрежные глинистые холмы, поросшие ивами и кустами, плавни и несколько извивов Дуная.
Несмотря на строгие запрещения, егеря что ни день от скуки пробирались в одиночку и по нескольку человек к запорожским пикетам, к реке, ловя рыбу, собирая сушняк для костров, а иногда решаясь и охотиться с ружьем. Особенно соблазнял солдат невиданный вечерний перелет тамошней дичи. Проберется егерек перед вечером из лагеря, станет в гущине камышей, у Дуная, и хлопает из мушкета, следя по свисту крыльев за птицами, летящими на воду с просяных и кукурузных полей. Смотришь, позднее, в сумерки, и тащится к ротному котлу, искусанный комарами и увешанный отъевшимися на приволье утками и куликами.
Не одних солдат соблазнял этот перелет. Охотились и офицеры, в том числе и Ловцов. На него нашел в этом какой‑то особенный стих. Я ему несколько раз и в подробностях передавал о моем приключении с Пашутой. Моя исповедь произвела на него сильное впечатление. Он то и дело вспоминал о моем рассказе и обращался ко мне с вопросами о дальнейших моих намерениях. «Я забыл о нанесенной мне обиде, — говорил я с горечью, — и не хочу о том более думать». — «Нет, не поверю, — отвечал он, — будешь думать». — «Почему?» — «Потому… Ну да что! Увидишь; она, наверно, пошла в монастырь…» — «Из‑за чего?» — «Вспомни мое слово: сердце чует…»
Рассказы о родине не покидали наших бесед. В сходстве тот, бывало, сидим на палубе или под войлочным шатром у казаков, курим, поглядывая на берег и на тихое, звездное небо, и толкуем о корпусе, о Питере и о близкие. Письма с родины доходили редко, и каждое нами обсуждалось до мелочей. В одном из домашних писем обмолвились наконец и об Ажигиных. Матушка получила вести о них от какой‑то знакомой, жившей по соседству с Горками. Строго осудив ветреную Пашуту и даже дважды обозвав ее в письме ко мне низкою, бездушною «поганкой» и «сквернавкой», матушка прибавляла, что перст Господень, очевидно, спас меня: отвергнутая изменница затихла, как ветром ее сдуло, никуда не кажется, ходит в черном и, по слухам, собирается на долгий отъезд прочь от своих краев. «И ты, Саввушка, — прибавила мне мать, — недаром у меня в сорочке рожден: избавился от такой ранней истомы да засухи и теперь волен как ветер. Приезжай‑ка, мил дружок, в здоровье и благополучии в нашу Бехтеевку — авось ее еще отстоим! Мы тебе вот какую принцессу приотыщем».
— А что, Савватий? Не я говорил? — произнес, выслушав эти строки, Ловцов. — Удаляется, потрясена… чудное создание! Твоя родительница, извини, не права; и я в жизнь уж теперь не поверю, чтоб Ажигина тебе изменила.
— Как не поверишь? А все, что случилось?
— Убей Бог, душа говорит, — кипятился Ловцов. — Не по ком ином Ажигина и черное носит, как по тебе…
— А Зубов с родичем?
— Не говори ты мне о них. Верь, ее отуманили, обманули. Неопытная, пылкая девушка; мысли разыгрались, опять же эти книги — ну и замутилась. Она ль одна сочла себя в заточенье жертвой и рвалась из‑под крыла матери на бедовый ухарский подвиг? Так вот ее и вижу. Ты не подоспел из командировки, тебя нет — а у ней уж весь план готов: замаскирована, где ж рыцарь? Как бы матери сюрприз? А тебя нет…
— Хорош подвиг, — осерчал я. — Тебя слушая, надо счесть виновником себя.
— У них, у девочек, ведь это все иначе, — продолжал Ловцов. — Ах, так же ты не понимаешь? Там своя логика и свои тонкости… Да и веж юноша… Ну хоть бы наши гардемарины или юнкера… Вспомни, разбери, как гонялись за оперными и балетными девками! Разве не одни шалости, не едва прыткая; бесшабашная дурь? Ведь те же годы, та же кровь… Вспомни наших и в Аккермане; поколотили жида и готовы были на его жидовке жениться, ну немедленно, в минуту, в секунду и тут же, среди разбитых бутылок, недоеденной мамалыги и оторопелых молдаван… Не так разве было? Не так?
Бедовый был этот Ловцов; общественный, добредший, милейший товарищ, но скорый и вспыльчивый как порох. От близорукости он еще в корпусе носил очки. И чуть покосится через них — шея и уши в краске, ничего не помнит: в жерло пушки, в огонь готов влететь.
Его речи, пылкая защита Пашуты и острая, томящая скука бездействия измучили меня. Я стал видеть не инако как тяжелые, странные сны. Все манило меня к делу, к подъятию подвига, который бы расшевелил и оживил общий застой. Одна мысль начинала меня занимать, и я предавался ей во все свободные часы, для чего отлагал пока и поездку в Яссы с целью хлопотать о спасении имения отца.
Дни между тем стояли те же чудные, почти летние. Ни облачка, тихо и ясно, как в мае. Только предвестники осенних невзгод — белые паутинки — летели и медленно стлались по травам и камышам.
Раз мы лежали с Ловцовым у берега в казацком шалаше. В лагере за ближним холмом пробили вечернюю зорю; барабаны и трубы смолкли; затихли в обозе кузнечные молоты, у котлов песни, звуки балалаек и торбанов. Один за другим погасли по взгорью костры. Совсем стемнело. Ловцов с утра был в возбужденном, нервическом состоянии.
— На твоем месте я бросил бы все, — сказал он мне вдруг, — и уехал бы к ней…
— К кому?
— К Ажигиной.
— Ты смеешься надо мной? — произнес я под настроением мысли, о которой не переставал думать.
Он вскочил, проворно стал надевать плащ.
— Слушай, — произнес он, — если я шучу, пусть мне не дожить до утра.
Тут он взял ружье, мешок с зарядами и вышел из шалаша.
— Куда ты? — спросил я.
— К острову, в секрет. Казаки Михайлу Ларионычу рыбы решили половить.
— Ну не стыдно ли так попусту рисковать? — сказал я в досаде. — Почем знаешь, что турки не пронюхали и вас не стерегут?
— Пустое, — ответил голос Ловцова уж за шалашом в темноте. — Места переменные, и лазутчики доносят, что турок не видать на тридцать верст кругом. А к твоей‑то, к перлу, к цветку… уж как хочешь, брат… Ах, жизнь наша треклятая…
Конца речи его я не расслышал, но его слова перевернули вверх дном мою сдержанность, замкнутость. Я догнал его на берегу.
— Слушай, — сказал я, — вместо того чтобы тратить попусту силы, напрасно подвергать гибели других и себя, выполним дело, не дающее мне спокойствия и сна.
— Какое? Какое?..
— Подговорим запорожцев, — они достанут у некрасовцев [19] простые челны, переоденемся рыбаками и проберемся вверх по реке.
— Зачем? — спросил Ловцов.
— За островом, против Измаила, стянулся на зимнюю стоянку весь турецкий гребной флот…
— Ну, ну?
— А дальше — что Бог даст…
Ловцов горячо пожал мне руку. Я передал ему свой план в подробностях, и в следующую ночь мы явились на условное свидание. Невдали от берега нас ожидали запорожцы. Я объяснил им, как приступить и выполнить дело. Они слушали молча, понуря чубатые головы.
— Князь–гетман оттого, может, и сидит, как редька в огороде, — произнес один из сечевиков, когда я кончил, — что никто ему не снял на бумажку измаильских шанцев… Мы уже пытались, да не выгорело… Авось его превелебие пошевелит бровями и даст добрым людям размять отерплые руки и ноги в бою с нехристями.
— Готово? — спросил я.
— Готово.
Запорожцы сошли к Дунаю, вытащили из камышей заранее припрятанные лодки, все — в том числе и мы с Ловцовым — переоделись в рубахи и шапки гирловых молдаван, спрятали в голенища ножи и уложили на дно сети, мушкеты и кое–какую провизию. Коликократно ни вспоминаю то время, ясно и живыми образами является оно передо мной.
Ночь была тихая, мглистая. Даже с вечера трудно было с разглядеть окрестные, подернутые туманом берега. Теперь тотчас же за отмелью начиналась непроглядная тьма. Дунай, будто дыша, плескался о края отмели, катя быстрые, темные волны. То там, то здесь зарождались и вновь пропадали какие‑то странные, отрывистые звуки. Мерещился парус. Кудластая коряга, сорвавшись с песчаного бугра, как некое живое чудище, плыла серединой реки. Плеск рыбы, шелест ночных птиц кидали невольно каждого в холод и трепет. Запорожцы сели в лодки, мы за ними, все перекрестились и налегли на весла.
Не буду рассказывать в подробностях о нашем предприятии, хотя считаю за нужное поведать о некоторых мелочах. Мы плыли всю ночь, день стояли где‑то в заливе, в кустах, и еще проплыли ночь. Огня разводить не смели. И досталось же нам от мошек и комаров; не помогали и сетки, намазанные дегтем. Руки и лица наши вздулись, запеклись кровью. Особенно жалко было видеть Ловцова. Мы из предосторожности обрезали себе короче волосы, а он, близорукий, нетерпеливый, не взял и очков. Мы старались не говорить меж собой. Он же ничего не мог разглядеть и поминутно спрашивал, где мы и не видно ли турецких разъездов.
В одном месте во вторую ночь послышался у берега шелест. Лодки в темноте плыли дефилеей небольших островков.
— Что это? — тихо вскрикнул Ловцов, хватаясь за мушкет.
— Брось, пане, рушницу, — сказал ему брат куренного атамана Чепига. — То не вороги.
— Кто ж это?
— А повидишь.
Справа ясней раздался мерный, тихий плеск весел. Все притаили дыхание. Из колыхавшейся густой осоки медленно выплыло что‑то длинное, черное. Еще минута. Востроносый, ходкий челн с размаха влетел между казацких лодок.
— Здоровы были братья по Христу, — проговорил голос с челна.
— И вы, братья–молодцы, будьте здоровы.
— Харько? — спросил Чепига.
— Он самый.
По челну зашлепали кожаные, без подошв, чувяки. Здоровенный плечистый некрасовец обрисовался у кормы; с ним радом не то болгарин, не то грек.
— Проведешь? — спросил Чепига.
— Проведу, — ответил, просовывая бороду, некрасовец.
— Да, может, опять как тогда?
— Ну, не напились бы, братцы, ракит, была бы наша кочерма. Не боитесь?
— Кошевой звелел, — гордо объяснил другой запорожец, Понаморенко–пушкарь. — А что велено кошем, того ослушаться не можно.
Некрасовец помялся плечами, взглянул на своего спутника.
— А как поймают, да на кол, либо кожу с живого сдерут? — спросил он.
— Ну, пой про то вашим бабам да девкам, — презрительно вставил третий запорожец, Бурлай. — А кожа — на то она и есть, чтоб ее, когда можно, сдирали… Да черта лысого сдерут. Ты же, брат, коли договариваться, веди, а не то лучше и не срамись. Сколько?
Некрасовец условился, передал дукаты сопутнику, тот сел к веслам, и челны потянулись далее по реке. Товарищ некрасовца говорил по–русски.
В воздухе похолодало; к концу же ночи поднялся такой туман, что лодку от лодки трудно было разглядеть, и они держались кучей. В сырой побуревшей мгле стал надвигаться то один берег, то другой.
— Ну, братцы, кидай теперь сети да греби левей, — тихо окликнул вожак. — Не наткнуться бы на их суда. Тут вправо, за косой, и Измаил.
Сети были брошены. Весла чуть шевелились. Вожак не ошибся…
В побелевшем тумане, как в облаке, против передней лодки обрисовалась громада двухпалубного, с пушками, корабля. Паруса убраны; у кормы ходит в чалме часовой. Не успели его миновать, возле — другой, такой же, выше — чуть видный — третий. С последнего кто‑то громко и сердито крикнул.
— Что это? — спросил я некрасовца.
— Ругаются, прочь велят ехать! Палками грозятся отдуть.
Лодки стали огибать остров против Измаила. Близились густые ивы, по тот бок пролива — лесистый, в оврагах, холм. Поднимался свежий утренник. Туман заклубился. Кое–где его полосы раздвинулись; из‑под них обозначились белые стены, башни, ломаные линии земляных батарей и в две шеренги перед крепостью — весь парусный и гребной турецкий флот.
Сильно забились наши сердца, когда из‑за острова мы сосчитали суда, пушки на них и на крепости. «Ну, ваше благородие, — обратился ко мне Чепига, — бери карандаш да бумажку, наноси все на планчик». Я на спине запорожца набросал в записную книжку очерк крепости и стал перечислять суда. Оглянулся — нет лодки некрасовца, как в воду канул. «Струсили, видно, собаки, — сказали сечевики. — Да мы и без них вернемся». Утро загоралось во всей красе: синий Дунай засверкал зеркалом, крепость ожила; раздались голоса вдоль берега, засновали ялики, где‑то послышался барабан, заиграли турецкие трубы.
— Что ж, ребята? — спросил я, поняв исчезновение лоцмана. — Не отдаваться ж в полон живым?
— Не отдаваться. Взяли, перевертни, деньги да, видно, чертовы головы, нас и продали.
— Выводи лодки к берегу, — сказал я, кончив набросок. — Там камышами — и в лес.
— В гущине батька лысого найдут, — прибавил Чепига. — Сперва вместе, а заслышим погоню — врассыпную.
— Хлеба осталось? — спросил я.
— Осталось.
— Ну, кого Бог спасет, авось и до своих доберемся.
Втянув лодки к заливу, мы с ружьями бросились на берег. Почва шла болотом, потом в гору, кустами. Сплошной безлистый лес сомкнулся вокруг нас. Сначала нам мерещилась погоня. Мы ускорили шаги, чуть переводили дыхание. Но все вскоре стихло. В полдень мы отдохнули, закусили — воды только не добыли — и перед вечером подошли к окраине леса, окаймленного голым песчаным пустырем. Далее опять начинался сплошной лес. Чтоб нас не открыли, было решено пройти этот пустырь ночью.
Чуть смерклось, мы разделились. Одни без препон направились к берегу, в надежде поискать лодок, другие — прямо долиной. У всех была надежда, что по ручью, протекавшему в долине, должны оказаться болгарские поселки. «Если нас не скроют, то хоть накормят, укажут путь», — толковали мы, пробираясь по мягкому белому песку. Учредив сей марш, мы шли долго. Начинался рассвет.
Вдруг что‑то прозвучало. Окрестность будто охнула. Мы замерли. То был выстрел, за ним раздался другой. «Это наши», — смутно пронеслось у каждого в мыслях.
— Что ж, братцы, — сказал я, — ужли пропадать товарищам? Верно, их открыли; надо попытаться им помочь.
— За мной! — крикнул Ловцов.
Мы взвели курки, направились к берегу. Песок сменился трясиной. Ноги вязли в болотной траве. И вот мы добежали. Стал виден берег. Вода забелела между кустов.
— Здесь, братцы, здесь! — заслышав голоса, не утерпел и крикнул Ловцов.
Под ивами что‑то шелохнулось. Сверкнул огонь, грянул протяжный ружейный выстрел. Мы сквозь дым бросились к камышам. Там, отталкиваясь баграми, в двух душегубках отчаливали от берега ушедшие вперед наши товарищи. Мы добрались к ним по пояс в воде. Лодки поплыли из залива. С середины реки обозначился оставленный нами берег.
Под ивой, как теперь помню, стоял здоровенный толстый турчин в красной куртке и с обнаженной бритой головой. Он наводил мушкет на лодку и изредка по нас стрелял. Поодаль от него, нагнувшись к земле, возился над чем‑то другой турчин. Между ними на пригорке неподвижно белело что‑то навзничь распластанное; ближе к берегу еще двое без движения. Мы оглянулись друг на друга, перекрестились.
Жив ли остался Ловцов или погиб с другими попавшими под выстрелы турок, о том мы узнали не скоро.
Скрывшись от новой погони в островах, мы поплыли с закатом солнца далее и через сутки, измученные, еле живые от голода, дотащились к нашим аванпостам. Весть о нашем поиске разнеслась по лагерю. Все хвалили отвагу разведчиков и оплакивали погибшего Ловцова. Кутузов призвал меня, слегка попенял и даже пригрозил арестом, но кончил тем, что через два дня мне же поручил препроводить в Яссы запорожцев, бывших на поиске, и лично передать светлейшему набросанный мною очерк Измаила и стоявшей там флотилии.
Никогда я не забуду ощущений, с которыми вновь подъезжал из лагеря к Яссам. Мысль о потере Ловцова не давала мне покоя, мучила меня. «Я виноват в его гибели, — говорил я себе. — Зачем было его брать? Я зная его пылкость, несдержанность, притом же он близорук — нарвался прямо на пулю… Боже, Боже! За что такие испытания?» Я отдал все, что имел, все свои вещи, деньги, даже подарок матери — часы, лишь бы узнали о нем. Все розыски были тщетны.
Передовая телега, везшая меня, чуть двигалась в ночной тиши. Другие с запорожцами поотстали. Небо ярко горело звездами. Вот Медведица, золотой сноп Стожар. Я с замиранием сердца вспоминал, как любовался этими же звездами в корпусе с Ловцовым. Сколько ожило в памяти с ними: экзамены, выпуск, первые на службе шаги, Пашута и первая любовь. Живо представлялись мне дни у бабушки, поездки в усадьбу Горок, корпусные письма, приезд Ольги Аркадьевны, столкновение в театре и рассказ попадьи. Боже! Зачем не состоялся поединок? И зачем здесь, в Турции, погиб он, не повинный ни в чем, а я жив, не убит? Она бы узнала, оценила бы меня… «Вот преданность, вот любовь! — прошептала бы она, прочтя мое имя в реляции. — Он не вынес, ушел на поприще славы и пал героем…» Ужли ж и вконец отвернулась от нас слава? Ужли никуда мы не двинемся, не предпримем ничего, и правы запорожцы, что светлейший, как редька в огороде, засел по шею в сомнениях и вечных колебаниях? Нет, я везу ему точный снимок Измаила и флота. Пригодились корпусные уроки фортификации. Он взглянет и, нет сомнения, объявит поход.
VIII
Я присутствовал при аудиенции князя Григория Александровича запорожцам.
Потемкин вышел к ним с гордой осанкой, в богатом гетманском кафтане, в лентах и орденах. Войсковой судья черноморской казачьей команды, охранявшей квартиру главнокомандующего, умный, сметливый и «письменный» Антон Головатый, был назначен Поповым представить князю прибывших удальцов. Те, как были наскоро отправлены из лагеря в дорогу, стояли отрепанные, в порванных рубахах и свитах, иные даже босиком. Светлейший принял их за нищих.
— А где ж твои храбрые молодцы? — спросил он, оглянувшись на Головатого.
— Да это ж, ваше превелебие, они и есть, — ответил с поклоном войсковой судья.
— Неужели начальство поскупилось получше снабдить их в дорогу?
— А что нужно, батько ты наш, хоть бы казаку? — ответили запорожцы. — Роспытались мы у коша, кошевой сказал: идите с добрым человеком; ну, мы и пошли, а их благородие и списали планчик
Потемкин взглянул на меня. Я ему подал рисунок. Он, очевидно, меня не признал — так я загорел и огрубел за это время.
— Теперь, княже, нет уж опаски, — сказал Чепига. — Турчинова фортеция как на ладони. Звелите, ваше высокопревелебие, и побей, Боже, нас и наших детей, коли не заберем измайловского пашу со всеми его пашенятами.
Потемкин вскользь поглядел на рисунок, опустил его в карман и, покачав головой на щеголей штабных, стоявших здесь же, в стороне, — не вам, дескать, чета — объявил производство некоторых из запорожцев, в том числе и Чепигу, офицерами. Всей партии казаков, бывших в поиске, князь повелел выдать новое, полное, по их обычаям, платье и по сто червонцев. Деньги и платье запорожцы, впрочем, к слову сказать, пропили меньше чем в трое суток и не выезжая из Ясс и отретировались обратно, как приехали, в лохмотьях. Радостям их не было конца. «Поход, поход!» — толковали они, распевая свои заунывные боевые песни. Вышло, однако, иначе.
Мне, как главе разведчиков, светлейший назначил особый прием.
— Думаешь, буду хвалить? — спросил он, вынув из баула и вновь рассматривая привезенный мною рисунок. — Отличились вы, флотские, один даже чуть ли не погиб. Но ни к чему, братец, все это ни к чему, — прибавил, нахмурясь, Потемкин. — Не в том дело…
Я онемел от этой неожиданности.
— Согласись, — продолжал он, — ты свежий человек и в Гатчине проходил достойную, почетную школу. Я говорил всем, доказывал. Мы заморим турок осадой, заставим сдаться, возьмем далее ряд других крепостей, а нам… ох, что, сударь, и говорить! — объявят вдруг — баста, ни на пядень! — и пропадут задаром все труды, вся кровь, вся честь…
— Кто же скажет, ваша светлость? — осмелился я спросить.
— Есть такие, — произнес он загадочно.
Порывшись в бумагах, Потемкин отложил одну из них и прикрыл ее бронзовой накладкой.
— Отважный подвиг твой и этих смельчаков, — продолжал князь, — изобличает в вас достойных всякой похвалы слуг. Я тебя давеча не признал. По твоему отличию и квалитету о тебе уж репортовано выше. Но это все, братец, ни к чему. Вы рветесь, ты особенно; это понятно и делает тебе честь. Я тебя не забыл: памятую твой вызов, принять и выполнить такую комиссию, в коей бы видна была твоя персональная послуга. Готов ли ты, Бехтеев, сдержать слово? Ныне найдется дело и для тебя…
— Приказывайте, располагайте жизнью моею, мной! — воскликнул я в радости.
Князь позвонил. Вошел Попов.
— Где Бауэр? — спросил Потемкин.
Секретарь удивился вопросу.
— Где, в каком месте нынче Бауэр? — нетерпеливо застучал князь по столу пальцами.
— Проехал Будапешт, может, и Вену.
— Французский язык знаешь? — обратился ко мне Григорий Александрович.
— Сызмальства, в доме родительском, и опять же в корпусе обучен.
— А ну, прочитай вот, Бехтеев, — сказал он, протянув мне книгу. — Недурно! Расскажи теперь попробуй прочтенное своими словами… Слышишь, Василий Степаныч, видно, на Жоконде зубы проел, как и мы с тобой… Певуна, всякого петиметра, за пояс заткнет. Ну, изготовь же по этой материи бумаги и все, что нужно. В командировку, сударь, нынче ж в ночь выедешь.
— Куда, ваша светлость? — спросил Попов, вглядываясь в поданный ему мелко исписанный каракулями светлейшего листок.
— Ах, батюшки, куда! Известно, вдогонку Бауэру, в Париж… Наговорили болтуны — почти без каблуков… А оказывается, чуть не в полтора вершка. Прасковья Андреевна, сударь, вычитала в «Вольном корреспонденте», — обратился ко мне Потемкин, — что при платье а–ля–бель–пуль дамы нынче опять носят и башмаки с высокими, выгибными каблуками. Каблуки, именно каблуки; без них ни шагу… Так готовься, братец, поедешь в подмогу Бауэру. Ум хорошо, два лучше. Хлопочите… помогите угодить фрерушкиной супруге.
Попов сделал мне знак уходить. Князь меня остановил.
— Перед отправкой зайди сюда, — сказал он, — получишь еще лично от меня цидулку к королевскому башмачнику — как бишь его?.. Они разрушили Бастилию, грозят самому трону, религии, а деспот — мода — не дает им покоя, властвует ими, как детьми… Всем российским мотам велено выехать из Парижа; Бауэру и тебе — исключение. Ты рвался из усердия бить турок; поусердствуй пока иначе — барыне постарайся угодить. А что выгодней в жизни — это, брат, еще бабушка надвое сказала. После сам увидишь и поймешь…
Удивило меня, а потом и разобидело это решение. «Как? Офицеру покупать башмаки для какой‑то Прасковьи Андреевны? Супруга фрерушки! Да мне‑то какое дело? Выкидывал штуки светлейший, и к ним уж привыкли, но такой, да еще с носившим мундир гатчинских батальонов, — я не ожидал».
Повеся нос, в досаде на всех и все, я возвратился в «кафан», где нанял комнату. Офицеры бросились меня поздравлять.
— Отменный, завидный случай, верная тропа к отличиям.
— Да в чем же дело? — спрашивал я.
— Как в чем? Неужто не знаешь? Во всем городе и в лагере только и говору, что о новой причуде Таврического. И кому ж выпало на долю ее совершить? Ближнему, любимому адъютанту князя, Бауэру, и тебе, Бехтеев… Оба как бы в один ранг поставлены… Такие поручения не забываются… Любимый предмет, властительница сердца, жена двоюродного братца светлейшего… Радуйся да скорехонько отъезжай, а то как бы еще князь не раздумал. С ним это бывает.
Получил я от скупяги Попова подорожную на фельдъегерских, прогоны и щедрое пособие на подъем, а в прощальной аудиенции от князя несколько приватных писем и в том числе небольшой пакет с надписью: «Распечатать через неделю, по прибытии на место».
На другой день я отправился в столицу Франции. Завистники штабные провожали меня вежливо и искательно; но я видел их двусмысленные улыбки и слышал их шепот: «Фельдъегерь по башмачной части; не вывезли батальоны — вывезут выгибные каблуки».
В Париже с появлением странных комиссионеров поднялась буря толков и всяких пересуд. Я застал Бауэра вне себя от беготни по магазейнам, в возне с башмачниками и поставщиками модных вещей. Он выбивался из сил, хлопоча лично и через подходящих агентов в приискании по привезенной мерке башмаков с отделкой из перьев или а–ля–бель–пуль. «Des souliers pour madame la princesse Potemkine!» [23]-тараторили на все лады словоохотливые французы. Вести о новоприбывших курьерах главнокомандующего Дунайской армией понеслись всюду, выросли в чудовищные размеры.
Отчаянным и ветреным парижанам такая фанфара была на руку. Столица первого в Европе народа была польщена прихотью могучего русского вельможи. И там, где уже второй год царили якобинцы, где во имя прав человека были уничтожены церкви, монастыри и всякие внешние отличия, где духовенство присягнуло народу и закону, где выходили газеты Лустало «Революция Парижа» и Марата «Друг народа» и толпа валила смотреть на празднество федерации на Марсовом поле и на политическую трагедию Жозефа Шенье «Карл Девятый», — там все заговорили о русском фельдмаршале, удостоившем командировать своего адъютанта в столицу великого народа за покупкой изобретенных этим народом башмаков. Уличные крикуны, с портретами Мирабо, Бальи и Лафайета, вынесли на продажу изображения Потемкина. Газеты приводили десятки анекдотов из его жизни, уверяя, что князь в Яссах посажен своей возлюбленной на хлеб и на воду и что она его не выпустит, пока фельдмаршал не добудет ей желаемой обновки. В окнах книжных магазинов явился печатный, с карикатурами, памфлет, где был изображен султан, подающий на коленях фаворитке князя собственную обувь. Некий же догадливый содержатель театра и музыкальный композитор написал даже по сему случаю преострый, с куплетами, водевиль под именем: «Бедствия Северного Рыцаря», на представления которого публика повалила как на некое диво. Мы сами с Бауэром инкогнито были на том представлении и хохотали от души над пьесой, где остроумно изображали нас самих.
А в то время как парижане занимались водевилем и всей этой историей нового чудачества светлейшего, контора российского банкира Сатерланда отсчитала перед некоей, еще недавно высокочтимой и титулованной красавицей, обитателькой сен–жерменского форштадта, по векселю князя шестьдесят тысяч ливров золотом
Дело в том, что пришел указанный срок. Я распечатал особо мне врученный пакет, нашел вексель и краткую инструкцию относительно банкира и оной дамы. Обсудив с Бауэром, как исполнить указанное, мы разделили роли. Он тайно доставил запечатанное письмо князя даме, я — вексель и ордер светлейшего банкиру.
Впоследствии объяснилось, что названной красавице было предложено ловкой рукой выбрать из бюро страстно влюбленного в нее вновь назначенного французского министра иностранных дел Делесара нужные для князя дипломатические тайные бумаги. Золотой ключ отпер дверь к податливости корыстной сильфиды [24]и придал ей крылья бабочки и благопотребную решимость льва. Она слетала, куда следует, изловчилась и возложенную на нее порученность спроворила отменно успешно. Копии с нужных бумаг нам были переданы в переплете вновь вышедшего кодекса «Прав человека», а подлинники бумаг положены на прежнее место.
Тут я с Бауэром простился. Он остался укладывать в картоны и сундуки вороха бархатных, шелковых, сафьянных и всяких башмаков и расплачиваться с лавочниками и мастерами. Я же навестил двух первых в Париже медикусов, аки бы для совета о больных глазах, бережно упаковал в сумку книгу «Прав человека» и пустил слух, что еду для консультации с врачами еще в Италию. Через Милан и Триест я прибыл в Вену, дождался там Бауэра и одновременно с ним и с его модною поклажей явился обратно в Яссы в конец ноября.
Содержание доставленных документов оставалось долгое время для всех тайной. По смерти же князя при разборе его бумаг Поповым и Бауэром оказалось, что то была копия с секретного отказа французского кабинета первому министру английского короля Георга Третьего [20]. Наперекор стоявшей за нас оппозиции бессмертного Фокса и его друзей, Потланда и Девоншира, коварный и скрытный Питт [21] предлагал для возбуждения английской нижней каморы и в видах отвлечения французских умов от возраставшей парижской неурядицы заключить оборонительный и наступительный договор Англии с Францией с целью принудить русских к остановке войны против Турции. Франция отказала. Прочие державы под влиянием Англии были до того в великой фермантации; нам грозили войной с Пруссией, даже Австрия клонила наш кабинет к принятию негоций мира с Турцией — одна отдаленная Гишпания была спокойна… И вдруг руки наши развязались…
Получив такое сведение, Потемкин увидел, что дело Восточной системы спасено.
— Василий Степаныч, — крикнул он Попову, пробежав поданные ему бумаги, — бал назавтра, танцы и балет с фейерверком… Молодцы, господа! — обратился он к Бауэру и ко мне. — Прасковья Андреевна сама оценит ваше усердие и поблагодарит.
Бауэра он крикнул в кабинет, а подойдя ко мне, опустил руку в карман и запел по–церковному: «Кресту Твоему поклоняемся, Владыко!» Он хотел нацепить мне в петлицу орден; я его остановил.
— Иной награды, коли стою, — осмелился я произнесть.
— Какой? Всего проси — заслужил.
Я передал о захвате отцом Зубовым имения моих родителей.
— И грабителей проучим, и от креста не уйдешь, — сказал светлейший. — Возвращайся к армии и решпектуй от меня Михаиле Ларивонычу: мысли ваши на днях будут утешены…
IX
Едва я возвратился к колонне Кутузова, где меня тем временем причислили к егерскому полку, пришла весть, что нашей гребной флотилии, взявшей Тульчу и Исакчу, удалось прервать сообщение Измаила с не занятым нами правым берегом Дуная. Множество запорожских чаек и заготовленных в Севастополе шкун, дупельтшлюпок, полакр, ботов и галер [25]вошли гирлами в реку, подтянулись к занятым нами крепостцам. Пользуясь этим, светлейший предписал командиру корпуса Гудовичу занять десантом остров против Измаила, устроить там в тайности кегель–батарею и, начав обстреливание самой фортеции, подойти к ней с суши и от реки и попытаться взять ее осадой. Стало известно, что в Стамбуле опять усилилась партия войны; муфти, стоявший с матерью султана и сералем за мир, был сменен. Порта напрягала последние ресурсы с целью выбить нас из занятых ее владений.
Обложение Измаила началось, по этому плану, 21 ноября. Войско вздохнуло отрадно.
Но где было изнуренному непогодой, болезнями, бездорожьем и всякими лишениями двадцативосьмитысячному отряду, половину коего составляли казаки, мериться с грозной фортецией, снабженной в обилии съестными, огнестрельными и прочими припасами, в которой за неприступными земляными и каменными твердынями сидел с сорокатысячным отборным и свежим войском сам сераскир Мегмет–Аудузлу–паша… Первый пыл армии, обрадованной приступом к действиям, прошел. Начались сомнения, колебания. Позднее ж время года, непрестанные проливные дожди, холод, грязь и болезни в войске еще более усилили общий упадок духа. Через неделю по начатии осады Гудович созвал военный совет для обсуждения вопроса: продолжать ли предприятие или ретироваться на винтер–квартиры? Генералы после недолгих колебаний решили — отступить.
Мы двинулись по убийственным дорогам, затопленным дождями и разбитым нашими же обозами, в обход болот, у озер Кугурлея и Ялтуха. Было предписано идти к Рени и Галацу, где, вопреки общему мнению и к удивлению всех, сидел в то время, как бы нарочно забытый и всеми оставленный, любимец армии и всего русского народа бессмертный Суворов…
Был сквернейший, холодный и сырой вечер второго декабря 1790 года.
Колонна Кутузова, где мне дали в команду роту фузилеров, шла целые сутки, но сделала по лесистым топям и оврагам не более пятнадцати–двадцати верст, каждый час, каждый миг ожидая, что вот растворятся ворота Измаила и в нашем тылу раздадутся грозные крики преследующих турок. Авангарду скомандовали привал. Кое‑как установили обоз и разложили по морскому песку костры.
Налетавший мелкий, как сквозь сито, дождь то и дело тушил еле тлевший бурьян, сучья и кукурузные стебли. Обмокшие, прозябшие солдаты толпились у ротных котлов. Офицерство забралось к чайникам, в наскоро разбитые палатки. Сумерки сгущались. Я не мог обогреть у слабого огня продрогнувших окоченелых членов и стал, разминаясь, прохаживаться между палатками.
Влево от авангарда виднелась темная полоса озера, вправо — ряд пустынных бугров, кое–где поросших мелким кустарником. Ноги скользили в жидкой, расползавшейся во все стороны грязи. То здесь, то там в сумерках, под шуршание и назойливый писк зарядившего на всю ночь дождя, слышался говор солдат.
— Тоже егаря зовутся, круподеры, — толковал кто‑то под навьюченной фурой недовольным, старым басом. — Двадцать лет в полевой да в гарнизоне шесть, и опять взяли — служи. А какова ноне муниция? Один шонпол на двух… Были каски: зимой — холодно, в дождь — в загривок, как из трубы…
— Зато ноне кивера, — перебил говорившего молодой, веселый голос. — Ах, братцы, ну чисто ощипанный кочет: спереди — хохол, сзади — лопасть; в зимушку опять будешь без щек и ушей.
— Нет, ты, дядя, уважь — когда жалованье? — спросил третий голос из‑за палатки, скосившейся над лужей. — Две трети его и в глаза не видели. От кукурузы да от треклятого папушоя животы подвело. Сена коням не дают; можно, мол, и на подножном… А подножный что? Нынче грязюшка, завтра снег.
— Хорош тоже хоть бы сам–от, — продолжал первый критикан, очевидно, о Гудовиче. — Под Килией ни разу его, как есть, и не видели на брешь–батарее; все из лезерва, даже в туман в подзорную трубку глазел.
— Да! Ты вот лоб подставляй, — отозвался кто‑то, прокашлявшись, от коновязи. — А они к параду в обедни не выходят. То ли, братцы, Ликсандра Васильич…
— Суворов?
— Ну да… Это — хоть бы в очаковскую зиму. Стоим мы, братцы… Ах, в жисть то есть!.. Ну, как есть!..
Дождь будто перестал. Я набил трубку у костра, закурил; слышу, толкует в стороне кучка отставших артиллеристов.
— Хучь бы тебе выгода какая, ли лагерь взяли — провизии, ли город — серебра, золота. Портки в дырьях, сапожников и звания нет.
— Зато, Евсеич, у светлейшего, видел ли, двести гранодеров холопами; вырос дубиной, хорошо подал тарелку за фриштыком, ну, он–те сейчас и в офицеры.
— Для виду только?
— Какой для виду! Портного за кафтан в подпрапорные, молдаванчика–серебреника — в корнеты, булочника пожаловал в подпоручики! Лошадей у него более двухсот, и все, братцы, кормятся на счет кирасирского и драгунского полков. А подрядчики грабят! Вот антихристы… Зашел это я к Семен Митричу, разут, совсем ознобели щиколки; последняя подошва в луже у моста осталась. А он жрет мамалыгу, смеется: ты, говорит, вприпрыжку…
— Ах, жизнь! Ах, горе! И нет на них, людоедов, суда–расправы.
— Австрияк, сказывают, своих вешал. Вот бы нашим‑то…
— Держи карман, на наших толстошеев, видно, веревка еще не сплетена.
Дух тогдашнего армейского критиканства мне был не в новость. Но то, что привелось услышать в дни нашей ретирады, смутило меня сверх меры. Я возвратился в палатку, прилег на влажных снопах, где уж расположились трое других офицеров, и завернулся в шинель.
Лагерь смолкал. Пригорок, на котором стояла наша палатка, был в передней линии авангарда. Внизу виднелись лужи узкого проселка, ведшего к мосту через ближний ручей. С вечера долго слышались с той стороны крики погонщиков–моддаван, тащивших на волах через дырявые мостовые горбыли отставшие пушки какой‑то батареи.
Из‑под обвисшей, намокшей парусины было видно, как над окраиной долины бежали низкие, бурые, клочковатые облака.
— Господи! Хоть бы уж замирение, — сказал в ответ высокому, широкоплечему майору Неклюдову лежавший возле меня больной лихорадкой молоденький, вечно жалующийся и разочарованный в ожиданиях прапорщик Гуськов. — В два месяца хотели Константинополь взять! По неделям рубахи не меняешь, от карпеток осталась какая‑то корпия; накинул барабанщик из старого кивера подметку — а она, анафема, как окунь, опять есть просит, эту хлябь так и всасывает…
— Ну, миленький, все простишь, как у тебя это убеждение, что тебя не тронет ни штык, ни пуля, — возразил ему, весело вскидываясь из‑под шинели и садясь впотьмах палатки, Неклюдов. — Мне, господа, цыганка в Яссах гадала, что я кончу поход не токмо жив, — даже не ранен.
— Избегнешь раны, как раз! — сердито кашляя, произнес больной Гуськов. — У них штуцера Цельнера и Гамерле, пистолеты Лазаря Лазарини. С нашими только осрамишься. Вон и Ловцов был уверен…
— Да ведь он жив!
— Хороша жизнь в Измаиле, в плену… Когда‑то еще храбрый Росс надумает и придет его избавить…
Долго я слушал, притворяясь, что заснул. У самого все было промочено до костей. Стыд за себя и за других теснил мысли. Боже, хоть бы из‑за угла шальная какая пуля! Крупные капли изредка мерно падали сквозь дырья парусины то на руки, то на лицо. Сон стал одолевать, но я пробуждался, взглядывал в щель двери, прислушивался к звукам ночи. Что‑то шлепало по грязи, ветер шатал палатку, шелестел травами и камышом. Чавкали фурштатские клячи; жалобно завывала где‑то полковая собачонка. Вправо, на чуть видном пригорке, светился фонарь у ставки Кутузова.
Вдруг я вскочил. За шею побежала накопившаяся над заплатанной парусиной холодная дождевая вода. В то же время влево от моста послышалось топанье конских копыт. «Что бы это было? — подумал я. — Откуда явиться коннице? Уж не янычары ли пробрались в обход?»
Накинув наскоро шинель, я вышел из палатки. Дождь перестал. К пригорку, брызгая по лужам, пробирались гуськом всадники. В начинавшемся бледном рассвете я разглядел казачьи шапки и пики.
— Чья колонна? — спросил, завидев меня, передний, останавливая у взгорья поджарого, тяжело дышавшего впалыми ребрами горбоносого кабардинца.
— Шестая, Кутузова, — ответил я, видя, что часовой у въезда в лагерь вытянулся перед всадником во фронт.
— Какие части? — продолжал тот.
— Три батальона егерей, два гренадеров и сотня бугских стрелков. За ними ночует отряд Самойлова и часть артиллерии Мекноба…
Говоря это, я приблизился и разглядел всадника. То был худой, подвижной, с маленьким личиком старик; длинные седые локоны выбивались из‑под его намокшего треугола. Серая, подпоясанная ремнем старенькая шинель была черная от дождя. Комки жидкой грязи облепляли высокие сапоги, обвислые фалды и руку, в которой была нагайка.
— Офицер? — крикливым, добрым голосом спросил старик, склонив ко мне обветренное и чуть видное от брызг грязи лицо. — Ну, ваше благородие, уважь, веди нас к Михаиле Ларивонычу. Старый знакомый… Что смотришь? Гонцы, голубчик — с повелением, из главной квартиры. Гонцы… пристойны знатности, помилуй Бог!
— Позвольте узнать, с кем имею честь?
— Цымлянской станицы старшина Фрол Терентьев Балаболкин.
Я, как подобает, отдал честь прибывшему и повел его к ставке Кутузова. Спутники старика двинулись следом с удивленными лицами, оглядывая меня и как бы меж собой перемигиваясь.
— Так вы, сударики, на попятный? Отступать? — насмешливо допрашивал, обдергиваясь и оправляясь в седле, именовавший себя Балаболкиным.
— Разве мы? — ответил я. — Мало ли чего хотелось бы? Велено — нечего рассуждать.
— Гости хорошие, и вести такие ж, optimissime! — проговорил и прищелкнул пальцами старик. — Не крикнет трижды петел, отречетесь от принятых решений; а ты, козырь! Ишь, встал раньше всех… Молодец!
Меня что‑то как бы подталкивало и подмывало. Сам не понимая почему, я точно на крыльях летел. Странное, сладкое чувство всего меня наполняло.
Среди луга, отделявшего два взгорья, была широкая водомоина. Рыжий кабардинец старика заупрямился. Я подобрал плащ, шагнул в воду, взял коня под уздцы и провел через водомоину.
— Эх, важно! Так, так! — ободрял всадник, видя, как я шлепаю ботфортами по воде. — Да ты в воде, как дома… Уж не из моряков ли?
Я ответил, что из моряков.
— Покинул Рибаса? И хорошо сделал… Ротой командуешь? Молодец! Штык, он лучше, брат, всякой лодки доедет.
Мы добрались до палатки отрядного командира. Кутузов был уж на ногах. Денщики возились у распакованной фуры, ставили самовар. Толстенький, румяный и невыспавшийся адъютант Кнох что‑то с недовольным видом писал под диктовку Михаила Ларионыча на барабане. Сам Кутузов сидел на опрокинутом ведерке, полковой фельдшер в фартуке выбрил ему правую щеку и подновлял мыло на левой.
Не успел я, с рукой у шляпы, отрапортовать генералу о прибытии из главной квартиры такого‑то гонца, всадники, пробравшись между фур, тоже наспели к палатке. Передовой вскочил наземь, бодро встряхнулся, бросил поводья ближнему из казаков и мелким, бойким розвальцем двинулся прямо к генералу.
— Хорош Балаболкин!.. Батюшка граф Александр Васильич! — крикнул Кутузов, отстранив фельдшера и вставая навстречу гостю.
— Ура! — весело произнес, оглядывая всех и махая мокрой шляпой, гость. — Таким богатырям да отступать? Назад! Обратно, с походом…
«Генерал–аншеф Суворов! Ужли он? Откуда?» — послышались голоса вблизи меня. Я обмер в радости и удивлении.
Суворов и Кутузов дружески обнялись.
— Ты, сударь, с вами Гудович, Голицын, Мекноб и Рибас, все, — продолжал Суворов, не выпуская из перепачканной, худой и красной своей руки полных белых пальцев Кутузова. — Все части отныне становятся под мою верховную команду. — Кутузов, моргнув зрячим глазом, почтительно приставил ко лбу пальцы свободной руки. — А потому, батюшка, ординарцев сюда, штабных, вестовых, трубача! Снимать лагерь. Да–с… Мешкать нечего… Приятно будет неверным, фуй, вот как приятно–с! — как пилюля полынная… Нынче же к вечеру на прежние позиции к Измаилу, а завтра… помилуй Бог!.. Увидим, как поступить.
Кутузов оглянулся на адъютанта. Суворов придержал его за руку.
— Повелено, — произнес он, — взойдя тут, сызнова ложироваться, во что ни стало… А потом… Ну да увидим, батюшка… Увидим, сударики мои… А впрочем, вот тебе, Михаиле Ларионыч, и на бумаге…
Тут Александр Васильич отстегнул лацкан кафтана, вынул отсыревший, порыжелый пакет, вручил его Кутузову, и оба они, давая друг другу дорогу, с аттенцией и молча вошли в палатку.
«Суворов, Суворов!» — понеслась радостная весть по лагерю. Все ожило, задвигалось. «Какой приказ? Наступление? Голубчики вы мои, дождались‑таки праздника!» Одна мысль, что Суворов в авангарде, переродила общее настроение. Все рвалось вперед. «А эти, сербины, босняки, болгарчики, — сущие хохлы, наш брат, — толковали ликующие солдаты, недавно еще ругавшие за разные прижимки одноплеменников. — Как есть свои и крестятся по–нашему, и всё… И отчего матушка царица их не заберет совсем у турка?» Как нарочно, переменилась и погода. Тучи подобрались, стали расходиться. Выглянула полоса чистого синего неба. Начало подмораживать. Лагерь копошился, снимая палатки, вьюча и запрягая фуры.
В полдень Суворов вышел из ставки Кутузова, тоже выбритый, в синей шерстяной фуфайке и в чистом белом колпаке.
— Не видать что‑то моих соколов, — сказал он, щурясь против солнца. — Уж и ждала ж, ждала свово друга молода…
— Не это ли, ваше сиятельство? — осмелился я указать за ручей.
От моста на луг повзводно въезжал конный отряд. За кавалеристами тянулись, блестя штыками и бляхами шляп, шеренги Фанагорийского, везде следовавшего за любимым вождем егерского полка.
— Спасибо! Вторая послуга… Быть тебе в моих ординарцах, — сказал, взглянув на Кутузова и быстро на одной ноге обратясь ко мне, Суворов. — Дай им знать, что, мол, дядюшка тут: щи, каша — готовы. Тащи их к котлам… Понял? Штык, внезапность, быстрота — вот наши вожди, — не отставай и ты.
Я поспешил навстречу подходившему отряду. Но как забилось мое сердце, когда я узнал, что в тот же день меня причислили к штабу Суворова. Я расположился при главной, походной квартире и, пока жив, не забуду того, что я тут испытал и чему сделался очевидным и глубоко тронутым свидетелем.
Ранней утренней зарей 3 декабря бывший отряд Гудовича, обратясь вспять, как снег на голову, вновь появился перед твердынями Измаила. Колебаний, безнадежности не было и следа. Малодушные порицатели смолкли. Дух героя зажег бодростью и рвением робкие, упавшие сердца.
В войске так объясняли это событие: на донесение Гудовича о крайней невозможности взять Измаил. Потемкин от 25 ноября из Бендер прислал ответ: «Вижу пространственные ваши толкования, а не вижу вреда неприятелю», — и тогда же послал в Галац приказ Суворову: «Вести штурмование и, буде окажется можно, взять Измаил». Суворова в этом письме светлейший назвал «милостивым другом», а себя «вернейшим слугой». Ответ Суворова князю состоял в двух строках: «Получа повеление, отправился к Измаилу. Боже! Даруй нам помощь Свою».
Потемкин между тем вскоре впал в новые сомнения. Получив известие, что Гудович уж отступил, он послал вдогонку Суворову от 29 ноября новый ордер: «Известясь о ретираде корпуса Гудовича, предоставляю вашему сиятельству поступить тут по лучшему усмотрению — продолжением ли предприятий на Измаил или его оставлением. Вы на месте, и руки у вас развязаны». Но Суворов решил более не поддаваться таким шатаниям. Он по–своему объяснил новый приказ главнокомандующего. «Воля отступать и не отступать, — сказал он, прочтя бумагу. — Следовательно, отступать не приказано». В таком смысле, положа все на мере, и повел дальнейшие приготовления.
Войско, двинувшись, расположилось полукружием в трех верстах от Измаила, заняв почти двадцать верст вдоль берега Дуная. Установилась ясная морозная погода. Ветер и стужа увеличились. Стали греться ракией и пуншами из модного рижского бальзама. Суворов повелел поддерживать день и ночь костры. Приготовив лестницы и фашины, он обучал по ночам войска действовать ими; осматривал с инженерами удобные местности и отряжал вылазки, а чтоб турки предполагали возобновление правильной осады, диспонировал и возвел ряд батарей чуть не в полсотне сажен от бастионов Измаила, откуда нам и стали отвечать непрерывным ожесточенным огнем. Наши наводчики, направляя орудия, дули в замерзшие кулаки и, пуская снаряды, приговаривали: «Ишь, бабушка Терентьевна, как сморкается! Ну‑ка, уважь еще, уважь…»
Громадных размеров фортеция, по обширности своей названная турками «орду–калеси», то есть — сбор войск, занимала в окружности десять верст. С Дуная ее окружали каменные стены, с суши — земляной вал в четыре сажени вышиной, со рвом еще глубже. В ней было до трехсот пушек и сорокатысячный гарнизон, наполовину из отчаянных спагов, зейбеков и янычар.
Седьмого декабря 1790 года генерал–аншёф Суворов послал сераскиру Мегмету–Аудузлу–паше, «всем почтенным султанам» и прочим пашам прокламацию с требованием без напрасного кровопролития сдать крепость, дабы могли быть пощажены от раздраженного воинства женщины, младенцы и другие неповинные. Гордый сераскир, отказавшийся незадолго от принятия визирского достоинства, отвечал через парламентера: «Скорее Дунай остановится в своем течении и небо упадет на землю, нежели сдастся гяурам Измаил».
X
— Сами захотели, ну, попробуют! — сказал Суворов, огненным и радостным взором пробежав перевод хвастливого ответа паши.
Узнав, что сераскира в его решимости поддерживали некоторые из пашей и, между прочим, брат крымского хана, Каплан–Гирей, бывший в Измаиле с шестью молодыми сыновьями, Суворов уведомил Аудузлу, «что если тот в двадцать четыре часа не выставит белого флага, то крепость будет взята приступом и гарнизон ее соделается жертвой ожесточенных воинов». Сераскир в ответ на новое уведомление графа удвоил канонаду с крепостных окопов.
А к вечеру примчался от светлейшего новый гонец. Страшась неудачей омрачить себя и славу вверенных ему войск, Потемкин окончательно отменил посланные перед тем распоряжения и предписывал Суворову «не отваживаться на приступ, если он не совершенно уверен в успехе». Суворов ответил князю: «Мое намерение непременно. Два раза было российское войско у ворот Измаила — стыдно будет, если в третий оно отступит, не войдя в него».
Ночью девятого декабря был созван окончательный военный совет.
Все первенствующие в армии генералы под разными предлогами на это совещание почему‑то не удостоили явиться. Дело решилось тринадцатью второстепенными командирами. Бригадир Матвей Платов, будучи как младший из всех спрошен вначале, первый подписал резолюцию: штурмовать. За ним Орлов, Самойлов, Кутузов, а далее и все колебавшиеся и приходившие в отчаяние положили решение: «Приступить к штурму неотлагательно. И посему уж нет надобности относиться к его светлости. Обращение осады в блокаду исполнять не должно. Отступление предосудительно».
Узнав решение, Суворов вбежал в заседание совета, всех перецеловал и объявил:
— Один день Богу молиться, другой учиться; в третий — Боже Господи! В знатные попадем — славная смерть или победа.
Утром десятого декабря была открыта редкая, слабая, с перерывами пальба с флота и с батарей на суше и на острову, дабы обмануть турок мнимым недостатком у нас пороха и прочих снарядов. К вечеру канонада стихла.
Ночь с десятого на одиннадцатое декабря была последнею перед грозным приступом, который прогремел во всем свете и воспет бессмертным Байроном. С вечера сильный, без ветра, мороз скрепил окольные болота и дорожную грязь. Наступили сумерки. Войско готовилось молча и набожно к битве, где столько тысяч храбрых ожидала лютая, безжалостная смерть.
Меня позвали в землянку Суворова, вырытую в передовой части наших позиций. Это была просторная, без окон, укрытая сучьями и кукурузными снопами, перегороженная надвое яма, с печуркой и дымником в стене и с камышовым щитом вместо двери. Освещалась она свечками, вставленными в пустые бутылки.
Сутуловатый, черномазый полтавец Бондарчук, тогдашний графский денщик, высунувшись с лоханкой из‑за перегородки, где стояла походная складная кровать главнокомандующего, сказал мне:
— Звелели, добродию, обождать.
По этот бок перегородки, беспечно и мирно, точно где‑нибудь на родине, в Гатчине или Чухломе, потрескивали в печке откуда‑то добытые сухие поленца. Пахло дымком и столь любимым графским прысканьем, смесью мяты, шалфея и калуфера. Воображение переносило в русскую баню, а в опочивальне графа, кстати, слышались некие приятные вздохи, оханье и как бы плесканье!
— Еще, голубчик хохлик! Ну‑ка, Бондарчук! Ой! Господи! Да важно как, еще! — восклицал Александр Васильевич, очевидно подставляя под лоханку денщика то лицо, то затылок, то плечи.
— Удивляешься? — спросил он вдруг, выйдя закутанный в простыню. — Часочек рекреации! С Покрова, брат, головы не мыл; наутро же, знаешь, какое дело…
Граф вытерся, опростал голову, сел на какой‑то обрубок и протянул к печке худые волосатые, тоже вымытые ноги, на которые денщик стал натягивать шерстяные стоптанные онучки вместо чулок и сапоги. Все тело графа, впалые плечи и узкая, плоская грудь, поражали слабостью и худобой. Он под влиянием приятной печной теплоты смолк и стал слегка вздремывать.
«И этому тщедушному старику предстоит завтра такое страшное, ответственное дело», — подумал я.
— Пуговочку… ниже… Ох, что же это? — проговорил в полусне Суворов и вдруг весело раскрыл глаза. — Молода была — янычар была, стара стала — баба стала… Бехтеев, ты тут? Слушай, ты не лживка и не ленивка! Скажи, да по правде, любишь Питер?.. То‑то, где его любить! Близко к немцам… Оттого и многие там пакости. Всюду, ох, проникает питерский воздух… Прислони, братец, дверь в сенях плотнее — так‑то… Оно спокойнее. Не то как бы опять из Ясс не запахло Питером. Критика, политика, вернунфты! Сохрани и помилуй от них Бог, помилуй…
Белье и рейтузы были надеты. Денщик, вытянувшись, давно стоял с камзолом и сюпервестом в руках. Но граф медлил подниматься от печки. Я тоже молча ожидал приказаний. Наверху, за дверным щитом, слышался сдержанный шепот, толпились адъютанты и прочие штабные.
— Воскрес убитый Топал–паша! Хромой паша! Воскрес! — проговорил, глядя в печку, Суворов. — Так меня, сударь, прозвали турки за хромоту и совсем было схоронили под Бендерами… Да ожил на страх изуверам и завтра явится как Божья кара. Сам Петр Александрыч, не то что сам Задунайский, меня лично ценил и одобрял. У Вобана, сударь, у Тюрення и Нонтекукули учились мы, вон с Бондарчуком, военной премудрости и всякому артикулу. Мы не антишамбристы, не блюдолизы, хоть и вандалы, дикари. Солдаты любят нас, друзья славят, враги бранят… Ну‑ка, Прохор Иванович, другую прежде фуфаечку поверх этой; оно теплей. Да пуговочку… шлифная пряжка намедни лопнула, достал ли иголку, ниточки, зашить? Достал? Ну, молодец. А ты, Бехтеев, — вот зачем я тебя позвал: отыщи в чемодане баульчик такой, походную аптечку. Матушка царица, Екатерина Алексеевна, снарядила ее сама, своими ручками, и прислала мне после Очакова, вовеки с ней не расстаюсь. Так ты приладь на плечо и завтра вози за мной. Сердце–зритель–Господь чертит каждому путь… Может, кому и пособим…
Хилый, сморщенный старик, кряхтя, поднялся со скамьи, надел камзол, обвязал шею чистым батистовым платком, изрядненько прибрал свой гарбейтель–косичку, зачесал сзади на лоб часть жидких седых волос и подвернул их завитушкой–хохолком, оделся в синий с золотом кафтан со звездами, пристегнул шпагу, прошелся по землянке — куда делась сонливость и хилость?
— Туалет солдата таков — встал и готов! — сказал Суворов. — Честь и хвала князю Потемкину, поубавил кукольных занятий у войска… Но все еще немало осталось!
Граф покрылся шляпой с белым плюмажем [26], расправился, обернулся — я его не узнал. Три ночи не спавший в переговорах с турками шестидесятилетний старик, измученный душевной, никому не зримой борьбой и страдавший ревматиками раненой ноги, глядел бодрым, выносливым, свежим и молодым.
— Фазаны тут? — спросил Суворов Прошку.
— Тут, — ответил денщик.
Так граф называл нарядных штабных.
«Ну, теперь выкинет штуку, — подумал я, вспоминая выходки графа, — выскочит, крикнет петухом, чтобы разбудить дремлющий стан…»
— Господа, по местам! — сказал Суворов серьезно, торопливо взбираясь из землянки и направляясь к большому соседнему костру. Граф позвал назначенных заранее начальников, кое–кого из офицерства и сел у огня дожидаться условного знака. Штурм, как все знали, был предположен до рассвета, по выпуске трех, с промежутками, сигнальных ракет.
Войско для взятия крепости было разделено на три отряда — в каждом по три колонны. Правым крылом, или первым отрядом, командовал двоюродный брат светлейшего, муж Прасковьи Андреевны Потемкиной, генерал–поручик Потемкин; второе, или левое, крыло было поручено племяннику князя Таврического, генерал–поручику Самойлову; третьим, от реки, командовал контр–адмирал Рибас [22]; Начальниками подчиненных им колонн были генерал–майоры: Львов, Мекноб, Ласси, Безбородко, Кутузов, Арсеньев; бригадиры: Платов, Орлов, Марков и атаман запорожцев Чепига.
Костры шестой колонны, Кутузова, бывшей в отряде Самойлова, светились красивыми, правильными рядами слева, по холмам и спускам в лощину, подходившую здесь к самой реке.
Суворов, полулежа на примерзлой траве и кутаясь в бурку, отдавал последние приказания. Резкий, пронизывающий холодом и сыростью ветер, дувший с вечера, затих. В отблеске графского костра рисовалось несколько старых и молодых фигур, почтительно стоявших возле Александра Васильича. В стороне, у смежных огней, слышалась французская, бойкая, самоуверенная, речь. Между говорившими я узнал прибывших в эти дни некоторых из агентов иностранных дворов и наспевших из ясской главной квартиры партикулярных вояжеров и волонтеров. На ковре, боком к огню, сидел белокурый и сильно близорукий, с приятной важной осанкой сын известного принца де Линя. С ним оживленно спорил, сидя на корточках, в бархатном кофейном кафтане, в кружевных манжетах и огромном жабо, вертлявый и толстенький, с острым носом, эмигрант, герцог Фронсак — впоследствии известный на Юге России герцог Ришелье. Поодаль от них, в кругу обступивших его артиллерийских офицеров, прислонясь к пушечному лафету, полулежал на кучке соломы другой эмигрант, суровый и бледный, болевший лихорадкой и зубами и с подвязанной щекой, граф Ланжерон [23].
— Все это верно, все это так, — говорил он с расстановкой на родном языке, закрывая от боли глаза, — но мне, в конце концов, непонятна эта бесконечная война; столько погибнет жизней, прольется крови. И все, кажется, даром, вряд ли одолеем эту страшную машину смерти. Все европейские авторитеты сходятся в том, что Измаил положительно неприступен для штурма…
— А мы все‑таки его возьмем и двинемся с триумфом к Константинополю! — с вызывающей усмешкой сказал, глядя на француза, невысокий, рыжеватый, с веснушками на лице пехотный майор.
— Как, без союза с другими? — спросил, морщась и хватаясь за щеку, Ланжерон.
— С нами Суворов, кто против нас? — ответил несколько напыщенно майор. — Притом же…
— Нет, вы скажите, где ваши союзники? — резко его перебил эмигрант. — Их у России нет и быть не может… Оставляя страдания другим странам, допуская, извините, безбожников подрывать древние троны, веру…
Я пошел к другому костру.
— Безумные, несбыточные затеи, и притом — сколько риску! — произнес в стороне, за лафетом, другой, как бы знакомый мне голос, от которого я невольно вздрогнул. Говорившего мне не было видно за окружавшими его…
«Неужли он? Мой заклятый враг? — пронеслось у меня в голове. — Граф Валерьян Зубов! Какими судьбами? За легкими отличиями или на помеху славного предприятия прислан из столицы? Но как мог, как решился его допустить сюда Потемкин?» Я хотел подойти, взглянуть ближе, не ошибся ли, как в то время меня кликнули к Суворову. Я нашел его в ту минуту, когда он, беседуя с командиром казаков Платовым, говорил ему, не стесняясь близостью иностранных вояжеров: «Каждый француз, батюшка Матвей Иванович, — по природе танцмейстер, вся сила у него в ногах, а не в голове…»
— Бехтеев, — сказал, завидя меня, граф, — съезди к Михайле Ларионычу, пригасил бы он костры; туманит — недолго до рассвета… Пусть думают турки, что мы заснули… А в тумане, при огнях, команды не проглядели б сигналов.
Я вскочил на редкогривого донского мерина, на котором ездил в те дни, пробрался между пехотой и пушками и направился к передовой цепи шестой колонны. Сторожкий, сильно тряский конь, забирая рыси и натягивая поводья, въехал на лесистый бугор, проскакал вдоль казачьей цепи и бережно, между залегших секретов, стал спускаться в овраг, за которым виднелись огни отряда Кутузова.
«О, люди! — рассуждал я, пробираясь каменистым, темным дном оврага. — Он, могучий, наверху почестей и силы, он, светлейший, для которого, по его же словам, один токмо закон и одна в жизни цель — слава и честь обожаемой монархини, — мог так потеряться и упасть духом! Знает Зубовых, знает все их ничтожество, зло и зависть к себе и уступает, заискивает в них. Одним дуновением, словом — пожелай только, явись хотя на миг обратно в столицу — и он развеял бы весь их жалкий, бездарный комплот, — а он покоряется, льстит и насланному брату кровного, смертельного врага оказывает почтение и решпект, видимо, отряжает его к столь священному, важному делу. И этот мальчишка, питерский шалберник и шаркун, его же столь подло критиканит. Ну, светлейший… еще понятно — дипломат; но Суворов… Он как согласился? Или и этот стойкий, крепкий столп погнулся перед дуновением не любимого им питерского ветра?»
Я нашел Кутузова, отдал ему приказ главнокомандующего. Он ласково выслушал мое поручение, простился и, перекрестив меня, сказал:
— Ну, с Богом! Все будет выполнено; а жаль, что ты не у меня — ну да авось свидимся.
Когда же я обратился вспять, он подошел ко мне, склонился к седлу и спросил вполголоса:
— А что, Бехтеев, граф‑то Валерьян Александрович при особе Александра Васильича или получил особую команду?
На мой ответ, что я ничего о том не знаю, Кутузов прибавил с аттенцией:
— Уважь, братец, передай его сиятельству, графу Валерьяну, мое высокопочитание и желание от былого знакомца всех отменнейших сим утром триумфов…
Пока я возвращался к позиции главнокомандующего, костры вдоль всего фронта погасли один за другим. Настала общая торжественная тишина. Она длилась недолго.
В три часа взлетела первая сигнальная ракета — все взялись за оружие. В четыре — другая, ряды построились. В пять — взвилась третья и, бороздя туман, глухо взорвалась в высоте. Все войско осенило себя крестным знамением и молча, с Суворовым впереди, двинулось к незримым в ночной тьме окопам и бастионам Измаила.
Конница расположилась на пушечный выстрел от крепости. Казаки, назначенные для первого натиска, взяли пики наперевес. Ни одна лошадь не ржала. Пушки с обверченными соломой колесами, без звука заняв указанные места, снялись с передков. В их интервалы медленным густым строем стала продвигаться пехота. Суворов, окруженный штабом, появлялся то здесь, то там, ободряя подходившие полки, наставляя офицеров и перебрасываясь шутками с солдатами.
— Немогузнайки, вежливки, краснословки могут оставаться в резерве, — говорил он. — Недомолвки, намёки и бестолковки на подмогу к ним поступят — а мы, братцы, вперед…
— Пилаву, ребятушки, турецких орехов вон там вам припас! — говорил он, указывая на выдвигавшиеся из темноты очертания крепости.
— Ишшо рано, ваше сиятельство! — отвечали из ближних рядов.
— Врешь, Кострома, — шутил граф своим бойким, лапидарным слогом. — Голодному есть, усталому на коврик сесть, а бедному дукатов не счесть!
— Го–го–го! — любовно и радостно отвечал сдержанный смех по солдатским, уходившим в потемки рядам.
Войско без выстрела подошло и построилось в ста саженях от крепости. Суворов начал было речь к ближайшим:
— Храбрые воины! Дважды мы подступали, в третий победим… — да махнул рукой — ну, мол, их, красные слова, — и только прибавив Платову: — Так постарайся же, голубчик Матвей Иванович! — дал знак начинать. На ближнем бастионе заметили русских. Там поднялась суета, раздались крики «Алла!» — им ответили громким «Ура!». Грянули первые нестройные ружейные и пушечные выстрелы. Миг — и земля кругом застонала от залпов осветившихся в пороховом дыму холмов и батарей.
С первым щелканьем картечи, брызнувшей по нашим рядам, егеря и казаки, таща лестницы, бросились к стенам. Глубокий ров, до половины залитый болотистою, вонючею водой, остановил передовую шеренгу. Залпы с бастиона освещали площадь и ров, где произошло это замедление. Суворов уж подтянул поводья кабардинца, хотел помчаться туда.
— Охотники, за мной! — громко крикнул кто‑то впереди замявшихся.
Смотрю: размахивая новенькой, незадолго выписанной из Пешта шляпой, побежал ко рву мой недавний сожитель по палатке, секунд–майор Неклюдов, которому гадала цыганка.
— Прочь лестницы — грудью, братцы, ура!
Он первый вскочил в ров, ближние — за ним. Вон они уж на той стороне. Втыкая копья и штыки в насыпь, атакующие шеренги стали взбираться на вал. Егеря внизу осыпали выстрелами амбразуры редута. В отблеске наших светящихся бомб и турецких рвавшихся ракет было видно, как мокрый, испачканный тиной Неклюдов быстро карабкался по откосу бастиона. Ворвавшись в редут, он охриплым голосом вскрикнул: «С Богом, соколики! Наша взяла!» — воткнул над стеной полковое знамя и упал навзничь. Новенькая треуголка скатилась по эскарпу редута; он ранен навылет в грудь из ближней турецкой батареи.
В шесть часов утра взошла на вал вторая колонна Лас–си. Первая Львова и третья Мекноба должны были ее подкрепить, но опоздали: Мекноб и Ласси одновременно и тяжело были ранены, впереди своих полков. Ласси мог еще командовать. С простреленной рукой он повел далее свой отряд и штыками взял несколько батарей за Хотинскими воротами.
На левом фланге было хуже. Кутузов пробился сквозь уличные завалы, сквозь картечь и ятаганы [27]янычар [28], предводимых братом крымского хана. Он овладел уж главным редутом, господствовавшим над этой частью города. Но сильный отряд сцаганов, поддержанный артиллерией и полком телохранителей сераскира, с распущенным зеленым знаменем, зашел ему в тыл и стал охватывать как Кутузова, так и соседнюю колонну, бывшую под начальством раненого в ту минуту Безбородко.
Победа ускользала из рук наступавших героев. Осыпаемые гранатами, бомбами и пулями, солдаты замялись, стали отступать. В это время был убит пулей командир пехотного Полоцкого полка Яцунский.
Молодой, русый, в светло–синей ряске, священник этого полка вскочил на разбитый бруствер, поднял крест и крикнул:
— Что вы, братья? Ранили вашего вождя! С Богом, за мной! Вот ваш командир!..
Он бросился в улицу; ближние роты — за ним, но опять бегут врассыпную назад. Полоса дыма рассеялась. Легли сотни. Синяя ряса священника виднелась в груде окровавленных тел.
В это время к Суворову подскакал знакомый мне адъютант Кутузова Кнох.
— Дальше нет сил наступать; просят подкреплений…
Он не докончил реляции. Осколок лопнувшей вблизи гранаты ранил его в плечо.
— Бехтеев, аптечку сюда, аптечку! — крикнул, обращаясь ко мне, Суворов. — Костоеда на пальцы треклятым изуверам! Да вот что… Поезжай‑ка к Кутузову и скажи: нет отступления! Я жалую его комендантом Измаила и уж послал курьера с вестью о взятии крепости…
— Благослови нас Бог! — ответил на переданное мною Кутузов.
Он потребовал к себе соседний Херсонский полк и, едва тот к нему направился, скомандовал новый отчаянный натиск, опрокинул янычар и телохранителей сераскира и на их плечах, кладя через ручьи и каналы портативные мосты, ворвался в пылавший со всех концов город. Я не мог двинуться обратно. Меня стиснули и повлекли наступавшие далее и далее батальоны.
Невдали с оглушающим треском и гулом взлетел на воздух пороховой подвал, взорванный турками под оставленным ими бастионом. У моста горела мечеть, из окон и дверей которой гремели выстрелы засевшей там горсти турок. В конце улицы поднимался громадный черный столб дыма от зажженной нашими калеными ядрами главной казармы.
Меня с лошадью прижали к мостовой ограде, трещавшей под натиском проходивших частей. С криками: «Ну‑ка его! Так‑то, жарь!» — и, стреляя на пути через мост, валила пехота, за ней артиллерия, казаки и опять егеря. Картаульные единороги и дальнобойные кугёрновские пушки снимались с передков, пешие расступались, и картечь с визгом хлестала по пустевшим, дымившимся улицам. Сзади через головы летели снаряды из казацких мортир. Еще взрыв, и еще пожар… Под Суворовым было убито две лошади. В восемь часов утра он сел на третью и при звуках труб с полками — Святониколаевским, Фанагорийским, Малороссийским, Гренадерским и Петербургским — прошел все предместья Измаила.
Началась перестрелка и страшная, беспощадная резня, на штыках и ятаганах, в улицах пылавшего со всех концов города.
Целые роты янычар и эскадроны спагов бросали оружие и, став на колени, протягивали руки, с искаженными от страха лицами моля о пощаде: «Аман, аман!» Суворов ехал молча, нахмуря брови, не глядя на них и как бы думая: «Сами захотели, пробуйте!» Остервенелые солдаты штыками, саблями и прикладами без сожаления клали в лужи крови тысячи поздно сдававшихся бойцов.
XI
Я почитал мою миссию к Кутузову оконченной. Его храбрый отряд выбил турок с указанных фортов и вошел в ближайшие улицы. Я подъехал к нему с целью узнать, что он прикажет дополнить к рапорту главнокомандующему. Михаила Ларионыча я застал у какого‑то сада. Прислонясь к корявому, дуплистому орешнику, он жадно пил добытую в соседнем колодце воду. Мундир на нем был расстегнут, обрызган грязью и кровью; коса расплелась; руки и лицо в пороховой копоти.
— Вон за тем огородом, видишь? — объяснял он, переводя дух, отъезжавшему Гуськову. — Бери взвод, роту… Не одолеешь, дай знать Платову…
Не успел он кончить — откуда‑то со страшным, сверлящим гулом и визгом налетел тяжелый снаряд. Что это было — граната, бомба или ядро? Перемахнув через сад, колодец и наши головы, снаряд обо что‑то хлопнул и, незамеченный глазом, унесся далее. Лошадь Гуськова взвилась. Смотрю, он побледнел, стал склоняться с седла. Из обнаженного снарядом белого колена хлестал струей кровавый фонтан. Мы бросились к раненому.
— Бехтеев! — крикнул Кутузов. — В арсенале, видишь, две башни? Наши пленные… Турки их режут… Бери бугцев — вон за огородом… Не опоздать бы, голубчик… Именем моим…
Я поскакал к указанному месту. Что передумалось в те мгновения, трудно изобразить. Не скажу, чтоб я не дорожил собственной жизнью; но Мне мучительно было мыслить, что меня убьют на пути и я не достигну цели. Свистевшие вправо и влево пули, разрывавшиеся здесь и там гранаты я считал направленными именно в меня. «Как? Мне не удастся оказать помощи? Эти несчастные и между ними, может быть, измученный голодом, цепями Ловцов…»
Я шпорил лошадь. Миновав один переулок, другой, я достиг огорода. Невысокий, рыжеватый и толстенький майор, тот самый, что спорил с Ланжероном об исходе войны, только что собрал рассеянную меж обгорелых избушек и дерев роту бугцев и с оторванной фалдой, подняв шпагу в обмотанной чем‑то, окровавленной руке, стал выводить солдат в опустелую, застилавшуюся дымом улицу.
— Изверг ты рода человеческого! — кричал майор, с выпяченными на веснушечном лице сердитыми глазами, обращаясь к плечистому, длинному, сконфуженно и робко шагавшему через грядки фельдфебелю. — Турчанка в шароварах ему, изволите видеть, понадобилась! Баб им, треклятым иродам, давайте! Сласти всякие, перины, чубуки! А ты прежде, распробестия, службу, а тогда и в задворки…
Подскакав к майору, я передал ордер Кутузова.
— Что ж, берите! — бешено крикнул он в досаде и на меня. — Матушкины, тетушкины отлички! Все с налету–с! — продолжал он, озираясь на ходу. — Ты верой–правдой, а у тебя из‑под носа…
Столб дыма и земляных комьев, как исполинский косматый куст, вдруг с треском вырос между грядок. Осколками разорвавшейся бомбы были замертво скошены и сердитый, в веснушках, ругавшийся майор, и длинноногий сконфуженный фельдфебель. Офицеров в роте больше не было. «Стройся, сомкнись! — скомандовал я, слезая с лошади. — Левое плечо вперед, через плутонг, скорым шагом… марш!» Я повел роту к арсеналу.
Любовь к жизни, страх за жизнь с новой, еще большею силой загорелись во мне. «Нет, меня не убьют и не ранят!» — думал я, шагая улицей, загроможденной обломками разрушенных и гудевших в зареве пожара зданий, трупами врагов и своих.
Где‑то вправо трещала раскатистая, частая перестрелка мушкетов; ближе, за клубами Дыма, летевшего поперек улицы, слышалась турецкая команда и настигающие волны близкого русского ура. Команда и крики смолкли; очевидно, дело пошло на штыки.
Рота, предводимая мной, вышла на опустелую, обставленную каменными зданиями площадь. В глубине ее виднелся с двумя башнями, обнесенный сквозной оградой арсенал. На столбах и выступах ограды висели трупы казненных. Среди площади догорал костер, и над ним на копьях торчали обгорелые, без носов и ушей, живьем замученные пленники. Один из страдальцев еще двигался.
— Видите, братцы? Вот каковы изверги! — крикнул я.
— Не выдадим, выручим остальных — подхватили егеря.
Я разделил роту на две части. Одну выстроил под прикрытием мечети, другую послал в обход арсенальной ограды. Надо было пройти площадь, на которую с незанятого русскими берегового редута с нашим появлением стали ложиться снаряды. Резерв вдвинулся в переулок. Остальных я повел двором, прилегавшим к арсеналу. На площади послышался конский топот. За решеткой, показалась кучка наших всадников, скакавших в направлении к редуту. Впереди них мне бросился в глаза, на небольшой караковой лошадке, в блестящем мундире, гвардейский офицер. «Ужли опять он?» — подумал я, пораженный встречей.
— Опоздали, графчики, — проговорил возле меня левый фланговый. — Наши и пить турке не дадут…
Я оглянулся. Со двора было видно, как на зеленые откосы речного редута, точно муравьи, посыпались, поднимаясь выше и выше, самойловские егеря. Злое чувство еще злее сказалось во мне к обидчику, не желавшему дать мне сатисфакции. «И вот в то время, — подумал я, — когда эта горсть храбрых, не щадя себя, стремится исхитить от лютой гибели мучимых братьев, он спокойно гарцует, поспешая к лаврам, добываемым чужими руками. Ему бы, фанфарону, в ломбер теперь играть… Ловцов, друг мой! — прибавил я мысленно, взглядывая на окна арсенала. — Предчувствуешь ли ты, кому суждено тебя спасти?»
Толпа зейбеков, засев в окнах и на башенных крышах, стала осыпать нас выстрелами. Мы ворвались в арсенальный двор. У ворот лежал с отрубленными руками старик монах, захваченный при последнем отступлении Гудовича. На крыльце валялась обезглавленная болгарка–маркитантка. Возле был брошен, надвое рассеченный, обнаженный ребенок. А в двух шагах от него, на углях, в чугунном горшке, варился пилав с бараниной и кипел в котелке кофе.
Вид истерзанных мучеников остервенил солдат. Не слыша команды, они бросились к внутренним водам. Поражаемые пулями, падали, стремились встать и опять опускались. По ним, напирая друг на друга, бежали задние ряды. «Но кто же из них убьет меня? — думалось мне при виде свирепых бородатых лиц в чалмах и фесках, выглядывавших то здесь, то там и в упор стрелявших из‑за прикрытия. — Чей выстрел, чья пуля сразит меня и навек остановит мое так бьющееся сердце?»
В узкие окна правой башни повалил дым. Изнутри ясно слышались русские вопли: «Горим, горим!» — «Наши! Касатики! — гаркнули солдаты. — Лестницу, решетки ломать!» Егеря потащили от сарая какие‑то жерди.
— В крайнее левое целься, бей на выстрел! — закричал я, бросившись к тем, которые стреляли из‑за крылечного навеса. Я думал этими выстрелами прикрыть ладивших и поднимавших к башне лестницу.
Но мои мысли странно и резко вдруг прервались. Поднятая со шпагой правая рука бессильно повисла. В глазах все завертелось и спуталось: жерди, солдаты, клубы дыма, повалившего из окна, обезглавленная болгарка на крыльце и разрубленный надвое курчавый обнаженный ребенок.
Я, как помню, пробежал несколько шагов и, с жаждой воздуха, победы, жизни и общего счастья, ухватясь за сдавленную и вдруг как‑то страшно переставшую дышать грудь, бессильно и жалко, будто тот же ребенок, упал на чьи‑то протянутые, в продырявленных и стоптанных сапогах, ноги. Мне почудилось, а может быть, я впоследствии о том слышал от других и принял это за действительность: двор арсенала огласился громким, перекатистым «ура». Из‑за башни гудел топот быстрых, подбегающих ног. «Мой резерв», — подумал я, замирая в сладком забытьи.
Догадка моя оправдалась. Турки были сломлены и все до одного переколоты. Пленных спасли.
Не стану рассказывать, как я был поднят и доставлен на берег, на перевязочный пункт. Своим спасением я был обязан морякам Рибаса, взявшим город со стороны реки.
— Ну, как чувствуешь себя? — спросил меня кто‑то в лазаретном шалаше, едва я очнулся от лихорадочного бреда.
Он, друг и товарищ детства, Ловцов, был передо мной. Я не верил себе от радости, хотел говорить, но меня остановили. Лекарь, перевязавший раздробленную в локте мою руку, сильно опасался, от чрезмерной потери крови, за исход моего лечения.
Раненых некуда было девать. Вид их страданий разрывал душу. У одного был наискось рассечен череп, мозг выглядывал из‑под окровавленных русых волос. У другого осколком гранаты была прострелена грудь: в отверстие раны было видно трепетавшее бледно–розовое легкое. Хорошенькому темноволосому адъютанту Мекноба, который в Яссах пленял всех, танцуя с молдавскими красавицами чардаш, отняли по колено ногу. Душный запах крови наполнял открытый с двух концов оперативный шалаш.
— Одначе держались и турки! — объяснил за мной Ловцову выбившийся из сил лекарь. — Каплан–Гирей вывел пятерых сынов: всех их доконали платовские казаки; он последний свалился на трупы детей… Тело сераскира насилу распознали в груде крошеного мяса…
— А сколько всех турок убито? — спросил лекарь подъехавшего штабного.
— Убито больше двадцати трех тысяч; в том числе насчитано шестьдесят пашей… Взято двести пятьдесят пушек и до четырехсот знамен.
— Кто же тебя освободил? — успел я спросить уж вечером, в больнице, Ловцова. — Как это было? Ну, объясни, кто взломал дверь, кто вошел первый?.. Ты знаешь, ведь… судьба…
Он медлил ответом.
— Да не стесняйся… я вел, ох знаю… И все‑таки…
Он склонился к моему изголовью, оправил мне волосы, постель. Исхудалое, бледное, обросшее бородой, его лицо было сумрачно, важно. В глазах виднелись слезы.
— Спас нас Тот, — сказал он. — Кто и тебе даст спасение. Он один… Ему одному…
— Да о чем ты?
— Помнишь, в ту ночь, в лагере — в палатке, — прошептал Ловцов, пригинаясь ко мне, — припомни, я говорил тебе, ручался… Ах, Савватий, все время в страданиях, в плену, я думал… Ее обманули, она неповинна ни в чем.
Я горячо пожал руку Ловцову. Отвечать не имел сил. Тысячи терзаний подступали к сердцу, и я искренно жалел, что не был в тот день убит наповал.
— Что делать с городом? — спросили Суворова по взятии Измаила.
— Дело прискорбное и — помилуй Бог! — моему сердцу зело противно, — ответил он. — Но должна быть острастка извергам в роды родов… Отдать его во власть, на двадцать четыре часа, в полное распоряжение армии…
Добычи было захвачено солдатами в Измаиле больше чем на два миллиона. Солдаты носили в обоз жемчуг рукавицами. Во многих русских селах долго потом встречались арабчики–червонцы, персидские ковры и шелки.
Граф Александр Васильевич послал фельдмаршалу в Яссы рапорт о штурме: «Российские знамена на стенах Измаила». Государыне он отправил особое донесение: «Гордый Измаил пал к стопам вашего величества».
Наутро в Измаиле, в церкви греческого монастыря Святого Иоанна, пелся благодарственный молебен. Умерший от раны генерал Мекноб был похоронен рядом с убитыми Вейсманом и Рибопьером.
Шесть дней очищали город от трупов и обломков сгоревших и разрушенных канонадой зданий. Раненых разместили в двух уцелевших кварталах. Был пир на корабле у Рибаса. Гремел гимн: «Славься сим, Екатерина». Салютовали пушки.
Спустя неделю генералитет и прочее начальство пировали в квартире Павла Сергеевича Потемкина. Здесь Суворов узнал от племянника светлейшего о сдержанных, хотя и благосклонных на его счет, выражениях в реляции Таврического императрице о штурме Измаила. Более ж всего его обидело то, что решили далее к Стамбулу не идти и что князь послал с донесением в Петербург не кого‑либо из действительно заслуживших эту порученность, а брата своего соперника, графа Валерьяна Зубова. Суворов, по обычаю, смолчал, но выразил свой достойный гнев иным присущим ему способом.
— Шут, блюдолиз, двуличка, виляйка, — напустился он вдруг на своего слугу Бондарчука, служившего за обедом у Павла Сергеевича. — Дистракция, субординация! Подаешь не по чинам. Высока лествица воинского чиноначалия. С них начинай, — указал он на сидевших в конце стола обер–офицеров. — Им и карты в руки, а мы с тобой здесь капральство, последние…
Встав из‑за стола, Суворов отдал генералам последние распоряжения, велел опять привести себе простую казацкую лошадь, велел Бондарчуку вздуть свою походную кадильничку и окурить себя ладаном, надел бараний тулуп и верхом в сопровождении слуги отправился обратно в Галац, куда его фанагорийцы шли на зимние квартиры. В лазаретах развились повальные горячки. Больных стали вывозить в соседние города. Я этого уже не помнил, так как заболел из первых. Между офицерством тогда пошла по рукам и читалась тайком в палатках сатира острослова Павла Дмитриевича Цициянова: «Беседа российских солдат в царстве мертвых». Здесь в разговоре убитых на войне солдат, Двужильного и Статного, была изложена весьма едкая критика на бывший штурм и на Потемкина.
Встреча победителя Измаила с фельдмаршалом произошла в конце декабря того же, 1790 года. О ней мне впоследствии передал Бауэр.
Желая пристойными почестями салютовать подчиненного себе вождя, Потемкин решил принять к тому подобающие меры. Он послал в Галац фельдъегеря с приглашением Суворову, буде он кончил должное по времени года расквартирование войск, явиться к нему в Яссы.
В ожидании именитого гостя князь Григорий Александрович распорядился изготовить для мужской и дамской части своей свиты парадный обед с певчими и с вечерним, нарочито приспособленным балетным спектаклем; город же велел украсить флагами, иллюминацией и триумфальными, из декораций, воротами.
Расставя от въезда в Яссы и вплоть до своей квартиры нарочных махальных, Потемкин препоручил адъютанту Бауэру доложить, лишь только генерал–аншеф покажется на улицах города. Тот засел в зале, откуда дорога была видна на версту.
Суворов между тем спутал все эти затеи и предположения. Его ждали в приличном его званию и летам рессорном калеше, а он прибыл на паре фурлейтских, и притом ночью, в рогожаной, аки бы поповской, долгуше. Упряжь была в шорах, но веревочная. На запятках сидел в польском жупане с вылетами престарелый инвалид, на козлах — кучер в широкополой молдаванской шляпе и в овчинном, до пят, балахоне. Рано утром из самобеднейшего арнаутского квартала генерал–аншеф тем же цугом двинулся к разукрашенной резиденции светлейшего.
Сметливый Бауэр угадал ожидаемого гостя как по странной форме ковылявшей рогожаной долгуши, так и по необычному хлопанью в княжеских воротах кучерского длинного бича. Он предупредил фельдмаршала.
Князь Григорий Александрович бросился из комнат на парадное крыльцо, но не успел сойти и с первых ступеней, как увидел уже перед собой Суворова.
— Чем я могу, сердечно чтимый Мой друг, Александр Васильевич? — сказал он в искреннем волнении, обнимая графа. — Чем должен наградить вас за ваши заслуги?
— Друг, друг? — заспешил, вбегая с оглядкой на крыльцо и закашливаясь, Суворов. — Нет, ваша светлость! Что же, помилуйте–с… Я не купец и не приехал с вами торговаться… Не идти далее? Прочь Стамбул? Ну, шабаш… А кроме Бога и моей всемилостивейшей монархини, никто наградить меня не может, никто…
Князь изменился в лице. Отступя, он сказал только:
— От тебя ли слышу? — Но видя, что гость молчит, обернулся и молча пошел в залу.
Там Суворов вручил ему формальный о ходе дел рапорт. Светлейший не взглянул в бумагу.
— Публика верхнего парламента не одобрит? Министерия в суете и колеблется дальше идти? — спросил, гордо выпрямляясь и зажмурив глаза, Суворов. — Мужайтесь, князь… Не придворные наветы… ваш гений… История помянет вечным признанием ваши труды…
Фельдмаршал, не слыша его, глядел в окно. Сделав по зале несколько неровных, колеблющихся шагов, Потемкин и Суворов молча расстались и более в жизни не виделись.
В январе следующего, 1791 года граф Суворов по зову императрицы явился в Петербург. Государыня приняла его среди первых лиц двора, отменно внимательно, и пригласила его к столу…
— Где желаешь, батюшка граф, быть наместником? — спросила Екатерина за тостом в честь его побед, поставя здесь же в лавровом венке выписанный из Англии бюст нашего политического пособника, оратора Фокса.
— И, матушка царица, — ответил, склоня голову, граф. — Ты слишком любишь своих подданных, чтоб наказать мною какую‑либо провинцию. Я чудак, мальчишка, Алкивиад! Знаю тысячу гримас, проказ… Родился от мушкета, дай и кончить жизнь солдатом.
Потемкин, разгневавшись в Яссах на Суворова, уж более ему не прощал. Самый вызов победителя Измаила в столицу ему не нравился. Он высказался против пожалования Суворову фельдмаршальского жезла и предоставил ему, за славный подвиг, только чин подполковника Преображенского полка.
В феврале светлейший также поехал в Петербург, как выражался, с целью вырвать больной зуб.
В конце апреля он устроил для императорского дома свой знаменитый пир в Конногвардейском, впоследствии Таврическом, дворце, где, в торжество покорения Измаильской крепости, предполагалось представить государыне пленных пашей. Присутствие в столице главного виновника достигнутой победы стесняло князя. За три дня до этого праздника Екатерина будто невзначай сказала на вечернем собрании в эрмитаже Суворову.
— Я вас, батюшка Александр Васильич, препозирую в Финляндию, для осмотра и укрепления тамошних границ. Что скажете на это?
Суворов молча припал к руке императрицы, у коей от невольной алтерации красные пятна выступили на щеках. Возвратившись домой, он послал за почтовыми, сел в тележку, доскакал в одну ночь до Выборга и утром оттуда послал с курьером государыне письмо: «Жду повелений твоих, матушка!»
Там — до времени — графа и оставили.
XII
Четырехлетняя, предпринятая с толикими надеждами и силами война с Турцией завершилась почти ничем. Поддержанная Англией, Голландией и Пруссией, опасавшимися возрастания России, Оттоманская Порта отвергла мирные условия русских и решилась продолжать войну. Репнин, оставленный на Дунае Потемкиным, 27 июля 1791 года разбил визиря наголову под Мачином. Через три дня после этой победы он заключил окончательный с Турцией мир. Австрийский император подписал с Портой мирный договор позднее, в августе, в Систове.
Россия потеряла много людей и денег, а гора родила мышь: мы остались при том же, чем начали. «La guerre est une vilaine chose monsieur!» [29]- писала Екатерина Вольтеру [24] о турецкой войне.
Недолго затем здравствовал светлейший. Рубеж исполинского шествия к славе был им пройден. Он не мог легко пережить разбитых вдребезги гордых мечтаний своих и обожаемой монархини. Новая Восточная система, великая мысль восстановления древней Византийской империи должны были кануть с того времени в реку забвения. Молва язвила его, будто он стремился длить войну с целью освободить Молдавию и Валахию и, сняв с них турецкое ярмо, сделаться со своим потомством их всевластным и независимым от России господарем.
Из Петербурга Потемкин выехал раздраженный и убитый духом, тем более что не успел сломить и грозного ему возрастания партии Зубовых. Перед выездом он занимался разными приметами, толковал предчувствия, сны. Прибыв в Яссы, князь заболел молдавской злою лихорадкой и уж более не поправлялся. Он вспоминал столичные пиры, жалея, что не вдоволь ими насытился, так как вдруг получил странное убеждение, что доживает последние дни.
Случился притом весьма печальный, имевший на князя неотразимое влияние казус. В августе в Галаце скончался покровительствуемый им генерал, брат супруги цесаревича, принц Виртембергский. На отпевании принца Потемкин вышел из церкви туча тучей. Больной и утомленный давкой и духотой, он в рассеянности вместо своих дрожек сел на траурные гробовые дроги, поданные для покойника. Воображение его было этим так потрясено, что он лишился сна и стал на себя не похож. Постоянная взволнованность и несоблюдение диеты вызвали нервическую горячку. Князь рвался к своей любимой Новороссии…
Подписав дрожащею рукой инструкции Самойлову, он в сопровождении своей племянницы, молодой графини Браницкой, и правителя канцелярии Попова выехал чуть живой в Николаев. В сорока верстах от Ясс он почувствовал приближение кончины.
Было теплое, тихое осеннее утро.
Светлейший стал безмерно метаться и тревожиться. Со словами: «Теперь некуда больше ехать… Стойте! Хочу умереть в поле!» — он велел вынести себя из кареты. На траве из казацких дротиков и ковров устроили шатер, возле наскоро разостлали белый фельдмаршальский плащ князя. Он обратил взор на безоблачное небо, обнял подаренный государыней походный образок Спаса, проговорил: «Прости, милосердная мать–государыня!» — и тихо скончался на руках плачущей красавицы — графини Браницкой.
Узнав о смерти светлейшего, Суворов прослезился и сказал: «Се человек — образ мирской суеты! Помилуй, Бог!.. Беги от него, мудрый! А что до наших замыслов о Турции, не мы исполним высокую задачу — наши внуки, правнуки…»
С другими больными и ранеными на штурме Измаила меня препроводили в конце декабря 1790 года в Галац. Я пришел в полное сознание и стал оправляться лишь в начале февраля. Подживление раздробленной руки, задержанное горячкой, пошло успешнее с весенним воздухом и теплом.
Квартировал я в небольшом уютном домике невдали от опустелой квартиры Суворова. Дунай освободился от льда. Наступил март. Кто выздоравливал, спешил на почтовых и по реке на родину, откуда так редко в то время доходили вести. Я давно не имел писем от матери.
Пользуясь разрешением прогулок на воздухе, я пробирался, с забинтованной рукой, на берег, садился у пристани и, в ожидании срочных австрийских судов, весьма неаккуратно развозивших почту, по целым часам глядел в синюю даль, думая о родине и обо всем, что я в ней оставил.
Однажды — это было перед вечером, — тщетно прождав или проглядев почтовый парус, я пришел, утомленный, на квартиру, велел поставить самовар, сел у окна в кресло и заснул. Мне грезилась Гатчина, отпускавший меня великий князь–цесаревич, мать, советовавшая забыть изменницу, усадьба Горок, Ажигины. Долго ли спал я, не знаю, только почувствовал, что меня будят. Открыл глаза — передо мною денщик Якуш из родных владимирцев.
— Что тебе? — спросил я, неясно различая в примеркшей комнате его лицо.
— Ваше благородие спрашивают, — как‑то странно озираясь и вполголоса ответил обыкновенно невыносимо басивший Якуш.
— Кто?.. Да говори же, ах! Что там?
— Письмо–с, — проговорил он, подавая пакет.
«Уж не хватил ли через край с хозяйкой ракии? — подумал я. — От родителей! — добавил я в мыслях, вскрывая пакет. — Наконец‑то, после столь долгих ожиданий. Здоровы ль они, дорогие, и знают ли, что мы скоро увидимся, что моему пребыванию на Дунае вот–вот конец?»
Поднеся письмо к окну, еще освещенному лучами заката, я стал его читать, протер глаза, опять взглянул в бумагу и чуть ее не выронил.
Письмо было за подписью обер–камердинера его высочества Ивана Павловича Кутайсова; но, разумеется, сочинено не им, а кем‑либо из приближенных к государю цесаревичу сановников. Во всяком же случае, по его слогу прошлось перо и более высокой особы.
Так в то время писывались цидулы не к одному из осчастливленных службой при великом князе Павле Петровиче. Вот его копия.
«Господин, его высочества гатчинских морских батальонов бывший мичман Бехтеев! Вы и вдали от нас, в походах и в битвах с неверными, паче ж всего прочего при славном штурмовании измаильской сильной фортеции, где притом тяжело и ранены, — не уронили чести знамени, коему служите. Оправдав во всем, как подобает достойному российскому гражданину, возлагавшиеся на вас веления начальства и надежды всех, знающих ваш нравственный квалитет, вы не пошли по стопам хлебоедцев, токмо вертящихся на пирушках и в контратанцах, и тем дали прежнему вашему ближайшему командиру приятный долг — утруждать о вас вселюбезнейшую нашу и свято чтимую всеми государыню, родительницу его высочества. Генерал–аншеф граф Суворов благосклонно поддержал о вас аттестацию. А посему спешу тебя, старый знакомец, обрадовать: вы вчера произведены, не в пример прочим, в секунд–майоры и получили анненский третьей степени крест, а сегодня назначены, с соизволения и по мысли графа Александра Васильича — буде ваше здоровье то дозволит и в том изъявите довольство — командиром второго батальона бугских стрелков, с коими вы столь мужественно отбили в оной фортеции российских, военного и статского званий, пленников. А теперь скажу тебе конфиденциально и некую приватную просьбу. Государь–наследник и великая княгиня, его супруга, навели точные и несомненные справки о поступившей пепиньеркой в воспитательный, для круглых сирот, дом вашей знакомке, достойной девице из дворян, Прасковье Львовне Ажигиной. Великая княгиня узнала ее редкий, чистый нрав и высокие добродетели. Госпожа Ажигина ни перед Богом, до перед тобой ни в чем не повинна. Случай с нею был особливо фатальный и против ее воли. Прости ее, как она сама, столько претерпев, простила в душе своего оскорбителя. Забудь все, и да не зайдет солнце в гневе твоем. Господин секунд–майор и кавалер Бехтеев! Две некие высокого ранга ведомые вам персоны просят вас принять пропозицию сватов и не отказать в руке бывшей вашей невесте. Господь да благословит ее и тебя, голубчик, на многие лета и долгое счастье. За сим есьм, впрочем, всепокорный и отменно готовый к услугам вам, Иван Кутайсов. Гатчина, марта второго, 1791 года». Приписка: «А подателем сего, угадаешь ли, кто вызвался быть?»
— Где? Где? — вскрикнул я, не помня себя, опрометью бросаясь к двери.
В стемневшей, тесной Гренке что‑то в дорожной, темной и смятой одежде прошумело от порога и с воплем повисло у меня на груди. Я обхватил, прижал исхудалую, безмолвную гостью, привлек к окну дорогое заплаканное лицо, силясь прочесть на нем мою радость, счастье…
— Прости меня, Саввушка, — проговорила, обнимая меня, Пашута. — Я тебя никогда, никогда не переставала любить.
Свадьбу мы сыграли в мае, в Горках, куда мне дали полугодовой, для поправления здоровья, отпуск. Туда приехали и мои родители. Великий князь Павел Петрович прислал в презент новобрачной чайный, севрского фарфора, сервиз, а мне в миниатюре весьма схожий, на слоновой кости, свой портрет. Отец благодаря заступничеству Потемкина успел окончательно спасти наше имение от захвата старого графа Зубова и был в отменном духе. На свадебном бале он танцевал гавот [30]с моей тещей. Мать, узнав невестку, охотно с ней примирилась, а с моей тещей дружески сыграла пять партий в макао и в модный тогда гаммой. После бала сожгли фейерверк в саду у грота над прудом. Веселье было на целый уезд.
Во время иллюминации Пашута взяла меня под руку и неприметно для прочих провела верхними аллеями к дому, где на цветочной площадке я в памятную тяжелую ночь, едучи на Дунай, обломал и выдернул посаженный нами когда‑то дубок.
— Вот он, — сказала Пашута, подведя меня меж сиреневых и розовых кустов к середине площадки. — Он цел! Я нашла его тогда утром, вновь посадила и вырастила моими слезами и молитвами о тебе…
Прошло девять лет. Я был вполне счастлив с Пашутой. Какая это была жена и мать, и как я ее любил!
В последний год царствования незабвенного для меня, рыцарски возвышенного и столь мало оцененного современным миром императора Павла я был произведен в премьер–майоры и вскоре назначен командиром Фанагорийского полка. Покоритель Измаила уж отошел в вечность.
Как истый россиянин, я решил поклониться праху бессмертного, всеместного победителя и, кстати, отвезти из Бендер в кадеты в северную столицу, где так давно не был, старшего, восьмилетнего, моего сына Сергея, на память коему впоследствии я озаботился стать сочинителем и сей истории. Соверша оную поездку, я мнил самую близость моего жизненного разрушения соделать безмятежною и мирною.
Был март 1801 года. Прибыв в Петербург, я осмелился искать счастья представиться императору Павлу, для чего и записался в приемной графа Ивана Павловича Кутайсова. Петербург стал неузнаваем. Вместо пышности — простота, вместо веселья, карт, попоек — служба, суровость, дисциплина, тишина. Новые лица властвовали, новые партии складывались…
Государь не замедлил назначить мне аудиенцию. Это было в недавно отстроенном Михайловском дворце [25]. Я не узнал Павла Петровича. Куда делся светлый, как бы окрыленный взор, некогда стремившийся к Дунаю вслед за суворовскими орлами? Куда делись легкая, статная походка и этот в бархатном колете всадник, скакавший на своем белом Помпоне по мирным гатчинским садам? Передо мной был озабоченный, в суровых морщинах и приметно поседевший от ранних, немолчных тревог венчанный делец.
— Полковник Бехтеев! Очень рад! — сказал император, приветливо поднимаясь навстречу мне от груды бумаг. — Рад видеть старого гатчинца. Ну, как живешь, что семейство, жена?
Тут усталые, когда‑то живые и ясные глаза Павла Петровича засветились знакомою мягкою улыбкой.
— Ты счастливее меня, — проговорил он, выслушав мои ответы на ряд быстрых, отрывистых вопросов.
После некоторых воспоминаний о Гатчине и о суворовских походах в Италию и Францию государь задумался, тревожно прошелся по комнате и, пристально взглянув на меня, произнес:
— Бехтеев! Я знаю о твоей поездке в Париж.
Я почтительно склонился.
— Ты дельный, исполнительный человек. Понадобишься мне. Не забуду тебя, пришлю за тобой.
Тем первое свидание кончилось. Дня через два за мной явился курьер. Тот же благосклонный прием и то же обнадежение высокой милостью. Покончив чтение какой‑то присланной от канцлера бумаги, государь подошел к окну, взглянул на Летний сад, видневшийся из дворца, и по некоторой паузе изволил промолвить, что посылает с повелением к наказному атаману войска Донского Орлову с изготовленными дополнительными планами и маршрутами к Инду и Гангесу… [26]
Я ушам своим не верил. Величие и смелость решенного, почти легендарного предприятия ошеломили, подавили меня. Глубоко тронутый доверием и новою милостью монарха, я возвратился на…
Здесь «Записки Бехтеева» прекращаются. Конец рукописи был, очевидно, впоследствии кем‑то оторван и, сколько о том ни старались, не найден нигде.
Посетив В***ю губернию, я осведомился о поместье, принадлежавшем в прошлом веке роду Ажигиных. Деревня Горки существует и доныне и находится во владении Петра Сергеича Бехтеева, внука автора здесь приведенных мемуаров.
Еще бодрый, румяный, с седыми усами и с такою же окладистою бородой шестидесятилетний старик, Петр Сергеич, узнав цель моего заезда, принял меня очень радушно. Я попал в Горках на семейный праздник, а именно — на день рождения семилетней внучки хозяина, Фленушки.
Виновница праздника была, очевидно, любимицей всей семьи. Познакомясь со мной, она подвела меня к двум фамильным портретам, изображавшим красивую, в напудренной, высокой прическе сухощавую даму и добродушного, полного, с красным отложным воротом и одним эполетом мужчину.
— Это моя прабабушка, а вот ее муж! — сказала быстроглазая, коротко остриженная и живая Фленушка, взглядывая сбоку, какое впечатление произведут на меня ее слова. — Прадедушка был добрый, а она… злюка.
— Почему? — удивился я.
— Она… Ах, нет! То не она, а другая прабабушка! Та бросила жениха и не любила кошек… А вы любите?
— Этот ребенок так все замечает и ничего не боится! — поспешила мне объяснить, отводя меня, мать Фленушки. — Представьте, недавно я призвала управляющего и говорю — выкосите в саду на полянах траву; там много ящериц, Флена увидит и еще испугается. А она тут же запустила руку в фартук и мне в ответ: помилуйте, мама, у меня уж два дня вот живая ящерица в кармане, и я ее кормлю сахаром.
— Сущая, кажется, Пашута, — сказал я.
— Кто это?
— Да ее прабабушка, — ответил я, разглядывая портрет напудренной дамы.
Семья Бехтеевых, как и весь это точно забытый временем угол, была очень симпатична и своеобразна. Каменный старинный дом с цветными изразцами печей, с семилоровыми часами, с отделанной в бронзу мебелью и венецианскими, в стеклянных рамах, зеркалами так и веял прошлым веком. Говорили о начавшейся войне с турками, о переходе Дуная и Балкан. Сын хозяина, отец Фленушки, был в действующей армии, писал о Тырнове, о Шипке [27]. О нем говорили сдержанно, робко. Известий от него давно уж не было. На мой вопрос, как кончил жизнь Савватий Ильич, мне ответили, что он был убит под Бородином [28]. Его сын Сергей, отец нынешнего владельца Горок, служил в двадцатых годах во флоте и умер в Италии, раненный в Наваринском бою [29].
Существования привезенных мной записок никто не подозревал. Их чтение было устроено в портретной, в кругу всей семьи. Я и невестка Петра Сергеича, бывшая смолянка [30], читали вслух по очереди. Старинные портреты, работы Тишбейна, Левицкого [31] и их учеников, как живые, приветливо глядели из потемневших фигурных рам.
После первых глав рукописи Фленушка засуетилась, сбегала куда‑то и, принеся свежий дубовый листок, молча положила его передо мной. Выслушав конец записок, она принесла фарфоровую разрисованную чашку.
— Я не знала прабабушки, — сказала она. — Какая она добрая! Теперь я никогда, никогда…
— Не бросишь жениха? — спросил внучку, с густым, простодушным смехом, дед. — А вот ты лучше покажи гостю Дунюшкин сундук…
Девочка молча прижалась к матери.
Дунюшка полвека сряду была слугой в этом доме и в ее сундуке, оставшемся десять лет назад после ее смерти, хранились между разным хламом семейные бумаги Бехтеевых, связки писем, лечебники, травники и пр. Флена любила рыться в кладовой в этом сундуке, разобрать документы которого хозяева все откладывали.
В тот же вечер вся семья собралась к чаю на цветочную площадку под дубом. На чайный стол был поставлен жалованный, с пастушками и амурами, севрский сервиз. Толковали о Потемкине, Суворове, о Екатерине и Павле.
Освещенный ярким летним багрецом на маковке и сбоку от пруда, столетний, снизу стемневший дуб далеко простирал свои ветви над помнившей давние, забытые годы семьей.
1876 г.
КОММЕНТАРИИ
ГРИГОРИЙ ПЕТРОВИЧ ДАНИЛЕВСКИЙ (1829-1890), пожалуй, один из самых читаемых исторических писателей дореволюционной поры. Литературная деятельность его началась в 1846 году. Стихи, рассказы, очерки из украинского быта сразу принесли ему известность, но подлинное признание пришло после опубликования романов о жизни крестьян — «Беглые в Новороссии» и «Воля» (1862-- 1863). С конца 1870–х годов Данилевский полностью переходит к исторической теме. Один за другим появляются его романы: «Мирович» (1879), «Княжна Тараканова» (1883), «Сожженная Москва» (1886), «Черный год» («Пугачевщина»; 1888-1889). Скрупулезное знание материала, умение воссоздать быт эпохи, занимательность сюжетов, легкость языка обусловили чрезвычайную популярность книг Данилевского. Проявлением любви народа к писателю стало открытие ему в 1962 году памятника в селе Пришиб Балаклеевского района Харьковской области.
Печатается по изданию: Данилевский Г. П. Соч.: В 24 т. Т. 12. СПб.: Изд. А. Ф. Маркса, 1901. (Прилож. к журн. «Нива» за 1901 г.)
[1] …империи Палеологов! — Палеологи — последняя царствовавшая в Византии династия. Родоначальник ее, Михаил Палеолог, в 1259 г. занял никейский престол, а в 1261 г. и константинопольский. Последним императором из этой династии был Константин XII, убитый в 1453 г. при взятии Константинополя турками. Племянница Константина — София Палеолог была замужем за великим князем московским Иваном III.
[2] …Смольного монастыря… — Смольный (Воскресенский) женский монастырь в Санкт–Петербурге стоит на берегу Невы. Основан Елизаветой Петровной на месте ее летнего дворца. В 1764 г. обращен в институт благородных девиц.
[3] …у Николы Морского… — Никольский Морской (Николо–Богоявленский) собор. Построен архитектором Чевакинским в стиле барокко с элементами традиционной русской архитектуры (1753-1762) на месте Морского полкового двора. Ныне это действующий кафедральный собор.
[4] ..Аглицкой набережной… — Набережная на левом берегу Большой Невы, между Адмиралтейской и Ново–Адмиралтейской набережной. Вела к Галерной верфи. К концу 1730–х гг. застроена «сплошною фасадою»: появляются дом Капниста, Румянцев–дом, Лаваль–дом, Струков–дом, дома Воронцова–Дашкова, Демидова и Куракина. В 1814 г. построена Английская церковь.
[5] Аничков двор. — Имеется в виду Аничков дворец в Санкт–Петербурге. Построенный в 1745 г. по проекту архитектора Растрелли, являлся собственностью государя.
[6] …к Летнему саду. — Памятник садово–паркового искусства первой трети XVIII в. Находится в самом сердце Санкт–Петербурга, на левом берегу Невы, на острове, образуемом реками Мойкой, Фонтанкой и Лебяжьим каналом. Здесь — Летний дворец Петра I. Украшен многочисленными скульптурными группами, статуями, бюстами. В 1825 г. архитектором Шарлеманем создана изумительная по красоте чугунная ограда.
[7] ..знаменитый Бецкий… — Иван Иванович Бецкий (1704-1795) — государственный деятель времен Екатерины II. По его проекту учреждены Смольный институт и воспитательные дома в Москве и Петербурге. Составил проект народного образования в России.
[8] Дмитревский Иван Афанасьевич (1734-1821) — актер и основатель русского театра. Вместе с Книппером устроил народный театр на Царицыном лугу. Написал историю русского театра. Автор трагедий и комедий.
[9] …знаменитой княжнинской трагедии… — Яков Борисович Княжнин (1742-1791) — автор комедий, трагедий в стихах, опер, мелодрам, басен.
[10] …искусству Мельпомены… — Мельпомена — муза трагедии, покровительница театра. Ее атрибуты — корона, скипетр, палица, кинжал и трагическая маска.
[11] …Калинкиной деревней. — Местность в низовьях реки Фонтанки, где в XVII‑XIX вв. находилась финская деревня Кальюла, или Каллина (на русский лад — Калинкина).
[12] …Ричардсона, Дидерота, Дефо… — Самуил Ричардсон (1689- 1761) — английский писатель, автор нравоучительных и сентиментальных романов («Кларисса Гарлоу», «Памела»); Дени Дидро (1713-1784) — французский энциклопедист; Даниэль Дефо (1661- 1731) — английский писатель, автор книги «Жизнь и приключения Робинзона Крузо».
[13] …Казанскую церковь… — Речь идет о Казанском соборе в Санкт–Петербурге, возведенном в 1811 г. по проекту архитектора Воронихина.
[14] Отряд Гудовича… — Иван Васильевич Гудович (1741-1820) — граф, генерал–фельдмаршал. Одержал ряд побед в ходе русско–турецких войн. При Александре I — главнокомандующий на Кавказе, а потом в Москве.
[15] …бессмертного Миниха… — Бурхард Христофор Миних (1683- 1767) — граф, государственный деятель и полководец. Вызванный Петром Великим в качестве инженера, построил в его царствование Ладожский канал. В 1732 г. возведен в генерал–фельдмаршалы, назначен президентом Военной коллегии.
[16] Алексей Андреевич Аракчеев (1769-1834) — граф, друг императора Александра I. Имел большое влияние на внутреннюю политику России (в духе крайней реакции). С 1808 г. военный министр. Основатель военных поселений.
[17] Агамемнон — царь Микен, предводитель греков в Троянскую войну. Один из любимейших героев древнегреческого эпоса. В «Илиаде» описана его ссора с Ахиллесом.
[18] Низринул Иова, превознес Иосифа! — Само имя «Иов» означает «истерзанный», но его судьба была такова, что чаще всего к нему применяют слова «многострадальный» и «благочестивый». По смыслу своей жизни, полностью отданной Богу, по глубине веры, не сгибающейся в испытаниях, Иов — первый святой великомученик из числа запечатленных Библией. Иосиф, по библейской мифологии, был продан братьями в рабство, после долгих злоключений стал править Египтом.
[19] …некрасовцев. — Последователи Игната Федоровича Некрасова (ок. 1660-1737), донского казака, сподвижника К. А. Булавина. После поражения Булавинского восстания с двумя тысячами казаков ушел на Кубань. Посылал на Дон воззвания и совершал набеги на территорию Украины.
[20] …короля Георга Третьего (1738-1820). — Английский король с 1760 г., один из вдохновителей английской колониальной политики.
[21] …коварный и скрытный Питт… — Имеется в виду Питт Вильям Старший, граф Четам (1708-1778). Английский государственный деятель, в 1766-1768 гг. — премьер–министр Англии.
[22] …контр–адмирал Рибас. — Де Рибас Осип Михайлович (умер в 1800 г.), итальянец по происхождению, русский адмирал. За помощь, оказанную им графу Алексею Толстому при поимке Таракановой, принят в 1772 г. на русскую службу. Под его руководством выстроен порт в г. Одессе.
[23] …граф Ланжерон. — Александр Федорович Ланжерон (1763-1831) — граф, генерал, по происхождению француз. Участвовал в войне за независимость Северо–Американских Штатов. В 1789 г. эмигрировал в Россию. Участвовал в войнах со Швецией, Турцией и в Отечественной войне 1812 г. Управлял Новороссийским краем, способствовал развитию Одессы. В его честь названа дачная местность под Одессой.
[24] …писала Екатерина Вольтеру… — Франсуа–Мари–Аруэ Вольтер (1694-1778) — французский писатель, имевший огромное влияние на умственное развитие Европы, поборник веротерпимости и свободы, автор поэмы «Генриада», многих драм, пародий, сатир, философских и исторических сочинений. Находился в переписке с Императрицей Екатериной II.
[25] …в недавно отстроенном Михайловском дворце. — Построен архитектором Бренна в 1797-1800 гг. в стиле классицизма. Назван в честь Архангела Михаила, которого Павел I — владелец замка — считал своим небесным покровителем. В марте 1801 г. в стенах своей резиденции Павел был убит заговорщиками. В 1819 г. в замке разместилось Главное инженерное училище, и он стал называться Инженерным.
[26] …к Инду и Гангесу… — Реки в Индии (Синди и Ганг).
[27] …о Тырнове, о Шипке. — Населенные пункты в Болгарии, получившие известность благодаря блестящим победам русских войск, одержанным в борьбе с турками (1877).
[28] …убит под Бородином. — Бородинское сражение — крупнейшее в период Отечественной войны. Состоялось 26 августа 1812 г. в селе близ Можайска.
[29] …в Наваринском бою. — Наварин (древний Пилос) — портовый город на юго–западе Морей. Здесь русско–англо–французские войска одержали в 1827 г. победу над египетско–турецким флотом.
[30] …бывшая смолянка — воспитанница института благородных девиц, основанного в 1764 г. в помещении Смольного (Воскресенского) монастыря в Санкт–Петербурге.
[31] …Левицкого… — Левицкий Дмитрий Григорьевич (1735-1822) — художник–портретист екатерининской эпохи.
ХРОНОЛОГИЧЕСКАЯ ТАБЛИЦА
1739 год
Сентябрь [31]- в семье небогатого дворянина, отставного майора Александра Васильевича Потемкина, в его имении — сельце Чижеве близ Смоленска, родился Григорий Александрович Потемкин.
1746 год
Смерть отца.
1751 год
Отдан на обучение и воспитание в Смоленскую семинарию.
1755 год
Определен в дворянскую гимназию при только что открывшемся Московском университете; записан рейтаром в лейб–гвардии конный полк
1761 год
Зачислен в действительную службу вахмистром лейб–гвардии конного полка.
1762 год
28 июня— день государственного переворота, доставившего корону Екатерине II. Вахмистр Потемкин произведен в подпоручики.
1771 год
Начало переписки Г. А. Потемкина с императрицей Екатериной II.
1773 год
4 декабря— нахождение под Силистрией при ее осаде русскими войсками.
1774 год
Назначен генерал–адъютантом; пожалован орденом Святого Александра Невского.
Получил чин генерал–аншефа; назначен вице–президентом Военной коллегии.
Назначен новороссийским генерал–губернатором.
1783 год
Высочайший манифест о присоединении Крыма, Тамани и Кубани к России.
Основан Севастополь — любимое детище Потемкина.
1784 год
2 февраля— произведен в генерал–фельдмаршалы; назначен президентом Военной коллегии; назначен генерал–губернатором Крыма; пожалован титулом светлейшего князя Потемкина–Таврического.
1785 год
Составлен штат Черноморского адмиралтейства и флота. Потемкин назначен главнокомандующим Черноморским флатом.
1787 год
1 января— начало высочайшей поездки императрицы Екатерины II на Юг России.
Потемкин пожалован кайзер–флагом по его званию главнокомандующего Черноморским флотом.
1788 год
6 декабря— штурм и взятие Очакова.
Потемкин пожалован орденом Святого великомученика и победоносца Георгия 1–го класса и шпагой, украшенной алмазами, в 60 тысяч рублей.
1789 год
Сентябрь— русские войска под главнокомандованием Потемкина взяли крепости Гаджи–бей (впоследствии — Одесса) и Аккерман.
1791 год
14 октября— смерть Г. А. Потемкина на пути из Ясс в Николаев.
1836 год
В Херсоне открыт бронзовый памятник Потемкину (скульптор Мартос).
1873 год
Открыта мемориальная доска в честь Потемкина в церкви Святой Екатерины города Херсона.
1
Маленькая гостиная в доне богатой женщины для приема наиболее близких гостей.
(обратно)2
Прямоугольный двор, сад, окруженный крытой колоннадой.
(обратно)3
Камлот — плотная грубая хлопчатобумажная или шерстяная ткань из черных или коричневых нитей.
(обратно)4
Церковный высший священнослужитель, в православии — архиерей.
(обратно)5
Чрезмерная фамильярность, бесцеремонность в обращении.
(обратно)6
Садитесь, если хотите, и там, где вам понравится.
Мы не будем повторять это сто раз ( фр.).
(обратно)7
Знаки различия на форменной одежде.
(обратно)8
В XV‑XIX вв. участники освободительной борьбы южнославянских народов против турецкого ига.
(обратно)9
Так что, даже, что (частица).
(обратно)10
Искусственные камни из хрусталя с примесью свинца.
(обратно)11
Вспомогательная фортификационная постройка для усиления внутренней обороны.
(обратно)12
Шитая золотом или серебром тесьма для украшения одежды, мебели.
(обратно)13
Фут — единица длины в системе русских мер; равен 0,3048 м.
(обратно)14
См.: Пыляев М. И. Старый Петербург.
(обратно)15
Крупный бриллиант, вправленный в перстень, брошь.
(обратно)16
Хорошо, батька, я пойду в лагерь и порасспрошу казаков.
(обратно)17
В православных церквах — возвышение перед алтарем, с которого произносятся проповеди.
(обратно)18
Так проходит слава мира.
(обратно)19
Кусочки бумаги, позднее ткани, резины для накручивания волос при холодной завивке.
(обратно)20
Упаси Бог! ( фр.)
(обратно)21
Зависимое, подчиненное лицо, приспешник.
(обратно)22
Отпетые мошенники ( фр.).
(обратно)23
«Туфли для княгини Потемкиной!» ( фр.)
(обратно)24
Легкое подвижное существо в образе женщины, являющееся олицетворением стихии воздуха.
(обратно)25
Типы судов в парусном флоте.
(обратно)26
Украшение из перьев на головном уборе и конской сбруе.
(обратно)27
Рубящее и колющее оружие.
(обратно)28
Турецкая регулярная пехота, созданная в XIV веке.
(обратно)29
«Война — это такая гадость, месье!» ( фр.)
(обратно)30
Старинный французский танец.
(обратно)31
Все даты приводятся по старому стилю.
(обратно)
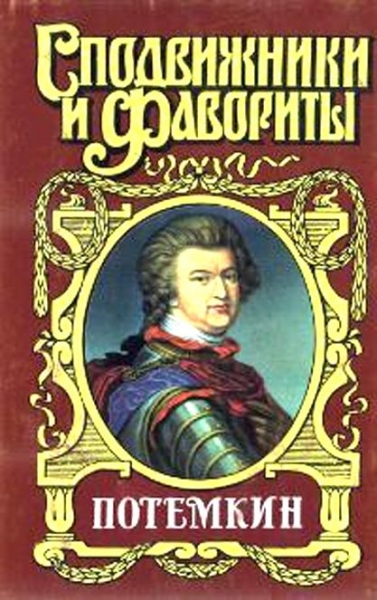
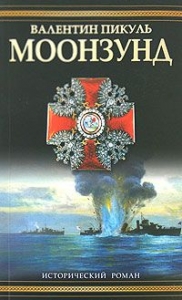



Комментарии к книге «Князь Тавриды. Потемкин на Дунае», Николай Эдуардович Гейнце
Всего 0 комментариев