Гиви Карбелашвили Пламенем испепеленные сердца
Роман
От автора
Кем-то из народных мудрецов сказано: лучше уговор на пахоте, чем распри в страду. Потому-то я хотел бы предпослать моему роману несколько слов, чтобы кое о чем договориться с читателем заранее.
Первое и главное — перед читателем роман, созданный на исторической основе, а не история, преподнесенная в форме романа. Роман не претендует на хронологическую последовательность и научную точность, ибо автор не ставил перед собой такой цели. Историческая наука — это одно, художественное произведение — другое. По моему глубокому убеждению — да и не только по моему, — художественное произведение на историческую тему начинается там, где, собственно, кончается история.
Правда, в последнее время в грузинской литературе возникли новые формы исторической прозы, исторического романа, но у их авторов свои цели и средства, у моего романа — свои.
Несмотря на вышесказанное, описанные в романе события политической и государственной жизни взяты из истории Грузии и охватывают почти полувековой период царствования Теймураза I, хотя это отнюдь не означает, что последовательность изложения событий, их перспектива в точности совпадает с каким-либо сложившимся курсом или учебником или же с теми или иными представлениями о прошлом Грузии, взглядами на того или иного деятеля описанного времени. Кстати сказать, сами исторические источники и существующая научная литература нередко по-разному трактуют одни и те же события и порой весьма спорны в смысле фактической точности. Более того, летописи и хроники нередко обходят молчанием или оставляют без разъяснений множество исторических фактов и событий. Поэтому в романе есть эпизоды, подтверждения которым вы не найдете ни в одном документе, рядом с известными в истории лицами живут и действуют вымышленные персонажи.
Все это, разумеется, не означает, что в романе искажена действительность. Историческое повествование, конечно, не должно вносить диссонанс в дела давно минувших дней, искажать дух политической и социальной Жизни взятого периода, но при этом нельзя не считаться и с правами авторского воображения, диктующего героям те или иные шаги, поступки, мысли, если они соответствуют правде описанного в романе отрезка истории.
И вторая важнейшая оговорка: если в романе не всегда точно соблюдается хронологическая последовательность исторических событий, то каждый узловой момент или реальный исторический факт, связанный с деятельностью главных героев романа, непременно опирается на историю.
Необходимо также пояснить негрузинским читателям следующее: с XIII века в Грузии начались бедствия, началась эра падения, чуть ли не исчезновения грузинской государственности с лица земли. Татаро-монгольские нашествия раздробили, превратили государство в мираж, разрушили экономику, подавили культуру… Не успели грузины оправиться от татаро-монгольских нашествий, как Восточную Грузию прибрала к рукам и обложила тяжелыми пошлинами шахская Персия, а Западную Грузию — султанская Турция.
Негрузинскому читателю романа необходимо знать и то, что территория Грузии разделена Лихским хребтом на две части: Восточную и Западную Грузию. В описанный период в Восточной Грузии было два феодальных царства — Картлийское (со столицей в Тбилиси или Гори)[1] и Кахетинское (со столицей Греми, превращенной шахом Аббасом в руины, а затем — Телави). В Западную Грузию входило одно царство — Имеретинское (со столицей Кутаиси) и три княжества — Гурийское, Мингрельское и Абхазское. Главными героями романа являются Теймураз и его мать Кетеван — правители Кахети.
Лейтмотив романа — начало русско-грузинских отношений, повествование о тех истинно патриотических акциях, которые предпринимали царь Теймураз I и его мать, царица Кетеван, во имя спасения отчизны. Их преданность вере и идее спасения Грузии именно с помощью единоверной России стала тем магистральным путем, в начале которого стоял кахетинский царь Александр и по которому твердо пошел вслед за ним Теймураз, его внук, пожертвовавший во имя этой идеи матерью, тремя сыновьями и собственной жизнью.
Традиционный путь, которым шли многие правители Грузии — спасение страны на основе разногласий между шахской Персией и султанской Турцией, — был явно несостоятельным и безнадежным. Без активного сопротивления экспансии двух тираний грузинский народ не смог бы избежать физического уничтожения.
Оценивая личность Теймураза как политического деятеля, и поэта тоже, нельзя согласиться с теми, кто слишком узко, без учета перспективы, рассматривал его деятельность и не смог оценить по достоинству стремления кахетинских деятелей к союзу с Россией как к единственному средству спасения нации. Людей, не понимавших, упрямо не желавших понять эти патриотические устремления, было в те времена больше чем достаточно…
Нельзя без глубокого уважения сейчас относиться к тем далеким нашим предкам, которые, не щадя себя, жертвовали всем ради сближения Грузии с Россией. Ценою этих неисчислимых жертв была спасена Грузия.
Да, путь на север был тяжелым и долгим и вызывал гнев и ярость непримиримого врага, а отнюдь не «доброго соседа», каковым временами прикидывался и каковым считали его иные — в том далеком прошлом у Грузии был один «добрый сосед», преданный соратник в борьбе с персами и османами — многострадальный армянский народ.
Автор далек от идеализации политики царской России. Более того, в романе ясно показываются ее захватнические устремления, но только внутренняя слепота может помешать писателю или критику отличить султанскую или шахскую политику по отношению к Грузии от политики царского самодержавия. Основной целью первых было перерождение грузинского народа, его порабощение и насильственное обращение в свою веру — магометанство. А если это не удавалось, пользовались вторым испытанным способом — выселением грузин и заселением их исконных земель другими народами и племенами. Был еще и третий путь перерождения народа, когда масса людей вместе с землей предков отсекалась от родины и переходила под власть султана. Спасти эту отторгнутую часть Грузии — Аджарию — удалось опять-таки с помощью России, и только России, спустя столетия.
Грузинский народ не мирился ни с одним из способов порабощения и продолжал бороться, хотя борьба эта стоила ему нескончаемого кровопролития и угрожала национальной катастрофой. Экспансионизм же самодержавия не ставил целью уничтожение нации. Более того, хотел царизм этого или не хотел, великая Россия на грузинскую землю принесла прогресс.
Если начиная с XIII века экономика, культура и просвещение в Грузии были на грани упадка (в конце XVII века лишь единицы из княжеских отпрысков получали примитивное домашнее образование), в XIX веке после присоединения к России грузинский народ получил возможность развивать свою древнюю культуру, приобщаться ко всему передовому. Мудрость Александра, дальновидность и твердость Теймураза и самопожертвование Кетеван заложили основу спасения нации от физического истребления, возвращения страны на путь экономического и культурного возрождения.
Да, русская культура, русский язык открыли бескрайние просторы способностям и талантам грузинского народа. Вот что писал родоначальник грузинской педагогической науки, великий сын Грузии Якоб Гогебашвили:
«Знание русского языка — огромное благо для каждого кавказца, ибо он предоставляет им возможность быть равноправными гражданами великого государства, впитать в себя богатую русскую культуру и чувствовать себя в огромной родине так, как в собственном доме».
Именно благодаря титаническим усилиям, сопряженным с муками и страданиями, Теймураза и Кетеван, благодаря мудрости и неустанным стараниям лучших представителей последующих поколений, было достигнуто русско-грузинское единение, которое положило конец бесчисленным бедам Грузии, в результате чего уже в начале XIX века были заложены основы возрождения грузинского театра, начала грузинской прессы, оживления издательского дела. На почве сближения с русской культурой выросла блестящая плеяда мыслителей, во главе которой стояли Илья Чавчавадзе, Акакий Церетели, Важа Пшавела, Григол Орбелиани, Александр Чавчавадзе и другие. Логическим следствием борьбы и мук великих предков было зарождение научной мысли, у колыбели которой стояли Якоб Гогебашвили, Нико Николадзе, Иванэ Джавахишвили, Андро Размадзе, Петрэ Меликишвили, Дмитрий Узнадзе и многие другие, подготовившие впоследствии почву для создания первого грузинского научно-педагогического храма — Тбилисского университета.
Именно усилия славных и далеких зачинателей русско-грузинского единения были с благодарностью оценены еще в XIX веке великим сыном грузинского народа Ильей Чавчавадзе, который благоговейно, всенародно заявил о мудрости русской ориентации Александра, Теймураза, Кетеван и других предков:
«Для чего скрывать: мы безусловно любим нашу родину, любим и Россию. Это так естественно, так ясно, что легко понять по существу — Россия спасла нашу страну от уничтожения, она и сегодня спасает ее от повторения былых мук и страданий…»
Георгиевский трактат, который был заключен между Россией и Грузией в 1783 году, 24 июля, явился результатом более чем векового тяготения Грузии к России. Известно, что царизм не всегда протягивал руку помощи своему подопечному, за что и хватались «благожелатели» народа, у которых и поныне имеются юродивые наследники. Но кто думает, кто говорит, что царизм был для Грузии благодетелем, кто изобразил царизм сеятелем добра? Какой мыслящий человек мог бы требовать от царизма выполнения каждого пункта трактата, непреходящий, поистине великий смысл которого заключается в историческом сближении двух народов? В этом сближении огромная заслуга наших предков и самого трактата, а с царизмом, с его экспансионистскими, хищническими повадками и тиранией боролась и сама Россия — Россия Пушкина, Грибоедова, Лермонтова, Герцена, Добролюбова, Белинского, Чернышевского, Некрасова. Да, с присоединением Грузии к России грузинский народ, против воли царизма, стал на путь прогресса, и вторжение полчищ Ага-Мохаммед-хана в 1795 году было последним вторжением иноземцев в Грузию, ибо грузинская территория с начала XIX столетия больше никогда не была полем брани и местом разгула южных соседей. Это — историческая правда.
Сведущий читатель обратит внимание на то, что образы царя Теймураза I и его матери Кетеван в романе трактуются по-новому.
Если до сих пор Кетеван изображалась далекой от земных забот великомученицей, то здесь ее образ осмыслен по-иному. Сегодня нам ясно, что подвижничество это было рождено ее же политической мудростью и дальновидностью. Для царицы Кетеван, выдающейся государственной деятельницы того времени, христианство было не целью, а важнейшим оружием в борьбе за спасение Родины.
Царь Теймураз, деятельность которого проходила в непрестанных трудах и сражениях во имя создания единой Грузии и спасения ее от гибели, не мог при жизни разрешить стоявшей перед ним проблемы так, как того хотели он сам и его народ, но бесспорно, что шах Аббас не смог одолеть ни Теймураза, ни его непокорной страны. В романе Теймураз наделен теми неотъемлемыми чертами характера, без коих он не сумел бы заставить шаха Аббаса признаться в предсмертной исповеди: «Двоих не сумел победить — Теймураза и смерть».
Георгий Саакадзе принес в жертву родине сына Паату. Теймураз же — мать, царицу Кетеван, своего первенца Левана, второго сына Александра и младшего Датуну, а затем и самого себя. Смертельный поединок между Теймуразом и Георгием Саакадзе, являющийся исторической реальностью, был вызван не притязаниями кого-нибудь из них на престол и не личной неприязнью. Объяснять их непримиримую, бескомпромиссную борьбу и ее кульминацию — Базалетскую битву — социальными причинами значило бы упрощать, а правильнее — извращать проблему. Нет, в лице этих двух выдающихся деятелей столкнулись две концепции спасения родины, две политические ориентации, два пути: один — намеченный Теймуразом и нацеленный на Россию, а другой — замысел Георгия Саакадзе объединить, укрепить Грузию, опираясь на шахско-султанские противоречия и разногласия. Второй путь был, как показала история, бесперспективным. Всякий раз, когда Грузия делала усилия к объединению, шахская Персия и султанская Турция — два непримиримых соперника — находили общий язык и всячески препятствовали объединению страны.
Именно на основе данной исторической правды, в соответствии с реальным анализом фактов прошлого, и трактуется в романе образ Георгия Саакадзе. Такая трактовка образа, разумеется, не означает принижения его личности.
Автор надеется продолжить рассказ об историческом пути русско-грузинского сближения, ибо убежден, что правильное художественное осмысление прошлого, заботливый уход за корнями великого древа единения двух народов будет способствовать развитию и совершенствованию того братства и единства, которые на современном языке именуются миром, дружбой, интернационализмом.
Гиви Карбелашвили
Посвящается светлой памяти славных сынов отечества, с далеких времен пролагавших пути единения Грузии с Россией.
Мать непокоренных
В ту ночь царь не сомкнул глаз. То ложился, не снимая одежд, на покрытую оленьей шкурой тахту, то присаживался к столу и глядел на чистый пергамент, тщетно теребя в пальцах гусиное перо. Потом снова вставал, прохаживался по залу медленно, неторопливо. Выходил на балкон и отрешенно смотрел на Алазанскую долину[2] освещенную звездами, на осиянные лунным светом вершины Кавкасиони.
Потом снова возвращался, прислушиваясь к проникавшему сюда через открытые двери и окна мрачному безмолвию ночи, которое было таким влекущим в детстве и отрочестве и которое, казалось, так резко изменилось с тех пор, как он взошел на престол.
Сегодня его особенно угнетала, душила своей непостижимой тайной тишина, время от времени вспарываемая криком совы или воем шакала… Этот вой упорно напоминал ему плач голодных детей кахетинских крестьян-беженцев, которые скрывались в лесу от охотившихся за ними кизилбашей[3]. Он слышал этот плач, возвращаясь из Имерети, когда в сумерках ехал Гареджийским лесом, куда враг, по пятам преследовавший беженцев, все же не посмел сунуться. В этом ночном безмолвии особенно явственно слышался протяжный вой, терзавший царя, истомленного бессонницей.
С третьим криком петухов царь попытался вздремнуть, хоть на время рассеять мучительную тревогу, передохнуть, но ничего не получалось: терзаемая невеселыми мыслями, голова непрестанно гудела, как взбудораженный пчелиный рой.
…Тяжким был каждый день его царствования, каждый час, но после смерти царицы Анны — дочери князя Гуриели — лишь раз испытал он такую страшную муку, когда воинство озверевшего шаха Аббаса саранчой накинулось на Кахети и Картли. Шах забрал тогда в Персию картлийского царя Луарсаба, брата Лелы — любимейшей из своих трехсот жен, — а Теймураз укрылся по ту сторону Лихского хребта ·, нашел приют у имеретинского царя Георгия. Вконец взбешенный тем, что упустил Теймураза, шах предал Кахети огню и мечу, но, умиротворенный покорностью Луарсаба, пощадил Картли, не тронув ее пальцем в назидание бунтующим кахетинцам. Шах сначала попытался обратить шурина в свою мусульманскую веру, но так ничего и не добившись, велел умертвить спящего Луарсаба именно в ту ночь, когда сам предавался наслаждению с его сестрой — признанной в его гареме первой и любимой женой…
Шах умел изощренно унижать, вдохновенно истязать людей, особенно же был жесток с близкими, ибо именно их, больше чем других, подозревал в измене. Люто ненавидел он грузин за их несгибаемую волю, острый ум, душевное благородство и ту завидную прозорливость, которая часто помогала им находить путь к спасению в самых, казалось бы, безнадежных случаях жизни. Шах Аббас, бабушка которого, по преданию, была грузинкой, хорошо знал цену мудрости этого народа и, чтобы сокрушить его волю, пускал в ход самое изощренное коварство.
Нелегко было Теймуразу править Кахети. Вот теперь третья беда обрушилась на него, а поскольку для истерзанного бедами человека каждое последующее несчастье тяжелее предыдущего, царь не находил себе места…
…В нечеловеческих муках простилась с жизнью супруга царя — умная, красивая, чуткая, но на редкость своевольная царица Анна. Именно это своеволие, упрямство и погубили ее. Разрешившись от бремени вторым сыном Александром, царица стала страдать зобом. Пользовали ее многочисленные лекари, придворные и пришлые, но безуспешно. Сорок дней она глотала сухие корки хлеба и запивала чачей[4], внушая себе, что острые края корок вскроют зоб, а водка очистит рану. Близкие давали другие советы, но она никого не слушала, с самим царем не считалась. Уединившись в летних покоях на вершине горы, даже новорожденного видеть не пожелала — пусть, мол, привыкает к сиротству, — почти теряя сознание, сказала она царице Кетеван, своей свекрови. Как-то поздней ночью призвала она придворного лекаря и приказа вскрыть зоб, ни у кого не спросясь. С тем и сошла в могилу.
Воспитание царевичей Левана и маленького Александра взяла на себя царица Кетеван, пожалела отдать детей в чужие руки. И послов от Гуриели выпроводила с отказом из Гремского дворца. «Для отроков отцовская земля предпочтительней материнской», — холодно отчеканила она. Не доверила она сирот и новой царице, наследнице картлийских Багратиони, сестре Луарсаба Хорешан, с которой обвенчался Теймураз в годовщину смерти первой супруги: хоть и смотришь ты на них ласково, все одно когда-нибудь обернешься для них мачехой.
Искушенная в придворных интригах, привыкшая к обоснованным и необоснованным подозрениям, дедопалг дедопали[5] не забывала и о том, что Хорешан была сестрой загубленного Луарсаба, который сначала поддержал сопротивление Теймураза шаху Аббасу, а потом пытался доказать шаху свою преданность — но тщетно! Кетеван боялась, что Хорешан все-таки таит в сердце обиду на Теймураза за то, что он пусть и не по своей вине, но не выгородил ее злосчастного брата, и злой дух, шах Аббас, в любую минуту мог использовать эту обиду, чтобы разжечь кровную вражду в очаге кахетинских Багратиони… Все это внушало тревогу царице цариц, мудростью своей постигшей порядки, а скорее беспорядки пресыщенного жестокостями Востока…
…Замыслив присоединить Картли к Кахети, Теймураз породнился с арагвским Зурабом Эристави[6], выдав за него дочь свою Дареджан.
Тем временем у Хорешан родился сын. У двух братьев появился третий — Датуна. Это пригасило недоверие Кетеван к невестке: «Любовь к родному сыну обязательно смягчит ее сердце и к пасынкам», — подумала она.
Глухая тишина залегла на некоторое время между Греми и Исфаганом. Шах заподозрил неладное, а скорее всего донесли ему на Теймураза: в ту пору, как, впрочем, и всегда, Кахетинский и Картлийский дворы кишмя кишели верными псами восточного владыки, лазутчиками и соглядатаями, готовыми в любую пору дня и ночи, не задумываясь, продать честь свою за пожалованный шахом халат или какую-либо безделицу. И поспешили к шаху доносчики — дескать, Теймураз отправляет послов в Рим, с согласия Луарсаба у европейских христиан и папы римского просит помощи — войско и оружие. Потому-то в пути был убит патер Гвилеми, отправленный Теймуразом в Рим, и голова его была доставлена шаху как свидетельство вероломства кахетинского царя. Отрубленную голову восточные тираны издавна почитали драгоценным даром, признавали лучшим знаком победы над непокорными, неоспоримым доказательством верности, надежным способом запугивания недруга и своевременным предостережением друга. Из поколения в поколение, как потомственный завет предков, возведенный в непреложный закон, передавался этот дикий обычай — преподносить в дар голову врага.
Взбешенный неповиновением грузин, шах возгласил: или Картли и Кахети будут моими верными рабами, или я их сотру с лица земли. Возгласил и не преминул слово превратить в дело: напал на Кахети, загнал в леса и неприступные горы женщин и детей. Разрушил города и села, разграбил, разорил царство Теймураза. Тех, кто не успел скрыться от озверевшего тирана, шах забрал в полон и погнал, как скот, в Персию.
Позже, вместо злодейски умерщвленного Луарсаба, шах посадил на картлийский престол своего воспитанника Свимона. Правление же разоренным царством Теймураза, нашедшего пристанище при Имеретинском дворе, поручил Иса-хану, к которому приставил советником Давида Джандиери. Истосковавшийся в стране шербета по вину и чаче, невежа хан пристрастился к попойкам и увеселениям, а кахетинской землей правил Джандиери.
Эристави Зураб, будучи уже зятем Теймураза, пошел служить Свимону и усердно подстрекал его занять пустующий в ту пору кахетинский престол… Он надеялся, что бездарный Свимон не управится с двумя царствами, и тогда он, Зураб, приберет их к рукам. Зловредный и тщеславный по природе, наделенный недюжинным умом и холодным сердцем, Зураб прекрасно видел слабость и никчемность Свимона. Воспитанный при шахском дворе и воцарившийся в Картли Свимон не смог побороть одолевавшее его брожение грузинского духа: ничем не примечательный человек, получив престол, страдал от мучительного раздвоения: с одной стороны, его терзала кровная привязанность к своим, с другой — озлобляла необходимость верой и правдой служить и усердно изъявлять покорность шаху. Эта внутренняя борьба очень скоро стала очевидна и шаху, и всей Картли. Зураб одним из первых догадался о ней и стал внушать Свимону мечту об овладении кахетинским престолом, желая обострить его отношения с шахом, окончательно скомпрометировать в глазах повелителя, ослепленного «преданностью» придворных картлийского царя, и тогда… Тогда, возможно, шахиншах останется доволен тем, что смышленый Зураб убрал с дороги бестолкового Свимона. Таковы были думы и помыслы Зураба.
Еще в Имерети Теймураз получил весть об измене зятя и тут же уведомил Зураба о своем недовольстве. Раскусил коварство Эристави и Джандиери, — он послал гонца в Кутаиси: дескать, пожалуй в Кахети, царь-повелитель, шах теперь не так уж скоро вернется сюда. Пока он озабочен выяснением отношений с турецким султаном, вернись к царству своему, займи дедовский престол, и я по-прежнему буду служить тебе верой и правдой.
Джандиери уверял Теймураза, что и сам шах не таил зла против Теймураза, даже наказал: если Теймураз пожелает вернуться, пусть шлет ко мне гонца.
Скорбевший о разоренной Кахети, Давид Джандиери сулил покой Теймуразу, сам же висел на волоске. На праздник Алавердоба[7] собрал кахетинцев, поручил им вином и чачей напоить шахское войско, представлявшее главную силу Иса-хана. Организованные им кахетинцы одним ударом истребили кизилбашей всех до единого. Эта резня и послужила сигналом к кахетинскому восстанию. Теймураз поспешил на родину. До Арагви провожали его имеретинский царь Георгий, владыки двух княжеств — Дадиани и Гуриели…
Разгневанный дерзостью кахетинцев, шах послал в непокорную страну пятнадцатитысячное войско во главе с Али-Кули-ханом. В войске был один отряд шахисеванов.[8], который вошел в Картли, миновал Тбилиси и остановился в Цицамури, желая перерезать дорогу Теймуразу. Такова была воля шаха: если Теймураз снова попытался бы бежать в Имерети, именно здесь его должны были перехватить. Очень уж хотелось шаху заполучить ослушника живым!
Но не дремали грузины, которых немало было в отряде шахисеванов. Сообщили обо всем Теймуразу. А тем временем Эристави Баиндур сбивал с толку, морочил, как мог, Али-Кули-хана. Теймураз сам возглавил свое немногочисленное войско, скорым маршем прошел Тианети, переправился через Арагви, подкрался к кизилбашам, стоявшим у Цицамури, и одним ударом разгромил незваных гостей. Разбитый враг в панике повернул в сторону Тбилиси. Битва, длившаяся всего полдня, закончилась победой Теймураза…
…Теймураз возвратился в Кахети, рухнули планы Зураба, находившегося в ту пору в Персии, не сбылись надежды Свимона. Возвратился царь и не был обманут моурави [9] Кахети Давидом Джандиери: тот выказал похвальную преданность, пригласил законного владыку в прибранный по всем правилам дворец. Возвращение Теймураза заставило призадуматься Зураба. И была на это причина, веская причина, — получилось, что и Свимона провести не сумел, и Теймуразу не оказался верным зятем — не услужил ему. Позавидовал Зураб благородству и проницательности Давида, счел царя Картли Свимона выбывшим из игры и стал строить новые козни, понимая, что Теймураз лелеет мысль объединить Картли и Кахети, ибо без этого не добьется успеха на пути к сот зданию единой Грузии.
В крепости Схвило убил Зураб Свимона, гостившего у князя Амилахори. Отрубленную голову послал Теймуразу. Арагвский Эристави этим жестом хотел убить сразу не двух, а более зайцев — картлийский престол избавлял от бездарного правителя и, доказывая свою верность тестю, развеивал старую обиду, с новой силой разжигая в нем мечту о единой Грузии. Но и от своей тайной надежды не отказался… Арагвский Эристави знал, что шах не простит Теймуразу непокорства и объединения Грузии тоже не потерпит, а оглянувшись вокруг и не найдя сильных, надежных и верных ему людей, шах Аббас будет вынужден пригласить на службу Зураба, приблизить его к себе и возвысить до престола царского, Зураб все предусмотрел до мельчайших подробностей: убив Свимона, послал гонца к шаху — не гневайся, дескать, владыка мира, в доме Амилахори Свимон оскорбил тебя, и я убил его, угождая тебе, а голову послал Теймуразу, чтобы испытать его верность твоему могуществу.
Содрогнулся Теймураз — отрубленная голова была первой жертвой, принесенной на алтарь воссоединения Картли и Кахети. Содрогнулся, но молча принял ее, помирился с Зурабом и сделал его амирспасаларом [10] в походе против горцев, разорявших мирные села, — убивать, мол, он умеет, так пусть проявит себя, истребляет врагов, с тыла подтачивающих жизненные силы Картли и Кахети.
И снова овладело шахом бешенство. Из Исфагана дошли слухи, будто шах в убийстве Свимона Теймураза винит, — дескать, он натравил зятя на картлийского царя. Предупреждённый Зурабом шах проявил завидную мудрость: Зураба оставил в тени, будто он ни при чем, а Теймураза взял на прицел. Видя, что шах его не выдал; Зураб осмелел и стал хозяйничать в картлийских владениях, открыто главенствовать на правах первого визиря.
Зашевелились князья, склонили царицу Хорешан на свою сторону — Зураб-де твоего брата, Луарсаба, предал мужу твоему в угоду, а мужа запросто убьет в поисках милости разгневанного шаха. Иначе, мол, не миновать ему гнева шаха за то, что посмел поднять руку на его питомца, на Свимона. И сделал это Зураб, говорили тавады [11], чтобы обвести вокруг пальца Теймураза. И все это свершил именно тогда, когда шах ожидал стычки с турецким султаном и ему было не до Кахети. Но как только Зураб почувствует, что шах с султаном сговорились, он, мол, сразу постарается заручиться расположением шаха и угодить ему немедленным наказанием непокорного.
И еще сказали, для передачи царю, что в ночь убийства Свимона Зураб послал к шаху гонца с вестью: не гневайся-де, владыка мира, Свимона я убил за то, что он непочтительно отозвался о тебе в доме Амилахори, рассказывая за столом, будто потрясенная смертью брата Луарсаба Лела дала тебе, шахиншаху, пощечину.
Да, Эристави знал, что делал. Умел угождать и нашим и вашим…
Когда все это передали Теймуразу, он еще раз убедился в двуличии Зураба, но ничего не сказал, даже с супругой не поделился своими невеселыми, затаенными в глубине души мыслями. А история с оплеухой действительно вышла из стен шахского дворца — грузинки, обитательницы шахского гарема, через надежных евнухов в ту же ночь передали новость. Не забыли и подробностей: шах сначала застыл на месте от неожиданности, а затем повернулся и вышел. Однако после этого любовь и страсть к Леле не только не исчезла, но удесятерилась, весь, мол, отдался страстным утехам, а потом, значительно позже, вдруг совершенно охладел, велел убрать женщину с глаз долой, и в конце концов…
И много чего другого доносили Теймуразу… Однако он притворялся глухим, а к шаху отправил гонца со следующим предложением: в Картли набирают силу султанские холуи, послов от султана принимают. Если позволишь, я отобью у всех охоту заигрывать с твоим недругом, присоединю к себе Картли и поставлю на службу тебе.
Шах изобразил на лице одобрение, когда услышал заверения в преданности строптивого Теймураза, и в знак благосклонности, дававшей надежду на присоединение Картли, поставил кахетинскому царю тяжелое условие.
Именно это условие и сообщил царю вчера Давид Джандиери, которого он сам послал к шаху, ибо в кахетинском мятеже Давид участвовал тайно и в глазах шаха не был опорочен.
Именно это условие потрясло Теймураза, разбудило в его памяти недавние события, кошмаром давившие на разум и душу…
Рассвет входил в свои права.
Теймураз вышел на балкон, протер щемящие от бессонницы глаза, всей грудью вдыхая живительную утреннюю прохладу…
Солнце уже выплыло и нежно ласкало лучами Алазанскую долину, которая мягко сияла и переливалась, словно драгоценная свадебная парча.
Прекрасная, хоть и не ухоженная заботливой рукой землепашца, кахетинская земля благоухала. В воздухе разлит был запах горевшей в тонэ [12] сухой лозы, терпкий дух свежескошенного, собранного в небольшие копны сена, густой аромат сухих листьев ореха и инжира.
Теймураз ощутил чуть заметное мгновенное облегчение, но мысли снова бурным водоворотом закружились в голове, второпях перескакивая с одного на другое и не удерживаясь долго. Перед утомленным взором снова вставали отуманенные болью картины прошлого.
Аббас, палач Востока, начинал свой путь к величию с истребления христианских царств, прежде всего Грузии и Армении, хотя не щадил он и единоверцев, желая внушить подданным своим не столько любовь под страхом смерти, сколько безоговорочное и полное повиновение. Ослепленный собственным могуществом, он преднамеренно, с расчетом путал любовь с покорностью и ошибался, как и многие из восточных правителей, глубоко заблуждался в упрямстве своем, ибо страх рождает не любовь, а рабское повиновение и тайную ненависть. Тайная же ненависть, да еще при полной покорности, намного опаснее, страшнее, чем ненависть открытая, а то и поощряемая, которую легко обнаружить, а потому и обезвредить.
…Именно с целью защиты христиан от восточных сатрапов Теймураз, следуя завету предков и примеру своего деда Александра, обратился за помощью к русскому царю, хотя ощутимых результатов еще не дождался, ибо московский царь так же, как и папа римский, направил в Грузию для укрепления христианской веры священнослужителей, изволивших заметить недостатки грузинских церковников в деле богослужения и усердным красноречием призывавших к их исправлению. Теймураз с католикосом и без них знали все, но сегодня не это было для них главным. Мирная жизнь и покой сами по себе принесли бы и возвышение церкви, и возрождение просвещения. А заниматься сейчас, когда страна была разорена, упорядочением церковных ритуалов значило убить в народе благоговение перед церковью и уронить достоинство самого царя, что не принесло бы никакой пользы. Потому-то католикос не утерпел и довольно дерзко перебил почтенного священнослужителя: мы-де верны православию еще со времен величия Византии, а в пятом веке приобрели автокефалию на вечные времена… Хорошо еще, что Теймураз вовремя дернул первосвященника за полу, иначе тот мог бы больше сказать, отводя душу, распаленную бедствиями страны. Царь подавил душившее его недовольство: последней жизненной надеждой была единоверная Русь, и с этой надеждой всем грузинам следовало обращаться бережно, а католикосу тем паче, ибо несбывшаяся надежда все же лучше утраченной надежды. Человек же, лишенный надежды, — жалок, а народ — мертв.
Нет, не упорядочение христианского богослужения было первейшей заботой Теймураза. Главнейшей и первейшей заботой еще полного сил и энергии царя предвиделась воссоединение Картли и Кахети. В дальнейшем же он мечтал — сокровенно, в глубине души — о создании единой Грузии путем объединения разрозненных царств и княжеств. Свои мысли он держал в глубокой тайне, ибо многие до него пожертвовали этой мечте всем, вплоть до собственной жизни, как случилось и с картлийским царем Луарсабом, который с этой надеждой и явился к шаху: может, бог даст, шах вспомнит, что он брат его любимой жены, и пожалует ему покинутый Теймуразом кахетинский престол… Однако Луарсаб забыл, что и Теймураз приходился шаху шурином, и, хотя сестра Луарсаба считалась первой и любимой женой Аббаса, она все-таки была намного старше другой его жены — Елены, сестры Теймураза. И то не учел он, что восточные владыки, стремясь омолаживать гарем, избавлялись от постаревших жен. Это тоже упустил из виду картлийский царь.
Теймураз снова вспомнил сейчас те события, о которых ему тогда доносили…
…Возвращавшийся из Картли шах Аббас вез с собой картлийского царя Луарсаба и оказывал ему поистине царские почести в пути на глазах его свиты и своего войска, но стоило пересечь границу Персии, как шах вообще перестал разговаривать с картлийским царем и к столу своему его больше не звал. Взятый под стражу сразу же после прибытия в Исфаганский[13] дворец, Луарсаб нижайше передал шаху разрешить ему повидать сестру. На просьбу свою получил цинично-ханжеский ответ: христианин не может-де войти в гарем, пусть, мол, Луарсаб сменит веру свою и тогда увидит сестру… Отказавшийся принять мусульманство Луарсаб был заключён в темницу и через некоторое время умерщвлен во время сна.
К гибели Луарсаба некоторые князья и придворные тоже приложили руку, постарались — кто словом, кто делом: слали в Исфаган доносы без промедления. С незапамятных времен лучшие сыны народа, самозабвенно преданные отчизне, становились жертвой навета, ибо зависть и злоба, возведенные в жизненный закон, отличали если не всех, то большинство князей. Именно зависть и злоба знати приносила народу бедствия.
Народ обессилел, оскудел, все меньше колыбелей — аквани — качалось у домашних очагов, да и некому было ладить их, а шибаки [14] и вовсе исчезли — до них ли было людям? Земля зачастую оставалась невспаханной, скот издыхал или был угнан, редкостью стали соха и пахарь, хлеб родился скудно, без песен и вдохновения землепашца, виноградники полегли, винные кувшины — квеври — покрылись плесенью, не возводились дома — погасли известковые печи, вывелись плотники, и не только нарядный дедабодзи [15], но и простую балку некому было обстругать в кахетинских селах.
«А ведь говорил мне на преображенье Нодар Джорджадзе: узнает, мол, шах Аббас о твоих попытках сближения с Россией, и вновь сровняет Кахети с землей. Может, это даже и лучше, что русский царь начал сближение не с присылки войска, а сперва направил священников, — хочет узнать, кто мы, сколько нас, какой силой располагаем, чем ему можем сгодиться. Нет, царям спешить не след, тем более с войной. Терпеть, терпеть, но… доколе?!»
Теймураз передал шаху через Давида Джандиери следующее: «Если позволишь Мне объединить Картли и Кахети, страна оживет, окрепнет, а это для тебя же будет лучше: и подати соберешь, и в борьбе с султаном сможем подсобить. Я постараюсь и добьюсь, что и Имерети к нам лицом повернется, и Дадиани твою сторону примет, и будет верно служить тебе вся Грузия».
Теймураз ответа ждал от шаха и получил его: вчера, поздно ночью, не заглядывая домой, явился во дворец Давид-моурави с ответом шаха Аббаса.
«Пусть, — передавал шах, — явится к повелителю мира царица цариц Кетеван и сама передаст просьбу сына. И наследника престола царь должен прислать ко мне, ибо во главе объединенной Грузии должен встать правитель, воспитанный при моем дворе. Александр же, которого он ранее отправил ко мне, еще слишком мал. Присылкой к моему двору двух наследников все будем довольны — я, ты и сами наследники… Выучу, погляжу, если достойными вырастут — хорошо. Если нет — Теймураз третьего пришлет, а эти на худой конец станут сардарами[16], а если не сгодятся, верну отцу. Вот мой ответ».
Еще не насытившийся кровью тиран требовал в заложники мать и второго сына Теймураза. Мало ему было ранее посланного Александра!
Этот ответ шаха и поверг царя в глубокое и глухое отчаяние — неповиновение вызвало бы у тирана новую вспышку подозрений в измене, согласие же означало безропотное и безоговорочное подчинение его воле или то, что Теймураз заведомо жертвовал матерью и сыновьями в угоду своему тайному замыслу спасения родины.
* * *
Истерзанный сомнениями Теймураз сидел на балконе, когда в покои вошла царица цариц Кетеван. Из всех членов семьи она одна имела право входить к сыну без доклада. Все остальные, даже царица Хорешан, могли войти лишь с его разрешения — телохранители охраняли двери, входы, выходы и переходы во дворце ночью и днем. Таков был первый приказ царя, вернувшегося из Имерети, который добросовестно исполнялся ингилойцами и тушинами[17], поставленными Давидом Джандиери, ибо грузинский двор не был исключением, и здесь одна насильственная смерть следовала за другой… Смерть, именно смерть, управляла судьбой живых, дабы живые были подвластны смерти… Если на Западе или на Севере совершенное в угоду властителям или направленное против них убийство держалось в тайне, то на Востоке злодеяния, как правило, совершались в открытую, на глазах у всех и всякого.
— Джандиери мне все сказал, сын, — спокойно проговорила Кетеван, забыв, однако, сказать царю «доброе утро».
— Знаю, мать моя, я велел ему ничего от тебя не таить.
— Зря старался, сын мой… Между матерью и сыном не должно быть посредников.
— Трудно мне было это произнести. И потом… Ведь Давид доказал свою верность словом и делом… Он, именно он вернул нам царский двор, восстановил разграбленный врагом дворец и самую власть нам он вернул…
— Знаю! Но не забывай и того, сын мой, что человек, побывавший у шаха, не может остаться прежним, нет Аббас не только простого смертного, но и святого совратит.
— Но ведь он не смог совратить Джандиери, пока мы укрывались в Имерети, хотя и доверял ему правление царством и чего только не сулил!
— Не смог на грузинской земле. А оттуда, из своего логова, ни за что бы не отпустил живым, не совратив его с пути истины. Не забывай особенностей послов, побывавших у шаха, — либо сами меняются, либо стараются изменить своего властелина, но не бывает, чтобы и тот и другой оставались по-прежнему одинаково неизменными.
— Исключения бывают тоже, мать: когда посол не добавляет ничего от себя, когда не выставляет, а ловко прячет свои соображения, лишь передает слова и мысли договаривающихся сторон. Такие послы ни других не пытаются подкупить, ни своих не продают, и сами тоже не продаются. Давид именно таков, и не дай бог, чтобы он стал иным.
— Да исполнится воля твоя и воля божья!..
Сын ничего не ответил, остался стоять у своего кресла, но, видя, что Кетеван опустилась в кресло напротив, тоже сел. Таков был неписанный, но тверже писанного вековой закон общения старшего и младшего, женщины и мужчины.
Мать с сыном некоторое время сидели молча. Царица перебирала в руках четки, подаренные ей покойным супругом, с которыми она никогда не расставалась, даже ночью прятала под подушку как сокровенную память о дорогом ей муже, хотя в глубине души и не одобряла жестокости его по отношению к отцу — царю Александру.
Опускаясь в кресло, Кетеван успела окинуть сына материнским внимательным взглядом. Бледный от бессонной ночи, он ей показался исхудавшим, чуть ли не постаревшим, несмотря на свою мужскую стать. Сердце матери сдавила мучительная жалость, хотя душа царицы возгордилась столь явным доказательством его сыновних чувств, ибо она втайне гордилась любовью сына.
В это утро Теймураз впервые заметил дрожащие от волнения точеные пальцы царицы цариц. С рук он перевел взгляд на ее лицо. Восхищенным взором, выражавшим гордость сына, обвел он ее высокий лоб, изящный нос с легкой горбинкой, большие черные глаза, все еще молодо сверкавшие под длинными ресницами, выгнутые дугой тонкие брови и нежный овал гладкого, без морщин лица. И внезапно сжался весь на миг от жуткой мысли — ведь шах Аббас, кроме крови, любит еще и плоть… Сестру Елену взял в жены… И кто знает, что взбредет в голову злодею при виде этой безупречной красоты!
Теймураз зябко поежился.
— Ты не простыл, сын мой?
— Это от бессонницы, — коротко ответил царь и снова перевел взгляд на Алазанскую долину, лившую на его взбаламученную душу целебный бальзам.
— Не поддавайся бессоннице и тревожным мыслям, сын мой, они опустошат, ослабят разум твой, лишат сил, предназначенных для народа и для детей твоих.
— Нас, грузинских царей, скорее сонливость погубит, чем бессонница, мать моя. Сосредоточенность рождает мысль, а от потока мыслей может родиться и мудрость. Часы без мыслей — пусты и бесплодны.
— Все чрезмерное вредно, сын мой, даже мысли могут погубить душу. Бесцельные думы столь же пусты и бесплодны…
— Но и бездумье не родит плоды.
— Обо мне не тревожься, сын мой… Долг царя — не поддаваться голосу сердца, тогда и разум будет светлым и ясным, А тот, кто доверяется зову своего сердца, ясности мыслей пусть не ждет… Шах сказал Давиду еще одно: или пусть Теймураз сам явится, или же шлет царицу цариц вместе с наследником престола.
— О моем приезде Джандиери мне слова не сказал!
— Знаю. Он поступил правильно. Преждевременно, среди ночи, зачем задавать излишнюю работу разуму? Твой отъезд означал бы гибель царства… Да и о судьбе покорного Луарсаба забывать не следует… Моя поездка — другое дело. Ведь как-никак я шаху тещей прихожусь. А если вовсе ослушаемся и никто из нас не поедет, он вконец разорит нашу землю, истребит все живое в Кахети.
— Твое родство для шаха ничего не значит…
— Родство и для тебя не должно быть главным, когда ты стремишься к намеченной цели… Мудрость и бессердечность, сын мой, как правило, ходят рука об руку, хотя жестокость еще не означает мудрости и бессердечность отнюдь не радует истинных мудрецов!
Мать и сын опять помолчали, отдавшись каждый своим мыслям. Через некоторое время царица цариц нарушила тяжелое безмолвие:
— Из Исфагана за Давидом увязался один юноша. До Армении он следовал на почтительном расстоянии. После Аниси же открыто явился в лагерь и умолял взять его с собой. Назвался он уроженцем Марткопи Ираклием Беруашвили.
— Давид и об этом мне ничего не сказал, — произнес несколько озабоченный Теймураз.
— Я спросила его, почему он об этом смолчал. Боялся, ответил, как бы юноша не оказался подосланным убийцей. Вчера ночью Давид утомлен был с дороги и опасался, что ты сразу пожелаешь вызвать юношу к себе, не хотел докладывать тебе что-либо о парне второпях. Ночью за юношей зорко следили исподтишка — он спал как убитый. А нынче утром я сама вызвала его к себе и подробно обо всем расспросила.
— Где он?
— Тот юноша сейчас внизу, у конюхов…
Теймураз, не дав матери закончить, встал и направился к дверям. Кетеван остановила его. Сын обернулся, чтобы выслушать мать.
— Погоди, сын, не спеши. Я очень много говорю сегодня… А ведь пришла потому, что, зная о твоей бессоннице, хотела, чтобы ты чуть отдохнул… И не поддавался бы излишней суете. Возвращение Давида Джандиери из Исфагана не должно вызвать пересуды во дворце. Давиду я велела молчать, хотя он и сам не из болтливых. Ты отдохни немного… Успеешь и с этим парнем из Марткопи повидаться, и Джандиери расспросить подробно обо всем. Придворным не следует подавать виду, что ты встревожен. И к царевичам сегодня не выходи, дабы не заметили они твоего смятения. Из оставшихся двоих лучше отправить Левана. Дато еще мал, и Хорешан будет тяжело с ним расстаться. Этот злодей требует наследника престола — мало ему Александра! Я присмотрю за обоими… Ведь я их вырастила… Так будет разумнее… — С этими словами царица цариц встала и неторопливым, медленным, но твердым шагом величаво вышла из покоев.
Согретый и ободренный матерью, Теймураз, не раздеваясь, прилег на тахте и тотчас же уснул.
Сон у царя был еще по-молодому крепкий.
…Солнце уже стояло над дворцом, когда Теймураз проснулся. Сначала он пошел в дворцовую баню, потом сел за стол, никого не пригласив к трапезе, кроме Джандиери. Ел с аппетитом, молча, не торопясь. Коротко, двумя словами поздравил Давида с благополучным возвращением. Как только царь привстал из-за стола, моурави тотчас поднялся, но не знал, оставаться ему или уходить, — сдержанность царя покоробила его, и он не мог понять, угодно ли было сейчас его присутствие.
Теймураз подал знак следовать за собой, а выйдя в коридор, вполголоса, чуть ли не шепотом произнес:
— Я поеду на Алазани с малой свитой. Ты тоже много народу с собой не бери. Возьми того парня — Беруашвили из Марткопи. Я буду ждать тебя у опушки леса…
…Встречные, и стар и млад, почтительно уступали дорогу царской свите, мужчины снимали шапки, женщины громко благословляли царя, дети с восторгом взирали на всадника, чинно восседавшего на вороном коне. Когда свита проезжала мимо гремского караван-сарая, купцы, все до единого, высыпали наружу, оставив опустевшие лавки на попечение слуг и, согнувшись в три погибели, кланялись царю. Дневной выезд его показался необычным, ибо у Теймураза было твердо заведено — он чуть свет покидал дворец и только к вечеру возвращался. Он не любил, когда на него глазели и досаждали чрезмерным вниманием.
Миновав Греми, Теймураз пустил коня рысью, потом свернул с дороги и галопом поскакал через поле. Его радовали легкий ветерок, бьющий в лицо, благодатный запах земли и ласкающее тепло осеннего солнца. Радовала быстрая скачка, скорость движения, придающая человеку силу и бодрость, рассеивающая мрачные мысли и вдохновенно зовущая к действию. Теймураз твердо знал от своих предков, что вторым троном грузинских царей и самой опорой их царствования испокон веков считалось седло, ибо в седле правитель выигрывал или проигрывал сражения, решавшие судьбу страны и народа.
По всему полю растянулась малая кавалькада придворных. Ингилойцы и тушины вширь пустили не нуждавшихся в плети горячих скакунов, никто не хотел отставать или же перерезать дорогу другому. Заметив вдали небольшую отару овец, царь сразу же свернул в сторону, ибо знал, что напуганных всадниками животных трудно угомонить.
Приблизившись к опушке леса, царь снова пустил коня рысью, затем придержал, остановил, спешился и подозвал одного из слуг:
— Приведи того пастушка ко мне, только не говори, что я царь.
Ингилоец погнал коня назад, царь проводил его чуть прищуренным взглядом.
Завидев скачущего к нему всадника, пастушок пустился наутек, бросив отару. Царь нахмурился и потер лоб указательным пальцем правой руки. Ингилоец долго гнался и схватил наконец пастушка и втащил в седло, несмотря на отчаянное сопротивление.
Когда оборванного пастушка подвели к царю, на нем висели одни лохмотья. Двое дюжих молодцов крепко держали его за руки.
— Отпустите его, — повелел царь, всматриваясь в яростно сверкающие глаза мальчишки. Грузинская речь, добрый взгляд будто успокоили пленника, он даже попытался привести свою одежду в порядок, но тщетно — лохмотья не скрывали голого худенького тела тринадцатилетнего подростка. Над верхней губой у него темнел едва заметный пушок, ноги были в струпьях и ссадинах, а ногти на руках отросли, как у хищника. Заметив на них кровь, царь перевел свой взгляд на слугу, схватившего мальчика, и увидел на его щеке свежую царапину, с которой тот вытирал полой чохи[18] сочившуюся кровь.
— Ты думал, что это враг?
Мальчик молчал.
— Чей ты? — снова спросил царь.
Мальчик опустил голову.
— Как зовут?
Мальчик еще ниже склонил голову и стал пальцами правой ноги чесать пальцы левой. Теймураз подошел к нему, осторожно взял за подбородок и заглянул в глаза, в которых стояли слезы, стояли, упрямо сдержанные волей каленного бедой мальчишки, но не проливались.
— Чей ты, я спрашиваю? — чуть повысив голос, повторил вопрос царь, ибо знал, что от сочувственного тона мальчишка может только раскиснуть, а от строгого обращения наверняка возьмет себя в руки и найдет ответ. Теймураз не хотел видеть мальчишку приниженным.
Пастушонок, мотнув головой, высвободил подбородок и снова уставился на свои исцарапанные босые ноги.
— Отвечай, пострел, царь Теймураз тебя спрашивает! — не выдержал кто-то из придворных.
— Откуда тут быть царю, он в Имерети сбежал, — пробубнил мальчик, еще ниже опуская голову.
Свита затаила дыхание, все взоры обратились к Теймуразу, глаза у которого затуманены были более безмерной скорбью, чем у мальчика. В ответ на дерзость пастушонка Теймураз и бровью не повел, хотя по натуре был вспыльчив.
— Я в самом деле царь, сынок, вернулся из Имерети… А убегать я туда не убегал, просто укрылся от врага, с которым справиться не мог и жертвовать собой и народом — войском — попусту не хотел. — Помолчав, Теймураз рассеянно провел чуть согнутым указательным пальцем правой руки по лбу и скорее для свиты, Для телохранителей, чем для пастушка, неохотно, но ясно произнес: — Подальше от греха, бессмысленного греха, ибо иные грехи полезны бывают… Не тот храбрец, кто каждый бой принимает, даже заранее обреченный, а тот, кто вовремя отступить умеет, ибо зря погубленная жизнь трижды трусость: перед богом, перед врагом и перед народом. — Царь снова умолк и после паузы добавил: — Так раз я уж вернул я, может, помиримся мы с тобой и ты все-таки скажешь, как тебя зовут?
— Кому теперь нужно твое возвращение? — глухо проговорил мальчик, глухо, но внятно и твердо. — Людей угнали, порубили… Чем ты поможешь моим родителям, брату и сестре, которых кизилбаши угнали? Теперь у меня ни дома, ни родных, ни имени. Теперь я ничей…
— Где же ты ночуешь?
— Где придется.
— Откуда ты родом?
— Жил в Цинандали. Отца кликали Гио Нацвлишвили.
— Кто-нибудь из близких остался у тебя?
— Да ну!.. Не знаю… Все лето я крутился возле нашего виноградника, бывшего, конечно… А к деревне подойти боялся. Они там все пожгли, проклятые!
— А как же ты уцелел?
— Я в тот день с утра овец угнал, когда назад шел, издалека увидел, что деревня горит, плач и крики слышны были, я и спрятался… Потом уже спаленную деревню увидел, а дед один мне все рассказал. Его Леваном звали, я его неделю назад схоронил.
— А чем ты кормишься?
— Овец дою и фруктами обхожусь… В лесу много панты[19] и орехов…
Царь помолчал, подумал, затем обратился к старшему из свиты:
— Отведите мальчонку, искупайте, оденьте, накормите и отдайте пастухам. Пусть множит своих овец, не надо у него ничего брать, а там видно будет… Так как все-таки зовут тебя?
— Раньше меня Арчилом звали… Теперь хочу, чтобы Гио… Именем отца.
— Да будет так, Гио-бичи[20]. Отныне ты будешь сыном моим. Трудись и расти. Возмужаешь, женю, свадьбу сыграем… А сейчас иди и друзей больше не царапай. Не мужское дело это — царапаться.
— А овцы?
— Овец забирай с собой, поставь клеймо и пусти в мою отару, все они вместе с приплодом твои будут.
Когда пастушка увели, царь долго смотрел ему вслед, потом провел пальцами правой руки по лбу и, нахмурясь, едва слышно повторил:
— Бежал!
«А что я мог сделать? Не сторониться его? Тогда он потащил бы меня, как и Луарсаба, и потребовал, чтобы веру я менял. И что он к нашей вере прицепился? Заставить армян и грузин, втиснутых в кольцо чужеверцев, отречься от веры пытались и другие предшественники шаха, но ничего не достигли… Этот совсем другой, этот ни перед чем не остановится. Этот с царя начинает и хочет его от веры Христовой отторгнуть, а через него и весь народ свести с пути истины. Но разве народ, изменивший своей вере, не будет для него опасным? Разве султан не одной с ним веры, а ведь никак не найдут общего языка? Разве турецкие сунниты и персидские шииты не мусульмане, а все равно готовы сожрать друг друга? Разве среди нас мало таких христиан, которые в грош не ставят Христа и деву Марию, лишь бы самим пребывать в счастье, благополучии и могуществе?! Конечно, с веры, с единой веры начинаются все истинно святые и возвышенные дела — любовь к родине, единство народа, преданность общему делу и сама родина. Человек без веры — волк, лютый зверь, вырвавшийся из капкана. Люди одной веры никогда не пощадят людей другой веры, ибо борьба и тяжба между народами положена с незапамятных времен самим господом богом, хотя и божий завет проповедует добро и любовь. Проповедь — одно, дело — другое! Так, именно так велено людьми — на устах мед, а в руке меч!»
Вдали появились два всадника, скакавшие лихо. Царь издали узнал Давида Джандиери. Свите велел он оставаться на месте, сам же, спешившись, направился в гущу леса. Там, в уединении, вдали от посторонних глаз и ушей, явились к нему Давид и его спутник.
Теймураз взглянул на юношу — ему было лет двадцать — и сразу понял, что Давид успел его приодеть.
— Государь, это и есть Ираклий Беруашвили, из Марткопи погнали его семью в Ферейдан. Отец с матерью у него погибли на пути в изгнание, сам же он был поселен в окрестностях Ферейдана вместе с односельчанами, с дедом, дядьями и двоюродными братьями. Не выдержал он и сбежал. По дороге представился мне, умолил взять с собой, дабы предстать перед твои ясные очи…
— Что скажешь мне, сын мой?
— Что сказать?.. — с тяжким вздохом ответил на вопрос вопросом спешившийся с лошади юноша. — Когда они напали на деревню, мы, все кто мог, отчаянно сопротивлялись, по мере наших сил и возможностей. Они плетьми заставили стариков запрячь все арбы, какие только имелись в деревне, побросали туда старух и детей, всем нам, молодым, связали руки, взяли в кольцо и погнали в полон. Дети и старики гибли в пути как мухи, но деревня наша была большая, а потому-то многие добралось-таки до места — окрестностей Ферейдана. Там они нам сказали, что вокруг живут курды и бахтняры и оружие и скот, что сумеем у них отобрать, будет нашим. Скот, что пригнали из Кахети, тоже де оставьте себе, а сами вы отныне будете собственностью шаха, ибо хана над вами не будет. Вместе со мной отобрали еще двадцать парней и отправили в Исфаган, сказали, что мы должны служить в войске шаха, кизилбашамн… Кизилбашами, красноголовыми, ну… которые носят красную чалму, называют там войско шаха. Привели нас туда, одели по-ихнему, накормили, напоили и поставили под начало давно переселившегося туда грузина, отрекшегося от веры Христовой, звавшегося Исмаил-бегом. Он, басурман, житья нам не давал, с ослиным упрямством требовал, чтобы мы от Христа отреклись и в Магомета уверовали. Мы же еще хлеще упрямились, но он тоже на своем стоял. Двоим из наших парней головы отсек и насадил на колья возле шатра, а тела почти две недели валялись непогребенными…
— Что же вы не отплатили ему?
— А что мы могли сделать? Наши старики велели нам повиноваться, не лезть на рожон. Вы, сказали они, только по молодости зря свою кровь прольете, а нам без вас и вовсе конец придет… Потерпите малость, мол, придет время, тогда и действуйте хитростью да умом… А кроме того, их ведь против нас больно много было, еще и при конях да при оружии. А мы — безлошадные да безоружные. По ночам возле наших шатров сторожей ставили — за нами, приглядывать. Мы попытались одного придушить, но что из этого? Только еще троих наших потеряли! Остановились, решили переждать. А тут мне весть пришла — дед, говорят, твой помирает, хочет на тебя последний раз взглянуть перед смертью. А меня сотник не отпускает — кому, говорит, помирать пора пришла, тот и так, без тебя, помрет. А у меня от бабки булавка оставалась золотая, с рубином, я ее в ворот закалывал, берег как зеницу ока. Отдал я ее сотнику. Так он чуть не догола меня раздел: у тебя, может, мол, еще чего найдется. Но ничего не нашел — не было у меня более ничего. Потом взял да отпустил и, объяснив дорогу, велел через пять дней на месте быть. Деда-то я уже в живых не застал, но сердце мне опалило горе деревни. Тогда-то наши старики и сказали: раз уж тебя отпустили, так сделай добро, беги в Кахети и моли Христом-богом нашего царя, спасай нас как-нибудь. Мы о себе не думаем, не за себя просим, пусть вернет на родину женщин и детей, иначе обасурманят их эти безбожники и такое пойдет потомство, что никто о Грузии Даже помнить не будет, выродится, обезбожится народ, пропадет совсем. Здесь, сказали, люди, мол, ни стыда ни совести не имеют, на кровных родственницах женятся, и Потомство рождается никудышное, уродливое. Передай, сказали, царю нашему, чтоб сжалился над людьми. Они только о родной земле и мечтают, другой мечты у них нет. Лучше им умереть, чем той жизнью жить…
Замолчал парень. Царь провел пальцем по лбу, еще резче свел брови, взялся за рукоятку кинжала, чуть вытянул клинок и с силой втолкнул его обратно в ножны.
— И еще они сказали, — продолжал юноша, — что всех красивых девушек забрали в гаремы, в деревне оставили только уродливых, эдак мы скоро совсем выродимся. Ни иконы у нас не уцелело, ни креста, о кинжале уж и подавно говорить нечего, ножа простого не сыщешь. Ежели враг, говорят, нападет, вы, мол, палками отбивайтесь. Скотину всю курды и бахтияры увели из деревни. Помоги, царь-батюшка, спаси хотя бы тех, кто еще уцелел, а то потеряем отчизну, землю родную и благодать небесную позабудем… Погибель черная нам грозит, смилуйся, государь, помоги!
— Да как я отсюда-то вам помогу, сын мой! — горько воскликнул Теймураз, страдальчески глядя на красивого парня. — Должны выдержать… Надо потерпеть до поры… язык и веру отцов должны сохранить непременно, а там видно будет… Кто знает, какие времена настанут, может, и суждено вам вернуться в родные края…
— Я сам по себе, не, смею досаждать тебе просьбами, государь, но что народ передал, то и осмеливаюсь говорить… Человек ко всему приспосабливается, время ко всему его приучает… Есть там в Персии еще один из наших, Бебуташвили. Его пленили еще мальцом, там он и вырос… А шах-то Аббас истинным злодеем оказался, каких свет не видел! Он даже друга ближайшего, сподвижника своего и великого полководца Мюршид-Кули-хана, который в свое время помог ему на трон взойти, собственными руками задушил спящего — слишком, мол, он силен, а потому и опасен, мне такого не надобно… А потом заподозрил и своего родного сына, Сефи-мирзу, дескать, хочет меня с трона сбросить и сам шахом стать… Ну и вызвал он своего сардара… Забыл, как его по имени кличут…
— Корчи-хан, — подсказал царь.
— Вот-вот, — подхватил удалой парень, удивленно глядя на царя — откуда, мол, откуда он все знает, — потом заторопился и продолжил свой рассказ: — Вызвал он Корчи-хана. Ты, повелел он ему, должен моего сына убить. А Корчи-хан ни в какую, я, дескать, болен и не могу. А этот Бебуташвили, который был главный над войском из бывших христиан и под началом которого грузины и армяне служили, с кем нас и объединили, так этот безбожник до того совесть потерял, что сам предложил шаху — позволь, мол, твоего изменника-сына мне убить…
— Может, ему приятно было шахского отпрыска уничтожить? — испытующе поглядел в глаза юноше царь.
— Тогда при чем тут сын, взял бы да самого шаха и убил! Так нет, он хотел свою верность тирану доказать! Заколол, как свинью, молодого Сефи-мирзу… А мать у Сефи-мирзы была грузинка… У шаха Аббаса из трехсот четыре жены грузинки. Одна — сестра Андукапара Амилахори Тамар, вторая — сестра царя Свимона Пахрим-джан, третья — сестра царя Луарсаба Лела и четвертая…
— Довольно, довольно, рассказывай дальше! — прервал его Теймураз, не пожелавший услышать имя своей сестры.
— Так вот, Сефи-мирза был сыном Тамар, сестры князя Амилахори. Она доказала шаху, что ее сын был ни в чем не повинен. Шах разгневался и всех истребил, кто обвинял Сефи-мирзу в измене. А Бебут-хану, который Бебуташвили, велел убить собственного сына и принести ему голову… Тот же, юродивый этакий, взял да и выполнил шахский приказ.
— Что ты хочешь этим сказать? Змеи есть и здесь, и там!..
— Нет, царь-батюшка, этот человек ведь не родился змеем, он там в змея превратился, и упаси, господи, чтобы наши там тоже в зверей превратились и потеряли свою веру, совесть и облик человеческий. Чтобы сестра брату женой становилась, а брат сестре мужем! Нет, лучше нам всем раньше с жизнью проститься!
— Этого не случится, однако… — царь не договорил.
— Как это — не случится! — вспылил парень, ибо не заметил в царе должного возмущения и гнева; горечь, скопившаяся в его душе, вырвалась наружу. — Деревня наша от других на отшибе стоит, поблизости никто не живет, молодежи мало, женщин и того меньше, да и имущество надо беречь, хозяйство не делить, не дробить на части… И соседство с близкими нужно… Вот и будет кровосмешение, волей-неволей будем следовать басурманским обычаям, и пойдет сестра замуж за брата, пусть не родного, так двоюродного, и потомство народится хилое, негодное, а все ради выгоды, ради сохранения жалких пожитков…
— И много там вас было, гулямов? — постарался перевести разговор на другое Теймураз. Парень не понял вопроса, — скорее, не знал, что такое гулямы. Теймураз догадался об этом по выражению его лица, а потому и разъяснил: — Гулям по-персидски означает раб шаха, так называют войско, состоящее из грузин и армян, в котором ты был. Гулямы есть и среди шахских телохранителей. Его войско состоит из кизилбашей — красноголовых, шахисеванов — то есть друзей шаха, отлично вооруженных и обученных, и из гулямов. Кроме того, у шаха есть еще два карательных отряда. Они носят островерхие шапки, украшенные перьями журавля и совы. Воины в этих отрядах высокие, могучие, с звериными лицами. Один отряд называется «таджнбук», другой «чиян». Это скорее лютые звери, чем люди… Они зубами вырывают друг у друга приговоренных к смерти, загрызают, на части рвут осужденных…
— Я их знаю… Но их немного.
— А гулямов?
— Нас много, но армян больше.
— Армяне остались без царства и без государя… У них нет другого выхода, отрезан путь к возврату, вот они и рассеялись по всему свету, а потому и легче приспосабливаются к жизни на чужбине… И все же ответь мне, сколько примерно тех и других вместе?
— Как тебе сказать, государь, я не считал, но нас много. Если даже взять только грузинские села, которые я знаю, — Бонни, Руиспири, которое по-тамошнему называют Апуси; по-нашему — Телави, а у них — Толей; Ачха, Шавсопели — у них Шауди, Дашкесан; Ниноцминда — у них Кунденакп, Джауджаки, Вашловани — Сибаки, Дарбенди, Сардапи; Земо (Верхний) Марткопи — Ахорэ Бала; Квемо (Нижний) Марткопи — Ахорэ Фанни. Из этих сел около трех-четырех тысяч молодых парней будет набрано в гулямы. Если к ним прибавить и других, ранее угнанных и похищенных, проданных и прочих, то грузин-воинов у шаха наберется не меньше двадцати тысяч, если не более… Армян, ясное дело, будет гораздо больше.
— Те, кого раньше угнали, вспоминают родину? — спросил царь, скорее ради словца, ибо и сам без него прекрасно знал о судьбе ферейданских грузин.
— Как тебе сказать?.. Кого малышами угнали и по басурманскому обычаю воспитали, те, конечно, меньше чувствуют себя грузинами, но те, кто вырос здесь и угнан был вместе со старшими родичами, те остаются достойными грузинами. И если молчат, если держат язык за зубами, так лишь из страха, скорее из осторожности. А призови их кто к борьбе, тотчас поднимутся и остальных за собой поведут…
Еще долго беседовал Теймураз с марткопцем, подробно расспрашивал о ведомом ему и неведомом; о ведомом — чтобы испытать молодца, о неведомом — чтобы самому узнать.
Осенние сумерки уже успели опуститься на Алазанский лес, когда царь счел беседу законченной. Юношу он отправил во дворец, а Джандиери задержал при себе. Когда они остались вдвоем, Теймураз взглянул на небо, потер указательным пальцем правой руки лоб и, нахмурясь, заговорил негромко, лишь для слуха своего верного слуги:
— Если бы на небесах был бог, разве шах Аббас ходил бы по земле? Истреблять всех, кто покажется непокорным, приносить в жертву собственной власти, своеволию, капризу своему стариков и детей, мужчин и женщин, даже кровь и плоть свою, — это ярость взбесившегося зверя! Ядовитая змея и та не жалит всех подряд, без разбора. Даже хищный зверь умеет щадить, особливо ежели он сыт.: Но шах Аббас и весь его род не насытились и не насытятся никогда нашей кровью. Потому-то нам необходимо объединиться, как воздух нужна нам подмога внешней могущественной силы. Запомни, Давид, меня не станет, не успею объединить мой народ, освободить его, наследникам моим передай мой отчий завет: единственная защитница грузин и земли грузинской — великая Россия. Православная великая Россия есть та единственная сила, которая спасет, в состоянии спасти грузинский народ от гибели, зажатую в тиски двух хищников Грузию от порабощения и физического истребления восточными тиранами. — Царь умолк, медленным шагом прошелся вперед и назад, потом присел на буковый пень и снова заговорил, приложив руку к сердцу: — Кто такой я сам, кто я и чей я царь, и царь ли я вообще? Маленькую Грузию мы, отпрыски древнего рода Багратиони, потомки Дадиани и Гуриели, разорвали на куски. На крохотной пяди земли умудрились создать три царства — Кахети, Картли, Имерети. Четыре княжества объявили себя независимыми: Самцхе-Саатабаго, Самегрело, Гурия и Абхазети. Этого было мало! Арагвские Эристави правят в горах, ксанские — в ущелье Ксани, князья Амилахори — в ущелье Лехури. Потечет еще одна река с вершин Кавкасиони — возникнет еще, одно независимое царство или княжество, и на нашей многострадальной земле появится еще один новый правитель со своим замком, войском и законом. Владетельные дворяне, возвышенные в князья, знатные князья, великие тавады, правители-эристави, знатные дворяне, мелкопоместные дворяне — азнаури! Сколько их! И все рвутся к власти, все хотят главенствовать любой ценой — за счет брата ли, друга или верного раба. Проданные в рабство грузины под именем янычаров проливают кровь за процветание султанского рода, под именем гулямов прислуживают шахской тирании на погибель родного края., О боже мой! Искромсали землю, разобщили народ, рассеяли, разбросали силы, и никто не помышляет, упрямо не хочет думать о единстве страны, каждый тянет в свою сторону. Запираются в собственных крепостях с чадами и домочадцами, доносят друг на друга, предают брата, двурушничают, лицемерят, чтобы только заслужить награду. А что это за награда? Шахский халат, захваченная грабительски чужая несчастная деревня, коварством заполученная крепость. Тьфу, я презираю тех юродивых князей и дворян, которых не волнует судьба народа, которые не могут понять, догадаться, что страна без народа гроша ломаного не стоит. Я презираю, ненавижу от всей души тех, кто не думает о потомках, о родном языке, кто не думает о том, чтобы множилось население наших сел и городов, ярой ненавистью ненавижу тех, кто угоняет на восточные базары юношей и девушек наших, меняя будущее народа и страны на злато и серебро. Если я плохой правитель, пусть скажут, и я уйду, уступлю власть другому, если то, чем я владею, еще можно считать властью! Я стану с сыновьями своими простым воином, буду служить кому угодно, кто сумеет объединить народ, возвысить братство и взять в свои руки судьбу Грузии. Но где он, этот божий избранник, я тебя спрашиваю, Давид?! Где этот герой, который бы счастью отчизны пожертвовал не сыном, не женой, не отцом с матерью, а собственной гордыней, своей жизнью? Где он? Кто он?
— Их много, государь, — вставил спокойно Джандиери. — Спросите хотя бы этого юношу из Марткопи, Ираклия, они все пойдут за вами освобождать от ига родину и народ свой.
— Я знаю, Давид. Эти-то пойдут, народ пойдет…
А вот картлийский, самцхийские, другие тавады тут же в сторонке стоят и руки потирают. Они на словах лишь единство проповедуют, когда роги с вином подымают, а саблю обнажить ради общего дела не соизволят. Нет, не хотят они объединения Грузии и не захотят никогда.
Сумерки сгустились над Алазани.
Звонче стало комариное жужжание.
Густо разухались совы. Гулко захлопали крыльями фазаны, но тут же и затихли, усевшись в свои гнезда. Опять завыли шакалы, филины и совы поддерживали их своим наводящим тоску уханьем. Но властная тишина ночи опять и опять поглощала все лесные звуки. Лишь мерный рокот Алазани нарушал это величественное безмолвие над равниной, раскинувшейся между отрогами Кавкасиони и Цивгомбори, издавна прозванной дедами-прадедами Алазанской долиной.
Вместе с ночной мглой прохлада пролилась на эту древнюю благодатную землю. И молодцы дружно взялись за дело — начали собирать хворост для костров. Джандиери остановил их — на огонь, мол, тучами слетятся комары. И сказал он это так громко, дабы Теймураз, услышав его, не медлил бы с решением — как быть, куда идти дальше? По мнению моурави, задерживаться здесь дольше не имело смысла.
Но царь не спешил уезжать.
Молодой месяц показался на небе, и мерцание звезд как бы слилось с убаюкивающим рокотом Алазани и таинственными шорохами ночного леса. В этом далеком и близком мире лишь небесные светила были неприступны и беспристрастны, ибо помыслы злых душ не достигали их, как и грязные руки палачей, ибо далеки были они от земли, хотя и являлись вечными спутниками ее и свидетелями, не покидавшими человека ни в горе, ни в радости, ни в возвышении, ни в падении. Днем солнце вселяло в людей силу, ночью луна и звезды были сокровенными свидетелями редких радостей и многих людских бедствий, пустивших глубокие корни на благословенной грузинской земле, столь остро нуждающейся в мире, братстве и любви.
Не спешил царь.
Да и куда было ему спешить на родной земле? Куда податься и что предпринять, чтобы спасти народ, утешить тех, кто осиротел или потерял детей, очаг, дом? Что сделать, чтобы пахарь вновь проводил бы заветную первую борозду, чтобы возродились сады и виноградники, закачались бы аквани под мирным кровом, не угасало бы тепло очага?! Как вернуть веселые народные праздники, роднящие людей крестины, помолвки и свадьбы, по которым истосковались стар и мал.
Но оставаться в Алазанском лесу царь все же не пожелал и направился во дворец.
* * *
Прибыв в Греми, Теймураз первым делом спросил о царице Хорешан. Привратник доложил, что царица в людской занимается мальчиком-сиротой.
Легче стало Теймуразу на душе — любил он заботу человека о человеке, особенно о детях.
— Передайте, пусть зайдет ко мне, как только закончит дело.
«Передать» означало, что второй телохранитель — они всегда стояли парами — должен был вмиг выполнить поручение и тотчас вернуться обратно.
Воспользовавшись свободным временем, царь пошел в трапезную, пригласив на ужин Давида Джандиери.
— Это красное вино дает наша кварельская лоза. То место называется Киндзмараули, и, видимо, виноград тоже его название должен иметь. Рождается лоза на малой пяди земли и больше нигде не приживается, — говорил Теймураз, наполняя азарпешу[21] из кувшина. — Пусть бог не лишит нас сей благословенной и щедрой лозы!
— Аминь, — коротко поддержал царя моурави.
— Почему ты нынче ночью не полностью изложил мне поручение шаха? — неожиданно и испытующе задал Теймураз вопрос, мучивший его весь день.
— Я устал с дороги, государь, разум был слегка затуманен. Ты бы начал спрашивать подробно, а я не смог бы связно ответить.
— Я бы и бессвязное понял… — проговорил Теймураз.
— Да, нынче ночью я не все сказал… Думаю, как бы потолковее выразить, — осторожно начал было Давид.
— Говори, я слушаю. Только прежде выгляни за дверь — не стоит ли стража слишком близко?
— Всем велено не подходить к дверям ближе, чем на пять шагов.
— Проверь.
Давид послушно выглянул за дверь и тотчас вернулся, улыбаясь.
— Вашу волю и мое слово никто нарушать не смеет.
— Теперь говори.
Джандиери откашлялся. Пальцы рук, лежащих на столе, выдававшие волнение, крепко сплел друг с другом. Заговорил спокойным, но чуть надтреснутым голосом:
— Знаю, государь, что ты созовешь дарбази[22], чтобы обсудить в повеления возведенные условия шаха. Знаю также, что суждения, высказанные на совете, могут просочиться к шаху в Исфаган. Не забываю я и о том, что ты не всегда высказываешься на совете прямо, а часто говоришь намеками, а иногда бывает и то, что одно говоришь, другое думаешь, третье решаешь. Мне нравится твоя зоркая мудрость и проницательная осторожность. Потому-то хочу сказать я тебе несколько слов без дарбази и без свидетелей…
— Говори, мой Давид.
В слова «мой Давид» вложено было столько тепла и такое доверие светилось в его глазах, что ободренный Джандиери без всяких обиняков приступил к существу дела:
— Давеча ты назвал Русь единственной внешней силой, способной спасти Грузию. Но стоит ли связываться с северным царем? Кто знает, что нам принесет этот союз с северянами? Смогут ли они помочь, находясь так далеко, как докладывал наш греческий посол?..
— А откуда ты знаешь о греческом после? — прервал его Теймураз, и светившееся в его глазах доверие вмиг сменилось подозрительностью, а в памяти мелькнули слова, сказанные ему утром матерью.
— Сегодня утром сказала мне об этом царица Кетеван, — не моргнув глазом ответил Давид, хотя и заметил мгновенную перемену в настроении царя. — Царица подробно изложила мне новости, привезенные нашим греком из Москвы. Их интересует наше богатство — наша руда, наши возможности, число подданных. Они издали измеряют добычу — не мала ли, годна ли, стоит ли того, чтобы за нее проливать кровь? Они нас взвешивают и ощупывают, как торговцы скот перед покупкой. Кто знает, может и так случиться, что они окажутся еще хуже шаха и хуже султана. Может, они вовсе уничтожат грузинское царство и приберут к рукам наши земли, наши богатства, весь наш народ… Знаю, государь, твои сомнения и подозрения, — поспешно проговорил Джандиери, заметив, как нахмурился царь и приложил ко лбу указательный палец правой руки, что было первым признаком тяжких раздумий и сомнений, — и, знает бог, считаю их главнейшим и первейшим признаком твоей мудрости. Не сомневаются лишь глупцы, — чем больше у человека мудрости, опыта, знания людей и жизни, тем больше он размышляет, сомневается. Именно сомнения верные спутники твердого ума и мудрого знания природы человека…
— Спасибо на добром слове, — слегка улыбнулся Теймураз, и морщины на его лбу чуть разгладились, вот только глаза по-прежнему оставались полны ледяным холодом, а взгляд — пронзительным и острым, как игла.
— То я тебе говорю, государь-повелитель, — спокойно продолжил Джандиери, — что мы можем от одного волка спастись, а второму в пасть угодить. Кто знает, может, справедлива поговорка — привычная беда лучше непривычной радости? Шаха они отпугнут, султана отбросят, а наши земли присоединят к своим, а царство грузинское вовсе уничтожат!
Царь снова потер лоб пальцем.
— А где оно у нас, царство, Давид? Я тебя спрашиваю! Лоскутья, клочья! — резко прервал он.
— И все-таки мы сами хозяева своей судьбы!
— Хороша судьба, ничего не скажешь! И что от нас самих осталось — ни народа, ни церкви, ни царства! Гибнем мы, пропадаем. Само существование наше под угрозой, живем под саблей кизилбаша: взмахнет — и нет головы. Деревни разорены, виноградники выкорчеваны, крепости разрушены…
— Может, лучше тебе пойти к шаху с поклоном?.. — неуверенно, осторожно промолвил Давид. — Пойти и все объяснить, убедить, пообещать, умолить…
— Сколько же можно молить и объяснять! До каких пор мы будем припадать к его стопам, целовать его ноги! Докуда?!
— Напомни ему о бабке-грузинке…
— Какая бабка, если он сына родного не пощадил! Он слышать не может о грузинах, ненавидит нас, решил всех до единого изничтожить… Грузин и армян он хочет убрать навсегда, дабы не торчали как сучок в глазу. Погляди вокруг, мы в кольце иноверцев, и они крепко стоят на своем — либо сломить нас, либо истребить навеки. О другом и слышать никто из них не хочет — ни шах, ни султан. Разве один шах Аббас об этом мечтает? Это давнее желание всех Сефевидов стало законом династии: одно из двух — или принимай их веру, или умирай!
— А если принять их веру? — осторожно продолжал гнуть свое Давид.
Царь побледнел, нос у него заострился, подбородок задрожал, пальцы сами по себе начали выбивать нервную дробь по столу.
— Я посмел заикнуться об этом, государь-повелитель, лишь во имя спасения народа. Угроза гибели, витающая над нами, придает мне смелости, и, молю тебя, как бога, не подумай ничего дурного, государь-повелитель… — Тут моурави умолк, ибо царь вскочил и принялся мерять шагами трапезную, как тигр, загнанный в клетку. Потом остановился и обернулся к Давиду.
— Шах говорил с тобой обо всем этом? — спросил он резко, взглянув на него в упор.
— Да, государь. Я, говорит, вас, грузин, не люблю за то, что вы то к России, то к Риму тянетесь. Но знайте твердо, что они вам не помогут. Или вы покоритесь мне, или я вас всех уничтожу. Примите мою веру, отрекитесь от Христа, перестаньте двурушничать и служите мне верой и правдой, или всех изведу до единого. Пусть, сказал он в конце, сам Теймураз явится ко мне, даст слово, в заложниках оставит мать и сыновей, а я ему вместе с Кахетинским дам на веки вечные и Картлийское царство.
— Лжет, собака! У него семь пятниц на неделе! Я бы с радостью пошел к нему, но не для поклона и повиновения, а для того, чтобы прикончить его, как рождественского борова! Но беда в том, что не шахом Аббасом решается судьба нашего народа. Беда, поистине страшная беда в том, что все шахи и все султаны мира ничего, кроме гибели, не сулят Грузии. Все святое — верность отчизне, любовь к земле и народу нашему, да и сама родина — начинается с веры, с нашей религии, духа нашего народа. Человек без веры — волк, а волков хватает и в шахских, и в султанских владениях. Я не то что всю Грузию, но и одну Кахети не позволю превратить в волчье логово. Забыть свою веру — значит забыть свой язык, а потеря языка равнозначна гибели Грузии. Нет, этого не дождутся ни шах, ни султан! Европа далеко, Россия же за Кавказским хребтом. Погляди, Давид, на Кодорскую крепость, на Кавказский или на Годердзийский перевал, взгляни хоть на Дарьял: оттуда не только дидойцы могут проникнуть, чтобы разбойничать в наших селах, похищать женщин и детей. Нет, оттуда, именно оттуда, придет тоже и спасение наше. К черту мой престол! Я готов отказаться от всех трех престолов и четырех княжеств Грузии вместе, лишь бы та сила, могучая, верная сила выполнила бы заветную и сокровенную, ни перед кем не открытую мою мечту. Пусть она, именно она, сомнет своевольных тавадов, сотрет границу между царствами и создаст единую Грузию, пусть без царя и трона, но и без кровопролитий, братоубийственных войн, без разрухи, голода и бедствий! Как бы там ни было, русский царь никогда не потребует, чтобы мы отреклись от нашей веры, а значит, и язык наш сохранится. Если даже сгинут с земли Амер-Имери[23] и весь род Багратиони вместе с ними, но если останется хоть один грузин, он все равно не изменит своей вере и не забудет родного языка. Грузия была, есть и будет во веки веков! — Царь негромко, но внятно и твердо произнес: — А ты, Джандиери, больше ни ногой в эту страну волка и своих ингилойцев тоже предупреди, чтобы не поддавались басурманским соблазнам разным. Я тебе уже говорил и повторю вновь: мы находимся меж двух чудовищ, и спасение наше — только в единоверной России, без этой внешней силы нам не уцелеть… А я ведь предчувствовал, — продолжал после маленькой паузы Теймураз еще низким, но потеплевшим голосом, — сердце мне так и подсказывало, не хотел я тебя туда отпускать. Ты честный человек и за чистую правду принял шипение этого проклятого змея… Нет, Дато! Я не знаю, что будет с Грузией через века, но знаю одно, твердо знаю, что сегодня без веры христианской мы пропадем и выродимся…
Теймураз умолк, поник головой, лбом опираясь на крепко сжатые кулаки.
Воцарилась тягостная тишина. Не до еды было им.
Ночная прохлада все ощутимей проникала во дворец. Где-то протяжно завыла собака. У Джандиери больно сжалось сердце, кровь застучала в висках, дышать стало трудно. С сокровенными мыслями возвращался он на родину, думал, добро несет отчизне своей. И сам шах Аббас показался ему усталым, утомленным борьбой с султаном. Новые осложнения его отношений с султаном показались Джандиери тем благом, которым и могла воспользоваться его родина. И подумал с чистой совестью: может, и в самом деле явится Теймураз с поклоном, отречется от Христа и спасет страну от перерождения и истребления? Он и родовую гордость Багратиони учел, когда осмелился заикнуться о том, что новый покровитель может лишить Грузию царского престола, на что никогда никто из Сефевидов не решался — они громили, крушили, жгли, грозили уничтожением Грузии, но признавали за ней право на престол и царя. Это и сбило с толку умного моурави. Не смог учесть, что разоренное и обобранное царство лишь для того нужно было Сефевндам, чтобы тешить собственное тщеславие, подчеркивать свое величие, ибо шахиншахство, то есть царствование над царями, без Кахетинского, Картлийского царств, пусть покоренных, могло бы превратиться в пустое слово. Да, не будь царств, не было бы и царя над ними, не было бы шахиншахского величия. Кем был бы он тогда? Только шахом простым, а не владыкой мира… Да, Джандиери не смог рассчитать; хотел блага, а получился вред. Всегда сеятель добра, на сей раз он невольно оказался сеятелем зла.
Он смотрел на поникшую голову царя и не знал, как быть, — уходить было неловко и оставаться тяжко. Хотелось продолжить разговор, но самому начинать было невмоготу, разум мутился, а слова не шли на язык. Царь же молчал.
Время будто нарочно, как бы назло, текло медленно. Та самая недоверчивость царя, которую моурави только что хвалил, теперь тяжким бременем давила на его плечи. Он сердцем чувствовал думы царя и задыхался от бессилия, от невозможности подобрать, произнести слова, которые могли бы рассеять необоснованные подозрения. Да разве мог он предположить, что высказанные им сокровенные мысли могли быть встречены подозрением и взволновать человека, ради которого он, не задумываясь, пошел бы на любые жертвы, отказался бы от самой жизни, ибо именно в нем он видел ожившую надежду грузин, верил его правде, хотя и с предубеждением относился к его выбору внешней силы, стремление к которой казалось ему напрасным. Именно то и огорчало моурави больше всего, что царь не внял крику его души, не захотел понять это отрицание третьей силы. Наоборот, попытка отговорить царя от ориентации на внешнюю силу еще больше укрепила в нем надежду на нее, и царь еще крепче утвердился в своем мнении, а мысли моурави показались сомнительными. Потому-то моурави, проклиная в душе коварного шаха, тяжело поднялся и едва слышно, вяло произнес:
— Я пойду, государь…
Теймураз молча продолжал сидеть, не поднимая головы. Будто вовсе не было тут Джандиери.
Моурави застыл в ожидании, досадуя на себя за то, что встал преждевременно, — может, дал бы бог, и царь пожелал бы продолжить беседу.
На счастье, дверь отворилась и в дарбази вошла царица Хорешан.
— Ты звал меня, государь?
Теймураз выпрямился, взглянул на супругу, но ничего не ответил.
Джандиери удалился, неслышно ступая.
— А что, если права была матушка! — горестно прошептал Теймураз про себя.
Хорешан, не поняв, о чем он говорил, с учтивой осторожностью присела рядом.
— Шах Аббас требует в залог мою мать и еще одного сына. Мать согласна, я тоже. — Теймураз смолк, а Хорешан тревожно спросила:
— Кого из сыновей ты решил отправить?
— Я пригласил тебя, чтобы посоветоваться! — царь испытующе поглядел на жену. Хорешан, не задумываясь, ответила:
— Леван — наследник престола, Александра ты уже отправил… Значит, надо отправить Датуну, — голос царицы дрогнул, когда она произнесла имя сына. Теймураз заглянул ей в глаза и глухо, жалея ее, произнес:
— Датуна мал еще… для путешествия… и для чужбины тоже.
— Маленькому легче привыкнуть к чужому, двору… И потом… не такой уж он маленький… И Александра очень любит. Скучает без него… Ты ведь сам тоже вырос при шахском дворе и, слава богу, вернулся живым-невредимым… Этот мальчуган, Гио из Цинандали, весь покрыт гнойниками и струпьями… мы наложили маламо[24]… Он очень ослаб от голода… — совсем не к месту вдруг вставила царица, с трудом сдерживая выступившие на глазах слезы, и Теймураз понял, что не сироте и бесприютному Гио из Цинандали прикладывала маламо царица, а его сверстника, кровь и плоть свою, родного сына лечила она материнской душою, столь целебной для любых житейских ран. Все понял царь, но виду не подал. А Хорешан, одолев минутную слабость и переведя дух, чуть тверже продолжила: — Нет худа без добра, Исфаганский двор Датуне пойдет на пользу, обучится персидскому языку, узнает персидских писателей, станет просвещенным, освоит восточные мудрости. И бабушка будет рядом с ним, и тетка Елена не обойдет племянника любовью и вниманием… Отец твой Давид, царство ему небесное, ведь именно в Исфагане изучил блестяще персидский язык и поэзию… А потому и прекрасно перевел «Калилу и Даману»[25] до притчи о Лисе… И твои стихи дышат благоуханием и сверкают блеском персидской поэзии… — скорее себя утешала Хорешан. А Теймураз все понимал, чувствовал страх матери за кровного сына, сердцем отцовским чуял, что она скорее прощалась со своим первенцем, чем убеждала царя в том, в чем сама не была уверена.
— Ведь Свимона погубило именно воспитание при шахском дворе. Чужбина отравила его, и чуждыми стали ему думы и дела Грузии, да и грузины уже не смогли принять его обратно… Нет. В Исфаган должен ехать Леван, — твердо произнес Теймураз. — Ане ехать нельзя. Значит, Исфаганский двор — его судьба. Бабушка, взрастившая его, будет пребывать там вместе с ним. И дорога чревата опасностями, и шахский двор — не самое безопасное место для малыша. Датуна же и здесь получит хорошее образование заботами и трудами католикоса.
— Придворные подумают, что царица, мол, пожалела родного сына и потому отправила сирот… И потом, Леван уже взрослый, готов при необходимости престол занять. Господь да пошлет тебе долгие годы, но в этом божьем мире все может случиться…
— Это моя забота. Все трое — мои кровные, родные, и меня никто и ни в чем не сможет упрекнуть. Завтра я созываю дарбази и всем сообщу о своем решении, — твердо заключил Теймураз, и на сердце полегчало будто. «Славься в веках, Грузия моя! Кто истребит тебя, когда на земле твоей такие женщины и такие матери есть у каждого очага! То, что мы, мужчины, рушим делом или словом, женщины наши возрождают любовью материнской и верностью супружеской своей. Да, славься в веках мать-грузинка, богом посланная, несравненная, мудро названная дедакаци[26] единением твердости отца и нежности матери, — так думал царь, ничего не говоря царице, лишь с болью поглядел в ее подернутые грустью красивые глаза, тяжелой правой рукой обнял за плечо бережно и вывел из палат.
И отцовство было для грузина тяжелым бременем.
* * *
Сбор дарбази был назначен на полдень. Утром, после завтрака, к Теймуразу вошла царица цариц Кетеван, которая показалась ему осунувшейся, постаревшей за сутки.
Сын сидел у стола. Он внимательно окинул ее взором, затем, дописав строку, отложил перо в сторону:
— Когда дело не клеится, сажусь за стихи, мать моя. В них я нахожу душевное облегчение и даже единение слов и дум, предназначенных для неотложных дел.
— Ежели ты задумал объединять Картли и Кахети, сын мой, не теряй времени ни на стихи, ни на долгие размышления. Действуй! Злые языки и то говорят, будто ты велел Эристави Зурабу убить царя Свимона, чтобы потом и Зураба убрать со своего пути как предателя и изменника.
Теймураз нахмурился и, привстав, хотел возразить, однако мать опередила его:
— Оправдываться не надо, сын мой. Я знаю, что это ложь. Но ложь и клевета распространяются куда легче, чем правда. Иная ложь, вдобавок внешне сильно подогнанная под правду, раскаленным клеймом обжигает того, против кого она направлена.
— Бог свидетель и моя совесть порукой, что я невиновен в этом убийстве. Свимон с Зурабом сами столкнулись в Схвило-крепости. Случилось это на пиру Амилахори. Дошло до меня, Свимон будто бы обо мне непочтительно отзывался и Дареджан оскорбил.
— А какое отношение он имел к Дареджан? — нахмурилась Кетеван.
— Язык без костей. Сказал будто бы он: собачьей дочери быть только сукой! Предложил Зурабу выгнать Дареджан и жениться на его сестре. Слово за слово, и Зураб убил его. Остальное тебе тоже известно. Зураб — двуликий. Нет, трехликий. Оказывается, тотчас же послал к шаху гонца… Одно лишь не рассчитал, что жена Свимона, Джаханбан-бегум, — внучка шаха. Именно ее и пленил, привез в Дигоми и поселил у какого-то азнаура[27]… И к насилию прибегнул… Узнав об этом, я велел отправить Джаханбан-бегум в Мухрани, к Мухран-батони[28]. Остальное ты знаешь.
— Сын мой, раз ты избрал столь сложный путь — одновременно хочешь шаха умиротворить и братскую дорогу проложить к России, что ты ради спасения народа и отчизны делаешь, — три правила должен запомнить накрепко: беречь тайну, не допускать колебаний и быть твердым до конца. Все остальное ты знаешь сам… Мы с Леваном готовы.
— Ты говорила с ним?
— Он мужественно встретил предстоящее испытание. Глазом не моргнул, бровью не повел. Меня стал подбадривать.
У Теймураза подкосились ноги, снова опустился на тахту и, опершись локтями на колени, закрыл лицо руками. Мать поняла его боль. Подошла и свою легкую руку положила на его голову.
Тепло материнской руки живительной силой прошлось по телу Теймураза и заставило сильнее забиться страждущее сердце его. Он был бы счастлив, если бы вместо царской короны эта рука лежала на его голове, если бы оставшиеся годы своего страдальческого жизненного пути не нужно было бы проводить без нее, без материнской поддержки! Он бы с радостью доверил трон сыну или кому-нибудь другому, кто мог объединить, возвысить и возродить Грузию, ибо без Грузии, ее светлого будущего, без грядущего родины, не было бы самого живительного материнского тепла, ибо Грузия для него была матерью, а мать Кетеван была для него самой Грузией.
Царица так же легко и незаметно убрала руку, как и положила, потому что знала, сердцем повелительницы и матери знала, что любое излишнее внимание и тепло скорее расслабит в беде оказавшегося богатыря, чем исцелит его душу. Потому-то она отошла в сторону и, сев в кресло, мягкими движениями пальцев стала перебирать четки.
— Нет такой жертвы, которая была бы не под силу царю, ибо само царствование есть постоянное жертвоприношение и самобичевание, — твердо проговорила царица цариц. — Кто не способен на это, правителем быть не может. Всякое дело, особенно же великое, без жертвы не свершится. Давно пришло время объединить сперва Кахети и Картли, а затем и всю Грузию. Ни князья, ни шах и ни султан не захотят создания единой сильной Грузии… Но этого жаждет наш народ, сын мой, ему нужен сильный, почитаемый всеми правитель, а потому ты должен стать и слугой народа и истинным правителем — сильным и справедливым. А поскольку в основе всего благого и крепкого на этом свете лежит вера, то ее надо беречь. С веры начинается преданность и любовь к родине, любовь к матери и отцу, к дочери и сыну, к сестре и брату. Разумом взлелеянная и возвышенная вера ляжет в основу семьи, рода и самой страны. Верю, это ты и без меня хорошо знаешь, завещаю все это с материнским правом во благо. Следуй по тропам и дорогам предков, ищи заступника могущественного и справедливого, великого, а главное, единоверного, ибо в нынешнем своем состоянии страна твоя не сможет поддержать тебя в решающей и большой битве, без которой мы не получим ничего. Да благословит тебя господь, сын мой! Думами же о нас не терзай себя.
После возвращения из Имерети Теймураз еще не созывал большого дарбази, избегал многословия, рассуждений и пересудов, сокровенные свои думы и заботы таил в душе, мысли оттачивал для свершения дел сегодняшних, завтрашних и грядущих. В Рим и Испанию отправил Никифора Ирубакидзе, грека по матери, человека просвещенного, говорящего на многих языках, душой и телом преданного вере и родине своей. Опасаясь лазутчиков и соглядатаев, запретил грузинство свое выдавать, велел ему называться греком Ирбахом. Но все тщетно, шах обо всем узнал подробно, узнал и о посольстве в Россию, что больше всего взбесило его. Поэтому и не созывал Теймураз большого совета, ибо именно оттуда просачивались в Исфаган его тайные мысли. Наученный горьким опытом, он предпочитал совещаться с каждым в отдельности, лицом к лицу, чуть ли не шепотом, избегал малейшей огласки, самой безобидной мысли не доверяя даже дворцовым стенам.
Потому-то удивились члены большого дарбази, узнав, что царь собирает их на совет. Были приглашены все без исключения члены царской семьи: вдовствующая царица цариц, царевичи, царица Хорешан, католикос, а также вельможи: амирспасалар, дворецкий-распорядитель, главный конюший, мегвинет-ухуцеси[29], мечурчлет-ухуцеси [30], знатные князья и дворяне.
Когда все собрались, царь пожаловал первое слово стольнику мегвинет-ухуцеси, который подробно доложил о том, каков в нынешнем году урожай зерна и винограда, какое будет поступление для царского двора и войска масла и сыра. С болью отметил, что сократилось поголовье скота — не хватало лошадей, буйволов, быков и овец.
Караман Чавчавадзе взялся дополнительно доставить ко двору пшеницу, ячмень и вино. Обещал выкормить за зиму два десятка коров и только к весне пригнать их в царское стадо. Гайоз Черкезишвили из Ахметы взял на себя обеспечение царского войска сыром и маслом, одеждой и купленными или отобранными у лезгин саблями да кинжалами.
Остальные члены дарбази тоже изъявили готовность поддержать царский двор и казну. Все единодушно обнаружили верность и преданность царю, глубокое к нему уважение.
Взял слово мечурчлет-ухуцеси. Сначала подчеркнуто выразил глубокую благодарность Давиду Джандиери за те труды и старания, которые тот вложил в восстановление разрушенного двора. Затем сообщил дарбази, что казна пустеет. И здесь никто из собравшихся не поскупился, каждый старался опередить другого своей щедростью, хотя и ясно было, что сама эта щедрость была мизерной, у самих-?? после грабительских нашествии оставалось не так уж много золота и серебра. Всех превзошел католикос — тут же, в присутствии всех, с груди снял и передал мечурчлет-ухуцеси свой золотой крест, весом не меньше двух фунтов, усеянный рубинами и жемчугами.
— Во славу родины жертвую сим даром, могущественным не ценностью, а силой святости своей великой. Прислужнику Христову не гоже способствовать делам кровопролитным, но с условием твердым передаю тебе, царь-повелитель, что ежели суждено будет сему кресту дворец покинуть, то лишь только в обмен на то святое оружие, которое насмерть будет истреблять проклятого врага! — С этими словами католикос возвел взор к небу, трижды перекрестился и, воинственно сверкнув глазами, обвел дарбази взглядом. И в эту минуту он больше походил на мстителя, нежели на первого богослужителя христианской страны. Теймураз с достойной сдержанностью поблагодарил его.
Да, таково было время — и воины, и божьи люди саблей жили, саблю лелеяли во спасение страждущей отчизны.
Каждый сказал свое, каждый внес свою долю в укрепление двора, — совет медленно, не торопясь, подходил к концу. Вельможным князьям поручено было восстановление крепостных стен и башен, братья Джорджадзе взялись укрепить дворцовую ограду, князья Андроникашвили пообещали пригнать двенадцать упряжек быков с арбами; сотню скакунов в полной сбруе изъявил желание выставить старший сын моурави — Ношреван Джандиери, предварительно оговорив, что коней этих отобрал за два года у горцев, грабивших кахетинские села. Князь Чолокашвили обязался прислать плотников и каменщиков, дабы укрепить своды летней резиденции верхнего круглого дворца, починить и утеплить покои, чтобы царская семья могла жить там и зимой. Кроме того, обещал поднять на ослах по крутой горе годовой запас провианта как в верхний дворец, так и в сторожевую башню, а вдобавок прочистить водокачки во дворце и монастыре Всех святых.
— О монастыре не беспокойся, батоно Соломон, — подал голос католикос. — Там все припасено на черный день. В марани[31] стареют вина, ветряная мельница работает, и зерна запасено годика на два, душ на триста хватит, а монахов и священников предполагается куда меньше.
Царь сдвинул брови и указательным пальцем потер лоб.
Дарбази смолк, насторожился, чуть дыхание не остановилось. Даже царица Кетеван перестала перебирать четки. Католикос осторожно пригладил бороду.
Все взоры обратились к человеку, которого здесь уважали, в которого верили, хотя в основе этого доверия и уважения лежало скорее сочувствие, чем преклонение перед ним, перед его силой. Его стихи не нравились никому — ни моурави, ни католикосу, ни матери, ни жене, но никто об этом ему не говорил. Он сам признавался как-то: только в ту пору, когда я связан по рукам и ногам и не могу действовать, пишу, мол, стихи, чем и тешу душу свою.
Сегодня же, в течение всего совета, в глазах царя читались решительность и действие, а потому-то все ждали слова, равного делу.
— Стране тяжко, страна в беде. Это все знают, — со смертью святой солнцеликой Тамар не стало прежней Грузии. Из века в век тянулась череда сражений, кровопролитий, измен, бедствий. Народ отощал, население все уменьшается. Кахети на грани физического уничтожения. По примеру моих предков, царство им небесное, я тоже искал внешнюю силу — путь к спасению, искал третью, единственную силу, способную помочь нам. Послал в Рим и в Испанию Никифора Ирбаха…
Царица Кетеван и католикос вздрогнули, в лице изменились от неожиданности: царь впервые объявил во всеуслышание о том, что хранилось в глубокой тайне. Помрачнел и Джандиери.
— Я держал все это в тайне потому, — продолжал царь, — что берег вас от невольных подозрений, если бы мои сокровенные дела стали достоянием кого-либо. Не получилось ничего, римский папа хочет лишь одного — увеличить число своей паствы, а потому изъявляет желание, чтобы мы приняли католичество. „Католичество вас спасет“, — сказал он моему послу, на прощание протягивая руку для лобзания. Из Рима Ирбах направился в Неаполь, оттуда поехал в Мадрид. Испанский король принял его любезно, щедро одарил, но в помощи войском и оружием отказал. „Войско, — сказал он, — мне самому нужно для наведения порядка в моих владениях“. Никифор же у придворных вельмож осторожно разузнал истину: Мадрид не так уж легко согласится на осложнение отношений с шахом. Никто не желает помочь нам, не нагрев при этом рук, не получив никакой выгоды, — заключил Теймураз.
— На Рим и Мадрид нечего было и рассчитывать, и те и другие далеко и зря беспокоить себя из-за нас не будут, — по исключительному праву матери и старшей по возрасту вставила свое слово царица цариц Кетеван.
— Русский царь прислал священников, чтобы они осмотрели страну, узнали, чем мы владеем и на что способны, их интересует, какую пользу они извлекут из помощи нам. И, право, упрекать царя за это нельзя, ибо мы тоже тянемся к ним не только из-за одной общей веры, нет, конечно, мы помощи от них ждем. Таковы истинные основы наших усилий, — медленно и ясно заключил царь и в упор посмотрел в глаза по-прежнему взиравшему на него с неослабным изумлением католикосу. — Потому я твердо решил: хватит искать внешнюю силу, которая сама тоже добра все равно не принесет, а прежнего покровителя нашего лишь пуще распалит. Не зря сказано мудрыми: привычная беда лучше непривычной радости. Великий шах справедливо разгневался и очень уж жестоко нас наказал. Из этого наказания следует сделать вывод: сохранять верность шаху и прекратить поиски внешней силы. Вы прекрасно знаете, я вырос при персидском дворе, и мне это никакого вреда не принесло, наоборот, я изучил язык, освоил поэзию и великую мудрость персидскую. Потому-то я заключил твердо: во исполнение воли шахиншаха и в знак преданности нашей посылаю к его двору царицу цариц Кетеван и старшего сына моего царевича Левана, наследника престола, как того пожелал владыка мира. Вам и то известно, что царевич Александр тоже находится при шахском дворе… И пусть это будет величайшим знаком моей большой преданности шаху… И еще… Выполняя волю солнцеподобного, я принимаю под свое покровительство и Картлийское царство, ибо и в Картли должен править человек, преданный Исфагану. — Теймураз перевел дух и, стараясь уйти от взора ошеломленных членов дарбази, отвел взгляд в сторону, а затем еле слышно продолжил мысль: — Царица цариц и наследник престола отбудут ровно через неделю. Сам же я со свитой завтра ранним утром отправлюсь в Картли…
Царь каждому в отдельности дал поручения, велел готовиться к отъезду царице цариц и царевичу. Растолковал свою поездку до мельчайших подробностей, назвал число сопровождающих, велел Джандиери приготовить царскую дружину к походу, изъявил желание, чтобы католикос сопровождал его. Поручил царевичу Левану до его отъезда в Исфаган, а после — старшему из братьев Джорджадзе Андукапару управлять делами Кахети. Датуна, мол, еще мал, царству же нужна крепкая рука.
Покончив с распоряжениями, царь велел в знак мира и благоденствия устроить пир, пригласив всех к торжественной трапезе.
В большом зале дворца накрыли стол. Пригласили певцов из Телави. Известие о предстоящем отъезде царицы цариц Кетеван было умело распространено и среди вельмож, и в караван-сарае, среди персидских и других купцов.
К столу с подчеркнутой вежливостью пригласили и послов русского царя, к которым Теймураз обратился во всеуслышание:
— Вы, почтенные посланники нашего великого брата, русского царя, уважаемые господа Толчанов и дьяк Иевлев, к вам обращаюсь я, к нашим единоверным! В письме, переданном вами в мои руки, адресованном на мое имя вашим великим государем, сказано следующее… — Тут Теймураз обернулся к секретарю, мдиван-бегу, и велел ему приступить к чтению. Тот поспешил выполнить приказ:
— „И мы, великий государь, слыша про то, что вам, Теймуразу-царю, от кумычан теснота чинитца, о том поскорбели, а воеводу и ратных людей послать и города поставить не изволили…“
Когда мдиван-бег дочитал до конца письмо московского царя и перевел его на грузинский, стоявший все это время на ногах Толчанов добавил:
— Да сверх того пошлет великий государь великих послов своих говорить к брату своему шах Аббасову величеству, чтоб отдал по совету и по братству государство твое Кахеть…
Секретарь перевел и это устное дополнение.
Теймураз кашлянул, в глазах у него мелькнула улыбка, и прежним ровным голосом ответил:
— Передай пребольшую нашу благодарность превеликому русскому царю за братское внимание и заботу, но миновала надобность посылать в Исфаган послов, ибо шахиншах пожаловал мне не только Кахети, но и Картли, дабы я управлял ими и служил ему, повелителю моему, верой и правдой. А послом к нему отправляется сама царица цариц Кетеван вместе с наследником престола царевичем Леваном. Это мое окончательное слово, и на этом ставлю точку на наших переговорах. Раз московский царь считает шахиншаха своим преданнейшим братом, то смею напомнить, что мы еще раньше пользовались покровительством его величества по праву зятя и друга нашего. А коль мы провинились и прогневили его, мы сами и должны свою вину искупить, доказать ему усердно, до конца, что мы преданы ему больше и дольше… да, дольше других, навеки! Но мы с вами тоже останемся братьями, будем почитать друг друга с шахского благословения и повеления, ибо отныне его брат — мой брат, его же друг — мой друг…
Сидящие за столом вельможи и гости не были ошеломлены услышанной новостью из уст Теймураза, особенно о благоволении шахиншаха, ибо знали о тонкостях восточного слова, знали мысли кахетинских Багратиони, особенно же Теймураза. И то было им ведомо, что выставление желаемого уже исполненным и свершившимся невольно способствовало его действительному исполнению. Нет, они не были ошеломлены, однако до конца вникнуть в сокровенные помыслы тоже не смогли.
Несмотря на усердные хлопоты, тщательно и щедро накрытый стол выглядел скорее как поминальный, чем праздничный, хотя все было будто безукоризненно: вдоволь еды и питья, песен и пляски, музыки с музыкантами.
А назавтра, еще до восхода солнца, царь в сопровождении свиты и войска выехал из Греми.
* * *
Царица цариц Кетеван готовилась к отъезду. Главой посольства объявили уже повзрослевшего царевича Левана. С подчеркнутой учтивостью поручила ему позаботиться о подарках для шаха, отобрать и упаковать собственные одеяния. Лошадей в конюшне выбирала сама. Своего старого коня решила оставить дома, пожалела — еще падет в пути. Свои вещи в сундук уложила собственноручно. Большую часть личных драгоценностей и украшений, древнюю рукопись „Вепхвисткаосани“[32], свою саблю с кинжалом передала Хорешан с наказом: случись так, что я не вернусь, драгоценности мои справедливо разделишь между невестками — от меня, конечно, — а саблю и кинжал отдашь Датуне на память. И еще добавила: я бы сама ему отдала, но, кто знает, вдруг я вернусь и мне самой оружие это понадобится, к новому я уж не привыкну, а дареное обратно не смогла б взять. Потому-то этот мой дар передашь ему именно тогда, когда наверняка убедишься… что они мне больше не понадобятся.
В прислуги выбирала женщин немолодых — старше себя годами, бездетных, неказистых. Молодым велела оставаться дома, к другим делам приставила; старому Георгию, уроженцу Кизики[33], велела быть ее личником и Левану посоветовала молодых в свиту свою не набирать, они, мол, здесь нужнее. И вообще большую свиту не захотела, двадцать человек всего включила: лишь на нашей земле, мол, нам придется держать ухо востро, а в шахских владениях нас будут охранять. К царевичу еще сам Теймураз приставил двух удалых тушинов, отличающихся смелостью и сообразительностью, повелев им глаз с него не спускать. Царица же, не противясь наказу сына, примирительно сочла, что двух молодых парней для охраны царевича достаточно, остальных выбирала сама — мужей пожилых, но еще крепких, разумных, особенно тех, кого лично знавала и кому доверяла сполна.
Кетеван распорядилась увязать в дорогу пять тонэ хлеба, приготовить двадцать гуда[34] сыру, када — пироги и сласти — велела уложить тоже в гуда, чтоб лучше сохранились, не сохли. Копченое мясо в чанах погрузили на крытые арбы. Быков велено было запрягать старых — все молодое жалела, берегла царица, не хотела брать на чужбину. Вместе с Леваном наметила предстоящий сложный путь в присутствии старого Георгия, который ранее сопровождал Теймураза в Исфаган, находясь при нем во все время его пребывания там, и хорошо знал дорогу. Не забыла Кетеван про чурчхелы[35], сушеный инжир и персики, ибо их особенно любил Александр. Велела насыпать в гуду любимое Леваном лобио. Коней и быков приказала наново подковать в царской кузнице. Оглобли, копылья, шкворни, подпорки аробные — все проверила самолично, колеса велела снять и оси смазать говяжьим жиром. Ничего не забыла. Все или сама готовила, или же наблюдала, следила, проверяла, как готовили другие.
…Клонился к закату последний предотъездный день. Завтра на рассвете царица цариц со своей свитой собиралась покинуть Гремский дворец.
Во дворце еще не погасли бледные лучи осеннего солнца, а низина уже блаженно тонула в тиши вечерних сумерек.
Из дворцовых ворот вышли трое: Кетеван вела Датуну, бережно обхватив его за плечи, за ними на почетном расстоянии следовал верный слуга Георгий при сабле и кинжале.
Из всех троих внуков Кетеван менее всего трудов и забот вложила в воспитание младшего, Датуны, но из троих он был ей более всех люб как младший, как самый озорной, неугомонный, живой и смышленый. Царица-бабушка чувствовала, что на становление характера Левана и Александра, на их душу свой беспощадный отпечаток наложило сиротство, хотя Кетеван и самозабвенно заботилась о них. Однако, рано овдовевшая, жившая чуть ли не нахлебницей при дворе свекра, поглощенная вечными заботами о детях, измученная тревожными мыслями и даже борьбой за их жизнь, сама она была лишена человеческой любви и ласки. В особенности тяжкой стала ее жизнь, когда Теймураз вынужден был находиться в Имерети, тогда много чисто мужских забот легло на ее плечи. Именно потому-то она и Не была столь нежной и душевной к старшим внукам-сироткам, сколь молодая Хорешан, одаривающая младшего царевича, своего первенца, всеми благами нежной материнской любви. Правда, чувствительный и душевный по природе Теймураз старался окружить любовью осиротевших сыновей, но его чувства подавлялись мужской суровостью.
Думая об этом, Кетеван ласково провела теплой рукой по красивому лицу младшего внука. Она чувствовала, сердцем понимала, что эта ласка шла от ее любви к Левану и Александру младенческой поры, а сейчас ей хотелось выказать мальчику наполнявшие ее душу нежность и любовь.
— Тебе не холодно, дитя мое?
— Нет, бабушка, я холода не боюсь, — с мальчишеской горделивостью ответил Датуна своим звучным голоском, выразительно посмотрев на бабушку своими огромными глазами, которыми так часто любовались старшие братья. Они особенно были привязаны к младшему, баловали его своим покровительством, вовлекали в свои затеи, брали с собой на охоту и на рыбную ловлю, но праву старшинства оберегали от любой случайности или опасности. Все это он замечал, а потому-то любил их еще крепче, тянулся к ним все сильнее. — Позавчера Леван взял меня с собой в Алаверди, на нашу пасеку. Мы всю ночь там провели, соты из ульев вынимали. До рассвета из десяти ульев мед собрали, и я ни чуточки не замерз.
— То-то, я смотрю, вы распухшие вернулись оба.
— Да меня Леван близко к пчелам не подпускал, сам возился и с ульями, и с пчелами. А я только смотрел издалека. Бабушка, вы весь мед заберете с собой?
— Почему же, сынок, половину тебе Оставим.
— Да я не потому спрашиваю! Зачем мне половина! Если на то пошло, мне совсем ничего не надо… Александр больше моего любит мед. Если там меда не будет, у кого он должен просить? Ты лучше ему отвези и всю мою долю, бабушка.
— Там все есть, мой мальчик.
— Наш мед все-таки особенный. Такого там не будет. У нашего вкус и аромат акации, и потом наш мед — все-таки наш мед…
Бабушка ничего не ответила, только крепче обняла внука за плечо, а он в ответ теснее прижался к ней.
Некоторое время они шли молча. Миновали хоромы князей и подошли к речке Болия. Первой по деревянному мостику перешла через нее Кетеван, за ней шел Датуна, Георгий же по-прежнему замыкал шествие. Когда они ступили на землю монахов и стали подыматься по тропке, ведущей к крепости и монастырю Всех святых, царица пропустила Датуну вперед.
— Бабушка, какая ты у меня крепкая, сильная. Я все время хочу тебя опередить, но никак не могу догнать.
— Это тебе так кажется, милый, что я сильная и крепкая.
— А вот и нет! И отец всегда гордится силой твоей и умом. Накануне отъезда в Картли он зашел в нашу комнату поздно ночью, думал, что мы уже спим. Сначала меня поцеловал, потом встал на колени перед тахтой Левана и долго, осторожно целовал его. Ни он, ни я не спали, но притворились спящими. Ты же знаешь, если б мы не спали, он бы не стал нас нежить. Левана он очень долго ласкал… — Мальчик остановился на середине горы. Остановилась, повинуясь его желанию, и Кетеван, встал поодаль и Георгий. — Потом он молил за нас господа и к тебе обратился, как к богине: „Мать моя родимая, говорит, поручаю мудрости и силе, стойкости твоей сыновей моих, тобой вскормленных и вспоенных сирот. Ты взрастила моих первенцев-сирот, тебе я и доверяю их взрослыми. Я молю бога, чтобы вы, все втроем, благополучно возвратились к очагу нашему. Да будет и отец, и царь Теймураз жертвой преданности и нежной любви к вам…“
— Жертвенность отца — он правильно сказал, но жертвенность царя — я не согласна… — прервала внука Кетеван и медлить уже не захотела более, двинулась дальше.
Подойдя к крепостной ограде, царица цариц решительно постучала в ворота. Сторожевой, выглянув в щелку и узнав ее, не спрося никого, поспешно снял засов.
Тяжелые дубовые створки со скрипом распахнулись.
Кетеван поднялась по ступенькам, пересекла склон небольшой лужайки и направилась прямо к царским покоям. Хлопотавшие возле марани монахи только на мгновение обернулись к пришедшим и опять принялись за свое дело: они пилили дрова, кололи и складывали поленья на зиму. Сторожевой снова запер ворота на засов и поспешил следом за царицей, шелестя длинным подолом рясы и шаркая шлепанцами.
Догадавшись, что царица направляется прямо в покои, и зная, что в мирное время Кетеван сюда ходила только для того, чтобы подняться по внутренней лестнице в башню, сторожевой чуть ли не бегом опередил царицу и, остановившись в узком проходе, между церковью и царскими покоями, забренчал связкой ключей, ловко извлеченной из-под полы, а затем щелкнул замком и первым вошел внутрь, широко распахнув двери.
Царица не пожелала зажигать свечей, сторожевого выпроводила, плотно закрыла дверь на засов и повела внука с Георгием к башне, где каждый уголок и поворот крутой лестницы был ей хорошо знаком. Поднявшись по первому прогону лестницы, они вышли на площадку маленькой кельи, затем свернули влево и, поднявшись по ступенькам, оказались в помещении, служившем пекарней; оттуда поднялись еще выше, в башню. Не останавливаясь, царица отодвинула засов, толкнула тяжелую дверь и вошла в тесную келью, ту самую, в которой когда-то заперлась перед кончиной мать Левана и Александра и где еще раньше в одиночестве испустил дух больной супруг царицы Кетеван Давид.
В келье было чисто прибрано. На широкой тахте, покрытой шкурами оленей и джейранов, лежало множество мутак[36], а одеяла и матрацы были убраны в стенную нишу. На столешнице орехового дерева стоял подсвечник, рядом с трутом и огнивом.
Царица и на сей раз не пожелала зажигать огонь.
— Не хочу, чтобы в Греми знали, что я здесь, — коротко объяснила она Георгию, старавшемуся осветить келью; садясь на тахту, она трижды перекрестилась, а затем ласково обратилась к внуку: — Поди ко мне, дитя мое, сядь рядом, я хочу тебе что-то сказать. За этим я и привела тебя сюда.
Георгий собрался уйти, чтобы не мешать разговору.
— Не суетись, останься, Георгий, ты все подробно знаешь о нашей семье. Я хочу, чтобы и внук все знал… Кто ведает, как дальше дело обернется. Может, отец и не расскажет ему ничего. Решит, что мал еще, а там и вовсе не сможет, не успеет. Ведь никому не ведомо, что ждет нас завтра, впереди… Кто попал в клещи и зависимость от кизилбашей, никогда не может быть уверен, что доживет до вечера. Когда он закончит свою жизнь и где, сам отец небесный не предскажет… Там, в кувшине, вино, налей мне чуток, Георгий, будь добр, что-то в горле пересохло.
Георгий почтительно поднес царице серебряную чашу. Кетеван отпила немного и медленно заговорила:
— Датуна, сынок, мал ты, правда, но не такой маленький, чтоб бабушку свою не понять. Завтра мы уезжаем, и в Греми ты остаешься самым старшим представителем рода… Я не знаю, когда вновь увижу тебя, и увижу ли вообще…
— Как это не увидишь, бабушка! — пылко воскликнул мальчик, хотя и не кинулся к ней и по-прежнему остался чинно сидеть чуть поодаль, ибо лицо ее в вечерних сумерках выражало скорее холодность, чем теплоту, которая, казалось, неминуемо должна была сопутствовать доверительному началу исповеди. — Если понадобится, мы с отцом всю Кахети на ноги поднимем и придем вас выручать! Как Тариэл, Автандил и Придон[37] сокрушили Каджети, так и мы сокрушим твердыню кизилбашей!
— Твоими бы устами да мед пить, сынок! Но грузины никогда ни на кого не нападали, они только оборонялись от нападающих… — Царица чуть помолчала, а затем продолжала негромко: — Мы терпеливо сносили очень много оскорблений пришельцев, старались избегать кровопролитий, хотя душа кипела от злости и обиды… Потому-то вынуждены были прибегать к хитрости, и, к великому нашему сожалению, часто вносили и в отношения между собой… Всему этому — неискренности и лицемерию — правителей Грузии научил наш враг, потому никто не вправе упрекать нас в коварстве и душевной злобе… Хотя порой, оцепленные этими недугами, вместо врага мы беспощадно обрушиваемся на брата… Как это случилось в нашей семье во времена моей молодости… — царица снова умолкла, отпила вина из чаши и продолжала еще более решительно: — У твоего деда, внучек, у Давида, был отец по имени Александр, царство ему небесное… В его честь-то и назвали твоего брата Александром, да будет счастлив во веки веков! Так вот, у прадеда твоего Александра было пятеро сыновей и одна дочь: Давид — твой дед, отец твоего отца, Георгий — следующий за Давидом брат, Ираклий, Ростом, Нестан-Дареджан и Константин — самый младший, которого чуть ли не с рождения забрали к шаху, якобы на воспитание, на самом же деле — в заложники…
— А что такое заложник, бабушка?
— Заложник… — горько улыбнулась Кетеван, — самое близкое, самое дорогое грузинскому царю существо, которое шах забирает к себе как жертвенного тельца, чтобы казнить в том случае, если царь посмеет ослушаться или выйдет из его повиновения.
— Значит, ты…
— Нет, я и твои братья, мы едем в гости к твоей тете, моей дочери Елене — жене шаха…
— Одной из трехсот… — вставил Георгий, но царица, не удостоив вниманием его горькую усмешку, не спеша продолжила:
— Наши тавады стали поддевать деда твоего Давида — мол, отец твой Александр дал клятву преданности русскому царю, а шахиншах, дескать, на него гневается, не прощает измены и готовится к походу против нас… Александр же собирается отречься от престола, дабы сухим из воды выйти, а тебе, сам знаешь, ничего не говорит, потому что хочет посадить на престол не тебя, а среднего сына Георгия — он, мол, считает, что ты слишком предан Исфагану и всему персидскому. Дед твой Давид поделился со мной своими сомнениями. Я, не долго думая, возьми да выложи все своему свекру, твоему прадеду Александру. Он поклялся, что все это ложь. Но эта отцовская клятва, переданная мною твоему деду, лишь еще крепче убедила его в правдивости слухов, и он больше не сомневался в истинности доносов.
— А может, сам шах нарочно подослал к дедушке людей с такими вестями, чтобы руками сына расправиться с царем Александром за его переговоры с русскими?
Царица вздрогнула — молнией поразила ее близкая к истине догадка, которая до сих пор не приходила в голову ни ей, ни Теймуразу. Действительно, прав был Датуна, Исфаган коварно рассорил отца с сыном. Царицу ошеломила проницательность отрока, а также мысль, внезапно промелькнувшая в мозгу: „Может, это и к счастью Грузии, что старшие царевичи, по воле шаха, от престола отдалились и истинным преемником Теймураза будет именно этот мудрый отрок — надежда отчизны“.
— Я тогда молодая была, Датуна, и так переживала несчастья, свалившиеся на нашу семью, что мне эта мудрая мысль даже в голову не пришла ни тогда, ни потом… А дед твой однажды ночью… заключил в крепость Торгва своего брата Георгия, а царя Александра заставил постричься в монахи… К шаху послал гонца с, вестью — непокорного тебе Александра и единомышленника его Георгия я, мол, от власти отстранил.
— Как, должно быть, возрадовался шах!
— И возрадовался действительно, и даров прислал Давиду несметное множество.
— Я же говорил тебе, бабушка!
— Ты прав, сынок! Я только сейчас представила себе ясно, что все это было подстроено шахом… Однако деду твоему, Давиду, не суждено было царствовать более шести месяцев.
— В его честь меня Давидом назвали?
— Да. Тщеславие стало его недугом… И преданность шаху, почти рабская преданность, была его движущей силой. Он был истинно просвещенным и образованным. Персидский, арабский и греческий языки знал, как грузинский, но верность всему персидскому ставил превыше всего.
— И верность та была, наверное, тоже его честолюбием вызвана?.. — как-то стесняясь, заметил мальчик.
— Ты прав! — снова просветлело лицо, у царицы цариц, изумленной острым умом внука. — Да, не к лицу грузину слепая преданность шаху!
Кетеван, не найдя похвальных слов, наклонилась и поцеловала мальчика в лоб, а Георгий бросил в его сторону восхищенный взгляд и трижды перекрестился.
— Мудрецом родился ты, дитя мое, и будь мудрым до конца… Прадед твой Александр крепко проклял деда твоего Давида, а через шесть месяцев Давид заболел, и никто не мог ему помочь. На престол же снова взошел Александр… Однако, озлобившись на сына, он не мстил нам, наоборот… Отцу твоему было столько же лет, сколько тебе сейчас, когда скончался Давид… Александр особенно любил его, в отличие от других внуков, и ни в чем ему не отказывал.
— Отец и тогда писал стихи?
— Писал… Но Александр ценил в нем не поэтический дар, а умение охотиться… И жалел как сироту. Зато брат твоего деда Георгий ненавидел нас обоих…
— Еще бы!
— Георгий сначала был из-за Давида озлоблен, а затем стал бояться, как бы огорченный смертью сына Александр, который приписывал его безвременную смерть своему проклятию и считал заслугой покойного, что он в свое время сохранил жизнь отцу и брату, не передал бы престол внуку, — Теймуразу, и не оставил бы Георгия ни с чем, Именно тогда русский двор через послов предложил нам отправить твоего отца в Москву — на воспитание и… в зятья русскому царю. Мысль эта была хорошая, но шах Аббас не простил бы этого не только мне, но и Кахети, всей Грузин. А русский двор помочь бы ничем не сумел… В нашем роду издревле так было заведено, и ты хорошо должен запомнить: принимая решение, в основном и прежде всего думай не о своей, а об общей пользе. Потому-то я и послала Теймураза ко двору шаха Аббаса, чтобы шах мог надеяться, что воспитает его по-своему, а потому никому в обиду не даст, — рассуждала я. Так оно и вышло. Шах ничего не жалел для воспитания твоего отца, однако все-таки просчитался, ибо по-своему не смог его воспитать!
Мальчик глубоко вздохнул.
— Если бы шах воспитал его на свой лад, тогда он не был бы твоим сыном и нашим отцом.
— Умница ты мой! Да благословит бог твой разум! Когда шах, заполучив Теймураза, успокоился, он решил убрать с дороги Александра и Георгия, дабы в назидание другим не простить им сближения с Россией. И тогда сказал он Константину…
— Брату моего деда?
— Да, сказал он брату Давида: „Иди, убери с дороги отца и Георгия и стань царем Кахети“. Константин, оказывается, спросил: „А как мне их убрать?“ Шах лукаво улыбнулся: „Только не так, как это сделал брат твой Давид…“
— Это значит, не щади, мол, убей?!
— Именно так он и поступил… Вернулся в Кахети… Старый Александр объятиями встретил долгожданного сына… И Георгий принял его по-братски. А он, не долго думая, на пышном пиршестве в честь его приезда напустил на родителя кизилбашей, и те зарубили старика, праздновавшего возвращение сына… Брата Георгия же Константин собственноручно зарезал… И князей-вельмож многих истребил тогда… Русские послы были потрясены случившимся. Я при этом не присутствовала. Сидела здесь, в этой башне, когда мне принесли эту горестную весть. Я хотела немедля отомстить убийце, но побоялась за сына. Всячески избегала Константина… И все же пришлось с ним столкнуться на охоте… Потом, потеряв честь и совесть, он просил моей руки…
— Представляю, какую отповедь он получил! — вставил Датуна, сверкая глазами..
— …Я пошла прочь, в Кизики укрылась. Там люди были вольные, князей спокон веков не знавали и жили, как им честь и совесть повелевала… Где нет княжеского насилия и человек только трудом мерится, там у людей и честь и совесть на месте. Вот наш Георгий тогда и скрывал меня среди своих… Но злодей и там меня нашел… Я вижу, с ним свита небольшая, и не стала долго раздумывать… Велела Георгию людей привести, поддержали меня и сторонники деда твоего… Изрубили в куски и Константина, и его кизилбашей… Кто уцелел — к шаху поспешил. Шах-то, узнав о случившемся, пришел в ярость. Сначала хотел Теймураза убить, дабы меня изничтожить, но потом сразу рассчитал хитро. Один из наследников Александра, Ираклий, находился при дворе турецкого султана, который мог воспользоваться случаем, прибрать к своим рукам опустевший кахетинский престол и посадить на него своего воспитанника Ираклия. А потому шах и смекнул: „Лучше уж Теймураз, выросший при моем дворе, станет царем“. Вызвал Аббас к себе Теймураза и говорит: хвала деснице матери твоей, не зря она тещей мне приходится! Предавший брата и отца шакал Константин и меня бы не пощадил, ибо умертвивший родичей своих способен на любую подлость… Ступай и передай глубочайший поклон матери твоей… Я благословляю тебя на царство Кахети.
Шестнадцать лет минуло твоему отцу, когда в Бодбийском монастыре я венчала его на царство и женила на… матери Левана и Александра… Потом, после ее смерти, мы сосватали ему твою мать, и она стала… царицей… — чуть медля, проговорила Кетеван.
А ты все равно осталась царицей цариц, бабушка! — с гордостью вставил Датуна.
— Воистину так, — степенно заключил Георгий, потирая руками колени.
Кетеван поднялась с тахты, подошла к узкому окну и легким взглядом окинула княжеские поселения, где в своих хоромах жила самая богатая и влиятельная знать Кахети. Потом задумчивый взгляд ее скользнул дальше, к горам Кавкасиони, над которыми миражно серебрился лунный свет. Да, она осталась царицей цариц, вдовствующей государыней… Теймураз был еще совсем дитя, когда лишился отца, был еще незрелый отрок, когда взошел на престол, а Кетеван заменяла ему и мать, и отца. Так это было, сама она правила тогда страной, сама отличала друзей от врагов, все было взвалено на ее плечи — и семья, и осиротевший сын, и сильно расшатавшийся престол, и пришедшее в упадок Кахети… Завтра чуть свет она покинет Греми и поедет в Исфаган с внуком, наследником престола… Сына ее когда-то пощадил молодой Аббас… Пощадит ли внуков на этот раз или сведет наконец счеты с ней, виновницей гибели Константина, посадившей на престол Теймураза? А может, именно этого дня дожидается кровопийца, нехристь-людоед…
— Бабушка! — вдруг послышался ей голос Датуны, стоявшего рядом; ей же показалось, будто голос этот донесся откуда-то издалека. — Разве Аббас забыл, как ты С Константином расправилась? Может, отец допускает роковую ошибку, посылая еще и второго сына вместе с тобой?
Царица вздрогнула: едва оперившийся малыш вслух произнес тревожившие ее мысли, еще раз проявив истинный дар провидца. Она умолкла в растерянности, потрясенная проницательностью ребенка, ибо с сомнением сказанная мудрость не имеет себе равных по достоинству и прозорливости. Разве ее саму не терзают те же опасения, разве сама она не чувствует, не знает, что шах Аббас не забывает ничего и не прощает никому! Знает, твердо знает, но она поняла и сына своего, и отчизну незабвенную! Поняла, что без жертвы нет спасения родины! Потому-то царица заговорила медленно, осторожно:
— Твои опасения небеспочвенны, Датуна. Но я не стала возражать твоему отцу, когда кроме Александра он и Левана велел отправить в Исфаган. Да, этими действиями отец твой хочет убедить шаха в своей преданности, потому и предпринимает тяжелейшие для самого себя, в первую голову, усилия…
— Шах все равно никогда нам не поверит.
— Может, и так… Но и другого выхода у нас нет, — само собой, бессознательно, с душевным трепетом вырвалось не у царицы, а у бабушки Кетеван, и она нежно прижала к груди голову внука как бесценную святыню…
Она прижала к груди голову внука, и по лицу ее скатилась единственная слеза, первая за все эти годы, первая с тех самых пор, как ее привезли в Греми и посадили на престол, четырнадцатилетнюю девочку, немногим старше Датуны.
* * *
Направляясь в Картли, Теймураз по дороге заехал в город-крепость Сигнахи, где он отдал распоряжение управителю крепости, цихистави ·, запастись провиантом, дать приют беженцам из разоренной Армении. Ему же приказал восстановить крепостные стены и башни, наметил места для известковых печей и велел кизикийскому моурави Зурабашвили держать наготове триста ослов с бочонками для доставки строительной воды из реки Анагисцкали, заодно поинтересовался, как обстоят дела в крепости с питьевой водой.
— Пока ты, государь, был в Имерети, кизилбаши разворотили головное сооружение водопровода, — доложил бодбийский епископ, являвшийся одновременно и правителем кизикийской окраины.
— Поврежденное головное сооружение нужно починить до наступления холодов! — коротко отрезал царь и тут же отправился в Бодбийский монастырь святой Нино, где соизволил отстоять молебен во здравие матери и царевичей.
Теймураз благоговейно почитал Бодбийский монастырь, в котором его, шестнадцатилетнего юношу, венчали на престол тяжелой дедовской короной, которая, к великому горю его, сильно пострадала от насилий, чинимых пришельцами. Еще за то он любил Бодбийский монастырь, что, по словам матери, издавна был он гнездом христианства Восточной Грузии и что именно здесь была похоронена просветительница Грузии Нино, покровительница и оплот веры, несгибаемой воли и надежды потомков.
Пять дней Теймураз провел в Сигнахи, на шестой день выехал в Тбилиси, куда предусмотрительно отправил гонцов оповестить эмира о своем прибытии, дабы тот, заранее предупрежденный, не чинил препятствий его въезду в город. Теймураз специально поручил нарочным распространять слухи, что он прибыл в Картли согласно желанию и воле шаха Аббаса.
Пять дней задержался царь в Сигнахи скорее для того, чтобы картлийские тавады успели подготовиться к его приезду. Заодно он заботливым глазом обошел богатейший край Кизики, внимательно осмотрел плодородные берега Алазани, не забыл и Саингило, расспросил, как идет пахота с севом, распорядился усилить охрану края от набегов горских разбойников, никого не оставил без дела. И вниманием никого не обошел.
Как только скороходы тайно доложили, что все дороги и подступы к Тбилиси открыты и свободны, он снова послал гонца сообщить, чтоб завтра вечером встречали его в Самгори, сам же на следующее утро наспех собрался и к рассвету с довольно многочисленной своей дружиной быстрой рысью отправился в путь.
У Самгори встретили его картлийские дидебулы низко кланялись, с подчеркнутой и неподдельной почтительностью целовали подол его платья. Явились все, кроме арагвского Эристави Зураба и Георгия Саакадзе. Царь и ожидал этого, но досады не выказал, — вскользь спросил Иотама Амилахори о причине их отсутствия. Ответ был явно беззлобным, даже некоторой доброжелательностью отдавал в отношении тех двух: мол, не понимают своего долга. Теймуразу понравился его ответ и то внимание, с которым Амилахори вместе с другими князьями оглядывал царское войско — пристально, пристрастно.
— С таким войском, государь, — во всеуслышание заявил Амилахори, много великих дел можем свершить под твоим началом.
— В Кахети наберется воинов еще в два раза больше, — не замедлил вставить ободряющее слово Джандиери и преданно взглянул на задумавшегося царя, не обратившего внимания на словесный обмен двух вельмож, ибо его мысли в ту минуту обратились к матери и сыновьям. Затем царь беспокойно подумал о Георгии Саакадзе и о своем зяте Зурабе Эристави, не явившихся к нему на поклон, и молча дал знак свите и войску следовать за ним.
К полуночи, подъезжая к городу, Теймураз велел войску стать лагерем на Исанском поле, а сам в сопровождении немногочисленной свиты отправился в баню.
Облаченный в одни только просторные шаровары, перс-терщик, которого с трудом пропустили к царю бдительные телохранители-ингилойцы, все как один преданные Давиду Джандиери, спокойно вошел в баню, низко поклонился и по-персидски приветствовал царя, блаженно растянувшегося в наполненной живительной серной водой мраморной ванне. Теймураз слегка кивнул почти до земли согнувшемуся в поклоне персу. Терщик, тщательно вымыл мраморную лавку и попросил царя лечь на живот. Ловко вскочив на спину Теймуразу, он начал растирать тело и выламывать в суставах руки к ноги. Сначала до хруста заломил руки, потом, сидя на корточках, ухватился за колени и заскользил от поясницы к плечам, опираясь на голые пятки. Затем повернулся, правой ступней медленно скользнул от затылка вдоль позвоночника, после чего обеими ногами вскочил царю на плечи и тяжело спустился до бедер. Кончиками больших пальцев прошелся от лодыжек до таза, теребил, массировал, поколачивал, растирал каждый мускул, чуть ли не выворачивая его своими гибкими и сильными пальцами. Теймураз блаженствовал в приятном забвении, прикрыв глаза и почти засыпая.
— Как зовут тебя? — спросил разморенный и ублаженный Теймураз, когда перс принялся обрабатывать его с помощью шерстяной рукавицы — киса.
— Гасан… У тебя есть лицо хорош и тело крепкий. Крепкий и очень красивый, поэтому Гасан постарается сделать все как надо. Ты шахиншах Теймураз, или Мураз по-нашему. Хорош, очень хорош, ты не очень молодой, но очень крепкий, очень хорош… Я деда твоего Александр купал, когда он приехал в Тифлис, и царя Луарсаб купал, светлая ему память. Он каждый раз мне десять монет серебром подарил… И Георгий Саакадзе тоже купал, и Амилахори — всех… всех я купал…
— А зачем ты мне так суставы выламывал, кизилбаш, — желая перевести разговор на другое, спросил царь, с детства знакомый с восточной баней: упоминание не всех, но некоторых, — точнее, Саакадзе не очень пришлось ему по душе.
— Это потому, чтобы кровь оживить. Кровь должна быстро по жилам бежать, чтоб сердце хорошо работал. Когда человек в возраст приходит, его сердце жиром растет кругом и жилы узкими, очень узкими делаются. Гасан когда тебя растирает, кровь закипает, жилы расширяются и всякая болезнь прочь уходит к черту. Твой отец Давид, светлая ему память, когда больной был, я сказал, что могу его вылечить, но его не привезли, меня тоже не повезли. Да и жену твою я мог бы спасти, потому что все болезни, все подряд приходят оттого, что сердце жиром растет кругом и кровь плохо по жилам бежит.
„Хорошо он, однако, осведомлен о моих семейных делах, — смекнул Теймураз, — небось тоже шахский лазутчик“.
Как только Гасан прошелся кисой по телу царя, темные комочки покрыли кожу. Теймуразу стало как-то не по себе:
— Я ведь только-только купался…
— А это не твой вина, шахиншах, кожа твоя тихо-тихо слезает, и ее каждый день надо снимать, снимать, снимать, а ты долго ехал, ехал, ехал, — пыль, пот, вот и сходит теперь все. А так, не думай, твой тело очень чисто, твой тело очень красиво…
Царь подарил банщику десять серебряных монет.
На следующий день в Исанском дворце собрал дидебулов. От имени картлийских князей и дворян слово перед царем держал Нотам Амилахори. Он радушно приветствовал объединение Картли и Кахети, царю пожелал крепкого здоровья и большого счастья, обещал поддержку во всех делах и начинаниях. Не забыл и о картлийском войске, назвал примерное число воинов, уведомил о количестве крестьянских дворов, не обошел вниманием и скот — и крупный и мелкий. Доложил о положении с хлебом и вином. Среди недостатков в первую очередь отметил нехватку оружия, коней, упомянул об упадке торговли и непреодолимых сложностях в пушкарском деле:
— Наши рудники почти развалены, мастеров у нас нет, надо немедля восстанавливать рудники, добывать железо и приглашать литейщиков, но где их взять?
На этом Амилахори закончил перечень неотложных задач.
Теймураз было подумал: „Может, он испытывает меня — видно, слышал, что я у русских просил пушкарей прислать, а те священников прислали по причине будто бы той, что пушкарского дела мастера находятся далеко, в Пскове. Уж не хочет ли Амилахори посмеяться над моей неудачей, над затаенной моей досадой?“ Но сомнения мгновенно рассеялись, как только он взглянул в озабоченные, правдивые глаза Иотама. „Картлийские дидебулы — самые искренние и честные среди грузинского дворянства“, — мелькнуло у царя, и он вмиг успокоился, хотя и накрепко помнил, что с ответом медлить — значит в пропасть угодить, а потому отрезал коротко:
— Я скажу обо всем позже, пока послушаем других!
Мцхетский католикос взял слово, краешком глаза поглядывая при этом на гремского первосвященника.
— Объединение Картлийского и Кахетинского царств означает одновременно и объединение паствы, ибо раздел лишь повредит христианскому царству. Как только царь соизволит, церковь созовет собор и, согласно воле божьей, вновь объединит под покровительство единого католикоса всех верующих Картлийско-Кахетинского царства. По воле господа нашего Иисуса Христа, церковь со своей верной паствой всеми силами поддержит царя во всех его благих деяниях, ибо разлада в церкви не бывало и не будет впредь.
К сказанному католикос добавил еще несколько слов о разрушенных церквах, монастырях, о восстановлении молелен и святых обителей, а затем смиренно заключил: „Сии богоугодные дела мы стараемся выполнять нашими собственными силами, дабы в столь сложное время не тревожить заботами своими царя и народ“.
Царю по душе пришлись слова картлийского первосвященника. Украдкой взглянул он на гремского епископа, волей кахетинских Багратиони названного католикосом. Лицо его было бесстрастно, но в глазах светились ум и смекалка. Кахетинец прекрасно понимал, что главенство, согласно церковной иерархии, принадлежало католикосу Картли и всей Грузии, восседавшему в мцхетском храме Светицховели.
Закончив свою речь, картлийский первосвященник спросил Теймураза, когда он пожелает быть помазанным на царство.
Теймураз не ждал такого вопроса. Венчанный на царство в Бодбе, он не предполагал, что придется повторять этот ритуал и в Картли. Проведя указательным пальцем правой руки по лбу, Теймураз степенно ответил:
— Ты окажешь мне эту честь, когда светлейший шахиншах даст свое окончательное согласие, ибо объединение Картли и Кахети будет свершено исключительно по воле светлейшего из светлейших и мудрейшего из мудрейших.
— Достаточно и его предварительного согласия, — предусмотрительно и многозначительно вставил свое слово Амилахори.
— Царица Кетеван привезет нам согласие шахиншаха, — отрезал Теймураз, и упрямая складка на его челе тотчас разгладилась, ему самому понравился свой ответ, ибо знал он наверняка, что каждое слово, сказанное в Исанском дворце, немедленно достигнет Исфагана it послужит еще одним убедительным доказательством его непоколебимой верности шаху…
Много было сказано добрых слов, все единодушно признавали благом единение Картли и Кахети, никто не высказывал сомнений и недовольства, глаза светились у всех, говорящих и не говорящих. О положении в Джавахети доложили князья Джавахишвили, обещали словом и делом держать ответ перед богом и царем. Мухран-батони оповестил о делах в Мухрани и об его преданности объединенному престолу Картли и Кахети. Джакели выступили от имени атабагов — вельмож Самцхе-Саатабаго, князья Цицишвили заверили царя в верности всего Сацициано, никто не уклонялся от податей и повинностей, каждый сам просил слова, высказались все, никто не был забыт.
Удовлетворенный Теймураз обвел собравшихся долгим признательным взглядом и велел Давиду Джандиери пригласить русских послов, которые прибыли вместе с ним из Греми. Оба с достоинством вошли в зал, чинно остановились перед царем и стоя выслушали его речь.
— Передайте великому русскому царю нижайший поклон, — обратился к ним Теймураз, — от царя царек единых Картли и Кахети Теймураза. Как я уже сообщил вам в Греми… — здесь Теймураз слово в слово повторил то, что изволил говорить в Греми, а в конце добавил: — Воля и вашего великого государя, чтобы мы с шахиншахом верными соседями были, да мы и без того сами собирались продолжать добрососедские отношения, завещанные нам от отцов и дедов наших. В знак этой верности мы послали к шахиншаху царицу цариц Кетеван и наследника престола царевича Левана, еще раньше к шахиншаху был отправлен царевич Александр, которого Исфаган, без всяких сомнений, воспитает на благо народа и страны. А к вашему великому государю я вашими устами хочу обратиться с нижайшей просьбой: для того, чтобы мы могли доказать брату его величества шахиншаху нашу преданность и добрососедскую дружбу, единое войско Картли и Кахети нуждается в вооружении, в первую голову — в пушках, а поэтому я повторно прошу великого государя прислать нам на помощь мастеров пушкарского и оружейного дела, дабы обучили они своему ремеслу наших мастеров, с тем чтоб мы могли достойно служить своим войском светилу всего великого Востока — шахиншаху, брату вашего великого государя. Это моя единственная просьба, больше я ни о чем не прошу, об этом и буду писать в грамоте, которую вручу вам для передачи вашему великому государю.
Теймураз не стал повторять клятвенных заверений в верности, хотя русские послы еще в Греми требовали от него подтверждения той клятвы в верноподданности, которую еще его дед Александр давал московскому государю. Пытались послы и на сей раз слово молвить, но Теймураз заторопился, предварительно твердо назначив срок их отбытия. Распорядившись о подарках для царского дома и послов, Теймураз велел князю Чолокашвили: готовить их в дорогу и сопровождать до Крестового перевала. На сем беседу с послами счел завершенной, тем самым дал ответ на вопрос Иотама Амилахори, заданный в начале совета.
После того как послы вышли из дарбази, Теймураз долго не задерживался; поблагодарив за верность, он повелел всем вернуться в свои вотчины. Задержаться приказал Иотаму Амилахори и Кайхосро Мухран-батони. Князьям предстояло отбыть из дворца после обеда.
Джандиери мрачно поглядел на царя из-под кустистых бровей. Что-то кольнуло его, когда он услышал пожелание Теймураза оставить при себе Амилахори и Мухран-батони. Теймураз не подал виду, что заметил обиженный взгляд Джандиери, — наряду с двумя знатнейшими вельможами Картли он не счел нужным оставлять кахетинского вельможу при обсуждении и решении картлийских вопросов. Присутствие в дарбази только этих двоих означало еще и то, что именно эти двое становились доверенными лицами царя. В этом будто незначительном решении было предусмотрено и то, что в царской свите без того преобладали кахетинцы, и потому он поспешил приблизить к себе картлийцев и тем самым укрепить единение двух царств, ибо знал обидчивость картлийской знати: стоило кому-то шепнуть, что в свите Теймураза преобладают или первенствуют кахетинцы, и могло вспыхнуть недовольство, возникли бы сомнения и соперничество тоже.
Джандиери до последнего мгновения не спешил, надеясь, что царь вот-вот окликнет его, но в конце концов вышел не торопясь, сохраняя свойственное ему достоинство. Зная его, Теймураз был уверен, что он далеко не уйдет, будет крутиться возле дверей, потому-то постарался побыстрей закончить беседу с картлийцами.
— Джаханбан-бегум все еще в Мухрани? — спросил он у Мухран-батони.
— Да, государь.
— Ей не очень-то безопасно будет в Мухрани. Мало ли что взбредет в голову кое-кому… Я думаю, что ей у Амилахори, в ущелье Лехуры, будет лучше. Если мои в Исфагане, пусть и она будет в надежном месте, — будто невзначай, но нарочитой откровенностью и доверительностью пожелал он сразу завоевать сердца картлийских князей. И действительно, по глазам владетеля Мухрани Теймураз сразу же понял, что цель его достигнута, — глаза эти отразили преданность и любовь. И все-таки Теймураз замешкался, заколебался — не перехватил ли он через край, ибо Амилахори в нем не вызывал никакого сомнения. „Но надолго ли хватит этой преданности?“ — подумал он.
Амилахори воспользовался мгновенно паузой и с дальновидностью, присущей смышленому слуге, осторожно вставил:
— А может, и лучше… ее вовсе отправить в Исфаган в знак твоей полной и безоговорочной преданности… ведь нам как воздух нужно, чтоб шах в это поверил. — Когда Нотам произнес „нам“, Теймураз понял, что он подразумевал объединенное Картлийско-Кахетинское царство.
— Посмотрим… — задумался Теймураз. — Сначала, проезжая Мухрани, мы ее заберем с собой, а там видно будет… Как она?
— Стихи пишет.
— От хорошей жизни стихов еще никто не писал, — добродушно усмехнулся царь, и эта усмешка относилась скорее к его собственной поэтической слабости, чем к творчеству овдовевшей и опальной царицы. — Завтра вместе выедем из города, подымемся по ущелью Мтквари[38], дойдем до Лихского перевала. Я хочу осмотреть крепости, поглядим, как народ живет…
На этом Теймураз закончил короткую беседу и, проводив обоих вельмож, сам тоже вышел из дарбази. Джандиери, как он и предполагал, был в приемной, занимался проверкой царской охраны, подчинявшейся непосредственно ему.
Теймураз правой рукой дружески обнял его за плечо:
— Смотри не обижайся, Дато! Я не хочу, чтобы картлийцы думали, будто я без кахетинцев никаких решений не принимаю. Они люди чистые, доверчивые, но и самолюбивы чрезмерно!
— Царская воля — закон, царь царей, — отвечал вмиг успокоившийся Джандиери, впервые величая Теймураза этим пышным титулом в знак восхищения его мудрой прозорливостью.
Теймураз подумал: „Добро рождает добро, а злоба — только злобу“, вслух же произнес:
— Теперь немного отдохнем, а затем послушаем купцов.
— Армянский католикос тоже желает видеть тебя, государь.
— Его приму первым, после обеда пригласи.
…Католикос с подчеркнутой почтительностью вошел к царю. Он выглядел изможденным, измученным: длинный нос, худые руки, обтянутые морщинистой кожей, умные, но недоверчивые, искрящиеся глаза, глядящие из-под густых бровей и выражающие скорее гнев, презрение, чем милосердие или заискивающую покорность, присущие просителям всех времен, — все вместе явно демонстрировало упорство и отчаяние.
Католикос подробно изложил нужды армян, их бедственное положение и муки. Не забыл упомянуть и деда Теймураза, считая, что внук ответственен за его поступок. Теймураза не покоробили эти слова и не удивила обида католикоса на Александра, хотя и мгновенно подумал: „Кто знает, может, и дед так же был верен шаху, как я сам, отправив к нему мать и сыновей“. Гость напомнил царю вскользь, что только единство грузин и армян может спасти окруженные вражеским кольцом не так уж густо населенные христианские страны, одна из которых уже утратила свою государственность.
— Армяне готовы на любые жертвы во имя общего дела, государь! Объединение Картли и Кахети — добрый знак и для нас. Я благодарю тебя, государь, за то, что столь по-братски приютил армян в Кахети. Так уж повелось спокон веков: мы принимали первый удар напиравших с юга кизилбашей, ослабляли врага, но если не могли его одолеть сами, теснимые, уж под вашу защиту посылали наших стариков, женщин и детей. Твои предки, царь, твой народ всегда душевно принимал беженцев, страдальцев, поселял на своей земле, протягивал братскую руку помощи, радушно делился последним куском. Мы тоже в долгу не оставались, служили по мере сил христианскому миру, вместе с твоим народом жили одной радостью и одной бедой. Знамя и семья — эти столпы жизни народа издревле у нас одними словами обозначены, а потому и сегодня, в тяжелую пору нашей Отчизны, сыны и дочери Армении вместе с грузинами хотят быть под твоим, государь, началом. Прими нас под свою управу, покровительство и помоги, царь картлийский и царь кахетинский Теймураз, — тяжело переведя дух, заключил католикос.
Теймураз подробно расспросил гостя обо всем, и то не забыл спросить, откуда он узнал о пребывании царя в Картли. „Армянские купцы сообщили, — отвечал католикос. — От их глаз ничто на свете не укроется“. Теймураз узнал, что католикоса, вынужденного покинуть Эчмиадзин, приютил духовный пастырь живущих в Грузии армян, и жил он в районе базарной площади, помогали ему купцы-армяне, и ухаживал за ним священник — дер-дер. „Община армянских купцов направила к тебе трех представителей для вручения даров и ходатайства нашего“, — завершил слово католикос.
Царь велел Джандиери впустить просителей. Купцы собственноручно внесли тюки шелка; серебряные пояса с кинжалами, потом попросили разрешения вернуться, и каждый из них внес конскую сбрую, все сложили в углу, почтительно поклонились и застыли чинно.
Царь нахмурился, помрачнел, но ничего не сказал.
Купцы тотчас поняли в чем дело. Старший попросил извинить за скромные дары и предусмотрительно объяснил, что оружие для царского войска хранится в Сионском караван-сарае. „Мы ничего не пожалеем, государь, только позволь нам торговать на твоей земле с миром“.
— Торгуйте с миром. Кахети не забывайте и в Греми товар везите. Джандиери даст вам охрану, чтоб по всей Кахети провезли вас в целости-сохранности. Торгуйте по совести. Страна, сами тоже знаете, безбожно разорена, людям надо помочь.
Обрадованные милостивым приемом, купцы поспешили пообещать царю выполнение его воли, низко поклонились и собрались уходить. Католикос, все это время стоявший молча, вдруг, не удержавшись, резким движением правой руки дал им знак остановиться.
— Почему не говорите царю о главной своей заботе — чтобы помог нам Армению освободить? Вы же обещали все вместе в караван-сарае: дадим оружие, если царь возглавит спасительный для нас поход! Чего же вы молчите?
Купцы смущенно поникли головами, растерянно переминались с ноги на ногу. Опять заговорил старший:
— Что мы можем сказать царю? Он и сам лучше нас знает, что ему делать. Между Картл-Кахети и Арменией кто счет может вести? Коли решит государь и дело делать прикажет, и мы тут же повинуемся!
— Да, но… Вы же хотели… — католикос кинул гневный взгляд на купцов, для которых выгода, барыш были превыше всего, — вы же обещали молить царя о блага нашей отчизны!
— А ты здесь зачем? Возьми и моли государя, а мм за тобой будем, всегда тебя поддержим, а как же! Мы царю не указ, он тебя скорее послушается, а не послушается, — значит, сам знает, что ему делать! — решительно закончил осмелевший купец, тремя пальцами правой руки провел по усам и с поклоном удалился. Остальные двое поспешили следом.
Царь успокоил раздосадованного старика, мол, торговый люд везде одинаково скользкий, добавив, что всегда будет действовать согласно воле божьей. Потом: повелел Джандиери, выделить во дворце, для католикоса покои, обеспечить его едой и одеждой, как самого дорогого гостя.
Теймураз обошел тбилисские крепости. Шелк, преподнесенный армянскими купцами, подарил персидскому эмиру, велел щедро угостить воинов-кизилбашей чачей, своих людей тоже незаметно разослал в стан противника — кого поваром, кого заниматься провиантом. Некоторых грузин и армян из кизилбашей к своему войску присоединил, смешал со своими приближенными, некоторых вовсе уволил, по домам отослал. Моурави в городе поставил старшего сына Джандиери Ношревана, часть войска взял с собой, небольшой отряд оставил в окрестностях дворца.
* * *
…В Мцхета царь долго не задерживался. День стоял солнечный, погожий, а потому Теймураз пожелал слегка закусить в ограде Светицховели, под открытым небом. Завершив трапезу, сразу заторопился, сославшись на отсутствие времени, и, выйдя из Мцхета, повернул к Ксанской крепости в тайной надежде застать врасплох Зураба, ибо ему донесли, будто тот дожидается Эристави Иасэ. Там глава крепости Цихистави уведомил Иотама Амилахори, что Зураб давно крепость не посещал. Теймураз и бровью не повел, будто не слышал ни вопроса, ни ответа, но в душе был благодарен Иотаму за то, что тот угадал его скрытый умысел. Да, он жаждал встречи с зятем.
Когда они возвращались из крепости по крутому спуску, конь царя оскользнулся на мокрой траве. У Теймураза невольно родились мысли: „А если бы конь сорвался с крутизны и свалился бы я в пропасть, что сделал бы Леван? Покинул бы царицу-бабушку со свитой по дороге в Исфаган, вернулся бы в Грузию, чтобы взять в руки кормило власти? Да, наверное, вся свита повернула бы назад… Царица Кетеван?.. Послала бы шаху гонцов. Наследниками же престола в случае гибели родителя, наверное, всегда владеет двоякое чувство: с одной стороны — подобающая случаю печаль, а с другой — невольное возбуждение… может, и радость, порожденная стремлением к власти?! Так уж повелось испокон веков: родитель уходит, дитя остается. Вот и сын Зураба… Убей“ его отца, как бы он отнесся ко мне? Нет, насильственное умерщвление родителя никогда не может быть признано добродеянием его потомком, даже если этот насильник окажется невольным пособником наследника. Таков человек! А если, допустим, я буду свергнут, наследника моего скинут, а тот же Зураб сделает Грузию несокрушимой, но меня изгонит, выколет мне глаза, станет враждовать с моим потомством, тогда что бы думал я, не восстал бы разве против него? Не воспрепятствовал бы и тогда его возвышению, его укреплению?.. Нет! Не сделал бы я этого, не поднял бы я руку против того, кто смог бы объединить страну мою, я готов ему в ноги поклониться, всей семьей в рабстве у него быть! А впрочем… Погоди-постой, Теймураз Багратиони, Давида сын, внук Александра, плоть от плоти и кровь от крови царицы Кетеван, взращенный шахом Аббасом! Не спешишь ли ты? Не обманываешь ли самого себя?!»
Джандиери догнал царя и поехал, держась почтительно чуть позади. Заговорил негромко:
— Здесь, на берегу Ксани, шах поселил неверных. Они и по сей день ютятся в лачугах… Может быть… Мы могли бы… одним махом всех истребить…
— Князь мухранский! — окликнул Теймураз ехавшего слева от него Кайхосро Мухран-батони. — Давно ли тут поселились кизилбаши? Как ведут себя, не косятся ли на наших местных жителей?
Джандиери опередил Мухран-батони, сам ответил вместо него:
— Наших обижать они-то не посмеют, но и пользы от них мало — расположились у самого подножия крепости, село так и называется Цихисдзири[39].
Непривычным показалось царю чрезмерное усердие Джандиери, еще раз мелькнуло у него материнское предостережение о том, что у человека, побывавшего при шахском дворе, обязательно меняется лик. Может, поэтому и голос царя прозвучал несколько резко:
— Я тебя не спрашиваю, Джандиери!
— Они напуганы, государь, слова не пикнут, никого не трогают. За три года пригнали мне сотню коров и прочего скота, народ трудолюбивый, мирный. Нас, говорят, против нашей воли сюда переселили…
— Прошу прощения, государь, но Джандиери прав: нельзя врагов возле крепости держать, в черный день они могут сделать свое черное дело… даже против собственной воли, — вмешался в разговор Амилахори.
— Ты меня удивляешь, Йотам! Значит, какой-нибудь хан, проезжая мимо грузинской деревни в Ферейдане, должен истребить ни в чем не повинных наших людей только за то, что они для него неверные, а потому возможные предатели, так по-твоему?
— Это совсем другое, государь. Нам нечего с Исфаганом равняться, потому-то и ферейданские грузины шаху не помеха, ибо мы их землю никогда не трогали я трогать не будем. А кизилбаши то и дело нападают на нас, свой же всегда своего поддержит — это тоже истина.
— Кто знает, мой Йотам, — задумчиво и негромко произнес царь, — может, настанет время, когда и нога грузина наступит на кизилбашские земли, может, и наши объявятся там как победители, и тогда возликуют наши ферейданские пленники!
— Да пошлет тебе господь многие лета, царь, но ты что же, при жизни своей не собираешься вернуть этих несчастных на родину?!
— Ни один шах этого волей своей не допустит, а силою… Дай бог, настал бы тот день, когда у нас хватит на это сил! Я-то сам, нет сомнения, до этого дня не доживу, и даже наследник мой не удостоится такого счастья. Зато я наверняка верю, что бы ни случилось… даже на шахские земли переселенные грузины вечно будут думать и мечтать об отчизне своей, не забудут родину и при первой возможности устремятся к земле предков со своими чадами и домочадцами.
— А ежели обвыкнутся и не смогут или же, возвратись, не захотят удержаться у нас? — выразил свои горькие сомнения Амилахори.
— Как бы они там ни обвыклись, как бы хорошо ни жили, счастливыми им не быть. А надежда на возвращение, пусть и нескорое, поможет им выдюжить: пусть не я сам, мол, но дети и внуки все-таки будут жить на родной земле! А зов земли — та великая сила, на которой стояла, стоит и вечно будет стоять отчизна наша. Грузин, как бы он ни благоденствовал на чужбине, все равно грузином останется и предпочтет сухую корку грызть на родной земле, чем быть первым визирем на чужбине! — Потом засмеялся и добавил: — Впрочем, шахиншахом, пожалуй, и на чужбине быть не откажется… На цихисдзирских кизилбашей наложи дань, хотя и податями душить тоже их не нужно, Кого уличишь в измене, голову с плеч и на кол, а труп собакам выброси! — Царь внезапно умолк, будто язык прикусил: опять у него сорвались с уст слова, которые он еще перед последним дарбази в Греми поклялся не произносить! Помолчав, царь заговорил громко и внятно: — Подданные шаха — мои подданные, ибо и я сам весь принадлежу шаху.
Некоторое время всадники галопом ехали молча. Когда село обошли сбоку, Теймураз остановил коня, спешился и свернул в кусты. Трое тушин-телохранителей тенью последовали За ним. Правда, в вечерних сумерках быстро исчезал человек, но царь отошел довольно далеко от свиты: он с детства отличался стеснительностью.
В кустах поблизости что-то зашуршало. Царь предусмотрительно взялся за рукоятку кинжала. Телохранители насторожились. Один из них обошел кусты и остановился как вкопанный. В ту же минуту и взгляд Теймураза наткнулся на зрелище, смутившее слугу. На раскинутой в траве бурке белело женское тело, а парень, прильнув и блаженствуя, не замечал ничего. Теймураз по одежде угадал, что парень грузин, а женщина — из цихисдзирских переселенцев-иноверцев.
— Ты что это делаешь, негодник? — спохватившись, прорычал тушин-телохранитель, стараясь загладить свою оплошность.
— Убирайся, сукин ты сын! Какое твое дело? — огрызнулся парень, на мгновение приподняв голову. — Ступай своей дорогой, пока башка цела!
Парню на вид было лет двадцать пять!
Девица еле слышно застонала и тут же затихла.
— Эй, тебе говорю, уматывай отсюда, не мешай, пока цел! — снова зарычал парень.
Теймураз беглым взглядом приметил что-то крупное… Затем смекнул, удивленный увиденным улыбнулся и пошел назад к своим. Тушины тоже оскалили зубы и не торопясь последовали за ним. Отойдя шагов на двадцать, царь проговорил вслух, так, чтоб слышали телохранители:
— Пусть блаженствует на здоровье! Глупцы, конечно, его осудят, скажут — срам, позор, сейчас, мол, когда кругом горе и слезы, разве можно, разве время этим заниматься! Но пусть никто не гнушается человеческим, ибо ничто человеческое не чуждо никому… кроме дураков… В деле продолжения человеческого рода мы все равны — и царь, и раб. А Джандиери хочет уничтожить кизилбашей. Не уничтожать их надо, а вот так — кровь разбавлять…
Неподалеку пасся табун лошадей… Обернувшись к свите, Теймураз спросил у Мухран-батони:
— Чей табун?
— Мой, государь.
— Кто погонщик?
— Сын конюха. Леваном зовут.
— А почему табун до сих пор здесь?
— Мы его держим тут до первого снега, пусть пасутся на воле, и сено сбережется…
— Да и сам Леван тут неплохо пасется, — усмехнулся царь, ловко вскакивая в седло. Не понимая и не осмеливаясь спросить у царя, что он имеет в виду, Мухран-батони забеспокоился. Осторожно расспросил тушинов-телохранителей, и через несколько мгновений в густых сумерках снова раздался дружный мужской гогот.
В Мухранском дворце царя ждали.
К встрече были готовы и во дворце, и в деревне. Дружину воинов разместили по крестьянским домам, свита расположилась в княжеском дворце.
Хлебом-солью встречало богатое картлийское село нового государя.
* * *
Чинарский хан с подобающими почестями принял царицу цариц Кетеван. По неписаному закону гости шахиншаха считались одновременно и гостями всех его подданных. Царевичу Левану и его приближенным были отведены отдельные комнаты, а царицу Кетеван проводили в зал, убранный исфагаискими коврами, мутаками и подушками. Слуг разместили в жалких пристройках, впрочем, и сам дом хана не поражал размерами и роскошью — он явно был беден и хлебом, и грошем. Обрадованный посещением высоких гостей, хан велел зарезать барашка, сварить плов, украсил стол шербетом. В знак уважения к гостье царице прислуживали четыре жены хана. Да, хан был явно небогат — имел всего четырех жен.
За обедом хан посадил царевича рядом. Слуги лишь к дверям подносили блюда и напитки, к столу допущен был только кетхода — чинарский староста — и приближенные царевича. Правоверный мусульманин, хан будто заранее предчувствовал, что придется нарушить запрет, наложенный кораном, как это всегда случалось при общении с грузинами. Когда внесли дымящийся плов с бараниной и рассыпчатый плов с изюмом, проголодавшиеся в дороге гости живо наполнили свои глиняные миски; первоначально они осторожно брали рис тремя пальцами, а затем, войдя во вкус и подражая хозяевам, смело запускали в лучшие восточные блюда всю пятерню.
Леван велел Георгию принести кувшин кварельского вина. Красным, как кровь, вином с легкостью наполнились азарпеши, и Леван, подмигнув Мехмед-хану, с восточной высокопарностью произнес тост за здоровье шахиншаха великого.
— Коран запрещает нам пить вино, — лукаво улыбнулся хозяин, переглянувшись с кетходой; оба не раз бывали в Кахети и знали толк в вине.
— Пить за здоровье шахиншаха великого даже коран запретить не может! — громко воскликнул заранее вдохновленный вином царевич и ловко схватил хорошо прожаренную ножку.
Мехмед-хан с ухмылкой взглянул на старосту, и, восславив аллаха, оба с удовольствием осушили чаши с кахетинским — благословенным даром грузинской земли, солнца, воды и труда виноградаря.
Леван не мешкая сразу провозгласил тост за любимых жен великого шахиншаха. Теперь он пил умеренно, все больше подливая хозяевам. Под женами шахиншаха он подразумевал свою тетушку и еще трех с их потомством, приходившихся ему тоже близкой или дальней родней.
И на этот раз не очень-то долго сопротивлялись хозяева, охотно поддержали царевича, жадно осушили свои чаши. Вскоре дело дошло до того, что они уже сами выкрикивали очередные тосты, пили до дна, позабыв о запрете, и старому Георгию пришлось второй раз наполнить кувшин кахетинским. Царевич не пил и внимательно следил за подгулявшими персами.
Мехмед-хану было далеко за шестьдесят, немногим моложе был и кетхода, а потому не удивительно, что с непривычки они очень скоро захмелели, тут же в зале повалились на ковер и дружно захрапели.
…Было далеко за полночь, когда Леван внимательно оглядел похрапывающего хана и его подручного. Затем обошел своих, блаженно сопевших после кахетинского вина. Убедившись, что и хозяева, и его приближенные крепко спят, дал знак своему верному слуге, трезвеннику, бодрствовавшему вместе с ним, Геле и, на цыпочках выйдя из зала, осторожно прокрался по темному коридору мимо зала, отведенного царице Кетеван, украдкой остановился возле двери, замеченной им сразу же по приезде сюда.
Сердце колотилось так, что, казалось, вот-вот выскочит из груди, кровь приливала к вискам, в голове гудело, В другом конце коридора раздался чуть слышный шорох. Леван замер, затаив дыхание, решил вернуться, но… уяснив, что это всего лишь кошка, тут же передумал и, подзуживаемый нетерпеливой страстью, толкнул заветную дверь. Она поддалась со скрипом, но слабый скрип показался ему оглушительным грохотом. Впрочем, на этот раз он уже не подумал об отступлении, смело шагнул, решительно приблизился к широкой тахте, стоявшей справа от входа.
Зрение у царевича было острое, ночь стояла лунная, и в бледном свете, проникавшем через окна, он сразу разглядел спавших, каждую под своим одеялом, четырех жен Мехмед-хана. «Прекрасный обычай у мусульман, — с позволения аллаха иметь несколько жен. Не то что у нас. Чего они стоили бы без гаремов. Да будет благословен тот, кто придумал это… Кто угадает, которая из них лучше…» Изголодавшийся по женскому телу царевич недолго колебался и решительно нырнул под первое с краю одеяло. Теплое и упругое женское тело с гладкой кожей тотчас заставило его забыть о всякой осторожности. Со страстью голодного зверя накинулся он на признанную в гареме первой жену хана, которая сначала замерла от неожиданности, но, сообразив что к чему, тотчас же пылко ответила на дикие ласки юноши…
Укротив первый порыв страсти, Леван не мешкая проскользнул под следующее одеяло и там тоже вкусил блаженство. От первой же возни и шума проснулись другие женщины. Возбужденные сладострастным стоном, они с нетерпением ждали развязки, им было ясно, что скоро наступит их черед отвечать на страсти пылкого незнакомца. Они ждали, ждали терпеливо, блаженно, ибо это было ожидание, исполненное трепета, минутного опьянения плоти, самозабвения.
Распаленный алым кварельским вином, царевич не знал устали…
Близился рассвет, когда он скользнул под четвертое одеяло. Тело его лоснилось от пота, но страсть ничуть не утихла. Каждая последующая казалась ему слаще предыдущей, ибо охваченные желанием женщины дрожали от нетерпения, предвкушая блаженство, ниспосланное самим аллахом за те страдания, от которых они вот уже пять лет вяля возле дряхлого хана, списанного с мужских счетов волей самого же аллаха.
…Четвертая даже после блаженства не выпускала царевича из крепких и нежных объятий. Прижимая его к себе, она страстно покрывала его лицо поцелуями. Почувствовав влагу на щеках, Леван невольно произнес вслух:
— Ты плачешь!
— Да, я плачу, бог ты мой, плачу… — по-грузински зашептала девушка. — Тринадцать лет мне было, когда привез меня этот проклятый сюда из родного Кизики. Трижды я убегала, трижды меня ловили. С тех пор пять лет прошло, замучил он меня совсем. Сам ничего не может, и другому не уступает, и домой не отпускает, и ребенка не могу удостоиться — хоронит меня заживо, злодей. И я буду благодарить бога за то, что я сегодня впервые познала любовь… С тобой…
Увлекшись, женщина говорила все громче, потому-то Леван осторожно приложил указательный палец к ее губам, давая понять, чтобы она понизила голос.
— Не бойся, — успокоила его женщина, — они не пикнут, никого не выдадут. Им тоже тошно здесь, как и мне. Ты осчастливил их. Первая, с которой ты был, — старшая жена хана, — обычно громко кричит в это время, а сейчас, смотри, как притихла! Нет, они тебя не выдадут, век своего аллаха молить за тебя будут. — Женщина помолчала, потом снова страстно принялась целовать его лицо, шею, грудь. — Парень, бог ты мой, назови мне свое имя, кто ты и откуда?
— Леваном меня зовут, — прошептал царевич, — только смотри не проговорись.
— Не тревожься, любимый! Я жить буду твоим именем, а если бог даст и сын от тебя родится, я его обязательно назову Леваном, клянусь богом всевышним, грузином выращу, и если мне не будет суждено, то пусть хоть он отплатит за меня кизилбашам. Что же оставил нас беззащитными наш царь, разбросав по белу свету! До каких пор будут издеваться над нами эти басурмане, доколе кровь они будут лить нашу?
— А тебя как зовут? — Левану явно не по себе стало от упреков в адрес царя, не мог же он оправдывать отца здесь, в чужой постели, упоминать вслух его имя. Не время сейчас и не место.
— Раньше Лелой меня звали, а здесь Лейлой-ханум зовут, будь они все неладны!
— Если родится ребенок… мальчика назови Теймуразом, а девочку — Кетеван.
— Ты что-то странно говоришь. Кетеван ведь царица цариц наша, вдова Давида, которая чуть ли не собственноручно порубила своего вероотступника деверя. Не в честь ли той самой Кетеван ты хочешь назвать дочку? Не она ли здесь гостит у хана?!
— В честь той самой, — не удержался польщенный царевич.
— О, да благословит господь ее десницу, ее материнство и мужество, вместе взятое! Молю тебя, замолви за меня словечко перед царицей, пусть она заберет меня от этого Мехмед-хана, я стану ее прислужницей, твоей наложницей, я ведь красивая, парень, очень красивая и молодая, сжалься надо мной! Пусть она попросит меня у Мехмед-хана, и клянусь, ни она, ни ты не пожалеете об этом! Прошу тебя, бог ты мой, любимый, умоляю…
Леван снова приник к ее пылающим устам. На прощание шепотом пообещал выполнить просьбу, хотя наперед знал, что не посмеет сказать бабушке ни слова.
Необъезженным жеребцом дрожал у дверей верный слуга Гела. Как только царевич вышел, он сообщил ему, что вокруг все тихо и спокойно, и тут же попросил разрешения войти к женщинам. Царевич сначала нахмурился — просьба показалась ему дерзкой, но молодой задор и юношеская солидарность взяли верх, пожалел он любимца своего и шепотом объяснил, куда и как идти, не забыв строго-настрого повелеть: четвертую, последнюю справа, не трогать, она, мол, моя, грузинка, Лелой зовут.
Гела вернулся на рассвете, с учтивостью подошел к царевичу и по-братски обнял за плечи, бережно, благодарно.
— Лела просила передать, чтобы еще приходил.
— Надеюсь, ты не прогневил бога! — сквозь зубы процедил Леван.
— О чем ты говоришь, царевич! Я как сестру родную ее поберег, даже не взглянул ни разу. Она сама прошептала вдогонку, велела передать, чтобы ты свое обещание не забыл.
— Так что она велела передать: чтобы я пришел или обещание не забыл?
— Чтобы обещание не забыл, а я так и решил, что это значит — пусть еще приходит…
У Левана потеплело на сердце. Царевич перевернулся с одного бока на другой и крепко уснул сладким сном в блаженной усталости…
…Чуть свет поднялась царица Кетеван. Проснувшись словно от толчка, она немедля покинула ложе — не любила валяться в постели. Не изменила своей привычке и сейчас, хотя проснулась раньше обычного. Вместе с нею вскочили и сонные прислужницы, но Кетеван, опередив всех, вышла на крыльцо и остановилась как громом пораженная, у крыльца лежал и истекал кровью увязавшийся за ними из Греми верный пес Мура. Рядом с ним стояла его подруга Мурна с неразлучным щенком Бичей. Две пары их тоскливых по-человечески выразительных глаз устремились на хозяйку, как бы моля ее о помощи своему близкому.
…Когда царевичу Александру исполнилось шесть лет, один тушинский пастух подарил ему шестимесячного щенка. Мальчик души не чаял в своем питомце: кормил его, поил, и тот вскоре вымахал в огромного пса-волкодава с белой грудью и белыми лапами. Красавец Мура был сильный, смышленый. На царской псарне не было ему равных. Он мог стащить с коня всадника, коли врага в нем учуял, а врага от друга отличал безошибочно. Своих не трогал. Детей никогда не обижал, напротив, всегда кидался защищать их. И дети его не боялись. Царевичей всегда провожал, а по возвращении встречал, радостно виляя хвостом. Особенно любил Александра и царицу Кетеван. Однажды весной Датуна случайно свалился с крутого берега в разлившуюся реку Инцоба. Ребенок был наверняка обречен, если бы не Мура. Он бросился в воду, быстро вытащил тонувшего малютку и осторожно положил его к ногам перепуганных братьев. Александр тайком носил своему любимцу мясо и даже сласти. Года два назад Мура привел откуда-то такую же красивую сучку. Придворные вельможи нарасхват разобрали щенков. Одного лишь не отдал Александр — уж очень похож на отца неуклюжий смешной Бича!
Уезжая, Александр оставил все семейство Муры на попечение Левана и Датуны, и оба мальчика преданно заботились о собаках, но те — и сука, и Бича, — почему-то больше привязались к Левану. Когда пришло время и Левану покинуть отчий дом, он поручил своих верных друзей Датуне. В ночь перед отъездом в Исфаган Датуна предусмотрительно велел на ночь запереть их, чтобы они не сбежали. Однако чуть ли не на второй день все три собаки догнали караван. Леван догадался, что Датуна нарочно выпустил собак. Так же восприняла; и царица, потому-то она с особой нежностью приласкала посланцев родного Греми, бессловесных гонцов Датуны.
А теперь огромный волкодав лежал на крыльце, истекая кровью. Уткнув морду в лапы, он налитыми кровью глазами сочувственно взглянул на огорченную Кетеван, как бы успокаивая ее. Чья-то недобрая рука тяжелым предметом перебила хребет несчастному животному. Лужа крови, в которой лежал Мура, постепенно росла. Вдруг бока, которые до этого тяжело вздымались, впали, тело перевалилось на бок, голова откинулась, язык вывалился, собака перестала дышать… И тут же жалобно завыли осиротевший Бича и его мать.
Кетеван не выдержала этого грустного зрелища, вернулась в дом, велела Георгию похоронить пса.
Без Левана Георгий не захотел исполнять поручение царицы.
Огорченный и встревоженный Мехмед-хан подмял всех на ноги; указав местечко для Муры, велел вырыть яму. Но Леван никому не позволил рыть, сам выбрал место в уголке сада и вырыл глубокую яму. Засыпав холмик, он присел рядом, еле сдерживая слезы, впервые в жизни ощутил он горечь потери близкого существа.
— Грех я, верно, совершил, а потому наказан богом, — вслух проговорил Леван, которого понял лишь верный Гела и поспешил ответить.
— Добро и благо не надо путать с грехом, царевич, — чуть ли не шепотом возразил он.
— Грех и благо неразделимы, сынок, они ходят по свету рука об руку: то, что для одного грех, для другого — благо, — спокойно проговорил Георгий, бросая сочувственный взгляд на подавленного горем царевича.
У старика сердце так и зашлось от боли, глаза увлажнились. Он отвернулся от царевича и украдкой утер полой чохи скупую мужскую слезу. Стоящие там, чужие и свои, наивно приписали его слезы гибели Муры, но проученный шахской тиранией Георгий оплакивал совсем другое…
Мела осенняя поземка, утро было неприветливое, небо хмурилось. После ясной и тихой ночи в права вступил тусклый, сумрачный день.
Караваи спешно собирался в путь. Хозяин, назойливо извиняясь, пытался развеять грусть гостей, а в душе недоумевал, как, мол, можно смерть собаки так переживать.
Арбы были запряжены, кони оседланы, и свита поспешила покинуть Чинар.
Леван, с досадой окинув прощальным взглядом ханский двор, неожиданно для себя заметил на балконе четыре женские фигуры, закутанные в чадру. Все четыре одновременно прощались с их ночным богом. Чутье подсказало, что они подсознательно угадывали и его, и его телохранителя. У царевича одновременно мелькнули две мысли: кому из них двоих — ему или Геле — отдали предпочтение те трое и как распознать под чадрой ту, четвертую, что принадлежала только ему? Давешнее обещание свое он вспомнил сразу же, как проснулся, но царице Кетеван, конечно, ничего не осмелился сказать, постеснялся, заранее покраснев до ушей при мысли, что она могла догадаться. И то досадовало его: если женщина отличила его от другого, почему он не может отличить Лелу? Леван еще раз взглянул на женщин, а затем в сердцах огрел дедовской плеткой любимого своего иноходца и камнем из пращи понесся прочь от ханских владений.
Как бы обижаясь на владельца, не привычный к плетке конь, точно безумный, сорвался с места — в этом путешествии впервые довелось ему возглавить шествие, а потому теперь он вдвойне утолял свою страсть к полету. Леван ловко сидел в седле, подаренном сыном князя Черкезишвили Мамукой. Пожалел было, что стегнул плетью любимого коня, но эту мысль тотчас вытеснили другие.
Он вспомнил прадеда Александра, любителя охоты и верховой езды, образ которого всегда являлся для него не подлежащим оспариванию примером. «Наверное, бабушке очень даже приятно сейчас наблюдать за мной, копией прадеда, как она говорит изредка», — подумал он. Но свистящий в ушах ветер будто подсказал ему такую мысль: «А почему именно перед бабушкой я красуюсь, а не перед отцом родимым?»
«Отец далеко, бабушка — рядом», — ответил сам себе и остался доволен объяснением, но мысли, не переставая, роились в голове, тревожные, беспокойные: «А нужно ли было в Исфаган нас обоих отправлять? Не перестарался ли отец?.. Или Хорешан хотела избавиться от соперников? Что ни говори, а нам она все-таки мачехой приходится и на престол небось родного сына посадить хочет…» Леван снова перетянул коня плетью, верный друг взбесился, но прибавить скорость он уже не мог — и так мчался из последних сил…
«Если бы не мачеха, хоть Александр остался бы дома», — обманул себя царевич и признался тут же себе, что не столько о брате заботился он, сколько о своей собственной судьбе.
«Почему же царица цариц все-таки уступила мачехе и отцу? Неужели и она жертвует мною?» — мелькнула вдруг мысль, которая поразила царевича. Он резко придержал коня, повернул в обратную сторону и, помчавшись навстречу бабушке, встал как вкопанный возле нее. Та тоже приостановила свою лошадь. Леван по-детски прильнул к бабушке и нежно поцеловал ее в щеку. Царица правой рукой властным жестом закинула назад голову внука, понимающе взглянула ему в глаза своими умными, ясными глазами и мягко, но решительным голосом произнесла:
— Тебе следует быть сильнее, царевич! — И дала свите знак двигаться дальше.
Разлившуюся после недавних дождей реку Тарташи осторожно перешли вброд. Впереди шел Георгий: и конь у него был добрый, и плавать он умел, и дорогу знал хорошо. До Аскарани еще оставался целый день пути, если не больше. По осеннему вечному закону дни становились все короче, а ночи длиннее и холоднее. Потому-то Кетеван даже обсушиться толком не дала после трудной переправы. Нет, она вовсе не спешила, да и куда ей было спешить! Просто не хотелось ехать ночью по незнакомому краю, и шатер ставить на чужой земле тоже не по душе было ей.
* * *
На следующий день Теймураз не выходил из своих покоев, завтрак, обед и ужин ему подавали в малый царский зал. Не звал он к себе хозяина, не вспомнил ни о Джандиери, ни об Амилахори. Кайхосро Мухран-батони сам пожаловал, обеспокоившись, уж не занемог ли его высокий гость. Но увидев с порога, что царь сидит за столом и пишет, хозяин молча повернул назад.
Погруженный в свои мысли и поглощенный писанием, Теймураз его не заметил.
Дидебулы сидели за ужином в большом зале. Кроме кахетинцев, прибывших с царем, были приглашены и сотники-азнауры Картли. Кайхосро, как и полагалось хозяину дома, руководил столом по праву тамады. Он чинно выпил за здоровье царя, особо подчеркнул государственные и человеческие заслуги царицы цариц Кетеван, помолился богу о благополучном возвращении царевичей на родину. Кахетинцы смаковали мухранули[40] и после каждой чаши с достоинством воздавали должное виноградарю и виноделу, подчеркнуто благословляя их трудолюбие и умение.
Частенько вносили винные кувшины, однако никто не пьянел.
Амилахори завел песню. Кахетинцы достойно поддержали. Когда умолкли, Йотам пошутил:
— Вас, кахетинцев, за столом больше, потому и перетянули в пении.
— А мы и в питье не отстаем, — откликнулся Амиран Джорджадзе, младший брат Нодара Джорджадзе.
— И сабля наша бреет не хуже других, — поддержал своих Георгий Андроникашвили.
— Жемчуг тоже мал, зато равного ему не легко найти, — добродушно парировал остроту кахетинцев улыбающийся Йотам.
— Это здесь нас мало, а во всей Картли, бог даст, наберется достаточно, на всех хватит, — гордо вставил хозяин.
— Дай бог, чтобы и нас, и вас всегда было много! И песни у вас превосходные, и угощение богатое, и вино роскошное. Кто может делить Картли и Кахети, если не наш недруг и враг! — твердо вставил Джандиери, не признающий даже шутку в столь важном деле единства. — Да крепнет и славится наше единство, наше царство! — еще тверже завершил Джандиери и лихо осушил рог.
— Аминь! — дружно поддержали все в один голос и с удовольствием выпили легкое, но крепкое мухранули.
Не все еще успели осушить свои роги, когда в зал вошел царский слуга и громко объявил:
— Государь просит к себе хозяина, Амилахори, Джандиери и Никифора Ирбаха.
Джандиери снова слегка задело упоминание его имени после имени Амилахори; хозяйское первенство не счел обидой, хозяин — другое дело. «А этого царь, видимо, и в других делах мне предпочтет», — с болью подумал Джандиери и не спеша, сохраняя достоинство, третьим пошел за двумя картлийцами.
Царь размеренным шагом ходил из угла в угол. Вошедшим предложил сесть, а сам начал свою речь стоя. Никто не садился, остались стоять.
— Вы самые близкие и верные мне люди из всех приближенных. Вы — та основная, первейшая сила, на которую я обопрусь и в горе, и в радости, и в борьбе, ибо проигранная борьба — наше горе, а выигранная — наша радость. Хотя я еще и не венчан на картлийский престол, дабы заслужить право перед богом назваться царем и тем получить его благословение, но, желая добра нашему народу, я позволю считать себя и царем Картли, с вашего, конечно, согласия и при вашей единой поддержке только! Не примите за обиду… если я попрошу вас всех поклясться на святой иконе, что никогда никто не узнает о том, что сегодня будет здесь сказано, кроме тех, кому по долгу нужно будет знать об этом — кроме русского царя и кроме ваших наследников… последним лишь по праву завещания для передачи грядущим поколениям…
Царь замолчал и искоса поглядел на образ девы Марии, висевший в углу.
Звук капающего с подсвечников воска трижды нарушил напряженную тишину, торжественно воцарившуюся в царских покоях.
Первым к иконе подошел Амилахори, преклонил правое колено и, трижды перекрестясь, громко произнес:
— Я клянусь честью грузина, родиной, могилами предков, честью древнего рода и жизнью троих сыновей, что никогда, ни при каких обстоятельствах, не отойду от царя Теймураза, не предам общего дела Картли и Кахети, никогда и никому не выдам тайны царя и страны, клянусь!
Остальные, последовав примеру Амилахори, тоже поклялись в верности царю и народу и неторопливым шагом вернулись на свои места в ожидании царского слова.
— То, что я делал и говорил в Греми и Тбилиси в отношении Исфагана и русского царя, было Скорее преднамеренным, вынужденным притворством, чем истиной. Я холодно распрощался с послами, хотя по-прежнему верю, что спасение наше — в одной России, и только в России. Другого пути нашего спасения я не вижу, так же как не видел дед мой Александр и наши далекие по времени, но близкие по духу предки. Окруженных кольцом иноверцев, нас и армян спасет только единоверная Россия, и не пушками и пушкарями, а мощью своей неодолимой, широтой неоглядной, могуществом вечным и непобедимым. Европейцы наблюдают за единоборством между шахом и султаном, хотят ослабить Османскую империю руками шаха, потому и не предпринимают прочий него никаких действий, надеясь с его помощью согнать султана с европейских земель.
Царь мгновение помолчал, нахмурясь, потер указательным пальцем правой руки лоб, как это делал всегда в минуты тяжких сомнений, потом подошел к столу, налил в азарпешу вина и немного отпил, — И русский царь тоже не хочет ссориться с шахом, ему скорее султан стоит поперек пути к морю, хотя он и шаха вовсе не так жалует, как в грамоте нам писал о том. И то я думаю, что эта грамота и составлена-то была так на тот случай, если попадет шаху в руки, дабы не служила поводом для подозрений и гнева. Мы же и без грамоты понимаем намерения наших единоверных доброжелателей и покровителей, а наши заботы и тревоги неплохо, должно быть, ведомы русскому царю…
Я сполна и без сомнения доверяю только вам четверым, как братьям своим, старшим и младшим, а потому-то и пригласил вас на совет, чтобы услышать ваше мнение о том, на кого нам опереться, кому хранить верность, на кого надеяться в деле создания единой Грузии, спасения нашего истерзанного врагом народа…
В зале опять наступила томительная тишина, уже раз двадцать срывались с подсвечников капли оплывавшего воска. Потом Амилахори, переминаясь, слегка откашлялся и приготовился говорить. Джандиери взглянул на Теймураза, тот одними глазами, только одними глазами улыбнулся своему накрепко преданному слуге. И эта никем не замеченная улыбка вмиг развеяла все прежние обиды в добром и верном Джандиери.
— Государь, — спокойно начал Амилахори, — как ты верно изволил сказать и как завещано отцами, дедами, далекими предками нашими внукам и правнукам, правоверной Грузии с кизилбашами не по пути. Ясно также и то, что ни султан, ни шах добровольно нас в покое не оставят, а у нас не хватит сил им противостоять — люди истреблены, страна обескровлена. То и дело, от передышки до передышки, нас когтят иноверцы, налетающие с отрогов Кавкасиони. А наша молодежь продана в янычары и служит врагам-супостатам… Нужна внешняя сила, и мы должны сделать все, чтобы ее, эту внешнюю силу, привлечь на свою сторону. Другого пути к спасению у Грузии нет. Одно лишь тревожит меня — помня о судьбе Луарсаба, не могу не печалиться о царице цариц Кетеван и царевичах… Наверное, не надо было посылать обоих в Исфаган…
— Если понадобится для спасения Грузии, я и третьим сыном пожертвую, и себя самого не пощажу. Сегодня, когда, опасаясь султана, шах не решится открыто против нас действовать, я, чтобы рассеять подозрения, послал к нему троих самых дорогих мне людей, дабы выиграть время, объединиться и призвать на помощь внешнюю силу. Если мы не достигнем успеха, если два чудовища — шах и султан — поладят и обратят на нас свой мутный взор и если не успеет поддержать нас внешняя сила, а у самих нас не хватит выносливости, тогда пусть они станут жертвой этой великой попытки, задуманной во имя спасения родины от неминуемой гибели.
— Но и русский царь, — осторожно, хотя и твердо начал Джандиери свою мысль, которую Теймураз сразу понял, отчего и нахмурился, — к нам придет не с одной лишь подмогой. Он тоже пожелает даров, как в свое время потребовал от царя Александра и о чем так настойчиво ныне напоминает через своих послов. Кто знает, будет ли эта дань меньше той, которую сдирают шах и султан, или ж будет еще больше. Разве в свое время они не потребовали у твоей матери тебя самого в заложники, разве не от них, спасая, укрыла тебя царица цариц в Исфагане?!
— Может, матушка-государыня моя тогда ошиблась, а вместе с ней проиграла и вся Грузия! Русский царь просил меня не в заложники, а в зятья, сестру свою хотел он отдать нам в царицы. И кто знает, если бы нашей царицей стала его сестра, отдал бы он ее потом вместе с будущими детьми и со всей Грузией на растерзание шаху, или посмел бы шах разорять Кахети, если бы государыней здесь была бы кровь и плоть русского царя?! Мать моя не раз высказывала эти размышления вслух. И до женитьбы моей на Хорешан у нее вырвалось как-то… но было уже поздно… Свершилась шахская воля.
Без выгоды, без пользы для себя — никто ради нас себя в жертву не принесет. Ни для кого не будет достаточно общности веры, чтобы проливать кровь свою. Так было, так есть, так и будет вовеки… И главная наша забота — чтобы этой жертвой не стал народ, не стали люди — мужчины, женщины, дети, чтобы Грузия не вы-ро-жда-лась. И шах, и султан — оба хотят гибели Грузии, тогда как русский царь, наоборот, всей душой стремится укрепить правоверность на Кавказе, чтобы с юга иметь прочный заслон — добрых, единоверных соседей, крепостную ограду, твердыню. Для шаха и султана — мы болезненный нарост, для северного соседа — надежда, оплот на будущее, потому-то первые хотят избавиться от нас. Правдой или неправдой стремятся переродить, обасурманить или же истребить дотла нас и наше потомство, а другие — объединиться с нами желают, хотят облегчить наши страдания. Ибо потерять христианство значило бы для нас потерять язык. Грузин без родного языка навеки останется рабом шахского и султанского мира… В нашем деле у них другой заботы нет! — Теймураз отпил еще один глоток вина. — Вот, к примеру, если меня попросят помочь нашим добрым соседям, прежде всего я подумаю: что принесет моей Грузии эта помощь, получу ли я выгоду, склоню ли с этой помощью их, моих добрых соседей, к верной службе и преданности; без этого, без царского расчета, ничего делать я не стану, хотя и не желаю соседям зла, как того им желают шах и султан. Таковы наши законы сегодняшние, хотя они не очень-то честные, зато ясные и даже необходимые для малых стран, — так ныне думаю и действую я, и зачем дивиться, если так же будет мыслить и действовать русский царь? Потому-то я не осуждаю его действий и стремлений, ведь мудро сказано недаром: чем тебе хуже, тем платить надо больше.
— Истину молвит государь, — возведя очи горе, произнес Йотам Амилахори. — Мы обязаны перед страной и народом испытать судьбу нашу. Надо всеми средствами заинтересовать русского царя. Не скрывать от него ни приисков наших, ни рудников, о всех наших возможностях обязаны рассказать и растолковать сполна, без утайки, как подобает искреннему братству. Да, я тоже верю, государь, что избавление придет к нам из-за Кавказских гор. И если мы потерпим неудачу, если на этот раз не сможем осуществить наши надежды, то мы должны завещать и внукам, и правнукам нашим, что путь к спасению у нас один-единственный и ведет он на север.
Никифор Ирбах молчал. Молчал и Давид. В тишине снова стал различим звук капающего воска. Царь неслышно подошел к дверям и внезапным движением распахнул обе створки — за дверью никого не было. Мухран-батони сначала не понял, в чем дело, но, догадавшись, еле слышно проговорил:
— В моем дворце ты можешь ни о чем не беспокоиться, государь!
— Повсюду надо быть начеку, дорогой мой, у себя в Греми я бы не решился говорить столь откровенно.
— Ты прав, государь. Нам надо быть начеку везде и всегда, — вмешался Амилахори, и все снова замолкли.
— Если ты принял такое решение, государь, — заговорил Джандиери тише обычного, — то тогда не следовало посылать в Исфаган царицу цариц с царевичами.
— Об этом я уже сказал, — коротко отрезал Теймураз. — Ты, мой Давид, уповаешь на Исфаган от чистого сердца, а не хочешь признать, что слово кизилбаша ничего не стоит, что кизилбаш сына родного с такой легкостью убьет, как ты зверя дикого, лесного убить не решишься! Дед мой, Александр, якобы как-то сказал в шутку: что-то много расплодилось в царстве моем мужчин и женщин, стариков и детей, пусть бы их стало поменьше, иначе охотничьи угодья сокращаются, мол, и охотиться скоро будет негде! Не поняли злые люди его намека: своей верностью русскому царю грозил он шаху, но говорил об этом не прямо, а иносказательно, будто бы жаловался на недостаток угодий охотничьих. И пошел слух: царь Александр-де свой народ любит меньше, чем охоту. Да, крив сей мир, злых людей порой больше, чем добрых. Но знает бог, великий и справедливый, что дед мой каждую колыбель благословлял и берег как зеницу ока, каждую мать почитал, все равно, знатную или простолюдинку. Да и зверя на охоте преследовал по-христиански. А кизилбаши, повторяю, родного сына не пощадят, прирежут, как барана, дабы утолить жажду крови.
Помрачнел царь, закручинился, еще раз налил в чашу вина, потом взял со стола, накрытого к ужину, куриную ногу, отломил кусок хлеба, закусил соленьями. Ел и пил стоя, а верные дидебулы стояли рядом, раскрасневшиеся от ранее выпитого вина, но трезвые и озабоченные происходящим.
— Что покажет время? Как повернется колесо судьбы?
В эту минуту всем верил царь, доверялся им всей душой, потому-то и откровенничал он, удрученный заботами и тревогами.
— Может, перейдем к столу, государь? — предложил Мухран-батони, почувствовав, что совет окончен.
— С вашего согласия и позволения, — царь перестал есть, — я хочу отправить Никифора Ирбаха вдогонку за русскими послами. Я написал письмо московскому царю. Думаю, что послы еще не успели добраться до Крестового перевала. До степей по ту сторону хребта их проводит мой гонец со свитой, а затем и обратно успеет вернуться до закрытия перевала. Без свиты Ирбаха отпускать опасно, поэтому выбери троих преданных людей, — обратился царь к Мухран-батони, — пусть они проводят его к послам, а обратно направляясь, заберут весточку послов о благополучной сдаче им Ирбаха и моего послания на имя московского царя.
А сейчас мне нужно сказать Ирбаху еще два слова, а вы идите к князьям, пусть они увидят вас и ничего плохого не думают, не обижаются за наше уединение, пусть веселятся, ибо довольно земле грузинской слез и крови, мы истосковались по радости и веселью. Пусть слагают веселые шаири [41] на картлийский и кахетинский лад…
С Ирбахом беседовал царь вполголоса. Растолковал все подробно.
— Передашь московскому царю, что я, как и дед мой Александр, готов поклясться ему в верности, повторить дедовскую клятву о верноподданстве. Скажи ему, что у нас много руды, меди и еще много богатств всяких. Одно наше вино чего стоит — любую казну обогатит, дворцы развеселит и возвеличит. Ежели мы погибнем, то не будет за Кавказским хребтом оплота христианского, и не выйти тогда русскому царю к морю, и не знать ему покоя на южной границе. Скажи, что он много потеряет и проиграет, ежели от нашего предложения откажется. Попроси у него войск десять тысяч с пушками и прочим вооружением. Пусть знает и то, что ежели сам он на это не решится, то потомки его все равно это угодное богу дело довершат. Без России нашей стране добра не видать, но и России без нас на юге не обойтись, не укрепить южных границ. Попроси царя, убедительно проси! Шаху обо всем этом ничего не говорить и через послов ничего не передавать. И пусть перед шахом за нас не заступается: чем больше он за нас просит, тем злее шах становится, такая уж это порода!
Закончив напутствие, Теймураз позвал Мухран-батони, благословил Ирбаха в дорогу и проводил его, сам же сразу пошел к пирующим князьям.
Амилахори провозгласил тост в честь царя, восславил его мудрость, щедрость и дальновидность. Не забыл и о поэтическом его даре. «Стихотворство, — сказал он, — всегда в почете было у рода Багратиони, но здесь нельзя умолчать и об особой заслуге царицы цариц Кетеван».
Не понравилось опять Давиду Джандиери, что о царе как о стихотворце завели слово. Не спросясь, сразу встал и начал говорить после Амилахори. Именно со стихов и начал:
— Стихи на Востоке всегда служили средством отдыха для сильных мира сего. Персидский стих — изъявление мудрости, праздник, торжество разума. Кто не умеет мудро мыслить, тот и стихов не сложит, и побед не стяжает во славу отечества. Потому-то и высокочтима царица цариц Кетеван, что стихи слагает мудрые и сладкозвучные. Однако не стихом, а саблей, холодной мудростью и горячей кровью надо вершить дела отчизны. Посему и желаю государю нашему долгих трудов, славных боев, благоденствия и звучных свадеб для всех потомков его, наследников, а писание многих ему посильных мудрых стихов — лишь в минуту досуга, чтобы поэзия была одним из важных признаков покоя и процветания страны.
Закончив свою речь, Джандиери лихо, тремя пальцами подкрутил усы, передал «алаверди»[42] хозяину дома, который успел за это время отправить Ирбаха в путь и вернуться к столу. Мухран-батони едва заметным кивком головы дал знать Теймуразу, что все в порядке, и охотно продолжил здравицу в честь царя, передав затем «алаверди» дальше. Каждый последующий говорил меньше предыдущего — при дворах всех Багратиони строго соблюдались и неписаные законы дворцовой иерархии.
Прежде чем слово взял царь, зазвучала песня. Потом заговорил Теймураз:
— Веселье — за столом, храбрость — под огнем, пылкость — в объятиях, верность — в братстве. А коль мы вино пьем, то о нем и стих мой: Раз вино устам сказало: «Неразрывны, двуедины, Вы пленительны, живые бадахшанские рубины, Но хоть ярче вы, хоть жарче, вам кичиться нет причины: Вы бессильны человека исцелить от злой кручины». И в ответ уста: «Весельем похваляться не спеши: Всех мы разума лишаем, так влекуще хороши. Кубок твой мы украшаем, мы — мечта людской души. Аргаван, иль пурпур ярче, или мы — само реши». А вино им отвечает: «В красоте вам нет сравненья, Соловьям теперь не розы — вы источник вдохновенья. Но заставить человека петь в восторге опьяненья Вы не властны, нет! Покорен мне он до самозабвенья!» «Не хвались, — уста сказали, — тем, что ты пьянишь людей: „Петь заставлю человека!“ А ты — горе-чародей! Знай, мы сердце человека без хмельных твоих затей Разбиваем, как стекляшку, вмиг на тысячи частей!»[43]Закончив «Спор вина с устами», Теймураз осушил свой рог и добавил:
— Да исчезнет враг из грузинских лесов и полей, пусть он наподобие этой капли исчезнет с наших свадеб, от колыбелей наших потомков, от истоков слова грузинского, от Кетеван — матери всех грузин!
Снова зазвучала, окрепла, взмыла песня задушевная.
После третьих петухов дидебулы низко поклонились царю и покинули зал. Теймураз поднес губы к самому уху хозяина и прошептал:
— Где находится Джаханбан-бегум?
— Над твоими покоями, в башне, государь.
— Доброй ночи, князь.
— Покойной ночи, государь.
* * *
К Мухранскому дворцу примыкала гостевая башня. Коридор из главного зала вел на маленький балкон, с которого по мостику с перилами подымались на тесную площадку второго этажа башни. С этой площадки можно было спуститься вниз, подняться наверх, а также попасть в малые покои, которые в настоящее время были отведены Теймуразу. Другого входа в башню не было, нижний этаж занимали кладовые с хлебом и вином, там стояли деревянные лари, глиняные кувшины, хранились запасы на случай войны, под кладовыми был подвал — подземная тюрьма-темница. Над малыми покоями имелась еще одна келья, которую отводили обычно прислуге почетных гостей, а во время вражеских набегов здесь укрывалась семья князя Мухран-батони в том случае, если не успевала уйти в горы.
Именно в этой келье проживала вдова царя Свимона, внучка шаха Аббаса Джаханбан-бегум, с тех пор как по приказу Теймураза ее забрали у Эристави Зураба и доставили с подобающими почестями из Дигоми в Мухрани. В обычные дни, когда во дворце не было гостей, Джаханбан-бегум иногда проводила время в обществе супруги князя Мухран-батони Кетеван, а чаще всего делила досуг с его дочерью, которая была всего на три года моложе вдовствующей картлийской царицы-красавицы.
С того дня, как Теймураз прибыл в Мухрани, Джаханбан-бегум вниз не спускалась, на глаза никому не показывалась, сидела взаперти, развлекалась рукоделием, читала «Вепхвисткаосани» и «Шах-наме», сочиняла стихи.
…Хозяин взглядом проводил царя, который пошел через мостик и хлопнул по плечу вытянувшегося перед ним караульного, затем, миновав вход в свои покои, стал быстрым шагом подниматься по винтовой лестнице, ведущей в верхнюю башню.
Одолев лестницу, Теймураз остановился на тесной площадке, перевел дух и всем телом налег на тяжелую дубовую дверь. Дверь не поддавалась. Царь трижды постучал по крепкому дереву костяшками согнутых пальцев. Не услышав ответа, он постучал снова, но тишину ничто не нарушило. Теймураз слегка нагнулся и заглянул в щелку, в которой из глубины кельи мерцал тусклый свет. Царь достал из ножен свой кинжал, просунул клинок в щель и без труда откинул щеколду, дверь отворилась.
Привыкшими к темноте глазами царь при тусклом свете свечи разглядел раскинувшуюся бывшую царицу Картли, внучку шаха Аббаса, красавицу Джаханбан-бегум. Ее черные пышные волосы рассыпались по белому атласу подушек, на матово-смуглом лице алели, словно свежераскрывшаяся роза, пухлые губы.
Подойдя поближе, Теймураз своим острым глазом заметил над припухлой верхней губой легкий темный пушок, оттенявший свежую алость рта. В ту же минуту он вспомнил «Спор вина с устами». Вскипевшая от мухранули кровь заставила его склониться над спящей. Осторожно он коснулся губами ее алых губ. Красавица шевельнулась, выпростала из-под одеяла обнаженные руки, отбросила их на подушку, как бы обнимая голову, но не проснулась. Нагота женщины и вино взяли свое, и царь страстно приник к спящей. Она встрепенулась, попыталась приподняться, высвободиться из крепких объятий, но тщетно.
— Теймураз…
— Он самый, — коротко ответил царь и снова приник к ее устам.
Воспитанная по восточному обычаю, Джаханбан-бегум, сначала чуть противясь, покорилась воле мужчины, а потом сама вспыхнула страстью в ответ на его страсть…
— Ты, наверное, не помнишь меня… откуда? — на хорошем грузинском языке заговорила Джаханбан-бегум. — А я тебя еще в Исфагане приметила. Ты тогда был уже юношей, а я пятилетней девчонкой. Перед музыкальным дворцом, на шахской площади, были устроены большие конные состязания. Женщины и дети любовались зрелищем из окон дворца. Ты на всем скаку стрелял из лука и заслужил дар деда моего. Я хорошо помню тот дорогой, блестящий халат, который шах Аббас сбросил тебе с балкона, а ты ловко поймал его. Знала я еще, что у нас одинаковая судьба — мы оба выросли без отца, и ты, и я. Только отец твой, как мне известно, согласно воле аллаха простился с жизнью, а моего отца мой же дед повелел убить, хоть он и приходился ему кровным сыном…
— Я тоже это знаю.
— Когда мне сказали, что я буду царицей Картли, я почему-то подумала, что меня выдадут за тебя, и, признаюсь, обрадовалась… Правда, и мужем своим я осталась тогда довольна, да упокоит аллах его душу, но уж очень мало мы с ним пожили, даже ребенка у меня не осталось от него…
— И это тоже известно мне.
— Горька судьба женщины, так рано овдовевшей…
— Что ты хочешь? Чего желаешь?
— Прежде всего покровителя и хозяина.
— Я бы мог быть повелителем картлийской царицы… — двусмысленно намекнул Теймураз, заглядывая в прекрасные глаза женщины, — ведь я теперь царь и Картли.
— Сегодня — да…
— И завтра им буду.
— И завтра будешь, но кто знает, что будет послезавтра.
— Неизвестность смущает? А ведь именно это и есть жизнь — неизвестность. Когда все известно наперед, жизнь теряет всякий интерес, превращается в существование.
— Но я хочу… ребенка.
— Кто тебе мешает родить?
— Чье имя он будет носить?
— Имя Багратиони, мое имя. Восток многому научил меня. Воспитанному при Исфаганском дворе владельцу двух престолов кто посмеет встать поперек пути?
— А как же твоя вера?
— Об этом не тревожься, царица Картли. Ты поселишься во дворце Амилахори, в Квемо-чала, своей же резиденцией я избрал Гори, отныне там будет картлийский трон. Между нами будет всего полдня пути — если напрямую. Коли царь чего пожелает, господь тому не воспрепятствует. Были бы только мир да покой в стране.
— А царица Хорешан? — с истинно женским лукавством спросила бывшая царица, будто для нее ничего не значило то обстоятельство, что дворец Амилахори в Квемо-чала находился у подножия крепости Схвило, той самой, в которой убили Свимона…
У Теймураза тотчас мелькнула мысль, что в этой женщине больше персидского, чем грузинского, но, ослепленный ее красотой, он поспешил отогнать от себя мысль, что такая женщина способна без зазрения совести завтра же предаться любовным утехам даже с его убийцей.
«Так уж заведено и богом, и природой: красивая женщина не может быть собственностью одного человека, она принадлежит любому, овладевшему ею», — подумал он, а вслух ответил на ее вопрос, как отвечают все мужья:
— Хорешан ты не тронь, это — моя забота.
— Хорошо, я ведь все равно твоя. Женщина без мужчины — что роза без соловья и соловей без розы. Все земное, что мне суждено — его воля! Только смотри, — добавила она чуть погодя, лукаво сощурив свои темные очи, — не обделяй меня любовью, иначе…
— Что — иначе?
— Иначе… заведу другую любовь.
— А я запру тебя. — Теймураз с силой стиснул ее в объятиях и снова приник к ее алым устам.
— А я убегу, — выговорила она, еле высвободившись из его крепких рук и горящих губ.
— А я поймаю и убью.
— Поймать, может, и поймаешь, только… не убьешь, такие красавицы, как я, доживают до глубокой старости.
— Ты знаешь себе цену.
— Зеркало ежедневно подсказывает, да и ты добавил. Нам, женщинам, мужчины помогают узнать себе цену. Без мужчины женщина ничего не стоит.
— Ты и по-грузински хорошо говоришь.
— Мать у меня грузинка.
— Знаю. Оттого ты так хороша.
— Я это тоже знаю. Без грузинской крови наша красота вялая, нудная.
Сын в ханских владениях глушил подстегиваемую опасностью юношескую страсть, а отец с внучкой шахиншаха утолял жажду зрелого мужа…
* * *
…Накануне отъезда царя во владениях Амилахори пошел по-осеннему моросящий дождь, прозрачный легкий туман повис над Мухранской долиной, опустился в Ксанское ущелье, дымкой окутал отроги Кавкасиони, размочил дорогу, которую скакавшие кони тотчас превратили в густое месиво.
Теймураз во главе свиты выехал из ворот, когда ко дворцу Мухран-батони из Цихисдзири пригнали табун отменных лошадей. Хозяин хотел выбрать лучших скакунов для царя, ибо еще на совете в Тбилиси обещал взять на себя эту заботу. Царь задерживаться не пожелал — пусть, сказал он, кони у меня и перезимуют.
Лошади были ухоженные, много среди них было кобылиц.
Кошох-богатырь в бурке зычно покрикивал на строптивых жеребцов, подгоняя норовистых кобылок. Царь в нем сразу признал того молодца, ухмыльнулся в усы и искоса взглянул на Джаханбан-бегум, ехавшую рядом.
В ушах еще долго стояло конское ржанье.
Справа от царя, в наброшенной на плечи белой бурке, ехал Амилахори, слева чуть поодаль плавно покачивалась в седле Джаханбан-бегум.
’«Что ты наделал, царь, — уныло звучал неотвязный голос в ушах Теймураза, — убил Свимона, отнял у него трон и забрал жену!..»
«Свимона я не убирал, хотя он и был достоин смерти, как верный раб шаха, каким был и дядюшка мой Константин», — отозвался на таинственный голос Теймураз.
«При всем честном народе, на глазах у подданных своих бывшую царицу взял в наложницы!»
«Земная любовь не заказана ни царю, ни конюху, длинна жизнь человека, мало ему одной любви».
«Ты мог взять любую другую женщину, как это делали твои предки».
«Шах Аббас никак не насытится красотой грузинок, так пусть и женщина из его рода в наложницах у грузина побудет».
«Но что скажут люди, народ?»
«Враги и завистники?»
«Хотя бы и они».
«Пока я жив и властвую, я — как ореховое дерево, с которого еще не сбили плоды. Пусть бросают в меня палки, камни, пусть сбивают с меня что могут, на все хватит моих сил, моих плодов человеческих. Вот когда постарею, одряхлею, буду как дерево, с которого струсили все, что только возможно было, никто больше не бросит в меня ни камня, ни палки, и спокойно пройдет мимо, даже не заметит… А если и посмотрит, то лишь из любопытства — не осталось ли случайно хоть одного орешка… Это и есть жизнь: кидание камней в приметное и плодоносное, а неприметному и бесплодному, опустошенному — забвение».
«Но зачем давать повод для злых слухов?»
«А не дам, сами придумают. Так пусть лучше будет повод, и пусть бросают камни. Легче замечу и легче истреблю, ибо черную душу выбелить нельзя, ее нужно только уничтожить».
«Их много…»
«Покараю одного, двух, десятерых, остальные притихнут. Закон таков: побей одного — вразумишь тысячи».
«А что ты скажешь царице Кетеван?»
«Кетеван материнским сердцем поймет меня. Она женщина и живой, мыслящий, большой души человек.
Человек всегда поймет человека. Враг тебя понять, конечно, не захочет, он слеп и глух ко всему человеческому в тебе, к тому, что тебя оправдывает и возвышает, ибо он хочет видеть тебя виновным и униженным только. Но друг, в отличие от врага, всегда увидит истину деяний твоих!»
«Сыновей и мать отдал в пасть врагу, а сам наслаждаешься любовью?»
«Сыновей и мать я возвысил в душе моей и в душе народа».
«Ты кривишь душой, царь!»
«Кривит душой тот, кто думает одно, говорит другое, третье пишет, а в четвертое верит. Кто лицемерит, заигрывая с народом, кто не смеет выразить вслух выстраданные мысли. Если дело служения народу потребует, я пойду любой тропою, пусть она даже приведет меня в раскаленную печь».
— Государь, — голос Амилахори вывел царя из раздумий, — дождь усиливается. Не вернуться ли мам назад?
— Нам негоже поворачивать вспять, мой Нотам. Коли пустился в путь, иди до конца.
Над Мухранской долиной шел осенний дождь, долгий, неутомимый.
* * *
В ночь накануне отбытия царицы Кетеван и царевича Левана в Гремском дворце никто не спал, неспокойно было и в княжеском поселении — внешне суровая, скупая на доброе слово, закаленная вдовьей долей Кетеван многих одаривала добротой своего щедрого сердца, поддерживала делом, помогала в трудную минуту. Поэтому весь Греми был взбудоражен вестью об ее отъезде в Исфаган. Несмотря на ранний час, почти весь город вышел провожать снаряженный в дальний путь караван. Многие плакали и причитали, долго стояли убитые горем.
Царица Хорешан держалась до последнего, но едва отъезжающие скрылись с глаз, как ее сразу покинули силы и она замертво рухнула на землю. Ее на руках внесли во дворец и никак не могли привести в себя. Придворный лекарь старательно растирал мочки ушей, хлопал по щекам, опрыскивал холодной водой.
Едва раскрыв глаза, Хорешан спросила о Датуне, но его никак не могли найти, царице же для утешения сказали, что он еще спит. Дворецкий сбился с ног в поисках царевича; Даже послал скорохода вдогонку за караваном — узнать, не убежал ли мальчик вслед за бабушкой и братом? Гонцу было строго-настрого приказано: царице цариц Кетеван на глаза не показываться, а только издали выяснить, нет ли там Датуны. Мальчик, возможно, не присоединился к свите, а едет тайно следом. Надо обшарить все придорожные кусты и канавы, где он может прятаться. Но гонцы вернулись без Датуны.
Солнце уже стояло в зените, когда Хорешан поднялась и велела подавать завтрак, при этом снова спросила о царевиче: «Я хочу, чтобы он поел, — сказала она, — сама я не в силах проглотить и куска».
Дворецкий на этот раз не посмел смолчать и сообщил царице, что Датуны нигде нет.
Царица беспомощно взглянула на верного слугу:
— Может, он поехал вслед за бабушкой и братом?
— Я послал людей, они вернулись ни с чем.
— Вы могли напугать царицу Кетеван! — всполошилась Хорешан.
— Я велел погоне к ним не приближаться.
Был обыскан и княжеский квартал, и торговый, послали слуг в царские летние покои, обшарили монастырь, проверили все закоулки во дворце и крепости, расспросили мальчишек, сверстников царевича, — Датуну никто не видел, даже Гио-бичи не знал о нем ничего.
Дворецкий послал людей на пасеку в Алаверди — царевич любил там бывать, там провел последний день вместе с братом. «Не видели», — был ответ огорченных недоброй вестью монахов.
Послали скороходов к верховьям Алазани, и Кодорскую крепость не забыли. «Уж не похитили ли царевича лезгины? — выразил кто-то вслух опасение. — Царицу провожали на рассвете, а тут беготня, суматоха, и вдруг мальчика увезли разбойники, воспользовавшись неразберихой?..»
Тут уж всполошились все, забегали придворные и монахи, прислужницы и дети, старики и воины. Как подкошенная упала царица, горько запричитала: отмстился грех мой перед сиротами…
Весь день жители Греми тщательно искали мальчика, но нигде не смогли найти. Вдобавок ко всему обитателей дворца выводил из себя душераздирающий вой собак, запертых в псарне согласно распоряжению царицы Кетеван. От этого воя в жилах стыла кровь и сжималось сердце, томимое дурным предчувствием.
Онемел Гремский дворец. В зловещей тишине раздавался лишь протяжный собачий вой.
Незаметно подкрался вечер. Во дворце зажгли свечи. Потрясенная горем Хорешан не находила себе места, трижды спускалась во дворцовую церковь, трижды ставила там свечи.
Дворецкий пожаловал к царице в покои, на что вряд ли решился бы в обычное время, — с отбытием царя и переполохом во дворце в связи с исчезновением Датуны почтения и робости у придворных поубавилось.
— Может, пошлем вестника к царю? — осторожно спросил дворецкий.
— Чем же царь может помочь? Огорчится только. Мы сами должны что-то предпринять, — едва слышно ответила, сдерживая себя, Хорешан. — Бог наказал меня за грех перед сиротами, я должна была убедить царя и пожертвовать своим сыном, своим!
— Воля царская — божья воля, царица, — степенно заметил дворецкий и с подчеркнутой учтивостью вышел. А царица продолжала, обернувшись к придворным дамам, не покидавшим ее в этот день ни на минуту:
— Я не должна была отпускать Левана и Александра. Надо было отправить Датуну, за это и покарал меня всевышний. — С этими словами царица неожиданно вскочила с тахты и быстрым шагом вышла из покоев.
Заговорив о пасынках — Александре и Леване, — она вдруг ухватилась за спасительную мысль. Хорешан чуть ли не бегом устремилась в конец коридора, где была спальня царевичей. Следом за ней поспешила и служанка с подсвечником в руке, освещая дорогу. С ходу толкнув дверь, царица замерла на пороге: на тахте Левана, зарывшись головой в подушки, лежал Датуна.
Хорешан сначала подумала, что ее сын мертв, и с ужасом кинулась к нему… Датуна спал крепким сном, уткнувшись в подушки любимых братьев. Царица, вне себя от радости, обняла мальчика, приласкала нежно.
— Как же я не догадалась, где ты мог быть, сынок! И подушки мокрые от слез…
— Плакал… — тихо заметила одна из женщин, украдкой смахивая слезу со своих щек.
— Ты ведь никогда не плакал, сынок, даже когда совсем маленький был, а чего ж ты теперь? Слава создателю, творцу небесному! С тебя, как видно, пожелал господь возродить добро на нашей земле! До сих пор в роду, Багратиони щедро проливалась братская кровь, может, с тебя начнется совсем другое, братская преданность, — шепотом проговорила Хорешан, осторожно поцеловав спящего сына в затылок.
От этого поцелуя мальчик шевельнулся, открыл глаза и, увидев склонившуюся над ним мать, обнял ее за шею.
— Где ты был, сынок? Чуть с ума не сошли, тебя искали!
— А я тут был… никого не хотел видеть… хотел быть в одиночестве…
— А на меня за что обиделся?
— Ни на кого я не обижался… Но… — спросонья бормотал Датуна. — Леван и Александр не должны были уезжать… Наверное… это ты отцу посоветовала, не захотела со мной расставаться, все еще ребенком считаешь меня…
— Какой же ты ребенок, Датуна, ты у меня вырос, возмужал! Но бог свидетель, отец твой сам пожелал их отправить.
— Ты могла и свое слово сказать.
— Я сказала… он не послушался.
Датуна встал, осторожно переложил подушку Александра на его тахту, аккуратно поправил подушку Левана, обнял мать, и они вышли из комнаты царевичей в сопровождении придворной дамы.
Идя по коридору, Датуна услышал вой собак, доносившийся со двора. Мальчик, не долго думая, сорвался с места и побежал к лестнице, а затем, будто вспомнив о чем-то, крикнул матери, что сейчас вернется.
Минут через десять вой прекратился и запыхавшийся Датуна вошел в опочивальню матери.
— Где ты был, сынок?
— Я выпустил собак!
— Зачем?
— До каких же пор они будут выть? До исступления доведут!
— Но бабушка велела запереть собак!
— Она не думала, что они будут так страдать по хозяину. Зачем им тут оставаться, если хозяев нет здесь?.. — поправился он поспешно.
— Они пропадут, сынок.
— Не пропадут. Если останутся, я буду ухаживать за ними до возвращения Александра. Если нет, тогда… А может, они догонят наших… Можешь представить, как Александр обрадуется, если они доберутся до Исфагана!
Хорешан послала к дворецкому сообщить, что царевич нашелся. Пусть успокоит народ.
— Если спросит, где был царевич, что отвечать, государыня? — спросила одна из придворных.
— Отвечай, что не знаешь, — отрезала Хорешан, но тотчас передумала, заставила вернуться посланницу: — Постой, он может обидеться… Царевича, видит бог, все любят, все волновались. Скажи, что он заперся в летних покоях, стихи, мол, писал… — Затем, повернувшись к Датуне, повелительно сказала: — Привыкай скрывать свое горе, ибо раскрытое, не утаенное горе тяжелее ложится на плечи горюющего. Ты уже не маленький и должен знать это. О нашей с тобой печали по поводу отъезда в Исфаган твоих братьев и бабушки не должен знать шах, иначе тайна твоего отца потеряет всякую цену и нашим близким наша же печаль может лишь повредить.
Мальчик не задавал вопросов, слова матери запечатлевались в его чутком сознании.
…Собак с той ночи в Греми больше никто не видел…
* * *
Хорешан с первых же Дней взяла на себя заботу о пастушке Гио-бичи, которому отдала одежду Датуны, а его овец велела отправить в Тушети с пастухами из Алвани, которые привозили во дворец сыр для царицы Кетеван.
Самого Гио-бичи она оставила во дворце, при Датуне. После отъезда бабушки и брата Датуна целую неделю никого к себе не подпускал, и Гио-бичи видеть не желал, хотя царица часто напоминала о нем и, зная сердобольность сына, старалась вызвать в нем жалость к сверстнику, на долю которого выпало столько страданий. Она надеялась, что как раз забота о сироте может исцелить Датуну от тоски.
Через неделю Датуна сам вышел во двор и спросил, где Гио-бичи.
— Хочешь, в Алаверди съездим? — предложил он приемышу, которого с трудом разыскали в конюшне и чуть ли не силой приволокли к царевичу.
— Чего я там не видел? — с бесхитростной прямотой ответил Гио-бичи.
— Там пасека, меду наберем.
— Пчелы кусаются, так тебя разукрасят, что родная мать не узнает, и снова суматоху поднимут, мол, сына моего подменили! — Робкая улыбка заиграла на худеньком лице мальчика, наряженного в одежду Датуны. — А если соглашусь, то отпустят ли тебя? И на чем мы поедем? Вернемся ли засветло?
— Поедем, понятное дело, верхом, на лошадях, а вернемся до захода солнца.
А я кроме осла сроду верхом ни на чем не ездил… И то один раз всего. У нас и осла-?? не было.
Датуна весело рассмеялся, но тут же осекся и, подойдя к дворецкому, уверенно попросил оседлать двух лошадей. Тот испросил разрешения у царицы, Хорешан отказала наотрез. Датуна остался стоять пристыженный, неловко было перед Гио-бичи. Недолго думая, пошел к матери.
Пришлось уговаривать. Наконец она согласилась, при условии, что с ними поедут три тушина-телохранителя. Датуна, сияющий, вернулся к дворецкому. Тот потихоньку за его спиной перепроверил, действительно ли разрешила царица поездку, — царевича не хотел обижать недовернем и ответственность брать на себя тоже не желал. Получив подтверждение, тотчас отпустил мальчиков в сопровождении не трех, а пяти телохранителей — двоих он добавил от себя.
Гио-бичи с трудом держался в седле, стремена ногами не мог достать, ерзал и подпрыгивал. Датуна делал вид, что не замечает его неловкости, время от времени поглядывал на товарища искоса: хотелось покрасоваться перед ним, но и унижать да позорить его тоже не хотелось.
Как только выехали они за пределы городской ограды и очутились в лесной просеке, навстречу им попался караван верблюдов в сопровождении полутора десятка всадников, среди которых выделялся богатырским ростом и мощным сложением краснобородый в пестрой чалме и пестром халате.
Датуна натянул поводья и повелительным тоном спросил:
— Кто такие и откуда?
Краснобородый отделился от каравана тяжело груженных верблюдов, приблизился к юному всаднику и вежливо поздоровался.
— Мы — армянские купцы, едем из Тбилиси, везем товары в Греми по велению царя Теймураза.
— Воля отца моего — божья воля, — гордо отвечал Датуна, — какой товар и откуда везете?
— Исфаганские ковры, шелк и парчу, холст, сафьян, оружие… — купец склонился еще ниже, улыбнулся из-под красной бороды.
— Есть ли кинжал хороший? — спросил Датуна.
Краснобородый сделал знак, и ему тотчас поднесли маленький кинжал в серебряных ножнах, с рукояткой, украшенной драгоценными камнями.
Датуна вытащил кинжал из ножен и внимательно, с толком проверил клинок.
— Добрый кинжал. Чьей выделки?
— Лезгинской, прими в дар, царевич, сделай милость, — попросил, низко кланяясь, краснобородый, сразу признавший наследника престола.
— Небось отобрал у кого-нибудь?
— Что ты, царевич! Я за него чистым персидским серебром платил!
— Ладно. Скажешь дворецкому в Греми, что я взял кинжал, он с тобой расплатится, — с этими словами Датуна пришпорил коня, а кинжал бросил Гио-бичи, который ловко поймал его на лету.
— Это тебе от меня на память! — крикнул Датуна.
— Спасибо, — откликнулся просиявший Гио-бичи, наспех пряча за пазуху дорогой подарок.
Алавердские монахи гостям обрадовались, пригласили к трапезе и от всего сердца угощали вкусно в кувшине приготовленным лобио, алазанским сомом, длинным белым хлебом шоти-пури собственной выпечки, зеленью, соленьями, сыром и медом в сотах. Все с аппетитом принялись за еду. Тушины не отказались и от красного вина, отведали по чаше и мальчики.
Закончив еду и вставая из-за стола, Гио-бичи вдруг покачнулся и ткнулся головой в живот одному из телохранителей, который, подхватив его, беззлобно осклабился:
— Видать, впервые выпил.
— Ну и что с того? — нахмурился Датуна. — В первый раз это со всеми бывает. — И, собственноручно подложив дружку под голову мутаку, тут же поданную каким-то монахом, поправил новенький кинжал, которым Гио-бичи успел уже опоясаться; устроив кинжал поудобнее, чинно добавил: — Пусть поспит немного, быстрее в себя придет.
Алавердский настоятель Иасе приходился Теймуразу двоюродным братом, как отпрыск одного из сыновей любвеобильного Александра. Обняв племянника за плечи, он ласково сказал ему:
— Пока твой друг проспится, пойдем погуляем.
Датуна любил своего дядю за ум и чуткость. Смышленый и чувствительный младший царевич скорее замечал эти свойства в людях, особенно же в алавердском настоятеле. Пасе со своей стороны любил Датуну больше, чем старших его братьев, — каждый приезд мальчика в монастырь был для него настоящим праздником. Еще раньше, когда они приезжали сюда втроем, Пасе оказывал Датуне больше внимания, и старшие братья на это не обижались. Сегодняшний визит племянника особенно обрадовал алавердского настоятеля. Он вытащил из кармана четки, которые накануне отъезда из Греми передала ему царица Кетеван: если, мол, я не вернусь, сказала она, передай их Датуне как память о его деде и тезке Давиде, и обо мне тоже.
Пасе решил отдать четки раньше назначенного срока, предусмотренного условием.
— Это мне оставила бабушка, чтобы я передал тебе. «Когда Датуна вырастет, — сказала она, — передай ему», — переиначил условие бабушки добрый монах. — Я даю их тебе сегодня, ибо считаю тебя уже взрослым: ты не дал в обиду друга своего и мудро рассудил о природе человека. Другой на твоем месте мог бы смеяться над подвыпившим, а ты проявил благородство и мудрость. Береги эти четки, они пока не нужны тебе, но помни, что они принадлежали деду твоему Давиду и твоя бабушка особенно их любила…
— Почему… любила?
— Потому что… сейчас они уже не у нее в руках… Только потому, — твердо поправился Пасе.
Мальчик не сводил умных глаз с дяди, который продолжал с волнением в голосе:
— Эти четки еще не скоро тебе понадобятся, но, когда ты будешь умудрен годами и убелен сединами, они пригодятся тебе для успокоения духа, рассеяния мрачных мыслей, избавления от страстей и волнений, которыми исполнена наша земная жизнь.
Датуна взял четки и бережно спрятал их у себя на груди.
— Добро восторжествует над злом рано или поздно, твоя разлука с бабушкой и братьями окончится. Слышал я о твоей печали и порадовался любви твоей к братьям. В нашем роду вражда, ненависть и зависть меж братьями часто превращались в злой недуг. Ты не поражен этим недугом и таким оставайся всегда, во все времена, ибо вражда и измена братьям все равно повлекут за собой суровую кару, если не на этом свете, так налом. Злые люди, творящие зло, рано или поздно караются тем же злом, а добрым всегда отплатится добром, таков закон. Добром можно и дьявола заставить вершить добро, а не только человека… Расскажу тебе одну притчу… — Датуна навострил уши, дядюшка знал уйму мудрых сказок и притч и всегда рассказывал их, встречаясь с любознательным мальчиком. — Шли по дороге два брата, один споткнулся о камень и проклял дьявола, а второй говорит: «Зачем ты его бранишь, он тут не виноват, ты, другим подражая, его ругаешь ни за что ни про что». Как только добрый брат остался один, дьявол явился к нему и говорит: «Раз ты в мою защиту с добрым твоим сердцем доброе слово замолвил, я хочу отплатить тебе добром. С давних пор я знаю, что шах с вами враждует, очень хочу тебе помочь, и посему послушайся моего совета. Я превращусь в горячего, бесподобного скакуна с крыльями, ты садись на меня, и я доставлю тебя к шаху. Увидав доброго коня, шах начнет тебе золото сулить за него, но ты дешево не отдавай, требуй половину казны. Если отнять захочет, не пугайся, только покрепче держись в седле. Я взлечу у шаха на глазах и опять опущусь. Шах не устоит, на все пойдет ради такого коня, а дальше — я сам знаю, что делать».
Так и случилось. Как только шах увидел чудо-скакуна, стал у доброго человека его торговать. Тот за коня полказны затребовал. Шах ахнул и решил коня отнять, но не тут-то было! Конь никому не давался, кроме своего хозяина. Ничего не поделаешь, выплатил он полказны доброму человеку, коня в своем дворце держал, там его и поили, и кормили, и холили.
Как только дьявол решил, что добрый человек со своими сокровищами уже вне опасности, он на глазах у шаха из коня в недоуздок превратился и влез в кувшин от шербета. Шах чуть с ума не сошел, закричал не своим голосом. Прибежали слуги, и шах рассказал им о случившемся. С большим страхом донесли они сыновьям шаха, что их отец, мол, сошел с ума, говорит, мол, чудо-скакун в кувшин от шербета влез. Засмеялись сыновья, не поверили. Пришли к шаху, он им то же самое рассказывает. Взяли они кувшин, заглянули, увидели, что он пустой, и начали смеяться — как мог конь в кувшин залезть! А шах знай свое твердит. Связали сыновья шаха, сорок дней колотили его, мяли, терли, он на своем стоит: я, мол, не безумный, я правду говорю! Смеются сыновья, голодом морят шаха, на привязи держат, бока ему мнут. Наконец кричит обессилевший шах: «Все, я здоров, отпустите!»
Развязали его. Сидит он опять в своем дворце, а конь высунул голову из кувшина и заржал. «Здесь он, помогите!» — завопил шах, будто его резали.
Снова прибежали сыновья, шаха опять связали, сорок дней ни пить, ни есть не давали, пуще прежнего поколачивали. Совсем ослабел шах, обеспамятел. «Я здоров, — говорит, — пришел в себя, взялся за ум! Развяжите меня!» Развязали, в тот же день конь опять высунул голову из кувшина и громко заржал. А шах в ответ: «Можешь ржать себе сколько влезет, я не сумасшедший, чтобы правду говорить и бока под чужие кулаки подставлять».
С тех пор дьявол ржет, а шах смеется: «Ты, — говорит, — меня не проведешь!»
— Из этой притчи, батюшка Иасе, я бы сделал два вывода.
— Какие? — спросил настоятель, любуясь мальчиком.
— Первый: твори добро и будешь вознагражден.
— А второй?
— Не всякую правду говорить можно.
— Истину молвишь!
— Хотя… есть еще и третий урок… — задумчиво проговорил Датуна.
— Какой же? — удивился Иасе, ибо не вкладывал в эту притчу больше никакой мудрости.
— Главнейший и важнейший: зло будет повержено добром.
Восхищенный живым умом мальчика, Иасе поцеловал его в лоб, задумчивый Датуна продолжал:
— Есть и четвертая мудрость: близкие скорее поверят твоему красивому вранью, чем твоей правде, голой и горькой, ибо правда и безумие часто бывают сродни друг другу… А умелую ложь всегда больше уважают и одобряют.
Задумался настоятель и вспомнил свою ошибку, совершенную в юности, когда он сам, привезенный из Сакамбечо, незаконный сын царя Александра и дворовой девки, пытался доказать при дворе свою принадлежность к роду Багратиони. Вспомнил эту старую историю Иасе и горько улыбнулся.
…В сумерках вернулись они во дворец. С того самого дня Датуна не расставался со своим новым другом, Гио-бичи даже спал в его комнате, как родной брат.
* * *
На другое утро, позавтракав, Датуна рассказал матери о давешней встрече с караваном, при этом добавил:
— Краснобородый купец дал мне кинжал, а я сказал, что дворецкий ему заплатит. Вчера, вернувшись из Алаверды, я справился у дворецкого, он сообщил, что купец ему ничего не докладывал. Сейчас я хочу пойти в караван-сарай, найду краснобородого и расплачусь с ним.
— А где кинжал?
— Я подарил его Гио-бичи.
— Не советую тебе искать краснобородого — по восточному обычаю купец обязан подносить царю дары. Поскольку царя здесь нет, ты можешь принять этот кинжал без всяких оплат как положенный дар.
— Это зачем же? Во-первых, я — не царь, а если б даже был им, то к чему, мне дары торгаша? Чтобы он потом хвалился, мол, — сыну Теймураза кинжал подарил?
— Ты не прав, Датуна! В подарке ничего зазорного нет. Купец наверняка обидится, более того, струсит, если ты откажешься.
— Купец, матушка, не обидится, если я от дара откажусь, а испугаться действительно может — решит, что этот дар невелик и я более драгоценный подарок хочу. А плата за кинжал его обидит примерно так же, как тебя парча, присланная в дар от шаха. Скажи дворецкому, чтобы он дал мне серебряных монет.
— Раз ты упрямишься и стоишь на своем, тогда пошли слугу в караван-сарай, пусть пригласят купца во дворец, а сам к нему не ходи.
Не прошло и часа, как краснобородый появился возле дворцовой ограды, ведя за собой груженого верблюда, ибо, как предположил Датуна, он посчитал, что кинжал оказался незначительным подарком для царского двора. Купец раскладывал перед балконом дворца ковры, шелка и всякие мелочи, не переставая кланяться вышедшим на балкон царице Хорешан и царевичу. Дворецкий, который стоял во дворе и наблюдал за суетой купца, на изысканном персидском языке объяснил, для чего его пригласили во дворец.
— Я, мой добрый господин, — по-персидски же отвечал купец, — армянин, христианин, но, как видишь по чалме, принял магометанство. Этот кинжал я подарил вашему царевичу, пусть почитают его все светила Исфагана! А это все — парчу, шелк, ковер, леденцы, кишмиш и прочие сласти, а также подсвечники и хурджин — от всего сердца прошу царицу принять в дар от меня.
— Никаких даров нам не надо! — крикнул петушиным голоском с балкона Датуна. — Узнай цену кинжала и расплатись с ним.
Дворецкий растерялся, Хорешан кинула на сына укоризненный взгляд, придворные дамы переглянулись в изумлении, один Гио-бичи стоял так гордо и вызывающе, словно не Датуна, а он сам был зачинщиком этой истории.
Царевич же не успокоился до тех пор, пока мать не пообещала ему расплатиться с купцом.
Чистая, как слеза, началась жизнь у ее любимого дитяти.
* * *
Сентябрь вступал в свои права.
Царица Кетеван и ее свита медленно продвигались по армянской земле. Их всюду принимали с почетом и покорные шаху по своей ли воле, по принуждению ли, и непокорные, в большинстве скрывавшиеся в лесах и горах, бежавшие из долины от свирепствующей на ней беды. «Разноплеменно, разноязыко, неоднородно население всего Кавказа, — думала Кетеван, — точно так же, как сам хребет Кавкаснони со своими склонами и ответвлениями. Народы, слывшие соперниками испокон веков, вместе селятся в этом благословенном краю. Разность языка как бы возмещается общностью нравов на этой земле, щедро одаренной природой и ревниво облюбованной многочисленными народами. Среди них выделяются два… Стойко идут они века рука об руку, одной семьей, объединенные одним знаменем. И горе у них общее, и радость, и враг, и друг».
С любовью и душевным трепетом посматривали путники вокруг — на суровую каменистую почву, на землю, такую же разоренную, заброшенную, как и в их родном краю. Сердце сжималось, тяжело болело у царицы Кетеван при виде развалин, пепелищ, крепостных руин, безжалостно рассеянных по земле братьев и сестер. Поредело, чуть не перевелось местное население, скрывались и прятались коренные жители, на чужом языке разговаривали насильно перевезенные сюда переселенцы, которые там и сям ютились в глинобитных лачугах с плоскими глиняными же кровлями.
Неожиданно началось Карабахское нагорье, южные отроги Кавказского хребта. Воздух, приносимый из Средней Азии через Каспийское море, истинным божьим благословением проливался на горы и долины этого благодатного края. Каких только растений, зверей и птиц не было здесь, в этих райских кущах! Разрисованные осенней кистью горы и долы радовали взор путешественников, утомленных скудной каменистой природой предгорья. На подступах к Карабаху сменяли друг друга долины и выжженные солнцем поля, горы и дремучие леса. После переправы через Аракс дорога поползла вверх, и путники растянулись по узкой тропе, прорезавшей густой, непроходимый лес.
Девственный и безлюдный, он состоял главным образом из дуба и бука, глядел мрачно, опутывали землю могучие корни столетних дубов: переплетенные друг с другом кронами, усыпанные желтеющими листьями и зрелыми желудями, они плотной кровлей смыкались над головой. Торжественная тишина время от времени нарушалась криком удода, щелканьем дрозда, шорохом сухой палой листвы под ногами непуганого зверя, рокотом реки, зажатой в узком ущелье скалистыми берегами.
Там и сям впереди взлетали стайки фазанов, шумно хлопая крыльями. Сорванная ветром панта, опавшие дикие яблоки и желуди будто нарочно старательно были собраны в кучки дождевыми потоками. На дороге, изборожденной редкими аробными колесами и сбегающими с гор потоками, пестрым ковром лежали сухие листья, шуршавшие под ногами путников. Лучи стоявшего в зените солнца с трудом пробивались сквозь густые кроны деревьев, благодаря чему дорога была погружена в сумрак.
Караван, одолев лесистый подъем, вышел на небольшое плато, где мирно паслись олени. Увидев посторонних в своем царстве, лесные красавцы горделиво задрали украшенные величественными рогами головы и начали смело оглядывать их. Леван резко натянул поводья и искоса поглядел на бабушку, запрещавшую в ее присутствии преследовать беззащитных обитателей леса. Кетеван угадала желание внука по его загоревшимся глазам и легким кивком головы разрешила в виде исключения дать волю охотничьим страстям.
Свита в мгновение растянулась в полукольцо. К непроходимой чащобе прижали животных. Подскакавший раньше всех Леван единым взмахом сабли отсек голову самцу-оленю, застрявшему в орешнике. Остальные животные мгновенно укрылись в чаще. С облегчением вздохнула Кетеван: истосковавшиеся по охоте молодцы могли истребить много зверья, если не ради добычи, то просто ради охотничьего азарта, столь ненавистного ей.
Кетеван велела поставить на ночь шатры, дабы отвлечь внимание от оленей.
— Деревни в этих гористых местах быть не может, и непохоже, чтобы впереди долина нам повстречалась. Выше будет еще холоднее. Здесь и заночуем, благо родник рядом.
— Бабушка, — обернулся Леван к царице, которая, гордо выпрямившись в седле, оглядывала окрестности. — Почему ты запрещаешь охотиться в твоем присутствии?
— Животные, дитя мое, тоже живые существа, у них так же есть отцы, матери и дети, им так же бывает больно, как и нам. Им тоже ведомы и печаль, и горе. Прадед ваш Александр был страстный охотник, и я считала это его единственным недостатком, упокой господнего душу! С тех пор не выношу охоты. Охотник сам похож на животное, охваченное неудержимой страстью, разум его затуманен враждой, завистью и соперничеством. А вражда, зависть и соперничество — истоки всех зол. Сегодня тебе повезло, а другим нет. Допустим, тебя все любят и никто не затаил обиды. Но постоянное превосходство даже у брата родного может вызвать досаду, братская любовь замутится, ибо все большое — в том числе и вражда, и зависть, обязательно перерастающие в ненависть, — начинается с малого.
— Но у охоты, государыня, есть и достоинства неоспоримые, — почтительно возразил Георгий. — На охоте человек крепнет, закаляется, учится быстроте, меткости, удовлетворяет страсть к битве, столь необходимую для защиты от врага, и к тому же привыкает быть безжалостным к жертве, то есть к врагу.
— Объясни мне, мой добрый Георгий, — прервала его Кетеван, — зачем нужно преследовать бедных, беззащитных животных и ни в чем не повинных птиц? Разве мало у нас двуногих врагов, вредных и опасных?
— Прежде чем расправиться с двуногим врагом, нужно испытать свою силу на четвероногих. Кроме того, государыня, на этом свете нет ни одного живого существа, которое можно назвать абсолютно невинным. Возьмем хотя бы юную лань… Казалось бы, нет на земле существа безобиднее — никому она не угрожает, никому она не мешает, поперек пути никому она не становится. Не так ли?
— Так. Ну и что же дальше?
— Так вот, эта безобидная лань поедает еще более безобидные цветы и травы. И делает это, ничуть не заботясь о том, что сокращает тем самым чужую жизнь. Пасется себе, срывает, жует, топчет да еще выбирает при этом растения помоложе, понежнее. Перезрелое да невкусное, вроде меня, она не изволит есть. Так вот, на свете невинных существ нет: один уничтожает другого, кто кого одолеет, кто над кем возьмет верх, вот так-то! — заключил Георгий, глядя на свою повелительницу взглядом, в котором, кроме почтения и покорности, легко читалась мужицкая сила и несгибаемое упорство. — Прежде чем охотиться на двуногих, надо отточить свой меч на четвероногих, вот так-то!
— Оттачивайте, но не у меня на глазах, — отрезала царица, ловко спрыгивая с седла. — И Александр покойный так говорил, а какие слухи пошли? Вспомни-ка? Дескать, царь хочет народ истребить, чтобы охотиться было вольготнее. Когда он услышал об этом, досадно покачал головой и с болью сказал: «Язык, как известно, без костей, молва зла, опорочить человека — дело нехитрое, особенно если он на виду, а порочащий — ленив, непокорен, глуп. Тот царь, который мечтает свой народ истребить, себе могилу роет, а я жизнь превыше всего ценю и своей тоже дорожу…» Я еще и за то охоту не терплю, что старика обидели так несправедливо, — ловко обошла Кетеван по-крестьянски колючее остроумие Георгия.
— Тогда почему ты сегодня разрешила нам поохотиться? — спросил Леван.
— У нас мясо на исходе, а без мяса мужчины хиреют, — ответила Кетеван, бросая уздечку Георгию и направляясь к роднику.
Постепенно подтянулись и арбы. Аробщики распрягли быков, арбы опустили на лапы, а под колеса подложили клинышки.
— Райское место, настоящее пастбище! — не сдержал восхищения один из аробщиков.
— Пусти сюда овец и коров, летом так отъедятся — не узнаешь, гладкими станут, как лесные олени, как тот, которого Леван обезглавил.
— Места богатые, да не про нас!
— Погляди на царицу, как ловко она пьет из родника.
— Вот это, я понимаю, женщина! Сколько дней уж мы в дороге, а она не пожаловалась ни разу! Да и хворь не берет!
— Да о каких жалобах и хвори ты говоришь! Эта ведь не твоя благоверная!
— И моя не нытик!
— Тогда чего же она заплакала, когда тебя провожала?
— Ну, а как же ты хочешь! Кабы совсем не плакала, так и была бы у нас царицей она, а не Кетеван.
— А я так считаю, Дата, что слезы — самое что ни на есть женское дело. Женщина, которая никогда не плачет, сварлива и бессердечна. Слезы, искренние, горячие, уподобляют женщину ребенку, как бы очищают ее, — вмешался в разговор третий аробщик, который позже других выпряг быков и теперь кинжалом очищал от коры срезанную в лесу ветку ясеня. — Женщина, не уважающая и не знающая слез, не женщина, а змея, гадюка!
Тем временем на лужайке появился всадник в бурке и персидской папахе, по самые брови закутанный в башлык. Все оставили свои дела и с любопытством уставились на медленно приближавшегося незнакомца. Всадник нерешительно остановился поодаль и обвел собравшихся настороженным взглядом. Наблюдавшие за ним заметили, что внимание вновь прибывшего приковано к Левану, который, опустившись на корточки, резал оленье мясо для шашлыка.
Всадник спешился и двинулся прямо к Левану, который прекратил резать мясо и как бы навстречу пришельцу приподнялся и выпрямился.
— Здравствуй, Леван! — Голос у незнакомца был необычайно мелодичный, странный для лихого всадника.
— Здравствуй, — отвечал Леван, поправляя рукава чохи и вперяя удивленный взгляд в неизвестного. Тот развязал башлык, открыв безбородое улыбающееся лицо.
— Ты не узнал меня? — все еще с подчеркнутой нежностью спросил странный гость, игриво сощурив глаза.
— Не-ет… — медленно протянул Леван, как будто начиная о чем-то догадываться.
— Да? как ты можешь узнать, если никогда не видел меня при дневном свете…
— Лела! — вспыхнул царевич.
— Да, это я, — потупила голову красавица.
— Но… как ты тут очутилась? — в голосе царевича звучали удивление, растерянность и нескрываемое тепло, но тут же, спохватившись, он мгновенно обвел глазами всех присутствующих — любопытные взоры челяди были устремлены на молодых людей. Леван дал знак Леле следовать за ним и направился к царице, которая все еще была у родника со своими прислужницами. Как только костер остался позади, Леван повторил свой вопрос:
— Как ты здесь оказалась?
— Не выдержала я, парень… В ту же ночь сбежала и вдогонку пустилась за вами, как за надеждой… Держалась поодаль, боялась подъехать близко, издали наблюдала за вами… А теперь решилась…
— А этот… твой… этот?..
— Он пошлет погоню, конечно, но в сторону Кизики направит ее, в противоположную сторону. Ему и в голову не придет искать меня здесь. Он, верно, думает, что я домой убежала. Я же просила замолвить за меня словечко перед царицей!
— Я не посмел… — признался Леван, виновато опустив глаза, и тотчас поспешил исправить неподобающую царевичу робость: — Сейчас я все скажу, идем!
Когда они подошли к царице, Леван бойко попросил женщин оставить их, но слово свое начал смущенно:
— Бабушка… эта девушка — наша, грузинка… — он кашлянул и продолжал глухо, переминаясь с ноги на ногу. — Там… где мы останавливались недавно… там…
— В Чинаре, — подсказала Лела.
— Да, в Чинаре… Там, в доме хана, я ее увидел… Я вышел ночью… И она там была, во дворе… Я заговорил по-персидски, она по-грузински ответила… Ее вывезли из Камбеч… из Кизики, — быстро поправился Леван, ибо знал, что царица не любит, когда Кизики называют Камбечовани[44], — похитили и сделали четвертой женой чинарского хана.
— У меня, государыня… — упала на колени перед царицей Лела, — ни матери нет, ни отца, и сестер я потеряла, не гневайся на меня, не гони, умоляю ради господа бога! Позволь с тобой остаться, я все буду делать, что прикажешь, я и мужскую работу выполнять могу, и женскую…
— Зачем мне тебя гнать, дитя мое, праведное дело свершается по воле божьей. Оставайся с нами: где мы, там и ты!
Обрадованная Лела стала горячо целовать руки царице, Кетеван мягко отстранила ее, погладила по голове и сказала:
— Женщина из Кизики не должна стоять на коленях, не в роду у вас унижаться перед кем бы то ни было.
— А я не почитаю зазорным ноги царице целовать, — отвечала Лела, утирая слезы, вызванные радостью и волнением.
Кетеван подняла девушку и обернулась к Левану:
— Ступай, займись своими делами, за Лелой мы сами присмотрим.
Леван, не помня себя от счастья, вернулся к костру, где уже жарились шашлыки и суетились люди, дразнимые вкусным запахом жареного мяса.
Верный тушин Гела мгновенно оказался рядом с ним и попытался шепотом затеять разговор. Леван решительно ткнул его локтем в бок, — дескать, сейчас не время приставать!
Сумерки быстро сгущались. Вечер в горах наступал разом. Повеяло ночной прохладой. Все собрались у огромного костра, вокруг наскоро, по-походному приготовленной еды. Женщины расположились по обе стороны от царицы Кетеван, мужчины сели возле Левана — восточный ритуал стола строго соблюдался и дома, и в походе.
Приятно похрустывал хворост в пламени костра, горящие поленья свирепо трещали, на угольях аппетитно, как бы первым голоском, шипел жир, стекающий с мяса; Георгий разогревал на огне кахетинский хлеб — шоти-пури. Слегка подрумяненное мясо ловко снимали с наспех выделанных шампуров и щедро наваливали на большие блюда. Принесли вино в кувшинах, разлили по чашам.
Все дружно принялись за еду. За обе щеки по-мужицки уплетал оленье мясо царевич. Он хорошо запомнил наказ прадеда, который передала ему бабушка, царица Кетеван: кто плохо ест, тот и воюет плохо, а трудится нерадиво!
Возглавила застолье Кетеван, как это было заведено у нее, когда она сидела за крестьянским столом. Правда, на Востоке женщин вообще не сажали вместе с мужчинами, но у грузин за общий стол они допускались в пути. Царица по обыкновению говорила коротко, внятно, выразительно и метко. Провозгласив тост за вновь прибывшую Лелу, она украдкой, чтоб никто не заметил, ласково взглянула на Левана.
Гулко гудело пламя в костре, издавая дружное звучание, похожее на кахетинскую песню.
Блюда беспрерывно наполнялись шипящим шашлыком…
Становилось все холоднее, но и вино делало свое дело, сидящие у костра не замечали ночной прохлады, столь стремительно охватывающей их.
В чаще леса протяжно завыли шакалы, появился на краю лужайки и волк. Злобно залаяли собаки. В темноте заржала лошадь. Распряженные быки прекратили щипать траву. Георгий подкинул хвороста в костер. Аробщики, засветло натаскавшие сухих поленьев и не успевшие их наколоть, теперь целиком клали в огонь. Приятно тлел бук. Караульные сменялись часто, четко соблюдая караванные правила. Завел песню аробщик, тот самый, которого жена провожала с плачем. Все подтянули. Выделялся своей мелодичностью высокий голос Лелы. Леван по-братски обнял Гелу, сидевшего рядом, и звонким голосом начал древнюю кахетинскую песню «Агзеванс цавал марилзе» — о том, что, вернувшись обратно домой после долгого путешествия в Агзеван за солью, он сперва обнимет родную мать, затем детей, а под конец жену. Все мужчины, и стар и мал, дружно поддержали песню.
Кетеван умолкла, часто и незаметно поглядывала на Левана, сидевшего напротив. Чем ближе подходили они к Исфагану, тем уступчивее становилась эта волевая женщина, с головы до ног истинная царица. Потому-то и охоту разрешила нынче, изменив своему твердому правилу и сославшись на отсутствие мяса. Настоящая же причина была та самая, которая заставила ее приютить в своей свите Лелу… Сердце ее томилось от горьких предчувствий, а потому ей хотелось, нет, она всем сердцем жаждала хоть чуть, хоть чем-нибудь побаловать царевича, доставить ему какое-либо удовольствие, ради него она готова была сделать все, дабы не омрачалось его чело.
Она ему уже ни в чем не могла отказать…
…Последний совет в Греми не давал ей покоя. Она еще тогда ясно поняла замысел Теймураза, поняла, почему он решился отдать в заложники мать и двоих сыновей. Ведь он сам сказал ей об этом в ту ночь, накануне отбытия в Картли: «Коли одного мало, я второго отправлю, во всеуслышание отрекаюсь от пути, завещанного дедом, дабы во что бы то ни стало убедить шаха в моей верности ему, Исфагану. Пусть знает, что я предан ему телом и душой, весь в его власти», — сказал тогда Теймураз, и ей все было ясно тогда же, но теперь, по пути в Исфаган, словно бы заживо оплакивала внуков Кетеван, которая в свое время этой же дорогой смело отправила малолетнего Теймураза, желая спасти его от врагов… Да, ведь надежды ее тогда оправдались — шах Аббас вернул ей сына целым и невредимым, обучил его языку и книгам персидским, заботливо вспоил и вскормил… Так почему же она скорбит душой теперь? Почему же в ней кричит бабушка, коль спокойна была в ней мать? Почему сквозь слезы глядит на любимого внука? Теймураз и в Картли объявит о своей непоколебимой приверженности шаху, совершит угодные владыке дела, об этом тотчас донесут Аббасу его же лазутчики, гонцы-скороходы или купцы, которые то и дело снуют взад и вперед и являются подлинными ушами и глазами повелителя Востока.
До этой поры сердце свое не чувствовала Кетеван, а с отъездом из Греми как бы подменили его: то бьется так, что вот-вот выскочит из груди, то замирает, будто в него кинжал вонзили. Особенно оно давало о себе знать перед сном — ноет и болит, сжимается и трепещет, как раненая птица. Царица не подает виду, не ропщет, но сама хорошо знает, что за недуг ее гложет. И грудь теснит томление, и соски горят совсем как в ту пору, когда Теймураз был младенцем…
Перевалило за полночь, и заморосил дождь, как обычно бывает в горах осенью. Женщины расположились в крытых арбах. Мужчины не спешили покинуть трапезу, пока царица не велела идти спать. Георгий проводил царевича в шатер, поставленный специально для него, остальные, укутавшись в бурки, легли прямо у костра, караульные остались на своих постах.
Царица взяла Лелу в свой шатер, уложила рядом и перед сном поцеловала ее в лоб, пожелав доброй ночи счастьем окрыленной сиротке.
…Бог знает, какая ждет ее судьба? От хана она сбежала, но может угодить и в шахский гарем, благодаря редкостной красоте своей. А может, всевышний готовит ей царский трон — разве мало было кого из Багратиони, которые по велению сердца женились на крестьянках? Нет, не то, — брак Левана должен служить делу объединения Грузии. Он должен жениться либо на дочери имеретинского царя Георгия, либо на дочери правителя Гурии. Ведь Гуриели уже сообщили, что у них есть невеста для Левана… Потом, правда, замолчали, когда Теймуразу пришлось укрываться в Имерети — зачем им царевич без престола… В свое время русский царь хотел Теймураза взять в зятья, но тогда отказались от этого предложения, предпочли Исфаган. Теперь русские послы снова предложили взять одного из царевичей с собой, не согласился Теймураз — это могло помешать осуществлению его замысла и озлобить шаха. Ведь и в шахском гареме можно найти невесту для царевича, у которой мать грузинка… Но все они пропитаны отцовским духом, и потому мечта о покорении Грузии у них в крови бурлит. Кроме того, путь к возрождению Грузии лежит не через Исфаган, это хорошо знают и Кетеван, и Теймураз, путь этот тянется через Кавказский хребет, на север, и каждый правитель, желавший Грузии добра, должен крепко помнить об этом.
…Утром царице доложили, что ночью один из быков поднял на рога волка. Как бы в благодарность, царица пожелала посмотреть на быка, погладила его, велела стереть с рогов засохшую волчью кровь.
После завтрака караван двинулся в путь. Впереди ехал царевич в сопровождении Георгия, чуть поодаль за ними следовала царица со своими приближенными, а замыкали шествие арбы под охраной двух всадников.
Лела ни на шаг не отходила от царицы. Она была по-прежнему в персидской папахе и черкеске, только башлык не скрывал больше ее освещенного счастьем лица.
Лошади шли не спеша. День стоял ясный, солнце припекало по-осеннему, лес постепенно редел и к полудню перешел в негустой кустарник.
Как только путники достигли перевала, сверху им открылось величественное зрелище. Со всех сторон высились покрытые вечными снегами горы, а чуть пониже, у предгорий, пестрели расцвеченные осенью бархатистые холмы, местами пересеченные крутыми оврагами и каменистыми утесами. Двинувшиеся с севера на юг перепелки стайками проносились чуть ли не над самыми головами путников. Горные коршуны, как бы празднуя их появление, безжалостно преследовали лакомую добычу.
…Вот один коршун с высоты нацелился на перепелку, сложив крылья, камнем стал падать вниз и, лишь вцепившись когтями в жертву, раскинул крылья и стрелой направился к ближайшей скале. Он спустился на примеченное место и собрался было раскрыть свой хищный клюв, как прогремел выстрел, — пуля, выпущенная из ружья Левана, попала в цель, пух и перья закружились над скалой, где только что приземлился коршун.
— Да благословит господь твою десницу и меткий глаз! Ну, вылитый прадед Александр! — воскликнул старый Георгий, загоревшимся взором лаская царевича. Леван передал Георгию свою пищаль, чтобы он ее перезарядил, а сам горделиво взглянул на бабушку, которая тут же покачала головой в знак того, что стрелять ему не следовало, ибо строго-настрого было оговорено — во владениях шаха производить как можно меньше шума, дабы не привлекать к себе внимания посторонних во избежание всяких недоразумений, а то и бед.
…Как только караван растянулся по тропе, с плоской вершины горы, ведущей к перевалу, раздались конский топот и воинственные крики — царскую свиту со всех сторон кольцом окружали вооруженные всадники. Их было около сотни. Мужчины из царской свиты вскинули ружья, но царица цариц твердым голосом повелела:
— Не стрелять!
Выпрямясь в седле, чинно, она выехала вперед, а нападавшие при виде величественной женщины невольно придержали своих коней, остановившись шагах в двадцати.
— Кто вы и что вам надо? — по-персидски спросила Кетеван у крупного осанистого всадника, судя по всему — предводителя отряда.
Он был в чалме, в пестром шелковом халате, а на широком поясе сверкали два кинжала в серебряных ножнах. Над остроносыми красными сапогами развевались широкие шаровары из пестрой парчи. Черная как смоль борода обрамляла его смуглое, загорелое лицо с орлиным носом и блестящими серыми глазами.
— Мархабар, ханум, — по-персидски приветствовал царицу всадник и согласно восточному обычаю движением руки и головы выразил свое высочайшее почтение. — Мы курды, из племени мукри. Здесь наши владения, моя страна.
— Мы движемся по владениям шахиншаха и по его приглашению едем в Исфаган.
— Гости шахиншаха, ступившие на нашу землю, мои гости! Кто вы такие? — вежливо, но твердо произнес предводитель.
Кетеван задумалась, поняла, что перед ней вождь одного из курдских племен, для которого не представляет труда в мгновение ока ограбить и перебить ее немногочисленную свиту, ибо курды не признавали власти шаха над своей горной страной. Основным их занятием было овцеводство и разбой, а Сефевиды на протяжении веков ничего с ними поделать не могли — высокие и неприступные горы служили надежным укрытием для племен, кочующих в высокогорьях Турции, Персии и Ирака, как бы и объединяя и разъединяя эти древние монархии.
Царица быстро взвесила все эти обстоятельства и мгновенно приняла решение держаться невозмутимо, доброжелательно и твердо.
— Перед вами кахетинская царица цариц Кетеван, а со мной — моя свита.
— Столь малая свита не к лицу царице цариц, — дал почувствовать свое превосходство предводитель курдских всадников.
— На Востоке, а в Курдистане особенно, царица цариц и без свиты пользуется почетом, — не уступала Кетеван, с достоинством дернув за повод гарцующего на месте коня.
— В таком случае позволь мне оказать тебе достойный прием, царица цариц, и пригласить к себе, — твердо и с подчеркнутой вежливостью отвечал курд, а затем повернул коня и, продолжая держать в окружении царскую свиту, двинулся вперед, как бы давая понять, что это и приглашение, и принуждение.
Кетеван поняла, что сопротивление бессмысленно, и дала знак своим следовать за ней по пятам предводителя.
Ехать им пришлось совсем недолго. Они одолели перевал, спустились в ущелье и скоро очутились перед достаточно высокой оградой, которую венчала трехэтажная башня. За оградой теснились многочисленные шатры, крытые овечьими и козьими шкурами.
Из шатров высыпали женщины и дети, которых ловко оттеснили всадники, расчищая путь царской свите. Пропустив караван, дети с шумом кинулись вслед за ним. Караван остановился возле пещеры, высеченной в скале. Хозяин спешился, передал своего арабского скакуна в серебряной сбруе двум слугам, а остальным воинам разрешил разойтись. Почти все разбрелись по своим шатрам, лишь человек двадцать остались около царицы и ее свиты.
Леван с благоговейным восхищением взирал на бабушку, которая гордо стояла среди сгрудившихся вокруг нее слуг, незаметно наблюдая за каждым движением курдов, которые, судя по их суете, готовились достойно встретить предводителя, вернувшегося не из столь уж далекого путешествия.
Арбы и кони путников стояли тут же, чуть поодаль от пещеры, аробщики не выпрягали быков, оседланными стояли и кони, которым курдские ребятишки принесли свежего, ароматного сена, какое бывает только в горных местностях.
Предводитель немедля скрылся в пещере и вскоре появился вновь в сопровождении старика курда, белая редкая борода которого спускалась чуть ли не до пояса. Старик, одетый в пестрый просторный халат, почтительно приветствовал царицу и учтиво попросил ее пожаловать в пещеру. Царица глазами подала знак идти с нею Левану, Георгию и Леле, которая, первоначально не поняв знака, на миг замешкалась; Леван помог ей. Остальные остались на месте.
В пещере чадили коптилки на козьем сале, посередине был расстелен ковер, на котором три женщины поспешно расставляли угощения. Одна из трех была пожилая, две другие — молоденькие.
— Добро пожаловать, царица, — снова с почтением заговорил старик. — Мой сын, Сулейман, вождь племени мукри, назвал мне твое имя, и я сразу вспомнил тебя. Ты ведь та самая царица цариц Кетеван, которая отомстила собственному деверю, подлому убийце отца и брата, преданному щенку шаха Аббаса, предателю своего народа и своей страны?
Только Георгий заметил мгновенную растерянность, скорее смущение царицы. Она слегка сдвинула брови и достойно кивнула в знак согласия.
— Знаю, знаю, всем в шахских владениях известен твой благословенный подвиг. А нам, курдам, известно все, что касается черных дел шаха. Мы знаем все, до мельчайших подробностей, ибо мы тоже маленький народ, и мы тоже разобщены, разделены по племенам. Уничтожить наш язык и нашу веру мечтали и мечтают все шахи, их отцы, деды и прадеды, их сыновья и внуки будут веками мечтать об этом.
Женщины внесли на окутанных паром блюдах огромные куски вареного мяса, шила-плави[45] и плов с кишмишем, на огромном серебряном подносе красовался целиком зажаренный ягненок, головки козьего и овечьего сыра, кувшины с шербетом, сухие фрукты и ширазский виноград.
Старик несколько рай обвел правой рукой стол, трапезу, аккуратно разложенную на циновке, невнятно прошептал что-то по-курдски, потом все вместе — отец, сын и еще трое мужчин, как видно, их ближайшие родственники и приближенные, — дружно принялись за еду. Кетеван велела Георгию принести вина, перекрестилась, кивнула царевичу и, подавая пример, взяла кусок вареного мяса, выбрав самый маленький.
Некоторое время все ели молча. Царевичу курдские угощения пришлись по вкусу. Женщины, ловко пристроившиеся к трапезной циновке по одну сторону, держались подчеркнуто робко, как и принято на Востоке. Георгий налил вина, хозяева с удовольствием осушили наполненные гостями роги — по всему было видно, что они тоже, подобно многим мусульманам, знали толк в вине.
Старик раньше других покончил с трапезой, громко рыгнул, утер губы засаленным рукавом шелкового халата, затем аккуратно вытер руки полами того же халата, осторожно взял у Георгия протянутый рог с вином и заговорил по-персидски, обращаясь не только к гостям, но и к своим:
— Меня зовут Дауд, я — вождь племени мукри и отец Сулеймана. Когда я состарился, первенство шейха уступил своему сыну, — он головой кивнул на того курда, который привел, их сюда. — Эти трое — мои племянники, братья и верные слуги Сулеймана. Нас, курдов, множество. У каждого племени шейх и своя вера. Мы — иезиды. Есть среди курдов и суниты, но наша вера заключается в том, что мы отрицаем богов, поклоняемся дьяволу, ибо на земле слишком много зла, а боги с этим злом не справляются, потому что они бессильны перед дьяволом. По вашему представлению, дьявол — это зло, а мы считаем его повелителем ангелов, он управляет ими как хочет. У нас богов нет, но не трогаем чужих богов. Мы и то признаем, что Христос был ангелом, хотя мы, как и мусульмане, не верим, что его распяли на кресте. Коран гласит, что они не убили его и не распяли на кресте, ибо у них в руках была лишь тень его. Мы верим, что Христос вернется на землю, верим мы также в пришествие Магомета, но веруем мы лишь в разум и доброту человека, потому-то наш бог — мы сами…
Гости молчали, хозяева так внимали Дауду, будто первый раз слышали его исповедь. Кетеван же думала о том, зачем все-таки их привели в эту пещеру, чего от них хотят и когда их отпустят, если отпустят вообще.
— Здесь — сердце и душа Курдистана, — продолжал Дауд, обводя рукой не только пещеру, но как бы охватывая все окрестности, горы и скалы, плато и склоны. — Раньше здесь был Шизи, первый город Мидии и Курдистана. Потом древние греки захватили город и назвали его Ханзак. Римляне Антоний и Помпей тоже посещали эти места. Были и арабы, назвали город Шири, разграбили, разрушили его дворцы, но нас, курдов, покорить никто не сумел. Наши города можно разрушить, но души наши покорить нельзя. И шах Аббас с нами не справится никогда! — горделиво заключил старик с таким вдохновением, словно вся его речь была лишь предисловием к этому выводу.
— А разве шах Аббас что-нибудь замышляет против вас? — как бы между прочим спросила Кетеван.
— Нет! Что он может замышлять, когда мы накрепко знаем цену своей свободе и силе. В этих горах ему с нами не справиться, он против нас бессилен. У купцов, к нему направляющихся и от него возвращающихся, мы отбираем нашу верную долю, но шахского не берем никогда и с пустыми руками их не отпускаем, что верно, то верно… Этот юноша — твой сын, царица? — неожиданно спросил Дауд, посчитав, что разговор о вере и прочих делах курдов закончен и теперь можно перейти и к более земным вопросам.
— Внук, — ответила Кетеван.
— Куда ты везешь его?
— В Исфаган, к шахиншаху.
— А скольких ты дома оставила?
— Одного…
— А этого тебе не жаль?
— А почему его надо жалеть? — как ужаленная, вскинулась царица от метко заданного завершающего вопроса.
— Да так… Все мы люди… Шах любит заложников… Любит и развлекаться, — старик хитро сощурился и с подчеркнутой откровенностью поглядел на своих, которые тотчас нахмурились. — И у меня он потребовал двух старших братьев Сулеймана… Я сам их к нему отправил… До сих пор не отпускает… Причем говорит, что они будто бы возвращаться не хотят, но нам с ними поговорить не разрешает, скрывает от нас…
— Я в свое время отправила к нему моего старшего сына, его отца, и он вернулся в добром здравии… — проговорила Кетеван скорее для того, чтобы успокоить царевича и рассеять собственные подозрения, чем возразить хозяину, устами которого говорит истина.
— Бывает и такое… Но только тогда, когда он видит в этом прямую и верную выгоду для себя… В свое время о твоем смелом поступке нам один исфаганский купец рассказал. Так я помню, за ту добрую весть мы ничего у него не отобрали и с миром отпустили. Но я не сомневался, что рано или поздно шах обязательно расквитается с тобой… С тех пор уже много лет прошло, но я сердцем чую своим, что теперь ты добровольно, своими ногами идешь к нему на верную и неминуемую расправу… так чует мое сердце…
Кетеван неприятно было, что старик вслух произнес то, о чем она сама немало передумала. Хотелось оборвать разговорившегося хозяина, но она мудро сдержалась, ибо знала, что из троих племянников один непременно был лазутчик шаха, потому внятно и убедительно проговорила:
— Я, кахетинская царица цариц, еду в гости к своему зятю, я — мать царя Картли и Кахети, теща шаха Аббаса. Если у вас больше нет ко мне дел, то мы покорно поблагодарим вас за ваше радушное гостеприимство и продолжим свой путь, — с этими словами она поднялась, всем видом показывая, что задерживаться здесь больше не желает.
— Воля твоя, царица цариц, мы тебе не станем мешать, но запомни одно, если когда-либо туго тебе придется, то спеши в наши горы, без оглядки и стеснения спеши, и мы примем тебя, как подобает высокому гостю нашему, ибо мы любим всех, кого шахиншах любит особой любовью, — как бы подлаживаясь к тону Кетеван, многозначительно произнес Дауд и неожиданно спросил, в упор взглянув на Лелу: — А не продашь ли ты нам свою служанку?
— Это не служанка, а моя невестка, жена моего внука, царевича Левана, — с любезной улыбкой отрезала Кетеван, глазами указав на царевича, и дала понять, что собирается уйти.
— Не спеши, царица цариц, я хочу показать тебе одного грузина, вашего земляка. Когда шах Аббас из Грузии возвращался, мы дали ему дорогу, посторонились, такое у нас правило — не стоять у него на пути. За кизилбашами тянулся караван пленников, такой длинный, что, казалось, ему не будет конца… Мои люди издали наблюдали и за войском, и за этим караваном. Многие старики и дети падали и умирали прямо на дороге. Вступив в наши владения, четыре молодца ловко отстали от других и скрылись. В Грузию вернуться они не рискнули, ибо знали, что по пути все равно угодят в руки какому-нибудь беку или хану, а за побег, ты и без меня знаешь, пленных карали смертью. Одним словом, эти парни остались у нас, мы их приняли, научили нашему языку и обычаям, они и теперь живут с нами. Трое нынче в отсутствии, а один вернулся незадолго до твоего прибытия.
— Может, ты мне покажешь его?
— Для этого-то мы тебя и пригласили к нам, — ответил Дауд и велел одному из племянников позвать грузина. — Он тут недалеко, с твоими людьми беседует.
Ждать пришлось недолго. В пещеру вошел черноволосый мужчина лет тридцати, среднего роста, в грузинском чохе и архалуке. Он по-восточному приветствовал всех, потом по-грузински обратился к Кетеван:
— Да будет благословенным прибытие твое, государыня!
Кетеван с улыбкой оглядела крепко сбитого парня и предложила гостю сесть напротив. Он сел, но на еду даже не взглянул, внимательно рассматривал соотечественников, дольше всех же разглядывал старика Георгия и царевича Левана.
— Ты откуда, сын мой? — спросила Кетеван.
— Из Гареджи, государыня.
— В караване, откуда ты сбежал, у тебя не оставалось родных?
— Нет, государыня. Только те и сбежали, у кого среди угнанных родни не было.
— Почему ты не вернулся на родину?
— Да как тебе ответить, государыня! Кто знает, остался ли кто на родине?! Мы, когда нас сюда погнали, думали, что здесь вся Кахети, куда же нам было возвращаться? На развалины да пепелища?.. А мстить этим людоедам и здесь можно неплохо, даже очень неплохо.
Царица объяснила соотечественнику, что, несмотря на все беды, в Грузии еще остались грузины.
— Кроме того, Картли на сей раз шах не тронул и до Западной Грузии ему не дотянуться… Так что, если сумеешь, надо домой возвращаться, там ты больше понадобишься, больше пользы принесешь и себе, и народу, и стране.
— Долог путь до родины, государыня, поймают и голову с плеч, — как-то по-детски засмеялся парень. — Только не подумай, ради бога святого, что мы смерти боимся… Смерть не страшна — мы зря умирать не хотим, ибо от всей души жаждем их крови попить, а здесь, в этих местах и среди этих добрых людей, как раз подходящее место, чтоб эту душевную жажду утолить. Тот день — не день, когда мы двух неверных не придушим вот этими руками. — И парень с добродушной улыбкой ловко вытянул вперед свои здоровые лапищи.
— И до каких пор вы так собираетесь жить?
— А пока дышим! Ни кола, ни двора у нас нет, родичей всех сюда погнали. Возвратиться домой, чтобы зря по пути пропасть? Какой толк?.. А курды — смелый, ловкий и душевный народ, кровь в них кипит, а сердце гложет жажда мести не меньше нашей… Знают они в этом деле толк, ох как знают!
Кетеван задумалась. Наступила тишина, которую нарушил Леван осторожным вопросом:
— Может, ты пойдешь с нами? Мы возьмем тебя в нашу свиту. У нас без дела тоже не будешь.
— Нет, царевич, — не мешкая отвечал гареджиец. — У вас своя дорога, у нас своя. Вы по своей воле лезете в пасть дракону, а мы из этой пасти, слава всевышнему, ловко выбрались, и снова туда угодить не дай боже. Мы и здесь родному народу неплохо служим, — осмелел довольный своей находчивостью парень. — Вот только то плохо, что грузинских девушек у нас нет. А зачем нам дети от неверных? Хотя ничего, что-нибудь придумаем, с этой бедой тоже справимся. Может, подстережем мерзавцев, которые грузинок для гаремов воруют и продают. Отнимем без труда, себе заберем девушек — и их спасем, и сами семьями обзаведемся. И сейчас мы в долине были все четверо, крутились возле одного ханского гарема, там наших женщин не меньше десятка держат в плену. Сулейман вот за мной человека прислал, иначе я до сих пор там бы оставался.
Царица тихонько спросила у Дауда:
— Ты для него девушку просил?
Дауд кивнул.
— Хорошие парни, мы им наших женщин с удовольствием бы отдали, но они своих, грузинок, хотят. Теперь помогаем им в поисках. Стараемся как можем, хотим общими усилиями маленькое грузинское поселение в Курдистане создать, — улыбнулся он добро, оскалив свои желтые зубы.
Царица еще раз поблагодарила хозяев за гостеприимство, подарила им серебряные азарпеши, Сулейману пожаловала лезгинской работы кинжал, затем спросила земляка, как его зовут.
Он ответил шепотом, скромно понурив голову:
— Раньше Датуной звали, государыня… А здесь Даудом кличут.
Грузины переглянулись. Кетеван подошла к Дауду-Датуне, положила руку ему на плечо и поцеловала в лоб, затем сняла маленький, но красивый кинжал, который носила на поясе, и радушно протянула парню:
— Это тебе от меня на память. Врага не щади, себя береги. Не забывай, какого народа ты сын. Когда я буду возвращаться обратно — только не знаю, когда это будет, — возьму с собой всех четверых, и если Сулейман не воспротивится, еще четверых курдов прихвачу обязательно. Места у нас много и земли на всех хватит, овец и другой скот у нас тоже разводить можно, — обратилась к курдам Кетеван, — если понравится, переселяйтесь к нам, мы вас примем и ни землей, ни водой и вином, ни хлебом и солью попрекать не станем.
Дауд и Сулейман низко поклонились царице.
— Изустной истории нашего племени, — негромко начал Дауд, подняв глаза, — мы хорошо знаем и помним о возвышении при грузинском дворе наших великих предков Закри и Вани. Они верно служили такой же грузинской царице цариц, какой ты ходишь по земле. От отцов и дедов мы слышали, что после того, как арабы разорили Курдистан, многие сыны нашего племени поселились на грузинской земле и прославились своей верной службой вашему престолу и народу доброму.
— Теснимые народы всегда были вместе и вместе должны быть впредь. Сила наша — в единстве, — твердо проговорила Кетеван.
Хозяева еще раз попытались задержать гостей, но Кетеван, сославшись на осеннюю непогоду и дальний путь, велела собираться, отказавшись от проводников.
И в эту ночь им пришлось ставить шатры под открытым небом.
* * *
На рассвете не досчитались лошади царевича.
Леван помрачнел.
Георгий вспомнил последние слова, которые на прощание сказала курдам царица, и рассмеялся…
Караван тронулся в путь; Лела уступила своего коня Левану, а сама пристроилась на арбе.
Они уже достаточно удалились от места ночлега, когда сзади раздался конский топот.
Караван остановился.
Не успели оглянуться, как небольшой отряд курдов во главе с Сулейманом и Датуной очутился перед караваном. Сулейман вел в поводу пропавшего коня…
Царица с просветленным лицом повернулась к Георгию, ее глаза искрились мудростью — добро рождает добро. Да, поступок курдов служил еще одним доказательством того, что добро, совершенное и на чужой земле, приносит двойное добро.
* * *
Измена Георгия Саакадзе в Марткопи взбесила шаха Аббаса.
Давно миновало время, когда он считался с османами и, при решении судьбы Грузии, желая рассеять их подозрения, старался не проявлять чрезмерную активность в делах Картли и Кахети, ибо надеялся руками османов расправиться с русскими, волей истории подступавшими к Кавказу для укрепления южных границ.
Особенно озлобляло шахиншаха еще и то обстоятельство, что Георгий Саакадзе не ограничился действиями в Картли, прогнал назначенного правителем Кахети Пеикар-хана, пошел на Гянджу и Карабах, взял Гянджу, разорил Карабах и бежавших кизилбашей беспощадно гнал до самого Аракса. Еще более бесило шаха, считавшего себя повелителем мира, что предатель, опередив его, пригласил царя Теймураза на картлийский престол. Тщательно взвесил шах и то, что воспитанный при его дворе, ускользнувший из его когтей кахетинский царь, приславший в знак преданности свою мать и двух царевичей, по дурному примеру Георгия-моурави тоже много себе позволяет.
Потому-то он и поспешил отправить непокорному Саакадзе отрубленную голову его любимого сына Пааты. Сделал он это не в приступе ярости, а спокойно, заранее все обдумав и взвесив, ибо сила примера должна была воздействовать и на Теймураза.
Хитрый и коварный шах со свойственной ему зоркостью рассчитал — Саакадзе не отважился бы напасть на Марткопи, если бы не надеялся на османов. Потому и подослал немедленно своих лазутчиков в шатер османского военачальника, стоявшего под Диарбекиром с войском, готовившегося к походу на Багдад… Отправил лицемерных лазутчиков в гаремы знатных и приближенных людей султана, ибо твердо знал, что выболтанная любимой женщине и вовремя прибранная к рукам сокровенная мысль противника может принести больше пользы, чем иная армия. Узнал главное: Саакадзе именно от султана ждал поддержки, но получил холодный отказ, ибо османам было не до Грузии и не до Персии. Своим острым умом шах понял, что готовящиеся к взятию Багдада османы могли и русскому царю встать поперек дороги к кавказским вершинам и долинам тоже.
Подумал он, взвесил, пересчитал, хитро учел и то, что султан вместо войска прислал Георгию Саакадзе фирман и халат, пообещав при этом целый округ в султанате отдать в его распоряжение… в случае надобности и… поражения.
Шах все обдумал, размерил и медлить не стал… Лучше, мол, покорять непокорного, чем простить без вины виноватого — измученный отправкой сыновей и матери в заложники Теймураз не смог бы оказать сильного сопротивления, так рассчитал он.
Велел Иса-хану, корчибашу[46], поднять свое войско, ширванскому хану, ереванскому и гянджийскому беглар-бегам[47] приказал поддержать Иса-хана.
Кизилбаши подошли к Алгети, здесь думал корчибаш развернуть боевые действия.
Бегларбеги посоветовали местом сбора и битвы Марабдинскую долину, ибо готовые к бою картлийцы, кахетинцы и бежавший от османов атабаг Манучар уже стояли в окрестностях Коджори и Табахмела, в ожидании горцев Зураба Эристави.
По иерархическим обычаям войском грузин предводительствовал Теймураз.
В шатре царя Теймураза собрались тавады и азнауры, шел военный совет.
Молчали, никто не спешил. Все выжидали, не торопясь высказаться первым.
В шатре было душно, июльский зной не спадал и ночью, даже коджорский ветерок, обычно несущий живительную прохладу, не облегчал жары, от которой особенно страдали князья, собравшиеся на совет в полном воинском облачении, столь тяжелом во все времена года.
Неторопливо, уверенно поднялся Саакадзе, слегка кашлянул, затем провел двумя пальцами правой руки по усам и заговорил спокойно, обстоятельно:
— Иса-хан укрепился в Марабде по всем правилам военного искусства. Мы здесь ждем, но он не сдвинется с места: чем с трудом продвигаться по незнакомой, притом холмистой и лесистой местности, он предпочитает стоять в раскрытой долине, в чистом поле, где и конным отрядам раздолье, и из пушек стрелять удобно. Однако надо учесть, что шах послал его не затем, чтобы он стоял и выжидал в Марабде. Каждый день задержки, нет сомнения, вызывает бешеную ярость Аббаса. Потому-то я считаю, что нам спешить не след. Пусть постоят, утомятся, июль в Марабде тяжелый, и воды у них нет. Войско устанет, изведется, ослабнет, съестные запасы истощатся. Им придется поторопиться, поспешить, им и беглар-бегам ереванским и гянджийским… И шахские лазутчики их не оставят в покое. Погонят из берлоги, и тогда, именно в пути, застав врасплох, мы нападем на них, они же не успеют с верблюдов поклажу снять, свои пушки развернуть и установить… Порох и пули, мечи и стрелы у них на верблюдов навьючены… Когда войско в пути, его можно атаковать с трех сторон — спереди, справа и слева; когда же они повернут вспять, мы должны преследовать их с тыла и с флангов… Они сами бросят военное снаряжение и верблюдов… И пушки нам останутся.
Моурави говорил медленно, спокойно, ни на кого toe смотрел, ибо хорошо знал: мудрость одного вызывает зависть у других. Зависть часто бывала первейшей и главнейшей причиной погибели человека, хотя случалось и наоборот — давала толчок к возвышению его и взлету… Зависть была той великой силой, которая ослепляла, затемняла рассудок завистников и укрепляла, закаляла, поддерживала того, кому завидовали.
Шадиман Бараташвили не стал медлить с ответом:
— Я не хочу, чтобы кто-то превратно истолковал мои слова или же обвинил меня в непонимании или, тем паче, в противодействии моурави, да упаси меня от подобного и бог и царь! Но то, что предлагает Саакадзе, дорого обойдется нашим владениям — Сабаратиано[48] и Картли с Кахети. Во-первых, стоит июль и надо снимать урожай, наши воины — это наши крестьяне, без труда и пота которых амбары и кладовые будут стоять пустые… Во-вторых, нельзя и о виноградниках забывать…
— К тебе ли лоза взывает, Шадиман! — грозно сверкнул глазами Саакадзе.
— Я не только о себе пекусь, моурави! В том-то и дело, что здесь речь идет о Кахети и Картли, ибо именно они в основном представлены здесь. Что же касается Сабаратиано, то весь наш скот пасется в горах, и если мы вовремя не прогоним кизилбашей, то они быстро разбредутся в поисках пищи и уничтожат вконец не только наш и без того убогий скот, но и нас всех, живущих в этих местах.
Мне кажется, мы не должны медлить. Они устали с дороги, и не надо давать им роздыху, завтра же, на рассвете я предлагаю напасть на них, поскольку они нас не ждут, ибо неожиданное нападение — наполовину выигранный бой, — заключил Шадиман, вызывающе глядя на Саакадзе.
Поднялся князь Джавахишвили:
— Не завтра, а сегодня же, ночью, мы должны выйти в Марабдинскую долину и напасть на спящих. Чего ждать? Своей медлительностью мы дотянем до того, что враг всю Южную Грузию затопчет, все уничтожит и пожрет. Нет, Георгий! Так дело не пойдет. С оружием набросится на нас враг или с голодной пастью и брюхом — разница невелика! Нынешней ночью, государь, нынешней же ночью мы должны ворваться в логово зверя и одним ударом истребить спящих!
Грузинское войско насчитывало до двадцати тысяч крестьян-крестьян-воиновЭто придавало смелости князьям Сабаратиано, которых поддержали другие картлийские тавады и азнауры. Молчал Зураб Эристави, безмолвие хранили и кахетинцы, послушно смотрели в глаза царю, от которого и ждали последнего слова.
— Ты что скажешь, — Зураб? — обратился Теймураз к арагвскому Эристави, тотчас поднявшемуся с места.
— Только то, что ты велишь, государь! — коротко ответил Зураб и снова сел на деревянный чурбан, заменивший трехногие скамьи всем собравшимся. Лишь один царь сидел в невесть где взятом кресле.
Теймураз провел по лбу указательным пальцем правой руки, нахмурился и приступил к главному:
— Мы нападем с трех сторон. Средний, центральный, отряд возглавит Саакадзе, Справа пойдут картлийцы под началом Шадимана Бараташвили, слева — кахетинцы с Джандиери во главе. Все три отряда должны подчиняться моурави, так будет больше единства и порядка. Я останусь в лагере со своей свитой и людьми Зураба. Выходим нынче же ночью. На рассвете прозвучит выстрел, который послужит сигналом к наступлению с трех сторон. Как только битва разгорится, Зураб двинет своих конников… Там видно будет, дело покажет.
В ту же ночь войско покинуло лагерь и разошлось по позициям. Еще слышалось мирное стрекотание цикад, когда раздался выстрел, особенно резкий в предрассветной тишине.
Застучали барабаны, запели роги, загудела Марабдинская долина, на которой с боевым кличем развернулось грузинское войско. Боем загудела старая земля Марабды. Выстрелы из пушек и ружей во вражьем стане не могли заглушить рвущегося из тысяч грудей боевого клича. Кони горцев сминали и топтали передние ряды кизилбашей, еще не успевших вскочить в седло и дружно призывавших на помощь аллаха.
Саакадзе со своим отрядом клином врезался в лагерь противника, одно имя его наводило ужас на врага. От знакомого грозного его гласа и блеска сабли, подаренной ему шахом, леденела кровь в жилах у самых закаленных в боях воинов…
Жаркое июльское солнце уже стояло в зените и безжалостно опаляло ряды оробевших врагов.
Во вражеском лагере, не успевшем развернуться в боевом порядке, все больше и больше нарастал переполох.
…Сам корчибаш верхом на коне в сопровождении еще свежих, нетронутых отрядов пытался подбодрить растерявшихся кизилбашей. И вот тут-то и появился Зураб Эристави со своими горцами, обнаженной саблей очищая себе путь к первому слуге шаха Иса-хану.
«Каким бы нерадивым и нерасторопным ни был грузин в страде, он вмиг становится орлом непобедимым в борьбе за отчизну!» — подумал Теймураз и только обрушил было занесенную саблю на врага, чтобы обратить его в окончательное бегство, как явился гонец с грозной вестью: с Шакальих полей и со стороны реки Храми приближается тавризский бегларбег Шахбанда-хан со своим войском.
Двуликому одноликим не бывать, хотя страх может превратить одноликого труса в двуликого подлеца… И поднялась паника, шум, суматоха, пронесся слух, что сам Аббас прибыл со своими людоедами — у страха тоже глаза велики.
Смутились грузинские воины, вчерашние бесхитростные труженики земли родимой…
А тут еще по пальцам считанные изменники и шахские лизоблюды пустили гнусный слух, будто царя Теймураза убили. Слух этот вмиг дошел до самого Теймураза.
Царь тотчас поспешил успокоить растерянное воинство, со своими воинами с ходу рванулся в бой, но знатные князья, не желая лицом к лицу встречаться с разгневанным шахом, спасая собственные шкуры, повернули вспять и покинули поле битвы, оставив своих крестьян на произвол судьбы…
Как львы сражались Теймураз, Саакадзе, Зураб Эристави и Давид Джандиери, у которого кровь хлестала струей через рассеченную кольчугу.
Распалось единство грузин, и опомнился враг.
Кизилбаши начали напирать, грузины отступали, фортуна боя изменила им.
Зураб на коне подлетел к царю:
— Надо спасаться, государь!
— Я и сам вижу… Где Саакадзе?
— Он и послал меня к тебе.
Теймураз велел своему отряду защищать его с тыла, Давиду строго приказал следовать за ним. Джандиери истекал кровью, но не покидал поле битвы.
…Царь чуть ли не силой привез тяжело раненного богатыря в Коджорский лес.
Сумерки опустились на Марабду. Стонали раненые… Царил дух смерти и поражения.
И победой тоже не пахло, ибо в этой битве и враг не торжествовал победу!
Жизни не жалели грузины, чтобы враг не взял над ними верх, чтобы дорого заплатил за Марабду.
Едва живой корчибаш Иса-хан и не думал в роли победителя возвращаться в Картли. Как побитая лиса пополз он к своему повелителю, не смея преследовать скрывшихся в горах и лесах грузин, ибо даже неожиданная встреча с ними могла дорого обойтись ему самому…
И снова на грузинской земле шевельнулись сомнение, недоверие друг к другу, подозрение и двуличие… Подняли голову непокорные, приближалась, подкрадывалась междоусобица и братоубийственная рознь. Но вечный дух, непреклонный и стойкий, унаследованный от отцов и дедов, все-таки был жив и призывал сыновей на верную службу народу и отечеству…
* * *
Теймураз остановился в крепости Схвило у князя Амилахори. Через бойницы верхней площадки северной башни смотрел он на деревню Пантиаии, раскинувшуюся на склонах горы и заселенную осетинами, которых Потам Амилахори привез сюда с севера. Солнце клонилось к западу, и лишь на склонах горы, где располагалась деревня, лежали прощально сияющие отблески заката. «Правильно сделал Нотам, поселив бездомных в свои владения. У него и рабочие руки появились, и подданных прибавилось. Грамоты они не знают и преданностью вере не изнуряют себя. Грамотность и вера утомляют подданных, а темнота, отвага и верность повелителю — родные сестры и братья кровные».
Теймураз в задумчивости присел на тахту, затем снова встал, прошел, ступая по огромным медвежьим шкурам, к противоположной бойнице и взглянул теперь на ущелье реки Лехуры. «Прекрасные места! Берега Лехуры поистине созданы для садов и виноградников. Поистине рачительные хозяева эти Амилахори. Правильнее было бы называть их „Амолахвари“[49]. На верность и преданность их можно положиться… Я тоже должен заселить опустевшие земли Кахети. Попрошу Георгия и Александра Имеретинских, правителей Менгрелии и Гурии — Дадиани и Гуриели — пусть переселят к нам всех крестьян, живущих в горах или на сухих, бесплодных землях. Хорошо также и армян поселить — они христиане, народ трудолюбивый, честный. Они быстро переймут на нашей земле и нравы, и язык грузинский. На юге у нас Картли обезлюдела совсем, обнажилась, — кого враг истребил, а кто в Среднюю Картли или Верхнюю Имерети переселился, от преследований спасаясь. Пушки, пушки нам нужны, иначе нам с шахом не справиться, не даст он нам покоя!
А как же мать? Сыновья?.. О горе, горе мое неизлечимое, беда неминуемая!»
Подул северный ветер, разбился о стены крепости, засвистел в узких бойницах и далеким шорохом принес с собой песню из лагеря, разбитого у подножия крепости Схвило. Между порывами ветра особенно явственной становилась тишина, прочно царящая в башнях этой древней крепости, воздвигнутой на крутом ответвлении Кавказа. «Эту песню любит Леван… Может… Нет, я должен усмирить Аббаса… хотя бы на время. Мне нужны пушки, тогда я смогу достойно встретить его разительным громом выстрелов, как только он ступит на нашу землю… А прийти — он непременно придет. Один грузин стоит десяти, нет, двадцати кизилбашей… Но и одного к двадцати нет у тебя, Теймураз! Ох, беда! Кто проклял тебя, Теймураз? Уж не сам ли господь бог?.. Да если бы он был, разве отягчал бы землю злодей шах Аббас?!»
Снова порыв ветра донес знакомую песню. Пели кахетинцы, лилась песня, как неторопливая, полноводная река Алазани…
«Картлийцы все-таки ревниво относятся к преобладанию в моей свите кахетинцев… А единую Грузию лишь тогда удастся создать, когда Кахети и Картли и вся Имерети, станут единым целым, утихнут распри, исчезнет из обихода „мое — твое“…»
В дверь осторожно постучали.
Царь позволил войти. На пороге появился Нотам Амилахори.
— Георгий-моурави пожаловал, государь!
— Какой моурави? — с деланным недоумением спросил Теймураз.
Амилахори понял смысл вопроса, а потому не замедлил поправить невольную оплошность:
— Георгий Саакадзе просит разрешения принять его.
— Что ему понадобилось?
— Не знаю, он непривычен к расспросам и умыслы свои заранее не открывает.
— Так приучи его, спроси, что угодно?
Амилахори вышел, осторожно прикрыв за собой дверь.
Теймураз был обижен на Саакадзе за его своеволие. Направляясь в Тбилиси, он Ждал, что Саакадзе выедет ему навстречу — ведь он сам был первым сторонником воцарения Теймураза в Картли; но моурави обманул царские надежды, на встречу не явился. Не появился он и в Мухрани, когда Теймураз гостил у Кайхосро Мухран-батони. Царь слышал также, будто Саакадзе обещал Кайхосро титул первого человека при дворе единой Грузии, однако достойным престола его не считал. После Марабдинской битвы Саакадзе задумал посадить на картлийский престол сына имеретинского царя Георгия — Александра, предполагая таким образом объединить Картли и Имерети… А затем к ним прибавить и Кахети. Теймураза изгнать… Левана и Александра можно было в счет не брать, а Датуна был еще мал.
И то донесли царю, будто Саакадзе сказал: Теймураз пусть стихи пишет, а я займусь объединением страны, на престол же единой Грузии посажу того, кто будет опираться на мою десницу и разум.
Знал царь и о том, что между Зурабом Эристави и Георгием Саакадзе черная кошка пробежала.
…Возвратившийся Амилахори на сей раз вошел без стука.
В душе царю не понравилась его фамильярность, но он промолчал.
— Он говорит, что хочет видеть царя.
— Он сказал «царя»?
— Да, именно так и сказал, государь.
— Тогда передай ему, что Теймураз пишет стихи, как закончит, сам его позовет.
— Он обидится, государь, — явно смущаясь, заметил Амилахори. — Лучше совсем отказать в приеме, чем эти слова передавать.
— У вас тут хороший родник, чистый, холодный. Как зовется?
— Джанаура.
— Вот пусть выпьет водицы из Джанауры, и обида вмиг пройдет. А что лучше — об этом позволь мне самому судить, мой Йотам. Вот так!
Обескураженный Амилахори еще осторожнее, чем в прошлый раз, закрыл за собой дверь. Резкость царя была ему неприятна, но не унижение Саакадзе его давило, нет, это, наоборот, даже несколько тешило его задетое самолюбие. Тон последних слов царя задел его. «Мой Йотам» же сразу рассеял легкую обиду, ибо Теймураз, замечавший все, простил ему давешнюю оплошность, когда он осмелился войти без стука.
…Георгия Саакадзе царь принял лишь на следующий день. Встретил холодно, хотя Саакадзе и поцеловал полу царской чохи. Чаша житейских весов на сей раз явно и уверенно клонилась в сторону Теймураза.
Некоторое время оба молчали.
Молчание нарушил Теймураз:
— Что прикажешь нам, картлийский моурави? — Царь с особым нажимом произнес последнее слово.
— Приказывать мне не к лицу, и картлийским моурави меня никто не назначал.
— Но ты ведь был им при царе Луарсабе!
— Луарсаба уже нет в живых, да упокоит господь его душу… С моей стороны-то я давно простил ему все.
— Можно подумать, что не по твоему совету угодил он к шаху в лапы!
— Тут нет моей вины, об этом знает бог и люди, а ты знаешь это лучше других.
— Но народ об этом упорно говорит… — съязвил Теймураз, нарочно накаляя атмосферу.
— Недруги — еще не народ, — возразил спокойно Саакадзе. — Ты прекрасно знаешь, государь, что Луарсаб поехал к шаху по совету Шадимана Бараташвили. Ты был тогда в Кутаиси и должен лучше меня знать, кто был его первым советником. Шадиман не мог быть моим послом хотя бы потому, что именно он настроил против меня Луарсаба. Именно Шадиман затеял против меня травлю, поссорил Луарсаба с сестрой моей Текле и прихватил мои земли… Когда я скрывался в лесах, он, и только он преследовал меня и мою семью…
— Но ты ведь все вернул с лихвой!
— Дорого обошлась мне Марткопская битва… Тебе? это хорошо известно… После Марткопи шах прислал мне голову Пааты… И это тоже заслуга Шадимана. По его милости околачивался я при шахском дворе, по его милости потерял любимого сына…
Теймураз нахмурился, потер лоб указательным пальцем правой руки. Упоминание о Паате тяжелым камнем легло на сердце. Леван и Александр промелькнули перед глазами.
Саакадзе на минуту замолчал, а через некоторое время заговорил снова:
— Не могут простить мне картлийские дидебулы победу у Ташискари, доверие Луарсаба… Они и его запутали… меня вынудили к шаху примкнуть, чтобы с ними рассчитаться… Другого пути у меня не было.
— Жажда мести гложет тебя, ради нее ты борешься, в ней и сила твоя, и разум твой. А я не собираюсь бороться с князьями, ибо они сегодня опора моего престола, в их руках счастье Грузии и ее беда, именно они — хорошо ли, плохо ли — правят нашим народом, как знают и как умеют. А ты со своей местью воду мутишь и являешься главной причиной смуты… Может, месть твоя и праведная, да…
— Я готов забыть о мести, лишь бы Грузия…
— Кривишь ты душой, моурави, жажда мести только руководит тобой, она — главнейшая и первейшая твоя вдохновительница…
— Я не скрываю жажду мести и скрывать не собираюсь, ибо я тоже человек, живое существо с сердцем и разумом, но даю тебе честное слово, клянусь памятью Пааты, что сегодня же отойду в сторону, если я не нужен родине моей!
— Так и сделай, Георгий, уйди с дороги! От тебя? Картли одна только смута и распри. Ты сбиваешь с толку картлийских князей. Более того — ты причина всеобщего раздора. Ты то Кайхосро Мухран-батони к измене склоняешь, то Зурабу Эристави лестными обещаниями голову мутишь.
— Зурабу голову смутить не так-то просто, — вскользь вставил Саакадзе. Теймураз понял намек, но пропустил его мимо ушей, продолжая свою мысль:
— Нугзара Эристави тоже ты сбиваешь. Картли не ограничился, ты уже и до Имерети дотянулся. Пообещал Георгию его сына Александра на картлийский престол возвести. Наследников Теймураза, мол, шах истребит, а его самого, мол, я беру на себя. Шах, мол, Теймураза пуще всех остальных ненавидит, убив его, твой Александр успокоит шаха, а объединив Грузию, сможет внушить ему, что эта надежная сила поможет ему в борьбе с султаном. Ты ошибаешься, Георгий, если думаешь, что Марткопский мятеж и поражение Корчи-хана кто-нибудь примет за доказательство твоей самоотверженной преданности отчизне, глубоко ошибаешься! Даже если другие и поверят, меня ты не проведешь! Тебе в руки случайно попало письмо шаха к Корчи-хану, в котором шах велел тебя убить… Мне до мельчайших подробностей известно содержание того письма… Возможно, я сам его и писал, кто знает… Да-да, может, я писал, и я же отправил гонца не к Корчи-хану, а именно к тебе. Потому что знал, ты не пожалеешь ума, таланта и силы, чтобы разбить шахское войско, и тем самым принесешь пользу Грузии. Кроме того, мне было известно, что и у тебя болело сердце из-за того разбоя, какой творил в Картли Корчи-хан. Это за тобой признают. Но если бы не то письмо, ты бы так быстро не восстал против шаха, ты бы еще долго тянул, чтобы основательнее, до конца сокрушить картлийских тавадов, а через них — поневоле — и Картли, сам же возвысился бы до предела, если предел у тебя имеется вообще.
Саакадзе с подозрением взглянул на Теймураза. Он знал его природную проницательность и завидную дальновидность, но сейчас не мог поверить ему до конца, не мог он это даже в мыслях допустить. Теймураз, чтобы развеять сомнения моурави, прищурил глаза, сомкнул брови и медленно, внятно произнес:
— Хочешь, я на память повторю то, что было написано в том письме? «Поскольку ты сейчас в Коруджи-баш, тебе следует собравшихся на смотр грузин целиком истребить». Эта часть письма должна была тебе понравиться, так как под грузинами здесь подразумевались твои заклятые враги-князья. Но в письме был и другой приказ: «Моурави живым не выпускай, ты должен убить его, чего бы тебе это ни стоило». Шах все время следил за тобой, но предателем не считал, — для осторожности, на всякий случай, следил он за тобой всегда. Он точно знал о твоей ненависти к картлийским князьям и подстрекал тебя против них. Я тоже знал все твои мысли и сомнения. Знал прекрасно и о подозрительности шаха, и то учитывал, что он за тобой следил, что и тебе самому тоже было известно. Потому я и написал, будто он велит убить тебя! Знал, что ты поверишь… И печать, которую ты хорошо знал, я сам мог нарисовать на том письме.
Теймураз перевел дух, взад-вперед прошелся по комнате. Потом, когда убедился, что уловка удалась, остановился возле бойницы и, стоя спиной к Георгию, продолжал, чуть понизив голос, проникновенно:
— Знаю я и то, Саакадзе, что к шаху тебя не сердце, а нужда привела, что и без того письма ты бы недолго ему служил, что ты бы не променял родину на шахские милости. Ты ждал подходящего момента, соблюдал осторожность, боялся за Паату. Я, может, и поторопил тебя. Мы оба сделали доброе дело. Я тебя не обвиняю и в том, что ты заманил Луарсаба к шаху, нет! Хотя сам знаешь, что ты косвенно повинен во всех бедах картлийского царя. И князья из-за тебя от него отступились, и разлука с сестрой твоей его крыльев лишила, подкосила. Прямой вины твоей, повторяю, во всем этом нет, но причина все-таки в тебе и в твоих деяниях…
— А может, все-таки эта причина и помогла объединению Картли и Кахети? — воспользовался минутной передышкой царя чуть оправившийся от его неподдельной искренности Саакадзе, уже было потерявший свое обычное самообладание. — Я всегда верил в твою твердость и отвагу, но не скрою и того, что не могу поэта считать столпом единой Грузии.
— Я не отказываю тебе в заслугах и весьма их ценю, но говорил и буду говорить, что все твои поступки продиктованы твоей личной враждой или злобой, а не интересами Грузии, — еще больше понизил голос Теймураз, пропуская мимо ушей замечание о его поэзии.
— Тогда почему же я не уничтожил ни одного своего личного врага? Назови мне хотя бы одного из тех, кто меня преследовал и хотел истребить мою семью, а я, в отместку, убил или разорил его? Если только злоба и жажда мщения руководили мною, почему до сих пор жив Шадиман Бараташвили? Или почему в Картли, моими же руками очищенной, не посадил я царем Кайхосро Мухран-батони, преданного сторонника моего? Разве у меня не хватило бы сил на это?!
— Все дело в том, Георгий, что ты неглуп, хотя и не так мудр, как воображаешь. Ты, конечно, мог схватить Шадимана, но таким образом ты бы настроил против себя всех картлийских князей. Каждый из них мог представить себя на его месте. А это тебя не устраивало и не устраивает. Кайхосро же ты потому не посадил на картлийский трон, что, устроив помолвку дочери царя Георгия со своим сыном, ты сблизился с Имерети, и картлийский престол берег для шурина твоего Автандила — царевича Александра. Что касается Кахети, то ты прекрасно знаешь, что мои сыновья не вернутся из Исфагана, ибо шах не простит мне ничего… Меня ты считаешь стихоплетом и думаешь, что со мной справишься шутя… — Царь мгновение помолчал. — Таким образом, ты посадил бы наследника имеретинского престола на картлийско-кахетинский престол, после смерти царя Георгия Александр наследовал бы и имеретинский престол. А ты его вместе с продолжателем твоего рода быстро убрал бы с дороги при помощи султана, возле которого ты давно крутишься…
— Подозрения терзают тебя, государь, зряшные подозрения. Султан ничего мне не дал, кроме пустых обещаний.
— И это знаю! И то не забываю, что султан такой же враг Грузии, как и шах. Если бы в битве при Марабде султан прислал нам на помощь хоть малое войско, мы бы легко смогли изгнать кизилбашей из Грузии.
— Марабдинскую битву тоже ты проиграл. Если бы ты принял мое предложение, мы бы наверняка побили кизилбашей и без помощи султана.
— Ты и прав, и не прав. Ведь кроме военного искусства, коим ты великолепно владеешь, есть и другие соображения и основы, которыми пренебрегать нельзя. Иногда приходится, даже необходимо считаться с чувствами, мыслями и интересами людей… В Марабде я принял во внимание положение князей Бараташвили, чьи владения разоряла тридцатитысячная армия Иса-хана. Правда, Бараташвили у тебя бельмом стоят на глазах, но мне они не помеха. Принять твой план значило бы обидеть их, и обидеть сильно, ибо наше войско находилось на их полном иждивении, что мы должны были оценить по справедливости. Далее, в июле для труженика земли каждый день на счету. А твой план требовал времени. Под угрозой был урожай. Не собрать урожай — значило обречь на голодную смерть и картлийцев, и кахетинцев. Так какая же разница — погибнут они от голода или от руки врага! Я учел также и то, что корчибаш не покинул бы своего лагеря, если бы мы прождали его до зимы. А наши крестьяне не выдержали бы такого долгого ожидания, разбежались бы по домам, и боевой дух в них иссяк бы… Твой план был бы хорош, даже очень, если бы мы не на нашей земле были, а на чужой, и людей прельщала бы добыча победителя. Ты считаешь себя полководцем, ты и есть, конечно, полководец, но забываешь о том, что наш воин в первую очередь крестьянин, защищающий свой дом и очаг. В отличие от захватчиков, наши воины не алчут добычи. Не всегда понимают они, что, скажем, в Марабде решалась судьба их дома и крова, а потому трудно воодушевить их на бой вдали от родного очага… Да и князья не всегда мыслят шире крестьян… Когда военный совет отверг твой план, я был огорчен, да, огорчен, другого не скажешь, но и то понимал, что иного выхода у нас не было…
А султан твой никакой пользы Грузии не принесет. Он хочет, чтобы мы с кизилбашами друг друга истребляли — они нас, мы их, а османы грели бы на этом руки. Султан — не та внешняя сила, которая поможет объединению Грузии. На это рассчитывать — значит не уметь предвидеть, а без предвидения даже полководец слаб, погибнет, не говоря уже о предводителе народа.
— Но и я не сторонник твоей внешней силы. Уж слишком она далека, твоя внешняя сила. Хотя сегодня ты неизмеримо вырос в моих глазах, государь, но я все равно верю и буду верить всегда, что спасение Грузии лежит на пути противоречий между шахом и султаном. Твой же путь и путь твоего деда ни к чему хорошему нас не приведет.
— Ты ошибаешься, Георгий, — немного смягчился Теймураз, назвав Саакадзе по имени, — горько ошибаешься, возлагая большие надежды на эти противоречия. Шах и султан — едины душой и телом. Обоих устраивает разобщенная, ослабленная, обескровленная Грузия, государственность которой они собираются развеять так, как развеяли государственность Армении. Христианской стране, окруженной иноверцами, только единоверная держава может помочь! И мы так же, как и мой великий дед в прошлом, как и наши потомки в будущем, должны твердо держаться этого пути. И поскольку ни Рим, ни Испания, ни Франция нам не помогают нынче и не помогут впредь, мы должны искать спасения на севере. С одним лишь Саакадзе, Зурабом Эристави и всеми Багратиони ничего не добьется Грузия, насмерть зажатая в тиски двумя чудовищами!
— Но эта сила слишком далека, напрасны твои надежды, государь!
— Потому-то напрасны твои государственные поиски, потому-то ты должен отойти в сторону от государственных дел. Ты хороший полководец, но в цари и даже в царские советники не сгодишься, мой Георгий!
Наступила тяжкая тишина. Саакадзе как бы опустошенным взглядом смотрел в окно, Теймураз же стоял молча, чувствуя, что весь иссяк в этом длинном и затянувшемся объяснении.
Тишину нарушил моурави:
— Значит, это правда, что ты задумал меня убить?
— Ложь! Ты, кроме невольного зла, много добра сделал для Грузии. Но я прекрасно знаю также и то, что наше нынешнее бедственное положение — результат не только трагических событий, предопределенных судьбой, но и естественный итог наших трагически неразумных действий. Если бы не наши распри и междоусобицы, столь прочно укоренившиеся в нашем быту, то сегодня не было бы Кахетинского, Картлийского, Имеретинского царств, не было бы Луарсабов, Георгиев, Александров, и самого Теймураза бы не было. Со всеми надо разобраться разом, всех вместе нужно объединить одной сильной и всемогущей рукой, дабы восстановить единую Грузию, с единой властью, с одним царем, одним престолом! Без внешней третьей силы нам не справиться с междоусобицами и распрями, с раздроблением отчизны. А третьей, спасительной внешней силой может быть только единоверная Россия, только! — Теймураз медленно отпил вино и усталым голосом продолжал спокойнее: — Может случиться, что и я не смогу достичь спасительной цели, может случиться и так, что потомки назовут меня неудачливым государем, над поэзией моей потешаться станут, а деяния мои жертвенные предадут вечному забвению. Но пусть знает господь бог и люди, мой народ, что в наше трудное время и другой на моем месте не больше сумел бы сделать для блага страны и отчизны нашей многострадальной. Пусть я сегодня только пашу и сею, но моя нива завтра, послезавтра обязательно даст зеленые всходы и в конце концов принесет урожай, счастье, спасение. Мой путь верен, а твой ложен. Поэтому ты должен сойти с моего пути! К шаху тебе идти нельзя, это я знаю. Ступай к султану, служи ему в борьбе с шахом. Только не забывай, что ты грузин, когда иноверцы пошлют в бой. Если этого не желаешь, оставайся в своей вотчине, отойди от государственных дел, смирись, придет время, и я призову тебя на службу. Выбирай! Но одно помни — ты должен сойти с моего пути!
— Я подумаю, государь, и сообщу тебе мое решение! — после недолгого молчания проговорил Саакадзе, ибо понял, что аудиенция окончена.
— Да, — вспомнил царь, когда Саакадзе уже направился к выходу, — мой зять Зураб тоже придерживается твоих взглядов?
— Его взгляды мне неизвестны.
— А все-таки?
— Наши пути давно разошлись.
— Я знаю… Ты возвышал Кайхосро Мухран-батони, предоставляя ему первенство в Картли, а Зураб, затаив обиду, усилению твоему не радовался. Хотя в Тбилиси он тоже не вышел меня встречать…
— Боялся тебя… как видно.
— Имел, значит, основания.
— Царствуют времена — недаром говорится… Он, видимо, постарается доказать тебе свою преданность… Все же как-никак он зятем тебе приходится, его-то ты простишь.
— Но он и твой родич.
— Не по крови, по свойству.
— Я хочу, чтобы ты знал одно, Георгий, — еще больше понизил голос Теймураз. — Когда я ускорял твое выступление против шаха, жертва, принесенная тобой, камнем лежала на моей душе, но… — Теймураз запнулся, провел указательным пальцем правой руки по лбу и продолжал каким-то чужим, непослушным голосом: — Но твою боль моей болью подкрепил, ибо я тоже пожертвовал многим… ибо без жертв Грузия и раньше не обходилась, не обойдется и впредь.
Георгий с подчеркнутым уважением простился с Теймуразом, более учтиво, чем приветствовал вначале. Теймуразу это польстило, ибо знал, что приручить строптивца не так уж просто. Однако мгновенное расположение не помешало ему сразу же после выхода Саакадзе позвать Амилахори и велеть послать следом за моурави лазутчиков, дабы узнать и доложить, куда тот направился. Затем царь велел слугам накрыть стол на двоих и пригласил к обеду Джаханбан-бегум.
Теймураз вдруг пришел в доброе расположение духа, поэтому ел с аппетитом, похваливал картлийское вино и угощение. Много слов приятных сказал картлийской царице, вернее, бывшей царице, много чаш осушил.
— Вот только чурчхелы местные мне не нравятся — сухие, крепкие, и сладости в них нет настоящей. С нашими, кахетинскими чурчхелами из грецкого ореха и сладкой татары[50] никакие не сравнятся — ни имеретинские, ни картлийские.
Женщина с благоговением взглянула на Теймураза и с кокетливой робостью спросила:
— Почему кахетинцы называют виноградное сусло татарой, какое отношение оно имеет к слову «татарин»?
— Лоза — уроженка солнечного Востока. Магометане, как тебе известно, вина не делают, им вера запрещает. Зато сушат виноград, а сок варят, долго держат на огне; сусло, варенное с мукой, и есть «татара». Ведь всех мусульман в простонародье по недоразумению называют татарами. Отсюда и «татара» — лакомство, рожденное на огне Востока.
— А почему кахетинский виноград слаще?
— В Кахети больше солнца, оно греет сильнее. И земля более плодородная, жирная. Снежные вершины Кавкасиони за ночь превращают дневной палящий зной в прохладную росу. Эта роса ночью покрывает гроздья винограда туманным налетом, а под дневным знойным солнцем тот влажный налет засахаривается в виноградных зернах. Поэтому наш виноград слаще. И сусло мы дольше кипятим, чтобы росы-влаги оставалось меньше, а солнечной благодати больше.
— А я думала, ты скажешь, что все кахетинское сладкое, как ты сам, — играя глазами, проговорила Джаханбан-бегум, и, поскольку Теймураз ответил лишь улыбкой, она снова перевела разговор на чурчхелы. — С кахетинскими местные, конечно, ни в какое сравнение не идут, — с тактом заключила Джаханбан-бегум, которую Теймураз потчевал привезенными из Кахети сластями, но запасы коих подходили к концу.
Любил царь кахетинские чурчхелы.
— А вино местное мне нравится, — произнес захмелевший Теймураз, снова наполняя чаши. Не отставала от него и Джаханбан-бегум, откровенно любуясь возлюбленным своим и повелителем. — Твое здоровье, царица Картли! Я пью за твои ясные очи, преклоняясь, восславляю твою пьянящую женственность, я царь-поэт Теймураз!
— Ты во всем одинаково силен, государь! Могуч как царь, как поэт, как мужчина. Слабый и немощный никогда не станет ни могущественным царем, ни великим поэтом. Сильный же человек, вроде тебя, все делает в полную силу, весь отдается без остатка.
Теймураз в упор взглянул ей в глаза.
— И в ласке с тобой?
— Ты лучше меня ведаешь свою силу, государь, — опустила затуманенные глаза Джаханбан-бегум. Каждое ее слово как бы зажигало Теймураза, а затуманенный взор пьянил хлеще вина. Он, не вставая, обнял ее своими могучими руками, стал нежно-нежно целовать. Однако тотчас же овладел собой, вмиг обуздал не вовремя нахлынувшую страсть.
Женщина слегка склонила голову и очень робко, почти шепотом, вкрадчиво проговорила:
— Не стыдно тебе, государь, ласкать женщину, когда отчизна твоя вступила в годину тяжких испытаний? Неужели сердце твое тянется к любовным утехам и веселью?
Теймураз встал, неторопливо прошелся взад и вперед по огромной медвежьей шкуре, покрывавшей пол, потом остановился перед красавицей и начал приглушенным голосом:
— Всякое великое дело, мирное иль ратное, требует вдохновения. И чем сильнее то вдохновение, тем больше у человека сил для трудов и битв. Мгновенная вспышка страсти надолго зажигает мужчину, вдохновляет его на подвиг и в бою, и в труде. Женщина всегда была и будет источником вдохновения для мужчины, заглавной буквой радости его и беды. Без женщины жизнь лишена смысла и не имеет продолжения, так же как и начала. Сегодня ты, и только ты, — вдохновительница десницы моей и меча, сердца и души; ты — моя путеводная звезда и сияние во мгле, в которую погружены я и мой многострадальный народ. Ты освещаешь мой помраченный разум и скорбящий дух, поэтому-то… я душой своей возвышаю твою страсть, твою женственность, божественная краса ты моя, царица Картли! — Теймураз поднял полную чашу, самозабвенно провозглашая тост: — Я пью за тот блаженный миг, который на какие-то мгновения уравнивает царя и нищего, за те мгновения, которые как живительное благо утоляют все боли и муки, которые продолжают жизнь на земле и являются источником чистым, незамутненным, творящим жизнь. Я пленник твоей сияющей благодати, царица моя, раб волнения в твоей крови, женственного воспарения твоего, с которым ничто не сравнится, которое очищает и окрыляет человека, облагораживает зверя и самого дьявола.
Песнь твоим гибким рукам, твоей лебединой шее, твоей неувядаемой, розами цветущей груди, телу твоему стройному, блаженству невыразимому, неслыханному, тобой даримому, песнь хмелю твоих уст, саду эдемскому тела твоего. Я славлю тебя, женщина-божество, женщина — райские кущи, женщина — адский пламень мой! — Теймураз взглянул в сверкавшие глаза Джаханбан и продолжал еще тише, почти шепотом: — И когда меня уже не будет на этом свете — завтра, послезавтра, а может, много лет спустя — или нас с тобой разлучат злые люди, а твоего тонкого стана волей божьей и человека коснется другой, как это было и до меня, я прошу не бога, нет, а тебя, тебя молю, — не забудь обо мне, вспомни меня в те божественные мгновения, вспомни обезумевшего от страсти, пьяного тобой, твоей страстью, твоего Теймураза. Будь с другими и нежной, и пылкой, будь ты с ними только плотью, душой же приникни ко мне, как теперь приникаешь и телом, и душой твоей. И даю слово, богом крещенное слово даю мужское, что верность твою, душевную верность, я буду и на том свете благословлять во веки веков и с трепетом буду ждать тебя у райских врат, ибо другой путь тебе заказан, моя величественная!
Джаханбан-бегум вся дрожала, по щекам ее текли слезы. Она только собиралась броситься в объятия царя, как в дверь постучали.
— Кто там еще? — резко переменился в голосе сразу протрезвевший царь, бросив грозный взгляд на дверь.
Вошел Потам, бледный, слегка растерянный.
— Кахетинцы бьются с картлийцами, государь. — непривычной скороговоркой, вызванной сильнейшим волнением, выпалил обычно степенный, неторопливый Йотам. — Когда Саакадзе проезжал мимо лагеря, расположенного возле ограды Святого креста, картлийцы приветствовали его криками «ваша!», кахетинцы же… Началась настоящая битва, они безжалостно рубят друг друга саблями и кинжалами…
Царь не дал ему закончить — все было ясно. Он сунул за пояс турецкие пищали и сбежал вниз по каменным ступенькам. За ним поспешили Йотам и личная охрана. При его виде вмиг распахнули врата крепости. Он ловко вскочил на дверное крыльцо крепости и сразу спрыгнул на землю. Бегом кинулся по горной тропинке, не обращая внимания на колючие кусты. Быстро добежав до нижнего плато, он ловко поднялся на пригорок и, выстрелив в воздух сразу из двух пищалей, громовым басом заорал:
— Остановитесь сейчас же! Слушайте меня все!
И словно только ожидая этого призыва, изнуренные дракой кахетинцы и картлийцы вмиг опустили уставшие руки. Все взоры устремились на Теймураза. Он стоял в белой чохе, горделивый, как орел, освещенный косыми лучами заходящего солнца.
— Грузины! От имени бога и народа я, царь Картли и Кахети, ваш царь Теймураз, велю вам — немедленно, все до единого, вложите оружие в ножны! Кто этого не сделает, пусть выйдет вперед и сразится со мной!
— Я этого не сделаю! — крикнул какой-то богатырь. — Я был вместе с Саакадзе при Марткопи, пока жив, никому не позволю его унижать!
— Выходи сюда!
— И выйду! — богатырь с буйволиной силой стал проталкиваться в толпе, идя прямо на Теймураза.
Воины оцепенели, вздрогнул Йотам, растерянно переглянулись телохранители. Здоровенный как буйвол, молодец лет тридцати с обнаженной саблей шел на царя. Теймураз почему-то не вынимал ни сабли, ни кинжала и, похоже, третью пищаль из-за пояса доставать тоже не думал. Йотам взвел курок. Теймураз скорее почувствовал, чем увидел его движение и молниеносно обернулся к нему, строго приказав:
— Чтоб никто не вздумал стрелять!
Очутившись лицом к лицу с царем, дерзкий верзила оробел перед высоким, плечистым, величавым Теймуразом. Теймураз же, воспользовавшись минутным замешательством парня, шагнув вперед, со всей силой размахнулся и влепил богатырю такую оплеуху, что тот, не успев даже охнуть, рухнул наземь как подкошенный.
Раздался дружный вздох облегчения, Теймураз громко отчеканил:
— Мне ничего не стоит убить тебя, но знай и запомни это навсегда, что, убив тебя, я убил бы единство родины нашей, народа нашего, и сам себя в живых не оставил бы. С тебя хватит этой оплеухи. Постарайся на поле битвы доказать свою преданность родине, родине твоего и моего Саакадзе, моей Грузии и твоей Грузии осел! Амилахори! — повернулся царь к Иотаму. — У тебя хорошее вино, открой свои квеври для войска, пусть выпьют за благополучие отчизны нашей, за здоровье матери моей и матери всех грузин — царицы цариц Кетеван и пусть благословят моих двух сыновей, двух царевичей, которые томятся в плену у шаха. Сегодня я объявляю пир без брани, на бранный пир же сам призову вас, когда настанет время!
Завершив слово, он повернулся и медленно пошел к крепости по подъему, по которому так быстро спускался нынче. Идя размеренным шагом, царь спросил у подоспевшего Иотама, есть ли убитые. «Раненые есть, — отвечал тот. — Убитых нет, слава богу». «Присмотри за ранеными», — велел Теймураз.
— Да здравствует царь!
— Да здравствует царица цариц Кетеван!
— Многие лета царевичам!
— Родине слава во веки веков!
Войско провожало царя дружными возгласами.
Теймураз шел по подъему к крепости Схвило и думал лишь об одном: как дорог ему родной народ со всеми своими достоинствами и недостатками, со своим лихом и благом, добром и злом.
* * *
У Тирифона, в устье Кодисцкаро, на левом берегу реки Тортли Теймураз муштровал свое войско.
Стоял солнечный осенний день. По дороге в Гори царь пожелал устроить учение: в горах сложно, да и опасно, неудобно, негде развернуться, а здесь в самый раз, можно свободно размяться. Воины демонстрировали умение владеть лахти и човганом[51], саблями рубили прутья, прыгали с коней на полном скаку, опять вскакивали в седла и, пролезая под животом скакуна, вновь выпрямлялись в седле. Все было четко распределено, занятиями руководили десятники и сотники. У подножия крепости отъевшиеся на щедрых харчах князя Амилахори воины охотно, со страстью состязались в силе и ловкости.
Теймураз некоторое время внимательно следил за упражнениями воинов, потом направился с отрядом разведчиков к озеру Надарбазеви — преодоление воды иной раз играло решающую роль в битве. Царь первым вошел в озеро. Не приближаясь к спасительным плотам, он плыл к противоположному берегу. Приободренный хозяином конь тоже не отставал и вместе с ним вышел из воды. Все воины смело пересекли озеро. Затруднения произошли, лишь когда выбирались с болотистого, покрытого зарослями берега.
Быстро и ловко разожгли костры, знали крестьяне-воины толк в полевом огне. Без стеснения раздевались догола, сушили на огне одежду. Целясь из лука, сбили не меньше полутора десятка диких уток, потом добавили еще. Наскоро ощипали, нанизали на прутья, поджарили на костре. Первую преподнесли Теймуразу, он отказался — уток не любил с детства.
Отдыхали недолго. Учения закончились, войска усталым шагом потянулись вдоль обоих берегов Тортли, минуя конец села Меджврисхеви. К вечеру подошли к Гори.
В крепости их давно ждали.
Первым делом царь приказал Джандиери и Амилахори сменить всех караульных под предлогом, что им нужен отдых. Коменданта Шамше Цицишвили не трогали, но приставили к нему наблюдателей, якобы в помощники. Причиной назначения столь многочисленных помощников назвали усиление охраны крепости.
Только сели за ужин в малом царском зале, как Теймуразу доложили о прибытии Зураба Эристави. Нахмурился царь, потер указательным пальцем правой руки лоб и не сразу ответил:
— Пусть войдет.
Тяжелым шагом вошел рыжеватый широкоплечий богатырь. Отвесил общий поклон и светлыми глазами поглядел в глаза Теймуразу, не снимая обеих рук с рукоятки кинжала, висевшего на поясе. Это у него получилось скорее от неотесанности, чем от дерзости. От Теймураза опять не укрылись дурные манеры гостя. Причину их он еще раз приписал плохому воспитанию Эристави.
— Теща тебя любит! — с легкой насмешкой бросил Теймураз, подчеркнуто не пригласив его к трапезному столу.
— Не знаю, как насчет тещи, но что ты меня не любишь и что я любви твоей не достоин — это я знаю точно!
— Хорошо, что хоть точно знаешь! — отозвался Теймураз и, чуть помедлив, мягким голосом, но очень внятно произнес: — А если знал, так зачем пожаловал?
— Я пока еще твой зять, государь. — Эристави неловко переминался с ноги на ногу.
— Хороший зять равен брату или сыну, а плохой…
— Я ни в чем не виноват, государь.
— Если не виноват, почему не встретил меня в Тбилиси? Или когда я из Имерети вернулся? Почему не явился ко мне по праву и обязанности зятя?! Может, тебе до Греми трудно было доехать?.. И перед Марабдой избегал меня… И оттуда тайком уехал, хотя и воевал как герой…
— Если позволишь, государь, я все объясню тебе подробно и начистоту, только лично тебе, наедине…
— Я от этих людей, здесь присутствующих, ничего не скрываю.
— Тогда… — Зураб, заметив свободную скамью, вопросительно посмотрел на Теймураза. Понял Теймураз, что слишком долго продержал зятя на ногах в присутствии Джандиери и Амилахори, но промолчал, не предложил сесть: больно уж тяжела была обида, нанесенная ему зятем, долгое время состоявшим в сговоре с Саакадзе.
Зураб снова переступил с ноги на ногу и слегка кашлянул басом. Амилахори нерешительно проговорил вполголоса:
— Садись, батоно Зураб, чего стоишь? — и, заметив, что царя не обидело его благоразумное вмешательство, решительно добавил: — Между родней церемонии всегда были излишней роскошью.
Сказал и чуть язык не прикусил — понял, что перехватил малость.
Зураб садиться не стал, сразу смекнул, что вольности Амилахори нужно противопоставить смиренность. Стоя и заговорил:
— В наше время гадость и скверна легко пристают к человеку, а язык, давно известно, без костей… Когда вы, оба царя, отошли от шаха, управление Картли взял в свои руки Георгий…
— Какой Георгий? — спросил Теймураз так же, как в прошлый раз в Схвило, при этом даже не взглянув на Зураба.
— Саакадзе. Я поддержал его. Тебя прочил на картлийский трон. Но Георгий другого захотел.
Поэтому ты изменил ему? — усмехнулся Теймураз. — Для себя ты хотел картлийский престол!
— И не думал об этом. К шаху Георгию все пути были перерезаны, а потому стал он в сторону султана поглядывать. Без помощи он с Картли не справился бы, а на меня не рассчитывал, хотя при мне он два раза султанских послов принимал, дабы возвыситься в моих глазах. Чтобы угодить султану, обещал престол имеретинскому царевичу Александру, тем самым обнадеживая его на господство над Картли и Кахети. Тогда я сказал ему: смотри, попадем из огня в полымя, из когтей шаха да в пасть к султану!
— Почему в Тбилиси меня не встретил?
— Дошли слухи, что ты гневаешься на меня. Ну, я и подумал: или вовсе не примет, или на ногах продержит при всем честном народе, вот как сейчас.
— Садись! — коротко бросил Теймураз. Зураб сел, подвернув полы длинной чохи, и продолжал уже уверенней:
— Он был у тебя давеча в Схвило-цихе.
— Кто? — опять притворился непонимающим царь.
— Бывший моурави…
— А ты откуда знаешь?
— Он сам мне сказал.
— А где ты видел его?
— Он заезжал ко мне. Помощи просил. Картли, говорит, не примет Теймураза, кахетинцам подчиняться не будет. После моего отъезда из Схвило, говорит, они напали, мол, друг на друга. Я с шахом общий язык найду, а ты, мол, помоги мне Теймураза схватить, и я забуду Александра Имеретинского и посажу тебя на картлийский престол. — Зураб замолчал, двумя пальцами провел по усам и продолжил: — Я сказал, что дам ответ на следующий день, за ночь я хотел расправиться с предателем, но он почуял неладное, не остался ночевать. Он разузнал о человеке, которого ты послал следом за русскими послами, и сообщил обо всем шаху. Мухран-батони выдал все твои замыслы, ибо от меня Саакадзе поехал в Мухрани. А шаху слово передал: ты, мол, прости мне Корчи-хана, а я тебе Паату прощу и пришлю тебе голову первейшего врага твоего Теймураза… Мол, против тебя, великий шахиншах, меня картлийские тавады толкнули, сбили, мол, меня с пути твоего истинного.
— Что он просит у шаха взамен?
— Чтоб тот разрешил ему объединить Картли и Кахети, дань обещает платить и верность хранить. И про Джаханбан-бегум донес шаху во всех подробностях.
— Что донес? — вспылил Теймураз.
— Что ты ее взял в наложницы. Тбилисские лазутчики сообщили мне, что Георгий своего племянника Важику к шаху отправил — без письма, с устным посланием. Мои люди напоили этого парня и все выпытали: оказалось, что Георгий просит у шаха согласия посадить на картлийско-кахетинский престол Эристави Зураба, — закончил Зураб, обведя присутствующих вороватым взглядом.
Теймураз усмехнулся, отпил вина и красиво прочел стихотворение Хайяма:
Живи среди мужей разумных и свободных, Страшись, беги лжецов и душ неблагородных, И лучше яд испей из чаши мудреца, Чем жизненный бальзам из рук людей негодных[52].— Парня того отпустили? — спросил царь, кончив читать стихи.
— Отпустили. Он еще шаху разъяснял, что мать и сыновей ты к нему для отвода глаз послал в заложники.
— Собака! — не стерпел Теймураз. — Давид, отряди удальцов, пусть догонят этого щенка, прежде чем он достигнет Исфагана, и привезут его ко мне, живого или мертвого.
Давид немедленно поднялся, спросил Зураба, как выглядит тот племянник, как он одет, какого роста, подробно расспросил и о цвете и породе лошади, а затем не то что вышел, выбежал из царских покоев.
Наступило молчание. Со двора послышался вой ветра, бившегося о стены крепости, но не нарушавшего зловещей тишины в зале. Пламя оплывающих свечей робко трепетало, словно страшась непогоды. В камине время от времени потрескивали дрова, точно сопровождая мерцание свечей и отблески пламени, безжалостно, хоть и неторопливо гложущего сырые поленья бука. Протяжным гулом отдались раскаты позднего осеннего грома, застучали первые капли дождя по черепице, и вскоре такой ливень обрушился на землю, словно не осень стояла на дворе, а самая буйная весна.
Жалобно зачирикали воробьи, укрывшиеся от дождя в оконных проемах.
Теймураз прислушивался к реву непогоды, не переставая думать о судьбе матери и сыновей. «Неужели ускользнет доносчик, выдаст шаху то, что было доверено под святой клятвой? О, наша злосчастная отчизна, до каких пор мы будем враждовать! До каких пор будем проливать кровь и слезы наши? Дети мои, Леван, Александр, да умрет за вас ваш несчастный отец! Мои сироты, мои обделенные радостью, не суждено вам счастье, обездоленные мои! Прости меня, мать родимая, царица цариц всей Грузии и достойнейшая из женщин — родная мать всех грузин. Кому ты доверился, Теймураз, ты, выросший при дворе шаха Аббаса! Все втроем, вместе, простите мою веру в человека, ибо без веры трудно, невозможно не то что править, даже ходить по земле. Разве ты не знаешь, что сегодня никому нельзя верить, кроме себя самого? Вот сидит человек, который называется твоим зятем, он оскверняет своими лживыми устами твою душу и кровь, честь твою фамильную, клянется тебе сейчас в верности, но если шах окажет ему милость, пообещает, не то что пришлет, а пообещает пестрый халат, он, не задумываясь, предаст тебя, отрубит голову, ему в дар пошлет, а тело бросит в пучину Лиахвы. О, земля грузинская, доколе?!.»
Джандиери вернулся, вымокший до нитки. Доложил, что лучших парней отправил на отборных конях, все объяснил до мельчайших подробностей, дал им золото и серебро, полученные от казначея, велел преследовать негодяя до самого Исфагана… «Если не догоните, — сказал я им вслед, — то во что бы то ни стало проберетесь в Музыкальный дворец шаха и там найдете человека, который сделает невозможное — поможет похитить царицу с царевичами и спрятать их в Курдистане. Главным в отряде назначил Ираклия Беруашвили из Марткопи, того самого, с которым ты, государь, на берегу Алазани беседовал…»
Поздно спохватился Джандиери, искоса поглядел на Зураба Эристави, который хотя и спиной к нему сидел, но сразу понял, что ему не доверяют. Зато царю преданность и осторожность Давида пришлись по сердцу, даже угасшая было надежда встрепенулась болью в истерзанном сердце.
Ужин остался нетронутым.
После ужина Теймураз отпустил всех, оставив при себе одного Зураба. Зять до полуночи побыл у царя, потом вышел, осторожно прикрыв за собой дверь. Джандиери и комендант крепости Цицишвили проводили его к подножию крепости. В твердыне жили лишь трое — Теймураз, Амилахори и Джандиери.
Такова была воля царя. Волю царя твердо соблюдали и Джандиери, и Амилахори.
Теймураз не спал всю ночь.
Бессонница не была новостью для него, особенно с тех пор, как ушел от шаха в Кутаиси, но эта ночь тянулась чрезмерно долго и мучительно. И стихи не складывались, и мысли не шли в голову путные. Протяжный осенний гром терзал изнуренный мозг, но и он не мог изгнать из воспаленного сознания одну-единственную мысль, которая не давала покоя: почему Саакадзе предал его после того, как он говорил с ним так откровенно, раскрыл перед ним всю свою душу? Ведь он знает, прекрасно знает, что шах никогда не простит ему Марткопи. И сам не из тех, кто смерть любимого сына мог простить шаху. Так для чего же ему понадобилось губить мать и сыновей Теймураза? Или жажда мести вновь одержала верх, и он, отуманенный злостью, решил отомстить за Паату? Но не похожа эта слепая ненависть на Георгия! Шадимана Бараташвили и других своих кровных врагов он щадил, благодаря проницательному уму своему. А тут Теймураз ведь ясно ему растолковал, что не ненавистью и местью руководствовался он, торопя Георгия, а благим намерением спасения родины. Ведь ясно было сказано, что только поэтому Теймураз ускорил то событие, которое все равно должно было свершиться, так что Паата так или иначе был обречен, что и сам Георгий знал наперед.
Подчеркнутая покорность зятя тоже не по душе пришлась царю — с какой стати вдруг Зураб изъявляет такую преданность, даже путей к отступлению не оставляет? Не похоже это на него. Ведь именно им принесенные вести встревожили Теймураза, лишили его сна и покоя. Но и сомневаться в его словах и действиях не было оснований…
«Потомки скажут: был царь-поэт, то в Кахети правил, то в Картли, то вообще без престола пребывал в изгнании. Писал он стихи, был недоверчив, тянулся к веселью и радости, но царством управлять не умел. И проиграл сыновей, мать и себя самого бездарный поэт и бесталанный правитель. И никому не будет дела до того, что бывают такие времена в жизни народа, когда царские деяния в тот же день, и час, и, если угодно, в ту эпоху даже не видны, не осязаемы, ибо цветы его усилий, мыслей и трудов распустятся позднее, гораздо позднее принесут плоды, а сладость, аромат и вкус этих плодов будут приписаны тому правителю, который их станет собирать. И тогда, в пору сбора плодов, никто не вспомнит того, кто стоял у истоков обилия и счастья, никто не помянет его добрым словом — напротив, его станут бранить и порицать все в один голос, ибо не будут знать о его думах, переживаниях и трудах на радость им, поколениям. Кто скажет о том, что Теймураз не изменил своей вере, что ценою жизни самых близких и дорогих людей он сохранил грузинский народ, его язык, веру и обычаи, что один, без всякой помощи извне, восстал он против власти шаха, самоотверженно боролся за объединение родины, искал пути к спасению страны и народа? Нет, никто не вспомнит об этом, не примет во внимание трудностей времени, могущества шаха Аббаса, не учтет ослабления грузин, братоубийственной резни, зависти и цепи предательств. Нет, никто не захочет вспомнить о неудержимом соперничестве, веками процветавшем на грузинской земле, с которым могла покончить лишь внешняя сила, как это было во времена Давида Строителя, когда кипчаки помогли усилению и укреплению власти, а тем самым и всей Грузии.
Скажут еще и так: Саакадзе был герой, а властолюбивый Теймураз не дал ему развернуться! Но разве сам Саакадзе не стремится к власти, разве его усилия направлены не на достижение тщеславных целей? И есть ли вообще на свете хоть один царь или правитель, который бы не стремился к силе и власти, не укреплял и не расширял своих владений? А я лишь свои земли хочу объединить, и того мне не хотят дать! Да, скажут, что я был неумелым. Я наперед прощаю всех, кто будет меня судить без суда, без защиты, пусть мудрствуют, ликуют и даже судят, если мои труды и жертвы принесут моей стране пользу, даже не сейчас, а в далеком будущем!»
* * *
Два всадника вброд переходили Дзирулу возле Зедафони[53]. Река разлилась после осенних дождей, но они все же умело выбрались на берег благодаря своей ловкости и лихим коням. Как только кони вышли на берег, всадники заметили лагерь, разбитый у реки, вдоль дороги, шагах в четырехстах от них. Десять до зубов вооруженных турок гнали к арбам два десятка пленников.
Руки у невольников были связаны за спиной, а ноги — «стреножены». Пленники с трудом добирались до арб, на которые их собственноручно укладывали похитители, предварительно проверяя, надежно ли связаны пленники. В утренней дымке трудно было различить лица пленных, но голоса и жесты свидетельствовали о том, что это были совсем молодые люди.
Один из всадников спешился, другой последовал его примеру. Коней они пустили попастись, сняв предварительно сбрую, а сами притаились в кустах. Как только слышались голоса, первый всадник настораживался, желая разобрать, о чем говорили и пленники, и похитители, но слов разобрать не мог: гул по-весеннему разлитой реки мешал ему.
— По-моему, наши это, картлийцы, — проговорил он некоторое время спустя.
— Рослых парней и девушек, однако, отобрали супостаты! — отозвался второй шепотом, хотя нужды в этом и не было — сильно шумела река.
— Мы их сейчас быстренько освободим, — сказал первый решительно и прищурил загоревшиеся от страсти глаза.
— Воля твоя, Автандил, но… отец твой ведь велел идти прямо, не задерживаться.
— Отцу не могло присниться, что мы этих сукиных сынов повстречаем.
— Но справимся ли вдвоем с ними?
— Ты удивляешь меня! — ответил первый, которого спутник назвал Автандилом, потирая рукой шею.
Парни снова взнуздали коней и, ведя их за собой, с дороги спустились обратно на берег Дзирулы. Там они сели верхом и поехали вдоль реки. Пройдя порядочное расстояние шагом, они пустили лошадей вскачь, а доехав до скалы, нависшей над дорогой, спешились и отпустили коней в глубь ущелья. С трудом вскарабкались на скалу и выбрали огромный камень, чтобы за ним можно было надежно укрыться. Два других больших камня приволокли к краю обрыва и, закрепив их мелкими камнями, дабы они не скатились по скале, устроились в засаде с ружьями наготове.
Наконец на дороге показались работорговцы в чалмах и три арбы с грузинами-пленниками. Впереди ехал всадник. Двое других — чуть поодаль. На заднем облучке каждой арбы тоже басурман сидел с ружьем. Шествие замыкали трое всадников. Басурмане были вооружены с головы до ног — на плече ружье «киримули», за поясом — по две дамбачи, длинноствольных пистолета, кинжалы, ножи и багдадские сабли. Ехали они не спеша, но по сторонам озирались настороженно, особенно тот, который впереди.
— Эти камни, Гела, мы должны на них сбросить так, — прошептал Автандил, — чтобы первую троицу разом придавить, а замыкающих из ружей уложим. В того, что справа, я стреляю, в левого — ты, во второго справа — снова я, который слева — твой. После этого я вскочу с места, ты заорешь погромче, чтобы они подумали — у нас целый отряд. На вожака я наведу свой камень, а следующие — твои мишени.
Как только караван поравнялся с засадой, Автандил сбросил свой валун, за первым последовал и второй. Первый валун чуть изменил направление от краешка скалы, но тут же выровнялся и придавил вожака, размозжив ему голову. Стремительно полетевший вниз второй валун придавил зад коня и перебил хребет, всадник же, оказавшийся под дергающейся тушей лошади, дико заорал. Тот, что ехал слева, поспешил повернуть назад и поскакал прочь, но был сражен наповал пущенной из ружья пулей. Замыкающие, увидев, что происходит, нахлестывая коней, спешили унести ноги, но двое были убиты выстрелами в спину, и лишь одному удалось уйти.
Все это произошло в мгновение ока.
— Ложитесь лицом вниз, копоеглы![54] — по-турецки заорал Автандил, спрыгивая со скалы, подобно тигру.
Два аробщика сразу упали на пленных, выполняя повеление четко, третий же, от перепуга потеряв голову, соскочил с облучка и помчался к реке. Автандил вырвал ружье у барахтавшегося под конской тушей басурмана и уложил убегавшего. Затем нагнулся к барахтавшемуся басурману и прикончил его.
Выскочивший из засады Гела стал развязывать пленных, поглядывая по сторонам, не возвращается ли сбежавший басурман. Автандил же со слезами на глазах смотрел на лошадь с перебитым хребтом и сломанными ногами, не зная, как помочь несчастному животному.
— Перережь ей глотку! — крикнул один из пленников.
— Он не сможет, — ответил за друга Гела. — Он за всю жизнь курицы не зарезал.
— А с басурманом ловко разделался! — удивился тот же парень, с помощью Гелы высвобождая от туго завязанной веревки затекшие руки.
— Басурман — дело другое. Но лошадь он зарезать не сможет. Сделай доброе дело, а то ведь и я не возьмусь. Тут мы с ним как близнецы схожи.
Парень подошел к лошади, хладнокровно сделал то, о чем просил его Гела, вытер кинжал о круп все еще дергающегося коня и спокойно вернул хозяину, не забыв сделать замечание:
— Сразу видно, что вы не из крестьян!
Автандил поспешил отвернуться от издыхающего коня и спросил всех разом:
— Чьи вы люди?
— Князя Палавандишвили, — ответил тот самый парень, который по-крестьянски быстро и споро выполнил столь тяжелое для освободителей дело. — Из Бебниси мы. Нас поодиночке выловили — кого в поле, кого у родника, кого в пути. Нас тут пятнадцать человек — восемь девушек и семь парней.
— Одну оставьте мне, остальных между собой разделите, — предложил Автандил с улыбкой.
— Бери всех восьмерых, родимый наш, да и нами располагай, как хочешь.
— Обыщите убитых, возьмите деньги, оружие, еду и одежду, а этих двоих… — Автандил задумался, — обезоружьте, переоденьте в ваши лохмотья и с собой заберите. Езжайте в Ностэ, в вотчину Саакадзе, найдите там управляющего Тимоте и скажите, что Автандил освободил вас и вы прибыли в его распоряжение. Все расскажите подробно.
При упоминании имени Саакадзе парни насторожились, а один, тот, который был постарше, обратился к Автандилу:
— Судя по всему, ты сын Георгия-моурави.
— Допустим.
— Так вот!.. Дело в том, что я сбил с пути этих непутевых. Они хотели в Боржоми попасть, а я их за Лихский хребет перевел. Дорога на Имерети, думаю, длинная, авось сбежим как-нибудь… Возьми меня с собой, родимый, я парень смышленый и служить сыну Саакадзе для меня большая честь — нет, огромное счастье будет. Не откажи, родимый.
— Сначала сделай то, что я велел. Всех благополучно доставь в Ностэ, а дальше видно будет. Я скоро вернусь туда и обязательно повидаюсь с тобой.
С этими словами Автандил вскочил в седло и пришпорил коня.
…Когда они миновали Зедафони, им повстречались имеретинские крестьяне на своих медленных, скрипучих арбах, груженных огромными квеври. От них путники узнали, что имеретинский царь Георгий и царевич Александр на охоте в Дзоврети. Во времена Давида местность эта называлась Зварети, от «звари» — виноградника, потом о виноградниках забыли и остались пастбища — «садзоврети». Там и охотилась на оленей царская свита.
Царь Имерети Георгий принял Автандила Саакадзе в шатре, поставленном на холме среди дубняка, чуть повыше моста Тамар. Автандил был помолвлен с младшей дочерью царя — Хварамзе, поэтому Георгий оказал ему особо теплый, поистине родственный прием, хотя и то было учтено, что имеет дело с сыном Георгия Саакадзе, божьей волей отмежевавшегося от картлийско-кахетинских Багратиони. Бывший моурави большие надежды возлагал на Багратиони имеретинских, о чем хорошо знали как царь Георгий, так и царевич Александр. Правда, не так уж много воды утекло и с тех пор, как имеретинский царь сердечно принял бежавших от шахской погони Луарсаба и Теймураза. От души помог им и словом, и делом, по предложение Саакадзе посадить царевича Александра на престол объединенных Картли и Кахети пришлось, разумеется, имеретинскому царю по душе, хотя для осуществления этого замысла пока он ничего не предпринимал.
Царь Георгий давно пожаловал Георгию Саакадзе клятвенную грамоту, в которой специально отмечал как свое превосходство над другими грузинскими царями, так и особое уважение к правителю Картли: «…Эту клятву и обещание жалуем мы тебе, царь царей государь Георгий, и сыновья мои царевичи Александр, Мамука и Ростом, тебе, Георгию-моурави, в том, что отдаем дочь нашу царевну Хварамзе за сына твоего Автандила…»
Влияние царя Георгия распространялось на владения князей Дадиани и Гуриели, куда направился Саакадзе после помолвки сына. Леван Дадиани с большими почестями принял моурави со свитой. А католикос Западной Грузии, правитель Гурии Малакия не отставал от имеретинского царя и со своей стороны пожаловал грамоту, в которой еще больше укреплял союз с Георгием Саакадзе. «Отныне и во веки веков объявляем клятву, волю нашу и грамоту сию мы, католикос Малакия, жалуем Георгию и сыну его Автандилу, и детям вашим, и потомкам тоже, а также детям правителя Кайхосро и владетеля Барата, и всем, кто вам предан, князьям и азнаурам, большим и малым, даем обещание и клятву хранить вам верность и делать добро. Коли вы пожалуете в наши края, обещаем вас принять, приютить и не позволим причинить вам зло. Если же вам понадобится покинуть наши места или пройти через наши владения, то мы позволим вам пройти свободно, без ущерба…»
Помолвка Автандила с Хварамзе была основным признаком усилившегося в Западной Грузии влияния Саакадзе и непосредственно была связана с падением Луарсаба и вынужденным бегством Теймураза. Она, эта помолвка, укрепляла Саакадзе с тыла и открывала ему путь к переговорам с султаном. Вдобавок ко всему помолвка эта придала ему решимости оказывать неповиновение Теймуразу и даже задумать борьбу против него.
Автандил подробно передал царю Георгию поручение отца — нужно, мол, войско для объединения Грузии. Против кого и где он собирался это войско использовать, сказано не было, да и царь Георгий не спрашивал: обоих устраивало замалчивание причин и целей их совместных действий. Царь Георгий и без этого догадывался о тайном умысле моурави, но предпочел молчать, а не высказывать свои догадки вслух. Царевич же Александр, который был пока еще откровеннее отца, как бы между прочим спросил о времени и месте прибытия войска.
— Войско должно подойти к Мухранской долине, о времени отец сообщит в ближайшие дни. Отец передал, что ваше участие в этом походе совершенно излишне. Сами назначьте избранного вами предводителя, а проводником буду я. Ответ доставит в Ностэ мой двоюродный брат Гела, — выложил все до конца Автандил.
Царь Георгий счел дело решенным, а разговор оконченным. Пригласил будущего зятя к столу. Геле же дали свежего коня и незамедлительно отправили в Картли.
Вечером охота оказалась еще более удачной. Особенно отличился Автандил — убил двух оленей, Георгий и Александр на сей раз уложили только по одному. Когда охотники возвращались к шатру, Александр со смехом сказал Автандилу, горделиво восседавшему на трехлетием жеребце арабской масти:
— Обскакал ты нас, брат!.. Саакадзе, вам, я смотрю, недостаточно, что вы в Картли князей с царем против себя настроили, а теперь хотите и с имеретинским царем и наследником рассориться? А известно ли тебе, что Луарсаб и Теймураз именно во время охоты шаха Аббаса прогневили? Ведь Лела, Луарсаба сестра и любимая жена Аббаса, предупреждала брата, чтобы он не красовался перед шахом, иначе, говорит, он озлится и за все с вами разом расквитается. Тот не послушался, и вот что из этого получилось!
— Негоже сравнивать неверного с христианином, царевич, не к лицу тебе это! — спокойно, как бы невзначай заметил Автандил.
— При чем здесь вера? Здесь не вера, а самолюбие, гордость — главное мерило человеческих чувств, особенно правителя Востока! С повелителем нужно вести себя так, чтобы он даже в мыслях не допустил, будто ты сильнее, умнее и ловчее его. А если заподозрит кого в этом, не простит — будет притеснять до тех пор, пока тот не опомнится, а не опомнится — наверняка избавится от него.
— Значит, плохой он повелитель.
— Ты можешь называть его плохим, сколько тебе заблагорассудится, но жизнь такова. Отныне запомни, ибо ты будешь моим зятем, и я хочу, чтобы ты это знал. В жизни у каждого свое место, и нужно это свое место знать. А перескакивать с одного места на другое можно лишь тогда, когда заведенный уклад по каким-то особым обстоятельствам или же в результате столкновения каких-то сил разрушается…
В ту же ночь царь Георгий начал готовиться к походу, и через три дня возле Зедафони было собрано пятитысячное войско. Царь сообщил князьям Гуриели, Дадиани и Рачинским Эристави, что шах грозится пойти походом на Картли-Кахети. Все откликнулись немедля: в беде грузины стремились быть вместе, готовы были помогать друг другу, не щадя ни себя, ни своих людей. Однако жизнь и сами люди часто сводили это благое стремление на нет.
* * *
Петух уже третий раз прокричал, когда Теймураз услышал осторожный стук в дверь. Спал-то он чутко и тотчас откликнулся, спросил, кто здесь.
— Это я, Потам, государь.
— Сейчас.
Царь быстро оделся.
— В чем дело, что случилось? — спросил Теймураз взволнованно, открыв дверь.
— В крепости Схвило зажгли огонь, государь.
Оба поспешно поднялись на дозорную башню. Долина Тирипона была освещена костром, разожженным в крепости Иотама Амилахори. Огонь, горевший в крепости Нарикала, был виден в Джвари, из Джвари сигнал поступал в Ксани, из Ксани — в Схвило, а оттуда передавали в Гори, что в Тбилиси была объявлена тревога, таков был порядок вещания о бедствии.
— Что могло случиться? — спросил Теймураз, ушедший в раздумье.
Амилахори не сразу ответил на вопрос, помолчал, а потом, взглянув искоса на стоявшего рядом Джандиери, твердо произнес:
— Надо немедленно ехать в Мцхета. Оттуда пошлем человека в Тбилиси. Остальное решим на месте.
В Крёпости забили тревогу. На рассвете войско вышло из крепостной ограды. В Гори остались сторожевые во главе с цихистави Цицишвили.
…Войско Теймураза остановилось у слияния Куры с Арагви. Царь пошел в Светицховели, отслужил небольшой молебен, а затем там же, в ограде храма, посовещался с главами церквей.
В полдень назначил совет дарбази. Тут же собрались картлийские князья со своими дружинами. Не было старшего Кайхосро и младшего брата Мухран-батони, а также Иасе Эристави. Зато Зураб Эристави лез из кожи, каждым словом и поступком своим старался доказать свою преданность Теймуразу.
Вечером вернулись первые гонцы, доложили, что в Тбилиси покой и мир. Посланные во дворец сообщили Теймуразу, что кто-то забрался в дозорную башню: злоумышленники разожгли костер и бесследно скрылись. Эмир и дворцовые люди не смогли их разыскать, а сторожевые вовремя не заметили костра, ибо неизвестные злоумышленники их предварительно напоили.
Разгневался Теймураз: сначала вовсе отменил дарбази, но потом перенес на следующий день. Велел Джандиери и Амилахори снова отправить лазутчиков во все концы. Зурабу приказал выставить побольше караульных вокруг лагеря.
Назавтра все выяснилось. Зураб Эристави доложил об истинном положении дел Теймуразу, находившемуся в келье Светицховели.
Срочно был созван дарбази.
Первым слово взял Зураб:
— Государь и князья вельможные! Речь пойдет о прискорбных деяниях Георгия Саакадзе. Ночью мои люди перехватили гонца, которого Саакадзе послал к братьям Мухран-батони. Гонца доставили ко мне, а я выдал себя за Кайхосро Мухран-батони. Он выложил мне всю правду. Смысл донесения заключался в следующем: «Теймураз угрожает мне смертью, грозит выслать из Грузии, — передавал Саакадзе своему единомышленнику. — Теймураз власть не удержит, я обратился за помощью к царю Георгию. Он прислал пятитысячное войско. Чтобы одолеть Теймураза, укрепившегося в Горийской крепости, мы обманули его и зажгли костер на Нарикале, чтобы выманить его из Горийской крепости и направить на Тбилиси. В ожидании шахского войска, Теймураз не войдет в Тбилиси, а остановится в Мцхета. Вот там-то мы и должны разгромить его и его союзников».
— Где гонец Саакадзе? — мрачно спросил Теймураз.
— Я зарубил его, государь.
Дарбази затих, все растерянно переглядывались, исподтишка посматривали на царя. Очи царя сверкнули гневом, лицо потемнело — вот-вот зарычит государь, как лев. Все предвкушали занятное зрелище — дидебулы всегда рады забаве, если только царский гнев не на их головы рушится.
Теймураз же, успевший взять себя в руки, назло охотникам забавы очень негромко, даже мягко, проговорил:
— Этого делать не следовало.
Зураб, сам ожидавший взрыва, сразу пришел в себя и смело отвечал:
— Не мог стерпеть я такого коварства, государь!
— Стерпеть коварство от своего — есть высшая мудрость, зять, — спокойно отчеканил Теймураз, проводя указательным пальцем правой руки по нахмуренному челу. Потом так же спокойным голосом произнес вопрос, обращенный ко всем вместе: — Кто стоит во главе войска?
— Леван Дадиани, — ответил Зураб Эристави.
— Где он сейчас?
— Вчера он взял Гори, Цицишвили, оказывается, сдал крепость без боя.
— И правильно сделал. Где войско Дадиани сейчас?
— Двигается по направлению к Мухрани.
Теймураз обвел взглядом дарбази и твердо произнес:
— Отведем войска к Душети, если понадобится, отойдем к Греми, пойдем через Тианети, чтобы миновать столкновение. Только братоубийственной резни не хватает грузинам! Мы будем до конца держаться друг друга… Кто не с нами, пусть громогласно объявит сейчас. Последнее свое слово я скажу в Душети. А сейчас Иотаму Амилахори надлежит выехать навстречу Дадиани… Повидай обоих — его и Саакадзе, скажи, чтобы остановились возле таможни в Игуэти и поворачивали назад, немедля покинув Картли… И то скажи им, что Теймураз не примет боя, не допустит, чтобы грузин убивал грузина, этого нам не простят ни дети, ни внуки, ни правнуки наши, за это потомки справедливо нас проклянут. Если Дадиани пожелает видеть меня, пусть явится в Душети, Саакадзе же передай… — Теймураз помедлил и очень тихо, но твердо продолжил: — Саакадзе передай, чтобы не забывал нашего разговора в Схвило. Пусть запомнит накрепко, что от его неразумной, даже чрезмерной отваги, пустого махания саблей и необдуманных действий Грузии пользы не будет. Грузию объединит лишь большая мудрость, терпение и время. И на роль третьей силы ни Саакадзе не годится, ни султан со всеми приспешниками-крохоборами…
Все присутствующие последовали за Теймуразом, кроме Иотама Амилахори, который из Мцхета незамедлительно поспешил в Игуэти для переговоров с Саакадзе и Дадиани.
Амилахори не пришлось долго ждать у таможенной башни — в ущелье реки Тамдлис-цкаро показались передовые отряды войска. На берегу Лехуры Йотам встретился с Леваном Дадиани, ехавшим впереди войска. Оба отдали коней слугам и пешком отошли в сторону, обняв друг друга по-братски.
Выслушав Иотама, Дадиани побледнел.
— Царь Георгий сказал мне, что шах как будто собирается напасть на Картли, — начал смущенный Дадиани. — Саакадзе же я еще не видел, на его скакуне Лурдже сидит Дауд-бег Гогоришвили, — кивнул он в сторону Бойна, который как ни в чем не бывало беседовал с братьями Мухран-батони, Иасе Эристави ксанским и Баратой Бараташвили. — Правда, ни один из них… ничего толком не сказал, против кого мы выступаем, но слово Теймураза — для меня закон, непреложный закон, я забираю свою тысячу воинов и немедленно возвращаюсь назад!
— Ты не хочешь встретиться с Теймуразом? — спросил Йотам Амилахори, обрадованный мудрым решением Дадиани.
— Нет! — твердо отвечал тот. — Мне совесть не позволяет ему в глаза глядеть. И потом, мой своевременный уход сейчас многое будет значить для всех остальных.
С этими словами Дадиани пожал руку царскому посланцу и повернул к своим. Сидя верхом, о чем-то недолго беседовал с Гогоришвили и прочими, потом поскакал в сопровождении приближенных вслед за своим войском, уже спустившимся к реке Лехура.
Амилахори подъехал к оставшимся князьям и после сухого приветствия начал спокойно:
— Царь Теймураз велел передать…
— Что велел передать Теймураз, нас не интересует, — грубо прервал его Дауд-бег Гогоришвили, — пойди и передай этому стихоплету, чтобы он покинул Картли и сидел у себя в Кахети. Это последнее слово Георгия Саакадзе. Зурабу Эристави же передай, что земли и пастбища, ворованные у горских племен, вскоре достанутся своим истинным хозяевам, и того не забудь сказать, что он в погоне за богатством брата родного ослепил, чего мы ему не простим. А Теймураз, ежели о грузинской крови заботится, чтобы она зря не проливалась, пусть убирается в Греми и там стихи свои пишет, Саакадзе же сам о Грузии позаботится. Вот наш ответ окончательный и единственный.
Беседа на том и завершилась.
Амилахори поспешил в Душети и царю доложил обо всем, не утаив ничего, даже ехидства по поводу стихов. Зураб, выслушав угрозы в свой адрес, скрипнул зубами, в ярости схватился за рукоятку кинжала.
— А куда сам Саакадзе запропастился? — взревел он.
Амилахори оставил вопрос без ответа.
Теймураз обратился к Джандиери:
— Они станут лагерем в Мухрани. Спустись вдоль Ксанского ущелья к Чадиджвари, передай Кайхосро, что царь хочет их всех повидать, всех тех, кто пришел с войском. Скажи, что я не хочу проливать кровь грузин и хочу всех собрать, поговорить. Не забудь сказать и то, что я ничего худого против них не замышлял и нынче не замышляю, приглашая их на беседу.
— Государь! — заорал Зураб как резаный. — С ними разговаривать можно лишь мечом и саблей! Больше нам не о чем с ними говорить. То, что гнилое, надо выкорчевать, лучше выкорчевать сразу!
— Не спеши, Зураб, — остановил его царь. — Наберись малость терпения и спокойствия. Злобой и мстительностью мы лишь врагов порадуем, а истинных врагов у нас без того хватает, — царь опять обернулся к Джандиери: — Езжай без оружия, грузин безоружного грузина не обречет на смерть — так у нас издавна заведено. Если увидишь Саакадзе, поговори с ним спокойно, как ты умеешь…
…На следующее утро Джандиери вернулся промокший до нитки. Войдя в царский шатер, попросил водки, вмиг осушил маленький рожок, а от закуски отказался, хотя был голоден.
— Ничего не получится, государь, — проговорил он стоя. — Мне кажется, в этом походе замешан султан, Саакадзе на него уповает, он же ему ничем не помогает и не поможет, разве только подстрекательством да посулами, как это у него заведено.
— Самого Саакадзе ты не видел? — спросил Теймураз озабоченно.
— Самого не видно. Зато Дауд-бег распоясался.
— А как остальные?
— Братья Мухран-батони и Иасе Эристави молчали, хотя они твердо стоят на стороне Саакадзе. В имеретинском и гурийском войске никого из примечательных людей нет, зато самцхийцы все там. Воины устали, хотят окончательной развязки — пусть уж, говорят, свершится, чему суждено свершиться, но свершится скорее.
— Свершится! — процедил Зураб сквозь зубы. Теймураз поглядел на него по-прежнему спокойно.
…Худое дело свершилось само по себе: обе стороны, воодушевленные якобы благими намерениями, на следующий день оказались друг перед другом. Когда войска имеретин и самцхийцев под предводительством Дауд-бега Гогоришвили перешли вброд Ксани и через Чадиджвари вышли на Базалетское поле, они оказались лицом к лицу с другим, грузинским же, войском. Грузины встали против грузин, брат против брата, забыли родство свое, отринули разум, не посчитались с заветом предков и с судом поколений.
Густой туман опустился над Базалетским озером и полем, сеял по-осеннему мелкий дождь. Базалетская долина вся раскисла и превратилась в топь.
Промокшие до нитки, легко одетые воины продрогли до Костей, а потому Зураб велел выкатить бочки с жипитаури[55], которую на рассвете и раздали воинам.
Убитый горем Теймураз разделил войско на три части. В центре поставил Зураба Эристави с его горцами-хевсурами, на правом фланге стоял Джандиери с кахетинцами, на левом — Потам Амилахори.
— В наступление идите сразу с трех сторон. Старайтесь не пользоваться саблями и ружьями. В крайнем случае — бейте прикладами. Убивать избегайте. Лучше напугать их и обратить в бегство. Я со своей дружиной буду возле шатра, кому туго придется — помогу. Саакадзе не убивать, лучше взять живым… Бог свидетель, я не хотел проливать кровь братьев, потому-то и отошел к Душети. Сами подошли сюда, преследовали по пятам… Да будет воля божья и свершится то, чего я совершать не хотел… Отступать мне негоже, хотя я и думал вначале уйти в Греми. Бой надо кончить сразу, ненужных потерь избегать с обеих сторон, ибо здесь нет врага, есть только по глупости одуренный противник.
Потом Теймураз отвел в сторону Зураба и шепнул:
— С твоими владениями граничат земли Кайхосро Мухран-батони, убей его — получишь его дворец и крепости. Он подстрекает Саакадзе, это он мутит воду…
Царь прекрасно знал алчность своего зятя и подданного, а потому и подстегнул его столь откровенно.
Заиграли трубы, забили барабаны… и началось позорное братоубийство, сыгравшее злую шутку в истории Грузии.
Поскольку Дауд-бег сидел на Лурдже — коне Саакадзе, Зураб в утреннем тумане принял его за самого моурави, а потому он с диким кликом остервенело помчался прямо на него.
Никто уже не помнил о милосердии, к которому взывал перед битвой царь. Все яростно и беспощадно кололи, рубили, резали. Намокшая под дождем земля превратилась в месиво, окрашенное кровью. Над Базалетской долиной стояли стоны раненых, крики, хрипы…
Озверевший Зураб со своими воинами обрушился на противника так, словно не грузины перед ним были, а ненавистные народу кизилбаши. Он рычал, направо и налево круша своим мечом, с остервенением прорубая путь к Дауд-бегу, которого он все еще принимал за Георгия Саакадзе. Дауд-бег тоже заметил Зураба, немедленно ринулся ему навстречу… И Зураб одним махом сабли отсек ему правую руку от самого плеча и со смаком вторым ударом сабли сбил его с седла. Тогда-то он и понял, что это был не Саакадзе, но, не растерявшись, решил не отказывать себе в удовольствии и басом загремел:
— Саакадзе подох, люди! Я убил Саакадзе!
Войско Теймураза тотчас подхватило эти слова и повторяло их вместо брани и проклятий.
Грозный вопль окончательно сломил имеретин и самцхийцев.
Уже повернулись спиной к противнику и братья Мухран-батони, когда на поле брани показался сам Саакадзе со своей дружиной. Но было уже поздно… Он тоже попытался двинуться прямо на Зураба Эристави. Глубоко врезавшиеся в стан противника кахетинцы не подпускали его, путь моурави преградил Эдиша Вачнадзе со своим отрядом. Завидев бегство братьев Мухран-батони, поспешил следом за ними и Иасе Эристави.
Разъяренный Саакадзе ударом меча свалил Эдишу Вачнадзе наземь, однако его брат обошел поглощенного поединком моурави сзади и ударил его своим мечом «багдадури». Тяжелый меч рассек кольчугу, хлынула кровь…
На помощь раненному в бедро Зурабу подоспел Теймураз. С криком, улюлюканьем стали гнать беглецов. Зураб Эристави своим громовым басом кричал воинам:
— Змея не выпускайте, змею перебейте хребет! — Сам он с трудом держался в седле, чувствовал, что теряет последние силы.
Теймураз строгим приказом остановил пустившихся вдогонку за Саакадзе горцев.
— Саакадзе пусть уходит! Он еще пригодится родине!
Царь не пожелал трогать мятежного моурави…
Бой закончился так же внезапно, как и начался.
Над Базалетской долиной опустилась гнетущая тишина, нарушаемая лишь стонами раненых. На озеро и поле опустился такой густой туман, что в двух шагах ничего нельзя было разглядеть. Дождь усилился. Воины Теймураза бродили по раскисшему полю, подбирая раненых, которых сажали или укладывали на арбы и везли в Душетскую церковь.
Здесь уже не было своих и чужих, были только грузины, изувеченные грузинами. И еще подавленный Теймураз, ликующий Зураб и все остальные, присутствующие при сем… Небо проливало слезы над Базалетским полем, тщетно пытаясь смыть следы позорного побоища.
Озеро едва заметно рябило, будто волновалось за судьбу сбившихся с пути истины братьев.
Ропот волн приглушал стоны раненых.
Сгущался туман над Базалети, и сгущалась горечь в сердцах.
С глубоких ран лекари смывали кровь, прикладывали целебную мазь, подорожник, перевязывали чем попало. Пленных царь велел отпустить домой, дать хлеба на дорогу, не обижать, не грабить, а только передать наказ царя: позор тем, кто поддержал братоубийственную войну…
Мрачно принимали имеретины и самцхийцы по-братски протянутый им хлеб и жипитаури, которую щедро наливали люди Зураба Эристави возле царского шатра. Раненый Зураб попытался было сказать царю, что не хлеб им раздавать надо, а всех на костре сжечь. Однако Теймураз отрезал жестко: лежи тихо; если разорения боишься, то можешь не беспокоиться — расходы я тебе вдвойне возмещу из царской казны.
Давида Джандиери, тяжело раненного еще при Марабде, теперь еще тяжелее поразили копьем в спину — копье вонзилось в легкое, и у доблестного воина кровь шла изо рта и из раны. Он дышал с трудом, восковая бледность покрывала его рыжеватое мужественное лицо. Давид лежал в царском шатре на белой бурке, не подпуская к себе лекарей. После Алавердоба[56] оставшийся единственным глаз его был подернут мутной пеленой. Увидев царя, склонившегося над ним, Давид слабо улыбнулся; открыв рот и оскалив свои крепкие белые зубы, он едва слышно произнес:
— Государь, позаботься о детях… и о моих… и о твоих. Не теряй из виду отряд Беруашвили. — Потом он дал знак царю наклониться еще ниже и прошептал ему на ухо: — Племянник Саакадзе Важика, которого, по словам Зураба, послали в Исфаган, был здесь, в Базалети. Он должен лежать на берегу озера раненый, на краю дубняка. Вели найти его и убедишься, что… Зураб солгал… Не Саакадзе, нет, а он сам послал гонцов к шаху: и тот гонец, которого он будто бы перехватил, а выведав все, убил, был послан от Саакадзе не к Мухран-батони, а к нему самому. Следи за Зурабом, остерегайся его. Береги мать и детей и моих не забывай…
Теймураз, встав на колени перед ложем верного слуги, по-братски поцеловал его в лоб, а затем своим платком бережно утер выступившую на губах кровь.
— В Марабде я уцелел от врагов-кизилбашей, — чуть громче заговорил Джандиери, — а здесь умираю от руки братьев своих.
— Не спеши, Давид, — царь скорее себя утешал, чем убеждал Джандиери. — Доверься лекарям, пусть осмотрят, очистят рану твою.
Джандиери горько улыбнулся.
— Разорванным легким лекарь не поможет, только зря будут терзать меня… — кровь снова хлынула горлом, Теймуразу подали чистый платок, он осторожно положил его на грудь умирающему.
И случилось то, чего не должно было случиться: его грудь в последний раз вздыбилась Голгофой, свалилась его богатырская рука и закрылся единственный глаз — Джандиери перестал дышать.
Царь бережно поднял упавшую с ложа руку, отер кровь, стекавшую с подбородка, затем нежно приложился к его холодеющему челу и вышел из шатра, не желая показать кому-либо налитые слезами глаза свои.
Были горечь, боль, страдание человеческое, называемое божьим гневом, обрушивающимся на Грузию время от времени, пора страданий, когда брат поднимался на брата и проливал родную кровь, умирали сыны Грузии от руки своих собратьев и земляков. И не было большей беды, большего позора и большего несчастья, чем это братоубийство!
…Теймураз велел завернуть покойного в свою белую бурку, сам с помощью Амилахори положил его на арбу рядом с трупом Эдиши Вачнадзе и велел через Тианети везти в Алаверди. В последний раз склонился над верным другом царь, откинув с лица усопшего белую бурку, и нежно прикоснулся к его единственному глазу. Теймураз уже не стыдился своих слез. «Да и кто их заметит, решат, что это капли дождя стекают по лицу», — подумал Теймураз, и его, могучие плечи сотряслись от подавляемого рыдания.
«Прости меня, Давид, если когда-либо я сомневался в тебе! Я не знаю, какая меня самого ждет судьба, но Грузия не забудет твоего благородного сердца, проницательного ума и беззаветной отваги. Знай одно, как последнюю мысль мою, высказанную только для тебя, — я завещаю, чтобы и меня тоже похоронили в Алаверди, ибо там будешь ты — моя опора и надежда. Жди меня там, Давид, чтобы мы больше никогда не расставались».
Подавленные горем ингилойцы тронулись в путь.
Теймураз долго шел за траурным караваном, увозившим воинов, отдавших жизнь на благо отчизны, но павших от руки своих же собратьев.
Наутро Амилахори доложил царю, что Важика Саакадзе найден и перенесен в душетскую церковь. Царь сам поспешил в церковь, ставшую в эти дни подлинной обителью мук и страданий верных ему и стране сынов.
Важика Саакадзе лежал в еще не просохшей одежде, хотя подобрали его ночью и уже успели перевязать раны. Теймураз попросил священника перенести тяжело раненного Важику к себе. Сам же обошел всех раненых, похвалил монахинь из монастырей Шуамта и Мгвиме за их лекарское мастерство, пообещал щедрые пожертвования их монастырям. Потом посоветовал людям Зураба Эристави кормить раненых хашламой[57] и поить красным вином, привезенным из Кахети.
За алтарем царь остановился возле юноши, который лежал почти без сознания, тяжело дышал. Царь осторожно провел рукой по его густым кудрявым волосам, спросил у сестры-монахини, что с раненым.
— Да он еще дитя, — шепотом отвечала монахиня, сама еще совсем юная, — ему сегодня правую ногу отняли. Жар у него, боюсь, что не выживет. Все время в беспамятстве, в себя не приходит.
Царь почему-то вспомнил Датуну, ничего больше не сказал, молча вышел из церкви и направился к дому священника в сопровождении Иотама Амилахори.
Важика Саакадзе, тщательно умытый и переодетый, лежал на тахте. Он уже пришел в себя и при виде царя даже попытался подняться.
— Лежи, лежи, сынок, не двигайся — сказал Теймураз, садясь у изголовья раненого. — Ты чей будешь?
— Я племянник Георгия Саакадзе, — довольно бойко для раненого отвечал юноша, постаравшийся показать царю свою волю и силу.
— А как ты оказался в Базалети?
— Приехал из Ностэ.
— И давно ты в Ностэ находишься?
— А с тех пор, как из Имерети вернулся, после помолвки Автандила и Хварамзе.
— Значит, с июня?
— Да.
— И после того никуда не уезжал?
— Никуда.
— А в Тбилиси был?
— В Тбилиси я вообще ни разу не был.
— Куда отсюда собираешься ехать?
— Коли поднимусь, домой поеду, в Ностэ.
— Конечно, поднимешься. И коня тебе дадут и седло.
— А оружие? — спросил юноша слабеющим голосом. Чувствовалось, что силы его на исходе.
— И оружие дадут, только оружие это никогда больше против своих не оборачивай, даже если тебе дядя твой — великий полководец — прикажет.
Теймураз встал, провел указательным пальцем правой руки по наморщенному лбу, вышел из дома священника и направился к своему шатру.
Царь понял, что Зураб оклеветал Георгия Саакадзе, выдумав, будто он послал к шаху племянника. Он хотел восстановить Теймураза против моурави. Теперь надо было выяснить, был ли вообще послан гонец в Исфаган и кто его послал. Не сам ли Зураб?
Да, трудно было царствовать в стране, в которой пышным цветом цвели среди знати коварство, зависть и измена, наносившие неизмеримый урон и народу, и стране, и царю…
* * *
Шахский двор холодно принял царицу Кетеван и ее свиту. Исфаганский дворец, в котором жил сам шах со своим семейством, всегда был наглухо закрыт для чужеземцев, закрытым он оказался и для кахетинской царицы. Придворный визирь поселил Кетеван с ее свитой в малом домике, расположенном по другую сторону главной площади. Ни еды, ни питья для грузин не жалели, но о встрече с шахом пока никто из придворных даже не заикался.
Царевичи целые Дни проводили на учениях в кизилбашском войске, возвращались лишь поздно вечером. В том же домике жили слуги царицы, им по хозяйству помогали два евнуха из шахского дворца, которые, видимо, выполняли и другие особые поручения, служили оком и ухом шахского двора. На просьбу царицы о встрече с дочерью Еленой, переданную через визиря, шах ответил молчанием. Визирь явился на другой день, справился о здоровье царицы, на безмолвный вопрос Кетеван ответил лишь дерзким взглядом. Он явно ждал от царицы просьб и расспросов, ждал, но не дождался. Упряма была царица, она мудро молчала, ибо знала, что получит ответ, унижающий ее достоинство. Визирь помешкал еще немного и убрался восвояси, так ничего и не добившись от нее, а Кетеван и без слов поняла ответ.
…В ту ночь в Исфагане выпал первый снег.
Крупные белые хлопья падали на город. Дым поднимался лишь над шахским дворцом и еще над несколькими домами, стоявшими на площади. Убогие глиняные хижины и ветхие лачужки в тесном переплетении улочек и переулков с молчаливым покорством, глубоко укоренившимся на всем огромном Востоке, встречали холодную зиму.
Вокруг царила тишина, которую всегда и везде приносит с собой первый снегопад. Снежной пеленой покрывались величавые купола мечети. Город-лагерь утопал в вечернем сумраке. В редких домах жалобно мерцали тусклые огоньки. Прохожих не было ни на площади, ни в узких улочках, в переулках — тем более. Непогода загнала всех в дома. Даже стража забилась в свои будки и старалась не вылезать на мороз.
Кетеван сидела у стола и читала вслух свой неразлучный «Карабадини»[58]. Лела, свернувшись на тахте калачиком, слушала царицу, а сама не сводила глаз с дверей — Леван и Александр до сих пор не вернулись. Снег, валивший с неба, тяжестью оседал на сердце даже тех, кто оставался под крышей. Принесенные Георгием дрова в камине то потрескивали весело, то шипели затяжно, нудно.
Глухо заскрипела калитка.
Лела вскочила с тахты, сунула ноги в коши[59].
Царица оторвалась от книги.
Кто-то постучал.
Дверь отворилась, и в комнату вошел евнух, весь запорошенный снегом и накрытый куском легкой циновки. Сделав несколько шажков, он низко поклонился царице и приветствовал ее по-грузински:
— Добрый вечер, государыня!
Кетеван пристально взглянула в глаза евнуху и по-грузински же ответила на приветствие.
Евнух снял накидку, прикрывавшую его голову и плечи, и искоса поглядел на Лелу. Потом смело приблизился к царице, улыбнулся и проговорил тонким словно женским голоском:
— Я хочу сказать тебе два слова наедине, государыня!
— От этой девушки у меня нет секретов.
— У тебя, может, и нет, но я только тебе могу Доверить то, что хочу сказать.
— Кто ты такой и чего тебе надо?
— Об этом я тоже скажу, когда мы останемся одни.
Лела молча вышла. Евнух, убедившись, что в комнате больше никого нет, начал вполголоса:
— Меня прислала твоя дочь Елена. После полуночи я приду за тобой, жди меня у калитки. Я проведу тебя тайком во дворец, так велела Елена.
— А кто ты сам?
— В моих жилах тоже течет кровь Багратиони, только жил этих мне не оставили. Грузины надежнее, когда они скопцы, так сказал шах, и всех мальчиков, родившихся от жен-грузинок, оскопляют.
— Господи, не оставь нас в годину испытаний!
— Бог богом, а ты будь готова, — проговорил евнух и исчез так же внезапно, как и появился.
Царица стояла на том же месте словно молнией пораженная, когда в комнату вошли Леван и Александр, Они поужинали и сразу легли спать, замерзшие и усталые; повелением шаха каждый день их муштровали в его войске.
Лела жила в комнате Левана по праву его жены, хотя они и не были венчаны. У царицы мелькнула было мысль попросить миссионеров-католиков их обвенчать, но потом Кетеван передумала: все-таки негоже чужим обрядом венчать наследника престола… И другие соображения тоже приняла во внимание царица.
Вот и теперь, оставшись наедине сама с собой, она думала о том, как освятить союз Левана и Лелы. Она не находила способа это сделать и беспокоилась. Не то ее тревожило, что когда-нибудь кто-нибудь им это мог припомнить. Нет, ее это мало заботило. Она ни от кого не требовала монашеского аскетизма, особенно от внуков своих, и без того приговоренных к томлению на чужбине. Она лишь хотела соблюсти обычаи дедовские, христианские. Впрочем, благодаря мудрости своей она и зов природы считала гласом божьим.
Не придумав, как и раньше, ничего подходящего, царица снова перенеслась мыслями к посланнику дочери. Вспомнив евнуха, царица еще пуще закручинилась. Беспокоило ее и то обстоятельство, что она не столько хотела видеть дочь, сколько стремилась удовлетворить задетое самолюбие. Жажды видеть дочь она не ощущала, а потому и само отсутствие естественного материнского чувства тоже не давало ей покоя. Она усердно пыталась найти причину этого неожиданного отчуждения и вдруг поняла, ясно ощутила, в чем была причина этого своеобразного отречения от дочери: ее плоть и кровь, ее родная дочь, с тех пор как перешла в собственность шаха, стала для нее чужой, посторонней.
В назначенное время царица накинула бурку и легким шажком вышла к калитке. Евнух ждал ее, дыханием согревая руки и всем телом дрожа от холода.
— Зима здесь редко бывает холодной, но если уж грянут холода, то берегись!
«Грузинский он знает хорошо. Интересно, чей же это сын?» — мелькнула мысль у Кетеван, и она молча последовала за почти бегущим скопцом. «Как видно, этот несчастный смирился с судьбой. Но каким лютым зверем надо быть, чтобы совершить такое! Нет, даже зверь щадит беспомощных детенышей. Зверя нельзя сравнивать с этим чудовищем, было бы несправедливо в отношении… зверя. Что за жизнь у этого бедолаги? Он не женщина и не мужчина, лишен детей, а значит лишен и радости, ибо дети — это благородные заботы и неиссякаемые радости, без которых человек не живет, а существует. С приближением старости и смерти чувство привязанности к детям постепенно слабеет, становится вялым, потому что сама жизнь теряет свою внутреннюю силу воздействия. А этот бедняга так на земле этой и должен прожить, не поняв вкуса ни радости, ни горя. И всему виной не зверь, нет, а человек, его злоба и коварство! Боже всемогущий, покарай человека разъяренного, в волка проклятого превратившегося, человеческий облик потерявшего!»
Свежевыпавший снег пышным, ковром покрывал дворцовую площадь. Ноги мягко утопали в пушистой белизне первого снега, поскрипывающего нежно, чуть-чуть, не так, как слежавшийся.
Ночь была темная, безлунная, хотя сияние снега рассеивало плотную мглу.
Евнух почти бежал, Кетеван, скрытая буркой, едва поспевала за ним своим легким, но быстрым шагом.
Они пересекли площадь и, обойдя дворец, подошли к нему со стороны дворцового сада. Сторожевой, как видно, был предупрежден, потому что пропустил их, ни слова не говоря. «Взятка и ад освещает», — подумала Кетеван, следуя за юркой фигурой, скользящей по тускло освещенным коридорам; потом они поднялись по лестнице на второй этаж и, пройдя через запутанный лабиринт переходов, остановились перед какой-то дверью.
Евнух, покружив в коридоре и убедившись, что за ними никто не следит, осторожно открыл дверь и впустил царицу в каморку, слабо освещенную чадящей свечой.
— Это мой зал. Жди здесь, государыня. Я сейчас ее приведу, — пояснил он свистящим шепотом и исчез как тень.
В келье было холодно, но царица все же сбросила бурку, предусмотрительно пристроив ее в углу. Время тянулось медленно, как арба, подымающаяся в гору. Наконец в коридоре раздался едва слышный шорох, не ускользнувший от чуткого слуха царицы. Дверь отворилась, и в келью вошла Елена. Первое, что бросилось в глаза Кетеван, были шелковые шаровары дочери.
— Мать моя, родная! — Елена, как дитя, кинулась на шею матери. Кетеван, забыв о давешних сомнениях, о холодке отчуждения, терзавшем душу, крепко обняла родную дочь, и колючий комок упрямо встал в горле.
— Мамочка, родимая… — лепетала Елена, роняя горючие слезы.
Кетеван бережно вытерла ее глаза концом головной накидки мандили, взяла в ладони своих иссохших рук сияющее, красивое лицо дочери и поцелуями осушила ее заплаканные щеки, обхватила дрожащие от рыданий плечи и нежно прижала к груди.
Елена только всхлипывала, как ребенок.
Прошло достаточно времени, пока мать и дочь успокоились. Кетеван посадила Елену рядом с собой на тахту, спросила чуть дрогнувшим голосом:
— Как поживаешь, дочь моя?
— Разве это жизнь, мамочка?
— Ничего не поделаешь, такова женская доля! Как он к тебе относится?
— С тех пор как Луарсаба удушили и Лела исчезла, меня выделяет… — смущенно потупилась Елена, но в этом смущении чувствовалась, однако, и женская гордость.
Не понравилась царице эта неуместная женская слабость, хотела она отчитать дочь, как прежде бывало, но сдержалась — не было для этого ни места, ни времени, ни смысла.
— А что с Лелой?
— Никто не знает. Или убил, или кому-нибудь отдал, — и ответ этот, та легкость, с которой Елена произнесла его, не задумываясь, не пришлись царице по вкусу. Она еще больше собралась, окончательно отогнав от себя материнскую слабость.
— Почему у тебя нет детей?
— Он не пожелал. Евнухи дали мне испить маковый отвар. С рождением ребенка, мол, жена приходит в негодность, — так изволил сказать шахиншах. Детей у меня, дескать, много, а родившая женщина — уже не та, не годится, мол, для любовных утех. — Елена слегка покривилась, потупилась, скорее чтобы угодить матери, чем от смущения.
— Что-то ты очень разговорчивая стала! — на сей раз не утерпела Кетеван.
— Здесь, мамочка, женщина в животное превращается. Мы как в конюшне все равно — нас кормят, поят, но не всегда…
— Постой! Прежде чем сказать, подумай. Не все надо выбалтывать, что на ум взбредет!
— Мне и болтать не о чем и поговорить не с кем — нет здесь никого, кто бы моей болтовней интересовался! Нас триста в гареме, и все поглощены одной заботой — как привлечь к себе его внимание. Как только евнухи сообщают, что он идет, — что у нас начинается, ты бы видела! Одни раздеваются и прыгают в бассейн, другие ложатся на краю бассейна — кто на спину, кто на живот, кто-то садится за тари[60], а кто-то даже за рукоделье… Видела бы ты, какие мы жалкие, несчастные! Наши женщины Леле подражают, с нее пример берут, с места не двигаются, гордо сидят, как будто им все безразлично. А он, как голодный волк, ходит вокруг, глазами сверкает. Раньше он к себе уводил избранницу, а теперь у него новая причуда появилась…
Кетеван нахмурилась.
— Довольно! Тьфу, дьявольское отродье! — перекрестилась Кетеван. — Прекрати!
— Женщины — что кобылы, с завистью смотрят на избранницу, и их нельзя упрекать за это. Что нам еще остается, другой радости у нас нет! У кого еще есть ребенок — те хоть знают, чему радоваться, с детьми разговаривают, учат их петь, развлекая их, сами забавляются как могут. А бездетным что делать прикажешь? Если бы были еще какие-нибудь другие мужчины, они бы сними свою страсть утоляли, но в гареме — одни евнухи. Есть у нас и негритянки, их не меньше десяти, они такие привычки какие-то чудные с собой принесли… Друг друга ласкают. Одна ко мне привязалась, а Лела тогда же меня предупредила: смотри, говорит, если привыкнешь, потом трудно отвыкать… А эта негритянка — огромная… Чего только не говорила мне…
— Боже милостивый! — в ужасе воскликнула Кетеван. — Не поддавайся дьявольскому искушению, дочка! Осквернишься на земле — в адском пламени гореть будешь на том свете!
— Хуже ада, чем этот, в котором я живу, мамочка, быть не может! Я на коне сидеть разучилась. Скоро и ходить разучусь. Недавно он пожелал взять меня с собой в Шираз. Так я чуть с лошади не свалилась, хотя кобыла смирная была.
Царица сдвинула брови.
— В детстве ты с коня не падала, теперь тем более не к лицу тебе с кобылы сваливаться, — попыталась отвлечь дочь от грустных мыслей Кетеван.
— Вот и я об этом говорю. Но ведь в другой раз у него такого доброго намерения может и не появиться! Евнухи вывозят нас в месяц раз, но что это за прогулка! А ты говоришь — осквернишься! Войти сюда само по себе уже значит оскверниться! Кто станет нас порицать и за что? Кто имеет на это право? Даже самому Христу грешно будет укорять нас в грехах. Нас никто не видит и судить никто не может. Да, жизнь наша угасает вместе с мужской силой шаха. Раньше он как волк был, по пять раз на день врывался, а теперь и приходит-то не каждый день, да и то больше затем, чтобы поболтать с нами или же полюбоваться нашими танцами…
Заметив, что царицу сотрясает дрожь, Елена сняла вязаную шаль и накинула матери на плечи. Кетеван попыталась отказаться, но Елена горячо настояла на своем:
— Я сама вязала. Это единственное мое развлечение. Если бы не вязание и не рукоделие, я бы, наверное, сошла с ума. Забери от меня на память. Я и сторожевому шаль подарила, чтобы он тебя пропустил. Я так страдала, что ты не приходишь, все спрашивала шаха, а он одно твердит: христианам в гарем вход заказан. Приняли бы вы тоже их веру — ты и Теймураз, и он бы успокоился, и для вас бы лучше было, и Грузии было бы спокойнее…
— Вероотступничество погубит и страну, и народ. Вера помогла нам выстоять. Без нее грузины уже не были бы грузинами. В вере, и только в вере спасение наше.
— Но были ведь и такие, которые веру поменяли, но и народу старались пользу приносить и приносили тоже.
— Пользы от них еще никто не видел, а вот зла они принесли много и народу, и стране. Вероотступники подают дурной пример, они оскверняют душу народа, унижают ее. Это самая большая беда, которая может привести народ к перерождению.
— Дух противоречия и упрямство тоже многих погубили, матушка. Когда шах пригласил на охоту Луарсаба и Теймураза, зачем им понадобилось больше него дичи стрелять? Обозлившись, он однажды, оказывается, сказал Леле: если бы, говорит, твой брат имел голову на плечах, он бы свое «охотничье превосходство» от меня скрывал, но Христос ваш мозги затуманил ему за его же преданность.
— Знаю об этом… Потому всегда ненавидела охоту. Видишь, он даже такого пустяка им не простил. Зависть и соперничество всегда начинаются с мелочей.
Елена подробно расспрашивала обо всех новостях в Картли и Кахети, не забыла никого из родных и знакомых. Тревожилась о брате, невестке и племянниках. С болью в сердце высказала сомнения: как мог Теймураз прислать сюда двоих сыновей, как это он допустил!
— Лучше по собственной воле, чем по принуждению. Посылая мать и двоих сыновей, Теймураз хотел шаху свою преданность доказать до конца.
— Шах грузину все равно никогда не поверит. Если даже на собственной ладони ему яичницу зажарит. Шах Теймураза никогда не оценит! Этот евнух, который тебя сюда привел и в чьей келье мы сейчас находимся, тайно сообщил мне: кто-то из Картли донес шаху, будто Теймураз выгнать-то выгнал русских послов из Греми, но не от души, а для виду, для отвода глаз, мол, это сделал, ибо сразу же после их отправки вдогонку им своих послов отправил к русскому царю просить помощи против шаха.
— Ложь это! — вздрогнула царица. — Злой навет и подлое шипение гадюки!
— Эту последнюю новость евнух мне тайно сообщил, клятву с меня христианскую взял.
— А чей он сын?
— Он сын Тамар Амилахори, сестры князя Андукапара.
— Несчастный! — с рассеянной задумчивостью проговорила Кетеван, так как мысли ее прикованы были к новости, сообщенной дочерью. Но она не пожелала обсуждать это и вопросов никаких задавать не стала — слишком опасный разговор был начат хоть и дочерью, но все-таки женой изверга.
— А сам он уже совсем не переживает, как-то свыкся со своей судьбой. Только вот шаха ненавидит, отца своего, и видеть его не желает.
— А с матерью как?
— Они одного дня друг без друга прожить не могут, родиной нашей дышат.
— Несчастные!
— Шах, говорят, в детстве к своей бабушке был очень привязан — она была из рода Шаликашвили. Оказывается, он кроме нее и не любил никогда никого. И мне он сказал однажды: я не хочу иметь детей от грузинок, их дети никогда не будут моими. Я бабушку свою, мол, любил больше всех на свете, и именно поэтому я не доверяю грузинам, особенно тем, которые и по отцу и по матери грузины. Вы, говорит, грузины, самого черта заставите полюбить вашу родину, ваш край, а я, по воле аллаха, должен всех заставить полюбить мою страну, мою власть, мое величество и больше никого и ничего.
— Если он так любил бабушку, так отчего же…
— И я его об этом спросила, — предвидя смысл материнского вопроса, поторопилась сама Елена. — Чем, говорит, сильнее я любил бабушку, тем больше я ненавидел Грузию, ибо любовь к ней была несовместима с моей властью, моим троном, моим могуществом.
— Тогда почему же он знает грузинский?
— И это спросила. Потому, говорит, что каждый мудрый человек должен знать язык и первого своего друга, и первого врага тоже.
На рассвете мать с дочерью расстались. Сын Тамар Амилахори пришел за царицей и проводил ее до ворот дворцового сада. Царица ласково, нежно поцеловала в лоб скопца, в чьих жилах текла кровь Багратиони. Евнух почтительно приложился к ее руке — это был единственный знак проявления его мужской сути.
Горько улыбнулась царица.
— Сын мой, скажи мне, кто и когда принес шаху весть о том, что Теймураз отправил послов к русскому царю? — с ходу, неожиданно спросила Кетеван, почувствовав, что несчастного скопца растрогала ее материнская ласка.
Евнух подумал, потом ясными глазами посмотрел в глаза царице и быстро зашептал:
— Шах сказал моей матери, что Зураб Эристави сообщил ему об этом… Потому-то он не пускал тебя к Елене… Не хочет, чтобы ты что-нибудь узнала… У шаха есть одна слабость — с женами он говорит о том, что его тревожит, но если они выдают его, он немедленно убивает их… Даже в тех случаях, когда просто заподозрит их в этом… Дороже матери у меня нет никого и ничего на свете…
— Не бойся, сынок. Я не принесу вреда твоей благородной матери. Будь спокоен!
Вернувшись к себе, царица без сил упала на постель, впервые затряслась в беззвучных рыданиях. Лежала царица цариц, зарывшись лицом в подушки, лежала с тяжелыми мыслями своими до тех пор, пока в комнату не вошла служанка и не спросила позволения накрывать на стол.
Вскоре появились Леван и Александр. Позавтракали наспех, чинно поцеловали, как обычно, бабушке руку. Уже подходя к дверям, Александр обернулся:
— Бабушка, ты сегодня бледна, уж не захворала ли в эту непогоду?
— Нет, дитя мое, я дурно спала нынче ночью, видела плохой сон, — успокоила она внуков. — Ступайте с богом!
Потом Кетеван позвала своих приближенных, накормила всех — стол всегда накрывался в комнате царицы.
Когда все было убрано, Кетеван велела Георгию позаботиться о дровах — зима наступала, судя по всему, холодная. Отдав необходимые утренние распоряжения, царица, нарушив установленный свой распорядок дня, бессильно прилегла на тахту.
— Не больна ли ты, государыня? — спросила Лела, удивленная тем, что Кетеван, обычно деятельная и неутомимая, ложится, не успев встать.
— Нет, дитя мое, просто у меня немного болит голова и сердце пошаливает. Я вздремну, и все пройдет. Ты пока почитай «Вепхвисткаосани», а потом займемся обедом.
В комнате было тихо. Со двора глухо, по-зимнему, доносился стук топора.
Царица некоторое время ворочилась с боку на бок, потом, видя, что все равно ей не уснуть, встала. Лела словно только этого и ждала, отложила книгу, подошла к Кетеван и опустилась перед ней на колени. Во второй раз опускалась на колени Лела перед царицей, и Кетеван, посмотрев на нее вопросительно, на сей раз не мешала, только положила руку ей на голову, словно догадалась о чем-то.
— Государыня… Я должна сказать тебе… Но мне очень трудно…
— Как бы ни было трудно, дочь моя, надо высказать то, что должно быть сказано.
— Я беременна, государыня… Просила Левана сообщить тебе… Он же поручил это мне…
— Пусть бог подарит тебе такую же радость, дитя мое, какую ты подарила мне сейчас! — улыбнулась царица, веля ей подняться. — Давно я ждала этого, и вот, слава богу, надежда моя сбылась. — Царица подвела Лелу к камину, сама подкинула дров, хотя Лела чуть ли не за руки ее держала, — мол, когда я здесь, тебе, государыня, не надо беспокоиться. Царица села на скамью, дав Леле знак сесть напротив.
— Ты не маленькая, дочь моя, а потому должна все знать. Наше пребывание здесь, я чувствую, к добру не приведет. Правда, я и сначала предполагала это, но другого выбора у нас не было. Все в руках божьих, и предписания судьбы нам не избежать, хотя, конечно, и сидеть сложа руки нам не следует… — царица чуть помолчала, прикидывая что-то в мыслях, потом заговорила снова: — Тебе здесь оставаться нельзя. Сын Левана — наследник кахетинского престола, а наследник должен родиться на родной земле. — Царица ей не стала говорить о том, что еще в Греми, как только решился вопрос его отправки в Исфаган, сомневалась, взойдет ли когда-либо Леван на престол. Слова не промолвила и о том, что здесь эти сомнения еще больше укрепились. — Тебе надо уезжать не мешкая. Позднее тебе будет опасно пускаться в столь долгий путь.
— А Леван?! — поневоле вырвалось у Лелы.
— Леван должен узнать о твоем отъезде лишь тогда, когда ты будешь уже далеко от Исфагана. Если вы не сможете перейти через перевал, перезимуете в Курдистане, оттуда уже ближе до дому… И опасность будет меньше. С тобой пойдет Георгий, я еще и других провожатых отправлю вместе с тобой. Верхом ехать ты еще сможешь.
— Воля твоя, государыня, но… может…
— Что — может? — Кетеван своим вопросом вроде подбодрила будущую невестку, у которой от волнения явно заплетался язык.
— Может… и Леван поедет… И ты, государыня… Может, все вместе отправимся?..
— Это невозможно, дитя мое! Аббас нам этого не простит, догонит, схватит и заточит в темницу. И, кроме того, мы нанесем урон Грузии. Пока мы здесь, шах надеется на нашу преданность… По крайней мере, для другого у него повода нет… Мы обязаны остаться здесь, а ты со своей стороны обязана беречь наследника, это твой долг и… моя воля.
Царица не любила терять время. Она позвала Георгия и послала его на базар с поручением найти кого-нибудь из курдов, прибывших из Курдистана для покупки или продажи чего-либо.
Три дня слонялся Георгий в тщетных поисках.
Лела, со свойственным ей усердием выполняя волю царицы, ни слова не сказала Левану, только сообщила, что Кетеван обрадовалась вести о ее беременности. Леван на следующий день крепко обнял бабушку, но заикнуться ни о чем не посмел. Зато Александр любовно пошутил за завтраком — я, дескать, племянника жду!
Кетеван обоим запретила говорить на эту тему.
— Кроме Георгия, — сказала она, — никто из свиты не должен об этом знать.
На четвертый день к вечеру Георгий вернулся в сопровождении какого-то незнакомца, без предупреждения завел к царице, хотя Кетеван повелела ему, найдя надежного человека, не приводить его прямо к ней, а, расспросив до мельчайших подробностей и условившись о встрече на следующий день, предварительно известить обо всем ее, дабы решить, как дальше быть. Потому-то она не могла скрыть удивления при виде незваного гостя. Георгий широко улыбнулся в ответ на недоуменный взгляд повелительницы и, прищурив по-крестьянски хитрые глаза, шепотом доложил:
— Гонец от царя Теймураза. Его не царь, а сам господь бог нам послал!
— А кто разделил царя с богом, уважаемый? — с удивительной для его возраста степенностью отозвался гость. — Я Ираклий Беруашвили, государыня, может, помните меня? Я из тех марткопцев, которых в Персию угнали, а я обратно сбежал, и ваш Давид Джандиери меня в Греми доставил. Помните, государыня?
Кетеван узнала юношу, поцеловала его в лоб, посадила возле камина. Ираклий, не теряя даром времени, приступил прямо к делу:
— Нас Джандиери послал из Гори, чтобы мы догнали племянника Георгия Саакадзе Важику и доставили его живым или мертвым обратно в Грузию. Важику мы не нашли, но позавчера, через месяц после прибытия в Исфаган, узнали, что месяца два назад прибыл сюда племянник Зураба Эристави и явился прямо к шаху. Его мы тоже не нашли, хотя долго искали и продолжаем искать. Нам приказано, если мы не схватим гонца, увезти вас отсюда. Так велел Джандиери, правая рука царя нашего.
Царица все поняла и проговорила негромко:
— Напрасны ваши старания, поиски ни к чему не приведут. Таких гонцов шах не оставляет в живых. Зураб это прекрасно знает, потому-то и прислал сына своего ослепленного брата, чтобы весь его род искоренить и от соперничающих наследников раз и навсегда избавиться.
Георгий тоже понял царицу, но не понял ее Ираклий, поэтому повторил:
— Этого посланца мы должны доставить царю живым или мертвым. Нас тут, десять дюжих парней, и золото у нас есть. Пока не найдём, отсюда ни ногой, — твердо произнес Ираклий.
Кетеван ласково заглянула в горящие преданностью глаза юноши и спокойно проговорила:
— Не ищите. Скорее всего, его унесло течение Заиндеруда. Я отменяю приказ и повеление царя. — Затем она обратилась к Георгию: — Ираклия отведешь туда же, откуда привел. А ты, сынок, своим спутникам пока ничего не говори, что меня видел. Делайте вид, что продолжаете поиски. Послезавтра Георгий найдет тебя и сообщит мое решение. — Царица хотела выиграть время, чтобы еще раз взвесить все обстоятельства и затем только принять окончательное решение.
В назначенный день Георгий снова привел Ираклия к царице. Кетеван накормила посланца Теймураза, а затем всем вместе — Ираклию, Леле и Георгию — дала свой наказ:
— Завтра чуть свет вы втроем должны встретиться у шахской мечети, у той самой, которая стоит рядом, — Масджад-э-джомэ. Ираклий, прийди со своими спутниками немножко пораньше. На вас не обратят внимания, ни в чем подозревать не будут, так как там всегда много молящихся. Георгий и Лела, как и вы, будут одеты по-кизилбашски. Георгия я назначаю старшим в вашем отряде, он знает дорогу и хорошо говорит по-персидски. Его слово — для всех закон, ибо равносильно моей воле.
— Но мне велено, государыня-царица, чтобы… я вас всех взял с собой.
— Теймуразу скажешь, Георгий, — продолжила Кетеван, не обращая внимания на замечание Ираклия, — что я ехать не согласилась… — Кетеван перевела дух. — Может, я уже не так хорошо соображаю, как раньше, и совершаю ошибку, но мне кажется, что наш побег взбесит Аббаса, мы можем повредить и себе, и общему делу. Скажешь также, что Лела — жена Левана, ее ребенок — сын Левана, внук Теймураза, мой правнук и наследник престола… Если, конечно, родится мальчик… Лелу доставь к алавердскому епископу, он лучше всех присмотрит за нею и ее ребенком… Ты и без меня хорошо знаешь, почему это так, Георгий…
— Знаю, государыня, — грустным взором поглядел на царицу верный престолу и родине Георгий.
— Теймуразу передайте, что племянник Саакадзе в Исфаган не приезжал. Твой зять, скажете, Зураб Эристави послал своего племянника с донесением о том, что ты из Мухрани отправил своих послов к русскому царю. Тем самым Зураб хотел поймать сразу двух зайцев: избавиться от наследника своего незрячего брата, нежелательного соперника, и сделать так, чтобы шах и твоих наследников… — царица заколебалась и, взглянув на Лелу, жадно ловившую каждое ее слово, продолжала как можно осторожнее, — не очень баловал… И еще передай от меня царю, — сомкнула брови Кетеван, — пусть убьет Зураба Эристави и голову его пришлет шаху в знак своей преданности, шаху это будет приятно… — мрачно усмехнулась царица. — А нам и впредь следует делать только то, что великому Аббасу приятно.
Много и других распоряжений отдала царица. Еще раз напомнила: если в пути будет трудно, тяжело станет пробивать зимнюю тропу, пусть перезимуют у курдов.
Оставшись в одиночестве, царица углубилась в размышления: «Если замысел Зураба удался и шах поверил его доносу, нам осталось недолго жить, а Кахети опять будет разорена. Зураб хочет поссорить Теймураза с Георгием Саакадзе, а шаха вконец натравить на них обоих… Он сам же надеется возвыситься при этом. Если кто-то в далеком будущем узнает о моем приказе убить Зураба… Пусть не сейчас, нет, а в далеком будущем, — должно быть, не поверит: нет, скажет, Кетеван этого сделать не могла. Но я сделала это, ибо Зураб обрек нас на гибель, подло, вероломно, и должен быть за это наказан богом и людьми. Зураб должен умереть так же, как… умер его племянник… Как и мы погибнем, если шах поверит его доносу».
Вечером, когда Лела и Леван уединились в своей комнате, царица призвала к себе Георгия и, сидя у камина, не поднимая головы, сказала свое последнее слово:
— От меня тайно передай алавердскому епископу, что Лелу не нужно объявлять царицей… Все-таки она считалась женой неверного… Хотя и об этом никто знать не должен. Это, как и все остальное, следует хранить в глубокой тайне… Епископ все поймет как надо… Если этого не сделает Теймураз, ты своей рукой должен убить Зураба! Это я тебе приказываю, царица Кахети и твоя повелительница! Убей так же безжалостно, как раненному мною Константину когда-то перерезал глотку. Константин лишил жизни дядю и деда Теймураза, Зураб же палач его матери и сыновей, первейший враг Картли и Кахети, разрушающий все наши благие начинания на пути возрождения родины. Так подсказывает мне сердце. Все остальное ты знаешь сам, Георгий, и да поможет тебе бог!
Лела до конца не смогла выполнить повеление царицы.
В эту ночь она жадно прильнула к Левану и ласкала его, не зная предела. Когда он откидывался на подушки, чтобы перевести дух, она чуть ли не душила его страстными поцелуями.
Заподозрил что-то Леван.
— Что с тобой сегодня, Лела? Мы же не в последний раз вместе!
— Кто знает, царевич, я вчера ночью сон дурной видела, вот и боюсь чего-то, хочу тобой вдоволь насытиться!
— Что же ты такое видела?
Лела на минуту задумалась.
— Видела, будто ты разлюбил меня и другую женщину ласкаешь.
— Но если я приласкаю другую, разве это значит, что я разлюбил тебя? Тогда что должна делать моя несчастная тетушка Елена, которая пленницей сидит в гареме дворца Али-Кафу, где ее повелитель чуть ли не на ее глазах с другими… проводит время? — криво усмехнулся Леван.
— Дай бог ей выдержки и терпения, но почему ты сравниваешь себя с неверным и окаянным?
— Потому и сравниваю, что он тоже мужчина.
— Мужчина?!
— А как же! Не всякий справится с тремя сотнями женщин! — снова сострил Леван, но Лела, пропустив мимо ушей его слова, внезапно выпалила:
— А что ты будешь делать, если я умру?
— Ты не умрешь, и говорить об этом нечего.
— А все-таки… если умру?
— Да что ты сегодня заладила? Разве время тебе о смерти думать?
— Нет, ты не увиливай, а отвечай, что ты будешь тогда делать?
Леван закрыл ей рот поцелуем. Лела пылко отозвалась на его ласку.
— Если я умру, — отводя душу, снова взялась за свое, — сироту не обижай, не называй незаконнорожденным из-за того, что нам не пришлось венчаться. Если будет мальчик, назовешь Леваном, девочку — только Кетеван, другого женского имени для меня не существует.
— Да что ты заладила одно и то же!
— И знаешь, о чем еще я тебя попрошу? Когда другую женщину будешь ласкать, обо мне не вспоминай…
— А если я умру, что ты сделаешь?
Лела встрепенулась, будто ждала этого вопроса.
— Лягу рядом с тобой и покончу с жизнью, ибо без тебя жизни не будет.
— А ребенок?
— Если он еще не родится, подожду. Отдам алавердскому епископу и потом на твоей могиле заколю себя кинжалом, подаренным Кетеван.
— Откуда ты знаешь про алавердского епископа? — спросил, насторожившись, Леван.
— Царица мне про него рассказала.
— И что она рассказала?
— То, что… он без отца родился.
— Без отца никто еще на свет не рождался.
— Но его отец… не был обвенчан с его матерью.
— Ну и что с того?
— Ничего.
— Другого такого человека во всей Кахети не сыскать.
— Царица тоже так говорит.
— Знаешь, Лела, чем труднее и нерадостнее жизнь у человека, тем благороднее и умудреннее он становится. Вот если бы бабушка моего отца не баловала, он бы еще лучше был.
— А чем он теперь тебе не нравится?
— Нет, не так ты меня поняла. Отец мой — лучший из лучших людей… То, что я сказал, к нему не относится. Речь шла об алавердском епископе.
— Это, мол, потому, что и наш сын…
— Нашего… Как только вернемся в Грузию, немедленно обвенчаемся… и знаешь где? В Сигнахи, в Бодбийском монастыре. И первенца нашего там же окрестим, все равно, мальчик или девочка. Ведь сказал наш великий Шота: «Льва щенки равны друг другу, будь то львенок или львица». У нас с тобой будет десять детей, десять! А царем я быть не хочу, нет. Уступлю престол Александру или вовсе Датуне, он лучше нас обоих. А мы, я и Александр, будем при нем визирями, будем виноградарство, скотоводство, садоводство, земледельчество в стране поднимать, книжное дело налаживать, народ грамоте обучать. Бабушка говорит, что Греми раньше был просвещенным городом. Надо овец побольше разводить, лошадей, коров. И с кизилбашами, в конце концов, можно добрые отношения наладить. Не могут же все шахи такими чудовищами быть? А этот, я надеюсь, скоро на тот свет отправится…
Леван уснул на рассвете.
Лела неслышно поднялась, поцеловав его, стараясь не дышать, осторожно отрезала кинжалом, подаренным царицей, упрямую прядь волос, спадавшую ему на лоб, аккуратно завернула в парчовый лоскут, спрятала на груди. Потом тихонько оделась в кизилбашскую одежду и, не оборачиваясь более, крадущимися шажками направилась к царице.
Стол для отъезжающих был уже накрыт, Лела от еды отказалась, но затем уступила — под строгим взглядом царицы через силу проглотила несколько кусков. Взглянула на Георгия и чуть не ахнула — переодетый, он выглядел настоящим ханом!
Кетеван без слов проводила их до калитки. Там она расцеловала плачущую Лелу, сама с трудом сдерживая слезы. В лоб поцеловала и верного Георгия, тот опустился на колени, приложился к руке государыни, потом быстро вскочил в седло, и через минуту еще два верных человека покинули исфаганскую обитель царицы цариц Кетеван.
В снежном буране исчезли прошлое и будущее царицы…
Раньше обычного вошел к царице Леван. Не вошел, а ворвался.
— Бабушка, где Лела?!
Царица ждала его.
— Я послала по делу ее и Георгия.
— По какому делу?
— Было важное дело, — отрезала Кетеван.
— Бабушка! — вспыхнул Леван. — Не забывай, что я царевич, наследник престола и твой внук.
Кетеван понравилась поистине царская властность, которую Леван впервые при ней проявил. Потому-то ответила она особенно сдержанно, даже строго:
— Но и ты не забывай, царевич, что стоишь перед царицей цариц Кахети как ее внук и наследник кахетинского престола. И то не забывай, что царь Теймураз не велел мне покорной быть тебе. Эту девушку я взяла в свою свиту, я назвала ее твоей женой, и я же отправила ее: в Грузию, чтобы она там родила наследника кахетинского престола. Так повелела я, царица Кетеван, мать твоего отца, воспитавшая тебя. Я повелела, ибо потомок Багратиони не должен явиться на божий свет в шахских владениях! — Заметив, как смущенно поеживается Леван под ее взглядом, она заговорила мягче: — Медлить было нельзя, и ты это знаешь. Через некоторое время она бы уже не смогла перенести такой дальней дороги. Я еще должна тебе кое-что сказать, но сделаю это в присутствии твоего брата.
Когда спустя некоторое время вошел Александр, она подробно изложила свои думы. Не скрыла и того, что из-за коварного доноса Зураба им грозит опасность. Передав повеление Теймураза, полученное через Ираклия Беруашвили, она перевела дух, а затем добавила очень тихим голосом, почти шепотом:
— Если вы считаете, что я стара, и не доверяете мне, исполните волю отца — уезжайте отсюда. Здесь вас не ждет ничего хорошего, а дурное может случиться в любую минуту. Если я сама не трогаюсь с места и вас задерживаю, то лишь потому, что не вижу в побеге пути к спасению ни нашему, ни отчизны нашей. Если мы сбежим, нас наверняка схватят сразу и немедленно учинят расправу, при этом мы и родине нашей причиним вред, ибо шах и султан пока воевать между собой не собираются, а шах, если он не сдержан султаном, вдвойне опасен Грузии, и особенно Кахети. Потому мы должны быть предельно предусмотрительны. — Кетеван еще понизила голос, едва слышно закончила: — Остальное решайте вы сами.
— Я поступлю так, как ты велишь, бабушка, — не задумываясь, ответил Александр, восхищенный мудростью, решительностью и откровенностью царицы.
— Даже под страхом смерти я отсюда без тебя шага не сделаю, — твердо проговорил Леван и обнял бабушку.
Три горячих сердца бились в лад на замерзшей исфаганской земле, зажженные, исполненные любви к родине своей.
* * *
Шахский придворный визирь сообщил царице, что завтра в полдень шах соизволит принять у себя ее и царевичей.
Царица не спала всю ночь. И без того она тревожилась о Леле и Георгии, отбывших тайно десять дней назад, а тут еще сообщение визиря: кто знает, может, беглецов поймали и теперь призовут ее к ответу. Судьба своих само собой угнетала ее, а тут еще и предстоящая встреча с шахом наполняла ее скорее гневом, чем робостью.
Царица не знала ни робости, ни страха.
И ответ обдумала заранее на всякий случай: дескать, отправила невестку домой рожать, ты меня приема не удостоил, поэтому разрешения твоего испросить не смогла, иначе без твоего ведома даже этого не допустила бы.
Кетеван собралась тщательно: приготовила парадную одежду для царевичей, не забыла и о своем наряде, о фамильных украшениях. Выложила, аккуратно подготовила привезенные из Кахети подарки для шаха, начистила до блеска и на следующий день, в назначенный час, в сопровождении внуков последовала за визирем своей плавной и величественно-горделивой походкой.
Сторожевые почтительно расступились, пропуская царицу и царевичей в длинный и узкий коридор дворца Али-Кафу. Они поднялись по узкой витой лестнице, облицованной тесаным камнем, и оказались в малом зале, из которого был вход в большой зал, где обычно происходили меджлисы шаха.
Еще тогда, когда они поднимались по узкой крутой лестнице, Кетеван подумала: «Это на случай нападения, чтобы врагу нелегко было подняться наверх. Потому и наши крепости так же построены, два человека одновременно по такой лестнице не взберутся».
Роспись малого зала, блеск золотых подсвечников, разноцветное сияние оконных витражей ослепили царевичей. Они глаз не могли оторвать от картины Мехмеда Замана «Бахрам-Гур и дракон». Заметив их явный восторг, царица строгим взглядом напомнила им о наставлениях, какие дала перед приходом во дворец — ничему не дивиться, не ронять свое достоинство.
В малом зале кроме них ждали аудиенции четыре приунывшие сардара и два хана. Изнуренным ожиданием вельможам евнухи то и дело предлагали на подносах фрукты и сласти. Один из придворных, с вымученным лицом, смиренно переминался с ноги на ногу. К угощению никто не прикасался: либо соблюдали принятый на Востоке этикет, предполагающий сдержанность в приеме угощений, либо остерегались отравления, столь распространенного при дворе. Трудно сказать, в чем была причина, но все дружелюбные старания евнухов оставались тщетными.
Все молчали, зловещая тишина царила во дворце, покрывавшие пол огромные исфаганские ковры поглощали даже малейший шорох.
В этой гнетущей тишине вдруг раздался глухой стук, на звук которого все вмиг оглянулись и увидели, что один из сардаров лежит на полу с посиневшим лицом, из носа же тянется быстро густеющая струйка крови.
Откуда ни возьмись сразу объявились сторожевые из гулямов и, ловко схватив грузное тело, торопливо вынесли потерявшего сознание военачальника. Один из евнухов, самый бойкий на вид, поднес царице кишмиш на хрустальном блюдечке и сообщил шепотом:
— Четыре дня и ночи приема ждал, не ел, не пил в ожидании шаха…
Кетеван даже бровью не повела. Обескураженный евнух тотчас удалился.
Леван сгорал от нетерпения узнать, что здесь происходит, но по примеру царицы держался невозмутимо. Александр, с достойным выражением лица храня чинное молчание, внимательно разглядывал замысловатый узор ковра под ногами.
«Умереть бы за вас вашей бабушке, родные мои! — думала Кетеван, хмуря брови. — Разве вам здесь место? Вам бы охотиться на берегах Алазани или рыбу ловить в ее прозрачных водах! Да будет проклят тот, кто разлучил вас с Датуной! Поехали бы сейчас в Алаверди, наведались в пастушьи стоянки, в Кизики бы необъезженных жеребят объезжали с вашей ловкостью и сообразительностью! Господи, где же справедливость на земле! Мальчик мой, Александр, ангел невинный, благородное сердце мое, радость бабушки, слава и память о деде! Леван хоть дитя после себя оставит, а ты, дитя мое, родимый! Если б я могла умереть за вас, родные мои!..» — думала Кетеван и никого не видела, кроме Левана и Александра.
Время ползло, как ленивый кизикский буйвол.
«Боже праведный! Неужто не настанет день, когда шах будет ждать приема у грузинского царя, преклонит пред ним колени, у него будет просить пощады и милосердия, ибо от него будет зависеть судьба проклятого неверного и его отпрысков! Господи, пусть наступит такой день! Пусть без нас, без Багратиони, незнатный родом сын бедного человека и бедной женщины Грузии станет повелевать в шахских владениях и шахский трон, как простую скамью, опрокинет, а потомков его, как трусливых зайцев, распугает, чтоб они дрожали и прыгали на задних лапках. И пусть он их не убивает, не надо! Пусть себе живут, пусть с благоговением ждут милости от повелителя, пусть ловят каждое его слово, заискивая перед ним и теряя свое человеческое достоинство. Господь всемогущий, лишь бы только наступил такой день, и тогда мы все, Багратиони Амер-Имери, падем жертвой благословенного повелителя Грузии, который поставит на колени наших кровных врагов!»
Снегопад усилился.
Чахар-баги — четыре сада, окружавшие со всех сторон дворец Али-Кафу, были закутаны в снежные одеяния. Розовые кусты казались сейчас белыми холмиками в этом райском уголке, названном так в честь четырех шахов. Павлины сидели, нахохлившись, в специальной клетке. Джейраны, косули и олени сгрудились возле кормушки под огромным балконом о сорока колоннах величественного дворца Чехель-соттун, который ослепительно сверкал в нетронутой белизне по-зимнему молчаливого сада.
Царица сквозь узкое окно смотрела на Чахар-баги и вдруг вспомнила Греми… Там еще многое надо было отстроить, восстановить после последнего нашествия этого окаянного. Да, многое надо было сделать в стольном граде Кахети.
Потом перед внутренним взором царицы предстала дочь Елена. В ту ночь ей казалось, что они поднялись на второй этаж дворца, теперь же она поняла, что гарем находился на третьем. «Интересно, знает ли Елена, что мы здесь. Тот несчастный, который шептал мне что-то насчет упавшего без чувств сардара, по-моему, и есть именно сын Тамар Амилахори, мой давешний знакомец…»
День клонился к вечеру, когда из-под низкой арки дверей, ведущих в шахский зал, вышел дворцовый визирь и громко, даже торжественно, произнес:
— Кахетинскую царицу Кетеван приглашает к себе великий шахиншах, повелитель мира всего.
Царица спокойно направилась к дверям в сопровождении царевичей.
Визирь остановил юношей движением руки:
— Повелитель мира всего приглашает к себе только царицу Кетеван.
Потрясенная до глубины души этим, казалось бы, невинным замечанием, Кетеван сразу же взяла себя в руки и совершенно не обнаружила своих чувств. Она поглядела на царевичей так, словно что-то хотела им сказать, с материнской любовью заглянула каждому в глаза и медленно вошла, чуть пригнувшись, в открытую дверь — арка нарочно делалась такой низкой, чтобы вынуждать сгибаться всех входящих, кроме карликов.
Чуть сгорбленный в плечах шах величаво восседал на троне; подогнув под себя ноги, он спокойно перебирал янтарные четки. По обеим сторонам от него возвышались два великана телохранителя. Царица поклонилась шаху и встала поодаль, ибо не обнаружила нигде кресла или скамьи, в противном случае она наверняка бы не посчиталась с обычаями дворца Али-Кафу.
— Как доехала, царица? — по-грузински спросил Аббас.
— Я уже успела забыть об этом, шахиншах-повелитель, так это было давно. — Кетеван нарочно назвала шаха повелителем, а не повелителем мира.
Шах заметил, слегка пошевелил кончиком правого уса.
Заметил он также, что царица умудрилась в сдержанной форме высказать ему упрек за запоздалое приглашение. Кетеван была уязвлена еще и тем, что царевичей не допустили к шаху.
— Как поживает мой Теймураз? — ехидство сверкнуло в колючих глазах Аббаса.
— Не знаю, повелитель, я давно уже не видела моего сына, — Это слово «мой» каждый из них произнес по-разному, интонацией вкладывая свой смысл и свое отношение к «моему».
Шах продолжал медленно перебирать четки.
— Как встретил тебя Исфаган?
— Холодно. Уже какую зиму валит снег…
— Снег полезен для урожая и для здоровья тоже. Дрова, надеюсь, у вас есть?
— Достаточно.
— Еда и питье?
— Божьей милостью.
— Шах и есть земной аллах.
Царица хотела что-то сказать, но промолчала, а шах, заметив ее сдержанность, как бы невзначай продолжил:
— А что, Греми разрушен?
— Отчего должен быть разрушен Греми и для чего его разрушать?
— Хотя бы для того, чтобы построить снова, и еще лучше! Старое все уходит, новое все побеждает. Не разрушив старого, нового не построишь, Кетеван!
Царица слегка поежилась, отвела взгляд в сторону и четко проговорила:
— Когда зодчий рушит, он сам же и строит. Да и то бывает, что не все старое рушится и не все старье умирает. — «Старье» и «умирает» она чуточку громче произнесла.
Шах нахмурился и чуть согнутым пальцем правой руки медленно провел по лбу.
Царица вмиг заметила этот жест и сразу сообразила, что именно от него и перенял его Теймураз.
— Зодчий не рушит. Зодчий умеет только строить. У зодчего рука и глаз наметаны только на строительство, ибо силы для разрушения у него не имеется. Сокрушающий и ломающий старое, негодное, — далеко не всегда враг. Много времени тому назад, давным-давно, Исфаган назывался Асфадана… «Дана» — ты хорошо знаешь, что значит. Название переводится так: асва — всадил, дана — нож. Однако арабов этот нож не поразил, они завоевали и разорили Асфадану. Наши предки, очень далекие предки, восстановили город, он снова расцвел, и с восьмого по тринадцатое столетие, — Аббас возвел глаза к потолку и чуть медленнее стал перебирать янтарные четки, — город стал центром ремесел и торговли всего мира. Но у каждого времени свои законы, и… в тысяча двести тридцать седьмом году, по вашему летосчислению, город взяли монголы, разграбили и обложили данью… Впрочем, монголы долго не продержались — ушли. В этом и заключалась их слабость, что они грабили страну, но не стирали ее с лица земли, облагали данью, но народ не превращали в монголов, не омонголивали завоеванные города, и это было их большой ошибкой. — Шах замолчал, но краем глаза посмотрел на царицу и, убедившись, что она внимательно слушает его, хотя и смотрит в сторону, так же спокойно продолжал: — Если бы монголы омонголивали завоеванные народы, не было бы на земле никого сильнее их. В тысяча триста восемьдесят седьмом году город, называвшийся уже Исфаган, захватил, ограбил и разгромил Тимур. Но он не ушел, не хотел уходить. Лучшие мастера работали на него, ткали ковры, обрабатывали железо. Но ремесленников держали на хлебе и воде, и они восстали. Тимур разгневался и велел уничтожить семьдесят тысяч мастеров и подмастерьев. Глупо, очень глупо, кстати, поступил, ибо какая польза от мертвых ремесленников? А потому ему уже ничего не оставалось, как покинуть опустевший город и уйти. Гнев и разум вечные враги. — Кетеван отвела взор от окна и взглянула прямо в лицо Аббасу, В его колючих и пронзительных глазах сейчас, действительно, читалось спокойствие, от этого они казались еще меньше.
«Если ты понимаешь это, — подумала царица, — то почему живешь злобой и бешенством, доходящим до безумия?»
Но Аббас был занят своими мыслями и не обратил внимания на выразительный взгляд царицы. Он неторопливо продолжал:
— Когда я, по воле аллаха, стал повелителем мира, трон свой поставил в Исфагане, место мне понравилось, и река полноводная здесь протекает — Заиндеруд… Как видишь, собрал я сюда со всего света мудрецов, мастеров, зодчих и построил новый город. Скоро закончу Чехель-соттун — дворец о сорока колоннах, Чахар-баги у меня в Эдем превратился, а главная мечеть Масджад-э-джомэ — истинный храм веры для всего света. И эта шахская площадь устроена согласно моему желанию к моему повелению… — Аббас снова умолк на мгновение. — Как видишь, разрушение не всегда есть зло. Нового, повторяю, не построишь, если старое не разрушишь. Разрушение — тоже труд, потому-то, если кто-нибудь поможет тебе и разрушит старое, тому надо спасибо сказать, и это обязательно скажи… Нет, передай через кого-нибудь моему Теймуразу.
Царица на сей раз даже не взглянула на шаха: казалось, она всецело поглощена созерцанием сада, на самом же деле внимательно слушала, потому что, как только Аббас сделал свое циничное заключение, она тотчас воспользовалась паузой и степенно заговорила:
— Ни арабы, ни монголы, ни Тимур персов не уничтожили, народа не истребили, веру менять не вынуждали, потому-то ты, шахиншах-повелитель, смог построить Исфаган и привести его к расцвету. Если придут тысячи османов, они нанесут урон не Персии, а себе, сами у себя отнимут множество жизней и силы, отчего и станут слабее душой, телом и престолом своего султана. Тот, кто повадился к ограбленным им же соседям за добычей ходить, домой всегда возвратится только с потерей, ибо ограбленного мудрые грабители второй раз не грабят. И то ясно, что повадившийся к соседям грабительски ходить никогда не знает, застанет ли, вернувшись, свой дом в целости-сохранности. Из дома вышедший не всегда благополучно вернется домой. Об этом ведомо одному лишь аллаху, как у вас говорят…
— Так почему же твой сын и мой воспитанник Теймураз собирается из дому уходить и за Кавказский хребет бежать? — внезапно спросил шах, и в его сощуренных глазах вспыхнула неукротимая злоба. — Ответь, почему твой свекор Александр все на сторону бегал, почему туда же глядит твой сын и мой воспитанник? И почему ты не вразумишь его, не рассердишься? Может, вы оттого туда заглядываете, что и те и другие — христиане?
Кетеван взглянула в мечущие искры гнева глаза шаха и спокойно, очень спокойно, без малейшей дрожи в голосе, твердо проговорила:
— Когда Теймураз осиротел, из России прислали за ним послов, хотели, чтобы я отдала им малолетнего царевича, там его хотели вырастить и женить. Я же, его мать и твоя теща, послала сына не к ним, а тебе доверила свою плоть и кровь, наследника Кахетинского престола, тебе вручила я свою надежду и любовь, тебе отдала и дочь свою Елену, отдала добровольно, по первому твоему слову.
— Потому-то я вернул тебе сына в целости, сохранности, воспитанного и всячески готового для царствования, уважил твое доверие. А Теймураз не пожелал приехать ко мне, с охоты сбежал, в Имерети укрылся… И послов к ним отправил, — вкрадчиво добавил Аббас последнюю фразу.
— Тех послов он отправил с пустыми руками, а к тебе мать и двух сыновей послал. Живую царицу Кахети послал к тебе после того, как ты Кахети разорил, опустошил, а народ безжалостно согнал с родных земель и целыми семьями, целыми селами погнал сюда, сам бог не знает зачем.
— Бог не знает зачем, а аллах всемогущий знает. И я знаю, я их переселил из одного края моей страны в другой, — повысил голос Аббас, теперь еще яснее звучали в его голосе неуемная злоба и ядовитая насмешка. — Я их переселил туда, где у их повелителя и грузинская кровь течет в жилах. Бабушка моя была из рода Шаликашвили, она была мне дороже всего на свете, если не считать аллаха и меня самого. И владения ее потомка — едины, это одно царство, одна страна, и вечно она будет общей родиной для всех моих подданных с их подданными вместе. Я потому и являюсь владыкой мира, что в сердце моем кипит кровь всех моих подданных. Твой сын не понял этой мудрости. То на охоте мошенничали, он и Луарсаб, да примет его аллах, то ко мне приезжать не желали, дичились. В конце концов дело до того дошло, что Теймураз мать и сыновей ко мне прислал, а сам из Мухрани тайком, воровски, гонцов послал, дескать, помогите мне с шахом бороться. Но русский царь — мой брат, он почитает меня и всегда будет меня почитать, ибо он к морю выйти хочет, значит, османы ему мешают — султан не очень потерпит соперника на море. Я тоже с султаном не в ладу, и это известно московскому шаху. Мне султанское усиление не по душе, не хочу его, а потому русский царь против меня выступать не будет и никого не поддержит, даже Теймураза!
Кетеван поняла, что подлый донос Зураба достиг цели: тайный замысел Теймураза стал известен шаху, и потому сверкали его глаза звериным гневом и неиссякаемой жаждой мести.
А шах тем временем продолжал:
— Но и ты ведешь себя неправильно… Сына мне доверила на воспитание, а моего посланца Константина убила!
Кетеван вмиг вспомнила внука Датуну и курдского вождя тоже, хотя она и без их предостережения сама прекрасно знала, что Аббас никому ничего не простит.
— Убила, чтобы для моего сына и твоего воспитанника престол освободить, очистить от убийцы отца и брата, ибо Константин при случае так же легко предал бы тебя, как предал родного отца и брата. Предавший родного отца предаст любого, это и без меня хорошо знаешь.
— Но ведь и Теймураз твой встал на путь предательства, — не замедлил вставить Аббас.
— Теймураз не предатель, — Кетеван перешла наконец к главному, — а вот тот, кто оклеветал его, сам предатель, ибо хочет твоими руками освободить себе и своему единомышленнику пути к заветному султану. Но ты любишь двуличных, доверяешь им сполна и на них надеешься, — намекнула, она на связь Зураба и Саакадзе.
— Я никому не доверяю, — снова повысил голос Аббас, — никому не верю, кроме себя самого и аллаха. Я знаю, что Картли и Кахети не будут знать покоя, пока не примут Магометову веру. И начать это угодное аллаху дело нужно с вас — с тебя и Теймураза. Если примете нашу веру — живите и здравствуйте, нет — найду таких, кто нашу веру примет и преданно будет ей служить, что само по себе означает и мне верность. Это мое последнее слово: или Грузия будет мусульманским краем моей державы, или я сотру ее с лица земли. Грузины-христиане — враги мои и моей страны, ибо они отделяют мои владения от мусульманских племен, живущих в предгорьях Кавказа, Кавказский хребет — моя граница, ограда моих владений. Поэтому я истреблю всех, кто пожелает жить в мусульманской стране, не признавая Магомета! Уничтожу!
— Однажды изменивший своей вере человек и от твоей веры быстро отречется, повелитель, — спокойно заметила Кетеван разъяренному шаху.
— Отречется и будет стерт в порошок, со всем своим родом и потомством!
Шах сошел с трона и медленно вышел из зала, даже не взглянув на подарки, поднесенные слугами.
Дурным предзнаменованием показалась эта намеренная холодность царице. Едва она вышла из зала, как предчувствие ее оправдалось: Левана и Александра не было.
Все тот же смышленый скопец шепотом сообщил ей, когда она выходила в коридор, что царевичей силой увели те ханы и сардары, которые дожидались вместе с ней аудиенции в малом зале.
— Куда они увели царевичей и кто они такие, — сказал евнух, — не спрашивай, этого я сказать не могу, ибо сам ничего не знаю.
* * *
Еще раз разочарованный в Зурабе Теймураз на следующий день покинул Базалети, не пожелав навестить раненого. Не внял совету Амилахори — в знак уважения к Дареджан повидать зятя, чтобы он ничего не заподозрил и не замыслил еще худшего злодейства. «Что еще хуже он может замыслить!» — ответил царь, уже сидя в седле, и возглавил дружину, направлявшуюся к Горийской крепости.
Горис-цихе уже была свободна от единомышленников Георгия Саакадзе — они добровольно оставили ее.
Теймураз созвал совет — дарбази. Велел готовиться к севу; у кого не хватает плуга и сохи, сказал, — одалживайте друг у друга, расплачиваться будете урожаем. Царь вызвал горийских кузнецов, велел им все дела отложить и изготовлять только плуги и сохи. Отдельно собрал колесников, плотников, столяров, шорников, седельников. Приказал оглобли и шкворни готовить, колеса делать, ремни упряжные изготовлять вдоволь. Для веревок аробных велел цхинвальским пастухам коз остричь. Послал в Имерети мегвинет-ухуцеси, чтобы он привез побольше квеври — кувшинов глиняных для хранения вин. Из амбаров, ларей и кукурузников выдал зерно для посева, велел сеять пшеницу с махобелой:[61] хоть и с сорняком, а колоса пустого не дает, полно наливается зерном, и хлеб будет с припеком.
С восхода до заката ездил царь по деревням — проверял, как народ готовится к севу: его то в Мухрани видели, то в Тирипонской долине.
Теймураз вызвал Датуну из Греми, закрепил за ним владения братьев Мухран-батони, объявил об этом во всеуслышание, чтобы знали все, други и недруги, довели бы до сведения Зураба, мечтавшего об этих землях. С сыном не расставался ни днем, ни ночью, всюду брал с собой, всю любовь к Левану и Александру изливал на оставшегося в одиночестве младшего. Датуна же, в свою очередь, не разлучался с Гио-бичи, да и Теймураз, можно сказать, не отличал бедного сироту от родного сына, сажал за свой стол, обоим купил по пистолету у горийских католиков, с дарственными надписями подарил им ружья «киримули».
На время своего отсутствия Кахети поручил заботам Ношревана, старшего сына Давида Джандиери, и Андукапара, отца Нодара Джорджадзе. Царице Хорешан велел сидеть в Греми, объяснив это тем, что присутствие матери мешает самостоятельности Датуны, уж больно, мол, она его балует. А главное в этом решении было то, что не хотел царь огорчать Джаханбан-бегум, которую все реже навещал в крепости Схвило, ссылаясь на отсутствие времени и обилие забот.
Теймураз проверил стада в Сабаратиано, Самцхе-Саатабаго обошел, пастухам оружие подарил. Велел подсчитать приплод — остался доволен. Прикупил крупного рогатого скота: нужны были шкуры для упряжных ремней, и войско нуждалось в мясе. Получилось складно — Сабаратиано и Самцхе он снабдил таким образом воинским снаряжением и оружием, собранными в База лети.
Вернувшись в Гори, царь велел Иотаму Амилахори, оставленному здесь на время его отсутствия за правителя, вернуться домой и присмотреть за своей вотчиной.
Остро ощущал Теймураз отсутствие Давида Джандиери. Потому-то душой прикипел к Иотаму Амилахори. Коварство зятя камнем лежало на сердце. Запретил упоминать его имя вообще. Как только Датуна прибыл в Картли, он к отцу обратился с первой просьбой — изъявил желание повидать Дареджан. Теймураз с трудом сдержался, чуть не ударил любимца. Датуна притих, понял отцовскую муку.
…Хотя весна и вступила в свои права, ночи были еще по-зимнему долгие.
Датуна и Гио-бичи, сидя у камина, негромко беседовали о чем-то со степенностью, удивительной для их юного возраста. Лежа на тахте, Теймураз невольно прислушался к их не достаточно приглушенным голосам.
— Когда Александр и Леван вернутся, — говорил Датуна, — я попрошу отца отдать Александру Мухрани, на черта мне нужно чужое добро, когда и своего хватает!
— Оно уже не чужое, а твое, согласно воле царя. А слово царя непреложно, ты сам говорил. И отменить его нельзя, ибо воля царя — воля божья на пути единения Кахети и Картли.
— Сам царь может отменить, не повредив делу этого единения.
— Да и место хорошее. Земля плодородная, крестьяне не разорены. Я пойду к тебе в моурави, и мы такое хозяйство заведем, какого даже и в Гори нет, не говоря уже о нашем разоренном Греми.
— Я же этим садам, виноградникам и пахотным полям предпочитаю коров, лошадей и овец. Нет в Грузии края лучше Тушети. В Тушети можно столько скота развести, что всей Грузии хватит, ибо подобных пастбищ нигде нет, кроме как в Самцхе и Сабаратиано.
— В отношении скотоводства ты прямо как твой отец рассуждаешь! — улыбнулся Гио-бичи.
— А чьи мне мысли повторять, если не отцовские, кому верить, если не ему, — с улыбкой ответил Датуна. — Отец мой хорошо разбирается во всех делах. Он бы Картли-Кахети в цветущий сад превратил, если бы этот неверный шах не пил нашу кровь.
«Неверный! — повторил про себя Теймураз. — Не неверный, а губитель наш беспощадный! Горе мне и вам, сыновья мои кровные, мать моя родимая! Как прощу я себе, что вас не сумел уберечь! Разве мог я допустить в мыслях, что зять так безбожно предаст меня! На что он надеялся, злодей, может, думал, что шах отдаст ему картлийский трон, невзирая на его дружбу с Саакадзе? Да, в лучшем случае, халат со своего плеча пожалует! Нет, змей, картлийского престола тебе век не видать, коварством и предательством трона ты не получишь. Нет, изверг, шах и не поверит тебе, и не пощадит, после Саакадзе он уже научился уму-разуму. Я тоже тебе не прощу этого предательства, если тот душегуб моих хоть пальцем тронет, я ему голову твою в подарок пошлю, а язык вырву и собакам выброшу, в пример и урок всем негодяям, чтобы все знали, что двуличие и подлость — главные враги Грузии. Сознательное, обдуманное предательство равняет человека со свиньей, которая и шаху не нужна, ибо магометанам закон запрещает есть свинину!»
Поглощенный мыслями, Теймураз не услышал стука в дверь. Датуна встал и, отойдя от камина, смело открыл дверь — знал, что за дверью стоит стража. Цихистави с почтительным поклоном спросил царя. Теймураз только сейчас заметил пришельца, привстал, ноги спустил с тахты, надел коши и велел цихистави подойти ближе.
— Государь, какой-то юноша просит принять его. Говорит, что зовут его Ираклием, а фамилия — Беруашвили и что тебе его будто Джандиери на Алазани представил.
Царь тотчас встал, ибо сразу понял, в чем дело, на тут же заставил себя сдержаться, нахмурился, провел указательным пальцем правой руки по лбу, обернулся к Датуне:
— Ступай, сынок, погляди, кто там, приведешь ко мне, если сочтешь нужным…
За Датуной последовал Гио-бичи. Царь, сразу догадавшись, кто пришелец, предусмотрительно крикнул им вслед:
— Разговора не затевайте, ведите прямо сюда.
Как только Ираклий вошел в сопровождении всех троих, царь сразу же узнал его, хотя и виду не подал, сдержанно кивнул в ответ на его почтительный поклон.
— Кто ты и что привело тебя ко мне? — спросил царь скорее для уха цихистави, чем для самого пришельца.
Юноша не оробел, понял, что царь не хочет говорить в присутствии посторонних, потому-то кинул выразительный взгляд на окружающих.
Теймураз всем троим велел выйти. Как только двёрь за ними закрылась, царь чуть не налетел на него, уже не сдерживая своего нетерпения.
— Что скажешь, сынок?
— Ничего хорошего, государь. — понурил голову Ираклий и принялся подробно рассказывать обо всем: о встрече с царицей Кетеван в Исфагане, о ее поручении. Не забыл и о том уведомить, что в Исфаган прибыл не племянник Саакадзе, а племянник Зураба Эристави и тотчас бесследно исчез.
Царь как подкошенный грузно опустился на тахту, облокотился на колени и уткнул лицо в ладони, словно окаменел.
Слышно было потрескивание дров в пламени камина и тяжелое дыхание Теймураза.
Ираклий ошеломленно смотрел на царя, терпеливо дожидаясь разрешения на продолжение своего рассказа.
Еще долго царь сидел без движения, будто и не дышал. Затем приподнял голову, тяжело вздохнул и знаком велел юноше продолжать.
— Царица Кетеван велела нам обратно в Грузию ехать, и вместе с нами она отправила Георгия и Лелу.
— Кто такая Лела? — спросил Теймураз, постепенно приходя в себя от первого удара.
Ираклий слегка смутился.
— Лела, государь… жена Левана…
— Жена Левана? Моего Левана? — задумчиво протянул царь.
— Да, государь. Она была беременна, и царица цариц ее отправила вместе с нами.
— Как это — была?
— Я сейчас все по порядку объясню, государь. Скоро будет шесть месяцев, как царица цариц Кетеван проводила нас из Исфагана. Главным в нашем отряде она назначила Георгия, ему же была поручена и Лела. Георгию же велела убить Зураба Эристави… Только мы вышли из города, нас догнал большой отряд кизилбашей. Видно, они следили за нами… Мы многих из них уложили, но и сами понесли большие потери. Георгий сражался как лев… Рядом со мной его зарубили, а я ничем не мог помочь…
— Царство ему небесное! — перекрестился Теймураз. — Рассказывай дальше.
— Мне одному удалось бежать… Лелу связали, всех наших парней поубивали.
— Как же ты уцелел? — испытующе поглядел на юношу царь, хотя в душе сразу ему поверил.
— Я, государь, сообразил, что спасти ее не могу, ибо лежал раненый, истекая кровью. Решил притвориться мертвым. А кизилбаши трех коней поймать не смогли — моего, Лелы и Георгия. Как только стемнело, я собрался с силами, хлебнул несколько глотков красного вина, которое у меня с собой было в матаре[62], поднялся с трудом, едва двигаясь, переползая от одного убитого к другому, поцеловал каждого в лоб, хотя всех так и оставил, не предав земле, да простит мне господь этот грех! Но я обязательно должен был довести до твоего сведения все происшедшее, особенно повеление царицы цариц! Сначала хотел было вернуться к царице цариц, но потом передумал: зачем, только расстраивать ее, ведь помочь она ничем не могла! Да и Лелу увезли живой, она женщина сильная, найдет способ, как сообщить обо всем царице цариц…
— Ты говоришь, это случилось шесть месяцев назад? — задумчиво спросил царь.
— Да, государь, ровно шесть месяцев прошло с того проклятого дня. Я скрывался у курдов, они хорошо меня приняли, на ноги поставили. Как только перевал открылся, я поспешил домой.
— А не было ли за это время вестей из Исфагана?
— Курды сами взялись разузнать что-либо… — Ираклий запнулся, но решил сказать все, что знает, какой бы ни была горькой правда. — Они виделись с царицей цариц Кетеван… Она едва жива от горя: царевичи Леван и Александр исчезли бесследно, пока она была на приеме у шаха… — После паузы он добавил громко и твердо: — И еще повелевала царица цариц Кетеван, чтобы немедля прикончили Зураба Эристави… — потом продолжил, понизив голос: — Через курдов она велела мне передать, что если мне не удастся увидеть тебя, мало ли что… то… самому собственноручно выполнить ее наказ или же грузину какому поручить, а нет, курдов попросить о выполнении этого дела. Вот этот золотой крест, — Ираклий достал из-за пазухи завернутый в платок большой золотой крест, усеянный драгоценными камнями, и бережно поднес его царю. — Царица велела отдать этот крест тому, кто свершит благое дело, сим крестом освященное, — убьет предателя!
Теймураз склонился к кресту, благоговейно приник к нему губами.
— Все-таки в чем винит царица Эристави? Что тебе лично известно об этом?
— Эристави донес шаху, будто ты, государь, послал к русскому царю людей из Мухрани… Просил у него помощи против шаха… И сообщил об этом Аббасу вовсе не Саакадзе через своего племянника, а сам Эристави… Сына своего ослепленного брата отправил с вестью, зная заранее, что шах любит получать вести, зато не любит вестников. Эристави послал того самого племянника, который раньше к султану ездил с поручением и поэтому не знал о том, что Зураб с его отцом сделал… Эристави двух зайцев убил — две подлости учинил сразу…
Теймураз снова поцеловал крест, бережно завернул его в платок и спрятал на груди у самого сердца.
— Клянусь тобой и сыновьями моими, мать моя, царица цариц, что я выполню волю твою и народа моего…
Теймураз поднялся с тахты, обнял Ираклия, по-отцовски поцеловал его в лоб.
— А что тебе известно о той девушке? — спросил он так осторожно, словно касался какой-то тайны.
— О Леле? — смущенно уточнил юноша, потупясь. — Да.
Ираклий заколебался, устремил на царя страдальческий взор, но прямой, твердый, волевой взгляд Теймураза немедленно придал ему смелости.
— Лелу увезли живой. Она двух кизилбашей зарубила, но с нее свалилась чалма, волосы упали на глаза, она только руку подняла, чтобы убрать их со лба, как ее схватили… связали. Я хотел сделать что-нибудь, но не мог — истекал кровью… Курды сообщили, что царица цариц знает о ней все: Лелу держат в шахском гареме взаперти… — закончил свой печальный рассказ Ираклий, тяжело вздохнув напоследок.
Волевой взгляд Теймураза сразу погас, все человеческие силы были уже исчерпаны сполна. Он опять тяжело опустился на тахту и уронил голову на грудь.
И в эту минуту за окном загремели первые раскаты весеннего грома.
* * *
Лелу заперли в подвале дворца Чехель-соттун. Два дня и две ночи она не пила ничего и крошки во рту не держала. Дворец еще не был достроен, то и дело доносился стук молота или топора. Этот изнуряющий душу стук, неотвязные мысли, тоска и усталость мешались в ее помраченном сознании. Она то садилась на своем жестком ложе, то ложилась, ибо ходить у нее не было сил. На рассвете и на закате ее навещал евнух в сопровождении сторожевых, который аккуратно уносил не тронутую ею пищу, оставляя взамен свежую.
На третье утро вместе с евнухом в келью вошла красивая, хотя и не первой молодости женщина. Тонкие черты ее лица, грустное сияние глаз, бледное чело, казавшееся еще бледнее в тусклом свете подвального освещения, показались Леле знакомыми, даже родными. Весь ее облик стал как бы целебным бальзамом для истерзанного сердца Лелы.
Женщина плавной, скользящей походкой подошла к тахте и присела на край, будто близкая родственница, которая и вчера приходила в эту обитель.
Евнух, закончив свое дело и выйдя в коридор, бесшумно прикрыл за собой дверь, а по отсутствию звука шагов было ясно, что ни он, ни сторожевые не уходили и тихо стояли за дверью, дожидаясь женщины.
Она подняла лицо Лелы своими холеными пальцами, заботливо заглянула ей в глаза, нежно поцеловала в лоб и прошептала:
— Лела?
Лела слегка смутилась. Собрав последние силы, встала, отошла в сторону.
— Не бойся, дитя мое, — сказала женщина, которая никак по возрасту не годилась Леле в матери. Это ласковое обращение было скорее знаком расположения и ее сердечного отношения к ней. — Я дочь царицы цариц Кетеван, Елена, тетушка Левана, Александра и Датуны… Жена шаха… Меня послал к тебе Аббас…
— Что с Леваном? — горячо спросила Лела.
— Ради Левана я и пришла сюда. Шах знает, что ты жена Левана, причем венчанная жена… Он узнал это от меня, ибо моя мать просила, чтобы я именно так ему сказала.
— Где Леван? — повторила Лела, будто не слышала слов Елены. Она держалась независимо и твердо, словно не было бессонных ночей, голода и страданий.
— Я сейчас все скажу, не спеши, — поторопилась Елена уступкой расположить ее к себе, ибо поняла, что с этой девушкой найти общий язык не так-то просто. — Леван и Александр исчезли… Как видно, их спрятал шах. Мы с матерью ищем их повсюду, но пока безуспешно. Я спросила шахиншаха, он мне не ответил. Сегодня он сам позвал меня и послал к тебе: если, говорит, она примет истинную веру, я возьму ее в жены, а Левана и Александра верну царице.
— Я жена царевича и скоро буду матерью наследника престола… Скоро, — гордо произнесла девушка из Кизики.
Елена испуганно оглянулась на дверь и еле слышно прошептала:
— Смотри, держи язык за зубами, никому не говори, что ты ждешь ребенка, никто не должен об этом знать. Так будет лучше для тебя, для ребенка и для Левана. Согласись принять их веру, этим ты никакого предательства не совершишь. Отсюда ты все равно не выйдешь — и не пытайся. Родишь ребенка, мы вместе вырастим его достойным сыном родины. От еды не отказывайся, если о себе не думаешь, подумай хоть о ребенке. Беременность твоя пока незаметна, шах будет считать младенца своим… Остальное — время покажет, — коротко и быстро наставляла ее Елена. — Я еще приду к тебе… скоро… А сейчас мне надо идти. Здесь мне долго задерживаться нельзя. Поступай, как я сказала! — решительно заключила она как истинная дочь Багратиони, накинула на плечи шерстяную шаль, поцеловала пришедшую в себя Лелу и исчезла так же внезапно, как и появилась.
Лела долго стояла в глубокой задумчивости, потом наклонилась, поставила еду на тахту, нехотя отщипнула кусочек… Аппетит, известно, приходит во время еды, и она быстро съела все до последней крошки, запивая еду шербетом. Закончив трапезу, легла на тахту и сразу же погрузилась в глубокий сон.
Разбудило ее бряцание ключей. Она вскочила. Дверь отворилась, и с фонарем в руках вошел тот самый евнух, который приносил ей еду.
«Это, должно быть, верный раб шаха», — мелькнуло в голове у Лелы.
— Вставай, пошли!
— Куда?
— Во дворец шахиншаха Али-Кафу. Елена приказала привести тебя.
Лела последовала за ним.
Они шли по заснеженному саду, ноги Лелы в шерстяных носках и чувяках слегка промокли, хотя шли недолго. Миновав длинный, тускло освещенный коридор, поднялись по узкой витой лестнице, повернули направо и очутились в жарко натопленной комнате, отделанной белым мрамором. Евнух передал Лелу Елене и еще нескольким женщинам. Сам вышел в коридор с двумя сторожевыми.
Женщины быстро раздели Лелу и усадили ее в небольшую мраморную ванну, вымыли волосы яичным желтком, ополоснули уксусом, все тело тщательно натерли шерстяной рукавицей, обдали теплой розовой водой.
— Прекрасное тело у тебя, дитя мое, и пища пошла тебе впрок: лицо порозовело немного, — заметила Елена, когда Лелу уже заворачивали в банную простыню.
— Лицо у меня всегда розовое, — буркнула под нос Лела.
— Ну, смотри, будь умницей, шахиншах не терпит капризов, но и сразу не уступай, дай ему проявить настойчивость.. — Елена наклонилась и зашептала ей в ухо, — все хорошо, живота совсем не видно. Помни, что судьба Левана и Александра в твоих руках.
Прислужницы заплели длинные густые волосы Лелы в две косы, опрыскали ее благовониями, накинули парчовый халат на голое тело, сунули ее босые ноги в нарядные коши и передали слегка ошеломленную Лелу в руки дожидавшегося у дверей евнуха.
Еще раньше, когда ее вели через сад, и позднее, во время купания и туалета, в голове у Лелы вертелась одна-единственная мысль — сделать все, чтобы спасти Левана, смириться с судьбой во имя будущего ребенка. Ни о чем другом она думать не могла. «Если сестра Теймураза Елена живет здесь, в гареме, то обо мне и говорить нечего. Все равно с Леваном бы меня разлучили. Кому сказала бы и кто бы поверил, что хан не прикасался ко мне! И потом разве Багратиони приняли бы меня, простую кизикскую безродную девицу, в свой круг? Леван для меня — та самая недосягаемая звезда, которая издали ослепляет своим сиянием, а вблизи опаляет и сжигает. Значит, богом велено томиться мне в гареме. Из двух стариков — старого хана и старого шаха — я обязана отдать предпочтение шаху, ибо шах чуточку выше хана, будь он проклят во веки веков!»
... Они остановились возле дверей, которые охраняли двое сторожевых, вооруженные щитами и копьями.
Евнух без спроса и без стука юркнул под низкую арку дверей, оставив Лелу за порогом. Вскоре дверь отворилась, и тот же евнух знаком велел ей войти.
Не очень-то большой зал поражал роскошью убранства, В золотых подсвечниках горели свечи, причудливые блики пламени падали на богато расписанные стены. Пол был устлан огромным персидским ковром. На широкой мягкой и низкой тахте, разубранной шелком и парчой, в парчовом же халате и шальварах возлежал шах Аббас, нежась в полудремоте. Правой рукой он подпирал голову, в левой держал кальян. Кончики крашенных хной усов шаха были искусно закручены, на волосатой груди его снежной порошей выделялась седая щетина. Близко посаженные глаза под густыми раскрыльями бровей были полузакрыты, раздвоенный подбородок и чуть горбатый орлиный нос явно выдавали его упрямый характер и крутую волю.
«И вовсе он не так уж грозен, как о нем говорят. Сегодня же заставлю его выпустить Левана на волю», — подумала Лела, внимательно разглядывая великого тирана Востока.
В шахских покоях было тепло. Во всех четырех углах уютно потрескивали камины.
Евнух аккуратно подложил дрова во все камины, в одном из них поправил огонь, а затем, не спеша, направился к Леле и протянул руку, чтобы снять с нее халат. Лела отпрянула, но сразу поняла, что сопротивляться не имеет смысла… Она подчинилась, и евнух, ловко стащив с нее халат, унес его с собой, удаляясь прочь.
Когда дверь за ним затворилась, в зале воцарилась тишина, нарушаемая лишь легким потрескиванием пламени в каминах — дрова были сухие.
Было жарко. Аббас не отрывался от кальяна. Обнаженная Лела стояла, опустив голову, в двух шагах от тахты, на которой с ленивой истомой возлежал шах.
Спал Исфаган, но не спал дворец Али-Кафу.
«Должно быть, и царица Кетеван не спит… И Левану, наверное, не до сна… Где он его держит, узнать бы! Да увидеть еще хотя бы раз! Как мало ласкала я его в ту ночь! Но мне есть хотя бы что вспомнить, а бедняжка Елена небось и не видела никого, кроме этого проклятого старика! И чего разлегся, как дохлый пес, и даже не глядит в мою сторону. Взять бы что потяжелее да раскроить его поганую башку! Нет, нельзя… Да и нет ничего подходящего под рукой… Если только кальян у него вырвать… Нет-нет! Он тогда Левану мстить будет, на нем это выместит. Но до каких пор я должна стоять перед ним, словно собачонка?!»
Шах Аббас был занят кальяном, в четырех каминах плясало пламя, в покоях было жарко, душно…
На трехногом столе перед тахтой красовался огромный серебряный поднос с фруктами. Горделиво возвышались два длинногорлых кувшина с шербетом. На серебряном блюде истекали соком ломтики арбуза и дыни. По другую сторону тахты, на небольшом столе, паром отдавали блюда с изысканнейшими яствами восточной кухни. При виде еды Лела почувствовала тошноту, а потому поспешила снова опустить голову, чтобы не смотреть на пищу.
Шах Аббас посасывал свой кальян, в камине потрескивал огонь, в покоях было жарко, невозможно было дышать, сердце замирало.
Лела боролась с подступавшей к горлу тошнотой.
Шах сначала поглядел на нее искоса, по-кошачьи сощурившись. Потом глаза его расширились, заблестели. Он отложил кальян и, приподнявшись на тахте, сунул ноги в расшитые золотом коши, бросил на Лелу взгляд, на этот раз уже звериный, от которого у нее мороз пробежал по коже.
— Поди ко мне! — проговорил он по-грузински едва слышно, почти шепотом.
Лела не двинулась с места. Какая-то сила удерживала ее — ведь до этого она едва сама не подошла к шаху, измученная ожиданием неизбежного.
— Поди ко мне! — чуть громче повторил шах, и в голосе его появилось что-то похожее на ласку, вперемешку с железным повелением.
Ноги сами по себе задвигались и подвели ее к тахте. Шах ловко обнял ее за талию и усадил рядом. Однако не успела она опомниться, как он сильным движением левой руки мягко уложил ее на тахту, затем привстал, аккуратно поправил подушки, постель и подтянул ее чуть выше.
Лела слегка дрожала, по телу ее пробегал озноб, кожа покрылась пупырышками. Нет, то был не озноб страсти и не озноб холода… Она страдала от дурноты, от слабости, ей было тяжко и тошно. Душу ее клеймили каленым железом, плоть рвали тоже калеными клещами, усердно топтали ногами честь и достоинство гордой кизикийки. Она задыхалась от злости, бессилия и горечи.
В комнате стояла жара… духота… злоба.
«Леван, мой Леван! Где ты, помоги мне, убей меня, изничтожь! Я жажду одной лишь смерти, но смерти такой, которая бы не принесла тебе даже капельки вреда!»
— Что вразумило тебя и привело ко мне столь кроткой?
— Ненависть! — невольно вырвалось у Лелы.
— И что ты собираешься делать с этой ненавистью? — оживился шах.
— Убить тебя!
— Убить меня или твоего Левана?
— Леван больше не мой, ибо и я больше не принадлежу ему.
— Отчего же не твой? Вот я велю оскопить его, а потом живите вместе до конца дней своих.
Лела содрогнулась, слегка приподнялась, ее вспыхнувший взгляд мгновенно остановился на кальяне.
Аббас понял, что у нее мелькнуло в голове, — отставил кальян чуть подальше, потом наклонился, поцеловал ее в левую грудь бесконечно долгим и нежным поцелуем…
Лела без сил откинулась на парчовые подушки…
Шах снова выпрямился.
Лела преодолела женскую слабость, сознание ее сразу прояснилось.
— Оскопленный Леван будет более преданным, более домашним, более смиренным, более ласковым. И тревожить тебя вовсе не будет, лишь только о твоем удовольствии заботиться станет. Коли понадобится — сам тебе куро[63] приведет, в постель к тебе уложит, обоим вам угодить постарается…
— Скопцы мне не нужны, повелитель мира! И о Леване я вовсе не думаю. Если можешь, делай свое дело, а не можешь — отпусти добром.
Аббас засмеялся. Горький это был смех.
Лела приподнялась и сплюнула на ковер.
Аббас нахмурился, скрюченным указательным пальцем правой руки провел по лбу и вдруг, весь задрожав, как бешеный, набросился на Лелу.
Лела заупрямилась, сама не отдавая себе отчета. Тогда он ударил ее в грудь кулаком с такой силой, что у нее перехватило дыхание. «Если бы он ударил в живот, убил бы ребенка», — мелькнуло у нее в голове, едва она пришла в себя, и со всей силой, на которую была способна, снизу два раза подряд ударила шаха правым коленом…
Шахиншах, повелитель Вселенной, как подкошенный рухнул на женщину. Лела отбросила его отяжелевшее тело, и, поскольку она не рассчитала свои силы, шах свалился с тахты на пол. Лела вскочила как обезумевшая, схватила кальян и только хотела опустить его на голову шаха… как ее руку схватили вбежавшие на шум телохранители. Обнаженная кизикийская амазонка, сраженная пудовым кулаком, без чувств упала на исфаганский ковер… рядом с повелителем Исфагана… в Исфаганском дворце.
... С того дня Лелу больше никто не видел, и никто о ней ничего не слышал. Правда, один из евнухов перед смертью исповедался в пекарне дворца Али-Кафу.
«Воды Зандеруда, — сказал он, — поглотили многих, сброшенных на его дно с камнем на шее…»
И еще одно: после той ночи шахиншах больше никогда не заглядывал в свой гарем. И жен постепенно раздаривал своим преданным приближенным. И бывал при этом милостив необычайно, не заботясь более о приобретении новых жен.
* * *
Шло время. В Исфагане весна ласкала землю. Сад Чехель-Соттун пробуждался к новой величественной жизни, наспех покрываясь нежно-изумрудной листвой.
Из сада до шахской площади достигало соловьиное пение и доносился аромат распустившихся цветов.
Весеннее солнце льнуло своими горячими лучами к сверкающему всеми цветами радуги куполу новой мечети Масджад-э-джомэ, горделиво возвышавшейся на столичной площади. Старые мечети смущенно потупились перед ее величием, хотя стараниями зодчих каждая из них, подобно не похожим друг на друга красавицам, могла свободно похвастаться собственной изящной резьбой и прихотливым узором. Минареты Чехель-Дохтарана и Серебана все еще не хотели сдаваться и тщетно пытались соперничать красотой и величием с новой мечетью.
Караван-сараи, переполненные пестрым и разноязыким торговым людом, днем беспрерывно гудели, словно пчелиные ульи, побеспокоенные человеческой рукой.
По ночам молодая луна нежным мерцанием обласкивала притихшие кварталы города. Разлившийся Заиндеруд усердно омывал два противоположных берега стольного города, соединенных друг с другом мостом Алаверди-хана.
Шелест молодой листвы чарующей песней сливался с весенним рокотом полноводной реки.
В городе время от времени можно было услышать стук молотков неугомонных чеканщиков и мастеровых. Постоянная суета восточного ремесленника ощущалась лишь в глухих переулках и улочках, вытянутых в пестрые ряды кварталов, плотно обступающих главную площадь. В центре, в непосредственной близости от шахской площади, раздавался глухой шум, производимый каменотесами, да и тот сразу тонул в цветущих садах.
Прохладная ночь опустилась на Исфаган.
Царица Кетеван и эту ночь проводила без сна в своем затворничестве. Из некогда многочисленной свиты теперь при ней остались лишь прислужницы и два старика аробщика. Люди, которых она посылала на поиски царевичей, обратно не возвращались, исчезали бесследно в этих волшебных дебрях города-сада. Поздно поняла отчаявшаяся царица, что понапрасну рассеяла свою свиту, а когда поняла, то ее утомленная горестями душа уже не в состоянии была переживать что-либо — она больше не нуждалась ни в свите, ни в тех прислужницах, которые по очереди читали ей вслух «Вепхвисткаосани» — «Витязь в тигровой шкуре».
Вот и сейчас старательно выговаривала Тамро мудрые слова великого Руставели, но царица их не слышала. Сознание ее мутилось, мысли то и дело пресекались, путались.
Бессонница вконец ослабила ее. Бессонница и отказ от пищи. И еще одиночество.
Визирь больше не появлялся. Связь с дворцом Али-Кафу прервалась.
Не приходил и тот евнух, которого она видела на четвертый день после роковой встречи с шахом. С тех пор он больше не показывался, и царица не получала никаких вестей от дочери.
Тамро догадывалась, сердцем чувствовала, что царица не слушает ее, но упорно продолжала читать, ибо ничем иным она не могла отвлечь свою повелительницу.
В дверь постучали. Царица вздрогнула.
С того дня, как пропали Леван и Александр, в дверь никто не стучал. Посторонние Кетеван не посещали, а свои давно входили без стука, ибо постепенно привыкли к тому, что царица все равно на стук не отзывалась.
Оттого и вздрогнула отвыкшая от посетителей царица и вопросительно взглянула на Тамро, но приказания, однако, никакого не отдала. И знака не подала.
Тамро быстро поднялась с низкой трехногой скамьи, не спрашивая, кто там, отворила дверь и в испуге попятилась: на пороге стоял человек богатырского роста, могучего сложения, в богатой персидской одежде. Его красивое мужественное лицо выражало доброту, в больших светлых глазах таилась грусть.
— Можно? — почтительно спросил гость на правильном грузинском языке и, не дожидаясь ответа, переступил порог, приветствуя царицу с соблюдением всех тонкостей восточного ритуала.
Кетеван встала, приблизилась к незнакомцу. Тот опустился на колени.
— Кто ты и зачем пришел сюда? — спросила дрогнувшим от волнения голосом.
— Беседа наша будет долгой, государыня, потому-то я хотел бы остаться наедине с тобой.
Тамро вышла, плотно затворив за собой дверь. Царица подвинула гостю скамью, а сама опустилась на тахту. Тот сел, положив саблю на колени и отставив ногу. Потом, кашлянув, тремя пальцами правой руки провел по усам и медленно заговорил:
— Меня зовут Дауд-хан, я сын Алаверди-хана из; рода Ундиладзе.
Не сводившая с гостя пристального взгляда царица вдруг опомнилась будто и сразу прервала его:
— Ты ведь был там… в тот день… когда мы дожидались шаха… когда я…
— Да… я был среди тех, кого вызвал шах… Go Мной был и мой брат Имам-Кули-хан бегларбег Парса, правитель южной Персии — наместник шаха в Ширазе…
— Что известно тебе о Леване и Александре? i — не удержалась, торопливо спросила Кетеван.
Дауд-хан провел рукой по усам и спокойно, как бы сдерживая царицу, ответил:
— Я все скажу тебе… Только не спеши… И не волнуйся. Я пришел к тебе как посланец брата и твой зять.
Кетеван вздрогнула.
— Мой зять?
— Да! Сейчас объясню. Наш отец, Алаверди-хан, да благословит его аллах, был родом из Кахети, сверстник царя Александра, Ундиладзе были крепостными крестьянами князей Джорджадзе. Что значит по-грузински «ундили»[64] — ты хорошо знаешь. После битвы при Лори мой отец совсем еще юнцом попал в плен. Цену за него запросили большую, так как был он богатырски крепок и смекалист… Попал он в конце концов в кизилбашское войско, в бою показал себя храбрым воином, поддержал шаха Аббаса, когда тот боролся за престол, и своим усердием и мудростью добился, что его назначили сардаром вновь созданной шахской гвардии. О роде нашем — об отце, конечно, — писали много, персидские книжники и летописцы утверждали, будто мы князья, но это ложь. Мы самые обыкновенные крестьяне, но шах Аббас велел называть нас грузинскими князьями — не хотелось ронять свою честь возвышением бывших крепостных при своем дворе. Знает он что к чему, не остановится ни перед кем и ни перед чем… И то, что про нас поговаривали, будто мы армяне по происхождению, тоже неправда. Мать у нас действительно армянка, похищенная отцом из Сигнахи, обоих сыновей она по-грузински воспитала, ибо другого языка не знала, даже персидскому научиться не смогла. — Дауд-хан поглядел на книгу, оставленную на столе служанкой, и добавил: — И «Вепхвисткаосани» наша мать наизусть знает, и нас выучить заставила, аллах да продлит ее дни на радость сынам, внукам и правнукам.
Когда шах замыслил свой первый поход на Кахети, отец сначала умолял его не делать этого, потом, не добившись его вразумления, заупрямился, против шахской воли пошел. Шах разгневался, но поделать ничего не мог — слишком много заслуг было у отца и перед шахом, и перед всей Персией. Самый большой мост в Исфагане отец мой построил. Много мечетей и караван-сараев возвел на свои средства. И торговля при нем расцвела, каналов он прорыл великое множество и дорог немало выстроил. Исфаган, можно сказать, наполовину им построен, если не более.
Так вот, накануне нападения на Кахети… — Дауд-хан будто запнулся, настороженно огляделся и, еще больше понизив голос, почти шепотом продолжал: — Шах Аббас велел убить нашего отца. Мы, его сыновья, это знаем, но держим язык за зубами — другого выхода у нас нет. Он нас не обделяет своими милостями и вниманием, не дает повода для обиды и причину смерти отца объяснил нам обоим так: будто бы страдал он неизлечимым недугом. Но мы-?? хорошо знаем, что это был за недуг! — Дауд-хан вмиг пригасил вспыхнувшее было в его глазах пламя мщения.
В сердце Кетеван шевельнулась слабая надежда. Однако, не желая проявлять нетерпение, уже подмеченное гостем, она молча внимала ему.
— Ныне я бегларбег Гянджи и Карабаха, а брат мой занимает место отца и пользуется большим доверием шаха. Он спокойнее, чем я, относится к памяти отца… Мне тягостно находиться возле шаха, что наверняка чувствует и он сам, потому-то и держит меня в отдалении, хотя и я не даю ему повода для сомнений в моей преданности. Таков непреложный закон нашей жизни…
В тот день, когда тебя, государыня, призвали во дворец вместе с царевичами, приглашены были также и мы с братом. Я ехал издалека, поэтому брат и присутствующие там другие сардары ждали меня два дня и две ночи. Никто из них не знал, по какой причине мы понадобились повелителю. Лишь когда ты вошла к шаху, дворцовый визирь сообщил нам шахскую волю: мы должны были схватить царевичей и увезти в имение брата моего в Шираз… Других он оставил в покое, поручение возложил именно на нас, чтобы испытать на прочность и преданность нас, братьев Ундиладзе. Если бы мы отказались, другие присутствующие там сардары схватили бы нас. Брат мой это сразу смекнул и, как только заметил, что я хочу воспротивиться повелению повелителя, глазами дал мне знак. Таков еще один непреложный закон нашей жизни: при шахском дворе лучше разговаривать глазами, молча, без слов, чем вслух, языком…
— Что вы сделали с детьми? — вновь уступила царица Кетеван бабушке Кетеван.
— Я все скажу… Ты, царица, еще находилась у шаха, когда мы увезли царевичей в Шираз. Меня с полпути вернули назад, и на третий день по велению шахиншаха я предстал перед ним. Он похвалил нас за верную службу и мне в награду… дал в жены твою дочь Елену.
Кетеван с надеждой взглянула на Дауд-хана.
— Куда ты отправил Елену? — спросила она надтреснутым от сдерживаемого волнения голосом.
— Я тогда же отправил ее в Гянджу, ничего не сказав ей о царевичах. Сам поехал в Шираз и узнал от брата, что, выпроводив меня, шах послал ему повеление… Мне трудно говорить об этом, но не сказать тоже не могу, прости, государыня… Меня прислал к тебе брат… Оба царевича оскоплены… Сейчас они в Ширазе, во дворце у брата… хотят тебя видеть…
Сидящая на тахте царица рухнула без чувств, ударившись лбом о каменный пол, из носа хлынула кровь. Дауд-хан тотчас поднял ее, уложил на тахту и, хлопнув своими огромными ручищами, вызвал служанок.
Поднялся переполох, все захлопотали возле царицы. Дауд-хан отвел в сторону старого аробщика Гиголу:
— Когда царица придет в себя, скажи, что завтра, как стемнеет, я приведу лошадей и отвезу ее туда, куда влечет ее сердце. Пусть никому ничего не говорит, имени моего не называет. Мой визит должен остаться тайной.
От царицы Кетеван Дауд-хан отправился во дворец Али-Кафу, передал визирю письмо Имам-Кули-хана для вручения повелителю:
«Повелитель Вселенной… Спешу успокоить твое сердце, подобное солнцу, и душу, подобную ослепительному сиянию луны. На следующий же день по прибытии в Шираз мы обратили обоих юношей на путь преданного служения тебе, согласно воле твоей и аллаха, а потому, что юноши были уже взрослые, потому-то тяжело перенесли угодное тебе и аллаху дело. Хотя наш лучший лекарь приложил все свои старания и был весьма осторожен, но несмотря на это жизнь обоих царевичей в опасности, поэтому-то, предупреждая твое желание, я отрядил брата моего, верного раба твоего Дауд-хана, к царице Кетеван, ибо ее внуки в любой день и в любую ночь могут быть призваны к аллаху, так пусть она своими глазами увидит плоды непокорства сына, пусть вразумит Теймураза, дабы ослепились глаза его, взирающие на Север, и дабы внимал он одному лишь повелителю Вселенной, а кроме этого пусть и сама царица наберется ума-разума и примет истинную веру твою и нашу, ибо они неделимы, и станет верной рабой аллаха и Магомета, ежели хочет она добра для Кахети и Картли, для всего народа грузинского путем обращения их всех в истинную веру, а потому, и именно только потому, согласно соизволению и желанию твоему, Дауд-хан привезет царицу в Шираз и покажет ей внуков, ежели нет на то твоего согласия, то Дауд-хан немедленно покинет столицу и отправится в Гянджу служить тебе и аллаху.
Твой раб и слуга аллаха Имам-Кули-кан».
Шаху не понравилось письмо. Он вовсе не повелевал показывать оскопленных царевичей царице Кетеван, этого он не хотел, и Имам-Кули-хан явно своевольничал. Но письмо дышало преданностью, повеление его было выполнено, и потому он промолчал: лишь кивнул визирю и отпустил его, сам же предался привычным в последнее время размышлениям, частенько заменявшим ему прежние действия.
«Чего он добивается? И чем Кетеван может помочь внукам или ему самому? Может, в глазах Теймураза обелить себя таким образом хочет? Но как Теймураз ему поверит, когда он сам оскопил его двух сыновей? Нет, братья Ундиладзе, я вас скоро выведу на чистую воду! Пожертвовав этими двумя щенками, вы мне своей преданности не докажете! В знак преданности я потребую других доказательств. Сквозь огонь аллаха велю вас провести. Я вас живьем предам огню. Тебя особенно, последыш! Ишь, глазами сверкает, глаза у тебя истинно грузинские. Я эти глаза тебе выжгу и как обезьяну На цепи водить буду по всей Персии и твоей Грузии. Ладно, ладно, вези царицу в Шираз, покажи ей щенков, пусть набираются Багратиони уму-разуму, так даже и лучше, но и то не забывай, Имам-Кули-хан, как я однажды об отце твоем сказал, как будто бы в шутку: „Вся Персия мне подчиняется, а я сам Алаверди-хану подчиняюсь“. Именно то „подчинение“ и послужило причиной того,???? ваш отец с жизнью преждевременно простился. И тебя я недавно предупреждал: „Ты хоть на одну драхму меньше меня трать, чтоб народ видел разницу между шахом и ханом“. Не понял, Ундиладзе, что я тебе сказал? Ты расписываешь Чехель-Соттун мне в угоду, ты каналов проводишь больше моего, дороги прокладываешь, караван-сараи строишь, подражая своему отцу, на пирах больше меня самого показываешь золотые и серебряные азарпеши, подносы, чаши, блюда, кичишься коврами, оружием, драгоценностями. Тебя восхваляют авторы „Джангнамэ Кишми“ и „Парун-намэ“, тебя воспевал мой лучший поэт Кадри! Я уничтожу тебя, Имам-Кули-хан, уничтожу вместе со всем родом твоим за талант и сметку! Разве ты не знаешь, что именно даровитость надо таить и скрывать от повелителя своего!.. Ты сейчас хочешь добро личное, собственное совершить — царице внуков ее показать. Что ж, я тебя за это проучу! Я тебя заставлю своими руками и царицу твою замучить, чтобы ты перестал смотреть в сторону Грузии, как щенок писклявый! Одним необдуманным шагом можно перечеркнуть тысячу доказательств преданности, болван! Сначала ты сам, самовольно, собственное решение принял, а потом у меня письмом своим разрешения просил? Знал, что в такой мелочи я не откажу тебе, но зарвался — захотел дорогу мне перебежать, как щенок того матерого волка! Так не забудь: ты еще позавидуешь той награде, которую этот матерый волк от меня получил за волчью преданность свою! Не только царицу, а самого родного твоего брата я заставлю тебя своими руками пытать и истязать!»
…Шах Аббас ласково, милостиво принял Дауд-хана, спросил о Елене, подарил халат, брата велел благодарить за мудрую преданность и великую смекалку, которую он проявил, пригласив царицу Кетеван в Шираз.
Такой был обычай у владыки Востока, повелителя Вселенной, шахиншаха: одно он думал, другое говорил, третье делал, четвертое подразумевал, пятое замышлял…
Таков был обычай сильных мира сего.
В Исфагане благоухала весна.
* * *
В ущелье Риони[65] неистовствовал осенний ветер, громом сотрясая все встречное. Он клонил долу деревья, гнул, сгибал, трепал, ломал поредевшие кроны, гонял стаи сухих желтых листьев, бесновался, не оставлял в покое ни одно движимое и недвижное, свистел протяжно, дико. И лишь с Гелати[66] и Риони ничего поделать не мог — неколебимо стоял Гелати, а Риони не убыстряли не замедлял величавого своего течения. Разбиваясь о купол Гелати, ураган терял былую силу и бесславно отступал, готовясь к новой атаке, и только гордую гриву Риони удавалось ему растрепать слегка, да и то лишь в тех местах, где волны замедляли свое стремительное течение вперед. Вечно неприступной твердыней Грузии недосягаемо, величаво стоял Гелати, неторопливый сказ о прошлом страны вел неиссякаемый источник жизни — Риони, спускавшийся с вершин Кавкасиони в цветущую долину Колхиды.
Ветер яростно бился о стены Кутаисского дворца, проносился по опустевшим балконам, обвивал, завихряясь, столбы и перила, врывался в окна, завывал в дымоходах, свирепел от бессильной ярости, тщетно сотрясая кровлю, хотя был далеко не бессилен. Сломал где-то старый платан, с корнями выворотил кипарис, беспощадно свалил сосну, посаженную в день рождения царевича Александра. Помял все цветы в царском саду, по лепестку ощипал розы, донага обобрал яблони и грушевые деревья.
В большом зале дворца за столом сидели пятеро: царь Георгий, царевич Александр, Кайхосро Мухран-батони, Георгий и Автандил Саакадзе. Стол, покрытый синим переливающимся атласом, ломился от яств. Имеретинский двор не ограничивал себя ни в чем.
Хозяева — отец с сыном — сидели по одну сторону стола, гости расположились напротив.
Беседа текла медленно, тяжеловесно, спокойно.
— Первую ошибку, моурави, ты допустил, когда замыслил Базалети… Вторую — когда воплотил этот замысел… Третью — когда…
— Сбежал?..
— Хотя бы так… — холодно отрезал царь.
Моурави вяло кашлянул, но получилось звучно, провел пальцами по усам, искоса взглянул сначала на своего Автандила, затем в упор устремил взор прямо в глаза царю имеров, который, продолжал все так же сурово:
— Во-первых, ты, Георгий-батоно, не должен был затевать это дело, а коли уж затеял — надлежало тебе стоять на своем до конца. Не мне тебя поучать, конечно… но ныне все обернулось на пользу Теймуразу, и я оказался пред ним посрамленным… И твой замысел, вроде и благой, не осуществился… Ты думал, что Теймураз отступит, не примет боя… Я же в это с самого начала не верил. Багратиони, да еще кахетинские, на попятную никогда не пойдут… особенно же сам Теймураз не уступит никому и ни в чем.
Царь Георгий помолчал, легонько постучал по столу длинными красивыми пальцами.
Саакадзе, который сидел понурясь, как побежденный пред грозным судом, — ибо не судят только победителей, и то не всегда, но наверняка не щадят потерпевших поражение, — вдруг высоко поднял голову, взглянул сначала на Кайхосро Мухран-батони, а потом перевел взгляд на имеретинского царя.
— После встречи в Схвило Теймураз неизмеримо вырос в моих глазах… Я твердо понял, уверовал, что он больше царь, чем поэт. Убедился я и в том, что в самые трудные, в тяжелейшие времена истории родины пришлось царствовать ему. Если бы он вступил на престол немного раньше или позже, когда Персией не правил бы шах Аббас, он много пользы сумел бы принести отечеству. Но дело в том, что персидский двор никогда не был таким могущественным, как сейчас, а правителя такого дальновидного и мудрого, хотя и кровавого тирана, никогда у них не было…
— Источник этой мудрости — жестокость, — перебил его имеретинский царь.
— Пусть так, — устало кивнул головой Саакадзе, — но и уступчивый да милосердный не может быть хорошим правителем. Если у правителя при виде страданий раба наворачиваются на глаза слезы, и сердце сжимается от ужаса человеческого, и дух захватывает при виде крови, он никогда мудрых дел не совершит, ибо мудрость и беспощадность два родных брата, и мудрого дела без жертв не бывало, нет и не будет никогда. Без жертвы великому делу не бывать!
— Это верно, кто воздерживается от жертвы — на-, верняка воздерживается и от великого дела, не рискуя, он никогда не добьется большого успеха.
— Но не годен и повелитель, идущий на бесконечные жертвы… Вот отец братьев Ундиладзе, Алаверди-хан, с помощью которого Аббас стал шахом… Он считал, что Аббас ему вечно будет обязан, возгордился, вознесся. Аббас понял, что остановить его будет трудно, а потому убрал с дороги. Оба брата прекрасно знают, что их отец — жертва шахского коварства, и Аббасу известны их сокровенные мысли, но обе стороны лицемерят, не хотят напрасного и чрезмерного кровопролития, хотя сегодня или завтра что-то должно непременно случиться… Шах тоже прекрасно понимает, что он уже не тот, что был прежде, и время властно над всеми, но и Имам-Кули-хан тоже не молод.
Теймураз знает все это, я потому-то и хотел вначале поддержать его, но переоценил свое значение для него… Он в советчике не нуждается, слишком уж своеволен…
— Этим своеволием он христианскую веру обороняет в Картли и Кахети, а христианство оборонять — это и значит оборонять родину, оберегать язык и мысль родную, — подчеркнул имеретинский царь.
— Это я знаю… — глубоко вздохнул Саакадзе, судя по всему, он собирался держать длинную речь, а теперь если не запутался, то сбился хоть малость, ибо не сумел выделить главное из второстепенного: годы уже тяготили его, и голова устала, переутомилась, и дух был подкошен страданиями да муками вечными. — Это я знаю… Но я не рассчитал, что Теймураз из Базалети не уйдет в Кахети… Потому-то именно не хотел появляться на поле битвы… И вышел я лишь затем, чтоб своих людей спасти, увести их подобру-поздорову… Иначе конца бы не было кровопролитию, братоубийственной резне, позору нашему…
— Об этом раньше надо было думать, — вмешался Кайхосро Мухран-батони, до сих пор хранивший упорное молчание и, казалось, вовсе не собиравшийся вступать в разговор по поводу столь тяжелого события, благодаря которому он потерял все свое имущество.
— Не смог я всего предусмотреть, ошибся я, прав Теймураз, я полководец и в правители не гожусь, потому-то и хочу Грузию покинуть, уйти с дороги Теймураза… Когда Зураб Эристави крикнул, чтобы меня не отпускали живым, я своими ушами слышал, как Теймураз удержал его и его взбешенных людей. Саакадзе не трогайте, он еще пригодится родине, крикнул он им… Пусть бог пошлет ему силы, ибо разум у него есть, я крепко убедился в этом. И возможно, он прав в своих поисках внешней третьей силы. Да, он прав, а я ошибаюсь. Саакадзе наконец Подошел к главному, неторопливо приступил к важнейшему, выстраданному в долгих раздумьях, ибо трудно было немолодому человеку открыть для себя новую истину, которая подобно урагану, бушующему в ущелье Риони, повернула вспять его жизнь, растрепала, разворошила устоявшиеся мысли и представления его, святую его веру, которая нагрянула смертью без причащения, не спросясь, беспощадно поставила крест на все его прошлое, на все то, чему служил, во что он верил. — Теймураза не остановят никакие жертвы, но без смысла и пользы он никого на гибель не обречет, все у него вычислено и выверено, ибо у него одна-единая цель — спасение, а затем и объединение Грузии, ради нее он готов принести в жертву и сыновей, и мать, а если понадобится, не пожалеет и собственной жизни… Я восхищаюсь этим и молча преклоняю перед ним голову… Потому-то я и ухожу с его пути, что сегодня с Теймуразом никто не может соперничать в преданности родине и народу своему, и проницательностью такой никто из нас не обладает. И крепок телом и духом он, не в пример нам, и всех нас переживет.
Царь Георгий кашлянул, Александр переглянулся с Автандилом, Саакадзе же спокойно продолжал:
— У Теймураза мало преданных людей. Джандиери погиб, Зураб предаст его, но и он сам Зураба не пощадит… Вопрос в том — кто кого опередит… Я думаю, один Амилахори останется верен царю до конца… Не изменят ему и кахетинские князья. И на вас, отца и сына, тоже очень надеется он. Тебе, царевич, добра желает. Левана и Александра он потерял, Датуна подрос, его он готовит к помазанию на престол…. Но он и то хорошо понимает, что шах Аббас и его младшего сына в покое не оставит… Тот путь борьбы, на который ступил Теймураз, широк и верен: то там, то здесь внезапно нападает он на кизилбашей, беспощадно уничтожает их. Так-то! Выйти на открытый бой с кизилбашами, лицом к лицу, сегодня еще грузинам трудно, но настанет время и для такой, открытой борьбы… А пока Теймураз ведет себя правильно. Он рассеивает внимание врага, расщепляет его силы, нарушает единство его войска, не дает ему покоя на грузинской земле, вынуждает его проклинать судьбу. Правда, и самому ему несладко приходится, но сегодня другого выхода у него нет, и он это прекрасно знает.
Слуги бесшумно внесли шашлыки из оленины, оглядели кувшины и, убедившись, что гости не прикасались к вину, так же неслышно удалились из зала.
Царевич Александр взял на себя обязанности хозяина: первый вертел, с пылу с жару, передал отцу, затем угостил Георгия Саакадзе и Кайхосро Мухран-батони. Под конец же своей рукой снял мясо с вертела на тарелку своему зятю Автандилу Саакадзе.
Саакадзе приятно было наблюдать непринужденное отношение молодого царевича к его сыну. Однако он виду не подал, снял еще шипящий кусок мяса с вертела и крепкими зубами откусил аппетитно, ибо по-другому он есть не умел. Александр наполнил из кувшина турий рог.
Царь Георгий принял рог у него из рук.
— Пусть восторжествует в Грузии верность и единство, мой Георгий! Я всегда уважал тебя, и ты это знаешь, но нынче я узнал истинную цену тебе. Счастлива страна, имеющая таких преданных сынов. Ведь родину нашу ослабляет более всего то, что лучшие из ее сынов собственную выгоду ставят допрежь всего, и лишь во вторую очередь думают о пользе отечества. А ты тот человек, человек-гора, который родину поставил выше собственных интересов. Я тебе больше скажу: когда ты из Персии возвратился, я думал, что ты немедля искоренишь весь род Бараташвили, но ты проявил истинное великодушие, какое подобает верному сыну отчизны, а когда узнал, что Кайхосро Бараташвили после Марабдинской битвы перешел на сторону кизилбашей, ты немедля поспешил в Тбилиси, заставил его выманить супостатов из крепости Биртвиси, истребил всех до единого, но его самого пощадил, ибо дал слово сохранить ему жизнь… Пусть торжествуют и крепнут в отчизне нашей единство и верность! Ты ведь поддержишь мой тост, Мухран-батони? — обратился царь к бывшему владетелю Мухрани, сидевшему с непроницаемым лицом. — Я считаю свата моего Георгия Саакадзе олицетворением преданной любви к родине и желаю ему здравствовать во веки веков. Я не знаю, Георгий, что ты сейчас замышляешь и какой оборот примут твои дела, но знаю одно, твердо знаю и верю, что бы ни случилось, имя Саакадзе останется в веках как символ мужества и самоотверженной любви к родине. Твое здоровье, моурави!
Настал черед Кайхосро Мухран-батони.
— Не знаю, что сказать о верности и единстве, государь, но… Ясно одно — у этой верности должна быть основа, твердая почва…
— Какая такая еще другая тебе основа нужна, кроме любви и преданности родине?
— Родина родиной, государь, но, как известно, родины без ее главы не существует… А следовательно, верность и единство — прекрасные вещи, коли во главе страны стоит хороший правитель…
— Прошу прощения, владетельный князь, — не удержался царевич Александр, — но верности и любви к родине не требуется никаких условий…
— Не перебивай меня, юноша, — грубовато остановил его Мухран-батони. — Если родиной правит неумелый властитель, то преданность может обернуться из: меной…
«Пожалуй, он правильно поступал, когда сидел молча, — подумал царь Георгий, — в голове у него, однако, недобрые мысли роятся». Вслух же произнес с истинно царским величием:
— Мы подняли тост за преданность Георгия Саакадзе родине, сиятельный князь, — царь нарочно подчеркнул последние слова, ибо знал, что сего потомка картлийских Багратиони Георгий Саакадзе метил на престол, хотя и не от всего сердца, неохотно, не без сомнений больших и колебаний. Учел и предусмотрел царь также и то, что, разочаровавшись в притязаниях на корону, Мухран-батони, которому уже давно перевалило за шестьдесят, причиной своих неудач считал Георгия Саакадзе. — Моурави, возможно, и ошибался когда-то в людях, но никогда не ошибался в преданности отечеству.
Одним ударом царь Георгий убивал трех зайцев в дар Георгию Саакадзе: пресекал злопыхательскую болтовню гостя-самодура, поддерживал отказ Саакадзе от осуществления мечты Мухран-батони и заискивал перед моурави — подкрадывался к его сердцу на тот случай, если бы он возвысился при турецком дворе, чтоб против Имерети зла не держал. Картли же и Кахети царя Георгия сегодня уже мало волновали.
— Когда говорили о том, дай бог вам здоровья во веки веков, будто… — снова затянул старую песню Мухран-батони, ничего не понявший из речей царя, кроме того, что тот защитил Георгия Саакадзе по праву родства, а потому изысканный намек имеретинского царя прошел мимо его ушей, — будто, дай бог вам здоровья во веки веков… будто Саакадзе заставил шаха убить Луарсаба, сударь мой, я в это не верил…
— Как можно верить этой глупой и подлой выдумке! — возмутился царь. — Уж кто-кто, а я хорошо знаю, в чем было дело! Только он, Шадиман Бараташвили, внушил Луарсабу мысль принять приглашение шаха!
— Ну вот, я и не поверил, сударь мой, дай бог вам здоровья во веки веков, — топтался на месте Мухрани батони, то и дело повторяя надоевшие всем «сударь мой» и «дай бог вам здоровья во веки веков», не сходившие у него с уст после прибытия из Мухрани. — Однако.:. Да, о чем же я говорил?.. Да, твое здоровье, Георгий-моурави, живи нам на радость и надежду, — внезапно закруглил князь затянувшийся тост и одним духом осушил рог.
Царевич был краток.
Немногословен оказался и Автандил Саакадзе:
— Те дни, что были отняты у Пааты, пусть прибавятся к жизни твоего потомства и людей, преданных твоей родине.
Царю понравилась речь зятя, он привстал и поцеловал его в лоб.
Слово взял Георгий Саакадзе.
— Ошибка моя, государь, заключается в том, — обратился он к царю, — что, как ты верно изволил заметить, я не всегда правильно судил о людях, но чутьем все же угадывал их истинную душу и суть. Ты сам тому свидетель, воочию убедился в правоте моих колебаний… Хоть и с опозданием, но я все-таки понял, что мои колебания и сомнения оказались верными, поскольку Теймураз остался в Картли. Я бы многое отдал, чтобы вычеркнуть из прошлого Базалети, чтобы ее не было вовсе, и зря я не послушался совета, данного мне в Схвило. «Вернись в свои владения, — сказал мне тогда Теймураз, — и жди, когда тебя призовут родина и государь!» Теперь поздно каяться. Да пошлет мне господь силы столько, сколько нужно, чтоб полезным Грузии быть. Будь, Георгий Саакадзе, настолько долговечен, насколько вечна твоя преданность отчизне и бесконечна сама отчизна твоя. За тебя, сын мой Автандил, ибо твоя победа есть моя победа! За тебя, царь Георгий, с твоими и моими общими наследниками вместе, если мне суждено дожить до них! Да здравствует родина, моя единая и неделимая отчизна!
Застолье разгоралось на грузинский лад, само собой входило в силу.
Уже захмелели оба Георгия — царь и моурави, однако глядели по-прежнему сумрачно, невесело.
Царевич старался не отставать от отца. Мухран-батони, казалось, забыл о невзгодах — похваливал зедапонское вино.
Пожалуй, один Автандил держал ухо востро, пил не пьянея, и от ласкового взора отца не становилось ему легче. Мысль о Хварамзе не давала ему покоя, хотя и прочих забот было предостаточно, а прежде всего тревожился он об отце, лишенном любимого сына Пааты и родины своей. Из головы не шла та последняя ночь, когда Георгий прощался с родным Ностэ — пешком обошел все поля и сады, молчаливый, подавленный, опустошенный шагал по родным местам, будто прощался навсегда… Автандил хотел было встать из-за стола и навестить Хварамзе, но какая-то тайная сила не позволяла ему хотя бы на миг покинуть отца. Точно так же было в Ностэ, когда он всю ночь тенью следовал за ним. С тех пор он не расставался с отцом ни на одно мгновение, просыпаясь и засыпая думал о нем, о нем была главная его забота и печаль.
Наступившее ненадолго молчание по праву первым нарушил царь Георгий.
— Ты и в Осмалети[67] быстро прославишься, великий моурави, — он прежним титулом величал Саакадзе, желая облегчить его думы. — Ныне им как воздух нужны настоящие полководцы. Грузин там много. Соберешь всех, создашь сильное войско. А там видно будет… Однако будь осторожен: султанский двор пестрый и коварный, как и всякий двор, особенно же вновь возвысившегося властителя.
Мухран-батони клевал носом…
Царевич Александр провел гостя в его опочивальню и, сразу же вернувшись, передал отцу какую-то грамоту, прошептав что-то при этом на ухо. Царь досадливо поморщился промашке сына, остановил его:
— Шептаться нам негоже, сын мой, великий моурави сватом нам приходится, и мы никогда не имели от него тайн, не собираемся ничего скрывать и впредь. Посему все одно: я или он прочитаем послание царя Теймураза. — С этими словами он передал грамоту Георгию Саакадзе. — Читай вслух, моурави!
Саакадзе принял свиток и передал Александру:
— Пусть царевич читает, у него глаза моложе, острые, всезрячие!
Царь счел ответ моурави резонным. Царевич развернул свиток; оборотясь к свету, взглянул на отца и приступил к чтению:
«Брат мой и доброжелатель, государь Георгий!
Посылаю тебе грамоту сию, твердо верю, что не попадет она в чужие руки, ибо заключает в себе важную для всех нас тайну и потому отправлена с надежным человеком…»
— Кто доставил послание? — спросил царь.
— Гио-бичи, названный брат Датуны.
— О нем позаботились?
— Сейчас он ужинает, потом его проводят на ночлег.
— Продолжай.
«До меня дошли слухи, что Георгий Саакадзе покинул свои владения и решил перейти к османам. Меня это известие весьма огорчило, но, видимо, это лучшее, что он, великий полководец, мог предпринять после Базалетской битвы, в которой повинны мы оба, и Саакадзе в первую очередь… Пусть бог отпустит ему этот грех…
Базалети было последнее слово в споре между мною и Георгием, последнее слово в споре о путях к спасению родины. Базалети подтвердило правильность моего выбора, и, хотя нам дорого обошелся этот разлад, надо признать, что жертва сия была неизбежна, ибо свершился окончательный выбор внешней третьей силы, выбор пути непроторенного, тернистого и трудного, но единственно верного для спасения родины, и хотя я еще не ведаю пока, что обрету на этом пути, как проторю нехоженую тропу, куда приду, но верю крепко, свято верю, что грядущее Грузии связано именно с этим путем и потомки спокойно нас рассудят, трезво, не спеша рассудят тех, кто не пожалел плоти и крови своей во имя спасения отчизны. Саакадзе ушел, чтобы мне не мешать, хотя я предпочел бы его поддержку. Бог свидетель, что я не замышлял против него зла. Чистая правда и то, что я высоко ценю его полководческий дар. Я не теряю надежды, что в конце концов мы все-таки вместе будем защищать отчизну нашу и служить ей душой и телом. Если послание сие застанет его у тебя, передай ему мои слова: я никогда не держал против него вражды в своем сердце, и в гибели Пааты я совершенно не повинен, ибо версия, будто я написал шахское послание о его убийстве, является той единственной ложью, которой я оскорбил Георгия. Да простит меня бог! Передай ему также, что и я отнюдь не счастливый отец и сын… Великую жертву принес я во имя отчизны, еще большая жертва предстоит мне по воле бога или по воле недруга моего…
Все это он знает не хуже меня, но я обязан сообщить ему те сведения, которые мне известны и которые хоть в чем-то могут пригодиться ему. У султана Мурада Четвертого, который с тысяча шестьсот двадцать третьего года прочно занимает турецкий престол, первым визирем Гафиз-Ахмед-паша, балкарский кумык по происхождению, который уже очень стар и не очень-то угоден султану. Поэтому первенствуют при султанском дворе двое: Халил-паша, армянин по происхождению, христианин в прошлом, с которым соперничает и тягается силою Хусрев-паша, сардар из Боснии, выросший в Стамбуле с малых лет. Эти двое борются за пост садразма — главного визиря, и один из них добьется его. Халил-паша является воспитателем нынешнего султана и его наставником, Хусрев-паша же его сверстник и товарищ по детским играм. Посему советую я Георгию Саакадзе быть в добрых отношениях со всеми тремя, ибо эти трое вершат все дела и обладают решающим голосом при дворе султана Мурада Четвертого. Пусть моурави узнает от тебя и то, что Хусрев-паша коварен, жесток и завистлив, а потому пусть он никаких важных дел без его ведома не затевает, а все выигранные сражения пусть сполна приписывает достоинствам этой тройки и мудрости султана, который отличается отнюдь не воинскими доблестями, а редкостной фальшью и лицемерием. Моурави надлежит, таким образом, оказывать почести каждому из троих, чтобы остальные не подозревали об этом и считали, что именно он является предметом почитания и поклонения Георгия Саакадзе. Пред всеми тремя, пред каждым турком, каждым грузином, в гостях и дома, во сне и наяву, словом и делом пусть неустанно восхваляет он мудрость и доброту султана, ибо наушничество есть хлеб и воздух для Стамбульского двора. Пусть Саакадзе никому не открывает своего сердца, следит за каждым жестом своим, улыбкой и взглядом, движением руки или пальца, ибо все это выражает сокровенные мысли, прочесть которые в султанате найдется много доброхотов. У Саакадзе вошло в привычку вздыхать и стонать в час испытаний… Пусть забудет об этом навсегда! Скажи ему, мой дорогой брат, и о том, чтобы все дела и битвы совершал бы он и впредь с тою же любовью к родине, которую проявлял во все времена труда и борьбы. Его задача — использовать любые возможности, чтобы мутить воду между султаном и шахом, однако делать это надо так разумно, чтобы никто ни в чем его никогда заподозрить не мог. Пусть здравствует долгие годы — во славу отчизны, пусть процветает он сам, его отпрыск, ваш зять и мой сын Автандил, ибо он — сверстник моего Александра и завтрашний день многострадальной отчизны нашей. Пусть благоденствуют на султанской земле живущие грузины на счастье и благо отчизны нашей. Бог да поможет тебе, царь, и Георгию Саакадзе. Аминь!
Писано ноября тринадцатого, года тысяча шестьсот двадцать шестого, в городе Гори.
Царь Картли и Кахети Теймураз».
Царевич кончил читать.
Царь Георгий молча смотрел на моурави.
Саакадзе опирался лбом на сжатые в кулак, положенные на стол одна на другую руки.
Глядя на поредевшие волосы своего гостя, царь невольно провел рукой по голове, удовлетворенно ощутив густоту буйных кудрей. Так уж устроен человек — обнаружив изъян у другого, он радуется, если лишен его сам, радуется и не по злобе, и не по вредности, а из наивной гордости за свои достоинства, радуется он, как дитя в любом возрасте.
В ущелье Риони неистовствовал осенний ветер, громом сотрясая все встречное. Он клонил долу деревья, гнул, сгибал, трепал, ломал поредевшие кроны, гонял стаи сухих желтых листьев, бесновался, не оставлял в покое ни одно движимое и недвижное, свистел протяжно, дико. И лишь с Гелати и Риони ничего поделать не мог — неколебимо стоял Гелати, а Риони не убыстрял и не замедлял величавого своего течения. Разбиваясь о купол Гелати, ураган терял былую силу и бесславно отступал, готовясь к новой атаке, и только гордую гриву Риони удавалось ему растрепать слегка, да и то лишь в тех местах, где волны замедляли свое стремительное течение вперед. Вечно неприступной твердыней Грузии недосягаемо, величаво стоял Гелати, неторопливый сказ о прошлом страны вел неиссякаемый источник жизни — Риони, спускавшийся с вершин Кавкасиони в цветущую долину Колхиды.
Ветер яростно бился о стены Кутаисского дворца, проносился по опустевшим балконам, обвивал, завихряясь, столбы и перила, врывался в окна, завывал в дымоходах. Свирепел от бессильной ярости, тщетно сотрясая кровлю, хотя был далеко не бессилен. Сломал где-то старый платан, с корнями выворотил кипарис, беспощадно свалил сосну, посаженную в день рождения царевича Александра. Помял все цветы в царском саду, по лепестку ощипал розы, донага обобрал яблони и грушевые деревья.
Молча сидели в Кутаисском дворце четверо, и ни один из них даже в мыслях не мог допустить того, что Георгия Саакадзе хорошо примут во дворце султана, что Гафиз-Ахмед-паша умрет во вторник, двенадцатого декабря тысяча шестьсот двадцать шестого года, садразмом станет Халил-паша, благодаря христианскому духу которого Георгий Саакадзе возвысится, прославится, станет героем, что апреля шестого, года тысяча шестьсот двадцать восьмого, в четверг, согласно мудрому предвидению Теймураза, Халил-паша падет и его место займет Хусрев-паша, зависть и злоба которого приведут к гибели Георгия Саакадзе — двадцать пятого сентября тысяча шестьсот двадцать девятого, в четверг… На рассвете того темного дня Георгию Саакадзе и сорока его приближенным, в том числе и его родному Автандилу, сыну моурави и зятю имеретинского царя, отрубят головы, и перестанут биться сердца верных сынов родины, и падут их тела на грузинскую землю, отторгнутую и присвоенную их повелителем султаном.
И затеряются могилы их без благословения, никем не оплаканные и не ухоженные.
…В ту же ночь, в Кутаисском дворце, сотрясаемом порывами осеннего ветра, никто из четверых ничего этого знать не мог, а потому все думали о мудрости Теймураза, восхищались благородством и прозорливостью его.
Уже второй раз пропели петухи, когда Георгий Саакадзе поднялся и проговорил спокойно:
— Не к добру этот ветер, примета дурная у меня.
Затем, пожелав царю Георгию с сыном доброй ночи, он обнял за плечи Автандила и вышел из большого зала свойственной ему твердой походкой.
В ущелье Риони безутешно мотался осенний ветер.
* * *
Наскоро собравшись, Кетеван отправилась в путь. Пять дней и ночей они скакали, не щадя лошадей. Дауд-хан с тридцатью своими людьми сопровождал ее. Царица взяла с собой всех своих немногочисленных слуг. В исфаганском доме никого не осталось.
Они часто меняли лошадей — брата бегларбега в Парсе встречали с большим почетом, однако ему было не до почестей: как верный сын следовал Дауд-хан за царицей, стремительно мчавшейся на юг Персии. Всего пять раз они останавливались на отдых, и то по настоятельной просьбе Кетеван, — она жалела только слуг, сама же не знала устали. Несчастье удесятеряло силы царицы. Даже мужчины не могли тягаться с нею, а женщины и вовсе валились с ног. Днем растрескавшаяся, выжженная, раскаленная земля источала зной, ночью же от удушливых испарений перехватывало дыхание…
Ко дворцу ширазского бегларбега они подъехали на рассвете.
Встретила их старшая жена Имам-Кули-хана Сакинэ — тоже уроженка Кахети, ребенком вывезенная из Грузии, предназначенная в невестки тогдашнему бегларбегу. Царица холодно отказалась от пищи и отдыха, пожелала немедленно увидеть своих внуков:
— Где они?
Ее повели наверх по мраморной лестнице, миновали огромный зал, а затем, пройдя узкий коридор, остановились перед небольшой дверью, скрытой в нише под низкой полукруглой аркой.
Сакинэ отворила дверь и пропустила царицу вперед.
Переступив порог, Кетеван вздрогнула, чувствуя, что колени у нее подкашиваются, сердце останавливается и она вот-вот рухнет на пол без памяти, но это была лишь минутная человеческая слабость. Царица взяла себя в руки и окинула взглядом тускло освещенную утренним светом келью: две тахты, низенький столик, несколько стульев с низкими спинками. На столе блюда с едой и склянки со снадобьями. На одном из стульев — чистые повязки. В углу — небольшой таз. Единственное окошечко кельи забрано решеткой. Воздух застоявшийся, тяжелый.
В правом углу Леван, одетый в пестрый халат из парчи, сидел на корточках и смотрел на вошедших вытаращенными, ничего не выражающими глазами.
На тахте у левой стены лежал под парчовым покрывалом Александр. Закрытые глаза усугубляли безжизненность его желтого, словно воск, лица.
Взгляд Кетеван беспомощно перебегал от одного внука к другому.
Наконец еще раз собравшись с духом и ощутив прилив сил, такой же внезапный, как нахлынувший приступ слабости, царица решительно направилась к тахте, на которой лежал Александр: должно быть, потому, что он был младшим и вдобавок лежал… Подойдя ближе, Кетеван протерла глаза, но как пристально она ни вглядывалась, узнать Александра было невозможно: бесследно исчез темный пушок над верхней губой, глаза ввалились, резко выделились на осунувшемся лице скулы, кожа на всем лице сморщилась и потемнела, словно у старого аробщика Гиголы.
Кетеван опустилась на колени, обхватив правой рукой кудрявую голову внука: единственное, что оставалось от прежнего Александра, — густые непокорные волосы.
— Горе бабушке вашей! — невольно вырвалось у Кетеван горестное восклицание. Она прижалась губами к влажному, покрытому испариной лбу внука. Александр открыл глаза и едва заметно улыбнулся. — Что, мальчик мой, замучили тебя нехристи! И бабушка ничем помочь не смогла, чтоб сама в огне горела из-за муки вашей!
— Бабушка! — чуть слышно прошептал юноша. — Мне очень плохо, все у меня болит, помоги мне.
— Помогу, родной, помогу непременно, чтоб мучители твои были во веки веков прокляты вместе с потомством своим!
— Нет, бабушка, ты мне не поможешь… Лучше присмотри за Леваном… Не оставляй его… Ему еще хуже, чем мне… Разум у него помутился… Заговаривается он… То кричит, то воет, то смеется или твердит что-то непонятное, словно в бреду адском.
Кетеван воздела руки к небу и тут заметила лекаря, стоявшего в стороне.
Перс потупился.
— Не робей, говори мне всю правду о моей беде, — по-персидски обратилась к нему Кетеван.
— Я делаю все, что в моих силах, — по-персидски же отвечал лекарь. — Бегларбег ни на минуту не позволяет мне отлучиться… Старший рассудка лишился… Младший, сами видите… Они уже, взрослые, потому-то так случилось… Маленькие же переносят легче…
— Пусть рука отсохнет у того, кто это задумал и повелел, пусть глаза ему выгрызут крысы, гореть ему вечно в адском пламени, шутом плясать бездельникам на потеху, из страны в страну бродить ученой обезьяной на привязи ему и его потомкам вовеки! Пусть земля горит у него под ногами, пусть его босиком на уголья раскаленные поставят и снизу огонь раздувают, пусть напоят его ядом и накормят живыми змеями. Умирающего от жажды — да напоят его отравой, пусть топчут его, выгнанного из дома и страны, ослы и лошади. Да не видеть светлого дня вашему окаянному шаху, исчадию ада, собачьему отродью!.. — Невольные свидетели этой тирады кинулись врассыпную, чтобы не слышать проклятий, которые обрушивала на их повелителя царица Кетеван. В келье остались Сакинэ и лекарь. В своем углу бессмысленно таращил глаза потерявший рассудок царевич. — Пусть горло ему перережут родные сыновья, пусть жены оскопят его собственными руками, пусть собаки разорвут на куски его труп, пусть он станет добычей волков, пусть отступятся все от жалкого скопца душой и телом…
— Бабушка! — застонал Александр, которому не по душе пришлось упоминание о скопце. — Не надо проклятий…
Кетеван вновь склонилась над ним, нежно провела правой рукой по лбу и волосам внука, откинула парчовое покрывало, трепетно коснулась губами груди. Александр ощутил на коже ее горячие слезы.
— Бабушка… Ты же никогда не плачешь… Что с тобой? Не бойся, я не умру… Оправлюсь, встану на ноги, уедем отсюда, я поселюсь в Алаверди, постригусь в монахи. Все равно я не был рожден для придворной суеты… В монастыре буду молиться за отца, за Левана, за Датуну… За материнской могилой ухаживать стану… Посажу розы, много роз… Ты говорила, что она любила розы… И ты будешь со мной жить… Ты ведь не оставишь меня, бабушка, не покинешь?
— Нет, дитя мое, мы всегда будем вместе. Бог никому не позволит нас разлучить. Ты невинным ангелом пришел в этот мир, таким и останешься навсегда. Ты будешь нашей надеждой и опорой, нашим заступником и покровителем, тобой очистятся душа и плоть наши, на тебя уповать будут Кахети и Картли, мое дитя, моя жизнь, надежда моя, радость и утешение мое! Отцу твоему я скажу…
— Отцу ничего не говори… Жалко его… Эта беда может сломить его. Ты ведь сама говорила, что душа у него нежная, как у девушки… Я тоже это замечал. Он не может долго гневаться, не помнит зла… Может, это и нехорошо, но это так… Передай ему: если сможет, пусть не щадит нашего мучителя… За что он обрек нас на муку? Что мы ему сделали?.. Видите ли, аллах того пожелал! — Александр ослаб, повернул к стене восковое лицо.
У царицы пересыхало во рту, губы дрожали, непослушными от волнения пальцами перебирала она волосы внука, ласкала его, трепетала над ним…
— Когда я поправлюсь, бабушка, поедем в Алаверди… Раньше мне трудно было ходить на могилу матери — я как будто боялся или стыдился чего-то… Теперь будет иначе… Я приду туда и прижмусь к могильной плите… Ты говорила, что мать была родом из Гурии… Я поеду в Гурию, приголублю каждого гурийца, пешком обойду родину матери моей… Потом вернусь на Алазани. Не обижайся, мне хочется повидать матушку, ба… — голос царевича пресекся, он глубоко вздохнул, вздрогнул всем телом… и затих.
Кетеван приникла щекой к его щеке, губами — к его губам, почувствовала, как холодеет его лицо, и обреченно, отчаянно взвыла: «Помогите!»
Помощи не было.
Этот первый вопль материнского отчаяния, исторгнутый из самого сердца кахетинской царицы, без ответа и отклика канул в глубинах дворца ширазского бегларбега Ундиладзе…
…Сидевший в своем углу Леван вдруг дико захохотал, выскочил на середину кельи, начал нелепо прыгать, скакать, раскидывая руки и гримасничая. Покрутившись волчком, он как подкошенный рухнул на каменные плиты. Тело его задергалось, корчась в судорогах, на губах выступила пена.
Потрясенная Кетеван, лишь взглянув на старшего внука, без чувств упала со скамьи.
Ее поспешно вынесли из кельи. С царевичами остался лекарь, неукоснительно соблюдая волю бегларбега: не оставлять их без присмотра.
Воля Ундиладзе в Парсе была законом.
* * *
Сад ширазского дворца погружался в сумерки. Затихла природа, умолкли птицы. Казалось, даже вода перестала журчать в арыках. Лучи заходящего солнца, проникая сквозь кроны густых деревьев, освещали тропинку, по которой двигалась небольшая процессия: слева — Дауд-хан, справа — царица Кетеван поддерживали дубовый гроб, сделанный согласно христианскому обычаю. В гробу покоилось тело царевича Александра. Рядом стояли полумертвые от горя приближенные царицы, молча помогавшие нести гроб. Никто не посмел предложить себя на подмену. Сама она сказала одно: в детстве я много носила внука на руках, сегодня я понесу его в последний раз. До могилы, вырытой под раскидистым дубом, она донесла гроб, не позволив никому сменить ее. На прощанье она молча поцеловала усопшего, бережно поправила спадавшие на лоб волосы и дрожащей рукой натянула парчовое покрывало на бледное, осунувшееся лицо внука.
— Если я останусь жива, внучек… Ты вспоминал Алаверди… Я непременно выполню твою волю — положу тебя рядом с матерью, счастливой уже тем, что не дожила до этого страшного дня… И розы посажу на вашей могиле, внучек, много роз. Сама буду лелеять каждый куст, каждый бутон. Из Гурии привезу цветы, С родины матери вашей, из Гурии, которую ты так хотел увидеть. Я завещаю Датуне посещать тебя почаще, пусть каждый день вспоминает тебя вместе с потомками и наследниками своими. Отца твоего умолю навеки забыть о мягкости, которую ты верно в нем подметил, сын мой! — Царица, сомкнув брови, умолкла, поднялась, бледная как полотно, сгорбившаяся, внезапно постаревшая.
Прежде чем дубовую домовину опустили в могилу, царица вдруг вспомнила что-то, засуетилась, достала из-за пазухи узелок с землей, не постеснявшись при этом расстегнуть ворот, осторожно развязала его и высыпала часть земли на ладонь.
— Я чувствовала, что родная земля пригодится нам, поэтому взяла ее с собой. Я отдаю тебе твою долю земли Греми, Алаверди и Алазанской долины. Наша доля останется пока у меня, прощай, дитя мое, закат, сумерки жизни моей!.. — С этими словами царица приподняла с него парчовое покрывало, раскрыла сорочку на его груди и осторожно высыпала покойнику на грудь горсть родной земли, остаток завязала опять в платок и спрятала у себя на груди.
Обещая внуку перенести его прах на родину, Кетеван говорила со всей искренностью и во исполнение этой клятвы готова была заплатить жизнью, не подозревая даже, что надежда отвезти прах внука на родину была несбыточной мечтой.
Сумерки быстро сгущались.
В ширазском саду становилось прохладно…
Дауд-хан сразу же, как только гроб опустили в могилу, не заходя во дворец, отправился к себе в Карабах. Могилу еще не успели засыпать, как он двинулся в путь, словно спеша приблизиться к родине отца и дедов. Младший Ундиладзе даже не пожелал повидать старшего брата.
Кто-то когда-то будто бы сказал, что младшие из детей более сердечны и чутки.
* * *
Более месяца прошло с того дня.
Кетеван не отходила от Левана.
Когда больной засыпал ненадолго, она ложилась на тахту Александра, которую не велела трогать после смерти внука. Закалившийся в несчастьях дух Кетеван больше не терзали писклявый голос Левана и безусое его лицо, куда сильнее волновал ее помутившийся разум внука.
На совесть старался придворный лекарь, и других целителей-знахарей приглашала со всех сторон Кетеван. Все, однако, оказались бессильны перед душевным недугом царевича.
…И в ту ночь царице не удалось сомкнуть глаз, сон бежал от нее. Впрочем, какой там сон! Мозг ни на мгновение не прекращал своей напряженной работы, нескончаемой чередой проносились тревожные мысли. Достаточно было пошевелиться Левану, едва слышно вздохнуть, чтобы Кетеван тотчас встрепенулась. Она вслушивалась в малейший шорох, чутко реагировала на самый безобидный шум.
Ночная мгла уже вступала в свои права; Тамро только что вышла, когда дверь едва слышно отворилась и на пороге выросла огромная тень. Кетеван тотчас поднялась с ложа и в тусклом пламени свечи, горевшей с вечера до утра, сразу узнала хозяина, которого видела впервые: братья были похожи друг на друга, как две половинки яблока. Имам-Кули-хан отличался от брата лишь густой сединой в волосах и тяжелым, мрачным взглядом темных, выразительных глаз.
«Этот больше горя перенес и больше передумал…» — мелькнуло в голове у Кетеван, и она знаком предложила вошедшему сесть. Имам-Кули-хан тяжело опустился на скамью, поглядел на спящего Левана и негромко проговорил:
— Вечер добрый, государыня!
Кетеван сдержанно кивнула в ответ — приветствовать иначе этого человека ей было невмоготу.
Сделав над собой усилие, Имам-Кули-хан медленно заговорил — чувствовалось, что речь свою он приготовил заранее:
— Мне трудно было прийти к тебе, государыня… Очень трудно, но и не прийти я не мог. Сначала брата прислал к тебе посредником, потом жену. — Он потер лоб, вздохнул тяжело. Вздох этот вырвался против его воли. — Знаю, я виноват перед тобой, но поступить иначе не мог. Он нарочно именно мне поручил это… — он запнулся в поисках слова, нашел: — Это злодеяние. Тяжкое испытание мне устроил и с братом разлучил… на север, ближе к родине нашей послал… Иначе кто знает, что надумали бы мы вместе… Дауд-хан места себе не находил от бешенства… Уехал, не повидав меня… Это первая размолвка меж нами. Но ему проще — он далеко от шахского двора, земли его на северной окраине… Мое же положение совсем иное — я в самом сердце шахских владений… У меня один выход — бежать, бросив все, добытое отцом. — Имам-Кули-хан снова вздохнул и продолжал помешкав: — Я вынужден… против моей воли подчиняться шаху… Потому я делаю то, что делать не следовало, что противно моей душе… Я и сейчас пришел к тебе с большой просьбой… Шах велел передать свою волю: либо царица примет магометанскую веру, либо подвергнется пыткам всенародно… Пытать тебя велено мне… Мне трудно говорить об этом, но я обязан сказать всю правду.
Он торопливо закончил, как будто сбросил с плеч тяжелое бремя, и снова взглянул на царицу.
Кетеван сидела прямая, невозмутимая, величавая. Она недрогнувшим взором встретила взгляд ширазского бегларбега, и он тотчас понял, что напрасны были его старания, тщетны будут все его попытки обратить кахетинскую царицу в магометанство. Понял он и то, что слабая женщина готова была на любую муку. Более того — казалось, она Ждала этих мук, желала их.
— Жизнью своей я вовсе не дорожу, бегларбег. А вероотступничество приравнивала и приравниваю к измене народу. Душа моя с радостью примет любую муку, хотя бы во имя того, чтобы до конца исполнить свой долг перед моей кровью и плотью — детьми, которых я безжалостно отдала в пасть этому людоеду. Делай, что велено тебе, и не жалей о том. Я понимаю думы твои и муки тоже, без слов и без пояснений ведаю о твоем тяжелом положении. Это богатство, власть и почести, обагренные кровью, — плоды мук отца твоего и твоих собственных стараний. И все это может обратиться в прах из-за малейшего промаха твоего, хотя и без всякого промаха это может случиться по велению людоеда. Оттого и понимаю заботу и беду твою… Знаю и то, что добра тебе не видать, даже если ты не тронул бы внуков моих и не тронешь меня… Не ты, так другой выполнил бы волю шаха, свершая злодеяния эти. Откажешься — пострадаешь еще пуще нашего. Я знаю это! Потому выполняй волю твоего, но не моего повелителя. Я готова! От веры и обычая нашего грузинского не отрекусь!
Кетеван говорила спокойно, неторопливо, словно наставляя сына, в ее речах звучала чуть ли не материнская теплота. Мысль ее была, однако, тверда, неколебима.
И понял Имам-Кули-хан, что царица готова на великую жертву, и нет в мире такой силы и такого существа, которые заставили бы ее изменить свое решение.
— Я не спешу, государыня, не спеши и ты, — скорее для порядка сказал он, ибо в голосе его явно не было уверенности. — Не забывай хотя бы то, что Леван нуждается в присмотре. Подумай, не торопись ради него… Попробуй. А что ты потеряешь, приняв их веру? Разве я, став иноверцем, меньше люблю Грузию? Или отец мой ее не любил?
— Ошибаешься, бегларбег! Отречься от веры — все равно что отречься от своего народа. Отступничество равносильно духовной гибели твоей и потомков твоих, безжалостной измене родине! Запомни сам и передай своим потомкам: ислам добр в добрых руках, как и любая другая вера, но нам он не нужен, ибо со времени святой Нино христианство для нас равно грузинству, отказ же от христианства означал бы отказ от родины. Вы — одно, мы — другое! Без шахского покровительства, без вашего фамильного богатства и власти вы ничто, нам же господь вручил судьбу родины, народа нашего, и мы до конца будем нести это благородное бремя. Я и мои внуки приехали сюда не предавать родину, а доказать ей верность свою, принести себя в жертву ей… Лучше смерть, чем такая жизнь, как ныне у Левана. Для него все одно, что ночь, что день, что роза, что сорняк… Об одном лишь тебя молю я — после смерти моей не оставляй его без присмотра… И к отцу не отправляй. Грузия не должна видеть наследника престола в столь плачевном состоянии. Я попрошу и Сакинэ, чтобы она присматривала за ним: пусть живет, пока бог не пожелает прекратить его страданий… И еще… если удастся… если настанет подходящее время… прикажи всех нас перенести в Алаверди… — Царица взглянула на Левана, и голос ее прервался.
Имам-Кули-хан встал, поднял опущенную голову и спокойно проговорил:
— Подумай хорошенько, государыня! Я не тороплюсь, не спеши и ты. Отказом своим ты разъяришь того, кто и так уже вне себя от ярости. Он отомстит не только тебе, но и всей Грузии. Известно мне, что поход замышляет на Кахети… Меня тоже звал с собой… Едва отговорился я, пришлось на болезнь сослаться.
С этими словами Имам-Кули-хан поклонился царице и вышел так же неторопливо, степенно, как и вошел.
Кетеван подошла к внуку, поправила на нем одеяло.
* * *
Шло время. Кровью писалась история Грузии…
Оставив позади Мухрани, Теймураз взял курс на Арагвское ущелье. Свита его состояла из двухсот всадников, а впереди скакали ведущие. По правую руку от Теймураза ехал Йотам Амилахори, присоединившийся к царю возле Игуэтской заставы. Рядом с ним скакали Соломон Чолокашвили и Гуло Вачнадзе, после смерти Давида Джандиери много раз доказавшие полную преданность свою Теймуразу. Слева от царя ехал Датуна в сопровождении своего побратима Гио-бичи, в присутствии царевича всегда обнаруживавшего редкую сметливость.
Отправясь в путь утром, к полудню они уже въезжали в сказочное ущелье Арагви.
Всадники ехали рысью. Ехали молча, глядели хмуро. Изредка лишь Датуна и Гио-бичи обменивались короткими фразами. Датуна попытался было завязать разговор с отцом, но тщетно — царь не размыкал уст. Не добился успеха и Йотам, хотя он не очень и старался, ибо знал Теймураза. Только эти двое знали, зачем ехали к арагвскому Эристави. За Теймуразом следовали цилканский епископ Давид, Эгомо Тогумишвили и Ираклий Беруашвили.
Приближение к Арагви постепенно смягчало полуденный зной. Прохлада реки и лесов, дующий с Кавкасиони легкий ветерок приносили усталым путникам желанную отраду.
Из приарагвийских зарослей взлетела вспугнутая стая уток. Датуна не мешкая вскинул пищаль, сбил одну, вторую сбил Гио-бичи, а третьим выстрелил Амилахори, но промахнулся, так как утки уже успели удалиться на порядочное расстояние.
Мальчики погнали коней в заросли, по пути вспенивая речную воду и поднимая тучи брызг. Йотам добро улыбнулся, когда вернувшиеся ребята горделиво бросили свою добычу слугам.
— Ну что, Датуна, обошел ты меня со своим побратимом?
— Обойти тебя невозможно, батоно Йотам! Просто мы раньше выстрелили, а то нам до тебя еще далеко! — вежливо отвечал Датуна, догоняя царского гнедого на своем вороном, лоснящемся от воды скакуне.
— Ружье надо сразу же перезаряжать, — это были первые слова царя за весь день. Теймураз заметил, что сын не последовал примеру Гио-бичи, а он не хотел, чтобы Датуна свои обязанности перепоручал другим, хотя и сам Датуна редко позволял челяди делать то, что привык делать сам, а уж к оружию своему прикасаться давно никому не разрешал. Датуна немедленно принялся за дело и попутно, воспользовавшись отцовским вниманием, задал вопрос:
— Отчего местность эта называется Сапурцле?[68]
Вопрос не относился ни к кому в частности, поэтому все молчали. Тогда Амилахори, выжидательно взглянув на Теймураза, сам решил удовлетворить любопытство царевича.
— В этих местах, как ты мог заметить, много тутовых деревьев, потому и местность называется Сапурцле. Раньше эти земли принадлежали к Самцхети, но Зураб давно уже присоединил их к своим владениям, как прибрал к рукам и многое другое, кажущееся ему своим.
Амилахори замолчал. Датуна не в первый раз слышал слова упрека в адрес Зураба Эристави, однако в устах сдержанного и немногословного князя порицание это звучало особенно впечатляюще. Довольный собой Амилахори, скорее желавший подчеркнуть свою осведомленность в делах Картли, чем выразить вслух накипевшую на сердце у царя боль, вопросительно взглянул на Теймураза, который в знак одобрения кивнул головой и, натянув поводья, остановил коня. Свита тотчас последовала его примеру. Из всех присутствующих один Датуна понял, что отец пожелал немедля рассеять впечатление от слов Иотама Амилахори, нацеленных против Зураба, у которого наверняка кто-нибудь да был доносчиком в окружении царя.
Сын лучше любого другого знал своего отца.
— Берега реки Нареквави, которая протекает на окраине Мухрани и впадает в Арагви, образуют лощинистую долину, местами покрытую кустарником. — Теймураз обвел рукой оставшиеся позади окрестности. — В нижней части Нареквавской рощи водятся кабаны, всевозможная дичь, фазаны, в верховьях реки отлично плодоносит виноградная лоза, цветут сады. Потому-то и зарится на эти земли наш зять Зураб: хочу, говорит, горцев от жипитаури отучить. А вот эта местность, куда мы сейчас въезжаем и откуда начинается Арагвское ущелье, занимающее весь правый берег Арагви до села Мисакциели, называется Сапурцле. Вон они, тутовники, зеленеют, — царь указал рукой на север, — от подножий гор до самой реки, все это Сапурцле.
— А почему эта местность называется Сапурцле? — повторил свой вопрос Датуна, решив, что отец забыл, о чем он его спрашивал, — в последнее время, как он заметил, с царем это нередко случалось.
Теймураз понял, отчего сын повторно задал вопрос, однако виду не подал и продолжал так же степенно и поучающе:
— Чуть западнее, у подножия той горы, расположена церковь Цилканской божьей матери, церковь купольная, а епископом там — наш Давид, с божьей милостью усердно печется о пастве своей — жителях Мухрани, Базалети, обоих берегов Арагви.
— А церковь ту, — поспешил вставить, воспользовавшись минутной паузой, находившийся поблизости цилканский епископ Давид, почувствовав, что царь пришел в доброе расположение духа, — построил царь Бакар.
Теймураз и этот намек его понял: цилканский епископ давно уже обращался к нему и к Зурабу с просьбой — строить побольше церквей в горах и в ущелье.
— Потому-то и называется эта местность Сапурцле, — продолжал свой рассказ Теймураз, давая понять епископу неуместность его замечания, — что повсюду здесь растет шелковица. Тутовое дерево — это одно, а шелковица — совсем другое. Бесплодная тута называется шелковицей, которая и есть превосходное средство для разведения шелковичного червя. Червь, питающийся тутовым листом, дает нить хуже, чем тот, который питается листьями шелковицы. Шелководство, по преданию, у нас в пятом веке возникло. Царь Вахтанг Горгасал, участвовавший в походе персидского шаха в Индию, привез оттуда индийскую гусеницу, которая сильно отличалась от распространенного у нас в те времена шелковичного червя. В то время в Грузии знавали не шелк, а чичнаури, от которого оставалось много очесов, и он уступал и блеском, и мягкостью настоящему шелку. Грузинское слово «абрешуми» — «шелк» — происходит от персидского «абришуми». Вахтанг Горгасал привез индийскую гусеницу как драгоценную добычу, ибо хотя Грузия и считалась вассалом Персии, никто даром нашим предкам таких сокровищ не раздавал… Индийский шелк к тому же обладал золотистым отливом, был легким в пряже, и ткань получалась красивой и нарядной. Шелк же персидский был белым, имел широкое распространение. А как известно, то, чего много, ценится меньше по сравнению с тем, чего мало. Пряжа и ткань, полученные из персидского кокона, менее прочны, сучить и прясть такую нить гораздо труднее, чем полученную из индийского кокона. Из распространенных в Грузии видов шелка — желто-золотистого кахетинского, зеленого кахетинского, желтого кахетинского, желто-золотистого кутаисского, терекского зеленого — три было чрезмерно трудно выделывать из-за особой тонкости пряжи. Новому шелкопряду необходимо было очень много пищи, потому-то в Грузии и стали разводить и потом всегда разводили тутовые и шелковичные рощи. Само слово «тута» происходит от «сатути» и означает предмет, место или живое существо, с коим надлежит обращаться бережно, нежно… Много воды утекло со времен правления царицы Тамар, и теперь нам, увы, не до шелка и шелковиц! Мы даже просьбу цилканского епископа все никак выполнить не можем!.. А тутовых и шелковичных рощ и по сей день множество у нас… Бог даст, ты, сын мой, или твои дети возьмутся за восстановление этого древнего промысла, ибо он выгоден и полезен как казне, так и народу. — Закончив свой рассказ, Теймураз пришпорил коня.
…На Сапурцлийском холме царя встречали Зураб и Дареджан. Теймуразу отрадно было видеть свою кровь и плоть. Красота наследницы Багратиони показалась ему величественной и совершенной: лицом и улыбкой походила она на царицу цариц Кетеван, царственным был поворот ее точеной шеи, почти до пят спускались две, толщиной с руку, шелковистые косы. Чарующе блестели затененные длинными ресницами глаза под тонко очерченными бровями. Длинные пальцы, унизанные лалами и изумрудами, невольно привлекали взгляд. Теймураз крепко прижал свою Дареджан к груди, нежно поцеловал в чистый лоб и, окинув взором всю ее стройную фигурку, вздохнул про себя с облегчением, словно камень с души свалился. Теймураз холодно кивнул зятю. Зураб тоже не кидался в объятия тестю, держался поодаль, глядел на Датуну, крепко обнимавшего любимую сестру, которую давно не видел.
К приему царя неплохо подготовились и Зураб, и мухранцы, посланные в Эристави загодя. На случай непогоды поставленные добротные шатры у опушки леса оказались излишними, столы, накрытые по случаю ясной погоды на лужайке, ломились от снеди. Чего здесь только не было: забили телят, зарезали молодых барашков, в котлах варилась выловленная в Арагви форель, сваренную рыбу выкладывали на подносы, устланные свежими листьями, бочки с мухранским вином остужались в ямах, специально вырытых на северном склоне горы. Отдельно приготовлялось мясо дикого кабана, оленя и фазанов, убитых на утренней охоте.
Все делалось с пышностью поистине царской, Эристави принимал царя, как зятю подобает принимать тестя, дорогого и почитаемого.
Царский стол был накрыт отдельно, чуть ближе к опушке леса, на обведенной кустарником небольшой зеленой лужайке. Свита располагалась ниже, тоже на траве.
…Теймураз принял на себя обязанности тамады. Иотама Амилахори усадил справа от себя, Датуне велел сесть по левую руку.
Насупился Зураб, озлился, что его рядом с царем не посадили, сам выбрал себе место возле епископа, жену усадил рядом с собой, хотя Датуна звал сестру к себе.
Остальные расположились кто как хотел, не дожидаясь приглашения.
Стол сразу же разделился на две части.
Епископ благословил стол с яствами и преломил хлеб.
Теймураз почуял разлад за столом, пожелал рассеять напряженность, провозгласил тост за благословенную родину, помянул благородных предков, горячо пожелал отчизне объединения, единства и независимости от шаха и султана; стоя выпил за упокой души Давида Джандиери и всех достойных сынов, павших в боях за независимость и единство родины.
Каждый тост сопровождался мелодичным пением монахинь, предусмотрительно приглашенных епископом из Цилканского монастыря.
Песни протяжно и задушевно исполняли и горцы. До полуночи не прекращалось застолье, хотя никто не веселился и не ликовал. Казалось, смех тут находился под суровым запретом. И все же яркое полыхание костров, грустное пение монахинь, проникновенные тосты Теймураза создавали приподнятое настроение, перемешанное с торжеством и грустью. Освещенные светом молодой луны, вершины Кавкасиони бдительными стражами высились над этим благословенным уголком, где в ту ясную ночь даже бурные воды Арагви перекликались с тоской человеческих душ.
Пиршество пошло на убыль сначала там, где расположилась царская свита. Теймураз окинул взглядом собравшихся около него приближенных и медленно поднялся, готовясь произнести последнее слово.
— Прежде чем выпить за всех святых, как это испокон веков положено за нашим столом, я хотел бы сказать несколько слов зятю своему. Хоть я и опоздал с этими словами, но лучше сказать их поздно, чем не говорить вообще. — Царь нахмурил брови и устремил пристальный, испытующий взгляд на Зураба; тот встретил его взгляд дико вытаращенными злыми глазами. — Не удивляйся, зять, столь долгому молчанию моему в отношении тебя. Да, ты славный военачальник, и хозяин тоже, отменный, и в Марабде ты имени своего не посрамил, и в Базалети, как лев, воевал. И глаз у тебя меткий, и ум острый. Только вот… душа кривая. Еще в Гори сообщил ты мне о неверности Саакадзе, будто бы племянника он своего послал к шаху с наветом. — Зураб чуть заметно пошевелился, стал озираться вокруг — хоть и хмелен был, отметил про себя с досадой, что рядом нет преданных слуг и телохранителей. Но с места все-таки не сдвинулся, снова устремил на царя замутненный вином и ненавистью взор.
— Не Саакадзе, а ты сам послал на верную смерть племянника своего, сына твоего ослепленного брата…
— Ты, между прочим, тоже послал туда своих сыновей и мать! — не замедлил возразить Зураб.
— У меня была одна цель, у тебя — совсем иная. Еще с тех времен, когда ты сопровождал в Персию своего зятя Георгия Саакадзе[69], и тогда еще, когда в Базалети, сам раненный и истекающий кровью, зверем рвался убить его — воспитателя и зятя твоего. Ты день ото дня увеличивал имущество свое, доставшееся тебе от отца Нугзара Эристави, самовольно, без спросу прибирал к рукам царские земли и царских крестьян, от Самцхети отрезал изрядную часть и на Мухрани зарился.
— Перед Базалетской битвой ты сам же мне обещал Мухрани, а отдал сыну своему! — не удержался от ехидного замечания Эристави.
— Я царь и поступаю так, как мне велит мой разум и совесть.
— Нет, Теймураз! И царь ты негодный, и отец, и правитель некудышный! — вытаращив глаза, зарычал Зураб, хмельной не столько от вина, сколько от злобы.
— Эта мысль все время грызла ум твой и сердце твое, она же и погубит тебя, поставив точку на твоем подлом существовании! Мечте о картлийском престоле ты принес в жертву отца, первую жену, брата и племянников своих. Мечтая о воцарении в Картли, ты донес на меня шаху о том, что я к русским за помощью обратился. С помощью Бараты Бараташвили по-разбойничьи горцев прибрал, огнем и мечом пройдясь по их земле, сжег уйму деревень, разрушил много молелен. Однако зря ты старался, тщетны были усилия твои, напрасны злодейства, чванливость, коварство — и подлость твоя. Из-за жестокости твоей многим грузинам пришлось проливать кровь, многих матерей ты заставил плакать горючими слезами и одеться в черное. И мою мать ты тоже не пощадил на старости лет… Выйди вперед, Ираклий Беруашвили!
Сидевший на другом конце стола юноша в мгновение ока очутился перед царем, словно грозное видение, освещенный алыми отблесками костра.
— Скажи, Беруашвили, какой приказ привез ты из Исфагана от царицы цариц Кетеван?
— Мать грузин, царица цариц Кетеван завещала тебе, государь: за измену Грузии твой зять, муж Дареджан, Эристави Зураб должен быть казнен!
— Да исполнится воля божья и воля мученицы Кетеван! — Теймураз поднялся, воздев руки к небу.
В тот же миг Эгомо Тогумишвили, стоявший за спиной Зураба, выхватил кинжал из ножен и опустил его на шею Эристави, не успевшего не то что отклониться от удара, даже пошевелиться.
Кровь мужа обрызгала лицо и белое платье Дареджан, она вскрикнула и окаменела от ужаса.
Эристави дернулся, попытался было встать с места, но тут же упал как подкошенный.
Ираклий Беруашвили схватил его за поредевший чуб левой рукой, а правой отсек голову и бросил ее — с зияющим провалом рта и вытаращенными глазами — к ногам Теймураза.
— Аминь! Свершилась воля божья и святой великомученицы! — осенил все вокруг крестным знамением епископ, медленным шагом удалившись от трапезного стола.
Обезглавленное тело все еще корчилось на земле, когда монашки подхватили обрызганную кровью Дареджан и повели к роднику.
Тогумишвили снял с мертвого Эристави оружие и старательно накрыл буркой все еще истекавшее кровью тело.
Побледневший скорее от злобы, чем от сожаления Теймураз стоял на том же месте, обняв за плечи ошеломленного Датуну. Громко, чтобы все слышали, он обратился к своему младшему сыну:
— Этот человек обрек на погибель твою родину, твоих братьев и мою мать. Изменой и хитростью он хотел взойти на картлийский престол, хитростью же и был повержен, если можно назвать хитростью справедливую кару эту. Знай же, сын мой, что предателю и изменнику счастья не видать вовек, а уничтожить предателя — истинное счастье. Ираклий! — так же громко позвал Теймураз. — Скажи, какую награду прислала царица цариц тому, кто убьет Зураба, и что ты с этой наградой сделал?
Беруашвили удивленно взглянул на царя, но ответил внятно, не мешкая:
— Золотой крест, украшенный рубинами и жемчугами, прислала царица цариц из Исфагана в дар наказавшему Зураба… Этот крест я отдал… тебе, государь, — запнулся на последних словах Беруашвили.
Теймураз достал из-за пазухи крест, засверкавший всеми цветами радуги в алом пламени костра.
— Этот крест по праву принадлежит тебе, Ираклий! А теперь я приказываю тебе омыть отсеченную голову и отвезти в Тбилиси. Найдешь там лекаря, грека Илью, он набальзамирует голову, и ты преподнесешь ее шахиншаху в знак моей верности. — Теймураз горько усмехнулся. — Скажи ему так: Эристави убил твоего преданного царя Свимона, Теймураз же не простил ему этого и в знак верности и преданности посылает тебе голову изменника. — Царь замолчал, потер лоб согнутым указательным пальцем правой руки, потом продолжал так же твердо: — Постарайся через какого-нибудь перса поднести шаху этот дар и через него же передать мои слова… Сам же в пасть дракону не лезь… Ты, я помню, уроженец Марткопи, так вот: если вернешься с миром, я дарую тебе дворянство и Марткопи в фамильное владение… И еще… Возьми с собой Тогумишвили и его людей, пригодятся! А теперь в путь!
Теймураз, не заходя в шатер, велел всем собраться и вскоре со своей свитой уже скакал по дороге в Мухрани, залитой лунным светом и прихотливо извивающейся по благословенной картлийской земле.
* * *
К Мухрани они подъехали на рассвете. Царь поспешил в свои покои и, запершись в одиночестве, не раздеваясь, упал на постель. Утомленное тело его жаждало покоя, но сон бежал от царя, как заснеженная дорога из-под полозьев русских саней. Он лежал, устремив свои выразительные, светлые, редкие среди грузин глаза в дубовый потолок, всецело отдавшись бурному потоку мыслей.
…Первое нашествие кизилбашей на Кахети… Алаверди… Начавшееся в Алаверди восстание кахетинцев… В гостях или, скорее, в нахлебниках у имеретинского царя в Кутаиси… Марабда… В, Исфагане загубленные сыновья… Мученическая гибель матери Кетеван… Базалети… Саакадзе… Зураб Эристави… «Одному мне не справиться, нет! Ничего не выйдет. Может, податься к султану? Но я же был у него в Трапезунде, где он развлекался с женами, согнанными в летний гарем. И чего добился? В помощи он мне отказал, надарил халатов, двух девок из своего гарема „уделил“. Из богатейших наших земель, отторгнутых от нашей же родины после царицы Тамар, вернул Гонио, ахалцихские пастбища „пожертвовал“ от щедрот своих… Но против шаха выступить со мной вместе в союзе не пожелал… Как я его ни уговаривал, какую дань ни сулил, не согласился… Может, именно то и обозлило шаха, что я у султана был? Нет, его взбесила весть о русском посольстве. Он, видно, окончательно решил — или обратить грузин в ислам, или уничтожить. Но и от русского царя пока ничего утешительного не слыхать. Он тоже остерегается обоих — и шаха, и султана… Надо было мне хотя бы одного Левана забрать домой, но как? Ведь Дауд-хан сообщил мне, что Кетеван не желала показывать в таком виде наследника престола его подданным! Этот душегуб шах наверняка не уступит его мне! О, горе мое, сыновья мои! Несчастная моя мать!»
Теймураз хотел было привстать на своем ложе, однако почувствовал, что сил не хватает.
«В свое время царевич Александр, сын царя Георгия, заглядывался на мою Тинатин. Тогда он был еще дитя, а если бы он сейчас увидел Дареджан… Кто знает?.. Может, отправить ее в Кутаиси?.. Отвлечется немного… Александр мог бы и Датуну поддержать при надобности. Выглядит он честным, порядочным… А Датуну лучше подальше держать от Мухрани, вернуть в Кизики, там все родное, привычное и преданных слуг больше… Поехать к султану? Все равно что из огня в полымя угодить!.. Нет, Дареджан не будет оплакивать мужа! Ну и что ж, что плохо ей стало, а как же иначе — человека зарезали на ее глазах. Если бы она любила его, тотчас бы замертво свалилась. Зураб в отцы ей годился и обращался с ней грубо. Помню, как-то Дареджан писала матери, что он заставляет мыть ему ноги каждый день — утром и вечером… Пусть его горький конец послужит поучительным уроком остальным. Пусть все знают, какая кара ждет изменника!.. Не потерплю ни измены, ни лжи, ибо ложь — та же измена, если даже это ложь приятная… „Теймураз плохо управлял царством“, — скажут потомки наши. Эх, люди, люди! Порицать легко, а ну-ка попробуйте сами! Кто знает, как трудно поднимать разоренную, поверженную, обескровленную страну. Воровство, стяжательство, насилие, разбой, алчность, доносительство, измена, трусость, двуличие, мздоимство — с чего начинать, за что браться? Угнетатели научили нас лжи? лицемерию — пьют вино, а выдают за шербет для отвода глаз. Если человек бога своего обманывает, кому же он тогда правду скажет?! Все дурное мы быстро перенимали, легко усваивали, что же тут один Теймураз может поделать, когда пороки, усвоенные князьями, возводятся чуть ли не в обычаи! Отречься от веры, отправиться к шаху, чтобы разделить участь Луарсаба? Нет, веру я не предам! Да и что выиграли те, которые отреклись? Какую пользу принесли себе? Халаты, другие дары, спасение собственной шкуры? А родина, а народ?! Вот Саакадзе дважды веру менял: сначала шаху поклялся в верности, от Луарсаба отошел, потом от шаха отвернулся, перекинулся к султану. А что выиграл? Ничего! С помощью султана он Грузии добра не принес и не принесет! Зря он на османов надеется, ничего хорошего из этого не выйдет ни для него, ни для его потомков, ни для родины его!»
Жажда и падавшие на лицо жгучие лучи солнца заставили царя встать. Он напился прямо из кувшина, с наслаждением подставил лицо прохладной струе.
…Завтрак под большим ореховым деревом прошел в невеселом молчании. И Датуна, и Дареджан показались Теймуразу бледными и озабоченными. После завтрака он попросил их обоих остаться с ним наедине. Когда все ушли, он обратился к Дареджан:
— Тебе пришлось стать свидетельницей страшного зрелища, дитя мое, но мужайся, не стоит он того, чтобы ты его судьбу близко к сердцу принимала. Бабушка твоя была немногим старше тебя, когда почти собственноручно зарубила дядю моего, своего деверя, предателя Константина… Я послал туда людей, чтобы они привезли твои вещи… Хочу в Кутаиси тебя отправить.
— Может, мне немного побыть у Хорешан? — осторожно задала вопрос. Дареджан.
— Хорешан ты непременно повидаешь, так как путь твой лежит через Гори, а она сейчас в Гори пребывает. Погостишь у нее несколько дней, потом поедешь в Кутаиси. Там отдохнешь, развеешься, о пище для ума позаботишься, а то в Ананури и отупеть немудрено. А ты, Дато, — повернулся царь к сыну, — поедешь в Кизики, оттуда будешь следить за всем, что в Кахети происходит. Люди там надежные и преданные. Через некоторое время я опять тебя позову. С Гио-бичи не расставайся, держи его при себе неотлучно… — Царь замолчал, провел указательным пальцем правой руки по нахмуренному лбу и чуть ли не шепотом продолжил слово свое: — Кроме тебя, сын мой, у меня не осталось наследников… Будь осторожен… Ступай в Тианети, оттуда горцы проведут тебя в Кахети. Они ненавидели Зураба и враждовать со мной не станут. Ехать через Тбилиси далеко и опасно… И лошадь мне твоя не нравится, строптива больно. Возьмешь Ласку, коня Зураба, вместе со сбруей. Постарайся добром смыть зло, которое он на этом коне совершал. — Царь снова умолк, отпил воду из кувшина, отер усы платком и продолжал неторопливо, обстоятельно: — Когда будешь Алаверди проезжать, насести могилу деда, Давида Джандиери тоже не забудь, Мне кто-то говорил, что его в Саингило похоронили, — узнай все как есть. Он был моей верной опорой и надеждой. Приведи в порядок могилу матери Александра и Левана… Горе мне, дети мои! Кто знает, сколько раз взывали вы, бедные сыновья мои, к несчастной матери вашей!..
На следующее утро отправил он Датуну в путь.
Теймураз чуть свет вышел во двор. Отобрал самых падежных пшавов и кизикийцев, которым и велел сопровождать царевича в Кахети. Собственноручно поддержал ему стремя, грустно, заботливо оглядел сидевшего в седле сына и велел ему наклониться. Ласково ухватив его за густой чуб и притянув его голову, отец впервые открыто поцеловал сына, шепнул на ухо:
— Ну, смотри, сынок, запомни накрепко, что ты моя последняя надежда и связь с жизнью!
Слегка смущенный Датуна тоже поцеловал отца, а затем гордо выпрямился и лихо пришпорил коня. Гио-бичи тенью последовал за царевичем. Теймураз откашлялся и крикнул вслед чуть хрипловатым от волнения голосом:
— Смотри за ним, Гио-бичи!
Юноша живо натянул поводья и, повернув коня, звонким голосом ответил:
— Я жизнь отдам за наследника престола, великий государь!
У Теймураза мороз пробежал по коже — мальчишка, столь откровенно поносивший его при первой встрече на Алазани, впервые назвал его великим государем, признавая тем самым его труды и старания. Время может возвысить имя человека, может и предать его забвению.
Царь не стал возвращаться в Мухранский дворец, нечего было ему там делать. Велел Иотаму Амилахори, находившемуся при нем неотлучно, собираться в дорогу.
Прощаясь с цилканским епископом, он сам вспомнил о его вчерашнем намеке:
— Коли будет мир, выполню твою просьбу, святой отец. Наберись терпения, и я построю церковь лучше той, которую возвел Бакар.
Епископ порадовался благоволению царя, отвечал с достоинством:
— Не печалься, великий государь, — вслед за Гио-бичи и он назвал Теймураза великим государем, догадываясь, что ему это обращение приятно. — У страны сейчас и без того много забот, мы и старыми церквами пока обойдемся. Бог да поможет тебе, аминь!
Теймураз красиво вскочил в седло, дал знак следовать за ним ловко сидевшей в седле Дареджан и сообщил Иотаму, что завтракать он намерен в его дворце в Квемо-чала.
В полдень, когда они миновали Игуэтскую заставу, Йотам поскакал вперед, чтобы подготовить царю достойную встречу. Теймураз, скакавший рядом с дочерью, лошадь перевел на шаг и негромко заговорил с ней:
— Ты — кровь моя и плоть, а потому негоже мне об этом говорить, но и умолчать не могу. Вчера и сегодня приглядывался я родительскими глазами к тебе и должен с радостью признаться, что многое видевший твой отец не припомнит никого, кто мог бы сравниться с тобой. Ты воистину богом рождена царицей, дочь моя, и коли разумно будешь действовать, быть тебе на престоле.
— Я и думать об этом не хочу, — робко, но достойно улыбнулась красавица Дареджан. — Ты за меня не волнуйся. Я этого человека никогда не любила. Более того, я презирала его. А теперь, ненавижу из-за моих Александра и Левана, ненавижу от души! — Дареджан, подражая отцу, первым назвала Александра, желая выразить всю сестринскую любовь и нежность. — Змеем истинным он был и дух испустил, как змей. Я жалею лишь о том, что бабушка не смогла увидеть собственными глазами конец лютого врага нашего… …А этот парень, названый брат Датуны, выглядит молодцом, я думаю, свое обещание он выполнит. Такие люди слов на ветер не бросают.
— Помни, дочь моя, — сказал Теймураз, — чем ниже сословием и беднее человек, тем меньше в нем ханжества и корысти, тем чище он душой своей. В князьях преданности не ищи, редко кто походит на Джандиери и Амилахори, верных людей найдешь лишь в тружениках, в поте добывающих свой хлеб. Все остальные отравлены духом стяжательства, лишь на простых людей можно положиться до конца, хотя и возвышать их не следует, дабы не портить. Ведь недаром мудрость эта сказана: всяк сверчок знай свой шесток!
Дождь хлынул как из ведра.
Промокшие насквозь всадники ехали по ущелью Лехуры. С гор неслись хлынувшие мутные потоки, наводняя чалинскне земли и неся с собой огромные камни.
Громовые раскаты сотрясали ущелье, небо будто рушилось. Густые темные тучи, траурным покрывалом окутавшие вершины гор, затемняли все ущелье. Сама природа лила горькие слезы на многострадальную грузинскую землю, которая видела больше крови и боли, чем радости и веселья.
* * *
Кутаисский дворец радушно принял очаровательную вдову Зураба Эристави.
Царь Георгий по-отечески ласково побеседовал с нею, за столом рядом с собой предоставил постоянное место. Не обходили гостью вниманием и его дочери. В чтении книг, в конных состязаниях или стрельбе из лука, в танцах или пении — Дареджан всегда была первой. Лихо переплывала она полноводный Риони, больше всех знала стихов. Если в рукоделии невестка Георгия Саакадзе Хварамзе опережала Дареджан, то во всем остальном гостья не имела себе равных. Потому-то она быстро освоилась и начала чуть свысока поглядывать на окружающих. Своего превосходства молодая вдова и не думала скрывать, поэтому, принятая на первых порах с искренним радушием, скоро оказалась окруженной завистью, недобрыми взглядами и сплетнями.
Слухи об этой зависти дошли до самого царя Георгия. Он сурово отчитал за столом младшую дочь Хварамзе, которая и была одной из основных соперниц Дареджан, а потому именно от нее исходили злые наветы. От этой царской поддержки Дареджан еще более возгордилась, хотя бдительности не теряла и все время была начеку.
В тот вечер Дареджан кормила кукурузными зернами фазанов в дворцовом саду, нараспев декламируя при этом рубаи Омара Хайяма, которые знала назубок с детства:
— Кто пол-лепешки в день себе найдет, Кто угол для ночлега обретет, Кто не имеет слуг и сам не служит — Счастливец тот, он хорошо живет.— Почему, госпожа, мы с тобой, как и наши близкие, не можем удовлетвориться лишь хлебом и водой? У тебя, милая моя, должно быть много слуг, и сама должна служить достойнейшему на свете человеку. Иначе жизнь потеряет свою прелесть! — раздался за спиной Дареджан мужской голос.
Она обернулась и, увидев царевича Александра, даже бровью не повела, продолжала как ни в чем не бывало кормить фазанов и напевать вполголоса:
— Пусть буду я сто лет гореть в огне, Не страшен ад, приснившийся во сне; Мне страшен хор невежд неблагородных, — Беседа с ними хуже смерти мне.Царевич зашел с другой стороны, однако она по-прежнему не жаловала его вниманием, делая вид, будто поглощена созерцанием фазанов, клюющих зерна кукурузы.
— И опять я с тобой не согласен, госпожа Дареджан! Если невежды неблагородные страшны тебе, как же ты хочешь довольствоваться нищенской жизнью? И что же ты таким образом обретешь, какое благо?
— В обители о двух дверях чем, смертный, ты обогащен? Ты, сердце в муках истерзав, на расставанье обречен. Поистине блажен лишь тот, кто в этот мир не приходил. Блажен, кто матерью земной для жизни вовсе не рожден.— Кто сочинил эти стихи, ты сама или… — спросил обескураженный царевич.
— Омар Хайям, — отрезала Дареджан, соизволив наконец обернуться к собеседнику. «Красивый юноша, — подумала она, не сводя с царевича испытующего взгляда, — рослый, статный, лицо открытое, доброе, в гневе, похоже, вспыльчив, а в ласках, должно быть, нежен и горяч, не то, что тот…» По неписаному закону всех женщин она сразу же сравнила Александра с тем, кого успела узнать в своей недолгой жизни.
— Откуда ты знаешь столько стихов, госпожа, и чего ради так утомляешь свой ум?
— Меня бабушка обучала…
— А кто их перекладывал на грузинский?
— Мы с бабушкой…
— И стоило столько стараться?
Дареджан ответила стихами:
— Давно меж мудрецами спор идет — Который путь к познанию ведет? Боюсь, что крик раздастся: «О невежды, Путь истинный — не этот и не тот!»— Я вовсе не думаю, что мне ведом истинный путь. И совершенно не считаю себя мудрецом, грехами своими тоже не кичусь, — возразил царевич, не смущаясь колкостей.
— Не всегда в отсутствии грехов дело, и мудрость без греха тоже ничто, а скорее всего — добро и грех сам черт не разберет.
Защитник подлых — подлый небосвод Давно стезей неправедной идет. Кто благороден — подл пред ним сегодня, Кто подл — сегодня благороден тот.— Ты, госпожа, только ты подвигнешь меня на истинное благородство, научишь отличать добро от зла! — пылко воскликнул царевич, приближаясь к Дареджан.
Она же спокойно продолжала, пригасив длинными ресницами лукавый блеск своих глаз:
— Пока в дорогу странствий не сберешься, — не выйдет ничего. Пока слезами мук не обольешься, — не выйдет ничего.Александр упал перед красавицей на колени: — Позволь мне быть твоим проводником, слугой, рабом, твоим верным спутником на весь остаток дней наших!
— Но это не мои слова, — с легким кокетством улыбнулась Дареджан.
— Слова, произнесенные твоими волшебными устами, только твои! Ты говори, богиня моя, а я готов внимать голосу твоему всю свою жизнь!
— Выше всех поучений и правил, как правильно жить, Две основы достоинства я предпочел утвердить. Лучше вовсе не есть ничего, чем есть что попало; Лучше быть в одиночестве, чем с кем попало дружить.— Я, я заставлю тебя отречься от одиночества, только лишь позволь поклоняться тебе, служить тебе, ибо я не «что попало», я будущий царь Имерети! Я только об этом мечтаю с тех пор, как ты появилась в нашем дворце! — Не вставая с колен, изъяснялся царевич в пылких чувствах к гостье-чаровнице, которая вспомнила слова отца о том, что она рождена быть царицей. Вспомнила и подумала, что если не весь грузинский, то имеретинский престол от нее наверняка не уйдет. Потому-то она легко опустила свою нежную ручку на голову дрожащего от волнения Александра.
— Встань, царевич! Настоящая любовь нетороплива и спокойна, как кахетинская река Алазани, она медленна и величава в своем могуществе, а твой Риони слишком стремителен в своих верховьях…
— Разве я не сдержан и не робок с тобой? — Александр обвил колени сидящей красавицы. — Я, как только увидел тебя, решил, что ты станешь моей женой, но сама знаешь, молчал, слова не проронил. Избегал тебя, издали наблюдал. Ненароком подсмотрел недавно, как ты с сестрами моими в Риони купалась, тогда я и понял окончательно, что таиться больше нельзя, потому-то и отринул робость…
— И это ты называешь робостью? — чуть повысила неуверенный свой голос Дареджан, будто пытаясь выскользнуть из не очень-то крепких объятий царевича.
Почувствовав женскую хитрость, Александр живо вскочил, обвил правой рукой стройную шею красавицы, бешено приник к ее алым губам. На этот раз она пыталась сопротивляться, но быстро затихла, блаженно прикрыв свои глаза густыми черными ресницами…
Прошло несколько мгновений, прежде чем Александр оторвался от ее губ, хмельной от счастья, и горячо прошептал:
— Мы, имеретинцы, народ пылкий, неукротимый и в любви, и в ненависти… Сегодня же я поговорю с отцом. Ты пришлась ему по душе. Я знаю, он без колебания даст согласие. Завтра же будем венчаться!
— Не спеши, Александре-батоно, надо и моего отца спросить. Ведь он родитель мой и царь Картли и Кахети. Не забудь также и то, что перед свадьбой, по установленному обычаю, должно быть обручение, все имеет свои правила и свой порядок.
— Завтра же пошлю сватов к царю Теймуразу, а свадьбу можно сыграть и без обручения, наш кутаисский католикос разрешит нам это, — улыбнулся Александр и снова приник к губам Дареджан страстным поцелуем. На этот раз она больше не сопротивлялась.
…Свадьба состоялась осенью. Собрались все князья Западной и Восточной Грузии, тавады Амер-Имери, азнауры Картли и Кахети, знатные вельможи Имерети, Гуриели и Дадиани, рачинцы и лечхумцы, сваны и аджарцы, гости из Самцхе-Саатабаго и Абхазии беспрерывным потоком ехали в Кутаисский дворец.
Теймураз и Хорешан были довольны: сидящий в Гелати католикос Имерети и Абхазии объявил это бракосочетание еще одним шагом к объединению родины.
От султана пожаловали послы с подарками.
Датуна не приехал из Кизики, его одного не было на свадьбе. На приглашение он ответил так: «Как брат Александра и Левана, как внук царицы Кетеван, я не имею права пировать и веселиться до тех пор, пока сполна не отомщу за них». И еще добавил: «Сестра могла хотя бы годик подождать. Злодей хоть и был врагом, но все же назывался ее мужем перед богом и народом».
Теймуразу прямо в сердце угодили слова сына — это было первое проявление независимости и своеволия Датуны, вносившее трещинку, хоть и легкую, но все-таки трещинку в прочные до того отношения между ними, основанные на любви и доверии. Упрек, высказанный в адрес сестры, касался и отца, — причем не косвенно, а непосредственно. В поступке Датуны Теймураз усматривал и великодушие к непримиримому врагу, а это открытие, вдобавок ко всему, еще больше встревожило Теймураза — царя и отца, потерявшего двух сыновей: мягкость, проявленная к недругу его единственным сыном, казалась признаком отсутствия твердости.
На третье утро брачного пира Теймураз навестил только что поднявшихся из-за стола царя Георгия и Александра. Те радостно встретили свата и тестя, который, ссылаясь на недомогание, каждый вечер уходил с пира раньше положенного, избегая ночного бражничанья.
— Прошлый раз я уже говорил вам, мой Георгий и сын мой Александр, а сейчас еще раз хочу повторить: немного поспешили мы с этой свадьбой. Не хотелось вспоминать об этом — раны бередить, но нынче ночью приснилась мне мать моя, государыня Кетеван. Порадовалась свадьбе внучки, но напомнила и о том, что я обязан рассчитаться с врагом. Меж шахом и султаном опять назревает ссора, сказала она мне, не упускай удобного случая. Я и без вещего сна знал, что спор меж ними рано или поздно возобновится, потому нынче спешу в Гори: надо предпринять кое-что, ибо давно настала пора очистить Тбилиси от кизилбашей, а может быть… — Теймураз на мгновение умолк, потер лоб по своей всегдашней привычке и продолжал, опять понизив голос: — Может быть, даже сами против шаха выступим. Дауд-хан давно предложил мне свою помощь… И армяне просят поддержки, по-братски соглашаясь на любые условия, лишь бы вырваться из рабства шаха… Потому-то я и поспешил со свадьбой.
— Можешь положиться на нас, отец, — опередил Александр царя Георгия. — Только сообщи нам о своем решении, и мы готовы!
— Если не мы сами, то войско наше в твоем распоряжении, — степенно прервал сына Георгий. — Уже время воспользоваться противоречиями между шахом и султаном, позаботиться о воссоединении родины нашей раздробленной. Я вот еще о чем хотел сказать, — нашел Георгий долгожданный момент, чтобы хоть как-то оправдаться перед Теймуразом, — именно этим объединением родины и соблазнил меня Георгий Саакадзе на Базалетскую нашу… горечь, — нашел подходящее слово имеретинский Багратиони. — Хотел родину возвысить, а стал участником позора нашего и боли общей.
Беседа была недолгой.
Теймураз поспешил за Лихский хребет, с незапамятных времен признанный границей, отделявшей Амери от Имери, стереть которую со времен царицы Тамар не смог ни один из ее близких наследников и далеких потомков.
* * *
У всадников, днем и ночью скакавших по земле Парса, спирало дыхание от знойного, изнурительного ветерка, — беспрестанно дувшего со стороны моря, и песчаной поземки, стелившейся по земле с легким шипением, свистом и шелестом. Ветер упорно подхватывал и уносил все, что попадалось на пути. Всадники задыхались, валились с ног кони, загнанные и измученные этой изнуряющей природой. А ветерок не затихал, не прекращался, дул не переставая, выматывая человека и все живое на этой изможденной жаром земле.
Через множество испытаний прошел старший сын Дауд-хана Мураз-хан вместе со своими смелыми и ловкими сподвижниками, благодаря отваге и сметке, множество препятствий и невзгод преодолел за недолгую бурную жизнь, но эта гнетущая душу и сердце песчаная поземка была самым страшным испытанием. Она доводила до полного изнеможения отважных воинов, по воле Дауд-бега днем и ночью спешивших из Карабаха в Шираз. Единственным утешением для них служило то, что до Ширазского дворца оставались всего одни сутки пути.
Дедовские владения, на которые он тоже имел определенные права, не прельщали его, и о богатствах отца он не думал, но вот Елена-ханум… Молодой хан никак, не мог забыть залитые слезами глаза новой жены отца, ее длинные трепетные пальцы лишали его покоя. По наущению шайтана, не иначе, в голове возникла шальная мысль о том, что после смерти отца и гарем, и все его жены достанутся ему, Мураз-хану. Шайтана, однако, нигде не было видно, а облик Елены-ханум так настойчиво стоял перед его глазами, что даже удушливый, знойный ветерок не мог стереть этого неотвязного видения. Прелести мачехи мерещились юноше и днем и ночью. Потому-то и летел он к намеченной цели, не зная устали, не щадя ни себя, ни своих приближенных, только бы выполнить вовремя волю отца и мольбу Елены-ханум.
Неожиданно вырос перед ними караван-сарай.
…Первым возле караван-сарая соскочил с коня Мураз-хан, обошел лежавших на земле верблюдов и велел хозяину накормить коней и позаботиться о спутниках. Для себя распорядился приготовить отдельное ложе; чтобы окончательно разбудить сонного хозяина, назвал ему свое имя.
Хозяин засуетился, всем десятерым дал умыться после пыльной дороги, накормил их достойным ужином, на ночлег устроил рядом с чайханой, в которой для подобных случаев держал рабынь, пригнанных на продажу со всех концов света.
Мураз-хан в чайхану не вошел, пожелал отдохнуть с дороги и спутникам своим нежиться с девицами не позволил: дорога впереди лежала еще длинная, а времени оставалось в обрез. Распоряжение повелителя несколько удивило его приближенных, которые чуть ли не с детства росли и воспитывались вместе с ним; удивило, однако они не проронили ни слова, ибо знали, что Мураз-хан спешил, хотя причина спешки была им неизвестна.
…Усталый Мураз-хан не смог сомкнуть глаз. Ветер пустыни и здесь не давал покоя, в ушах стоял его протяжный стон. И то тревожило, что они могут не поспеть… Да тут еще величественный образ Елены-ханум вставал перед глазами и сводил с ума. Молодой хан чувствовал, что теряет к себе уважение и готов был предаться самобичеванию. Вера вроде бы оправдывала его тяготение к жене отца, но как грузин он гнал от себя эту позорную мысль и стыдился ее.
«Я скорее с собой покончу, чем предам отца даже? мыслях», — решил Мураз-хан, вскочил со своего ложа и ворвался в чайхану. Все десять всадников были там… Хан рассмеялся.
— Я знал, что найду вас здесь, — сказал он и велел тотчас собираться в дорогу.
…В Шираз они прибыли после полудня. Сторожевые молча пропустили во дворец племянника бегларбега. Имам-Кули-хан ждал своего любимца, которого называл гордостью рода Ундиладзе. Не тратя времени на расспросы о домашних, он перешел прямо к делу.
— Человека-то к твоему отцу я послал, но надежды на успех у меня нет. Она очень упряма. На днях шах прибывает в Шираз. Я догадываюсь о том, что произойдет, потому-то хочу, чтобы ты поговорил с царицей от имени твоего отца… и от имени ее дочери тоже… поговорил и сегодня же исчез. Наш долг еще раз попытаться ее спасти.
— Где она?
Имам-Кули-хан вызвал слугу:
— Проводи хана к царице, следи, чтобы никто их не подслушивал. Доложи немедленно, если кто-то увидит, как он к ней заходил. Сторожевому, который охраняет ее дверь, сегодня же отсеки голову, ибо эта голова слишком много знает того, чего ей не надобно знать. Знающая все голова в любом дворце должна быть одна-единственная.
Кетеван, лежавшая на тахте, привстала, когда Мураз-хан вошел в келью. Он низко поклонился, попросил прощения за то, что явился незваным, и быстрым взглядом окинул скромное убранство кельи.
Царица не предложила гостю сесть — не хотела никого видеть, ни в ком не нуждалась.
Мураз-хану Кетеван показалась дряхлой, больной старухой, а вовсе не такой мужественной, исполненной силы и мудрости женщиной, как он представлял ее по рассказам отца. Он поспешил изложить свое поручение:
— Отец мой Дауд-хан и дочь твоя Елена-ханум послали меня с поручением к тебе. — Царица устремила на юношу ничего не выражающий взор и не произнесла ни слова. Мураз-хан, ждавший если не восторженного приема, то хотя бы ее пристального внимания, вызванного его сообщением, окончательно сник и посчитал свой приезд напрасным: стоило ли, в самом деле, мчаться сюда сломя голову ради того, чтобы на тебя смотрели как на пустое место! Потому-то он продолжал без всякого энтузиазма: — Очень скоро в Шираз прибудет шах. Отец мой прослышал, что, разгневавшись на Теймураза, он решил выместить зло на тебе, государыня. Отец и дочь твоя Елена просила тебя не давать ему повода для расправы, не упорствовать — принять его веру, иначе тебя ждет пытка, так они велели передать тебе.
Мураз-хан закончил свою короткую речь. Царица молча, не шелохнувшись, сидела на тахте.
В келье стояла могильная тишина. Юный хан вконец растерялся от явной тщетности своих попыток. Растерялся и снова пожалел о зря потраченном времени и бессмысленных переживаниях. Вспомнил и последнюю ночь, и чайхану в караван-сарае… Сидевшая перед ним старуха была похожа не на царицу, а скорее всего на какое-то привидение. На исхудавшем — кожа да кости — теле тряпьем висело черное траурное платье. Бескровное, сморщенное лицо и глядевшие в одну точку глаза делали ее похожей на покойницу.
Мураз-хан переступил с ноги на ногу.
Кетеван внезапно обратила на гостя свой неподвижный взор и негромко, но твердо, как бы повелевая, произнесла:
— Садись.
Это одно-единственное слово точно привело в сознание ошеломленного юношу — он как завороженный подчинился ее повелению… Да, повелению, произнесенному почти шепотом, подобного которому он не слышал даже от отца. В этом единственном слове он ощутил непостижимую сверхчеловеческую силу, цену которой знал еще со времен деда своего Алаверди-хана, при дворе коего здесь, в Ширазе, провел он свое детство и отрочество.
Царица отвернулась, стала глядеть в окно.
— Ты зря старался, сын мой. Зря старались и дочь моя, и… мой зять, — ей трудно далось это слово «зять», но продолжала она твердо. — Я не для того сюда приехала, не затем загубила двух внуков, которые были светом очей моих, чтобы принять вашу веру и предать мой народ… Нет! Уже год прошел с тех пор, как рядом с незабвенным Александром моим схоронила я мою вторую радость — Левана. И меня там же должен похоронить твой дядя, если я вообще буду удостоена погребения… Ты молод, и дай тебе бог долгой жизни… Передай отцу и дочери моей мои последние слова: в юности пожалована была мне судьба царицы Грузии. И в старости я не изменю своему долгу перед родиной и народом моим. Мукой моей и моей смертью возвысится народный дух на века, и ради возвышения народа моего я готова на жертву любую. Не предам внуков моих, за чьи страдания я в ответе полном. С радостью приму любую пытку, ибо лишь ею смогу оплатить свой материнский долг перед погибшими царевичами и Грузией моей, для которой не смогла сберечь двух достойнейших сыновей. Отцу своему скажи, передай этому доброму человеку, чтобы он поворачивался к родине лицом, ибо только его соотечественники и будут поминать имя его и род ваш, неверным же вы не нужны. Лучше жизнь отдать в страданиях за родину, чем предаваться блаженству на чужбине. Это мой материнский наказ им, и тебе тоже. — Царица умолкла на мгновение, потом продолжала: — А теперь ступай с миром, положи конец тревоге дяди твоего. Грузия много жертв приняла, много жертв еще примет, примет и мою душу. Плоть и кровь наследников моих, принесенные на алтарь отечества, сослужит добрую службу для будущих поколений. Добро нельзя завоевать без жертв, без жертв не объединится, не окрепнет наша истерзанная, разорванная на куски страна. Сегодня я хочу принести эту жертву, ибо на другую у меня не достанет сил. Мне даровано судьбой стать матерью отчизны, и я до конца выполню свой долг. Чужую веру принять мне уже предлагали. Долго уговаривали меня католики-миссионеры, монахи-августинцы… Но я от своей веры не отрекусь, ибо грузинкой родилась, грузим рожала и грузинкой уйду из этого мира, ибо наш сильный дух и наша православная вера для меня и моего народа одно-единое, неделимая основа основ будущего счастья отчизны нашей.
Голос царицы, сила ее слов, неколебимая стойкость и воля произвели на Мураз-хана такое впечатление, что он как подкошенный упал перед ней на колени и почтительно приник губами к ее иссохшим рукам.
Кетеван по-матерински положила свою руку на его голову, затем правой же рукой провела по щеке, подняла за подбородок опущенное лицо, заглянула в глаза. Взор царицы проник в самую глубину сердца юного хана.
— Глаза у тебя грузинские и душа, значит, грузинская, ибо глаза — зеркало души. Будь верным сыном отчизны твоей, сын мой! Оторвавшийся от родины человек нигде и никогда не будет знать настоящего человеческого счастья. Дочери же моей скажи, пусть передаст Теймуразу, чтобы он не оставлял нас здесь: всех троих пусть перенесет в Алаверди, тайком, с помощью отца твоего и дяди. Пусть и меня похоронит рядом с внуками и их матерью. Пусть положит царевичей между мной и матерью их… А теперь ступай, наслаждайся жизнью и молодостью своей в этом сложном, но прекрасном мире…
Кетеван перекрестила юношу. По лицу его стекали слезы. Ему хотелось зарыдать в голос, но он сдержался и снова приник губами к руке старой женщины, в которой вдруг, сам рано осиротевший, увидел мать. Кетеван как родного сына прижала юношу к иссохшей груди. И его вдруг захлестнула неудержимая жажда неизведанной в детстве материнской ласки.
Оросив слезами и покрыв поцелуями эти многострадальные материнские руки, Мураз-хан, как безумный, выбежал из кельи, сумрачной даже при дневном свете.
* * *
Имам-Кули-хан с подобающими почестями встречал шаха Аббаса.
Весь Шираз высыпал на улицы. Караван-сарай и базар опустели — и купцы, и горожане с нетерпением ждали прибытия великого шаха, уподобленного всевышнему аллаху.
Верхом на белом коне въехал в Шираз краснобородый старец. Глаза его сохраняли юношеский блеск, и в седле он держался по-прежнему ловко, спина, однако, была согнута дугой, как у горбуна, — годы сломили даже всемогущего повелителя Вселенной, как он величался на земле своей. Справа от него ехал на вороном коне Имам-Кули-хан, повадкой и статью явно затмевавший шаха. Те подданные, которые видели впервые их обоих, за шаха принимали рослого, не старого еще бегларбега.
Праздной и любопытной толпе не было дела до дум, тайных замыслов и намерений шаха, они встречали его появление, распластавшись по земле, величали его земным аллахом и готовы были отдать за него жизнь, хотя жизнь каждого из них ровным счетом ничего не значила для Аббаса. Но преданные ему и аллаху подданные благоговейно преклонялись перед ним.
Шах спешился, как только въехал в ворота дворцового сада, расправил колени, затекшие от долгой езды, бодрым, быстрым шагом прошел по аллее и резво поднялся по лестнице, ведущей на просторный балкон. Скользнув взглядом по роскошно накрытому столу, сначала пожелал посетить баню и лишь потом приняться за еду.
После бани, утолив голод, Аббас повернулся к Имам-Кули-хану и спросил о царице Кетеван.
Услышав о смерти обоих царевичей, с сожалением покачал головой, хотя в этом сожалении было больше притворства, чем человеческой скорби:
— Сами виноваты, сами… Больше никто не виноват. И этот мой воспитанник Теймураз — такой же строптивец, как эти мальчики, похожие на своего отца. Я звал его к себе, а он в тысяча шестьсот двадцатом году, то есть в год вразумления своих сыновей, к султану отправился и получил от него в дар Гонио, а от меня — заботу о вразумлении его отпрысков… Упрямцами они были воспитаны, от упрямства своего и погибли. Не пожелали жить скопцами, как будто это позор. Хорошего евнуха я предпочитаю хорошему хану, больше ценю его верность и преданность… — заключил повелитель, искоса поглядев на хозяина дома.
Смысл его многозначительных взглядов и намеков ни от кого из присутствующих не укрылся. И все-таки хозяин с деланной покорностью учтиво улыбнулся своему повелителю.
— Твоими устами аллах вещает истину.
— А что делает эта женщина? — как бы между прочим спросил шах, которому улыбка хозяина не пришлась по вкусу — улыбка, молнией сверкнувшая на лице озлобившегося грузина, всегда напоминала ему блеск вражеского клинка.
— Затворилась в келье, как шайтан; я полагаю, она уже не в своем уме, — тотчас ответил хозяин, который хорошо знал цену вовремя обдуманного и метко сказанного слова.
— Рассудок у нее мог отнять аллах, для того чтобы подарить кое-кому из моих ханов, — не замедлил с ответом шах, глядя на собеседника прищуренным, пронизывающим насквозь взглядом, — а то у некоторых из них ум с годами начал постепенно слабеть.
Имам-Кули-хан ничего не ответил, но когда шах снова принялся за еду, яростно вонзил зубы в огромный кусок жареного ягненка, выразив этим всю меру еле сдерживаемой злобы. Шах прекрасно это понял, но промолчал. Аббас хорошо знал границы слова, хотя с некоторых пор у него появилась привычка с подданными разговаривать не намеками и недомолвками, а резать сплеча, говорить прямо. Однако кое-кому он и сейчас остерегался до срока открывать свои замыслы. Именно непроницаемостью и таинственностью страшен был его взгляд, его прячущаяся за коварной улыбкой злоба. Предусмотрительные подданные всегда старались проникнуть в его невысказанные мысли, стремясь заранее предвидеть причуды гнева или нежданных милостей.
Вот и сейчас понял Имам-Кули-хан, что шах ищет повода, чтобы обрушиться на него. Понял и затаился, сжигаемый затаенной ненавистью к нему.
— Я хочу видеть эту женщину, — снова изволил заговорить шах.
Хозяин перестал есть, поднялся и с балкона вошел во внутренние покои дворца. Вернулся он нескоро и весьма обескураженный:
— Она не пожелала прийти, повелитель.
— Я не затем тебя послал, чтобы ты спрашивал ее о желании, я велел доставить ее сюда, Имам-Кули-хан!.. Раньше ты без слов понимал меня, а теперь и слов не понимаешь! — злобно ухмыльнулся шах. — Смотри, не привыкай к поражениям, Имам-Кули-хан, это дурная привычка.
На сей раз хозяин отсутствовал недолго, его приближенные привели царицу, которая, судя по всему, следовала за ними добровольно, неторопливым шагом, гордо подняв голову.
— Здравствуй, царица, — протянул с улыбкой и интонацией евнуха шах, насмешливо выделяя слово «царица», — зачем пожаловала? — в голосе его звучала утонченная издевка, старательно завуалированная.
— Мне передали твое приглашение, шахиншах, полотому я и пришла, — спокойно отвечала царица, выдвинув скамью и садясь чуть ли не рядом с шахом, который на мгновение — лишь только на мгновение — смутился, увидев эту поистине царскую повадку узницы, но тотчас пришел в себя. Это мгновение стоило царице целой жизни, ибо самая долгая жизнь может раствориться в одном-единственном миге.
— У нас как раз осталось много еды, и я захотел угостить тебя. Ешь, царица христиан, ешь на здоровье, а то похудела слишком! Ешь, все равно эти объедки выбросить придется, а жалко, — с этими словами шах поднялся.
— Правильно, что встал! Ты младше меня и должен разговаривать со мной стоя, я ценю твою благовоспитанность, шахиншах… Что же касается еды, то я только что пообедала…
— Да… вот что я хотел сказать, — прервал ее шах, глаза его метали молнии. — Завтра сообщи мне через Имам-Кули-хана о своем согласии принять нашу веру. Оставьте и ты и твой сын навсегда надежду на единоверцев. Это мое последнее слово! — едва договорив, шах круто повернулся и стремительно ушел в зал, сопровождаемый хозяином…
…На рассвете следующего дня огромная площадь, примыкавшая к задней стене дворца Имам-Кули-хана, была заполнена несметной толпой, пригнанной по велению Аббаса. На площадь выходил лишь узкий балкон, с которого обычно бегларбег Парса Алаверди-хан разговаривал со своими подданными. С этого же балкона объявлял народу свою волю нынешний правитель Шираза. А сегодня именно под этим балконом ярко полыхал костер, языки его пламени жадно лизали медные бока огромного котла, в котором клокотала вода. Рядом с костром был сооружен небольшой помост, предназначенный, казалось, для театрального представления.
Стоял по-южному знойный день, с самого утра Шираз и его окрестности утопали в мутной дымке.
Люди стояли молча, понурив головы.
Толпа росла, ежеминутно увеличивалась, переливалась бескрайним морем, сливаясь с мерцающим маревом. С глухим рокотом наплывали волны приглушенного шепота. Воины из шахской гвардии и люди Имам-Кули-хана живым кольцом окружили костер, возле которого хлопотало с десяток таджибуков и чиянов. Оголенные выше пояса, в одних лишь широких шальварах, они совали в огонь огромные клещи и железные прутья, раскаляя их докрасна. Толпа, не раз бывавшая свидетелем подобных зрелищ, терпеливо ждала начала: чернь любила представления, которые ничем ей не грозили и объявлялись деянием, угодным аллаху и повелителю Вселенной.
Солнце уже стояло в зените, когда шах Аббас появился на балконе в сопровождении Имам-Кули-хана, трех других ханов, прибывших с ним из столицы, и рыжего ширазского муллы с бородой чуть ли не до колен.
Ловко подогнув под себя ноги, шах уселся на покрытую дорогим ширазским ковром тахту, стоявшую возле низких перил, и, облокотись на мягкие подушки и мутаки, принялся перебирать скрюченными стариковскими пальцами янтарные четки. Потом он поднял правую руку с четками, жестом повелевая замолчать толпе, восторженно приветствовавшей своего повелителя.
Как только толпа затихла, рыжий мулла выступил вперед и, облокотись на перила, искоса взглянул d сторону небольшой двери, расположенной под балконом.
Дверь отворилась, и два таджибука вывели на площадь царицу Кетеван.
Она шла спокойным, твердым шагом, высоко подняв голову. Ее бескровное морщинистое лицо казалось еще более бледным на фоне черного траурного одеяния. Устремленные прямо перед собой глаза мрачно, но величественно поблескивали из-под упрямо сдвинутых бровей.
Когда она подошла к лобному месту, палачи, поджидавшие ее, хотели помочь ей подняться, но она, оттолкнув их, сама взошла на помост и с достоинством осенила толпу крестным знамением.
— Горе тебе, мать родимая! — крикнул кто-то по-грузински из толпы.
Шах услышал этот горестный вскрик, но лишь едва заметно насупил брови.
Выступивший вперед мулла заговорил пронзительным тонким голосом, зато стража вмиг ринулись в толпу в поисках кричавшего.
— Великий повелитель мира, наместник аллаха на земле, повелитель всех царей, солнце Вселенной, шахиншах Аббас Первый повелел этой женщине, кахетинской царице, матери кахетинского царя Теймураза Кетеван принять самую истинную веру из всех существующих на земле, дабы подчиненные шахиншаху Кахети и вся Грузия, унаследованные им от отцов и дедов на века и принадлежащие ему, пока сияет в небе солнце аллаха, отреклись от Христа и на благо народа грузинского приобщились к великому сонму почитателей аллаха. Однако ни эта женщина, ни её сын не приняли милостей негасимого светила, повелителя мира всего шахиншаха и не отреклись от веры Христовой, не пожелали вызволить Грузию из-под проклятой власти шайтана, чем нанесли большой урон своему народу, малую часть которого спас повелитель, переселив в нашу благословенную аллахом страну, а большую часть он еще переселит, дабы очистить свои собственные земли от неверных и заселить приверженцами аллаха, дабы спасти и осчастливить народ Грузии, приобщить его к истинной вере, покорить воле всемогущего аллаха. Повелитель Вселенной в последний раз соизволит спрашивать эту женщину — готова ли она принять истинную веру и отречься от Христа?
Хранившая молчание толпа, казалось, даже дышать перестала.
Кетеван неподвижно стояла на помосте, не сводя твердого, спокойного взгляда с балкона.
Палящее солнце, знойное марево, жар от костра словно стремились спалить, расплавить ее черное платье и черную легкую шелковую шаль.
— Моими устами великий повелитель Вселенной, шахиншах, наместник аллаха на земле, светило мира, Аббас Первый в последний раз оказывает милость и спрашивает тебя — примешь ли ты истинную веру?
— Ты, шах Аббас Первый, шахиншах, наместник аллаха на земле, ты топчешь и разоряешь Грузию мою, ты давишь младенцев на гумне молотильными досками, ты оскопляешь юношей, ты пьешь кровь грузин… Но знай и помни, твоим потомкам как завет передай, что твоя змеиная злоба и мерзость тебя же самого всю жизнь отравляла и язвила. Тебе повсюду мерещился враг, тебя повсюду подстерегала смерть. Тебя ненавидела и всегда будет ненавидеть твоя страна, твой народ, и ненависть эта обрушится на твоих потомков и наследников, преемников твоих удушат, как поганых гаденышей, прогонят их из родного дома, как бешеных и бездомных псов, бродящих по всему свету. Аллах, именно аллах, превратит их в нищих посмешищ всего света, не достойных даже клочка земли родной.
Не забудь, своим потомкам заветом передай, что непременно настанет час, когда мой грядущий потомок ступит ногой на твою землю, поставит на колени преемника твоего и унесет домой твой меч, тот самый, которым ты якобы снискал славу и величие, и это будет концом твоей власти, осквернением твоей памяти. Это время настанет, шах, и твой народ, твой аллах сами ускорят его приход.
Проклят будь, исчадие ада, змеиное отродье, кровопийца, душегуб, бешеный пес, кровавый палач грузин и персов, истерзанных сердцем и душой…
Кетеван говорила по-персидски, внятно и громко, и при этом так убедительно и спокойно, что сам шах не столько вслушивался в ее слова, а палачи, разинув рты, переводили изумленный взгляд с царицы на своего повелителя, тщетно ожидая знака приступать немедля к пыткам.
Но вот Аббас беспокойно зашевелился, оглянулся на побелевшего Имам-Кули-хана, потом метнул взор на католиков-миссионеров, монахов-августинцев, стоявших в первых рядах зрителей, и поспешно поднял правую руку с четками.
Как дикие звери ринулись на царицу таджибуки, кинули на деревянный настил ослабленную старостью и горем женщину, сорвали с нее платье и шаль, раскаленными клещами вырвали сначала правую, а затем левую грудь, груди матери, вскормившей верных сынов Грузии.
Палачи, продолжая свое черное дело, ногами прижали к помосту раскинутые руки и ноги своей безмолвной жертвы, воткнули ей в подмышки раскаленные железные прутья; запахло паленым мясом, и в ту же минуту палачи, хищно оскалясь, бросили к балкону, на котором восседал шах, отнятые от туловища руки и ноги царицы цариц Кетеван…
Содрогнулась привычная ко всему толпа.
Пригвожденная к помосту Кетеван чудом подняла голову и, собрав последние силы, угасающим голосом крикнула шаху:
— Будь проклят, лютый змей! — потом прошептала слабеющим голосом: — Сын мой Леван, сын мой Александр… Я иду к вам…
Вздрогнул шах, воздел к небу обе руки, вздрогнула толпа, взмолились католики-миссионеры, и в ту же минуту мучители опрокинули на царицу кипящий котел.
В толпе снова раздался тот же голос:
— Горе тебе, мать!
Миссионеры-католики, рухнув на колени, вскричали в один голос:
— Святую убили!
* * *
…В ту же ночь на Шираз обрушился невиданной силы ливень. Казалось, само небо вот-вот рухнет на землю.
Не прекращавшийся на протяжении последних дней ветер превратился в неистовый ураган, который свирепо накинулся на столицу Парса.
Глинобитные домишки и лачужки горожан ураган снес, стер с лица земли. Стенания оставшихся без крова жителей сливались с жалобным воем, мычанием, блеянием перепуганных животных. Ураган сначала сорвал купол с мечети, а затем повалил все строение, рыжий мулла был погребен под руинами мечети, и его бренные останки омыты неиссякающими потоками проливного дождя.
Не пострадали лишь дворец бегларбега и сад — в саду покоился прах гремских царевичей, а в подвале дворца лежали останки царицы Кетеван.
* * *
У Имам-Кули-хана шах Аббас задерживаться не стал, сразу после казни, едва покинув балкон, немедля отправился в обратный путь.
Истерзанный, расчлененный труп царицы Кетеван оставался в подвале ширазского дворца.
По велению шаха подвал охранялся днем и ночью. Знал Аббас, что кто-нибудь из приближенных царицы или из ферейданеких грузин непременно попытается выкрасть останки и похоронить с почетом, а повелитель Вселенной вовсе не желал, чтобы казненной царице посмертно оказывались почести.
Шах устроил очередное испытание и старшему Ундиладзе, с которым очень считались его почитатели-европейцы, особенно посланцы римского папы. Они до последней минуты старались спасти царицу, а теперь могли попытаться воздать почести ее останкам. Аббас рассчитал совершенно точно: бегларбег не мог выдать католическим миссионерам труп Кетеван, а потому он, шахиншах, оставался втройне довольным: он еще раз принижал убиенную Кетеван, Теймураза и Имам-Кули-хана; у подданных своих навсегда отбивал тайное желание следовать примеру своевольного бегларбега, а ферейданским грузинам и всем грузинам вообще, особенно же кизилбашам, внушал неодолимый страх, который, по мнению повелителя, был залогом любви и преданности ему.
Уже далеко за полночь привратник доложил Имам-Кули-хану о прибытии португальского священника Амброзио дона Анжоса и отца Педро дона Санкто.
— Как они не побоялись явиться среди ночи в эту грозу, неужели их не остановил даже ураган — истинный гнев аллаха? — изумился бегларбег и велел придворному принять чужеземцев, ожидавших в нижнем зале дворца.
Священнослужители, явно принадлежавшие к той части Христова воинства, которую влекли на Восток не столько божественные, сколько вполне мирские интересы, низко поклонились бегларбегу.
Первым заговорил Амброзио дон Анжос:
— Мы видели сегодня ужасную картину, бегларбег. И особенно горько, что все это произошло в вашем дворне и связано с вашим именем. И эта гроза, несомненно, гнев божий, ответ на не угодную ни богу, ни аллаху казнь.
— Посланцев римского папы эта казнь удивлять не должна, — весьма прозрачным намеком ответил бегларбег, прекрасно осведомленный о бесчеловечных пытках и казнях в подземельях святой инквизиции.
— Во-первых, в Ватикане карают лишь еретиков и великих грешников, царица же была блаженнейшей служительницей божьей и веры своей…
— Она не столько богу служила, сколько своему народу, — вставил слово бегларбег, — но ее служение своему народу тенью падало на ту дорогу светлой мудрости, по которой великий шахиншах, наместник аллаха на земле, светило беззакатное, посылает слугам и рабам своим свет и тепло, заботы и милости свои.
Имам-Кули-хан даже в католических миссионерах видел шахских лазутчиков, оттого каждое слово, им сказанное, сопровождалось восхвалениями Аббаса. Католики-миссионеры чувствовали эту предосторожность бегларбега, поэтому старались говорить одно, а намекать на другое. И на сей раз отец Амброзио обратился к испытанному средству:
— Служение богу и служение народу неделимы, великий бегларбег! Святые никогда не гнушались этим благим делом, ибо служение народу возвышало, а не принижало их. Нет и не было святых, не послуживших народу своему. И то должно быть известно великому бегларбегу, верному слуге и полководцу шахиншаха, что ни один из служителей Ватикана никогда не посягнет на жизнь потомков Адама своей собственной рукой или взглядом. Если казнь и совершается, то свидетелями являются лишь стены глухих подземельев, а палачами — нечестивцы-нехристи… Шахиншах же…
— Воля шахиншаха — воля аллаха, и судить его на этом свете не смеет никто, — строго прервал Имам-Кули-хан посланника Ватикана, ибо слышал еще от отца своего, что во владениях шаха даже у стен есть языки и уши.
И на этот раз проник гость в тайные мысли бегларбега, и мысль свою не пожелал продолжить, а Имам-Кули-хан, поспешив смягчить свою преднамеренную резкость, спросил:
— Святые отцы, должно быть, по важному делу пожаловали в такую непогоду, которая по воле аллаха является продолжением гнева шахиншаха?
— Воистину это так, великий бегларбег, нынешняя гроза — божий ответ на гнев шахиншаха, — дон Амброзио запнулся, — ответ самого всевышнего, ибо многие ангелы небесные покровительствуют духу сей святой, и много святых слез пролито, плачут даже небеса…
— В просьбах ваших я никогда не отказывал, потому готов выслушать вас со вниманием, — бегларбег уклонился от ответа на двусмысленное замечание гостя, ибо не хотел разочаровывать папских нунциев. Цель этого визита была ясна ему с момента их появления, поэтому и ответ он приготовил заранее — еще один вексель, выдаваемый в долг за изворотливость.
— Мы, католические священники, принятые здесь с большими почестями, окруженные вниманием и заботой, решили обратиться к великому бегларбегу с нижайшей просьбой: проявите вашу очередную милость, не откажите в доброте вашей и пожалуйте нам в дар прах царицы цариц Кетеван, ибо мы все вместе пожелали перевезти ее останки в Ватикан, где она с благословения папы будет причислена к лику святых наших.
— Но царица цариц Кетеван ведь не была католичкой, — деловито заметил Имам-Кули-хан, который знал, что царица приняла благословение миссионеров, не оттолкнула их, но предложение перейти в католичество категорически отвергла.
— Римский папа нам не откажет, — вставил свое слово Педро дон Санкто, до сих пор хранивший молчание.
— Но зато католикос православных может возражать.
— Мы и с католикосом найдем общий язык, пусть это вас не заботит.
— Я никогда не забочусь о том, что не является моей заботой, однако царица Кетеван и живая и мертвая находилась и находится во власти шахиншаха. Я же, согласно его повелению, обязан лишь осуществлять надзор, что и делаю по мере сил своих и буду делать и впредь. При всем моем уважении к вам, ничего нового сказать я не могу.
— Мы, святые отцы, готовы понести любые расходы… — снова вставил слово Педро дон Санкто, ибо наслышан был как о щедрости Имам-Кули-хана, так и о расчетливости его.
Бегларбег нахмурился, святой отец возвел глаза горе.
Отец Амброзио поспешил поддержать своего спутника:
— Нам известны те огромные, неисчислимые расходы, которые прославленный сардар понес, заботясь о царице и ее внуках. Ежели великий бегларбег окажет нам милость, как всегда безотказно и великодушно оказывал прежде и будет оказывать впредь, во что мы, безусловно, верим, то тогда мы сочтем себя обязанными вознаградить его за труд и усилия немалой наградой…
Священнослужители неплохо усвоили восточную мудрость — взятка и ад освещает.
— Я всегда исполнял, исполняю и буду впредь исполнять повеления великого наместника аллаха на земле, для чего не пожалею не только средств, но и собственной жизни. Вы должны поверить, мои дорогие гости, — бегларбег нарочно сделал ударение на последних словах, — что царица цариц была соотечественницей моих предков, а потому я охотнее всего, даже от всей души, передал бы прах Кетеван ее сыну… — Затем Имам-Кули-хан несколько придержал свою речь, осторожно взвешивая, не наговорил ли чего-нибудь лишнего. — Но сын ее Теймураз, раб великого шаха Аббаса, не достоин такого уважения с моей стороны. Это и есть мое последнее слово: тщетны старания ваши, без соизволения шахиншаха прах царицы останется там же, где он есть… Не забывайте также и то, что от нее и не осталось-то ничего — одни обугленные кости.
— Это мы знаем, видели, как труп засыпали раскаленными головешками, дабы окончательно испепелить его…
Святые отцы вышли от Имам-Кули-хана, так ничего и не добившись.
Два года пытались они смягчить неумолимого шаха и дарами многочисленными, и просьбами донимали его, но Аббас прекрасно понимал, что не столько прах царицы Кетеван интересовал служителей Ватикана, сколько стремились они к усилению католического влияния в ее христианских владениях, к расположению к католической вере восточных христиан.
И то не упустил шахиншах из виду, что, дав согласие миссионерам, он наносил урон своей вере — опоре престола и власти его, ибо Ватикан тотчас же возвел бы Кетеван в святые, в мученицы, святые отцы наверняка стали бы восславлять ее неустанно. Грузинская же церковь причислила ее к лику святых, о чем уже донесли ему лазутчики, а затем преподнесли и саму священную рукопись, выкраденную из монастыря св. Нино. Когда католические миссионеры в третий раз явились к шаху Аббасу, он внимательно читал эту самую рукопись.
До сведения святых отцов недавно дошел слух о том, что в последний год шах сильно сдал. Они удачно подгадали свой третий визит, рассудив, что с возрастом, особенно к старости, в человеке зло и ненависть, как и все остальные дары божии, постепенно иссякают.
Шах Аббас только что дочитал десятую заповедь, когда ему доложили о прибытии святых отцов. Сославшись на недомогание, шах через дворцового визиря спросил о причине визита столь важных персон. Услышав в ответ, что посланцы Ватикана опять просят останки царицы Кетеван, он разрешил переправить их в католический монастырь в Исфагане с одним условием: чтобы прах царицы был захоронен именно там и более никуда не переносился.
Однако дальновидный Имам-Кули-хан не сразу доверился словам почтенных католиков. Проявляя восточную предусмотрительность и желая еще раз задобрить стареющего Аббаса, он послал надежного человека в Исфаган, чтобы проверить, так ли все обстоит на самом деле. Бегларбег Шираза не хотел допустить малейшего сомнения в повелителе своем, ибо, в свою очередь, хорошо знал, какой страшной может быть злоба и мщение со стороны готовящегося отойти в мир иной.
Получив подтверждение шахской воли, бегларбег в сопровождении святых отцов спустился в подвал, своими руками собрал все, что осталось от царицы, а особо бережно положил череп — в серебряный ящичек, искусно выполненный по его же личному заказу ширазскими мастерами.
Святые отцы не успели еще отойти от дворца, когда их догнали слуги бегларбега и вернули богатые дары, преподнесенные в знак признательности правителю Шираза. «Наш повелитель не соизволил принять эти дары, — сказали слуги. — Он жертвует эти богатства вашему монастырю».
Поняли послы Ватикана, что означали кровь и род для ширазского бегларбега, поняли и с тяжкой думой отправились в долгий путь на Исфаган.
В июне тысяча шестьсот двадцать восьмого года двор Теймураза располагался в Гори.
Здесь же жила и царица Хорешан. Никто не знал, — то ли слухи какие до нее дошли, то ли женским чутьем угадала неладное, но она твердо сказала, что находиться рядом с супругом для нее стало такой же необходимостью, как дышать. Да и сам Теймураз уже не сторонился царицы, и без того много забот у него было: объезжал владения тавадов и азнауров, сам следил за сенокосом, уборкой раннего ячменя, заботился о зимних запасах для люда и войска.
Смерть непобежденного
Дивилась царица силе и выдержке мужа. Однажды высказала ему свое сострадание, как, мол, ты выдерживаешь столько горя, да еще сил хватает на мирские дела — под горем она, конечно, подразумевала потерю матери и двух сыновей. Теймураз ничего не ответил, только с грустью заглянул в глаза преданной супруге и ласково улыбнулся.
И в тот день царь привычно поднялся до света, ибо с вечера еще наметил объехать Тирипонскую долину. Только он успел умыться, как дворецкий Иасе доложил о прибытии двух чужеземцев.
В приемный зал вошли два католических священнослужителя. Теймураз обратил внимание на их длиннополые рясы и круглые шапочки, так густо припорошенные дорожной пылью, что первоначальный черный цвет ткани только угадывался. Затем взгляд царя невольно остановился на предмете, который бережно держал в руках тот из двоих гостей, который был пониже ростом. Предмет был аккуратно завернут в атлас, не скрывавший его угловатых очертаний.
Теймураз стоял в каком-то странном оцепенении и ждал, когда гости заговорят.
Они попросили воды.
Утолив жажду, высокий взял у своего спутника завернутый в атлас ящичек, а взамен протянул ему кувшин. Низкорослый, жадно осушив его, вытер рукой губы.
Гости не торопились, они не спешили объяснить царю причину своего появления при его дворе: им или трудно было начинать, или они тянули нарочно, разжигая любопытство царя. Теймураз взвесил оба предположения и спросил низким, сдавленным голосом:
— Кто вы?
Высокий шагнул вперед:
— Мы — посланцы римского папы. Миссия наша должна быть тебе известна, государь. Мы прибыли из Исфагана.
— Исфаган знаю, да и посланцы римского папы не чужды мне.
— Мы были в Ширазе, когда святую пытали. Наш папа причислил царицу Кетеван к лику святых…
— Моя мать была православной христианкой, православной христианкой и осталась до конца дней своих, — взволнованно перебил его Теймураз.
— Мы знаем это. Наши неоднократные попытки обратить ее в католичество оказались тщетными. Она от своей веры не отступилась, но мы все равно объявили ее святой, ибо бог у нас один, только пути служения ему разные…
— А что это у вас в руках? — не выдержал Теймураз.
— Сейчас узнаете… В тот проклятый день, день казни, мы посетили Имам-Кули-хана. Он не отдал нам останков царицы. Долго упорствовал шахиншах. И лишь когда ом почувствовал, что силы его на исходе, внял наконец нашим мольбам. Для нас ясно, что на его решение повлияло и причисление царицы к лику святых. Он позволил захоронить прах святой и царицы цариц в нашем монастыре в Исфагане. Ныне же, когда святость ее канонизирована католической церковью, мы перенесли ее прах вместе с прахом наших святых отцов Гильельмо и Иеронимо де Круза в Индию, в Гоа, ибо там они обретут истинный покой в гробнице из черного мрамора в монастыре Де Гарса… Тебе же, государь, в знак нашего глубочайшего почтения, мы привезли череп царицы цариц… матери твоей и святой нашей…
— Да свершится воля божья! — произнес Теймураз задыхающимся голосом, воздевая руки к небу и падая на колени.
Хорешан, стоявшая неподалеку, кинулась к мужу, но все же не осмелилась прикоснуться к нему, охваченному отчаянием. В зале воцарилась гнетущая тишина, слышно было лишь тяжелое дыхание павшего ниц Теймураза, плечи которого едва заметно вздрагивали от сдерживаемых рыданий.
Собравшись с силами, Теймураз поднялся, но выпрямиться так и не смог, внимательно взглянул на католиков и велел придворному Иасе позаботиться о священниках.
Кровь снова прилила к щекам Хорешан, вернулся румянец. Она тоже пришла в себя, увидев, что Теймураз сумел перевести дух.
Четыре дня провели в Гори католические миссионеры.
Четыре дня сидел безмолвный Теймураз над черепом матери своей, не принимая ни пищи, ни питья.
— В муках она родила меня, в муках вырастила, в муках возвела на престол, в муках же и простилась с этим миром, — сказал царь жене. — Я уединюсь, запрусь и буду скорбеть четыре дня — один день посвящаю Александру, один — Левану, один день буду беседовать только с родительницей моей, а один посвящу матери всех грузин.
Царь, сам немало выстрадавший за страну и народ, не имел права долго предаваться скорби.
На пятый день он призвал к себе католиков, слуги поднесли им блюдо, наполненное серебром и золотом, — дар царской признательности.
Они наотрез отказались.
— Мать твоя, государь, собою пожертвовала во имя веры и господа; мы тоже — служители веры и господа, — сказал отец Амброзио дон Анжос. — Эти сокровища мы жертвуем грузинской церкви во имя святой Кетеван. Нам же дай немного еды на дорогу и отряди с нами проводника, чтобы мы побыстрее достигли Исфагана, ибо шах Аббас скоро отправится в мир иной, а нас призывают наш долг и многочисленные заботы. Ты же, государь, управляй своей страной во славу Христову!
Теймураз и прежде слышал о недомогании Аббаса. Теперь он подробно расспросил обо всем святых отцов, осведомился, кто, но их мнению, будет наследником шаха. Святые отцы могли поделиться с царем лишь своими предположениями, которые сами по себе указывали на достаточную осведомленность в мирских делах этих богослужителей.
Теймураз четыре дня объявил днями скорби и траура, но и после заперся в Горис-цихе, в своей келье. К столу не выходил, слуг, приносивших еду, к себе не впускал.
Хорешан знала, что в самые тяжелые минуты Теймураз искал уединения, брался за гусиное перо. Поэтому лишь на исходе шестого дня она осмелилась робко переступить порог его кельи.
— Все скорбишь?
Теймураз не ответил. Истолковав молчание как разрешение нарушить его затворничество, Хорешан подошла к тахте и села.
Теймураз аккуратно собрал разбросанные по столу листки, уселся рядом с ней и начал негромко читать. Хорешан часто случалось быть первым слушателем и судьей его стихов.
— Мученичество царицы Кетеван, — начал он с названия свое новое стихотворение.
Стихи были сложены ладно, в них горели душа и разум автора, каждое слово приобретало свою значимость, дышало лаской сыновней и мудростью государственной.
Слушая внимательно мужа, Хорешан то и дело всхлипывала, тщетно стараясь сдержать свое волнение.
Особо тяжела была концовка.
Завершив чтение, Теймураз вздохнул, взял кувшин с водой и без передышки осушил его, затем тщательно вытер усы платком, расшитым матерью накануне отъезда в Исфаган.
— Датуне ты это тоже прочтешь? — спросила Хорешан, хотя прекрасно знала, что он сына к творениям своим не допускал.
Теймураз нахмурился.
— Датуне не до стихов… Да и ни к чему это… Стихи человека приучают к печали. Печалей хватит ему и в старости. Склонность к стихотворству в нашем роду переходит по наследству — перекладывал же мой отец «Калилу и Димиу» на грузинский!.. Саакадзе в одном действительно был прав: царь и стихи… А впрочем, кто знает!
— Нет, государь мой, если управление страной — главное и первейшее государственное дело, то писание стихов — человеческая печаль и забота об этом же деле или долге. Посвятив оду святой Кетеван, ты оставляешь детям, внукам, правнукам — всем потомкам нашим — бесценную жемчужину преданности вере и отчизне. Труды надо продолжать трудами, битвы — битвами, и я буду безмерно счастлива, если Датуна, подражая отцу и деду, окажется и в поэзии достойным наследником.
— Тяжек царский удел! Светлая память ушедшим из жизни, аминь!
* * *
На исходе января тысяча шестьсот двадцать девятого года скончался шах Аббас Первый.
Исфаган погрузился в скорбь, между наследниками шаха началась борьба за престол.
Прибывший в Исфаган ширазский бегларбег долго не задерживался здесь — ни возраст, ни личные стремления не тянули его к участию в дворцовых интригах. Время и обстоятельства, как он считал, сами по себе должны были показать, кто займет опустевший престол, кто из многочисленных претендентов одержит верх ловкостью и коварством.
По примеру старшего брата и Дауд-хан поспешил покинуть Исфаган. Однако младшего Ундиладзе гнали из столицы совсем другие заботы. Бегларбег Карабаха, вернувшись из Исфагана, в своих владениях тоже долго не задерживался. Тайно отправив гонцов к Теймуразу, находившемуся в Гори, он попросил о немедленной встрече с ним, настоятельно пожелав при этом держать просьбу в строжайшем секрете.
Встречу назначили в Саингило, в Азнаури, неподалеку от монастырского города Локарто.
За день до названного срока сын Давида Джандиери Ношреван проводил царя на могилу своего отца.
Теймураз молча остановился у могильной плиты, обнажил голову и трижды перекрестился.
— Со смертью Давида я потерял правую руку, сын мой… Скажи мне, почему вы не пожелали похоронить его в Алаверди, на родовом кладбище Багратиони?
— Мать встречала нас у Гомбори. Царь, мол, не будет гневаться на нас, сказала она, если я оставлю покойного мужа и вашего отца возле себя. В уходе за могилой я найду утешение своему горю… Мы ничего не могли с ней поделать. И потом, похоронив отца в Алаверди, мы разлучались бы с ним навеки, мы и это учли по совету матери. Ведь никто не превратил бы кладбище Багратиони в усыпальницу рода Джандиери!
Охваченные весенним цветением, пышные кроны орехов-великанов зеленым сводом смыкались над последним приютом одноглазого богатыря. Тронутая легким дуновением весеннего ветерка, шелестела-шепталась молодая листва, ведя неторопливый сказ о подвигах верного сына родины, сказ, каждое слово которого должно было упасть на благодатную почву и передаваться бережно из поколения в поколение. Но, увы, развеянные ветром по нашей древней земле повести о славных делах великих предков не всегда попадают на страницы истории, столь бережно писанные кровью и слезой незабвенных отцов и дедов.
Об этом думал Теймураз, царь-поэт, глядя на тяжелую могильную плиту, венчавшую последнее прибежище неутомимого участника многих битв и сражений за счастье родины. «Вспомнят ли потомки о делах твоих, скажут ли слово, достойное тебя, мой одноглазый богатырь? Окажут ли почести, которые ты заслужил умом и сердцем своим, грядущие поколения отчизны твоей?»
…Теймураз встретился с Даун-ханом в доме Давида Джандиери. «Если в доме старого Давида я приму Давида нового, приму как брата, может, проникнется он той же преданностью мне и отчизне моей, что и прежний хозяин этого очага», — подумал он.
После ужина они остались вдвоем.
— Издох наконец старый лис, околел волк ненасытный, — негромко проговорил Дауд-хан. — Теперь уж насмерть перегрызутся его достойные отпрыски.
— Хоть и был он безжалостным палачом, но Грузию все же уничтожить не смог! Большой урон нанес нам, неисчислимый. Со времен монгольских набегов никто так не разорял Картли и Кахети, особенно Кахети. Кизилбашей с османами, которые готовы сожрать друг друга, объединяет одно-единственное стремление — стереть Грузию с лица земли. Но с этим змеем ни один султан в сравнение не шел. Он был самым заклятым врагом родины нашей — врагом предков наших и потомков, его целью было — переродить или вовсе истребить наш народ, и на этом пути главной преградой оказалась моя мать, царица Кетеван, потому-то он уничтожил ее… Но переродить или уничтожить грузин он не смог, и наследники его не смогут добиться этого, пока я и мои отпрыски живы.
— Воистину велико было зло, причиненное шахом Аббасом Грузии, — продолжил мысль Теймураза Дауд-хан, — урон нанесен непоправимый, бедствия бесчисленны, хотя самой главной, первейшей цели своей Аббас все-таки не достиг: Грузия осталась Грузией благодаря упорству Кетеван и твоему, Теймураз, героизму Саакадзе, самоотверженности тысяч безымянных воинов… Более того, если бы не глубокий ум шаха, не его бесподобная прозорливость и необыкновенное чутье, ты, Теймураз, несомненно преуспел бы в возвышении Картли и Кахети, в благородном деле объединения Грузии, но, как верно заметил Саакадзе, трудное время выпало на твою долю, Теймураз, ибо правителя, равного шаху Аббасу, у кизилбашей не было и не будет.
Действительно, жестокость шаха Аббаса едва не погубила Кахети: страна обезлюдела, запустели сады и виноградники, приостановилась торговля… Картли потеряла важные для обороны страны крепости и села — Бамбаки, Татири, плодородные земли вдоль берегов Храми и Куры, где селились с некоторых пор кочевники-иноземцы, Борчалу, Демурч-Асанлу, окрестности Алгети, Саджавахо и окраины Сабаратиано… Были вырублены фруктовые сады и виноградники, уничтожены тутовники, почти прекратился такой древнейший промысел, как шелководство.
В Картли зачахла; торговля, спокон веков приносящая стране огромную прибыль, ослабела власть, заглохло начавшееся было оживление в культурной жизни страны, везде насаждались кизилбашские обычаи и нравы.
А кто перечислит раны, нанесённые Кахети! Страна обескровела до такой степени, что не могла уже дать отпор захватчикам. Берегами Иори завладела пустота, в Энисели поселились пришельцы, в Белаканах без всякого стеснения обосновались захватчики, ибо некому было гнать их с чужой земли. Отряды разбойников, селившихся у подножия Кавкасиони, рыскали по кахетинской земле, как в своих собственных владениях, ибо уже некому было им препятствовать. Набеги горских разбойников приносили урон не меньший, чем походы кизилбашей.
Зловещая роль шаха Аббаса в истории Грузии была столь ужасна еще и потому, что его цель — заставить Грузию изменить своей вере или стереть ее с лица земли как последнюю христианскую опору на кавказской земле — станет для его наследников истинным заветом, свято чтившимся в Исфаганском дворце.
— Многие сейчас шепчут, а впредь, может, и горланить будут, глядя с высоты веков на прошлое Грузии, что, если бы не строптивость Теймураза, Грузия не сказалась бы в столь бедственном положении, — продолжал свою мысль Теймураз. — Многие непременно осудят меня за то, что я боролся с могущественным шахом. Невежды скажут — дескать, прояви Теймураз больше мудрости и дальновидности, он сумел бы найти общий язык с шахом. Но эти болтуны пусть не забывают и о том, что Луарсаб жизнью заплатил за попытку найти с ним общий язык… Язык шаха — это язык его веры, и ничего более, ибо цель у него была одна — растоптать, раздавить Грузию, затесавшуюся среди правоверных, каковыми он считал и себя, и своих единоверцев — завоевателей и грабителей нашей земли.
— Истину молвишь, государь, — откликнулся младший Ундиладзе, ибо понял, что Теймураз откровенно высказал перед ним затаенную боль свою. — Люди пестры, всем не угодишь, а тот, кто ловко старается судить других, уподобляется болтливой, капризной женщине: мелет языком что заблагорассудится. Да, могут быть и такие, что не станут вспоминать о той великой жертве, которую ты и твоя мать принесли ради блага и пользы родины. Я был свидетелем мук и страданий царицы цариц Кетеван. Я видел обоих твоих сыновей незадолго до их кончины… Их несчастье разбудило спавшего во мне грузина, навеки вселило великий гнев в мою душу.
Дауд-хан подробно рассказал о своих беседах с царицей Кетеван, о том, что пережил и передумал он сам за последнее время, а в заключение сказал:
— Еще в Исфагане и Ширазе я твердо решил при первой же возможности стать на защиту родины моих предков, поддержать тебя, государь, в твоей борьбе, ибо без борьбы — и пусть впредь будут знать это все глупцы и невежды — враги сожрут, проглотят страну нашу. И еще скажу тебе, царь Теймураз, — Дауд-хан понизил голос, — особенно бесили и будут бесить Исфаган твои попытки сдружиться с Россией!..
— Взбесившихся псов следует забивать палками или камнями! Жаль, что у нас не хватит пока на это сил. Только с помощью единоверных христиан — русских мы можем спастись, и если не сегодня, то завтра обязательно союз этот принесет свои плоды.
— Твоя правда, государь. Шах Аббас никого не боялся и султана ни во что не ставил, но Московский двор лишал его покоя и сна. Ты прав, если сегодня или завтра Московский двор не протянет нам братскую руку помощи, то послезавтра, когда царь укрепится в Приазовье и подойдет к берегам Черного моря, чтобы успокоить султана, ему придется припугнуть кизилбашей. Московский двор и сегодня много делает, чтобы угомонить этих двух волков, только делает это незаметно, исподволь… Это хорошо понимал шах Аббас, потому-то и подбросил он первому визирю султана письмо, якобы адресованное Георгию Саакадзе, в котором сообщалось, что…
— А тебе откуда известно содержание этого письма? — насторожился Теймураз, так как понял, что Дауд-хан приступил к главному.
— Лазутчик, который вез это письмо, попал к курдам. Они письмо переписали, а гонца отпустили… Курды без моего ведома никогда ничего не предпринимают.
— Что же было в том письме?
— Шах Аббас будто бы писал Георгию Саакадзе, что если моурави убьет великого визиря и самого султана, то получит большое войско от кизилбашей, чтобы изгнать Теймураза из Картл-Кахети и самому там взойти на престол. «Я тебе и Имерети пожалую, если ты поможешь мне расправиться с султаном», — писал ему шах.
— А зачем ему это понадобилось? — недоверчиво спросил Теймураз.
— А затем, что великий визирь, прочитав такое письмо…
— Все ясно, — прервал Дауд-хана царь, — шах Аббас, вступив в борьбу с султаном, хотел избавиться и от своего кровного и сильного врага Саакадзе, имевшего влияние при султанском дворе… Кроме того, он наверняка лишал османов разящей десницы. Нет на свете справедливости, ей-богу! И полководцам славным не везет, и царям судьба не улыбается!
— Судьба наша отныне в наших руках, государь! Когда шах Сефи воссядет в Исфагане, он и Картл-Кахети в покое не оставит, и братьям Ундиладзе жить не даст, ибо еще шах Аббас задумал весь наш род извести, а нынешний наследник наверняка не изменит дедовским заветам.
— Что ты предлагаешь?
— Твое царство изматывают мелкими набегами горские ханы и чужеземные захватчики, так же как вы с Саакадзе в свое время изматывали войска кизилбашей. Если мы поклянемся друг другу в верности, станем большой силой, иноземных пришельцев разобьем… Кроме того, разбив Гянджу и Карабах, ты обогатишь свою казну… Шах Сефи, которого поддерживает брат царя Баграта Хосро-Мирза, спасалар[70] шахского двора, несомненно укрепится в Исфагане и во всей Персии и из страха перед османами сейчас ничего против нас предпринимать не будет. Надо учесть также и то обстоятельство, что Хосро-Мирза при Исфаганском дворе далеко не одинок. У, него много сторонников: Бежан Амилахори, сын Давида Эристави с сыновьями, братья Павленишвили — Роин-кляча и Бахута, Тамаз Мачабели, Папуна Цицишвили, Турман-бег Турманидзе, моурави Имерети Чхеидзе, Теймураз Бараташвили, армянский атабег Мелик со своими братьями, Кахи Андроникашвили, Отиа Кахабери… Они сделают все для того, чтобы шах Сефи сговорился с султаном и повернул свои силы против Грузии, дабы посадить Хосро-Мирзу на престол и укрепиться самим.
— Хосро-Мирза и Имам-Кули-хан враги? — вмиг сообразил Теймураз.
— Он скорее со мной враждует, чем с братом моим, но не это главное. Московский двор не признает тебя, если не убедится в твоем могуществе и богатстве. Неимущего и бедного не любит никто, бедный родственник — и тот обуза тяжкая, дружить и родниться с бедняком, ты сам знаешь, мудрый человек не станет. Поход на Гянджу и Карабах обогатит тебя, ты получишь богатство неиссякаемое, оружие, доспехи и боевую славу — всему этому цены нет, и без всего этого даже свои подданные подчиняться царю не желают. И то должен учесть, что тюрки, гянджийцы, карабахские племена шахиншахов недолюбливают. Народ трудовой везде одинаков — поработителей нигде не любят, страх, и только страх заставляет его служить им. Но кто захочет покорять или истреблять другие народы, постоянно восседая на коне, проливая кровь чужую и собственную ради прихотей персидских шахиншахов? И то не забудь, что твоя родня, царь имеретинский, больше будет тебя уважать, и воины твои не с пустыми руками из похода вернутся. А захватив сокровища, ты и пушки без труда сможешь заполучить.
— А тебе какая выгода от всего этого? — спросил Теймураз, прищурив глаза. Он понимал, что Дауд-хан не для него одного старается.
— Я знаю, что если шах Сефи получит власть, а этого не миновать, то Хосро-Мирзе сначала необходимо будет убрать обоих братьев Ундиладзе, а потом, только потом, замахнется он на Картл-Кахети, и шах Сефи ему в этом не откажет. На Грузию он не осмелится пойти, не расправившись с нами, ибо мы могли бы пошатнуть его влияние на Исфаган. Дело в том, что, когда шах Аббас занемог в Мазандаране и лекари оказались бессильны, он призвал Хосро-Мирзу и именно через него завещал престол внуку своему Саам-Мирзе. Придворный звездочет объявил ему, что расположение звезд предрекает, что царствование Саам-Мирзы продлится всего восемнадцать месяцев, не более. Умирающий огорчился, наследники закопошились, но Аббас все-таки заупрямился и настоял на своем — пусть царствует, сколько сумеет, только пусть, мол, получит власть, которая его отцу была предназначена волей аллаха… А отец его, как ты помнишь, убит был по велению самого Аббаса… Перед смертью пожелал, видите ли, восстановить справедливость. Поэтому-то и призвал Хосро-Мирзу, что грузинская кровь в нем течет и высокое положение при дворе дает ему возможность выполнить последнюю волю шахиншаха. Ты лучше моего знаешь, что дедом Хосро-Мирзы был Луарсаб Первый, а отцом — Давид, создатель грузинского лечебника «Иадигар-дауда», мать же его — дочка цавкисского крестьянина… Сам Хосро-Мирза в свое время при Георгии Саакадзе подручным состоял. Оттого и получил пост правителя Исфагана и возвысился, забрав в свои руки шахскую гвардию, самых ловких и смелых воинов во всей Персии.
Когда шах Аббас умер, Хосро-Мирза, отпрыск картлийских Багратиони, всех опередил — в Мазандаранский дворец, окруженный шахскими гвардейцами — кули, ввел не достигшего еще двадцати лет Саам-Мирзу и огласил завещание Аббаса, написанное им собственноручно…
Пока зачитывали завещание, я украдкой поглядел на брата, он и бровью не повел, но я сразу понял, о чем он думает: начиналось гонение на нас обоих — явное, открытое… Никто не проронил ни слова. Грузины выступили на стороне Хосро-Мирзы, ибо знали, что он давно метит на картлийский престол… Они на это надеются и по сей день.
— А на что ты надеешься? — повторил свой вопрос Теймураз, хотя и без того хорошо понял далеко идущие цели братьев Ундиладзе.
— Погоди чуток… я все скажу… мальчишка жесток и вероломен, но дело сделано — его нарекли шахом Сефи…
С тех пор прошло не так много времени…
Корчибаш Иса-хан, с трудом оправившийся после Марабдинской битвы (он приходился шаху Аббасу зятем, так как был женат на его дочери, тетке молодого шаха; она считалась первой женой, солнцем его гарема), устроил роскошный пир в своем Исфаганском дворце в честь молодого шаха… Однако сам шах Сефи на пир не явился, хотя там был весь меджлис, кроме меня и брата. Мы-?? наверняка знали, что шах Сефи не жалует сыновей корчибаша.
Тот самый звездочет, который предрек Саам-Мирзе недолгое царствование, испив ширазского вина, сболтнул лишнее: что за сопляка, говорит, мы посадили на престол, когда сын нашего корчибаша молодец хоть куда и таким же кровным внуком шаху Аббасу доводится?
Хосро-Мирза в ту же ночь донес шаху Сефи о болтовне звездочета. Шах наутро вызвал к себе старика и расспросил о давешнем пире. Звездочет обо всем подробно рассказал, скрыв, разумеется, главное — то, что интересовало молодого шаха. «Боле я ничего не помню», — клялся старик. Шах криво усмехнулся и велел тотчас отсечь негодную голову старику, который наутро забыл то, о чем болтал ночью.
Не лучшая участь постигла и сына корчибаша, которого расхваливал злополучный звездочет, — и ему, и его брату, по велению шаха Сефи, снесли с плеч головы и отправили их матери, родной тетке нового шаха. Истинная дочь Аббаса, получив головы своих сыновей, нахмурила брови и сказала: воля шаха Сефи — воля аллаха и воля великого отца моего. А сам корчибаш явился к шаху с поклоном и чуть ли не взмолился — надо было позволить мне самому собственноручно исполнить твое повеление, о солнце солнц!
Шах Сефи впал в неистовство: как, дескать, этот осел старый посмел усомниться в правоте моего повеления и советы мне свои давать! И самому корчибашу, таким образом, тоже снесли голову…
— Снесенными при шахском дворе головами ты меня не удивишь, — вставил слово Теймураз, — лучше ответь, какую пользу ты получишь от союза со мной?
— А такую, что в борьбе с шахом Сефи и его названым отцом буду не одинок. Мы оба выигрываем, если заключим союз, и шах Сефи вынужден будет с нами считаться. Конечно, мы проиграем, если шах все-таки поладит с султаном, но не надо забывать и о том, что решимость и смелость — залог успеха, а страх от смерти не спасает, да и в сомнениях правды не найдем ни ты, ни я.
Теймураз улыбнулся, в глазах загорелись лукавые огоньки, он потер лоб своим привычным жестом:
— Но, если мы проиграем, потомки мне не простят, скажут, лучше бы Теймураз нашел общий язык с шахом Сефи, тогда Картли и Кахети сохранили бы свое единство и дела их пошли бы на лад.
— Такое могут сказать лишь глупцы да ослы, не посвященные в тайны Исфаганского двора, ибо будь то шах Сефи или другой правитель, он все равно будет соблюдать завет Аббаса: Грузия либо должна принять их веру, либо будет уничтожена. А принять чужую веру, государь, — поспешно добавил Дауд-хан, так как почувствовал, что Теймураз понимает главную его мысль и заботу, — для Грузии равно гибели. Шах Сефи не должен добиться того, чего не добился благодаря тебе и матери твоей его дед шах Аббас, поистине великий тиран Востока.
— Но разве ты хуже стал оттого, что принял ислам? — поддел собеседника царь.
— Ислам принял наш отец, потому что иного пути у него не было. Сегодня меня и брата моего удерживает дом, семья, дети, иначе мы… Хотя ислам тут ни при чем. Учти и то, государь, что мой приезд сюда, мои старания, мои интересы продиктованы моим и твоим родственным, а не чужеродным духом. Дух и плоть же неделимы вовеки, ибо только дух предков кипит в крови внуков.
Теймураз тяжело вздохнул, и это был вздох — как стон, горечь кипящей души, ибо казалось, будто душа при этом расставалась с телом.
— Об этом мы еще подумаем, а пока расскажи мне, как привыкают наши переселенцы к новым условиям? Много ли народу гибнет?
— И гибнут многие, и еще многие погибнут, но есть и такие, которые в чужую веру переходят… Даже в свите царицы цариц Кетеван такое случалось… Людям трудно, в этом вся причина… Кто знает, может, наш отец из-за этого только от Христа и отрекся…
— Что известно тебе о сестрах алавердского священнослужителя?
— Он год находился в плену, но потом бежал.
— Это я знаю. Я о сестрах его спрашиваю.
— Сестрам, как я слышал от своего брата, помогал один итальянец… некто по имени Пьетро… Уж очень они там нуждались и в конце концов, если не ошибаюсь, умерли от голода, хотя вначале и были окружены почестями… По просьбе несчастных женщин этот итальянец призрел еще и одну из многих девчонок-сироток из Грузии… Жена итальянца, умирая, взяла с него клятву, что он не бросит ребенка. Девочке в ту пору было всего двенадцать лет, ее часто приводили к царице цариц Кетеван, Имам-Кули-хан знает все подробности…
— Это, должно быть, тот самый Пьетро делла Валле, который мне и Хорешан подарки из Рима прислал… — прищурив слегка глаза, сказал Теймураз.
— Так вот этот итальянец Пьетро… часто посылал девочку к царице цариц Кетеван, которая всегда была ей рада… Однажды в присутствии царицы случилась такая история… В Грузии девочку звали Тинатин, а приемные родители дали ей имя на итальянский лад — Маричча… К свите царицы присоединились молодые брат с сестрой, то ли ферейданцы, то ли дочь и сын кого-то из местной прислуги… Девушке было лет пятнадцать, и она отличалась удивительной красотой. Мать ее настояла, чтобы она приняла ислам, и просватала ее за сотника Имам-Кули-хана Гусейна, сына одного из грузин, воспитанника нашего отца. Девочка была еще мала, а потому царица попросила оставить ее хоть ненадолго при ней. Брат ее Важика приходился царице крестником, он отказался в чужую веру переходить, сохранял верность тебе, государь, и матери твоей… Так вот, брат с сестрой жили недружно, как кошка с собакой, часто ссорились. При одной из таких перепалок присутствовала Маричча, она взяла сторону юноши и стала насмехаться над вероотступницей. Царица Кетеван проявила и тут свойственную ей мудрость. Отвела Мариччу в сторону и сказала ей: «Ты уже не маленькая… Видишь, в каком положении я сама нахожусь, но вынуждена молчать при этом. И тебе надлежит быть осторожнее…» Девочка послушалась совета Кетеван и с тех пор проявляла большую предусмотрительность, не давая волю своим сокровенным думам. Это я к тому говорю, что трудно там нашим приходится. Сила, недаром сказано, и гору вспашет…
— А какова участь Мариччи? — спросил заинтересованный историей девочки Теймураз.
— Пьетро делла Валле увез ее в Рим и женился на ней. Теперь у них четверо детей.
— А ты откуда такие подробности знаешь?
— Знаю… Имам-Кули-хан поддерживает самые тесные связи с иностранцами. В его руках все внешние дела Парса, потому шах Аббас и не мог с братьями Ундиладзе расправиться… Так вот, перед отъездом Маричча пришла к царице за советом. Государыня благословила ее: они, говорит, тоже христиане, и другого пути к спасению твоему я не вижу… Вот так обстоят дела с грузинами в Персии — или отрекайся от своей веры, или умирай, таково повеление каждого шаха. Ты решил не подчиняться этому повелению и должен стоять на своем до конца, государь… Спастись смогут лишь немногие, те, кому удастся бежать, если ты не учтешь всего с дальновидностью, только тебе присущей.
Они еще долго беседовали в ту ночь, совещались, обсуждали, судили-рядили, прикидывали, соизмеряли и наконец решили снова встретиться на следующий день: утро вечера мудренее.
Уж третьи петухи прокричали, когда Теймураз разделся и лег.
Едва положил голову на подушку — заснул глубоким сном.
Что-что, а уж сон был по-молодому крепкий у многострадального сына замученной царицы.
* * *
На следующее утро Теймураз встал бодрым, вымылся до пояса студеной водой Азнаура и, приведя себя в порядок, был готов к приему Дауд-хана. Ундиладзе тоже не заставил себя ждать. Позавтракав, они вновь уединились.
Еще во время вчерашней беседы Теймураз понял, что Дауд-хан резко настроен против молодого хана, взошедшего на престол согласно воле Аббаса. Причем Дауд-хан, по наблюдению царя, старался скрыть истинную, главную причину своей неприязни, обходя ее вокруг да около.
Теймураз помнил и то, что во время предыдущей встречи, состоявшейся года три тому назад, Дауд-хан и не заикался о противодействии шаху, а вчера подчеркнуто детально расписал ему во всех подробностях муки матери и сыновей. Это внезапное преображение Дауд-хана сразу подметил царь Картли и Кахети, дальновидность и проницательность которого некоторые воспринимали как чрезмерную подозрительность и недоверчивость.
— Дауд-хан, ты знаешь, что я тебя высоко ценю, и все-таки ответь мне на один вопрос: почему при первой встрече ты ничего не рассказал мне о матери и сыновьях, и Исфаган не бранил, и о грузинской крови своей помалкивал? Более того, ты подбивал меня на примирение с шахом, говорил, что, если я не поклянусь ему в верности, он снова разорит Картли и Кахети, ты всячески старался меня склонить и смягчить… Что же произошло теперь? Скажи мне честно, правда ли то, что шах Сефи разгневался на вас обоих и сравнил братьев Ундиладзе со старыми платанами, которые собирается в скором времени срубить?
Дауд-хан смешался. Понял, что Теймураз знал больше, чем можно было предположить. Смешался, но вмиг опомнился, ведь он и сам был человеком предусмотрительным и знал о проницательности Теймураза. Он помолчал мгновение, сообразил, осмыслил что к чему, а затем ответил твердо:
— Я еще вчера ждал, что ты спросишь об этом, государь…
— А поскольку я не спросил, ты решил, что обошел Теймураза, оставив его в неведении?
— Нет, государь, я так не думал. Вчера я сказал о главном, о самом важном, собирался, не таясь, открыть и свои остальные соображения. Дело в том, что хоть шах Сефи и занял трон по завещанию Аббаса, но соперники его еще не угомонились и не так уж скоро угомонятся. Не скрою от тебя и то, что наша последняя с тобой встреча состоялась по заданию Аббаса, о чем ты еще тогда догадался, хотя ничего и не сказал. Ведь ты лучше меня знаешь, что он не добился основной своей цели — не смог уничтожить грузин, не смог обратить их и в свою веру. Брат мой, Имам-Кули-хан, много побед принес Исфагану. Впервые в царствование Сефевидов он в тысяча шестьсот двадцать втором году склонил на свою сторону английских моряков на острове Ормуза, что позволило персам свободно вывозить свои товары в Европу, минуя турецкие таможни. Кроме того, брат мой построил множество мостов и караван-сараев, провел немало дорог. Шах Аббас был не тем правителем, который мог бы терпеть на своей земле «второго царя», как называют моего брата иностранцы. Потому-то он всегда весьма сдержанно относился к нам — в лицо хвалил, а за спиной искал повода разделаться с нами. Мы этого повода ему не давали, хотя оба ненавидели его. От расправы над царевичами Имам-Кули-хан тоже усиленно отговаривал его, по крайней мере трижды… Но этот волк все-таки настоял на своем. Брат и за твою мать заступиться хотел, но понял, что все старания тут были бы тщетны. Они могли лишь еще пуще озлобить его… Ты знаешь это сам.
Произошло кое-что еще большее.
После победы при Ормузе, Кандааре, Багдаде и после похода в Индию шаху покоя не давало твое поражение при Марабде, которое скорее можно назвать победой, ибо если бы шаху пришлось одержать в Грузии еще одну такую «победу», то он наверняка остался бы без войска! Поэтому он пригласил к себе Имама-Кули-хана и поставил условие, от которого зависела наша жизнь и смерть. «Теймураза я не мог приручить, — сказал ему шах. — Грузию одолеть тоже не смог. Найди мудрый способ примирить меня с ним так, чтобы достоинство мое от этого не пострадало».
Тогда Имам-Кули-хан вызвал меня в Шираз и послал на переговоры с тобой. Если бы ту нашу первую встречу я начал с рассказа о царице и царевичах, ты, как человек твердый и непреклонный, никогда не согласился бы примириться с истреблением твоей семьи…
— Но ведь я и без тебя знал, что с ним случилось… — вставил слово Теймураз, который весь был поглощен откровенным рассказом Дауд-хана.
— Одно дело — знать, другое же — услышать из уст свидетеля… Мы, имеющие богатство и власть, любим доносы, но не любим доносчиков — так же, как любим вести, не любя вестников… Я не хотел навлекать на себя твой гнев, напротив…
— Что же изменилось теперь? — спросил Теймураз.
— Рану может залечить только время… Итак, я сообщил тогда Имам-Кули-хану, что ты якобы согласен на примирение. Шаху это было приятно, но на нас он опять озлился: дескать, братьям Ундиладзе удалось то, чего я сам добиться не мог! Впрочем, наград он не пожалел, пожаловал мне Гянджинское ханство и назначил меня бегларбегом.
— Что же произошло теперь?
— В составленном незадолго до смерти завещании шах Аббас повелевал своему наследнику шаху Сефи, внуку, который хоть и взошел на престол, но сидит пока еще не так уж твердо… — Дауд-хан подчеркнул то, о чем вчера старался умолчать, чтобы легче было уговорить Теймураза.
Теймураз все понял, потер привычным движением руки лоб, но ничего не сказал. Дауд-хан же продолжал:
— Суть завещания заключалась в том, чтобы молодой шах никогда не доверял принявшим ислам грузинам, — как вы нас называете, «отатарившимся» грузинам, — чтобы он безжалостно, но осторожно, с оглядкой истреблял нас, ибо вознесшиеся ввысь платаны того и гляди могут затенить величие самого шаха. Под вознесшимися ввысь платанами он подразумевал нас, братьев Ундиладзе… А поскольку ты все-таки не пожелал покориться Исфагану, поскольку не прислал в шахский гарем твою солнцеликую Тинатин, как было велено тебе по совету Хосро-Мирзы… Да если бы он и не посоветовал, шах Сефи этого бы потребовал и сам, без его совета… Так вот, получив от тебя отпор и не смея ополчаться против Имам-Кули-хана, шах Сефи ополчился против меня…
— А почему он боится Имам-Кули-хана?
— Потому, что он в большом почете у англичан. И пока шах Сефи не перетянет англичан на свою сторону, брата он тронуть не посмеет. А гневаясь на меня, он тем самым дает брату понять, чтобы тот слишком не заносился, иначе и его постигнет моя участь.
— А чем плоха твоя участь?
— Меня обвинили, что я, защищая интересы грузин, предал веру и шахиншаха… Будто я преднамеренно обманул Аббаса, когда ему сказал, что Теймураз стал на путь покорности и смирения.
— А как тебя наказали? — снова спросил Теймураз, заметив, что Дауд-хан тянет с ответом.
Младший Ундиладзе тяжело вздохнул, и в его глазах вспыхнул неуемный гнев.
— Меня чуть ли не в толчки выгнали с шахского меджлиса. Брат сидел понурясь, бледный как мертвец. Мне его было жалко больше, чем себя. Когда я вышел, у меня отобрали саблю… Мало того… Моим подручным поручили следить за мной… Недовольных и обиженных мною Хосро-Мирза специально позвал в Исфаган… Один из них вынужден был признаться, что им поручили убить меня…
— Далеко дело зашло… А что же они с Имам-Кули-ханом собираются делать?
— И с ним расправятся… Пока боятся англичан, которые мечутся меж Стамбулом и Исфаганом, воду мутят… Как только с англичанами найдут общий язык, они и брата моего наверняка не пощадят.
— Так ты говоришь, Исфаган во многом зависит от Имам-Кули-хана, особенно во внешних делах…
— И внутренние не решаются без его участия… Во всяком случае, никогда и ничего не решалось без него до самого последнего времени.
— Но Исфаган больше волнуют внешние дела… По крайней мере, волновали во времена Аббаса, ибо внутренние дела у него шли, как янтарные четки. Не знаю, как теперь, но при шахе Аббасе было именно так. Следовательно, как я тебя понял, в том случае, если Имам-Кули-хан поладит с англичанами, то нетрудно будет устроить, чтобы на смуту, поднятую нами в Северной Персии, ответили смутой на юге и Сефевидов в Исфаганском дворце сменили Ундиладзе?
Дауд-хан в изумлении воззрился на возбужденного собственной прозорливостью Теймураза. Его удивленновосторженный взгляд, широко открытые глаза, чуть приоткрытый рот убедили царя, что он проник в тайные умыслы братьев Ундиладзе. Угадав их главную цель, он поистине поразился в душе тщательной продуманности действий и не мог не оценить по достоинству мудрость некоронованного шаха Персии Имам-Кули-хана. Перед глазами пронеслись вполне реальные картины падения шаха Сефи и возвышения Имам-Кули-хана. Дауд-хан, поразмыслив, отвечал едва слышно:
— Если мы не подведем, брат вернет остров и крепость не англичанам — этим хитрым лисам, а португальцам. И тогда португальцы, подкупленные братом, англичане, озлобленные на шаха Сефи, — ибо они, не без помощи брата, будут уверены, что именно он отдал остров португальцам, — а вместе с ними сам султан, — все вместе напустятся на Сефевидов, а тогда произойдет именно то, что угодно и Христу, и Магомету, ибо мы, Ундиладзе, служим ровно и одному и другому!
Теперь все было сказано, сомнения у Теймураза совершенно рассеялись.
Теймураз в задумчивости мерял шагами зал.
Подойдя к голове тура, висевшей на стене, царь некоторое время пристально глядел на чучело. Потом обернулся и взглянул прямо в глаза Дауд-хану.
— А если я доверюсь тебе, ты не предашь меня?
— Клянусь богом и аллахом, ибо у меня две веры! Клянусь памятью отца, что и мысли об измене не допущу никогда и ни в чем!
Они поклялись друг другу в верности и договорились о походе на Гянджу и Карабах.
Постарались предусмотреть все: если проиграют, если Имам-Кули-хан не сможет поддержать, если от Москвы не будет никакой помощи, — значит, бремя поражения будут тянуть вместе до кончины своей.
Однако о кончине было сказано для красного словца, они надеялись на верную победу. Надеялись очень и на Имам-Кули-хана: вот он вернет отнятый остров португальцам и получит от них поддержку. От слов перешли к делу.
Теймураз попросил царя Георгия прислать войско. Георгий Теймуразу верил и потому медлить не стал. Про себя же подумал, что за этот шаг султан его не осудит. Тем самым он и Теймуразу угождал, и султану, кроме того, вразумлял также князей Гуриели и Дадиани.
Пока Теймураз собирал войско на берегу Иори, Дауд-хан вернулся в Гянджу, еще раз проверил своих подручных. Тех, в ком не был уверен, отослал подальше, надежным велел следить друг за другом.
Гарем свой весь раздарил, Елену оставил первой и единственной женой. Сыновьям велел собираться в поход, но даже им не открыл правды. Сказал, что, желая угодить новому шаху, решил сразиться с Теймуразом, чтобы разделаться с ним навсегда. Собрал кизилбашей, готовился усердно, тщательно, как никогда.
Тем временем Теймураз принял в крепости Гареджи своего зятя, имеретинского царевича Александра, прибыли Дадиани и Гуриели с войсками, явились также князья и дворяне Месхети, царь собрал кахетинцев и горцев Тушети и Пшав-Хевсурети.
Когда Дауд-хан расположился со своим войском на берегах Иори, по велению Теймураза местные крестьяне преподнесли им вино из окрестных сел и раздали воинам в знак своего расположения к ним. Ночью же на пьяных до бесчувствия кизилбашей напали кахетинцы и с помощью Дауд-хана легко обезвредили.
Грузинские отряды двинулись вдоль Куры на Барду, захватили Карабах, разорили Гянджу, дошли до Ареза.
Когда Теймураз стоял под Бардой, к нему явился армянский католикос с дарами и вооруженной свитой. Всю ночь уговаривал царя Грузии и покровителя всех христиан Кавказа воспользоваться раздором между шахом и султаном и идти на Тебриз. «Ты защитишь христиан, государь, — твердил католикос, — обогатишься сам, получишь Армению и Азербайджан, а я поеду к султану и заставлю его объявить войну шаху. Ты окрепнешь как никогда, всюду своих людей поставишь».
Долго уговаривал Теймураза армянский католикос, обещал от имени всех армянских христиан венчать его царем христиан Востока, но Теймураз, проявив обычную свою осторожность и мудрость, после двухдневных размышлений вежливо отклонил лестное предложение, пообещав на обратном пути забрать католикоса с собой в Гори, дабы избавить его от мщения басурман.
Дауд-хан одобрил предусмотрительность Теймураза и его ответ. Он и сам понимал, что победа, достигнутая за счет внезапности нападения, недолго будет им сопутствовать, тем паче что Имам-Кули-хан пока не подавал никаких вестей.
Теймураз собрал много золота и серебра, драгоценных камней и всякого добра, навьючил добычу на верблюдов и отправил в Грузию.
Коней и доспехи распределил между воинами, стада и табуны погнал впереди войска.
Семью Дауд-хана, сестру Елену и армянского католикоса со свитой и имуществом забрал с собой.
Остановившись в Гори, радушно принял союзников — царевича Александра, Левана Дадиани, князя Гуриели и месхов, устроил для них охоту в прибрежных лесах Вариани, пожаловал дорогими дарами и с миром отпустил всех по домам.
— Знаешь, отец, твоя победа чем-то напоминает победу шаха Аббаса при Марабде, — сказал Датуна отцу, сидевшему в глубокой задумчивости после отбытия союзников. В сопровождении неразлучного Гио-бичи Датуна вышел проверить дозорных на башне Горийской крепости — надо было взбодрить воинов-сторожевых, дремлющих на зубчатой стене крепости.
Отцу и сыну теперь приходилось быть особенно бдительными.
* * *
Шах Сефи старался держаться подальше от Исфагана. Подозрительными казались ему здесь каждый дом и каждая улица.
Он предпочитал дедовскому дворцу дворец в Казвине — здесь он чувствовал себя увереннее, меньше думал о кознях, затеваемых против него всемогущим аллахом.
В Казвинский дворец и принесли ему весть о походе Теймураза и Дауд-хана. Дедовская кровь, дедовский дух воспламенили двадцатилетнего юношу, и он захотел немедленно обрушить свой гнев, устроив поход против двух наглецов.
Хосро-Мирза успокоил его. Убедил, что не стоит сейчас отправляться в поход. Сначала нужно утвердиться и победить дома, а потом уже выходить за пределы страны.
«Картли и Кахети принадлежат мне, и идти туда — совсем не значит выходить за пределы страны», — отрезал отпрыск шаха Аббаса. Наследник же картлийских Багратиони, принявший ислам, детально продумал все ходы и выходы, наметил маршрут для войска в случае внезапного нападения, убедил молодого шаха, что подражать деду нужно не походами и нашествиями, а мудростью и предусмотрительностью. Посоветовал он также шаху Сефи обещать Теймуразу помилование, если доставит он к шаху связанным изменившего аллаху Дауд-хана. «Сообщи ему также, — нашептывал Хосро-Мирза, — что именно Дауд-хан и его брат внушали великому хану Аббасу мысль о казни царицы Кетеван и царевичей, доведи до его сведения, что повелитель вселенной об этом даже и не помышлял, если бы не настойчивые уговоры Имам-Кули-хана и самого Дауд-хана, который сам имеет виды на грузинский престол».
Шах Сефи послал в Гянджу и Карабах надежного правителя, бегларбегом назначил Мехмед-Кули-хана, а Теймуразу передал слова, внушенные вероломным Хосро-Мирзой.
На это Теймураз никакого ответа не прислал. Вызвал присягнувшего ему на верность Дауд-хана и всю ночь совещался с ним.
Дауд-хан не о себе беспокоился, его волновала судьба Имам-Кули-хана, ибо он хорошо понимал, что за младшего брата будут мстить старшему. Поэтому, посоветовавшись с Теймуразом, Дауд-хан поспешил отправиться к султану со всеми своими чадами и домочадцами. Тем самым он и Теймуразу развязывал руки, избавлял его от шахского гнева, и сам избегал опасности, грозившей ему ежечасно. Бездействие же Имам-Кули-хана он приписывал самоуверенности брата и, обнадеженный, покинул Гори.
Потемнел как туча, узнав об этом, шах Сефи.
Хосро-Мирза воспользовался случаем, чтобы избавиться от соперника, назвав Имам-Кули-хана первейшим и неусыпным врагом Сефевидов.
Шах Сефи отправил в Шираз грамоту с приглашением Имам-Кули-хана к себе.
Понял правитель Шираза, что означало сие приглашение, насупил брови и с ответом юному шаху медлить не стал.
«В Ширазе крутятся англичане и португальцы, — писал он, — их послы рыщут по всему югу. Отъезд мой из Шираза в такой момент нанесет урон владениям твоего великого деда».
Рассвирепел шах Сефи. «Мой великий дед, — заявил он, — мне доверил престол, и мне лучше знать, что принесет пользу, а что вред моей стране. А ежели ты, бегларбег, моей воли не выполнишь, я пойду на тебя войной и сурово покараю за ослушание мне и неповиновение аллаху».
Некоронованный шах Персии пренебрег угрозой молокососа, послал дерзкий ответ новоиспеченному правителю:
«Я был опорой твоего трона еще в те времена, когда на этом троне восседал великий шах Аббас, не расшатывай эту опору, ибо если она обрушится, то в первую голову тебя самого раздавит».
Знал свою силу первый спасалар персидского двора, поэтому был так дерзок и решителен он, возвысивший шаха Аббаса и служивший ему верой и правдой. Не только португальцы, знавшие цену его могуществу, но и осторожные англичане, и султанский двор были готовы поддержать Имам-Кули-хана, когда речь шла о том, чтобы обуздать и приструнить набиравшую силу и грозившую всему Востоку Персию.
Это прекрасно понимал ширазский бегларбег.
Понимал это и шах Сефи, наслышанный от видавших виды стариков о долгих и кровопролитных распрях меж наследниками шахского престола.
Хосро-Мирзе и во сне не давала покоя мысль о тех законах и обычаях, в силу которых после смерти правителя Персии, как, впрочем, после смерти любого правителя на Востоке, немедленно заменялись «опоры» трона.
Подавленный чужой верой грузин жаждал власти, как жаждет воды в пустыне бедуин. Поэтому он прибегнул к хитрой уловке — там, где не проходят угроза и сила, там бесспорно должна победить мудро подстроенная ловушка.
Хосро-Мирза внушил шаху, что он сам поедет в Шираз и привезет Имам-Кули-хана.
Отпрыск рода Багратиони два дня и две ночи уговаривал правителя Шираза и некоронованного шаха Персии, чем только не соблазнял его, каких силков не расставлял! «Твоим упорством ты ничего не добьешься, — внушал Хосро-Мирза, — только настроишь шаха против себя, Дауд-хана и Грузии. И португальцы тебя не поддержат — не простят поражения при Ормузе. Русских и англичан победа твоя тоже не обрадует, ибо слабый и недалекий шах Сефи их больше устраивает на персидском престоле, чем такой, как ты, — сильный и мудрый правитель. И султан скорее шаха Сефи поддержит — знает, шаху Сефи с Аббасом не сравняться, а значит, и соперничать с османами он не станет. Ты как самый сильный и умный правитель не устраиваешь ни султана, ни Московский двор, который прежде всего хочет укрепиться на Кавказе, ибо без Кавказа московскому царю никогда не стать властителем ни Черного, ни Каспийского морей. Ты силой своей и мудростью лишь отпугиваешь всех и внушаешь вражду, ибо сила и мудрость, проявленные правителями и сардарами, лишь множат вокруг них недругов и даже друзей превращают в противников его. Лучше глупого и пустого шаха Сефи использовать, использовать как щит, и управлять страной, опираясь на свои силы, как делал ты это при прежнем шахе…»
Слушал бегларбег Шираза, фактический правитель Исфаганского двора, верный оплот шаха Аббаса, первый полководец Востока, родом Ундиладзе, соотечественника своего и думал совсем о другом: какой сильной и могущественной была бы Грузия, какой неприступной и счастливой страной могла быть, если бы не было на свете таких льстецов и трусов, каким был этот Хосро-Мирза Багратиони. Нет, разумеется, Ундиладзе, считавший себя надеждой Грузии, и без Хосро-Мирзы прекрасно знал, что ни отпрыски Багратиони, рвущие на части Грузию, ни султан и все прочие, готовые клевать и терзать любую страну на Востоке, не пожелают ни в коем случае его возвышения, не захотят видеть на персидском престоле нового могущественного правителя, но знал ширазский бегларбег и другое — что сила и гору вспашет, помнил и о том, что страх рождает любовь. С детства впитал он эту мудрость с молоком матери, вместе с кровью отца-сардара принял он эту мудрость в плоть и душу свою для передачи внукам и правнукам до седьмого колена, как основу власти и величия.
Он знал все, чуял подвох и потому-то решил коварством одолеть коварство, клином выбить клин.
На третье утро Имам-Кули-хан торжественно объявил Хосро-Мирзе о своем согласии ехать к шаху в Казвин. «Раз правитель Вселенной пожелал оказать мне милость в Казвини, — сказал он, — я готов выполнить его волю, как волю аллаха и великого шаха Аббаса».
Обрадованный Хосро-Мирза тотчас отрядил гонцов в Казвин, чтобы там готовились встречать Имам-Кули-хана.
Шах Сефи велел освободить добрую половину своего дворца, чтобы достойно принять дорогого гостя.
С большой свитой, но без войска вошел Имам-Кули-хан в Казвин. Войско он оставил на подступах к городу.
Встречать невенчанного шаха высыпали и стар и млад, и женщины и мужчины, слуги бегларбега раздавали усеявшим улицы детям и убогим калекам орехи и сласти.
Ехал на белом коне Ундиладзе и думал, что, пожалуй, лучше быть законным, всеми признанным правителем, чем носить титул некоронованного шаха, что в ответ на те страдания души и плоти, которые терпел и его отец, и его брат Дауд-хан, мученица Кетеван, царевичи и вся их истерзанная родина, терпел и терпит он, Имам-Кули-хан Ундиладзе, грузин по крови, за все отомстит врагам, нынче же на рассвете истребит, сотрет с лица земли шаха Сефи и его подручных, всем до единого отсечет головы и… в отместку за Левана и Александра, и за замученную царицу цариц Кетеван.
Величавый богатырь ехал по персидской земле на белом коне, и завтрашний день освобожденной родины казался ему равным эпохе Давида и Тамар, ибо Теймураз объединит Грузию и укрепит Армению, сможет обуздать аппетит султана, Дауд-хан создаст на севере мощный оплот из Азербайджана и Курдистана, а Персия под началом Имам-Кули-хана расцветет, дадут плоды семена трудолюбия, просвещения и добра, брошенные в народ силами человеколюбия, а не вражды и ненависти…
Однако, как говорят, человек рассуждал, а бог распоряжался. Где был он, тот бог или аллах, который желал бы Грузии благоденствия?!
С истинно шахскими почестями принял шах Сефи Имам-Кули-хана. Уступил ему половину своего дворца, лучших красавиц из шахского гарема пожаловал в дар. Мать братьев Ундиладзе, восьмидесятилетняя Саломе-ханум, получила в подарок шелк и парчу, жемчуга и рубины. Старуха, улыбнувшись, отдала все младшей внучке Саломе, невесте на выданье, а шаху сказала: «От вас не даров жду, а помилования младшему сыну моему Датуне, Дауд-хану, молю».
Шах Сефи ничего не ответил.
Имам-Кули-хан досадливо поморщился, когда узнал о просьбе матери, и громогласно заявил в присутствии шахских придворных: «Старуха выжила из ума — тот, кто изменил шаху, не заслуживает даже материнского заступничества».
За обедом они сидели рядом — венценосный и невенчанный шах и беседовали тепло, сердечно, пеклись о возвышении и укреплении страны, обсуждали уловки англичан и португальцев, уделили внимание и султану, наметили будущие шаги и действия. Шах Сефи сказал, что прощает Дауд-хана. Ундиладзе-старший решительно восхвалил великодушие шаха Сефи и тут же заметил, что готов своими руками ослепить и брата, и Теймураза, если только будет воля шахиншаха. Довольный столь явным проявлением преданности, шах Сефи обласкал бегларбега.
— Любит тебя мой народ. Так встретили тебя, что я уже сам не знаю, кто из нас шах, а кто Имам-Кули-хан.
— Эта любовь и почести принадлежат тебе, солнцеравный! Народ знает, что я был верным рабом и слугой твоего великого деда. Народ мудр, он знает и то, что я во веки веков буду таким же верным рабом и слугой наследнику, получившему престол по завещанию великого Аббаса. За то и чествовали меня жители всего Казвина.
— И то не забывай, Имам-Кули-хан, что мой великий дед любя говорил тебе, чтобы ты не опережал его, не очень-то первенствовал в некоторых делах.
— Если я и бывал порой поспешен, то лишь во имя шахской славы, солнцеравный, ибо всякий иной умысел — от шайтана! Я ведь доказал свою преданность тебе и еще раз докажу, когда своему брату-предателю собственноручно выколю глаза!
— Но матушка твоя этого не желает. Нынче она просила меня о другом.
— Что спрашивать с восьмидесятилетней старухи, у которой аллах давно отнял разум!
— Устами матери вещает аллах, а воля аллаха для меня священна. Я прощаю Дауд-хана с одним условием — чтобы он доставил мне сюда связанного Теймураза, иначе смотри, мой Имам-Кули-хан, как бы сам Теймураз не опередил его и не привел самого сюда связанным!
— Я пригоню обоих, повелитель, обоим выколю глаза и своей рукой снесу головы с плеч.
И обманывали они друг друга, сидя в обители лжи и лицемерия.
Обманывали они друг друга во имя зла и добра — венценосный служил первому, невенчанный мечтал о втором, зная накрепко, что даже добро приходится вызволять из ада с помощью дьявольских уловок.
Люди судили-рядили, обманывали себя и других, а бог смеялся, вынося свое собственное решение…
…Еще не перевалило за полночь, когда Имам-Кули-хан в легком халате из блестящей парчи, лежа в отведенных ему покоях на шитых золотом подушках, лениво разглядывал новое пополнение своего гарема и живо представлял во всех деталях, как осуществить свой сокровенный, но рискованный замысел именно на рассвете, когда сон особенно крепок.
Евнухи потчевали его фруктами и шербетом, а он попивал по-кахетински настоянное ширазское вино из хрустального кубка, который в знак особого уважения преподнес ему в день рождения португальский военачальник.
«…Лишь двоих покараю. Хосро-Мирзу заставлю ослепить шаха Сефи, а затем собственноручно отсеку ему голову, чтобы не сеял вражду и смуту днем и ночью. На рассвете свершу суд праведный, труп на плошали будет валяться добычей мух и червей. А Аббасова отпрыска на привязи буду водить по всей Персии, как обезьяну, чтобы сбылось проклятие царицы Кетеван. Кизилбашам внушу страх перед христианами, а христианам — страх перед кизилбашами, дабы, ненавидя друг друга, хранили преданность мне и об измене не помышляли никогда. Восток чтил и вечно должен чтить мудрость римлян — разделяй и властвуй».
Так думал Имам-Кули-хан, лениво поглядывая на новых жен, одетых в прозрачные шелковые шальвары. Как и подобает перезрелому и пресыщенному мужу, одну отвергал он из-за плоской груди, у другой ноги находил недостаточно стройными, третью корил за унылое выражение глаз, четвертую — за тощие ляжки, у пятой пальцы на ногах были кривоваты, и, теша себя, бегларбег усердно искал оправдания своей мужской лени, которая вот уже пятый год одолевала его, когда-то гордившегося своей мужской неутомимостью.
На одной лишь из новеньких остановился его взгляд, в одной лишь не сумел обнаружить он изъяна.
Разглядев издали более внимательно, он легким движением правого указательного пальца поманил ее к себе, усадил рядом и внимательно заглянул в глаза, блеска которых не скрывали черные ресницы.
— Ты грузинка? — спросил он на своем родном языке.
— Да, во мне течет кровь Багратиони.
— Чья ты дочь?
— Князя Мухран-батони.
— Кто тебя привез?
— Отец подарил меня шаху Аббасу.
— Мать крепостной была у отца?
— Да, хлеб выпекала в Мухрани…
Имам-Кули-хан только хотел спросить имя красавицы, как в зал ворвалось десятка два таджибуков с искаженными яростью лицами. Они вмиг накинулись на Имам-Кули-хана, скрутили его прямо как он был, в парчовом халате, не дав даже опомниться.
Все понял Ундиладзе, понял, да поздно! Шах Сефи опередил его на каких-нибудь три часа, а время, даже мгновение, определяло всегда победу или поражение, которые неразлучно, как близнецы, вместе бродят по свету во все времена интересной, но сложной истории человечества.
Понял Имам-Кули-хан, что это конец, спокойно и без всякого страха проговорил:
— Только не здесь. Женщины не должны этого видеть. Уведите меня отсюда и делайте, что вам велено делать.
Палачи выполнили его просьбу, вывели на площадь перед дворцом, ту самую площадь, на которой нынче же днем жители Казвина громкими криками приветствовали невенчанного правителя Персии, величественно въехавшего в город на своем белом коне.
«Они неплохо подготовились. Этот молокосос не сумел бы сам всего обмозговать, здесь Хосро-Мирза постарался. Мое войско стоит в предместье, приближенных моих они напоили, а сыновей…»
Не успел он подумать о сыновьях, как увидел на залитой лунным светом площади связанных людей, окруженных таджибуками. Оба сына его были там. «Я наказан за царицу Кетеван, они — за Левана и Александра… Так я и знал, что господь не простит нам ничего — ни вероотступничества, ни лицемерия, ни злодеяния…»
Пленников собрали перед мечетью. Словно бешеные псы набросились таджибуки на связанных, зубами рвали их обнаженные тела.
Стоял стон, крик, хрип, брань и проклятия.
До рассвета тянулась расправа человека с человеком.
Звезды постепенно гасли на небе, устыдившись злодеяний людских, бледнели и таяли, подавленные поступками существ, называемых людьми.
Сходила улыбка с лика вечно улыбающейся луны.
Затихали стоны, крики, хрипы, вздохи…
Давно уже прекратились проклятия и брань… Слышались предсмертные стенания и последние судороги изувеченных тел.
Солнце только-только появилось над восточной окраиной неба, когда на площадь вышел шах Сефи в сопровождении небольшой свиты. Хосро-Мирза держался вблизи от повелителя, остальные шли следом, как бы окружая его полумесяцем.
Шах Сефи не узнал казненных.
— Где его сыновья?
Сотник таджибуков, весь измазанный кровью, ткнул остроносым сапогом трупы двух юношей, вернее, то, что от них осталось.
— Отрубить головы! — повелел шах Сефи. Хосро-Мирза, опередив всех, двумя ударами отсек головы трупов ни в чем не повинных юношей.
— А где валяется сам невенчанный повелитель?
Хосро-Мирза и тут никому не позволил показать шаху труп врага.
— Подтащите его к сыновьям и тоже обезглавьте. Это такая порода, что и после смерти воспрянет, как дьявол!
Когда два таджибука тащили еще живого бегларбега, он ногой толкнул и повалил одного из них на землю.
— Я же говорил, что этот шайтан и мертвый поднимется, отрубить ему и голову, и ноги!
Когда Хосро-Мирза размахнулся, отсекая умирающему голову, острие сабли задело землю и клинок переломился у самой рукоятки.
— Я же сказал, что этот смутьян и после смерти не успокоится. Изрубить его на куски! — в бешенстве зарычал шах Сефи и поспешно покинул площадь, дабы скорее избавиться от возможного преследования шайтана.
Солнце поднималось все выше, припекало все сильнее.
Три дня валялись отец с сыновьями и их приближенные на площади перед Казвинским дворцом.
Три дня никто близко не смел подойти к трупу бегларбега, человека, при жизни равного по могуществу самому шаху, к трупу, который постепенно раздувался и распухал.
Только одно-единственное живое существо решилось выйти на площадь и подобрать отрубленные головы… Старая женщина сидела на земле, вытирала концами шали кровь, запекшуюся на буйных чубах двух юношей и редеющих волосах их отца, отгоняла мух и тихо, совсем тихо причитала, проводя иссохшими пальцами по мертвым, изуродованным до неузнаваемости лицам:
— О, горе мне, несчастной матери и бабушке вашей, мои единственные утешения на этом проклятом волчьем свете…
На четвертый день Хосро-Мирза решился подойти к шаху:
— Там черви и мухи роятся, повелитель, может, похороним трупы где-нибудь?
— Убрать! — коротко повелел шах.
И всех троих убрали.
Старая мать все еще сидела на площади, горько оплакивая сына и внуков своих, вырванных у нее из рук…
Такова была участь грузинской матери — оплакивать детей и потомков своих, ибо горькая судьба выпадала на долю каждого сына и каждой дочери Грузии, которую в ту страшную пору правильно было бы назвать землей гроз и битв не на жизнь, а на смерть.
* * *
Время шло, время властвовало над всем.
Шах Сефи упивался своей победой в Казвинском дворце.
В большом зале робко собирались члены меджлиса.
Шах Сефи нежился в своих покоях, попивая ширазское вино крестьянского изготовления, доставшееся ему после смерти Имам-Кули-хана вместе с прочими богатствами его. Внук усердно вспоминал завещание своего великого деда, обдумывая каждое слово.
«…Никого из прежних придворных при себе не оставляй. И гарем смени обязательно — от гарема идет любое зло. Возвысившихся при мне подручных истреби, или отошли подальше с глаз долой, или на верную гибель отправь незамедлительно. Князей остерегайся, всех без исключения, даже тех, которые давно в нашу веру перешли. Они опаснее всех, ибо подлы и изворотливы. Используй их, но не возвышай, держи в полной и крепкой зависимости. Многим их не оделяй, близко не подпускай, ко двору не приближай, берегись, как самого шайтана. Самый большой наш враг — Теймураз, он опаснее султана своей стойкостью. Его десять раз убьешь, так он в одиннадцатый раз из мертвых восстанет. Шахиншах не будет шахиншахом, если не истребит грузин или не обратит их в нашу истинную веру. Одно из двух — или уничтожь их, или вразуми…»
При появлении молодого шаха все члены меджлиса склонились чуть ли не до земли.
Шах Сефи удобно устроился на мутаках и подушках, остальные, скрестив ноги, расположились на большом исфаганском ковре, покрывавшем мраморный пол.
— Нынче ночью меня посетил великий шах Аббас, — начал свою речь молодой повелитель, и в его вытаращенных крупных глазах блеснул не то что гнев, а торжествующая злоба с ехидством. — Он своей мудростью одобрил все действия мои и за преданность мою просил у аллаха благословения. Похвалил и за то, что я не позволил Имам-Кули-хану падалью гнить на земле великих предков моих и вовремя убрал его, — шах кинул на Хосро-Мирзу двусмысленный взор. — И еще сказал, что, хотя сын Теймураза Давид — как внук Александра и родной племянник Луарсаба — имеет право на картлийский престол, все-таки ведь он прежде всего отпрыск Теймураза, не следует отдавать ему Картли, ибо это было бы равносильно царствованию Теймураза в Картли. А этому не бывать. Потому-то велел мне мой великий и солнцеравный дед изгнать из Картли Давида, что равносильно изгнанию самого Теймураза, и посадить на престол нашего верного раба и слугу аллаха, нашу правую руку, наследника царя Баграта — Хосро-Мирзу.
Хосро-Мирза наклонил свою красивую голову, увенчанную чалмой, и ответил кратко:
— Воля аллаха и мудрость шаха Аббаса глаголят устами твоими, солнцеравный и всемогущий!
Шах Сефи же, не обратив на него никакого внимания, пустился в пространные рассуждения:
— Преклоняясь перед волей аллаха и моего великого деда, моей шахской властью повелеваю — младшего и последнего сына Теймураза, Давида, или, по-нашему, Гургена-Мирзу, внука царя Давида, изгнать из Картли и объявить шахом или царем Картли верного нам и аллаху Хосро-Мирзу, предводителя многих победоносных походов, начальника охраны Исфаганского двора, сардара шахской гвардии, вельможу, грузина по матери и отцу, преданного аллаху телом и душой, правую руку шахиншаха и моего названного отца бесподобного.
— Если только возраст мой не будет помехой мне, солнцеравный, мне ведь уже шестьдесят седьмой миновал, — напросился на похвалу падкий на лесть Хосро-Мирза.
— В зрелом муже и ум зрелый, — прервал его шах Сефи, но тут же пожалел о неуместном красноречии и своей обычной скороговоркой поторопился поправить оплошность: — Вечная для всех возрастов мудрость дарована аллахом лишь правителям, мудрость же подданных верных растет только с годами.
— Устами твоими, дорогими всему свету, вещают аллах и великий шах Аббас, солнцеравный! — угодливо подхватил Хосро-Мирза, склоняя голову до самого ковра.
Шах Сефи помешкал, перебирая четки, потом продолжал:
— С нынешнего дня нет больше Хосро-Мирзы, а есть Ростом-хан или, по-грузински, царь картлийский и покровитель Кахети. Вместе с ним я отправляю сына моего преданного слуги, покойного Бежана Саакадзе, второго Ростом-хана, бегларбега Тавриза и верного спасалара Сефевидов, дабы он возглавил мое войско в Картли и был бы опорой царя Картли Ростом-хана. И еще я отправляю Селим-хана, который будет управителем моего Кахети, правой рукой царя Картлийского и спасаларом моего войска в Картли, Тебризскому бегларбегу Ростом-хану… — чуть помолчав, Сефи устремил на спасалара горящий злобой взор: — За дядю, которого Теймураз погубил, прицепился к нему как шайтан и погубил… повелеваю отомстить и очистить путь законному парю Картли Ростому.
— Твоими устами вещает аллах, солнцеподобный шахиншах! — склонился до ковра совсем еще молодой бегларбег Ростом-хан.
— Итак, по воле аллаха и согласно повелению моего великого деда, который сам-?? всегда был милостив к Теймуразу, а мне велел наказать его за ослушание…
«Лжет!» — подумал Хосро-Мирза, который прекрасно понимал, что старая лиса шах Аббас затем и завещал внуку осторожность и мягкость, что знал — от Теймураза еще многого натерпится его преемник.
Шах Сефи же продолжал:
— …Повелеваю я обоим Ростомам немедленно двинуться на Гюрджистан со стотысячным моим войском и под предводительством Ростом-хана, при участии Селим-хана, дабы утвердить там волю аллаха и великого шаха Аббаса! К войску Ростом-царя присоединятся ханы Шамшадигу, Казаха и Лоре.
Все названные шахом вельможи в знак покорности согнулись в три погибели.
Меджлис был окончен.
Ростом, новоявленный царь картлийский, приступил к сборам сразу же после окончания меджлиса. Прежде всего он созвал всех обретавшихся при Исфаганском Дворе грузин, которых шах Сефи позволил ему взять с собой.
Подготовка войска заняла три месяца.
Шах Сефи пожаловал и без того богатому Ростому много золота, серебра и драгоценностей.
И двинулось войско Ростома Багратиони на Грузию.
Возле Хунани Ростом разбил лагерь. Созвал на совет сопровождавших его грузинских князей-мусульман. Там же был и Селим-хан.
После долгих толков придумали хитрую уловку — заставили армянского мелика составить послание к картлийским князьям, адресованное всем до единого, в котором мелик им сообщал, что он, выполняя их просьбу, передал их покаянную грамоту величайшему и победоносному шаху. «Он принял ваше письмо благосклонно и помиловал вас, — писал мелик, — и, удовлетворяя вашу же просьбу и мольбу, посылает к вам вашего же Багратиони, своего любимца и царя Ростома и с ним Ростом-хана спасалара с большим войском, которые с божьей помощью пожалуют к вам осенью…»
Для вящей убедительности грамоту сию скрепили печатью и через Роина Павленишвили послали всем картлийским князьям, чтобы тот объехал втайне каждого из них и ознакомил с ней. Сами же остались в Хунани.
Роин Павленишвили обошел всех князей Картли и ознакомил их с содержанием грамоты.
Прочитав письмо, все призадумались, даже те, кто и не помышлял об измене Теймуразу. Князья вообразили, что Теймураз никому из них не верит, а скорее поверит письму мелика, из которого так получалось, будто они, картлийские дидебулы, сами просили шаха о помиловании, прощении и присылке Ростома с войском большим для изгнания Теймураза из Картли. Дело дошло до того, что к Теймуразу, стоявшему возле Дигоми, чтобы оказать достойное сопротивление Ростому, не присоединился ни один тавад, кроме Иотама Амилахори.
Сын князя Мухран-батони Николоз не преминул воспользоваться случаем и с радостной предупредительностью встретил вошедшего в Карабах Ростома. Примеру сына Мухран-батони последовали князья Бараташвили, не отстал от них и арагвский Эристави Датука с братьями.
Раздосадованный Теймураз вернулся из Дигоми в Гори, но и тут не смог собрать войска. Тем временем картлийские дидебулы донесли вступившему в Тбилиси Ростому, что Теймураз остался без воинов. Воодушевленный этой вестью, Ростом двинулся в Гори, но не со всем своим войском, — оно еще не успело подойти, — а с небольшим отрядом, однако Теймураз успел уйти в Имерети к царю Георгию и зятю Александру.
Те из картлийских князей, которые не последовали за Теймуразом, сначала в Тбилиси, а затем в Гори преклонили колена перед новым царем. Исключение составлял лишь Парсадан Цицишвили, который специально уведомил царя: «Не потому я к тебе не явился, что не почитаю тебя и колеблюсь в выборе между тобой и Теймуразом, а потому, что боюсь мести Ростом-хана Саакадзе, который наверняка будет мстить за Георгия и за свою семью». Ростом-хана, узнавшего об этом, осторожность противника еще пуще раззадорила, еще страстнее разожгла жажду мщения. Отсутствие Парсадана он объявил знаком неуважения к шаху Сефи, ворвался в Сацициано, круша и сжигая все на своем пути. Однако Парсадану удалось бежать, он чудом не попал в руки кровного врага.
Эта история еще больше напугала и без того перепуганных картлийских князей. Царь Ростом упрекнул Ростом-хана в том, что он мешает ему неразумными действиями укреплять свою, а тем самым и шаха Сефи власть.
Поскольку никто не в силах был разрешить их спора, ибо сами они были высшей властью, оба порознь обратились к шаху Сефи с просьбой рассудить их. Шах Сефи поддержал царя и велел Ростом-хану воротиться в Персию немедленно со своим войском.
Оставшись без войска, Ростом не находил себе места, охваченный страхом и всякими подозрениями. Не желал быть застигнутым врасплох, он все ночи напролет проводил в пирах и увеселениях, засыпая лишь под утро.
Наводненная кизилбашами Картли снова бурлила, расколотая пополам, и даже те князья, которые стремились найти общий язык с царем Ростомом, не могли скрыть обиды за отобранные у них поместья — Ростом возвращал эти земли бывшим их владельцам, прибывшим с ним из Персии.
Не только Картли, но вся Грузия понимала, что прибытие Ростома было еще одной попыткой «окизилбашить» страну, но попыткой бесплодной, ибо победы не одержали ни следующий завещанию своего деда шах Сефи, ни Грузия — обе стороны переживали горечь поражения и несбывшихся надежд.
Царь Ростом понимал, что местные тавады и азнауры завидовали тем милостям, которыми он осыпал прибывших с ним из Персии грузин-кизилбашей, но другого выхода у него не было. Потому-то, боясь, что обиженная знать не поддержит его, он усердно приглашал в Тбилиси и Гори купцов и ремесленников, склонял на свою сторону армянского католикоса и тертеров — священнослужителей, чтобы взамен расточаемых милостей заручиться их расположением на черный день. Положение Ростома осложнялось еще и необходимостью собирать дань в пользу Исфагана и аккуратно отправлять туда невольников.
В Картли окончательно убедились, что надежда на спасение может быть связана лишь с Теймуразом, укрывшимся в Имерети.
Ростом и сам догадывался, что шах Сефи, отправляя его в Грузию, хотел избавиться от него как от старого, негодного уже сардара, но эта догадка нисколько не смущала его, напротив, он был даже чрезмерно доволен, что не участвовал в затянувшейся войне между шахом и султаном. Кроме того, он твердо знал, что старость у мужчины начинается лишь тогда, когда его перестает тянуть в гарем, ему же войти в гарем было так же легко и желанно, как шаху Сефи выколоть кому-то глаза или оскопить кого-нибудь из двоюродных братьев.
Теймураз, рассчитывая на войну шаха с султаном, надеялся на помощь имеретинского царя. По слухам, доходившим из Картли, он знал, что грузины с трудом терпели Ростома, Кахети же и вовсе оставался без правителя, ибо Теймураз велел Датуне тихо сидеть в Сигнахи впредь до получения от него сигнала, а в случае, если бы кизилбаши попытались его окружить, он должен был укрыться в Кизики.
Рассчитывал царь и на то, что посланный в Стамбул Дауд-хан не будет сидеть сложа руки и непременно что-то предпримет, чтобы помочь себе и Теймуразу.
Еще больше, чем Теймураз, о сбежавшем Дауд-хане думал Ростом. Он хорошо знал нрав и привычки Теймураза, а также настроение имеретинского царя Георгия И царевича Александра — они, разумеется, приложат все усилия, чтобы поддержать сородича против кизилбаша Ростома. Отправленный к Имеретинскому двору соглядатай донес, что размолвка между Георгием и Леваном Дадиани, начавшаяся с Базалети, все усиливается. Ростом, с присущим ему коварством, взвесил все обстоятельства и затеял переговоры с Леваном — просил отдать ему в жены сестру, пообещав взамен шахское расположение, намекая также о поддержке в случае нападения Левана на Имерети.
Леван, не долго думая, дал согласие выдать замуж свою сестру за Ростома и письменно поклялся в верности шаху Сефи, желая обрести столь могущественного союзника в борьбе против имеретинского царя. Его расчеты шли еще дальше…
Шах Сефи в ответ на клятву мегрельского правителя осыпал милостями своего названого отца, а князю Дадиани прислал тысячу марчилли[71] и назначил тысячу туманов [72] годового жалованья.
Эти события лишь укрепили преданность царя Георгия и Александра Теймуразу, вероломство князя Дадиани окончательно сплотило родичей.
Картлийские тавады и азнауры еще больше озлобились против царя Ростома и Дадиани, явившегося нежданной поддержкой узурпатора в насилии над картлийскими князьями. Однако Ростом пренебрег их досадой и соизволил оказать новые милости купцам, вполовину снизив пошлину на товары, ввозимые из Персии. Обласкал также обосновавшихся в Гори католических миссионеров. Жена Ростома Мариам Дадиани поручила монастырским монахам заново переписать летописный свод «Картлис цховреба» — «Жизнь Картли». То ли по тайному распоряжению царя, то ли, напротив, втайне от него, немалые средства отпускала она на восстановление и постройку церквей и христианских храмов. Однако сам царь Ростом о делах христианских печься не желал, покровительствовал мусульманам и преданности своей аллаху не скрывал, — наоборот, всенародно в этом признавался.
Ростом, пожелав возместить убыток, нанесенный царской казне уменьшением пошлины, велел предательски убить арагвского Датуку Эристави, среднего сына ослепленного Зурабом брата, намереваясь завладеть его землями.
Взбунтовалось Арагвское ущелье, пшавы, хевсуры, свободолюбивые жители гор возмутились: «Неужто позволим кизилбашу взять над нами верх!» Перекрыли все тропы и перевалы, не впустили Ростома в ущелье, не приняли предателя и вероотступника. Владыкой своим признали брата Датуки Заала, присягнули ему на верность.
Медленно, неспешно разворачивалась история Грузии, каждая страница которой писалась кровью героев, павших на поле битвы или ставших жертвой измены…
Соперничество между шахом и султаном тоже бросало свою мрачную тень на пропитанную слезами и кровью летопись грузинской земли, ибо безудержно поощряло противоборство и внутреннюю рознь между отдельными феодалами.
Раздраженный близорукостью шаха Сефи и двуличием Дадиани султан Мурад напал на Ереван, — дескать, пусть это послужит шаху поучительным уроком! Вторгся в Карабах и, захватив Тавриз, вывез оттуда богатую добычу.
Шах Сефи, увлеченный обезглавливанием и ослеплением своих родственников и подданных, не мог дать достойный отпор нарушившему границы его владений султану.
Заал Эристави улучил момент, привлек и ксанского Эристави Иасе на свою сторону. «Если мы не объединимся, — сказал он, — Ростом нас раздавит». Заручившись поддержкой Иасе, Заал послал гонцов к Теймуразу: «Приди помоги нам, ты был царем, царем и останешься».
Теймураз осторожничал, старался не спешить, ждал более удобного случая… Но находившиеся при нем в Имерети преданные ему картлийские и кахетинские князья торопили, подталкивали его. Теймураз издали наблюдал за действиями султана, в войске которого самоотверженно сражался и Дауд-хан. Дауд-хан, со своей стороны, тоже призывал Теймураза к решительным действиям: «Присоединяйся же к нам со своим войском, не пожалеешь никогда»! Даже Датуна написал отцу письмо, которое передал через своего верного Гио-бичи:
«Ты — отец и покровитель страны, а царство твое оставлено без присмотра… Приходи в Кахети, Тианети и Арагвское ущелье будут наши, горцы, тушины, пшавы и хевсуры клянутся твоим именем, Ростом же не сможет ни в Картли укрепиться, ни в горы подняться. Если даже Мурад уйдет из Еревана, шах Сефи все равно не осмелится подстрекать Ростома против Кахети, а самому Ростому не хватит ни решимости, ни силы, чтобы без Исфагана против нас что-либо не то что предпринимать, даже замысливать. Шах Сефи, оказывается, Тинатин в жены просил — ты отказал. Если бы ты ее шаху Аббасу отдал, я бы первый воспротивился, но с молодым шахом, мне кажется, мы большего можем добиться хитростью и сладким словом. Я не должен учить тебя, умудренного мужа и царя, но я сын твой, единственный наследник, и не имею права молчать о своих сокровенных думах. Скажи шаху Сефи, что, когда придет время, ты сам к нему Тинатин пошлешь. Пусть он надеется. После гибели Александра, Левана и бабушки-государыни нам нечего ждать от них добра, но я от тебя не раз слыхал, что сила и гору вспашет. Знаю великую твою осторожность, без нее не выжить бы нам никогда при шахе Аббасе, но даже если Мурад уйдет, шаху Сефи все равно никогда не сравняться с Аббасом. Селим-хан затаился, словно загнанный заяц, после нашествия султана никак в себя не придет. Один лишь грозный окрик — и он улепетнет без оглядки.
Отец, я знаю историю Грузии. Мтквари и Алазани, Пори и Арагви были свидетелями многих тяжелых дней, месяцев и лет в отношениях между Грузией и Сефевидами. Много крови пролито на земле Картли и Кахети, много разоренных очагов погасло, многих угнали в Персию, вырвав с корнем семьи из родной почвы. Я знаю заслуги твои и муки матери твоей, знаю о страшной участи моих братьев, знаю о тяжких раздумьях твоих и сомнениях: дескать, что скажут грядущие поколения о царе Теймуразе, о царе-поэте. Скажу тебе одно: ты одержал верх над шахом Аббасом. Он не сумел нас от веры нашей отвратить, не сумел и уничтожить. Надо быть слепым, чтобы не увидеть того, что Картли и Кахети лишь благодаря тебе сохранили родной язык и веру, сберегли будущее страны. Да, потомки скажут, что царствование Теймураза являлось самоотверженной борьбой за свободу и независимость Грузии — за язык ее, за веру, за несгибаемость духа, а царствование же Ростома направлено было на порабощение нашей страны в угоду персидскому шаху.
Поцелуй матушку мою и Тинатин, Дареджан обними нежно, а зятю нашему передай сердечный привет.
Ежели что я не так сказал или письмо мое не по душе тебе придется, прости меня великодушно и помилуй, как это свойственно всем великим людям.
Сын твой Датуна».
Теймураз отложил письмо и взглянул на верного Гио-бичи.
— Что он там, пал духом?
— Да не то чтобы пал, государь.:, в письме вся правда сказана.
— А ты откуда знаешь, что в письме?
— Датуна без меня ничего не делает, — важно произнес испытанный и преданный слуга и, переступив с ноги на ногу, носком одного сапога потер другой точно так, как делал это когда-то в Алазанской долине, когда его перепуганным мальчишкой притащили к царю. Только в ту пору он ходил босиком, а теперь, как заметил острый глаз Теймураза, он был в сапогах, славно пошитых сигнахским сапожником Васо.
— Как там мои внуки поживают, сынок? — справился Теймураз о сыновьях Датуны — Георгии, Ираклии и маленьком Луарсабе.
— У младшего зубы режутся, так он всю грудь матери искусал… В вашем аквани уже не умещается… такой молодец растет! — Гио-бичи начал с младшего, ибо знал, что именно он был любимцем деда.
— Сколько зубов у него прорезалось?
— Четыре.
Теймураз потеплевшим взглядом окинул верного слугу.
— А Георгий и Ираклий?
— Отцу покоя не дают, деда требуют.
— А бабушку не требуют?
— Нет, больше по деду Теймуразу скучают.
Теймураз встал, подошел к Гио-бичи и поцеловал его в лоб, обняв по-отцовски за плечи.
— Письма я писать не буду, в нем нет нужды. Датуне передай, что я и сам готовлюсь… — Он заколебался, испытующе поглядел в глаза юноши и, будто еще раз убедившись в его сыновней привязанности и преданности родине, продолжал твердо и спокойно:
— Скоро наступит пора, я начну действовать, а пока нам надлежит хранить терпение. Поспешность скорее испортит дело, чем поможет ему. Пусть Датуна без меня ничего не предпринимает, пусть ждет моего знака. А теперь слушай внимательно, что я тебе еще скажу, и все до единого слова передай Датуне, до мельчайших подробностей. Ныне дела обстоят так: вероотступник Ростом призвал из Персии множество грузин-кизилбашей и роздал им земли их предков, земли, которые давно были распределены между картлийскими князьями и дворянами. Даянием этим он притеснил нынешних владельцев этих земель, а потому-то снискал много тайных врагов среди картлийских дидебулов. Правление его пугает в первую очередь его самого. Ом восстановил Горийскую крепость и по ночам устраивает там оргии, от страха сам не спит и другим спать не дает, как это свойственно трусливым детям, хотя моим отпрыскам он неведом. После того как он вынудил шаха Сефи убрать Ростом-хана Саакадзе, — а он, этот Саакадзе, надо отдать ему должное, недурно встряхнул некоторых зарвавшихся тавадов, — этот страх у него удесятерился, ибо назначенный вместо Ростом-хана в кешики ширванский бегларбег не грузин, Грузии не знает, поэтому защищать Ростома ему будет трудно.
— Что значит «в кешики», государь? — спросил Гио-бичи, весь обратившись во внимание.
— Это значит — в охрану высокопоставленного лица персидского двора… Итак, охваченный страхом Ростом, желая породниться с Леваном Дадиани, берет в жены его сестру, ибо владетель Мегрели — Леван не ладит с моими, имеретинскими родичами. Знает старый исфаганский хитрец и то, что расправы ему не избежать, а в этой расправе мне должны помочь именно Георгий и Александр. Родниться с врагом моих друзей на руку Ростому… — Теймураз малость запнулся, ибо в голове мелькнула тень сомнения — не слишком ли доверяет он этому пареньку? Однако, взглянув в правдивые и преданные глаза его, он вспомнил упрек, который высказал ему молодой Датуна через Гио-бичи в связи с поспешной свадьбой сестры. Мгновенно подумал царь также и о том, что лучшего гонца, чем Гио-бичи, у него, притаившегося в Имерети царя, не будет; не держать же в курсе дела Датуну — единственного наследника — значило бы пренебрегать государственными интересами. Датуна должен знать о всех делах отца. Взвесив все в одно мгновение, Теймураз решительно продолжал: — Так вот, мегрельский мтавари почуял запах добычи и решил, что с помощью Ростома и шаха вырвет что-нибудь у Имерети, потому-то он так быстро дал согласие на брак и тотчас получил щедрые дары. До меня дошли слухи, что местом обручения и свадьбы, к которой обе стороны усиленно готовились, назначили Багдати, во владениях Чхеидзе, так что, минуя Имерети, друг с другом встретиться они не могли…
Царь Ростом медлил, боялся меня и моих родичей, Дадиани же явился в Сачхеидзо и стал ждать старого пса, который из Сурами со своим войском пошел не через Лихский хребет, а в обход через Самцхе. Мы, узнав об этом, подошли к Багдати, чтобы следить за князем Дадиани, явившимся с большим войском. Царь Георгий совсем обессилел от старости, ему трудно было ехать на лошади, мы даже не хотели его брать, но он настоял на своем и поехал на муле… Мы разведали все, что было нужно, и уже возвращались назад, чтобы готовиться к походу… Леван Дадиани привел в Багдати огромное войско… Кто-то нас предал, и Леван снарядил за нами погоню… Старый царь Георгий отстал и попал в плен. Теперь этот алчный злодей, привыкший продавать грузин османам, потребует большой выкуп за царя… Нам ничего другого не оставалось, как провозгласить царем Александра, чтобы злодей умерил свой аппетит и не надеялся на большой выкуп: одно дело — царь, а совсем другое — бывший царь…
— Да-а, трудное дело, государь, — робко заметил ошеломленный всем услышанным юноша.
— Что ты имеешь в виду? — нахмурился Теймураз.
— А то, что живой царь трона лишился.
— Эх, сынок, жизнь есть нескончаемая битва, в которой смекалка порой оказывается важнее самой острой сабли. Во-первых, мы приняли такое решение ради блага самого Георгия, во-вторых, Георгий тайно от Дадиани сообщил нам о своем согласии, ибо он уже стар и не может управлять царством. Так что не насильно, против его воли, а с его одобрения свершили дело это. Запомните вы оба — и ты, и Датуна — когда я состарюсь и не смогу лошадь оседлать и женщиной овладеть, — при этих словах Теймураз, как отец сыну, улыбнулся юноше, — тотчас передам венец и престол Датуне. Царь Георгий еще раньше завещал престол Александру, о чем хорошо знал его младший брат царевич Мамука, потому-то он первый настаивал на том, чтобы престол занял Александр, исходя из пользы и выгоды царства, родины, а я первую очередь — родного отца.
Если мы сейчас вступим в Картли и Кахети, коварный Ростом сообщит об этом Левану Дадиани, а тот может повредить царю Георгию. Пока мы ведем переговоры и приглядываемся, как Дадиани себя поведет, Ростом спокоен, если же он заупрямится, то возможно, что до Картли и Кахети мы вынуждены будем вторгнуться во владения Дадиани, ибо нехристь Ростом без разрешения шаха через Лихский хребет переступить не посмеет, да и вообще этому вовсе не бывать… После освобождения Георгия из плена Дадиани дорога в Кахети будет для нас открыта. Может случиться, что мы не будем дожидаться вестей от Георгия, а сделаем наоборот — подавив злодея Ростома, сломим Дадиани без боя, духовно.
— Но ведь все картлийские дидебулы признали власть Ростома, — печально заметил Гио-бичи.
— Это только с первого взгляда так кажется. Картли легко не покорится иноверцу. Картли была и будет столпом совести и чести Грузии. И признание власти, в этом я не сомневаюсь, не что иное, как притворство перед старым шакалом. — Царь в задумчивости провел пальцем по лбу и после небольшой заминки продолжал: — Если же в Картли все-таки возьмут верх вероотступники, тогда мы позаботимся о нашей родной Кахети и со стороны будем наблюдать, как долго продержится этот бездетный старик на картлийском престоле.
— Истину молвишь, государь, — вставил свое слова Гио-бичи, — Датуна ничего не потеряет, если временно откажется от Картли… хотя он ведь по матери — наследник картлийского престола…
— Это и бесит Ростома: сам бездетный, он боится Датуны, потому ты особенно должен беречь царевича… От твоих глаз и ушей многое зависит, ибо в твоих руках будущее родины. Ты сам знаешь, как нужно охранять наследника двух престолов… Береги его, как зеницу ока своего. Пусть Датуна без меня ничего не предпринимает, я обо всем буду сообщать ему. Если дело затянется, я заберу сюда его жену Елену и всех троих внуков. Ждите моего слова… А теперь ступай отдохни, чтобы чуть свет отправиться в обратный путь… Да, во дворце не знают, кто ты?
— Я никому ничего не говорил.
— И не говори, врагов и здесь много. Теперь ступай и отдохни.
— Мне нечего отдыхать. Накормлю коня, и мы отправимся в путь.
— Тебе все-таки надо вздремнуть. Хорешан позаботится о тебе.
* * *
…Теймураз не стал тянуть. Зять и тесть решили, что походом на Кахети они и Ростома сломят, и Дадиани сделают более сговорчивым, и царице Мариам не позволят одурачивать картлийцев при поддержке двуличного и лживого мужа. Александр сказал, выразив и мнение тестя, — муж с женой «Картлис цховреба» переписывают, а жизнь в Картли на кизилбашский лад переиначивают. И шаха обманывают, и над Грузией измываются с помощью самих же грузин.
Теймураз взял с собой Иотама Амилахори, во главе имеретинского войска поставил царевича Мамуку и, перейдя через Рачинские горы, миновав Цхинвали, вышел к Захори, спустился в ущелье Лехуры и остановился со свитой во владениях Амилахори, предусмотрительно оставив войско в лесу принадлежавшей азнаурам Коринтэли.
Поглощенный предстоящей операцией, отклонил радушное приглашение хозяина подняться в крепость Схвило, хотя сердце сильно тянуло туда, — там в затворничестве жила избранница души его.
Ночь царь провел в Квемо-чала, в башне Амилахори, утром же поднялся вместе с войском на гору, пересек Пантиани и бросил затуманенный грустью взор на крепость Схвило, сверкавшую в лучах утреннего солнца…
Потам перехватил этот взгляд, но ничего не сказал.
На реке Ксанн их поджидал Эристави Иасе.
В Тианети к ним присоединился Заал Эристави с большим отрядом горцев-мтиулов, пшавов и хевсуров, подоспели и сыновья Давида Джандиери, князья Чолокашвили, Джорджадзе и Вачнадзе, много было могучих мужей, во всеоружии явившихся со своими дружинами.
Войска, прибывшие из разных княжеств, оставили Тианети и перевалили через Гомборскии хребет.
По дороге Теймураз беспощадно и мгновенно разбил кизилбашей, стоявших лагерем в окрестностях Алаверди, никого в живых не оставил — свежи были силы.
Кахетинцы, прослышав о приближении Теймураза, словно вышедшая из берегов река Дуруджи, боевыми отрядами потекли к Велисцихе, присоединяясь к царскому войску, которое направлялось к Сигнахи.
Селим-хан едва ноги унес.
Теймураз вернулся в Кахети и укрепился в Сигнахи.
* * *
Парсадан Цицишвили был на седьмом небе от радости, даже о разорении поместья своего не кручинился, когда убытки подсчитывал. Воодушевленный изгнанием Ростом-хана Саакадзе, готов был молиться на царя Ростома. Когда повелитель Картли явился в его владения, чтобы возместить нанесенный ему урон, а заодно осмотреть поля и луга, сады и виноградники, Парсадан сделал вид, будто ничего не произошло. «Я готов на любые потери, — заявил князь, — только бы мой государь и шах Сефи благоденствовали, а все остальное — пустяки…» Ростом пожаловал Парсадану халат и пятьдесят коней из своего табуна, столько же коров и большую отару овец, — знаю, сказал он ему, ты отблагодаришь меня в десятикратном размере.
При этом разговоре присутствовали и другие картлийские князья. Ростом хорошо знал, кого, когда и как нужно было облагодетельствовать, чтобы одним примером завоевать сердца десятка, а то и сотни христиан, привлекая на службу себе и шаху Сефи побольше картлийцев.
Картлийцы тоже были не дураки, прекрасно знали о лицемерии и хитрых уловках Ростома, однако виду не подавали: изнуренные войнами, предпочитали мирный труд и мирную торговлю.
Парсадан Цицишвили устроил в честь гостя праздник на славу. Два дня кормил и поил Ростома и его свиту, всех князей, сопровождающих его. Старик Ростом сильно устал, но все бодрился, от молодых старался не отставать. Наконец Парсадан сжалился над ним, проводил в спальню, сам же с телохранителями-кизилбашамн заночевал в передней, охраняя высокого гостя и самого себя.
Утром третьего дня явился к Ростому.
Ростом только что позавтракал и собирался в путь, когда Парсадан почтительно попросил выслушать его наедине. Правитель Картли немедля выполнил его просьбу и всех удалил. Когда они остались вдвоем, спросил:
— Что ты хотел сказать?
Парсадан сначала вилял и так и сяк, долго уклонялся и юлил, наконец приступил к главному:
— Государь, народ тебя любит и ценит, князья и дворяне тоже добра не забывают, тебя выше всех ставят по уму, просвещенности, отваге, щедрости и доброте, одно лишь нас всех тревожит…
Ростом, казалось, понял, о чем речь, вперил в глаза Парсадана свой спокойный взор, столь выразительный, что тот решил быть откровенным до конца.
— Что же волнует князей? — спросил Ростом, подбадривая разговорившегося хозяина дома.
— Бездетность твоя, государь… Ты как правитель мудрый и проницательный лучше меня знаешь, что никто на этом свете не вечен. А верность отнюдь не в том заключается, чтобы скрывать от царя мысли свои и тревоги. Сын Теймураза — племянник царя Луарсаба… Вы с царицей Мариам еще не подарили Грузии наследника… Дидебулы тревожатся, народ ропщет — мы, дескать, Ростому верны были и будем, но упаси бог, что случится, на кого он нас покинет… Ведь тогда за верность Ростому истребят нас беспощадно Теймураз и его отпрыск…
— Верно ты говоришь, я тоже думал об этом. У любого царя, да и у всякого человека, чем больше земель и подданных, благожелателей и друзей, тем больше у него тех, кто взирает на него с надеждой в ожидании милостей, — не только от него, но и от сыновей или дочерей его. Меня же аллах не удостоил этого счастья… ни родней, ни наследником не пожаловал… Даже дочери мне не послал, чтобы я хотя бы зятем и его родней разжился на старости. В старости большая у меня забота… — признался в печали своей Ростом.
— Может, усыновить кого… — осторожно вставил Цицишвили, который в глубине души мечтал подсунуть своего собственного сына бездетному Ростому.
— Кого же?
— Оглянись вокруг, государь! Выбери достойного юношу, доброго сына доброго отца, Теймуразу неугодного, но при этом ничем не уступающего Датуне, ибо сын Теймураза и собой хорош, и умом удался… Мудрецом прослыл.
Ростом нахмурился, не понравились ему речи о достоинствах Датуны, но чтобы не обижать Цицишвили, тотчас сладко ему улыбнулся, ибо показалось, что откровенность Парсадана прежде всего на его же, Ростома, благо направлена.
— Я уже думал об этом, мой Парсадан, и еще буду думать, потороплюсь с решением.
…Не прошло и двух недель после этой беседы, как Ростом созвал дидебулов в Тбилисский дворец и объявил своим названым сыном и наследником картлийского престола внука царя Вахтанга, царевича Луарсаба.
Замялись тавады и азнауры, но промолчали.
Попросил слова мцхетский католикос Евдемоз Первый, Диасамидзе.
— Поскольку здесь не присутствует сейчас наследник престола и ваш приемный сын и поскольку сказанное на совете — дарбази слово не должно выноситься из дворца, я хочу высказать свое мнение, государь, высказать без всякой утайки перед богом и тобой.
Не понравилось царю вступительное слово «козлинобородого», как он называл католикоса Евдемоза Диасамидзе, не понравился и тон начала его речи, и дерзость, ибо не жаловал он его вообще как духовного предводителя отвергающих его христиан. Однако прерывать старика тоже не стал.
— Дело в том, государь, что земли деда Луарсаба, блаженного Вахтанга, отданы церкви, часть же разделена меж сидящими здесь дидебулами. Как только господь всеблагой того пожелает и твой приемный сын станет законным наследником престола, снова начнутся раздоры и междоусобицы, распри и ссоры, — мир и покой в стране, твоими усердными стараниями достигнутые, снова будут нарушены, — под конец подсластил пилюлю Евдемоз, желая польстить царю.
Ростом вспыхнул, сверкнул глазами, но он сдержался и скорее для членов дарбази, чем для католикоса, задал вопрос:
— Тогда кого же вы хотели бы видеть на престоле?
Католикос, который не успел сесть, вдруг продолжил так бойко, будто вопрос относился к нему одному:
— Дело в том, государь, что в роду истинных Багратиони бездетных царей никогда не было. — Глаза у Ростома выкатились из орбит, но Евдемоз поспешил закончить свою мысль: — Потому и у тебя должны быть дети… В бесплодии вашего брака повинна царица, а поскольку вера твоя позволяет тебе это — возьми себе другую жену. — Католикос умолчал о вывезенном из Персии гареме, который Ростом, считаясь с христианским окружением, прятал где-то в горах..
— Да какое тебе дело до веры моей, козлинобородый!.. — взорвался Ростом, порываясь вскочить со своего трона, но и на сей раз сдержался, встретив спокойный, но твердый взгляд царицы Мариам, с которой Ростом считался всегда, ибо признавал в ней мудрейшую женщину.
— Да сбудется воля господа и воля твоя, государь. Я на все согласна, — смиренно произнесла царица и умолкла. Ростом же понял, что эти слова были сказаны ею скорее для собственного успокоения. Мариам Дадиани так легко не примирилась бы с соперницей, ни с кем не стала бы делить ни мужа, ни трона, ибо в бездетности царя она была совершенно неповинна, — напротив, и муж и жена прекрасно знали, что ни одна из красавиц в гареме Ростома уже не родила бы ему ни сына, ни дочери…
Под разумным давлением Мариам Ростом сумел несколько подавить в себе вспышку гнева, но не успокоился и грозно отрезал:
— А ты, козлинобородый, возьмись за ум и прикуси язык, я ведь знаю, что за червь тебя точит и почему ты хочешь разделить Мегрелию с Картли! Имерети и Теймураз у тебя на уме! Так помни, я выпотрошу эти мысли из твоей гнилой головы, а язык велю вырвать, как поганый сорняк!
Члены дарбази молча разошлись.
…Католикос Евдемоз первый дал согласие на усыновление христианина Луарсаба мусульманином Ростомом, а также на провозглашение его наследником престола.
Зароптали тавады и азнауры. Ростом сам их навел на мысль, которая прежде им и в голову не приходила: отказавшись от Луарсаба, они могли угодить Теймуразу и тем самым наладить отношения с Имерети… Избавились бы и от тяжелого, непреклонного правителя, который непременно бы стал угнетать и притеснять всех дидебулов, мстя за своего отвергнутого отца, — все припомнил бы им, став царем, Луарсаб…
И сердце католикоса следовало бы таким путем завоевать, ибо известен он был своей мудростью, преданностью Теймуразу и Имерети.
Потолковали князья, пораскинули умом и так, и этак и решили наконец: после смерти Ростома Луарсаба к престолу не допустим, сами выберем нового царя и оповестим шаха о нашей воле. Обращение к шаху было упомянуто в расчете на тот случай, если бы слух о княжеском сговоре достиг ушей Ростома, ибо они все как один знали, что сидящие в Кахети Теймураз и Датуна после смерти Ростома к картлийскому престолу никого не допустят.
Парсадан Цицишвили по-прежнему не находил себе покоя. Планы князей, о которых он знал, лишали его сна, бередили душу, еще хлеще будоражили его, будили заветное желание. Не мог он расстаться с мечтой возвести на престол сына, а более подходящего случая ему вовек не дождаться. Он строил всевозможные планы и тут же рушил их, перебирал различные способы и тотчас их отметал. Он с нетерпением ждал от судьбы знака и наконец получил его.
…Осень была на исходе.
Ростом охотился на кабанов в низовьях Куры. Как магометанину ему запрещено было есть свинину, но царица Мариам любила шашлык из молодых кабанчиков, нагуливавших жирок на лесных желудях. Однажды и царь изволил отведать кусочек и с тех пор пристрастился к запретному яству. «Если вино можно пить воровски, почему свинину нельзя есть?» — подумал он. Поводом для охоты всегда служило желание царицы, лакомились же добычей они оба.
Пушистый, словно облако, туман, окутавший лиственный лес, пронизывал охотников до костей. Звуки рожков были едва слышны, поглощаемые густой пеленой, и лай собак доносился откуда-то издалека.
Луарсаб, окруженный своими дружками-сверстниками, гнал кабана из чащи леса на берег Куры. Ломались и трещали кусты под копытами горячих коней. На краю леса, вдоль Куры были расположены три засады, в средней из которых находился Ростом со своими приближенными.
К засадам постепенно приближались человеческие крики и лай собак. Охотники на лошадях преследовали перепуганный кабаний выводок. На выбегающих из леса зайцев, лис и шакалов сидящие в засаде не обращали внимания, все ждали кабанов.
Парсадан Цицишвили, притаившийся в засаде справа, вскоре понял, что в его сторону зверя наверняка не погонят. Он покинул свое укрытие и с пищалью в руках, держа указательный палец на курке, медленным шагом пошел вдоль опушки леса.
Его познабливало, ломило суставы, все тело ныло от сырого холода и усталости.
«Ослаб я с годами, да и простыл, видно. Не нужна мне их охота, того и гляди захвораешь. И до каких пор этот старикан будет резвиться, словно мальчишка! Сам покоя не знает, и нам житья не дает. Коли кабаны ему нужны, послал бы своих кизилбашей, а те, если угодно, целое стадо пригонят. Вот незадача-то — плов у одного, а аппетит у другого! Подпусти моего Автандила к царице Мариам, так, пожалуй, она сразу двух молодцов золоточубых на свет произведет. Старик-то уже ни на что не способен, небось иссяк в персидских гаремах, и лицо словно в нарывах все, говорят, кровь у него негодная, отравленная».
Б такие размышления был погружен Парсадан, когда на соседнюю тропку выскочила кабаниха. Парсадана удивило то, что она бежала не очень быстро, трусцой. Он старательно прицелился и только собирался спустить курок, как заметил поросят, с визгом следовавших за перепуганной маткой.
«Она потому так медленно бежит, что боится поросят растерять», — мелькнуло в голове у Парсадана, и он с приглушенным шиканьем махнул пищалью, чтобы спугнуть кабаниху с тропы, ведущей к другим засадам.
Уловка его удалась.
Только скрылась кабаниха, как послышался стук копыт и показался Луарсаб на своей Тетре, продирающейся сквозь густые заросли.
Парсадан невольно спрятался за стволом осины.
Прогремел выстрел, сопровождаемый истошным визгом раненого кабанчика. Вслед за первым раздалось еще два выстрела. Тетра наконец выбралась из зарослей, и Парсадан из своего укрытия разглядел фигуру Луарсаба.
Снова прогремел выстрел — в общей суматохе никто не услышал выстрела Парсадана.
Оставшаяся без седока Тетра понеслась в чащу.
Парсадан медленно пошел по тропинке, вернулся в свою засаду, укрепленную бревнами и прикрытую ветками, и стал в ожидании зверя заряжать пищаль.
— Жаль, промахнулся, старость подвела, — проговорил он, чтобы слышал сидевший рядом Роин Павленишвили.
К их засаде кабаны так и не вышли.
Уже смеркалось, когда кто-то поднял тревогу — белый конь царевича, мол, без седока бродит по лесу.
Охота прекратилась… Убитый наповал Луарсаб вскоре был найден.
Смерть его приписали шальной пуле…
···················
…Могила в ограде храма Светицховели еще не была насыпана, когда Ростом отошел в сторону и шепнул своему верному Парсадану Цицишвили:
— У покойного был брат, его, кажется, Вахтангом зовут?
— Вот он, стоит рядом с князем Бараташвили.
— Так я теперь его усыновлю, — произнес вслух свое решение Ростом, — будет он наследником моего престола.
— Все равно его убьют, государь, — незамедлительно вставил помрачневший от злобы Парсадан. — Луарсаба ведь не шальная пуля настигла.
— Эх, не все так чистосердечны и правдивы, как ты, мой Парсадан, — сощурил глаза Ростом и велел позвать католикоса, сам же вошел в сторожевую башню крепостной ограды храма Светицховели.
Католикосу, только что отслужившему панихиду по усопшему, доложили о повелении Ростома. Евдемоз сдвинул косматые брови — после дарбази он с Ростомом не встречался. Моментально мелькнула мысль: не подозревает ли он меня в убийстве наследника своего?
Однако первосвященник Картли счел любую проволочку бессмысленной.
Ростом в сторожевой башне беседовал с мцхетским цихистави. Заметив католикоса, беседу прервал и грубо бросил ему в лицо:
— Ну что, сбылось твое заветное желание?
— Мое заветное желание и моя вечная молитва всевышнему — о благоденствии народа и страны моей, государя моего, ибо плох народ без царя и плох царь без народа.
— Я позвал тебя, чтобы предупредить: не вздумай перечить мне на дарбази. — Ростом понизил голос, чтобы окружающие не могли его слышать, хотя и в этом полушепоте ясно чувствовалась его железная воля. — Воля моя должна выполняться беспрекословно и тобой, и другими. — Затем снова заговорил громко: — Завтра я еду благословлять караван-сарай и новый мост на Дебеде, тот, что построен выше Горбатого моста по дороге в Гянджу, и ты должен поехать с нами. Вернувшись оттуда, соберем дарбази, смотри не повтори прежнего промаха, — опять же шепотом добавил последнюю фразу.
— Да свершится воля божья, аминь! — воздел руки католикос, на сей раз избежав царского гнева.
…Ростом более всего заботился о развитии торговли. Старался во всем идти купцам навстречу: улучшал дороги, думал об их ночлеге, возводил мосты и переправы через реки, по возможности не облагал высокой пошлиной товары, пекся о безопасности купцов. В особом почете были у него торговые пути из Персии в Грузию, где он усердно восстанавливал разрушенные крепости и возводил новые, а строительство караван-сараев и мостов стало первейшей потребностью у царя, не пустившего в Картли прочных корней. Он желал, чтобы народ, не принимавший его сердцем, разумом признал бы его заслуги, хотя, и явно чувствовал, что достигнуть этого ему было не суждено.
К новому караван-сараю и мосту на реке Дебеде, Гостом прибыл в сопровождении чуть ли не всего города, с многочисленной свитой и царицей Мариам. Он щедро наградил строителей, не поскупился на угощение, а на следующий день отправился в Гянджу навестить тамошнего бегларбега и заодно удивить грузинских вельмож мощью шахской власти. Знал Ростом, что, зачарованные неприступностью крепостей и численностью кизилбашских войск, картлийские князья станут покорнее и дух сопротивления потеряет привычную силу.
Гянджийский бегларбег устроил пышный прием в честь именитого гостя, щедро одарил дидебулов, сопровождающих его, всем оказал достойные почести, никого не забыл и никого не обидел.
За столом Ростом объявил во всеуслышание, что место покойного Луарсаба в его семье и на его картлийском престоле займет брат покойного Вахтанг.
— Вахтанга узаконю, усыновлю, женю его на вдове Луарсаба, как по нашему мусульманскому обычаю положено, ибо оба брата — рабы аллаха!
Картлийские дидебулы лишились дара речи, куска проглотить не могли, куда глаза девать, не знали.
И снова отличился Евдемоз, сказал слово честное, правдивое:
— То, что положено у вас по исламским обычаям, не положено в Грузии: женившийся на вдове брата человек не может быть царем Картли! Церковь не допустит этого, а в, мечети грузинский царь не может быть помазан на царство.
Ростом побелел, оттолкнул руку царицы, пытавшейся его утихомирить, загрохотал как гром:
— Убрать отсюда этого козлинобородого! Посадить его в темницу, голодом уморить!
Повеление царя было тотчас исполнено.
Гянджийский бегларбег дал знак музыкантам погромче петь и играть. Персидские баяти[73] бальзамом проливались на душу кизилбашей и грузин-мусульман.
Ростом сидел мрачный, насупленный. На Мариам не глядел, женщин-танцовщиц, казалось, вовсе не замечал, не сводил глаз с того места, откуда кизилбаши только что увели строптивого католикоса.
И после пиршества не сумела развеять Мариам его мрачного настроения, хотя она скорее попрекала его, чем успокаивала.
На следующий день прибывший из Мегрелми скороход доставил Ростому письмо от Левана Дадиани. Письмо это привело Ростома в доброе расположение духа, и наконец прояснилось чело царя, потерявшего покой еще с первого выступления дерзкого католикоса на совете, второе же, во время обеда у бегларбега, вовсе вывело его из себя. Если бы злонравный и злоязычный старец сидел ближе, Ростом собственноручно отсек бы ему голову. Он сделал бы это с великим удовольствием еще тогда, когда старик в первый раз посмел ему возразить, но в ту пору обстоятельства складывались не в его пользу — в Кахети самовольничал Теймураз, в Карабахе султан бесчинствовал, Ростом-хан Саакадзе только что был изгнан из Картли, да и в самой Картли было не очень-то спокойно.
В письме шурина сообщалось о важных событиях, которым от души обрадовался Ростом, ибо они развязывали ему руки для свободных действий.
Леван Дадиани сообщал, что в результате пленения царя Георгия и двухлетних переговоров с нынешним имеретинским царем Александром ему удалось сломить Теймуразова зятя. «Он вынужден за освобождение отца дать большой выкуп: драгоценную корону, всю золотую и серебряную посуду, несчетное множество драгоценных камней, ценное оружие. Кроме того, он отказывается в нашу пользу от пастбищ, граничащих с нашими владениями, передает нам земли князей Чиладзе и Микеладзе, а также армянских купцов, поселившихся в Чхари, передает под наше начало. Заполучив армян на нашу землю, мы всех пригоним сюда и без особого труда восстановим на их средства Рухскую крепость в Одиши».
Получив известие о том, что Леван Дадиани одержал верх над имеретинским царем, Ростом приободрился.
В ту же ночь он велел свите трогаться из Гянджи. Прибыв в Тбилиси, приказал заключить в монастырь Джвари тайно привезенного католикоса.
Чувствуя, что пора возмездия близка, царь не пожелал долго задерживаться в Тбилиси. На третий же день сам поднялся в Джвари и велел вывести католикоса из подземелья.
При виде ослабевшего от голода картлийского первосвященника Ростом не мог скрыть злорадной улыбки. Он приблизился к узнику, у которого связаны были за спиной руки, и дал звучную оплеуху. Эхо пощечины раскатилось под высоким куполом собора. Евдемоз покачнулся, но устоял на ногах.
— Я же велел тебе молчать!
— Ты велел молчать на совете, я же позволил себе заговорить в Гяндже, — вразумительно, спокойно отвечал оскорбленный до глубины души католикос. — Потом, какой же я доброжелатель твоей царицы, если не буду говорить правды и по примеру двуликих, окружающих вас, скрою истину, о которой другие думают, но не осмеливаются говорить вслух.
— А в чем заключается истина? — прорычал Ростом, и снова вторил ему эхом гулкий монастырский купол.
— Истина заключается в том, государь, — начал католикос, который словно ждал этого вопроса, — что Грузия ни тебя, ни царицу Мариам ни за что правителями своими не признает, ибо ты — вероотступник, а Мариам, став супругой твоей, тоже стала частью вероотступника и тем самым истинную веру свою предала. Что с того, если она священникам и монахиням помогает, церквам и монастырям пожертвований не жалеет, ведь иногда и чужие протягивают чужим руку помощи…
Еще много другого сказал католикос. Ростом молча внимал его речам, пропитанным болью и горечью.
Высказав все, что накипело на сердце, католикос заключил:
— Так будь же ты проклят, окаянный отпрыск Багратиони! Шах Аббас с родиной нашей не справился, и тебе не одолеть нашей веры, народа нашего! Гнилью останешься в истории Багратиони как лицемерный, двуличный трус и бездетный лжец-вероотступник. Будь проклят вовеки, аминь!
Ошеломленный Ростом молчал. На лбу его выступила испарина, а в глазах вспыхивала ненависть и злоба. Каждое слово католикоса дрожью пробегало по его телу, но он терпел, принимал их как яд, как отраву, ибо надеялся, что обреченный, проговорившись, скажет что-нибудь такое, что откроет ему глаза, поможет отличить друзей от врагов, принесет хоть каплю пользы.
Но католикос не сказал ничего из того, что он надеялся услышать.
— Сбросьте его со скалы, — может, тогда покинут его глупую башку поселившиеся там шайтаны… Но прежде вырвите каждый волосок из его бороды! Пусть не останется ни единого волоса ни на голове, ни на лице, ни на теле!
К рассвету пытка была закончена.
Ростом с молчаливым удовольствием наблюдал за муками узника. Недаром он вырос в Исфагане, там-то знали толк в высшем искусстве нечеловеческих пыток.
Не проронил ни слова и первосвященник. Только стон вырывался иногда из его стиснутых губ.
На рассвете старца подвели к скале, возвышавшейся над слиянием двух рек — Куры и Арагвы… Так погибла еще одна живая душа, олицетворявшая совесть и честь народа своего.
Ничем не измерить любви к родине и к родному народу, ни взвесить ее нельзя, ни сосчитать.
Так было всегда, так есть и так будет!..
Святейший церковный собор избрал католикосом Картли Христофора Второго Амилахори, сына Урдубега.
* * *
В Картли управлял Ростом.
В Кахети царствовал Теймураз.
В Имерети в последние годы жизни царя Георгия, дорогой ценой вызволенного из плена, власть находилась в руках царевича Александра; одряхлевший Георгий уже не мог править страной, да и не стремился к этому.
В Мегрелии усиливался Леван Дадиани, опиравшийся на свои родственные связи с Ростомом и на поддержку шаха Сефи, столь усиленно стремившегося вытеснить султана из подопечных ему владений.
Князья Гуриели по-прежнему якшались с султаном, а Левана Дадиани сторонились, с имеретинскими царями тоже особенно не считались.
Шах Сефи чувствовал беспочвенность и бесперспективность царствования Ростома, видел стойкость Теймураза и пребывал в большой тревоге. Заключив мир с султаном, страстно желал окончательно присоединить к своим владениям Картли и Кахети. Потому-то он за спиной Ростома затеял переписку с Теймуразом, обещая ему отозвать Ростома и вернуть картлийский престол.
Теймураз чувствовал, что русский царь не торопится помочь Грузии, а потому не хотел и шаха Сефи лишать надежды, пытался обуздать распоясавшихся разбойников-горцев.
Хорошо осведомленный о заветной цели Исфагана, Теймураз после долгих раздумий и размышлений подписал «Клятвенную грамоту» царю Михаилу Федоровичу, после чего взамен обещанного войска и оружия получил двадцать тысяч ефимок[74] и мехов на две тысячи рублей золотом. Деньги эти предназначались для вооружения и содержания грузинского войска. Государь писал, что если кахетины и собственного войска прокормить не в силах, то русские воины сначала в дороге повымрут, а на месте и вовсе с голоду сгинут. «Вы говорите, — писал царь, — что у вас много золота и серебра, — покажите мне ваше богатство, тогда и поглядим».
Теймураз раздал из полученных денег долги, чтобы открыто показать всем, как милостив к нему русский царь. На остальные деньги он щедро одарил преданных друзей, желая укрепить их веру и уважение к себе. Исфагану, требовавшему в знак покорности отправки в Персию Ираклия, сына Датуны и внука Теймураза, наотрез отказал: я, мол, уже послал туда двух сыновей. Шаху же ответил так: Ираклия я обещал отправить к Московскому двору, и нарушать слово, данное великому другу твоему, мне не к лицу.
Ростом тоже знал о несгибаемой стойкости и проницательности Теймураза, знал, что главной надеждой и опорой его был зять — имеретинский царь Александр. Пронюхал хитрый старик и про тайные переговоры Теймураза с шахом. Потому сам написал Теймуразу письмо — оставь, дескать, меня в покое, я тебя не трогаю, и ты меня не трогай, а шурину своему Левану Дадиани велел в знак преданности ему и шаху почаще нападать на Имерети. Повеление это было нацелено на то, чтобы ослабленная соседом Имерети не очень-то могла поддерживать Теймураза в случае надобности. Тем самым Ростом рассчитывал обескуражить соперника, тогда и двуличные картлийские тавады перестали бы тянуться к Теймуразу, и шаткое положение Ростома в Картли было бы несколько упрочено.
И получил Ростом ответ от Левана: «Напали мы на царя Александра в Кутаиси. Город сожгли, разорили и с победой возвращались. Брат царя Мамука перерезал нам путь, мы схватились, я самолично пленил его…»
Порадовался Ростом разорению Кутаисского дворца.
Снова закручинился Теймураз. «Грех совершил этот безбожник Дадиани», — подумал он и отправился тайно из Имерети в Мегрелию. Вперед послал князя Чолокашвили с предупреждением: не делай родине зла, не радуй врагов, не огорчай друзей и родных. Оборотите друг к другу лица и сердца, ибо и Имерети и Мегрелия — суть одна страна, одна родина наша.
Выехавшего из Кутаиси Теймураза по дороге встретил огорченный Чолокашвили, возвращающийся из Мегрелии, который рассказал подробно о злодействе Левана Дадиани.
Тот, оказывается, привязал пленного царевича Мамуку к лошади и волоком дотащил до своего дворца, потом выжег ему глаза — слишком, говорит, красивые они у тебя, а затем отдал несчастного на растерзание голодным псам…
Содрогнулся Теймураз, повернул вспять, ибо не мог ничего хорошего сказать о снедаемом злобой мтавари, а плохого — и так достаточно было сделано и сказано.
Когда Ростому сообщили о мученической кончине царевича Мамуки, он тоже не одобрил поступка своего шурина: одно дело — пленить, а совсем другое — замучить. Он понял, что злодейство мтавари бросит тень и на него, ибо Картли и Кахети были потрясены случившимся, а царица Мариам открыто осудила жестокость брата, немедленно оделась в траур, оплакала царевича Мамуку.
Матери и жены картлийских князей последовали примеру царицы: объявили о скорби своей, оделись в черное и сделали то, от чего сама царица воздержалась: посылали проклятья на мтавари, называя его зверем.
И снова чередой потянулись кровавые убийства, измены и предательства, злодейства неслыханные, месть праведная и неправедная, впрочем, бывает ли месть неправедная, или — лишь мера мщения разная?
Шаха Сефи отравила жена Имам-Кули-хана. Португальцы, усилившиеся в Индии, через миссионеров-католиков подослали эту отраву.
Одну грузинку, уцелевшую из гарема Имам-Кули-хана, сумели уговорить ферейданские грузины, о которых так заботился ширазский бегларбег. Они преданностью оплатили за добро своему славному соотечественнику тем, что подослали к его мучителю и палачу самую красивую и любимую из его жен с отравой.
Звездочет был почти прав — недолго властвовал шах Сефи. Престол унаследовал старший сын.
Ростом поспешил к новому правителю. Подробно рассказал об упорстве Теймураза, о том, что, надеясь на него, картлийские князья не до конца признают шахскую власть. Доложил и о набегах лезгин и дидойцев, подстрекаемых султаном, о посольстве Теймураза к русскому царю и полученной им от Московского двора помощи и еще о многом другом. Ростом просил шаха прислать в Грузию многочисленное кизилбашское войско.
Шах Аббас Второй, назвавшийся так в честь своего прадеда, знал о переписке между отцом и Теймуразом. Покойный отец объяснял неудачи Ростома отсутствием у него наследников, близких и друзей. Ростом-хан Саакадзе тоже много рассказывал о двуличии, лицемерии и трусости царя Ростома. Потому-то шах Аббас Второй отклонил просьбу старого коршуна, ему, мол, сейчас не до этого, а сам тайно послал гонца к Теймуразу с требованием прислать в Исфаган внука Ираклия. «Мы вырастим его, как подобает наследнику престола Картли и Кахети», — писал шах.
Шах из доноса Ростома знал, что старшего сына Датуны, Георгия, уже нет в живых, потому требовал следующего внука Теймураза Ираклия.
Не доверял Теймураз отпрыску рода Сефевидов. «Ираклия и его мать Елену я послал к Московскому двору, — ответил он шаху, — ибо по обоюдной договоренности Ираклий должен стать зятем русского царя».
Шаху Аббасу Второму тотчас доложили, что Теймураз собирается отправить внука в Москву, но пока не сделал этого: семья Датуны находилась в Имерети.
Шах убедился, что Теймураз ему не доверяет. Московские послы передали шаху просьбу русского царя: оставь Теймураза в покое, и братство наше возвысится. Понял шах смысл государевой просьбы: он не желал, чтобы шах вмешивался в дела Грузии.
Не давали покоя шаху и отношения между Леваном Дадиани и имеретинским царем Александром.
Учитывая создавшееся положение, шах склонился в сторону Ростома и велел ему еще раз доказать свою верность Сефевидам: изгнать Теймураза и его потомков из Кахети, но сделать это так, чтобы имя шаха нигде при этом не упоминалось, а потому он тайно снабдил Ростома оружием, порохом и пулями, бегларбегам Гянджи и Карабаха велел послать Ростому на помощь свои войска.
Ростом приступил к сборам…
…Царь Свимон, муж Джаханбан-бегум, приходился Ростому племянником. За это и уцепился Ростом. Бросил вызов Теймуразу — ты, дескать, велел своему зятю убить «Свимона…
Теймураз ответил: во-первых, я не повелевал убивать Свимона, это сделал Зураб Эристави по своей воле и своему усмотрению, но если ты меня винишь в гибели племянника твоего, то не забывай о том, что убийцу Свимона, зятя моего, я сам же велел убить.
Спор затянулся, запутался.
Ростом собрал кизилбашское войско, призвал картлийских князей с дружинами и с двух сторон подступил к Кахети… Со стороны Кизики наступало войско из Гянджи и Карабаха, сам Ростом поднялся в Тианети, чтобы перерезать Теймуразу путь в случае его отступления в Имерети.
В Кахети началось неслыханное кровопролитие.
Изнуренный тяжелыми боями и подавленный превосходством противника, Теймураз позвал к себе Датуну, верного ему Гио-бичи и сыновей Давида Джандиери:
— Задержите кизилбашей на два дня и две ночи, я же с семьей и казной буду пробиваться через Гомбори в Тианети, а оттуда опять переберусь в Имерети.
— А может… нам все-таки продолжить бой, отец? — осторожно спросил Датуна.
— Много их, сынок, очень много, и к тому же старого сыча нигде не видать: значит, он постарается перекрыть нам путь через Гомбори.
— Но если даже ты прорвешься и уйдешь отсюда, Тианетскую дорогу он все равно перекроет.
— Это я знаю, сынок, но, сражаясь здесь, мы ничего не добьемся, это будет бессмысленная резня, надо обязательно прорваться через Тианети, иначе мы можем оказаться в ловушке. Заал Эристави будет ждать меня возле Гомбори. Другого пути у нас нет.
Датуна с самого начала чувствовал правоту отца, не знающего усталости в борьбе с бесчисленными врагами, но душой и телом жалел дорогого ему старика, который вновь вынужден был искать приюта в Имерети.
В ту же ночь Теймураз двинулся в путь.
Когда он вывозил семью из Сигнахи, сверху поглядел на Бодбийский монастырь, где он был венчан на царство. Царь замедлил шаг коня и, взглянув на ехавшую верхом Хорешан, знаком предложил ей спешиться.
Теймураз подошел к Датуне, младшему, последнему сыну своему, обхватил огромными ручищами его голову и заглянул в ясные, сверкающие, словно звезды, глаза.
— Сын мой Датуна! Ты один у меня остался — единственная надежда моя и утешение. Не знаю, какой еще подвох готовит мне судьба, но знаю, что без тебя трудно мне станет дышать, кусок в горло не пойдет, и сердцу моему настанет конец. Но не буду многословен в этот час расставания, сын мой. В этом монастыре благословила меня на царство твоя бабушка, и здесь же я хотел передать тебе этот тяжкий венец отечества. Но я жалел тебя, родимый, ибо думал: сначала укреплю престол, а затем передам его сыну. Знает господь бог, знаешь ты, что я собирался отправить тебя в Россию, но ты не захотел… Боже великий, не разлучай отца с сыном, удовлетворись душами матушки моей, моих сыновей Александра и Левана!
Датуна прижался к отцовской груди точно так же, как прижимался в детстве к Левану и Александру.
— Отец! Я тоже не знаю, что нас ждет, знаю лишь одно — в тебе сердце и душа, сила и надежда моя и моей страны. Я хочу, чтобы ты твердо знал: если я когда-нибудь сомневался в правильности предпринятых тобой шагов, то всякий раз ошибался… Хотя никто и никогда не считал меня глупцом. Когда ты выдавал Дареджан замуж в Имерети, я не приехал на свадьбу. Осмелился высказать тебе упрек. Прости меня, ибо и этот твой шаг был мудрым, направленным на благо твое и народа нашего многострадального…
Теймураз приник губами к челу сына, потом быстро вскочил в седло и пришпорил коня…
Солнце стояло уже высоко в небе, когда они подъезжали к Гомборскому перевалу. Впереди, соблюдая все предосторожности, ехали дозорные.
В пути они никого не повстречали, не оказалось также и поддержки, обещанной арагвским Эристави.
Войско царя было малочисленным, воины, обремененные поклажей, с трудом продвигались в горах.
Когда они миновали перевал и начали спускаться по крутому склону, к Теймуразу привели старика горца. Старик снял шапку, опустился на колени перед царем… Потом встал и доложил Теймуразу, что в этих местах все спокойно, никто не приходил, войска никакого не видно, только вот позавчера повстречался ему некий отрок из Гудамакари, который сказал, что видел войско, направлявшееся к Тианети, но не сказал, чье оно было.
— К Тианети, говоришь, направлялось?
— Да, батюшка-государь.
— Это были кизилбаши?
— Кто знает, отрок ничего об этом не сказал.
— А что за отрок был?
— Да кто его знает! Сказал, что сам из Гудамакари, отца ищет. Отец, говорит, здесь должен быть, и я, говорит, с ними пойду.
— Куда?
— А тут, говорит, царь Теймураз пройдет, дай богему здоровья, он нас от Зураба-злодея избавил.
— А про Чолокашвили он ничего не говорил? — улыбнулся Теймураз, добрым глазом покосившись на князя Чолокашвили.
— Нет, родимый, про то не говорил.
— А сколько тому отроку лет?!
— Да годков пятнадцать, бог даст тебе здоровья!
Рано мужали грузины, ибо родина нуждалась в зрелых мужах.
…Уже смеркалось, когда они подходили к Тианети.
В Тианети Теймураз не пожелал войти, шатры решили поставить на ее подступах.
Только взялись за дело, как со стороны Тианети и Гомбори налетели кизилбаши.
Горячий бой завязался в окрестностях Тианети.
Царицу и домочадцев вместе с казной тушины, пшавы и хевсуры укрыли в глубине леса, Теймураз отчаянно сражался в небольшой долине, отбиваясь от врагов.
Разъяренный, он выискивал Ростома, но тщетно. Предусмотрительный старик за неделю до его появления занял Тианети, перекрыл все пути и тропы, кроме той, по которой должен был пройти Теймураз, а сам укрепился в башне, построенной еще во времена царя Александра.
И снова настояли на своем тушины, пшавы и хевсуры — чуть ли не силой увели с поля боя Теймураза.
Посланные в Гомбори гонцы вернулись к полуночи и доложили Теймуразу, что путь на Кахети отрезан. У Теймураза была мысль спуститься в Алазанскую долину, вызвать Датуну, а оттуда перейти к дидойцам и лезгинам. Он надеялся, что на царя с войском разбойники напасть не посмеют.
Дрожавшие от холода домочадцы даже в лесу не смели разжигать огня, боялись, что враг затаился где-то рядом.
Хорешан не теряла присутствия духа, накинув бурку на плечи, сидела в головах у Теймураза, который прилег на расстеленной бурке, и шепотом молилась:
— Господь всесильный и всемогущий, поелику сподобилась я дожить до сей грозной поры, отпусти мне грехи, совершенные ныне или когда-то словом, делом и умыслом. Очисть, создатель, душу мою от всяческой скверны плоти и духа и даруй мне, всевышний, право ночью сей с миром отойти ко сну, дабы восстать с моего скромного ложа достойной святого имени твоего каждым днем жизни моей. Помоги мне одолеть врагов моих, врагов земных и неземных, и избавь меня, господи, от поношений недругов моих и от злых умыслов, ибо твое есть царствие, сила и слава, отца и сына и святого духа, ныне и присно и во веки веков, аминь…
— Господь наш всеблагой, Иисус Христос, помилуй меня, недостойную рабу твою, изыми из разума моего и уст моих слова вредные и суетные, ибо благословен есть ты ныне и вовеки, аминь!
Хорешан молилась.
Теймураз хмуро молчал.
Люди надеялись на бога и Теймураза.
В лесу было холодно, а тьма, казалось, еще усиливала этот холод.
Теймураз не спал, бодрствовала и Хорешан — все ждала, вдруг появится Датуна.
Утром стало ясно, что все дороги и тропы перекрыты накрепко.
Малый отряд Теймураза пробиться сквозь полчища врагов, конечно, не мог.
Царица умылась, поправила на голове чихтикопи и лечаки[75], приколола булавку, доставшуюся от мученицы Кетеван, и потребовала коня.
— Ты куда? — вяло спросил Теймураз, скорее для порядка, чем из любопытства, ибо и сам догадывался о замысле царицы.
— Поеду в Тианети, повидаю Ростома.
Теймураз ничего не ответил, знал, что другого выхода у них нет.
Царица взяла с собой лишь двух придворных дам — больше никого. Выехав из леса, они столкнулись с кизилбашами, но те никаких препятствий чинить им не стали.
Когда, подъехав к крепости Тианети, царица пожелала спешиться, коня принял у нее Заал Эристави.
Царица поглядела на него косо, но промолчала. Заал отвел глаза в сторону — вчерашнего союзника царица Кахети увидела сегодня в качестве хозяина, гостеприимно принимавшего врага. Она не удостоила его даже приветствием, у какого-то кизилбаша по-персидски справилась о местонахождении Ростома.
Ростом встретил царицу стоя. И Хорешан, не садясь, приступила прямо к делу.
— В моих и твоих жилах, Ростом, течет одна кровь, мы оба с тобой картлийские Багратиони.
— Я царь Картли.
— А я сестра картлийского царя и наследница престола, ибо в христианских державах никто брата с сестрой не разделяет… Со времен царицы Тамар признано — льва щенки равны друг другу, будь то самка иль самец.
— Если ты пришла искать ссоры, лучше было прислать мужа своего.
— Искать ссоры пришли вы оба — ты и Теймураз. Негоже тебе новое кровопролитие затевать, пора и о душе подумать на старости лет.
— Чего тебе надо, зачем ты пришла, Хорешан?
— Освободи нам путь, отойди и пропусти нас в Имерети.
— Теймураз все равно возвратится и будет воевать.
— Пропусти нас с имуществом нашим и приближенными, я даю слово, что он не вернется с войной… Только еще одно условие: пошли сейчас же своих людей, чтобы Датуну пропустили к нам невредимым.
— Живой он с ними не пойдет.
Хорешан сняла заветную булавку с чихтикопи, протянула Ростому.
— Это булавка царицы Кетеван… Датуна знает… Он играл ею в детстве… Пусть передадут ему, и он покорится. Ты знаешь, что у нас нет больше сыновей… Неизвестно, что еще может случиться… У тебя тоже нет детей… Не губи нас и Грузию… При жизни твоей, даю тебе слово государыни, соперничать с тобой не будет никто из моей родни.
— Вы должны мне и Кахети уступить!
— И Кахети уступим! — твердо ответила Хорешан, устами которой говорила скорее супруга и мать, чем царица, хотя держалась она с истинно царским достоинством.
Она не успела договорить, как в покои вошла царица Мариам и смиренно поклонилась просительнице.
Потом она повернулась к Ростому и громко, чтобы слышала Хорешан, проговорила:
— Эту булавку я отвезу сама. Сын Теймураза никому не сдастся, кроме меня. — Она едва не прикусила язык, ибо слово „сдастся“ звучало двусмысленно, и она поспешила исправить невольную оплошность: — В пылу сражения он опустит саблю разве только перед грузинкой.
Мариам взяла булавку у царицы Хорешан и удалилась столь стремительно, что Ростом не успел даже что-нибудь сказать ей вслед. Хорешан замерла, услышав через минуту топот пущенных галопом коней. Ростом, знавший крутой нрав своей жены, пообещал царице Хорешан беспрепятственно пропустить всех до единого в Имерети с казной и поклажей.
Хорешан поклонилась с достоинством и громко проговорила:
— Слава создателю, что родич по крови не обманул моих ожиданий! — с этими словами она круто повернулась и быстрым шагом покинула зал.
Ростом вызвал своих подручных и приказал пропустить Теймураза со свитой. Потом поманил пальцем сотника-кизилбаша и удалился с ним в келью. Убедившись, что никто их не слышит, царь наклонился и прошептал:
— Возьми с собой людей Заала Эристави и езжай в Кизики, вы должны опередить царицу Мариам, передай мой приказ Селим-хану: царевича Датуну, живого или мертвого, доставить сюда, и как можно скорее!
* * *
Теймураз снова нашел приют под кровлей Кутаисского дворца.
В зале сидели трое: Теймураз, Хорешан и Дареджан.
— Беспокоюсь я о Датуне, — сказал Теймураз. — Сердце вещает беду.
— Мариам Дадиани обещала мне твердо.
— Мариам Дадиани надоел старый муж, она и помчалась к Датуне, авось, мол, и мне перепадет малость, — съязвила Дареджан.
— Негоже все переиначивать и над всем измываться, дочка! — нахмурился Теймураз.
— Правого надо звать правым, а неправого — неправым, похотливость же Дадиани известна!
— Оговорить, дитя мое, кого угодно можно.
Хорешан встала и подошла к окну, не по душе ей пришлась бесцеремонность Дареджан.
Дареджан поняла неодобрение царицы, но не захотела уступить:
— Лицемеры Дадиани. Лживость и притворство у них на лице написаны. Не щадят ни взрослых, ни детей, лишь для себя ищут пользы, ко всему со своей меркой подходят, другого мерила у них нет.
— Я виновата, — прервала ее Хорешан. — Когда она вышла, мне надо было следовать за ней и самой направиться к Датуне.
— Он бы не послушался тебя, — возразил Теймураз.
— Я бы от твоего имени с ним говорила.
— Но я не мог просить его, чтобы он отступил и сдался, такое в нашем роду не в чести.
— А то, что в нашем роду в чести, добра нам, как видишь, не принесло, — снова вставила свое Дареджан.
Теймураз еще больше помрачнел. Хорешан с укоризной взглянула на Дареджан.
— Почему же не принесло, дочка, ведь шах Аббас ничего с нами поделать не смог!
— Как это не смог?! — вскинулась Дареджан. — А два брата и бабушка — этого, по-твоему, мало?!
— Это, дочь моя, — спокойно, но твердо отвечала Хорешан, — воля божья, ведь шах Аббас и Марабдинскую битву чуть не выиграл, однако Картли и Кахети омусульманить не смог, и истребить нас не сумел, и с родной земли нас согнать не смог. Это и есть победа Теймураза, об этом сам шах Аббас, оказывается, говорил, и не видеть этого могут только слепцы. Правда, огромную жертву нам пришлось принести, но главного, нет, главнейшего, мы все же не потеряли — Картли и Кахети, так или иначе, остались Картли и Кахети. А это достигнуто горением и подвижничеством отца твоего, и ничем более.
— Это так, — согласилась Дареджан, — но боль за братьев и бабушку душит меня. Если бы можно было, я бы нынче же послала Александра со всем имеретинским войском против кизилбашей, засевших в Картли и Кахети, послала б, чтобы раздавить и уничтожить этих неотесанных и безмозглых картлийских князей. И с этим Дадиани расправилась бы в ближайшее время…
— Время для этого еще не подоспело, дочка, — спокойно продолжала Хорешан.
Теймураз вышел на балкон и распахнул ворот, жадно ловя воздух открытым ртом.
— Я тоже понимаю, что сейчас еще не время, но потому сердце у меня и заходится от боли. Я не знаю никого, кто бы ради спасения родины отдал бы столько сил, ума, души и крови, сколько отдал их мой отец. Если бы ему сказали, что он должен умереть, чтобы спасти родину свою, он умер бы с радостью. Разве он хуже Ростома мог угождать разным Аббасам, разве его ценили бы при Исфаганском дворе меньше тех, кто когда-либо искал там славы и величия?! Однако мудрость и предвидение велят ему служить своему народу и господу богу другим, тяжелым, но верным путем. Но кто оценит жертвы его и заслуги?!
— Народ оценит, народ! Но если даже народ ничего не скажет, промолчит, Теймураз и этого не убоится, ибо он сам тверд и уверен, неколебим в единстве совести и деяний своих, в своей готовности жизнь отдать сполна за отчизну свою, за ее будущее, ибо родину спасли и сберегли только такие люди, как он, они же ее и впредь будут спасать.
— Среди грузин я не знаю другого, кто так бы страдал за родину, как мой отец.
— Я не спорю с тобой, дочка, но в мире нет мерила добра и зла и, думаю, не будет никогда. Знаю одно: люди скажут, что муки и страдания Теймураза были вызваны тяжкой годиной испытаний, выпавшей на долю Грузии. Не забудут и с Ростомом его сравнить и праведно рассудят, где черное, а где белое…
В залу вошел Александр. Обе женщины поднялись ему навстречу.
Александр как будто и не заметил этого, чего с ним прежде никогда не случалось. В другое время он бы непременно сказал: сидите, не вставайте, но сейчас ему было явно не до вежливости, он был бледен как снег, глаза его бегали, словно у безумного; бессильно опустив плечи, он с трудом волочил ноги, обутые в белые изящные сапоги.
— Где отец? — спросил он у Дареджан.
Словно почувствовав беду, Теймураз тотчас шагнул с балкона в залу и, лишь взглянув на бледное лицо зятя, понял все и только глухо проронил:
— Датуна?!
Александр не ответил, кинулся к тестю и обнял его.
Теймураз покачнулся, поднял сначала по привычке ко лбу правую руку, потом, с силой ударив себя в лоб кулаком, рухнул на колени и, пав ниц, взревел, словно старый бык, которому перерезали глотку:
— Боже великий, если ты существуешь, взгляни на меня, обездоленного, помилуй меня по-божески! Что я тебе сделал, за что терзаешь меня, за что пытаешь душу и сердце?!
В комнату чуть ли не на цыпочках вошел Гио-бичи, держа в руке башлык Датуны, который когда-то через него же и посылал его хозяину Александр.
— С каким же лицом ты пришел к нам, сын мой Гио, как просили мы тебя, как молили словами и без слов, чтобы ты сохранил последнюю надежду и жизнь мою! Где вы бросили-покинули моего юного и отважного мудреца? Скажи мне все, скажи, где он погребен и удостоился ли погребения?
Хорешан свалилась без сознания.
Не своим голосом вскричала Дареджан:
— Горе мне, — братец, единственная надежда и жизнь моя!
Сбежались слуги и служанки. Вынесли бесчувственных женщин. Теймураз, стоя на коленях, не сводил глаз с верного Гио, ждал ответа.
Изможденный — кожа да кости, — в изодранной чохе стоял Гио-бичи, собираясь с духом. Левый рукав аккуратно был продет под серебряный пояс — пустой рукав, без руки.
— Что сказать тебе, отец?.. — он впервые осмелился назвать Теймураза отцом. — Когда вы отбыли, в тот день было вроде тихо, а на следующий день нагрянули кизилбаши с большим войском. Сторожевых на крепостной ограде порубили и как саранча напали на город… Мы вчетвером — нас двое да братья Джандиери, воспользовались потайным ходом… Сначала хотели в Бодбийском монастыре укрыться, но Датуна отказался: там, говорит, моего отца на царство отчизны величаво венчали, и я там прятаться как вор не стану…
— Горе отцу твоему, Датуна, мой родимый! Я должен был взять тебя с собой! — глухо простонал Теймураз и взглянул на Гио с мольбой, чтобы тот продолжал свой рассказ.
— Мы вышли из города… Ночью ничего, а днем наткнулись на большой отряд кизилбашей.;. Не смогли уйти от них… Они преследовали нас по пятам… Меня ранили — я плечом заслонил Датуну, руку отсекли, потом… Я потерял сознание… А когда пришел в себя, увидел всех троих порубленными… Они рядом со мной лежали…
— Он и слова прощального не успел передать мне, сердечный мой!
— Слово он мне передал раньше, отец! Когда мы из Бодбе вышли, ехал рядом, он словно чувствовал беду… Если, говорит, так случится, что меня убьют, отцу передай, чтоб не горевал. Пусть о сыновьях моих, Ираклии и Луарсабе, позаботится, мать мою бережет и о себе не забывает. Передай ему, что более преданного царя и заботника у Грузии не было и не будет… Не знаю, что скажут летописцы, но, насколько я могу судить, равного ему средь Багратиони не сыскать. И пусть не печалится, что не взял меня с собой. Я бы все равно не пошел. Я должен быть там, где братья мои и бабушка. Только они в неволе погибли, а я, если умру, то как свободный и непокорившийся грузин погибну в борьбе за независимость родины моей… Если ты останешься в живых, сказал он, похорони меня в Алаверди…
— Горе мне, сынок… — снова застонал Теймураз.
— На следующее утро приехала женщина — в бурке, на коне… Спешилась, подошла ко мне… Я притворился мертвым, но она заметила яму, которую я начал своим мечом рыть под ореховым деревом, — я могилу хотел вырыть всем троим вот этой рукой, — вытянул правую руку Гио. — Она стала бить меня по щекам, чтобы я очнулся, значит. Когда я глаза открыл, спросила, который из трех царевич Датуна… А у самой на глазах слезы, с таким горем взирала на меня, будто сама царевна Дареджан была, сестра Датуны… Я указал… При ней кизилбаши были… Когда они завернули троих в бурку, я за саблю схватился… Но женщина опередила меня, наступила на саблю и рукой меня оттолкнула… Я ведь ослаб совсем, растянулся там же. Кизилбаши кинулись на меня, если бы не ее окрик свирепый, они бы моим же кинжалом мне горло и перерезали… Отняли у меня оружие, связали, через седло перекинули, так в Алаверди и привезли… Там женщина выгнала кизилбашей, оставила четверых христиан, мингрелы они были… Вырыли три могилы у входа в храм, от первого угла нужно три шага отсчитать, под ореховым деревом.
— Он любил там сидеть! Датуна, сын мой, отчего я не умер раньше тебя?!
— Женщина помогала, вместе с другими рыла могилу. Потом за священником послала. Он панихиду отслужил… Своей рукой землей царевича засыпала… Мне вернула коня и оружие. Те мегрелы меня до Лихи и проводили.
Теймураз только теперь взял у Гио башлык, прижал его к лицу обеими руками и упал на тахту.
В покоях Имеретинского дворца оплакивал своего последнего сына царь Картли и Кахети Теймураз.
Медленно текла история Грузии со своим злом и добром, если в этих скрижалях времен могло еще называться что-либо добром, кроме мужества, человечности и большой, очень большой любви к отчизне, чистейшей, как слезинка, возвышенной, как любовь отца к сыну и сына к отцу.
* * *
Сорок дней не выходил из своего добровольного заточения Теймураз, сорок дней не покидал кельи.
Дареджан не отходила от царицы Хорешан — гордая наследница картлийских Багратиони за это время превратилась в дряхлую старуху.
Верный Гио-бичи, которого все теперь называли одноруким Гио, днем и ночью охранял вход в келью царя.
Теймураз был раздавлен горем. Писал лишь при дневном свете, проникавшем в маленькое окно, остальное время лежал на тахте, словно одержимый недугом смертельным. Дух затворника метался в тесной келье.
А разум переносил эти метания духа на пергамент еще не утерявшей силу рукой.
Мир! Он как будто бы прочен, вечен как будто для всех. Нас он встречает отрадно, много вещает утех. Будет таким он надолго, злобный послышится смех. Не примиряйтесь же с миром, миру довериться — грех. В мире свершений вы ждете, — их не найдете, увы! Есть, что короны носили, да не снесли головы. Многих земель покоритель спит меж могильной травы. Души, от жизни уйдите! Чем к ней привязаны вы? Ты, проживающий в мире, мир огляди и поверь: Мир вероломен и — поверь — горьких исполнен потерь. Вспомни властителей первых, где их отыщешь теперь? Брось же утехи мирские, вскрой покаяния дверь. Нам, во дворцах и селеньях, сбросить бы мира приют! Станет душа перед богом, — страсти ее осмеют. Мира соблазны пошлют нам сотни негаданных пут. Бросим брать взятки у жизни: душу они закуют. Я, о властители мира, мир не хвалил и в бреду. В час, когда встанет Мессия, нас призывая к суду, Буду в грехах обличен я, в чем оправданье найду? Мир сохранит ли нам верность? Он с вероломством в ладу. Да! Наших дней вероломных длится без устали быль. Мир, что идешь стороною? Яд мне дал выпить не ты ль? В бездну послал не ты ль меня, хоть обещал мне Рахиль? Не дал мне плотной одежды, вьется над рубищем пыль. Те, что сей мир не приемлют, те, что не ищут услад, Те и суда избегают, тем и костры не грозят. Если ж от мира, с ним в распре, не отведешь ты свой взгляд, Знай, до конца с ним не будешь, станет он горек, как яд. То, что творит он порою, ведают лишь небеса! Хитро влечет человека, ласковый, — злая лиса! Вдруг, — о, болит мое сердце! — вдруг — поворот колеса. „Миру, смотри, не доверься“, — древние есть словеса[76]. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .На сорок первый день его вывел из кельи зять. Он с трудом переставлял ноги. Александр и Дареджан заново приучали его ходить, чуть ли не под руку выводя к столу. Едва заметное улучшение в состоянии Хорешан несколько приободрило Теймураза, иначе бы ему уже не оправиться.
Через две недели Александр отвез его в Рачу. Весь этот уголок — твой, сказал он Теймуразу, управляй и властвуй.
Но сердце Теймураза ни к чему не лежало: даже когда думал о делах, перед глазами стояли внуки — Луарсаб и Ираклий, не расстававшиеся теперь с бабушкой, отвыкшие от дедовой ласки.
При виде их ему вспоминалось детство Датуны, поэтому он избегал ласки и возни с ними, к чему прежде, в Кахети, тянулся всей душой. Ведь лаской и веселой возней привязал он к себе когда-то внуков своих. Ту любовь, которую он не сумел излить на своих детей по молодости лет и буйству крови, в Кахети он изливал на внуков — будь то в Алаверди или Алазанской долине, в окрестностях Греми.
Сейчас же Теймураз не находил себе места ни в Раче, ни в Кутаиси. Годы и беды разом нахлынули на него. Не помогали и стихи, не отвлекали заботы о детях и доме. В разлуке с внуками он томился, но и в общении с ними не находил утешения.
Зачастил в Гелати, почти каждый божий день с утра до вечера он просиживал там, неподвижно застыв на каком-нибудь надгробии.
Однорукий Гио как тень всюду следовал за ним вместе с другими приближенными — тушинами, пшавами, хевсурами или ингилойцами, которые бдительно охраняли царя.
Он ни с кем из дидебулов не общался, за исключением Георгия Чолокашвили, с которым иногда обменивался мыслями о поэзии.
Прошло еще какое-то время, и он иногда стал звать к себе внуков — маленького Луарсаба и растущего не по дням, а по часам Ираклия. Рассеянно внимал их матери — вдове Датуны, Елене, которая жаловалась на своеволие мальчиков — не слушаются, мол, отлучаются далеко от дворца, а Ираклий вообще не сходит с коня, иной раз до позднего вечера домой не возвращается, заставляя беспокоиться мать.
Весна была на исходе, лето вступало в свои права.
Наступил июнь.
Хорешан и Дареджан убеждали Теймураза покинуть дворец в Зварети и уехать в Рачу. Что может быть лучше июня в горах, — внушала отцу Дареджан, не желавшая, чтобы Имеретинский двор был свидетелем того, как дряхлел царь, ибо это бросало тень на достоинство и власть самой Дареджан, которая успела окрепнуть и с успехом вмешивалась в придворные дела мужа.
Теймураз угадал сокровенные мысли и тайное желание дочери, потому медлить не стал.
Прекрасны горы и долины Грузии во все времена года, особенно в летнюю пору. Поражает Имерети, благодать разлита по полям и лесам этой древней земли; словно только что начинающие говорить младенцы, лепечут ручьи, стекающие с вечно снежных вершин Кавкасиони. Ниже они превращаются в полноводные реки и с могучим рокотом спускаются в долины, набираясь силы и страсти. Пестрыми коврами расстилаются затканные цветами зеленые бархатные холмы и склоны, радостью и блаженством дышит каждая пядь этого поистине райского уголка грузинской благодатной земли.
Теймураз и его свита верхом продвигались по горным тропам Рачи. Впереди ехали завороженные красотой природы тушины, пшавы и хевсуры, шествие замыкали ингилойцы Давида Джандиери, охраняя даря с тыла. Георгий Чолокашвили на подаренном царем Александром коне в качестве первого придворного следовал за Теймуразом, который, чуть ссутулясь, покачивался в седле и тоже зачарованно любовался лесами и долами, раскинувшимися пестрым покрывалом по крутым склонам величественного Кавкасиони.
В воздухе, застывшем от зноя, висели орлы и ястребы. Густое марево сказочно переливалось, нежным бликом синея у края неба, оттененное темной лазурью линии гор, расшитых клочьями тающих облаков. Причудливо ласкающей глаз вышивкой пестрели цветы и травы, покрывающие склоны холмов и гор, оседая в душе покоем и неосязаемым блаженством, пряным хмелем, заживляющим раны, и исцеляющим нектаром жизни. Жужжали пчелы, покинувшие свои дупла или ульи, и этот мелодичный звон сливался в едином дыхании благодатной природы. Рокочущая на дне ущелья река, словно капризное дитя, немолчно верещала о чем-то своем, не подвластном слову. Откуда-то издалека доносилось дружное токование, птицам прилежно вторили цикады. Голуби сладко ворковали, горлицы переносились от дерева к дереву, словно пущенные из пращи, и легкий шелест их крыльев разносился над просторами сомлевшей под июльским солнцем природы.
Царская свита выехала на небольшой луг.
Косари, по колено утопая в цветах и травах, дружно взмахивали косами, их пение звонким эхом отталкивалось от окружавших зеленый покос гор.
Всадники придержали коней, вслушиваясь в песню.
Кони жадно, чуть ли не обрывая узду, тянулись к сочной траве — от долгого подъема в гору они, понятное дело, проголодались.
Теймураз спешился и подошел к косарям, которые перестали петь и косить.
— Да исполнятся надежды ваши и желания, мои рачинцы!
— Многая лета государю Картли и Кахети! — отозвался пожилой рачинец, который, судя по всему, знал Теймураза в лицо.
— Откуда ты знаешь меня, добрый человек? — подстраиваясь под рачинский говор, спросил Теймураз.
— А оттуда, любезный и досточтимый государь, — со свойственной рачннцам неторопливостью и степенностью отвечал крестьянин, — что я с тех самых пор тебя помню, как ты, уважаемый… даже не знаю, как и объяснить-то тебе… В тех краях, где одно озеро имеется в горах… Так вот, ты нас оттуда добрым пинком выпроводил… И поделом… Никак не вспомню название того озера-то…
Крестьянин вспомнил Базалети.
— Так вот, любезный и досточтимый, — подхватил Теймураз и впервые за долгие месяцы улыбнулся, улыбнулся Раче-жемчужине, истерзанной и обескровленной врагом Грузии, — послушай теперь, что я скажу: не допуская второго Базалети, давайте вместе супостата истреблять и вместе побеждать на благо нашего общего дела, на благо родины нашей.
— Стамбульский сахар бы — да в твои уста, государь, — обнажил в улыбке по-молодому крепкие и белые зубы старик рачинец.
Теймураз скинул верхнее платье — каба, сиял шапку, засучил рукава, по-крестьянски поплевал на ладони, потер их друг о дружку и чуть ли не вырвал из рук косу у своего собеседника.
— Подай-ка сюда эту добрую труженицу!
Теймураз широко взмахнул косой, с характерным свистом рассекающей и воздух и траву.
Покорно, как заговоренные, ложились под ноги царю яркие цветы и созревшие травы, подчиняясь силе, смекалке, умению и вдохновению кахетинского правителя. Почти не останавливаясь, шел по лугу возвращенный к жизни ароматом скошенных трав и цветов царь Кахети, потерявший престол, и напевал про себя, бормотал повесть о далеких временах, когда страна единой была в годину бедствий.
Остановился Теймураз, тыльной стороной ладони смахнул выступивший на лбу пот и попросил каменный брусок поточить косу.
Тот же пожилой крестьянин протянул ему точило. Кахетинский царь привычно поплевал на камень и ловко стал править косу, упираясь в землю косовищем. Ободренные примером царя, его приближенные мигом разобрали косы, и над покосом понеслась негромкая, но дружная песнь мирного труда, столь редкая и желанная на земле трудолюбивых грузин.
Стояли рачинцы, славные мастера косьбы, и любовались, добродушно восторгаясь, как спорится дело в руках их царя.
Солнце уже стояло высоко над головами, когда царские подручные начали готовить еду.
Рачинцы-косари отвели царя к прозрачному роднику, ледяная струя которого, неугомонно журча, бежала по деревянному, наскоро обструганному желобу.
Теймураз разделся по пояс, обмылся студеной водой, потом, подставив обе пригоршни под струю, жадно напился, чуть ли не захлебываясь живительной влагой.
— Ух, благословен будь твой создатель, зубы ломит!
Крепко обтеревшись полотенцем, Теймураз оделся и собрался приступить к еде, как на узкой тропке, той самой, по которой недавно сюда спустилась царская свита, показалась небольшая группа всадников под предводительством тринадцатилетнего сына Датуны — Ираклия.
Ираклий остановил коня неподалеку от накрытой прямо на траве трапезной скатерти, ловко спрыгнул со своего взмыленного Лурджи — статный, рослый потомок кахетинских Багратиони, которого Исфаган давно уже облюбовал в качестве заложника.
Теймураз, окинув внука ласково-горделивым взглядом, вдруг заметил то, чего никогда не замечал прежде: мальчик как две капли воды был похож на своего покойного отца! Особенно похожи были глаза — умные, вдумчивые. Именно эти глаза и на этот раз помогли Теймуразу сладить с той душевной смутой, которая поднималась в нем всякий раз, когда он видел внука. Теперь же в этих глазах мерцала радость, очевидная даже для тех, кто давно уже свыкся с горестями семьи кахетинских Багратиони.
Мальчик догадывался, что дед тяжело переживает всякую встречу с ним, поэтому поспешил объяснить причину своего появления, чтобы рассеять в нем любые неприятные предположения и сомнения.
— Дедушка, московский царь направил к тебе послов под началом стольника Толчанова и дьяка Иевлева. Послы прибыли с богатыми дарами и дожидаются тебя. Царь Александр велел сообщить тебе об этом, — доложил по всем правилам придворного этикета желанный наследник престола и через минуту очутился в крепких дедовских объятиях.
Теймураз переглянулся с Георгием Чолокашвили, который заблестевшим от радости взором наблюдал за сдержанной, по-кахетински скупой на ласку встречей деда с внуком.
Повелитель Рачи не спеша утолил голод, поблагодарил косарей и повернул назад, в Кутаиси.
Похоже было, что тяжелая пора миновала, теперь можно бы и дух перевести, но сердце царя все так же стонало и кровоточило, ибо не было оно привычно к добру и радостям.
…Хорешан в приеме послов участия не принимала. С грузинской стороны при передаче грамот и даров присутствовали: сам Теймураз, царь Имерети — Александр и царица Дареджан, Георгий Чолокашвили и царевич Ираклий — наследник престола Картли и Кахети.
Впервые попавший на столь торжественную церемонию Ираклий не смел задавать деду вопросы, поэтому шепотом спросил у Георгия Чолокашвили:
— А почему их двое? Разве недостаточно одного посла?
— Дело в том, царевич, что столь долгий путь сопряжен с большими трудностями и опасностями. Послов подстерегает множество испытаний, если один погибнет, второй выполнит поручение. И, кроме того, у русского царя так заведено, один посол как бы проверяет то, что говорит и слышит второй, — таким образом, царь может быть уверен в точности переданных и полученных сведений.
— Это у них мудро заведено, — шепотом заметил Ираклий и весь обратился в слух.
Расспросив о положении Картли и Кахети и выслушав ответ, переводившийся с турецкого языка на русский, Толчанов приступил к изложению главного вопроса.
— Его царское величество государь всея Руси весьма заинтересован в вас и в судьбе вашей страны. Мне поручено сообщить вам также, что теперь царь не может прислать вам ратных людей на подмогу, ибо трудно ему как другу султана и шаха против них выступать, а главное, по той причине, — подчеркнул Толчанов, — что мы еще сами не все дела свои уладили. Кроме того, московский государь отправил грамоту подробную шаху Сефи, который собирался отозвать из Картли царя Ростома, не нашедшего общего языка с грузинами, и вернуть царю Теймуразу его законный престол.
Теймураз нахмурился:
— Новый шах, преемник шаха Сефи, шах Аббас Второй, сделает это лишь в том случае, если я отдам ему в заложники моего внука. Я же обещал Ираклия в зятья московскому государю.
Ираклий потупился. Толмач перевел сказанное Теймуразом по-турецки на русский.
— Его величество государь не надеется, что с помощью его войск окончательно утвердится ваше царствование и не нарушится дружба его с шахом, ибо в прошлом году прибыл в Москву шахский посол Мехмед-Кули-хан, через которого шах передал добрые слова в ответ на наши упреки.
— Что сказал шахский посол, когда государь упрекнул шаха в несправедливом обращении с царем Теймуразом?
Алексей Иевлев откашлялся и заговорил так быстро и невнятно, что толмач остановил его и попросил говорить помедленней.
— Сестра Теймураза, сказал Мехмед-Кули-хан, была женой шаха Аббаса, и потому Теймураз доводится нынешнему шаху родичем. Теймураз не ладит с тбилисским ханом Ростомом, оттого что они родственники, а раз родственники, то и враждуют друг с другом, как положено среди наследников больших правителей Грузии и вообще среди шахских наследников.
— Среди наследников престола, — поправил второго посла первый.
— Среди наследников престола, — покорно принял замечание Иевлев. — Ростом-хан — магометанин, подданный шаха, половина Грузии ему подчиняется, половина — Теймуразу…
— Как же так?! Значит, по-вашему, Имеретинское царство — не Грузия, или нас в счет не берут? — вспыхнул Александр.
Послы растерянно переглянулись.
Взял слово Теймураз:
— Имеретинское царство, да будет это ведомо его царскому величеству, такое же полноправное царство, как Картли и Кахети, только мешает этому царству князь Дадиани, который то шаху прислуживает, то султану. Дадиани по коварству своему потребовал у меня внука в заложники, а взамен войско дать обещал, чтобы Ростома из Картли изгнать. Мы отказывали ему, ибо он нам не угоден и положиться на него нельзя. Внук же наш Ираклий, который перед вами, готов отправиться в Москву.
Ираклий снова потупился. Теймураз продолжал:
— Имеретинский царь Александр, зять мой, правит Западной Грузией, мы же владеем Восточной Грузией.
Дьяк Иевлев вернулся к недосказанному:
— Шах сердит на Ростом-хана за то, что он разорил Кахети и убил царевича.
— Наследника престола, — поправил его Александр.
— Наследника престола, — повторил второй посол и продолжал: — Мехмед-Кули-хан сказал, что Теймураз лишь на время оставил свое царство и живет у зятя своего, имеретинского царя…
— Вот видите, даже шахские послы с почтением величают меня царем, — гордо выпрямился Александр.
— Это они в России да при царе величают, иначе и не посмеют, — заметил Теймураз.
Дьяк продолжал:
— …Живет у зятя своего, а шаху не пишет ничего, ни о чем не просит, сказал Мехмед-Кули-хан, а если бы он грамоту написал и попросил, шах бы велел вернуть ему царство. Мы доложим шаху о вашей просьбе, и он из любви к московскому царю велит, чтобы Теймуразу вернули престол и царство его, — закончил свой рассказ Иевлев.
— Я знаю, что велит шах, — горько улыбнулся Теймураз. — Шах Аббас Второй тоже требовал у меня в заложники царевича Ираклия, но получил отказ, ибо царевич должен отправиться в Москву.
— Мы тоже получили приказ от нашего государя привезти царевича в Москву, но не как заложника, а как дорогого гостя, посла грузинского царства, в знак дружбы и доверия. Царь Теймураз, должно быть, знает, что у московского государя слово никогда не расходится с делом, — сказал стольник.
— Я это знаю… Ваши государи не умеют лгать: если пообещают — выполняют, а нет — так прямо шлют отказ. Вы изволили сказать, а устами вашими говорит Московское государство, что…
— Великая и Малая Русь, — подсказал первый посол.
Теймураз продолжал:
— …Его царское величество государь Алексей Михайлович просит прислать в Москву царевича Ираклия, наследника твоего престола, как нашего друга и союзника…
— Истинная правда, — подтвердил слова стольника Толчанова дьяк Иевлев.
— Но меня интересует, отдаст ли государь, самодержец Великой и Малой Руси, за моего Ираклия свою сестру Татьяну?
Никифор Толчанов растерянно взглянул на Иевлева, тот ответил таким же недоуменным взором: на этот счет послы никаких указаний не получали.
— И второе, — продолжал Теймураз, — когда я пошлю внука, даст ли мне государь ратных людей и казну? Если этого не случится, отправка наследника престола в Москву была бы с моей стороны неосмотрительным шагом, ибо она означала бы окончательный разрыв с шахом Аббасом без какой-либо поддержки со стороны московского царя.
Послы промолчали. Замолчал и Теймураз.
Молчание тестя правильно истолковал и Александр. Все остальные тоже затаили дыхание в ожидании ответа.
Толчанов напряженно соображал, как выйти из затруднительного положения. После недолгой паузы он заговорил довольно твердо, и по складу мыслей чувствовалось, что ответ был составлен не без ведома московского государя:
— Всея Руси самодержец пока не может прислать ратных людей, но немедленно отправит к шаху Аббасу Второму чрезвычайное посольство, — возможно, отправит именно меня, и потребует… Я повторяю, потребует, чтобы Теймуразу вернули царство.
— И Картли, и Кахети, — уточнил Теймураз.
Толчанов же продолжал:
— Вернули царство твое и твоего наследника, если же шах Аббас снова начнет говорить о родственных тяжбах и прочем, тогда государь пошлет свою рать Хвалынским морем на пограничные шаховы города и прикажет разорить вдесятеро больше городов, чем шах разорил в Грузии…
Все присутствовавшие на приеме поняли, насколько твердо приказал русский царь своим послам доставить царевича в Москву. Пребывание царевича при русском дворе свидетельствовало бы о сближении, а также служило бы доказательством всему миру приоритета Руси над шахом и султаном. Понял Теймураз тайный умысел, московского даря и уступил, ибо заглянул в будущее своего внука и своего отечества, и едина была мысль и забота об этих двух, воплотивших в себе Грузию.
— И еще я хочу, чтобы русский государь знал… Мой внук и лицом, и станом, и умом, и просвещенностью окажет честь любому двору. Подобных ему не много на свете… Так вот, одежду пусть он носит грузинскую, чтобы все знали о дружбе нашей и побратимстве нашем.
Все учел Теймураз, внушил послам, что на большую жертву идет, чтобы достойно возвысить доверие и честь, оказанные им русскому царю.
Потому и послы доложили своему государю так: правда, Теймураз не сумел заставить имеретинского царя Александра найти общий язык с Леваном Дадиани и Левана убедить не смог не драться с имеретинским царем, но все равно оба они считаются с Теймуразом и уважают его. Огорченный бездетностью своего зятя Ростома и отсутствием у него родни, Леван Дадиани обещал Теймуразу, что, если он отдаст внука ему, а не московскому государю, то Дадиани пришлет ему войско и поможет возвратить престол и царство. Но Теймураз верен Руси и потому Левану отказал.
В знак неколебимой преданности русскому государству Теймураз заставил и Александра присягнуть на верность Москве, это был еще один шаг к спасению и возвышению Грузии, ибо ни шахская Персия, ни султанская Турция не оставляли в покое Восточную и Западную Грузию, царь Ростом и Леван Дадиани со своей стороны вносили смуту.
Требование царевича Ираклия в заложники лишь подтверждало коварство мегрельского правителя, ибо, подстрекаемый Ростомом, он конечно же желал зла наследнику Теймураза; не стал бы Леван Дадиани против родича своего идти — не таков он был, чтобы изменить адату[77] родства и своему исконному духу.
И вновь множились тревожные мысли, муки, горести…
И вновь во дворцах грузинских расцветали двуличие и измена, верность и вражда мешались друг с другом. Народ же свято хранил любовь к отечеству, так же, как любовь к матери и к отцу, любовь к дочерям и сыновьям, хранил свято веру и совесть свою, народную.
Имеретинский царь лично возглавил проводы царевича Ираклия.
Теймураз отправлял внука и невестку с большой свитой и дорогими дарами. Отъезжающим предстоял долгий и опасный путь — через Терки, Кабарду и Кумыцкую низменность.
Накануне отъезда Теймураз долго беседовал с внуком, разъяснял ему все, растолковал смышленому царевичу, что едет он не как заложник и будет принят радушно при Московском дворе. Велел ему русский язык изучить и пушкарское ремесло освоить, о чем еще раньше с послами был договор. Напомнил внуку:
— Если послы солгали и сестра царя окажется тебя недостойной — ты откажись, скажи, что без согласия деда этого вопроса решить не можешь. В дороге будьте осторожны, следи, чтобы никто твоих приближенных не подкупил. Ростом узнает о твоем отъезде. Постарается руками шамхалов[78] сделать то, чего он и шах не смогли добиться через Левана Дадиани. Георгий Чолокашвили пусть заменит меня, остальным не очень доверяй, но в час испытаний каждое слово свое и каждый шаг согласуй с другими. На одного себя не полагайся, хотя все должны помнить, что последнее слово — царское — за тобой! Забудь о юношеской робости и неуверенности, отныне ты наследник Картлийско-Кахетинского престола, запомни это хорошенько. Знай также: может случиться, что ни мои старания, ни твои труды на сей раз успехом не увенчаются, но не забудь моих слов: наши усилия когда-нибудь принесут свои плоды, и Грузия объединится, народ будет спасен от вырождения, от полного истребления, о котором так страстно мечтают Сефевиды. Но это спасение, это избавление не придет само по себе, мы должны завоевать его мудростью и терпением, трудом, тяжким трудом, трудом неутомимым, трудом и знанием. Другого пути у нас нет, потому-то я тебя, мою жизнь, надежду и дыхание мое отправляю на север.
В предгорьях Кавказа, словно насекомые, налетевшие на падаль, роились разбойничьи шайки, принесенные ветром, гуляющим меж севером и югом. Разум шамхалов мутился от путаницы умыслов и ханжества. В отличие от отца, шах Аббас Второй болезненно переживал двуличие кавказских мусульман, они же, стремясь угождать и тем и другим, искали собственной выгоды и стремились урвать кусок пожирнее. Поэтому шаху Аббасу Второму пришлось схватить заигрывавшего с Московским двором Ростом-хана и вместо него посадить его брата. Этот шаг Аббаса Второго всполошил горных разбойников, и они наперебой принялись угождать Исфагану, чем сильно озадачили вклинившиеся вглубь на юг русские воеводства — Теркское и Астраханское.
Оправдавший себя шаг придал шаху смелости: он возвысил ширванского хана Хосрова и стал с его помощью притеснять и грабить русских купцов. По его же наущению Сурхай-бег и Казанала-Мурза напали на русскую крепость Сунжу, взять крепость они не смогли, но переполох вызвали изрядный. Впрочем, через год они все-таки своего добились, крепость разграбили и подожгли.
Обнаглевший Хосров-хан заявил теркскому воеводе, что, согласно повелению шаха, он собирается завладеть крепостью Терки в пику кабардинцам, которые подчинялись русским, найдя с ними общий язык.
Московский двор, встревоженный самоуправством ханов и шамхалов, отправил в Исфаган послов. Шах, не желая обострять отношения с русским царем, отвечал, что Хосров-хан действует по собственной воле.
Узнав от царя Ростома об отъезде царевича Ираклия и царицы Елены, Хосров-хан натравил на царскую свиту разбойников, которые взяли в плен сорок три человека — мужчин и женщин, захватили большую часть подарков, предназначенных русскому царю, но, благодаря мужеству горцев и имеретинцев, посланных царем Александром в сопровождение наследника престола, юный царевич с матерью были укрыты в Терках, оттуда их переправили в Астрахань с помощью русских и в конце концов доставили в Москву, где их приняли с истинно царскими почестями и отвели им роскошные покои в Московском Кремле.
Через несколько дней после прибытия царевича царь Алексей Михайлович принял его в Грановитой палате в присутствии всех заморских послов. На торжественном обеде, данном в честь гостя, по правую руку от царя сидел патриарх Никон, а по левую — царевич Ираклий, о котором сам патриарх пожелал сказать слово.
Никон святой мученицей помянул Кетеван и вечную славу воздал всем трем сыновьям Теймураза — Левану, Александру и Датуне. Сидевшая рядом с царицей Марией мать царевича Елена всхлипнула, Чолокашвили поднес ей платок.
Очень скоро грузинский царевич стал любимцем Алексея Михайловича. Без него не обходился ни один праздник, ни один прием и молебен, повсюду царь появлялся в сопровождении Ираклия, которого в Москве величали царевичем Николаем Давидовичем.
В высшем кругу московской знати он занимал место сразу после патриарха Никона. Здесь с полным пониманием относились к заветным мечтам царя Теймураза, не располагая реальной возможностью помочь Грузии, всячески старались выказать уважение к этой стране, восхваляя мудрость и красоту царевича.
Теймураз не скоро узнал о нападении на Ираклия. Весть принес однорукий Гио, которого затем и отправил в Имерети Георгий Чолокашвили, чтобы успокоить Теймураза на тот случай, если он узнал об этом нападении от кого-то другого.
— Как же ты оставил Ираклия, сынок, как мог вернуться сюда?! Так-то ты мой наказ выполняешь, я ведь на тебя надеялся, как же теперь царевич без тебя обойдется? — по-кахетински, по-отцовски попрекнул верного Гио расстроенный царь.
— Я не хотел возвращаться, но Чолокашвили не оставлял меня в покое, а потом сам Ираклий повелел… Его волю я выполнил только тогда, когда они уже были совсем в безопасном месте, Астрахань миновали.
— Так что же мой Ираклий?
— Ираклий велел мне вернуться и все подробно рассказать, как было. До деда, говорит, дойдут неверные слухи, он тревожиться будет, а услышанному из твоих уст поверит и успокоится.
— Умереть бы за него его деду, — проговорил Теймураз, и слеза еще раз покатилась по его изможденному лицу. После гибели Датуны он уже не стеснялся слез.
Теймураз сел писать письмо русскому царю. Сообщил о всех кознях, которые затевал против него шах по наущению и доносу Ростома. Не только братство, но даже простые связи Грузии с Россией лишают рассудка всех Сефевидов, а Аббас Второй сделает все, только бы русские не ступили на Кавказский хребет и не протянули Грузии руки помощи. Не помочь грузинским царствам — значит обречь христианство в Закавказье на гибель.
Написал царь и Ростому:
„Меня ты пощадил, но Датуну убил… Что он тебе сделал? Мы ведь все смертны, а сына у тебя нет. Ты ищешь наследника? Разве Датуна не объединил бы Картли и Кахети? Разве ты не грузин, не Багратиони, разве ты не видишь своими глазами, что потерять веру для нас равносильно смерти, разве царица Мариам без твоей помощи поддержит христиан?! Что же затмило рассудок твой, что озлобило тебя, как поднялась у тебя рука, или ты не грузин?! Неужели я должен поверить, что муки матери моей и сыновей моих радовали сердце твое? Нет, Ростом, я в это не могу поверить, ибо и оказилбашившийся грузин — все равно грузин и бедами Грузии его не обрадуешь! Рознь — рознью, но интересы родины выше всякой вражды, так зачем же ты хранишь верность Сефевидам, которые в конце концов обменяют тебя на негодного мула или и вовсе поколотят и вышвырнут? Ты ищешь наследника? Разве Датуна не был для тебя родным по крови? Разве в жилах Ираклия не течет кровь Багратиони? Или Хорешан не принадлежит к роду картлийских Багратиони? Неужели ты не понимаешь, что шах не оставит тебе Кахети, ибо ему не нужна единая Грузия. Тебя-то что развратило, человече? Что замутило рассудок твой? Послушайся Мариам, спроси-ка у нее, одобрит ли она кривду твою?..“
О многом еще писал Теймураз Ростому.
Письмо попало в руки царицы Мариам. Немедля подступила она к несговорчивому старику:
— Не обижайся, мой повелитель, но Теймураз правду пишет. Я благодарна тебе за то, — что ты сам подвигаешь меня на помощь христианам, но я поняла, что эта помощь тебе нужна для того, чтобы их же и обманывать, их внимание отвлекать, а тем временем кизилбашей поддерживать.
Ростом молчал, Мариам продолжала твердо, чеканно:
— Разве я не знаю, что в душе ты христианин! Что чужая вера тебе нужна для отвода глаз. Все это я знаю, но всему есть предел. Датуна был самым подходящим наследником престола, да и лучше его сына нам не сыскать. Как же ты мог умышлять против него? Как ты мог сообщить в Исфаган и злодеям об отъезде Ираклия в Москву, без помощи которой, сам не хуже меня знаешь, в конце концов уничтожат нас.
— Но кто поручится, что они не принесут нам еще больше зла? — возразил Ростом.
— Без корысти и без подарков даже муж с женой не уживаются, ты сам это хорошо знаешь, сам не раз говорил. И русский царь постарается извлечь из Грузии пользу. Это уж незыблемая воля всех царей. Но ясно и то, что они не пожелают истребить единоверный народ так, как жаждут этого Сефевиды.
— Я никогда не помышлял об уничтожении народа, напротив, я сделал своими руками столько, сколько не делал никто со времен Давида Строителя и царицы Тамар.
— Ты верно говоришь, но не забывай и то, что если оба шаха не смогли поколебать веру твоей Родины, то ты расшатал ее понемногу, исподволь. А расшатать веру — это значит погубить народ и страну. Ты подкупал дидебулов парчой и халатами, шелками да дарами, золотом и серебром, полученными из Исфагана. Ты в раба Исфагана превратил и брата моего Левана.
— Леван и без меня стал бы рабом всякого, хоть самого шайтана, только бы получить власть и богатство!
— Это неправда, Ростом! Когда грузины схватились друг с другом в Базалети, Леван не стал участвовать в этой братоубийственной резне.
— Не стал, потому что пользы для себя не видел.
— Сам знаешь, что это не так! Он тогда признал путь Теймураза правым, а путь Саакадзе — кривым.
— Крив путь Теймураза, прав был Саакадзе! — прорычал Ростом и так стукнул кулаком по столу, что Мариам вздрогнула.
Поняла царица, что слова ее укрепили мысль, стрелой пронзившую Ростома, поэтому не замедлила высказать главное:
— Если Теймураз служит кривде, тогда зачем сам послал людей к русскому царю? Чтобы погубить Ираклия или обеспечить себе мирную старость?!
Теперь настала очередь Ростома на миг потерять дар речи — откуда узнала царица об этом посольстве, кто известил ее о тайном предприятии царя? Он был ошеломлен, но всеми силами постарался виду не подать, хотя твердо знал, что Мариам никогда его не выдаст, даже если к ней с кинжалом подступят.
Ростом удалился своей шаркающей походкой. Мариам гордо выпрямилась.
…Стоял сентябрь тысяча шестьсот пятьдесят второго года.
В Тбилиси царила красавица осень. Заняв у августа несколько солнечных дней, сентябрь щедро одаривал город фруктами и прочими милостями природы. На переполненной народом базарной площади, называемой на персидский лад майданом, среди тбилисских покупателей и купцов толпились кизилбаши.
В укромном углу за мечетью некий русский бородач шептался с армянским священником-тертером на ломаном турецком языке. Тертер тоже в этом языке был несилен, больше руками изъяснялся. Трое других бородатых русских стояли неподалеку и внимательно следили, чтобы беседующих никто не подслушивал и не тревожил. В конце концов тертер повел бородача узким переулком к Сионскому собору. Бородач достал из кармана двадцать ефимок и сунул проводнику в ладонь. Обрадованный тертер трижды перекрестил бородача и в ту же минуту исчез.
Четверо русских вошли в собор.
У входа купили свечи, на серебряный поднос бросили горсть монет и преклонили колена перед иконой святой богородицы.
Дьякон заметил русских, обратив внимание на их щедрость. Тотчас побежал сообщить новость католикосу Христофору Второму. Ловко обойдя привратников, охранявших первосвященника из рода Амилахори, он скороговоркой доложил об увиденном католикосу. Католикос, не долго думая, призвал к себе придворного священника царицы Мариам Елисея и велел обоим следить за русскими.
Когда русские кончили молиться и отошли от иконы святой богородицы, они заметили батюшку Елисея и дьякона, стоявших возле небольшой двери. Бородач, недавно объяснявшийся с тертером, доверчиво подошел к ним и заговорил по-турецки. Они ответили по-гречески. Бородач греческого не знал, подозвал одного из своих и с помощью жестов кое-как объяснил, что хочет видеть католикоса.
Христофор принял бородача — турецкий он знал и в толмаче не нуждался. Вместе с русским пригласил он и Елисея, а дьякону, следовавшему за батюшкой по пятам, предложил подождать за дверью.
— Меня зовут Арсений Суханов, — начал бородач. — Согласно воле и распоряжению патриарха всея Руси Никона я объезжал православные монастыри на Востоке. Сейчас из Иерусалима возвращаюсь домой, однако прослышал, что ваш царь велел перекрыть все перевалы через Кавказские горы и никого не выпускает из России, а также в Россию не пускает никого, потому-то решил обратиться к вам за помощью.
Христофор кашлянул и взглянул на Елисея.
Тот понурил голову.
— Я рад вас видеть, — заговорил католикос. — Посланец святейшего Никона — божий посланец и мой драгоценнейший гость. Окажите мне честь, позвольте предложить вам свои услуги. Возвращаясь из святых мест, вы, должно быть, устали и хотите спать. Прежде всего посетите мою баню, дайте отдых телу, потом откушайте под отведенным для вас кровом и отоспитесь тоже. Остальное же отложим на завтра.
Елисей проводил посланцев русской церкви. За ним последовал и дьякон.
На следующий день католикос принял четверых русских священников. Из грузин на этой встрече присутствовал только батюшка Елисей.
— Я доложил о вашем прибытии царице Мариам, которая в силу различных обстоятельств во дворец нас пригласить не может, приносит свои извинения. В Тбилиси много вражеских глаз и ушей. Царица пожелала явиться к нам сюда, чтобы приветствовать вас и побеседовать с вами.
Не успел католикос договорить, как в келью ступила сама царица Мариам, поразившая гостей красотой и благочестивым видом. Почтительно склонились перед повелительницей хозяева и гости.
Мариам скромно села в предложенное Елисеем кресло и торопливо приступила к делу:
— Католикос, должно быть, рассказал вам, что происходит в Тбилиси и при дворе. Простите, что не смогла оказать вам достойного приема, но мы не свободны в своих действиях! Даже царь не знает о моем приходе сюда, — мягко улыбнулась Мариам. — Но это ничего, — если и узнает — простит… христианку, выполнившую свой долг. Прошу прощения за скромные дары, вы достойны большего в ответ на ваши милости. Мой скромный дар католикос передаст вам перед отъездом.
— Мы доложим о твоей преданности Христу святейшему патриарху всея Руси Никону и будем молиться в московском соборе о возвышении твоего духа.
Мариам поблагодарила гостей едва заметным кивком и продолжала смиренно:
— Правда, мой супруг — мусульманин, но он был и остается грузином… Я не спрашивала его… Но говорю от себя — если московский государь пожелает вступить в Грузию, повторяю, это мое мнение, только мое, царь Ростом, мой супруг, не будет умышлять против него зла… Теймураз, кахетинский царь, который сейчас находится в Имерети, очень притеснен кизилбашами… Сыновей его убили, мать, царицу Кетеван, казнили, ныне она объявлена святой всей православной церкви…
— Вечный покой ее душе! — воскликнул католикос, еще раз восхищенный великодушием и набожностью царицы.
— Аминь! — заключили единогласно все присутствующие.
Мариам, воздев руки, продолжала:
— Да услышит нас отец небесный, дарующий благо! Пусть дни жизни, отнятые у блаженной мученицы и ее внуков, удлинят жизнь юного Ираклия, дабы он мог объединить Грузию нашу христианскую!
— Аминь! — снова произнесли остальные.
— Передайте русской царице Марии — моей тезке — мою нижайшую просьбу: пусть не жалеет она любви и ласки для осиротевшего царевича… Я же буду горячо молиться за царицу и ее детей. Передайте патриарху Никону просьбу бездетной матери: пусть молится и заботится о грузинском царевиче, пусть и меня считает матерью наследника престола вместе с его матушкой, по справедливости достойно принятою Московским двором.
Мы хорошо знаем, что Исфаган до сих пор не может пережить отъезд царевича в Россию, ибо с его отъездом кизилбаши лишились еще одной возможности свести с пути Христа Грузию. Поэтому молю я всех русских: будьте братьями для грузин и берегите царевича — как драгоценную икону в алтаре братства Грузии с Россией.
Мариам извлекла из-за выреза платья свиток и передала его Арсению Суханову.
Грамота была нарочно не запечатана, чтобы русские могли ее прочесть.
— Это послание к Хосров-хану отправляет царь Ростом. Вы беспрепятственно доберетесь до первых русских крепостей, а там уже сами проторите путь к своей родной Москве.
Ростом писал Хосров-хану, что податели сего письма — враги Теймураза и сторонники шахиншаха, поэтому он просил пропустить их незамедлительно как друзей Исфагана.
…Русских с почестями проводили до крепости Терки. Письмо Ростома отправили в Исфаган — таковы были волчьи повадки всех шахов.
Ростом это знал хорошо, потому-то ответ был у него наготове.
Прошли еще годы, миновало время…
В историю Грузии слезами и кровью были вписаны еще несколько страниц.
Не будем говорить о проклятиях, но если бы христианские молитвы и благословения имели силу, то разве были бы замучены кизилбашами царица Кетеван, Леван и Александр, разве был бы убит Датуна — душа кахетинцев, надежда тушинов, пшавов и хевсуров, отрада ингилойцев, разве пришлось бы царю Теймуразу искать убежище в Имерети?!
Не будем говорить о проклятиях, но человеческое добро и благо все-таки делают свое дело, пусть небольшое, а злу все же кладут предел, каждому воздают по заслугам. Так и вера в добро была вознаграждена, неверие наказано. Судьба того пожелала, и на чашу весов брошены были деяния Левана Дадиани.
Случилось ожидаемое, но представить его трудно, страшно, свершился суд, которым были наказаны и виновные и невиновные.
Неизлечимый недуг сразил единственного сына правителя Одиши, три дня юноша горел словно в огне, три дня мучился, пока не испепелилась единственная надежда отчаявшегося отца.
Онемел Дадиани, семь дней оплакивал сына. На восьмой день пал на труп его и захрипел, словно бык, запряженный в тяжело груженную арбу… Потом, собрав последние силы, князь поднялся, снял со стены лахти и безжалостно, изо всех сил ударил себя по голове; правитель Одиши замертво упал на своего непогребенного сына, без причастия и покаяния.
Александр, в первый же день прослышав о несчастье, постигшем Дадиани, ждал, когда тот похоронит сына, но, узнав, что за одной смертью последовала другая, медлить не стал, не спросясь у Теймураза, находившегося в Раче, напал на Одиши с войском, которое держал наготове. Горя жаждой мщения за брата и отца, Александр разорил владения усопших, уничтожил верных слуг и азнауров Левана, всех истребил, кто был участником или свидетелем набега Дадиани на Имерети, мучений Георгия и Мамуки, вернул все, что было отобрано и похищено из Кутаисского дворца, а заодно и много его богатств увез тяжело груженными караванами. Знатных женщин, овдовевших или оставшихся без хозяина, как наложниц раздарил прибывшим вместе с ним тавадам и азнаурам.
Дареджан поспешила к мужу, стоявшему лагерем во владениях Дадиани, говорила с ним резко, поступка его не одобрила, горячо убеждала, призвала на помощь женское тепло и сердечные слова. Остановись, упрашивала, удовлетворись тем, что уже совершил, негоже жестокостью отвечать на жестокость.
Успокоился Александр — Дареджан, предварительно наслушавшись благих наставлений отца, сумела умиротворить мужа.
Царь Имерети велел похоронить отца и сына, как повелевает христианский обычай. Мегрелию своими владениями не объявлял, Вамеха Дадиани посадил правителем.
Дареджан уговорила мужа позволить Мариам, не допущенной на погребение, оплакать брата и племянника.
И большего добилась имеретинская царица: все фамильные драгоценности, без единой потери, вернула возвращавшейся в Тбилиси Мариам.
Срочно прибывший из Рачи Теймураз сказал Александру:
— Ни шах, ни Ростом не простят нам захвата верной им Мегрелии.
— Я не захватывал Мегрелии! — сказал Александр.
— Это так, но силой ты взял верх над верным слугой шаха.
— Слуга шаха сам покончил с собой.
— Это известно тебе и мне, а в глазах народа ты вышел победителем в этом поединке.
Александр нахмурился, потом взглянул на тестя и спросил:
— Что ты задумал, в чем выход из создавшегося положения?
— Я должен прибегнуть к последнему средству. Должен ехать к московскому государю, чтобы он помог мне вернуть Картли и Кахети.
— Дальше что?
— Дальше, может, бог нам поможет…
— Ростом не пропустит тебя.
— Я написал в Москву, прошу, чтобы меня встречали в крепости Терки. До Терки как-нибудь доберусь, а оттуда до Астрахани меня проводят; русские войска.
Александру не понравилось, что Теймураз без его ведома отправил письмо в Москву, но он смолчал.
Теймураз понял недовольство зятя.
— Это письмо я написал, когда ты был в Зварети на охоте. Спешно передал его с купцами, ехавшими из Турции в Москву, да и позабыл тебе сказать о том.
Понял Александр, что Теймураз, говоря об охоте, намекал на поход в Одиши, который Александр готовил втайне от всех… в том числе и от Теймураза… Понял, что Теймураз догадывался о его планах. Понял свою ошибку царь Имерети и предпочел промолчать, ибо знал и не раз слышал от Теймураза, что даже между отцом и сыном случаются и обиды, и распри — без этого не обходится, таковы законы человеческих отношений.
Встревоженный опасностью, грозившей зятю, Теймураз отобрал верных тушинов, пшавов, хевсуров и рачинцев.
Тайными тропами добрался он до крепости Терки, где воеводы ждали его с хорошо вооруженной свитой.
Спешил Теймураз, болело сердце при мысли, что может лишиться последней надежды.
Предчувствие не обмануло воина, закаленного в борьбе с кизилбашами…
Ратники Ростома явились в Мегрелию защищать интересы Липарита Дадиани. Не замедлил объявить карательный поход против разорившего Одиши Александра и ахалцихский паша, явившийся через Зекарский перевал. Не мешкал и наспех перебравшийся через Риони Кайхосро Гуриели вместе с подстрекаемыми Ростомом князьями Месхети, тут же оказались и враждебно настроенные против Имеретинского двора князья Чиладзе и Микеладзе.
Возле Бандзы их встретил охваченный праведным гневом Александр, возмущенный непрошеным вмешательством, беспощадно разбил недругов, обратил их в бегство и лихо преследовал едва уносящих ноги. А Кайхосро Гуриели, которому собственная родина показалась недостаточно удаленной от Имерети, взяв разгон, прямо помчался на Стамбул.
Успокоился Александр, укрепил в Одиши Вамеха Дадиани, а в Гурии посадил своего сторонника и сверстника Дмитрия Гуриели, племянника преследуемого прежнего мтавари-беглеца!
Утвердившись в правильности своих действий и вернув ранее отторгнутые от его царства владения, Александр, заглядывая вперед, передал небольшую часть взятых боем доспехов Вамеху Дадиани в присутствии князей-азнауров и духовных лиц. При этом тут же публично посоветовал новому правителю не преследовать сторонников Левана Дадиани; если, мол, таковые еще остались, избежав кары, то их не трогать.
Услышав обо всем этом, Дареджан улыбнулась. Ее улыбка высоко ценилась при Имеретинском дворе.
По Мегрелии, Гурии и всей Имерети разнесся слух о женской мудрости Дареджан. Говорили, что в испепеленном сердце дочери Теймураза, потерявшего сыновей, светлый дух погибших братьев восстал столпом света.
* * *
Свита выехавшего из Астрахани Теймураза медленно продвигалась по приволжским степям. Встречавшие царя воеводы оказывали подобающие почести знатному гостю, подносили меха и шубы, спасавшие от суровых русских морозов, незамедлительно меняли коней и после радушных угощений щедро снабжали провиантом на дорогу.
Они отъехали достаточно далеко от Астрахани, когда начал валить снег, белой пеленой покрылись необозримые луга и непроходимые леса. Белоснежный наряд природы слепил старика царя и его приближенных.
Теймураза и Георгия Чолокашвили, который встретил царя еще в Астрахани, пересадили в сани. Под звон бубенцов легко скользили славно выточенные полозья, облака снега вздымали копытами ширококостные кони. Грузинские и русские богатыри парами скакали вслед за грузинским царем, лишившимся своего царства. Когда ехали по лесным просекам, из чащи то и дело выскакивали лоси, волчьи стаи, но русские смело и ловко отгоняли их.
Чем севернее продвигались путники, тем сильнее становился мороз. Но он не страшен был Теймуразу, закутанному в соболиные и медвежьи шкуры. Чуть пощипывало нос и уши, телу же было так тепло, будто он сидел у пылающего камина.
Тульский воевода надолго задержал гостей. Затянулась и подготовка к завтраку.
Гость молчал. Дело хозяина — принять и проводить его.
Теймураз сидел в жарко натопленной комнате, ожидал хозяина дома и глядел в окно на выпущенных в переулок свиней, невольно сравнивая их с кахетинскими свиньями. Эти были крупнее, жирнее, хорошо откормлены и ухожены.
Теймураз думал об этом, когда по переулку промчались с десяток саней и остановились у крыльца деревянного дома воеводы. Из саней, не спеша, по одному, обряженные в шубы и меха, выходили русские вельможи.
„Наверное, их прислал государь мне навстречу“, — мелькнуло в голове у Теймураза, который невольно тут же окинул взглядом свой наряд — чоху с архалухом, поправил кинжал, доставшийся от прадеда, скользнул глазами по теплым буркам, полученным в дар еще в Астрахани.
Дверь отворилась, и в комнату вошел Ираклий в белой грузинской чохе, которая очень шла к его возмужавшему лицу, уже украшенному усами и бородой. Над высоким лбом курчавились густые волосы.
У Теймураза сердце так и екнуло, он благоговейно обнял дорогого внука и прижал к груди.
— Как ты вырос, сынок, возмужал!
— Немудрено при таком внимании и почете, — достойно ответил Ираклий.
— Наследника Багратиони московский государь не мог принять иначе.
— Как бабушка?
— Только тобой и живет.
Отступив от внука, Теймураз сразу заметил однорукого Гио, который застыл на пороге, со слезами радости наблюдая за сдержанной по-кахетински встречей деда с внуком.
Теймураз встал и, шаркая великоватыми для стариковских ног бурками, подошел к верному Гио, обнял его, отечески поцеловав в лоб.
Ираклий расспросил обо всех по очереди… Пережив потерю старшего брата Георгия, он особенно интересовался младшим — Луарсабом.
Дед передал ему подарок от Дареджан — крымскую пищаль, остальные же подарки пообещал вручить по прибытии в Москву.
Тульский воевода подвел гостей к роскошному столу, накрытому в самой большой комнате его двухэтажного деревянного дома. Во главе стола хозяин посадил счастливых деда и внука. Занесенные снегом русские степи прибавили им покоя и уверенности.
Теймуразу не нужен был толмач, Ираклий прекрасно овладел русским языком, но не забыл и грузинского.
В дороге Теймураз расспрашивал внука об укладе Московского двора. Многое узнал от царевича, хорошо разбиравшегося во всех тонкостях придворной жизни.
Осторожно задал вопрос и о женитьбе. „Я не спешу“, — ответил внук, увиливая от продолжения беседы на эту тему. Теймураз заметил его уловку и желанию внука поддался, хотя про себя и отметил, что этот вопрос необходимо уладить.
Царь Алексей Михайлович устроил Теймуразу торжественную встречу… Выехал к нему со свитой из Спасских ворот Кремля. Подарки принимал в Грановитой палате, премного благодаря, и сам одарял щедро.
На следующий день государь устроил обед в честь кахетинского царя.
Теймуразу не в диковинку были роскошные столы, но не мог он не подивиться обилию осетровой икры и рыбы. Непринужденно, привычно угощался яствами царевич Ираклий, сидевший рядом с дедом, ловко опрокидывая чарки с водкой, хотя и меру знал, что также с радостью было подмечено зорким глазом Теймураза.
Государь сам ухаживал за дорогим гостем, которого нарочно усадил рядом, дабы проявлять особое внимание и вести откровенную беседу, пользуясь посредничеством Ираклия. В присутствии иностранных послов и своих придворных Алексей Михайлович провозгласил тост за грузинского царя.
На третий день в Большом кремлевском соборе велел служить панихиду по святой Кетеван и трем ее внукам.
Панихиду служил сам патриарх Никон.
Стоявшая рядом с царицей Марией Елена и на этот раз не смогла удержать слез, вспомнив Датуну. Царица Мария своим платочком вытерла ей слезы, по-матерински ласково поцеловав ее в лоб.
Для беседы Алексей Михайлович принял истомленного ожиданием Теймураза только через неделю. „Не обижайся и близко к сердцу не принимай, — успокаивал его внук. — У них так принято, неторопливость и достойная выдержка считаются знаком уважения как к самому человеку, так и к его делу“.
С русской стороны, кроме царя с царицей И Никона, присутствовали еще пять бояр, с грузинской стороны — Теймураз, Ираклий с матерью, Георгий Чолокашвили и однорукий Гио.
До начала переговоров, по просьбе Теймураза, царевич попросил, чтобы государь принял представителей тушин, пшавов и хевсуров, — поручителем за них был Георгий Чолокашвили, ведавший землями, которые представляли упомянутые посланцы.
— Разве они не твои подданные? — спросил государь.
Ираклий тотчас перевел его вопрос на грузинский.
— Как же, конечно, они мои подданные, — отвечал Теймураз, который, согласно восточному обычаю, хотел показать московскому государю, как много у него подданных, и подчеркнуть значение, которое должны были представлять селившиеся в предгорьях горцы для русского царя, заинтересованного в Кавказе. — Но они населяют окраины моего царства — так же, как донские казаки населяют окраины твоих владений.
— А-а-а, — многозначительно протянул государь, который понял хитрую уловку Теймураза и то значение, которое должны были иметь для него грузины-горцы. — Пусть пожалуют, я буду счастлив их выслушать!
Ираклий ввел в палату пятерых богатырей.
Они поспешно преклонили колени, почтительно приветствуя вельмож — и гостей, и хозяев.
Вперед вышел белобородый старец, громко откашлялся и степенно проговорил:
— Меня Гугуа кличут! Я — хевсур, — быстро переводил Ираклий. — Мы все: тушины, пшавы, хевсуры, мтиулы, — свободные сыны теймуразовых гор. — Гугуа не терпелось сплюнуть на пол, по его горскому обычаю, но он вовремя удержался, вспомнив о наказе Ираклия, а потому только носком сапога провел по полу. — Мы сами себе хозяева, но нынче при царе нашем и мы хотели бы тебе клятву верности принесть. Нас не так уж мало, и сил у нас, с божьей помощью, достаточно.
— Сколько ратных людей вы могли бы выставить? — спросил государь.
— Что такое ратные люди, парень? — спросил Гугуа Ираклия, после того как он перевел вопрос государя.
Ираклий объяснил, что это воины, бойцы.
— Таких у нас много, — ответил Гугуа. — Тушины, к слову, могут восемь тысяч привести, не считая женщин.
— Нет, нет, женщин не нужно, — улыбнулся государь.
— Женщина, да падут на меня твои невзгоды, лучше некоторых мужиков трусливых.
Ираклий перевел ответ Гугуа по-своему:
— Что мужик, что баба — у нас все воины.
— Это добро, это я знаю, но лучше без баб!
Гугуа продолжал:
— Без женщин нашему войску не бывать, но как им это втолкуешь… Ладно, объясни им, сердечный, что хевсуры пять тысяч кинжалов выставят, пшавы — четыре тысячи… Так я говорю, парень? — повернулся Гугуа к пшаву Важике, который тотчас откликнулся:
— Нас больше наберется, дед!
— Так что, во славу Ломисской иконы, мтиулов столько же будет?
— Они хотят присягнуть нам на верность? — спросил государь.
Теймураз кивнул.
Государь посчитал прием горцев оконченным и обратился к патриарху:
— Окажи, отче, милость, выполни просьбу подданных грузинского царя Теймураза, — нарочно повысил он голос, особо выделяя титул Теймураза, желая оказать ему достойную честь.
Ираклий проводил горцев.
Теймураз подробно рассказал русскому царю о положении в Грузии. Сообщил, что нынешнего девяностотрехлетнего правителя Ростома, отступника и богохула, еще сам шах Сефи собирался отозвать назад, ибо жители Тбилиси жаловались шаху на его алчность и нечестность. Картлийские дидебулы не признают Ростома, ибо у него нет наследников, родни и друзей, а Кахети и вовсе его не жалует, знать его не хочет, не говоря уже о горцах. „Впрочем, — заметил справедливости ради Теймураз, — и то следовало бы заметить, что, благодаря стараниям Мариам Дадиани, христиан в Картли теперь меньше притесняют и Тбилиси за годы мирной передышки заметно окреп“.
Государю понравилась справедливость и проницательность Теймураза.
— Истину говорит дед твой, царевич, царица Мар., Мариам Дадиани, — поспешно поправился он, ибо знал точно, что не следовало бы упоминать ее царицей так же, как и Ростома царем, — чуть ли не в Картли войти нам предлагает, причем почти с согласия своего мужа. Верно я говорю, святой отец? — обратился государь к патриарху, который с готовностью поддержал его.
— Твоими устами глаголет истина, государь! — ответствовал патриарх всея Руси, а Теймураз, проведя указательным пальцем по лбу, продолжал:
— Дидебулы Картли и Кахети готовят заговор. Тушин, пшавов и хевсуров ты видел сам, государь… Имеретинский царь, мой зять, который с моего одобрения клялся тебе на верность, а ему принадлежит половина Грузии, готов помочь Картли и Кахети избавиться от иноверцев. Еще во времена Годунова и деда моего Александра мы клялись в верности Руси, и с тех пор ждем от Москвы помощи ратными людьми и казной. Если бы твое царское величество, государь, того пожелало, то мой внук Ираклий, преданный вам и вами воспитанный, который в силу разных обстоятельств до сих пор не женат, стал бы во главе отборного войска, а я — как царь — отошел бы от мирских дел и в монахи постригся, Грузия же объединилась бы наконец и служила оплотом твоим на Кавказе. Тогда никакой Хосров-хан не посмел бы поперек воли твоего христианнейшего величества идти… Я хочу особо подчеркнуть и то, что Грузия богата златом и серебром, медной рудой, кахетинские вина принесли бы превеликое удовольствие и полную выгоду Московскому двору. И в другом тоже вы бы не остались внакладе, если бы наш народ получил возможность мирно трудиться, торговать и промышлять благодаря заступничеству государя всея Руси.
Восхищенный дальновидностью и красноречием деда, Ираклий переводил слово за словом, стараясь поточнее выразить смысл сказанного.
Алексей Михайлович изволил произнести ответную речь:
— Порадовала меня мудрость грузинского царя, который осветил положение не только в Грузии, но и на всем Кавказе. Тебе, царь, не следует спешить с пострижением в монахи, ибо велика есть мудрость твоя и проницательность, а шестьдесят семь лет для государственного мужа лишь источник великого просветления… Верно и то, что горцы ваши будут служить нашим надежным форпостом на Кавказе… Твой и мой — наш общий сын Ираклий готов выполнить любое паше — твое и мое, — государь, решение. В случае создания единой христианской Грузии и усиления ее наши южные границы находились бы в безопасности как в устье Волги, так и на Черном море, где интересы нашего государства давно нуждаются в надежной опоре. Бесспорно и то, что именно сегодня, когда в Картли сидит девяностотрехлетний вероотступник, которым недовольна половина Грузни, если не больше, когда из-за него Исфаган теряет свое влияние в Грузии, а имеретинский царь, твой зять, поклявшийся мне в верности, правит второй половиной всей Грузии, и по многим другим соображениям совершенно очевидно, что сегодня наилучшие условия для того, чтобы выполнить мечту наших предков и наши намерения, но… — здесь царь запнулся, прямо поглядел в ясные глаза Теймураза и, понизив голос, продолжал: — Но… у такого огромного государства, как Россия, много, очень много трудностей, которые мешают нам приступить к немедленным действиям на юге.
Первое… Осложнились отношения с поляками, у нас с ними война из-за Украины.
Второе… Шведы давно зарятся на наш север и собираются идти на нас войной.
Третье… Турция с Черного моря старается вторгнуться в наши пограничные земли, хочет покорить и поработить живущих на Дону казаков, о которых здесь было упомянуто.
Четвертое… Объединенная с нашей помощью и под вашим венцом Грузия настроит против России шаха с султаном, которые по сей причине перестанут вредить друг другу и начнут злоумышлять против России. И могут принести много зла.
Пятое… Само нынешнее состояние Картли и Кахети требует, даже ценой определенных уступок, в первую очередь поднять в стране торговлю, укрепить хозяйство, дабы народ не голодал, иначе не только моих ратных людей, но и своих собственных вам не прокормите! Ведь временное войско, состоящее из крестьян, без царского соизволения разбредется, рассеется, стремясь или сеять, или собирать урожай, или же вовсе по лепи своей.
Беседа, начавшаяся в полдень, закончилась в полночь, и никого не клонило ко сну, никто не ощутил голода, никто не зевал и не скучал — стоял совет откровенный, звучали речи искренние, правдивые, витал, дух верности и братства.
Не пахло здесь ни ложью, ни лицемерием.
Правда, и надежда отдалилась от Теймураза — московский государь сказал твердо, что сейчас помочь ничем не может: после того, как усмирит поляков и шведов, будет видно. Обещал твердо: отправит послов к шаху и попросит, даже потребует вернуть Теймуразу Кахети.
Задумался Теймураз, притих, сказал свое последнее слово:
— Я доверил тебе царевича — свет очей моих и зеницу ока всей Грузии. Береги его, как сына, ибо он не просто кровь и плоть моя, а сын Грузии на русской земле.
— Царевич — гордость моего двора и один из умнейших и красивейших молодцев. Я-то буду ему отцом, но что будет, как он поведет себя сам, этого я знать не могу, ибо большой грех или благо гнездятся в красоте его и мудрости… Особенно для наших женщин… — с улыбкой заключил государь.
Трудным было положение царя, еще труднее — положение Грузии.
* * *
На следующий день государь через Ираклия передал Теймуразу просьбу — не торопиться с отъездом, желаю, мол, поговорить с ним еще да на охоту нашу российскую пригласить.
— До российской ли охоты мне, сынок, коль в стране моей неверные на людей моих охотятся. Да и что нового может сказать государь, раз уж в главном отказал? Чем сможет он меня поддержать?
— Мне он ничего не поведал. Однако ж учесть надобно, что мысли свои сокровенные государь никогда не раскрывает до конца. Даже первому визирю своему Илье Даниловичу Милославскому, родителю государыни, до конца не доверяет…
— Что, боярин Милославский тесть государев? — спросил Теймураз, угадавший суть сокровенных дум царя.
— Так уж заведено у них, тесть ведет дела первого сановника… Так вот, ни Милославскому, ни патриарху Никону, самым что ни есть приближенным своим, не доверяет он до конца.
— Истинный владыка сам себе до конца не доверяет, не то что домочадцам, священнослужителям или придворным, в каком бы сане они ни возвышались. Разве только послу своему откроется, да и то лишь отправляя его с высочайшим поручением, — с двусмысленной улыбкой обронил Теймураз, мельком покосясь в сторону Чолокашвили.
— Так вот, — продолжил прерванную дедом мысль Ираклий. — Видно, с глазу на глаз желает сказать тебе что-то.
— Посмотрим… — задумчиво вымолвил Теймураз.
Воцарилось молчание — долгое, вялое, затяжное.
В палате были трое — Теймураз, Ираклий и Георгий Чолокашвили.
Теймураз сидел за украшенным резьбой столом на такой же резной скамье. Высоким челом он упирался в ладонь левой руки, а пальцами правой постукивал по матово поблескивающей поверхности дубового стола, в такт пристукивая при этом вытянутой вперед ногой. Чолокашвили стоял чуть поодаль от него, возле русской печи, и время от времени подкладывал в пылающий огонь березовые поленья. Дрова потрескивали, наполняя просторную палату дурманящим благоуханием березы. Ираклий стоял подле окна и внимательно наблюдал за суетившимися во дворе Кремля стрельцами: кто расчищал занесенные снегом дорожки, ведущие к дворцовым подъездам, кто запрягал сани, кто отводил коней на водопой к прорубям в Москве-реке.
Валил снег.
В палате, как и во всем дворце, стояла глубокая тишина: толща стен кремлевских дворцов не пропускала никаких звуков ни в одно время года, а тем паче зимой, когда сплошная снежная пелена поглощала все окрест.
Молчание нарушил Ираклий:
— Будь у нас такие работники и воины, как эти стрельцы, мы бы и горя не знали, — раздался его по-юношески ломкий бас.
— Горе горем, царевич, но в том сомнений нет, что шахиншаху и его псам мы наверняка не позволили бы не только терзать нашу землю, но даже и лаять в нашу сторону. — Как бы сбрасывая тяжесть дум, Теймураз привстал, подошел к внуку и вполголоса спросил: — Что ты знаешь, сынок, о стрельцах?
Внук понял смысл испытующе прозвучавшего вопроса деда, который хотел убить сразу двух зайцев — проверить осведомленность внука в делах дворцовых и самому узнать кое-что новое о ратных возможностях тех; на кого он возлагал столь большие надежды, хотя бы в будущем.
— Стрельцы, дедушка, — по-нашему это копьеметатели и лучники. Поначалу, при Рюриковичах, они и вправду были копьеметателями да лучниками, а при Романовых постепенно превратились в вооруженное пищалями и пушками постоянное войско, главную опору Московской Руси. Во второй половине минувшего века, во времена владычества последнего из Рюриковичей царя Федора Иоанновича, положение стрельцов упрочилось, а ныне они окончательно сложились в основное в государстве войско, объединенное в стрелецкие слободы. На первых порах в лучники набирали вольный безземельный люд, шатающийся по земле России без надзора. После уже служба при царском дворе стала их ремеслом, стрелецкое войско было разделено да расселено по разным слободам. Стрельцы московские выдвинулись особо. Помимо них, есть стрельцы и в других местах, повинуются они местным воеводам, которые содержат их, однако же, из царской казны. Селятся стрельцы в отведенных им местах, которые так и именуются — стрелецкие слободы. В слободах у каждого свой дом и подворье, где и живут они вместе со своими домочадцами. Стрелецкий указ ведает пограничными, таможенными, хозяйственными делами, соблюдает во всех поселениях царские порядки, стережет крепости и темницы. Бунты всякие подавляют тоже стрельцы.
— Что, разве и смуты у них случаются? — будто невзначай спросил Чолокашвили, а сам горделиво взглянул на Теймураза, мол, смотри, какие мы здесь осведомленные.
— Где царь, там, мой Георгий, сам бог велел смутам быть, — улыбнулся Теймураз Георгию, подзадорившему Ираклия, и с любовью глянул на внука, как бы давая ему знак продолжать. Юноша помял обоих и снова забасил, не обращая внимания на хитроумные ходы стариков.
— Главная забота московских стрельцов — охрана Кремля.
— У шаха Аббаса так же было заведено. Дворец и его окрестность стерегли денно и нощно. В самом дворце же все закоулки, галереи и лестницы, будь то первая или последняя ступенька, были усеяны сторожевыми. Таков закон всех царей, непреложный закон. Осмотрительность царскому двору никогда не помеха. Не осмотрительность, а недосмотр надобно порицать, — степенно подвел черту Теймураз, а Ираклий продолжил:
— Стрельцы, помимо того, выполняют в Кремле и всякую мужицкую работу, их домочадцев нанимают служанками, прачками, кормилицами родовитые бояре, те, которые приближены к государю, управители ведомств или указов, живущие по царской воле в самом Кремле… Стрельцам же поручается выдворять из Кремля нежелательных государю или заподозренных в чем-либо грешном вельмож. В мирное время они подчиняются стрелецкому ведомству, а в военное — полководцам. В воеводствах и на окраинах стрельцы повинуются воеводам. Одежда, как изволишь видеть, у всех одинаковая. Поделены они на приказы, а те, в свою очередь, делятся на сотни и десятины, конных и пеших. Во главе каждого такого деления назначается князь или дворянин, отвечающий перед государем и отечеством за обучение и снабжение стрельцов стенобитными орудиями, пищалями, ружьями, мечами, всяким другим оружием. Он же наделяет стрельцов землей, выдает плату серебром, пшеницей, овсом, сеном, квасом и медовухой.
— Небось без казнокрадства не обходится, — опять испытующе вставил Чолокашвили.
— Не без этого, — учтиво поддержал своего наставника Ираклий. — Однако же постоять за себя они умеют. Иным приказчикам здорово достается от стрельцов. О прежних царях ничего сказать не могу, а наш государь, как правило, стрельцам явно покровительствует, всячески старается привлечь их на свою сторону.
— Так они и возгордиться ведь могут. Впрочем, и своевольству тех приказчиков потакать неверно было бы. Если рассудить, так правда-матушка с посохом, а то и с дубиной схожа — о двух концах она, и оба больно бьют, — потер лоб привычным ему движением пальца Теймураз. — Мудрый муж промеж двух огней никогда не встанет… На один воды плеснет, а другой раздует — прибавит пламени тому из огней, который и его самого и отечество его лучше греет…
— Земли стрельцам выделяются в основном на окраинах, а то московитяне большей частью на всем готовом живут и в земельных угодьях надобности у них нет.
— Сколько ныне стрельцов у государя? — спросил Теймураз и снова провел пальцем по лбу.
— Будет эдак… тысяч сорок.
— Маловато, — заметил, задумавшись, Теймураз и глянул на Чолокашвили, который без слов понял царя. Ираклий же, словно бы огорченный замечанием деда, упреждающе стал пояснять:
— Случись битва, бояре выведут свои войска от каждого воеводства. А так, когда мир да покой, больше стрельцов и не надобно, трудно ведь содержать их да обучать, а людей и сил у них столько, что увеличить войско в сотню раз труда им не составит.
— Все ли из них одинаково имущие, равным ли состоянием владеют, или ж есть и избранные?
— В свободное от службы время многие московские стрельцы занимаются хозяйством, разводят коней и коров, свиней, кур да гусей, занимаются торговлей, ремеслом, умеют колеса хорошие делать, сноровисто управляют повозками, санями, есть среди них умелые кузнецы — куют оружие, лопаты, кольчуги, косы. Иные поднаторели в приготовлении кваса и торгуют им, иные выстругивают ковши, деревянные ложки, делают ларцы и тоже продают на базарах. Среди них есть и златокузнецы, портные, сапожных и седельных дел мастера, кожемяки и скорняки.
— Коль все это так, то в ратники они не будут годиться. Состояние наживут, жиром обрастут, пресытятся, а пресыщенный человек ленив для битвы, не сможет верой и правдой служить отечеству. Такие с легкостью могут запродать душу дьяволу. Обидь их кто, они скорее свое добро станут защищать, нежели царский трон, — сказал Теймураз, а внук ответил:
— Осмелился я однажды напрямик сказать государю, что, мол, чересчур раздобрел, балуешь стрельцов безмерно и, упаси бог, не тебя, так бояр твоих ослушаться посмеют.
— И что он молвил в ответ?
— Засмеялся да головой кивнул — верно, мол, говоришь, однако же силу разве что силой одолеешь. И без стрельцов нельзя, и притеснять их особо негоже. А о том, чтобы упразднить их да по-другому обустроить опору трону для смутных да для мирных времен, и сам подумываю, мол, нередко.
— Потому-то и сказал мне: укрепи царство свое, чтобы ежели не свою, так мою рать содержать смог. Эх, мать родная, мои-то воины, защитники отечества, хлебом да водой простой перебиваются.
— Не», дедушка, и так неладно.
— Кто же говорит, что ладно? А у стрельцов аппетит, видно, большой.
— На окраинах жизнь стрельцов близка к хлебопашеской, охотно пашут и сеют, но и в битвах они очень уж напористы, множество раз славой себя покрывали, крупные сраженья выигрывали.
— Нет, ратники они, по всему видно, отменные. Кулаки у них мощные, крепкие, здоровые богатыри, да и взгляд ясный, а по взгляду, свету очей человека сразу можно узнать, как стихи по хорошей рифме. Воина, однако, нельзя пресыщать, не то в бою у него, не ровен час, отрыжка начнется или желудок расстроится, — улыбнулся Теймураз, — иль другая напасть привяжется!
Юноша подивился несвойственной деду шутке и потому поспешил продолжить:
— Твоя правда, дедушка. Уже и ныне заметно, что стрельцы на состоятельных и бедных поделены. Бедные им, состоятельным, в руки прямо смотрят, едва ли не раболепствуют перед ними, за ковшик медовухи в услужение идут. А состоятельные то и дело принуждают их работать на себя до седьмого пота, а иногда и плетями потчуют. Больше того, отнимают жен, обращаются, как с дурачками, мальчишками на побегушках, гоняют на базар, шкуру дерут.
— Про смутьянов упомянул ты давеча, — вставил Чолокашвили, желая выложить перед царем все знания своего подопечного.
— Как раз незадолго до твоего прибытия случился медный бунт. О бунте том судить надобно осмотрительно, ибо причины одни были сказаны, а на деле они иные, как мне думается.
— Что это за медный бунт? — спросил Теймураз настороженно.
— Долгая история…
— Время у нас есть, божьей милостью. Я тебе еще там, дома, велел проведать все о царском дворе и вижу, не сидел ты сложа руки да смежив веки. Не только недруга, а и друга своего должны мы знать хорошо. Неизвестного доброжелателя и врагу не пожелаю.
Теймураз и Чолокашвили обратились в слух, и Ираклий начал рассказ:
— Задолго до моего приезда, в тысяча шестьсот пятьдесят третьем году, Польше была объявлена война за окраину, которая по сути такой же российский край, как, скажем, Имерети часть Грузин.
— А язык у них единый? — сдвинул брови Теймураз.
— Разница невелика, без толмача изъясняться они меж собой могут.
— Выходит, и народ единый, — подвел черту Теймураз и умолк.
— Так вот, Московскому двору большие деньги понадобились на ту войну. Стали собирать деньги.
Год спустя после начала затяжной войны приступили по повелению государя чеканить новые серебряные монеты — германские ефимки переплавили на русские ефимки, хотя германские ефимки принимались казной за пятьдесят русских ефимок. Тем самым доход казны сильно вырос. Тогда же вышло повеление государя переплавить десять тысяч пудов меди на мелкую монету — полтинники, полуполтинники, алтынники и гривенники, притом из фунта меди, красная цена которому на базаре была двенадцать копеек, выходило десять рубликов.
— Пол-тин-ник?… — растянул Теймураз.
— Это полрубля или десять пятаков, пятьдесят копеек, — пояснил Ираклий. — Полуполтинник — пять пятаков или двадцать пять копеек, гривенник — два пятака, десять копеек. Алтынник — три копейки, алтынниками и скупцов, скряг именуют.
— Вот когда казне прибыль была! — ввернул слово Георгий Чолокашвили.
— Прибылью той увлеклись многие из бояр и знати, а особенно первый визирь не знал предела. За рол, овитыми потянулись и те из черни, кто чеканил монету, вел счет ей. Грели руки кто как мог. А к недавнему времени, еще до вашего прибытия, медных денег за девять лет скопилось больше, нежели товара на рынках да базарах, потому-то в народе все больше закрадывалось сомнение касательно медных денег. К этому добавилось то, что казначейство стало изымать из обращения серебряную монету, тем самым медные деньги еще больше обесценивались, рыночные цены поднимались, те, кто раньше продавали свой товар и накопили медные деньги, чуть ли не полностью разорились. Хлеб и соль вздорожали небывало. А тут еще случились на беду недород и чума, окраинные и малороссийские стрельцы потерпели поражение, что повлекло утерю Гродно, Могилева, Вильны. Обнищал народ, надорвался. Зато царедворцы, всякая родня да церковная знать обогатились несказанно. Незадолго до твоего прибытия, перед самым бунтом, царский двор, которому не удавалось ничего приобретать на медные деньги, повелел продавать некоторые товары только казне. Над преступившими этот порядок, как и над теми, кто чеканил фальшивую монету, учинялась жесточайшая расправа. Тогда-то и началась смута в народе и среди стрельцов тоже.
— Какие это были товары, подлежащие обязательной продаже только казне? — спросил Теймураз.
— Пенька, поташ, или белое вещество, что получают из золы разных растений и применяют для мыловарения, говяжье сало, юфть — мягкая кожа, что на седла у нас идет. Сюда же, к этим товарам, отнесли и соболей, очень уж дорогой мех, и глаз ласкает, и тело греет.
— Мех для торговли с заморскими державами годится, много добра могли нажить на нем, а остальное, видно, для походов да ратных дел приобретали.
— Весь этот драгоценный и трудный для добычи товар должен был продаваться казне за медные деньги, а казна продавала его иноземцам за серебряные монеты. На земском соборе во всеуслышание было сказано, что первопричина разорения и всех бед страны в медных деньгах. Мольбам и прошениям простолюдинов конца не было. Государя умоляли избавить народ от медных денег и фальшивомонетчиков. Приказ тайных дел по велению государя стал хватать и пытать тех, кто самовольно чеканил монету. Расправлялись с ними жесточайшим образом — отрубали руки и ноги, заливали в рот расплавленное олово. Отчаявшийся народ распространил так называемые «воровские листы», в которых Милославские, Ртищевы, Хитровы, Башмановы и другие вельможи были объявлены изменниками царя, тайными польскими соглядатаями.
— Тут непременно и иноземцы были замешаны, — заметил Теймураз.
— Без этого не обошлось, наверно, — снова осмелился вставить слово Чолокашвили.
— Многие царедворцы и вправду оказались уличены в казнокрадстве, однако государь воздержался…
— Это не требует объяснений, сынок. Наказание вельмож связано со многими сложностями. Мне это понятно, — тяжело вздохнул Теймураз и опять провел указательным пальцем по лбу. Ираклий продолжал:
— Государь не оставил без наказания ни одного из воришек, а вот крупные казнокрады преподнесли дары тому же Милославскому и вышли сухими из воды. Бунтовщики сговорились меж собой, они не стали делить расхитителей на крупных и мелких. Первейшей их мишенью был Илья Данилович Милославский. Подготовленный в ночь с двадцать четвертого на двадцать пятое июля бунт был осуществлен двадцать пятого же голытьбой да частью стрельцов, среди которых были распространены слухи, будто бояре, изменники государя, выполняли волю польского двора. Шведские соглядатаи чрезвычайно заостряли внимание на голоде и бедах московитян, подстрекали к выступлениям против государя. Начался бунт на рассвете двадцать пятого июля — на Сретенке, Лубянке, подле вывешенных там обвинительных листов, стали собираться люди, и начали читать громко те листы. До того дело дошло, что капитан князь Кропоткин приказал своему ротному барабанщику бить в барабан, дабы заглушить людской гул. Одни двинулись к кремлевской площади — там собрались тысяч пять бунтовщиков, а другая часть толпы направилась в Коломенское, где пребывал царь со своим семейством, четырнадцатью домочадцами. По пути к толпе присоединилось еще множество смутьянов. В коломенском дворце бунтовщиков никто не ждал, там спешно готовились к дню ангела сестры государя Анны Михайловны. Государыню обслуживала едва ли не добрая сотня приближенных, не говоря уже о царской свите и сторожевых, которых было не меньше пятисот.
Несметная толпа смутьянов дерзко обступила коломенский дворец и забросала вышедших утихомирить их бояр прошениями, среди которых первейшей была просьба доложить об их приходе государю, только-только вышедшему из храма после утренней молитвы.
Государю доложили, и в окружении стражников-стрельцов, охранявших его, он вышел к пробравшейся во двор дворца толпе.
Двое мужиков — Лука Жидкий и нижегородец Михаил Жедринский — шапками подали государю челобитные и стали просить, чтобы он без промедления наказал изменников.
Государь неторопливо воздел десницу и громко, однако же степенно, спросил, кто такие будут изменники, что вы, мол, желаете и о какой измене речь ведете.
Толпа загалдела. Государь стал успокаивать толпу, строго упрекнув за невоздержанность.
Царское семейство и те, кого смутьяны требовали выдать на казнь, заперлись в своих покоях и от страха дара речи лишились.
— Ты-то где был? — приглушенно спросил Теймураз.
— Подле государя, — ответил Ираклий и продолжил: — Под конец государю и боярам удалось утихомирить толпу, посулив уменьшить подать. Государь обещал также найти и строго наказать вороватых бояр, однако же сказал, что содеет это без чьей-либо помощи, ибо только он сам вправе и казнить и миловать. В знак расположения и согласия государь возложил даже свою десницу на плечо одного из смутьянов, — крепкого да рослого молодца.
— А потом? — спросил тихим голосом Теймураз.
— А потом того же молодца вздернули на виселице перед коломенским дворцом.
— Этого уж делать не надобно было.
— Не так-то просто дело обстояло, дедушка. Покинув Коломенское, толпа вернулась в Москву, разбойно налетела на хоромы бояр и давай разорять все окрест, дворцы да все состояние Шорина, Задорина и других пеплом развеяли. На том, однако ж, не остановились — снова двинулись на Коломенское, грозились разнести в пух и прах царский дворец, куда к тому времени успели и стрельцов согнать несметно, они-то и встретили смутьянов.
— Да, нелегко обуздать разъяренную толпу.
— А что с медными деньгами? — спросил Чолокашвили, поощряя своего подопечного.
— Бунтовщиков истребили поголовно, однако же и медные деньги изъяли из обращения.
— Тяжела судьба монарха; царю — властвовать, подданному — покоряться, но как же быть, когда посредник меж ними криводушен да на руку нечист, — Теймураз вздохнул и принялся вышагивать по палате.
…Было за полдень. В палате по-прежнему слышалось лишь шарканье валенок Теймураза да веселое потрескивание огня. Ираклий умолк, поняв, что дедушка счел рассказ его законченным и теперь шагает взад-вперед, предавшись своим думам. Чолокашвили, тоже думая о чем-то своем, подошел к печи и начал подбрасывать дрова.
Теймураз вдруг остановился и прислушался к легкому шороху, доносящемуся из дверных щелей. Ираклий и Чолокашвили последовали его примеру, но тут же на их лицах отпечаталось спокойствие, посудилось, мол.
— Эти шорохи, дедушка, обычны для кремлевских палат да светлиц…
Не успел он досказать свою мысль, как дверь отворилась с легким скрипом и в палату пожаловал царь Алексей Михайлович, кивнул всем, мягкими шажками приблизился к Ираклию и уставился ему в глаза. Юноша не знал, что предпринять, куда отвести взгляд. Прошло изрядно времени, прежде чем царь опустил веки, костлявой рукой взял его за подбородок, потом похлопал отечески по плечу, улыбнулся благосклонно и присел к столу, дав Теймуразу знак занять место рядом.
Теймураз сел.
Ираклий встал подле государя Алексея Михайловича.
— Знаю, интересуют деда твоего радости и невзгоды моего государства, как и меня интересуют ваши владения. Однако передай ему, что никто лучше меня не поведает ему ни про государство мое, ни про медный бунт.
Ираклия словно подбросило, на лице Теймураза изобразилось изумление, у Чолокашвили глаза чуть ли не на лоб выкатились, когда они услышали о медном бунте из уст Алексея Михайловича, упустив из виду, что в разговоре употребляли русские слова, а во всех дворцах и стены слышат… Государь же, будто ничего и не случилось, продолжил степенно:
— Скажи деду своему, что завтра чуть свет тронемся на Коломенское, а оттуда желаю на волчью охоту с ним отправиться.
* * *
В Коломенское прибыли к рассвету. Здесь обоих государей с их свитами встретили с царскими почестями.
После легкого завтрака Алексей Михайлович повел гостей в особую палату, отведенную в нижнем этаже дворца для охотничьих ружей и снаряжения, Огромная палата была заполнена луками и стрелами, пиками и копьями, мечами, саблями, шпагами, кацавейками, шубами, седлами да сбруями, шлемами да щитами. Тут же лежали выделанные шкуры оленей, лосей, волков, медведей и всевозможных других зверей, чучела голов и цельные чучела крупных и мелких зверей. Все это изобилие предназначалось для подношений и даров гостям.
Алексей Михайлович произнес, обращаясь к Ираклию:
— Выберешь по четыре шубы из каждого, меха и преподнесешь деду своему, пусть с собой в Грузию возьмет. А выберешь после охоты, сейчас же с ним про охоту: надобно потолковать, — присел на покрытую шкурами деревянную кровать и Теймуразу дал знак садиться. Ираклий, Чолокашвили и пятеро из свиты, что вошли вместе с царем в палату, остались стоять.
— На этой самой кровати, — лукаво улыбнулся государь, — иной раз шалил я, когда силушка была да сердце повиновалось. Хорошая девица, гладкая, яко поросеночек — не только для царя, а и для простого смертного бальзам сущий, утешение душе и телу, иной раз получше затянувшейся обедни.
Потупив голову, Ираклий перевел сказанное Теймуразу, у которого обозначилась улыбка на лице, а один из придворных не сдержался, растянул рот до ушей.
— Иной ли раз? — лукаво переспросил Теймураз, Алексей Михайлович не ответил, лишь благосклонно улыбнулся и приступил к главному:
— Мы с дедом твоим выедем на одних санях, в которые впрягут четырех лошадей. Вся сбруя на них будет в коротких обоюдоострых пиках. Шубы с такими же пиками будут на мне, твоем деде и вознице, дабы волки на нас не вскочили, а коль уж вскочут, так на пики напорются. А ну-ка, Иван, — обратился к одному из прислужников, — принеси нам те шубы.
Тот мгновенно подскочил к стене, снял шубы с вправленными в них наконечниками пик, не уберегся и нечаянно поранил руку.
— Осторожней, болван! Не для тебя эти пики вправлены, а для волков.
Рослый слуга раскинул обе руки, и при свете лампад заблистали две шубы с вделанными в них кинжально заостренными наконечниками пик длиною в пядь и на таком же расстоянии друг от друга. Как видно, они прочно были вшиты в шубы раздвоенными концами, потому и торчали в меху, как иглы у ежа.
Алексей Михайлович продолжил:
— И шапки такие же будут на нас. На широкие сани положим эти стрелы, — указал на принесенные другим слугой колчаны, в которых было по полусотне стрел. — И еще про запас прихватим. По два тех лука возьмем, по одному в руках держать будем, а два наготове будут в санях… — Государь платком вытер выступивший на лбу пот. — К саням привяжем за передние ноги поросят. На их визг устремится волчья стая, а мы — ты да я — волков не только к себе, но и к поросятам не должны подпускать, так перебьем всех.
Теймураз проникся интересом к охоте на волков, требовавшей смелости, быстроты, ловкости и выносливости, понял всю ее привлекательность, и даже взгрустнул в душе — где, мол, мои молодые годы, а вслух поблагодарил государя за приглашение на столь интересное состязание.
— Ираклий, сын мой, — повернулся Алексей Михайлович к Ираклию, — поясни деду, что свита с нами будет, поодаль, волки к ней не поворотят, но люди наши будут от нас недалече, пока не выпустим дух из последнего зверя. Приконченных мной серых Иван подберет да посчитает, а за дедовыми сам присмотри со своими молодцами. Чолокаев здесь останется, во дворце. Тут много девиц без присмотра, — подморгнул он Чолокашвили, — а нам пора за дело приниматься.
Сказал и первым облачился в ощетиненную пиками шубу, покрыл голову такой же ощетиненной шапкой, потом сноровисто приладил на боку запасной лук, другой взял в руки и, поглядев на так же без посторонней помощи облачившегося в охотничьи доспехи Теймураза, перекрестился и вышел вместе с ним из палаты. Остальные пошли следом.
Великолепное зрелище открылось Теймуразу во дворе: четыре разряженных бубенчиками породистых жеребца были впряжены в устланные медвежьими шкурами сани с такими же бубенчиками. Закутанный во встопорщенную пиками шубу возница с усердием натягивал рукавицы и в то же время сдерживал готовых сорваться с места коней.
Два лоснящихся поросенка, привязанных к саням, замерли, уткнувшись друг в друга мордочками. Они были поставлены на сплетенные березовые ветки, тоже привязанные ремешками к саням. Теймуразу сразу же стало ясно, что «взнузданные» таким образом поросята останутся целы и невредимы при движении саней и устать не устанут, скользя по снегу на своих салазках. Чуть ли не целое войско слуг уже было готово оседлать коней и ожидало, пока государь со своим дорогим гостем усядутся в сани. В стороне скулили своры борзых, чуявших близкую охоту.
Русский мороз пощипывал лицо Теймуразу, но, как и Ираклий, он не обращал внимания на холод, лишь время от времени прятал нос в поднятый ворот шубы.
Укрывший все кругом снег приглушал людской гомон, скрадывал скулеж собак.
Из лошадиных ноздрей, будто из кузнечных мехов, волнами выкатывался густой пар.
Под низкими сводами портика коломенской церкви придворный священник осенил крестом государя и его гостя. Взбудоражённо носились над куполами храма голуби. Над высоченными соснами во дворцовом саду кружили старые вороны, редкое карканье которых словно повисало в застывшем синеватом морозном воздухе.
Домочадцы прильнули к льдистым окнам, пялясь скорее сплющенными от оконных стекол носами, нежели глазами.
Алексей Михайлович степенно приблизился к саням, изловчась, удобно устроился спиной к вознице, слуги подали ему колчан со стрелами. Как только Теймураз подсел к хозяину, ему тоже поднесли стрелы.
Государь едва слышно свистнул.
Сани сорвались с места, и поросята завизжали дружно, изо всей мочи.
Свита в некотором отдалении последовала за царскими санями, вырвавшимися из ворот и вихрем понесшимися по необозримой степи.
Царские сани мало-помалу отдалялись от свиты, а вскоре они подлетели к дремучему лесу, надвое рассеченному просекой. Четыре породистых жеребца, будто на крыльях, несли Алексея Михайловича и Теймураза к взметнувшимся к небу соснам, которые верхушками своими словно изъяснялись с самим богом.
В лесу визг поросят раздался еще громче и дружней. На опушке свита, за которой следовали двое пустых саней, придержала коней, царские сани были первой приманкой зверю.
И тут, едва сани влетели в лес, на просеке показался волк, бросившийся с вытянутой шеей и оскаленными зубами к добыче. Следом за вожаком выскочила и вся стая хищников, было их не меньше двадцати. Алексей Михайлович заглянул в глаза Теймуразу и, увидев на лице его добрую улыбку, тоже улыбнулся и слегка кивнул головой — начинай, мол.
Волчья стая понемногу нагоняла сани, возница еще больше припустил коней, чтобы загнать хищников, утомить.
Вожак мчался во весь дух, оставляя стаю позади. Как только хищник шагов на десять приблизился к поросятам, Алексей Михайлович локтем коснулся локтя Теймураза, напоминая ему о праве гостя пустить первую стрелу. Теймураз не заставил себя ждать, снял рукавицу с правой руки, вынул из колчана стрелу, приладил ее и натянул тетиву… Стрела просвистела мимо цели, и только было зверь оскалил зубы, как выпущенная Алексеем Михайловичем стрела вмиг сразила хищника.
Стая неслась в десяти шагах от саней. Теймураз молниеносно выхватил вторую стрелу и, почти не целясь, подбил одного оторвавшегося от стаи волка. Но Алексей Михайлович не захотел отстать от гостя, а потому он, не пожелав дожидаться приближения волков, выпустил стрелу в третьего. Гость и хозяин не уступали друг другу, метко стреляли поочередно. Теймураз был по-юношески увлечен — первая неудача воспламенила старца, с молодеческой пылкостью хватал он стрелы и, не дожидаясь порой своего череда, пронзал вырвавшихся вперед хищников. Алексей Михайлович почувствовал, сколь сильно обуяла гостя охотничья страсть, опустил лук, предоставив Теймуразу возможность расправиться с волчьей стаей.
Тем временем показалась и свита, следом за ними мчавшаяся по просеке, подбирая убитых волков и швыряя их на сани, будто снопы.
Иван, тот самый рослый молодец, что утром снимал со стены охотничьи шубы, воткнул в раненного стрелой хищника копье и ловко перегнулся с седла, чтобы забросить волчий труп в сани. Но тут подоспевшая волчиха с ходу вскочила ему на спину, свалив с коня. К сброшенному наземь всаднику рванулись два отставших от стаи волка и кинулись на его не защищенный копьями тулуп. В ту же секунду рядом с Иваном возник Ираклий с обнаженной саблей и в Мгновение ока обезглавил хищников, потом соскочил с коня, вскинул на спину обмякшего Ивана и понес его ко вторым саням, снаряженным именно для таких случаев. Все это произошло столь быстро, что ошеломленный Теймураз, готовый ринуться на помощь внуку, едва не свалился с мчавшихся саней. Алексей Михайлович успел удержать его за ворот шубы, покачал головой и нахмурился — так, мол, нельзя. «Много ты, почтеннейший, понимаешь, — промелькнуло в голове Теймураза. — Что мне моя жизнь, коль единственный мой наследник, плоть от плоти моей, погибнет в дебрях твоего бескрайнего Леса!» Увидев, однако, как ловко управился Ираклий с хищниками, Теймураз самодовольно глянул на российского государя и огласил чащу грузинской речью, крикнув Ираклию:
— Надежда ты моя и радость! Прадеда твоего Александра плоть достойная!
«Благодарит меня за то, что удержал в санях!» — подумал Алексей Михайлович и ответно склонил голову перед гостем, а тот, поняв его, с приятным чувством подивился добросердечию российского владыки.
Тем временем единственная оставшаяся в живых волчица достигла-таки поросенка. Едва она вцепилась в него зубами, как в тот же миг две стрелы вонзились зверю в лопатки, и сани поволокли ее, уже мертвую, но не выпустившую поросенка.
Цари сочли охоту законченной, но, когда по воле возницы сани поубавили бег, их догнали три волчонка, трусившие за трупом матери. Алексей Михайлович взял стрелу и собирался было выпустить ее в волчат, однако Теймураз помешал государю, и сорвавшаяся с тетивы стрела исчезла в верхушках сосен. В то же мгновение Теймураз ловко спрыгнул с саней. Старый Багратиони по-юношески легко зашагал к остановившимся и выжидательно замершим волчатам, изловчился и единым махом поднял всех трех на руки.
— Что, малютки, родительницу вашу уложили безбожники? Один господь ведает, кто из нас больше зверь на этом свете, вы или мы, люди. Что нам от вас надобно было, за что так нещадно расправились с вами? Неужто тесен нам этот мир! Знаем, что голодно-вам, вот и пользуемся этим, чтобы истребить вас. Погоди, малыш, не кусайся! Родительницу вашу теперь уже не оживишь, а сиротами вас я не брошу в этом то ли добром, то ли безжалостном мире.
Меж тем подошел Алексей Михайлович, подъехала и свита, Теймураз обратился к Ираклию:
— Передай государю просьбу мою: пусть эти три волчонка перезимуют при дворе, а по весне пусть отпустят их, дабы и с пленом не свыклись и в дебрях не погибли без родительницы, как погибли три моих сына.
Алексей Михайлович тут же повелел придворным из свиты, чтобы те выполнили просьбу гостя. «Не говоря уж о просьбе гостя, зверь не переведется в наших лесах, — по-своему понял он Теймураза, но сразу же, поправился: — Мать их умертвили, вот и должны присмотреть за сиротами, как изволил сказать царь-стихотворец».
Над лесом сгущались сумерки — рано опускается ночная мгла на российскую землю, особенно зимой.
Теймураз окинул Ираклия по-дедовски ласковым взором, но не преминул бросить и царственный укор:
— Ты должен быть осторожнее, сын мой. Ты единственная моя надежда и единственный наследник грузинского престола.
— Да, но ведь не мог я отдать того молодца волкам на растерзание, дедушка! — пылко ответствовал юноша. — Я был ближе всех. Пока другие подоспели бы, волки могли ему горло перегрызть.
— Таких молодцов много, а ты один.
— Молодец есть молодец, дедушка. И его тоже мать породила, и меня. От тебя же доводилось слышать: раденье о народе возвышает царя.
— Закон царей строг, он требует от нас много. И бережливости к себе тоже, ибо страна без государя, что воин без головы.
— А ты бы как поступил, будь на моем месте? — спросил внук со смиренной учтивостью, но все же с лукавой улыбкой.
Теймураз помедлил, смахнул росинку пота со лба и с улыбкой же ответил:
— Твоя правда… и я бы точно так поступил, ибо мы, Багратиони, поводыри народа нашего малого. Мы ближе к народу и в невзгоды и в радости, ибо у нас расстояние меж невзгодами и радостями очень уж краткое.
— Так в чем же ты меня упрекаешь, дедушка?
— Не дедушкин то упрек, а царя, сын мой, царя маленькой страны, которая влачит дни свои с почти перебитым хребтом.
Сказал внуку Теймураз и понуря голову направился к саням, где назвничь лежал богатырь-молодец Иван. Подойдя к нему, он снял с чуть улыбающегося юноши тулуп, искушенным оком осмотрел рваные следы волчьих клыков, откинул полы своей шубы и из притороченного к поясу чохи телячьего рожка, с которым никогда не расставался, взял на указательный палец какое-то вязкое снадобье и смазал увечья, потом, аккуратно укрывая юношу, ободряюще улыбнулся богатырю, у которого глаза были исполнены благодарности.
Алексей-государь по-доброму взглянул на царя Теймураза…
* * *
Снегопад саваном укрыл Коломенский дворец.
Взметнувшиеся окрест сосны, казалось, протяжно гудели — тихо, едва слышно, в самых верхушках.
Не успев оторваться от труб, дым мгновенно поглощался снежной пеленой. Русская печь все же брала свое, осеняя млечным сияньем всю округу, будто на вечные времена погруженную в безграничную тишь. Долга и нескончаема зимой русская ночь, как долги и нескончаемы реки, степи да дремучие леса Руси.
Теймураз в сопровождении Ираклия навестил богатыря Ивана, заботливо осмотрел его раны, снова смазал их, да снадобья из заветного рожка уделил так, чтоб хватило три, а то и четыре раза смазать раны. «Ираклий мой вызволил тебя, а я врачевать вызвался. Это лекарство быстро вылечит твои раны, боль как рукой снимет», — утешил он молодца на прощание.
Потом к волчатам в подвал спустился. Увидев их на сене, а рядом большую миску с молоком и хлебом, остался доволен и, не задерживаясь, поднялся наверх.
— Что-то не узнаю тебя, дедушка. Отец часто говаривал, что ты у нас тверд и непреклонен, а ты, вижу, мягкосердечным стал.
— Годы смягчают сердце, сын мой. То, мимо чего в отрочестве человек проходит равнодушно, в юности легко подмечает зорким оком и сердцем, в старости же не только подмечает, айв душу впускает все сущее. Три те волчонка растревожили меня, троих витязей моих напомнили то ли троицей своей, то ли безнадзорностью да сиротством.
— Дядюшка Леван и дядюшка Александр — понятно, они пали вдали от родины, и никого, кроме бабушки, не было рядом с ними, а отец мой погиб ведь на родной земле, в битве.
— И с отцом твоим не было меня рядом, и он, лишенный моего присмотра, покинул этот бренный мир.
Не говоря больше друг другу ни слова, дед с внуком неторопливо зашагали в сопровождении стрельцов по лабиринту едва освещенных галерей и переходов дворца.
Вернувшись в отведенные им покои, они узнали от Чолокашвили, что российский государь приглашает их на ужин.
За ужином Алексей Михайлович поведал царице Марии про охотничью сноровистость Теймураза, умолчав, однако, о неудачно выпущенной первой стреле. Fie думал, не гадал, мол, что таю ловко да изворотисто сможет бить зверя не приученный к волчьей охоте царь. Гости, а было их десятка два, затаив дыхание внимали государю. Воздав должное охотничьей страсти и сноровке Теймураза, царь Алексей доверительно обратился к Ираклию:
— Спроси-ка, царевич, что за причина была тому, что с волками расправлялся он нещадно, а трех волчат поначалу избавил от моей стрелы, потом уж и на руки поднял? Как умещает сей почтенный в своем малом сердце… — замолчав, государь задумался, видно, не понравились ему свои же последние слова, и он тут же поспешил поправиться: — В таком же малом сердце, какое ниспослано богом каждому из нас, ибо сердце не больше ведь кулаков наших… Так вот, как удается ему умещать в то малое сердце и широкую, очень уж широкую свою душу два таких огромных чувства, — великую жестокость и великое сострадание?
Ираклий перевел деду слова государя и с интересом стал ждать ответа, поскольку и сам думал о том же, наблюдая за дедом в лесу; он был поражен не только тем, что тот, обуянный страстью истребления, спас волчат, а и тем, что укорял его за помощь Ивану, а сам проявил к нему такое сочувствие.
Теймураз помедлил, привычно коснулся лба пальцами и начал свой ответ:
— Часто случалось мне быть на поле брани, лицом к лицу со сворой безбожников. Не магометан разумею под безбожниками, ибо ислам — вера как вера и верой пребудет, а тех, кто ее поганит, — шахиншахов, что человека в человеке не видят и в зверя обращают жестокостью своей и злобой. Щадить же тех озверевших существ ни сердце, ни душа и ни вера не велят. Не убей их, они убьют и тебя, и ближних твоих. В той волчьей стае узрел я вражью свору, потому и расправлялся, не ведая пощады, хотя разве можно уподобить голодного зверя пресыщенному злобой ворогу… А те три волчонка, говорил тебе уже, напомнили мне вдруг троих моих сыновей, в беде лишенных моего призора и подмоги, потому и преисполнилась душа моя жалостью.
Воистину душа стихотворца у дедушки твоего. Человечная его мудрость и меня многому научила ныне. Мудр тот именно, кому ниспослано сердце и для вражды, и для дружества, и для владычества, — проговорил российский государь тихо,· почти шепча, будто бы размышлял наедине сам с собой.
Завершив трапезу, царь Алексей, Теймураз и Ираклий уединились в государевых покоях. Одно время сидели молча, будто оберегая царственную тишину, каждому думалось о своем. Теймураз уловил чутьем волю государя — здесь, в уединении, сказать то последнее главенствующее слово, ради которого он явился ко двору российского владыки.
Царь Алексей слегка кашлянул и обратился к Ираклию:
— Сын мой Ираклий, прародитель твой и без меня смекает, что не для охоты пригласил я его сюда. В силу обстоятельств я по сей час не открывал ему своих дум ни там, в московском Кремле, ни здесь… Присутствие прочих мешало мне быть до конца откровенным. Это мое правило тебе известно. В Кремле и стены уши имеют, а государю не пристало посвящать всех и вся в свои думы.
Царь говорил медленно, не торопясь, чтобы Ираклий успевал переводить.
— Скажу тебе то главнейшее, что пуще всего томит и заботит твоего прародителя, пусть услышит он повесть о роде да царстве нашем. Вижу надобность и пользу в том.
И стал он сказывать о роде Романовых, который был едва ли не ровесником самому Теймуразу.
— В году тысяча пятьсот девяносто восьмом преставился последний в роду Рюриковичей царь Феодор Иоаннович. За год до того в Угличе умертвили малолетнего брата его Димитрия. Осиротел царский венец. Не преминул воспользоваться этим шурин усопшего царя боярин Борис Годунов, выходец из татар, и, считай, силой завладел короной. Был он мужем многомудрым и искушенным, а посему воцарился на Руси мир да покой. По прошествии, однако же, некоторых годов стали выказывать недовольство им. То в обычае родовитых да именитых, что и во сне с вожделением зрят на себе корону, а потому сеют в людских душах смуту противу царя. Так и случись тогда. А причин тому отыскалось множество. Перво-наперво, царедворцы не желали мириться с тем, что некий татарин правит страной, не считаясь с их волей и желаниями, потакать которым обещал поначалу. Прокатилось недовольство и среди землепашцев. Мало того, что он обложил их новыми податями, которые во все времена гневили и чернь, и знать, да к тому ж в угоду — боярам и помещикам еще больше закрепостил поддавшихся смуте.
— Всадник на двух конях далеко не ускачет, — вставил Теймураз, на что царь Алексей ничего не ответил и продолжил:
— В довершение тому случись в тысяча шестьсот втором да четвертом недород, а где недород, там и голод.
— То, должно быть, самый тяжкий час на государевом пути, — предположил Теймураз.
— «Должно быть»? Неужто голод не ведом вам?
— Земля наша так тучна и злачна, а народ числом так мал да тесно дружен, что и на лесном пропитании продержится и не даст сморить себя голоду, — вспомнил вдруг Теймураз слова Гио-бичи.
— У нас же народу велико множество, а природа очень уж суровая. Половину времени в году и не помышляй добыть в наших степях да дебрях пропитание, разве что дров добудешь. В те два года в Москве перемерло душ, считай, тысяч двести… Смутной той порой бояре не без помощи польских панов, у которых были свои причины ослабить Московский двор, ибо никогда не устраивало их усиление Руси, пустили слух, будто малолетнего брата усопшего царя никто и не умерщвлял, будто жив он и именно ему надлежит сидеть на престоле российского царя, а в Угличе, мол, убит был иной отрок. Вскоре и вправду во главе взбунтовавшегося люда объявился Лжедимитрий. Годунов пал, и государем стал новоявленный Димитрий, который тоже не оправдал надежды бояр, ибо вдруг занял сторону черни, издав указы в ее пользу. Новый заговор бояр в году тысяча шестьсот шестом стоил жизни Лжедимитрию, а венец достался князю Василию Шуйскому, порешившему верой и правдой служить возведшим его на трон боярам, но оказалось то выше ниспосланных ему богом сил.
— Промеж двух огней угодил…
— Именно. Упомянутые тобой те два огня немеркнуще пылают на земле не токмо российского, а и прочего другого царства, и цели достигнет лишь тот, кто ухитрится в равной мере греться у обоих огней, хоть было то и на все времена останется непомерно тяжким трудом… Страна, однако, не утихомирилась. Чернь раздула костры по всей нашей Руси, а в южных окраинах горячи были они особенно. Чернь же и породила другого Лжедимитрия, который подступил к Москве и расположился в Тушино, почему и прозвали его тушинским вором. Часть недовольных бояр переметнулась в Тушино. Был среди них и Федор Никитич Романов, прародитель мой. Ему-то новоявленный Димитрий, воистину вор, однако ж рода нашего невольный благодетель, пожаловал сан патриарха всея Руси за прозорливость, степенность, да отменное велеречие. Тем временем в городах один за другим вспыхивали бунты. От рук черни гибли бояре, купцы, которым грозило поголовное истребление. Нельзя было и помыслить остановить разъяренные толпы, покуда Русь находилась под двоевластием. Потому именно бояре вновь сговорились, собрались в кулак, умертвили Шуйского, а Лжедимитрия с помощью польской рати изгнали из Тушино. Тогда польские паны попытались воспользоваться смутой и посадить на Российский престол своего царевича Владислава. Но не тут-то было — непреклонный русский дух превратил эти притязания в несбыточную мечту. Земский собор, на котором бушевали страсти до предела, постановил возвести на престол шестнадцатилетнего сына тушинского патриарха Михаила Феодоровича Романова, родителя моего. Случиться тому довелось в году тысяча шестьсот тринадцатом.
— К нему мы и обратили взоры, тая надежду, что поможет он нашей стране уберечься от шахиншахов.
— Ну какая же защита от непросвещенного отрока, коль он, едва ли не за подол матушкин держась, наобум вступил на престол разоренной, взбудораженной да голодной страны… Родитель мой клятву дал боярам, что будет мыслить с ними сообща, и остался верен ей до последнего дыхания. Родителем моим и началась династия Романовых. Ныне судьба ее зависит от нашей прозорливости, предосторожности да и от смелости. Одному творцу известно, доколь будем шествовать по сей раскаленной двумя огнями тверди, мне ж доподлинно известно то, что многотруден и тернист путь наш, Романовых, да и роскошь сама, которая слепит глаза недругам, с горечью перемешана.
Родитель мой, приученный лишь молиться да слезы лить, жил со своей матушкой в Ипатьевском монастыре, ближе к Костроме. В году тысяча шестьсот тринадцатом, марта — помнится из рассказов моей бабушки — тринадцатого дня, подкатила к монастырю делегация Земского собора и вручила отроку Михаилу грамоту о возведении на престол царя Руси, Отрок поначалу заупрямился, отрекся от престола, однако же после долгих раздумий и по совету матушки дал согласие. В те времена родитель мой читал с трудом, писать же еще не обучен был. Потому-то править государством было для него непосильным трудом. Бояре отменно ведали о том. Им, поднаторевшим в казнокрадстве да прочих грехах, он был на руку, ибо не смог бы стать помехой.
— Начало царского вашего рода почти совпадает с началом моего царствования, тяжкие для вас дни чем-то напоминают черные дни моей страны, хотя основа сути у этих двух мучений разные.
— Всякие царские дворы схожи думами об изменах и двоедушии, коль царь в силе; коварством, фарисейством, развратом да усладами — когда царь глуп… Так и начались муки Романовых во имя да на благо Руси. Опорой моей и, наверное, потомков моих будто бы должны быть бояре, которым ниспослано быть посредниками меж династией Романовых и народом. Еще с воцарения родителя моего на престол бояре оговаривали себе особые привилегии, потребовав денег из казны, — мы, мол, понесли большие убытки, усмиряя народ. Каждый тянул к себе — чем ближе был ко двору, тем волей-неволей стремился и урвать больше. Утратилось чувство умеренности, возбудились волчьи аппетиты… На охоте под каждой волчьей пастью видится мне живой боярин, и чем ненасытнее тянется он к казне ли, к привилегиям ли, тем безжалостнее истребляю загаданных на них волков. Но вот горе-то — волков на Руси столь же несметно, сколь несметно и дармоедов. У родителя моего они не просили, а, считай, угрожали, что в случае отказа выведут на дороги страны своих людей и начнут грабить купцов, казначеев либо духовенство. Разбой на дорогах в те времена был в порядке вещей. И родитель мой и управители его вынуждены были считаться с их требованиями, однако опустошенная казна принудила их расквитаться с потерпевшими боярами земельными наделами да тяглыми людишками. Созрел и плод сего: подневольность крестьян, о коих в смутные годы никто и не помнил, заново восстановлена была да узаконена как основа государства. Быстротечное время дало созреть и иному плоду — в противовес крестьянским бунтам обрисовался злобный лик жестокой и черствой знати, дабы… сын мой Ираклий, напомни имя придворного стихотворца вашего, ясновидящего мудреца, о коем ты мне говаривал…
— Шота Руставели, Руставский, — не замедлил с ответом Ираклий.
— … Дабы, как изрек мудрец ваш Руставский, страх порождает любовь. В том-то и сила мудрости, что она одинаково гожа для всяких государств или народов… Строгостью да жестокостью бояре породили страх в народе. Плодом же того страха была смиренность простолюдин, без коей не бывать миру да покою в государстве. Коль народ одолеет сей страх, коль знать даст волю черни, снова настанут смутные времена, и вместо тыщи охочих до богатства бояр накинется на государя и трон бесчисленная изморенная чернь, противу коей не устоит ни единый царь. Потому-то светлой памяти батюшка мой и не пытался накинуть узду на бояр, ибо ведал, что без помощи бояр да свиста их кнутов не управиться ему со страной. Народ почитал его, воздавал хвалу, бояр же страшился и люто ненавидел. Управители царского двора не уступали боярам, изводили народ. Если припомнить и то, что балтийские цари да великие князья старались ослабить Русь, урезать себе от российского пирога, легко понять, что родитель мой не мог ублажить многие ваши желания и протянуть дружескую длань, ибо сам пребывал в затруднении, в коем и я пребываю ныне. Во времена светлой памяти родителя моего почти дотла сгорело множество городов, да и град наш престольный Москва был наполовину разрушен. Надобно было вдохнуть силу в казну, дабы оградить государство и от доморощенных недругов и от чужаков, а особенно от разохотившихся до чужого добра шведского и польского монархов, разорявших окраину и Малороссию. Батюшке моему ничего не оставалось делать, как вводить повинность за повинностью, налог за налогом, на что отощавший да измученный народ отвечал неутихавшими бунтами. Выходит, не меж двух, а меж трех огней жарился батюшка мой и в году тысяча шестьсот сорок пятом испепелился вконец. Тогда-то и возвели на престол меня, второго представителя Романовых, — царь тяжко вздохнул и коснулся пальцем чела, как это делал Теймураз. — Не могу ведать, что станут говорить потомки о царствовании Романовых и сколь продлится наша управа, не ведаю, что скажут о батюшке моем да обо мне, одно знаю — счастье да удача не были написаны на роду ни его царствованию, ни моему. Вот ныне, сынок Ираклий, дедушка твой пожалел Ивана, снадобье на увечья наложил. Глядел я, и зависть меня добрая брала, что ужасными муками пытанный да истомленный царь сберег в себе душу человеческую. Меня же столько дум и забот одолевает, со столь великим злом доводится ратоборствовать, что окаменело сердце мое. В каждом боярине, даже в самом святом, видится мне вор и грабитель, готовый в любое удобное мгновение кровушку мне пустить, ежели узрит он в том выгоду для себя хотя бы ничтожную.
— Ираклий, сынок, уведоми государя, что по душе мне мудрые слова его о схожести наших судеб. Разница в числе подданных, и только. — Теймураз призадумался, провел пальцем по челу и коротко добавил: — Да еще… в тверди земной, в нещадности здешней зимы.
Выслушав Ираклия, государь не стал медлить с ответом:
— Царю Теймуразу не доводилось видеть российскую весну, а равно и лето, да поля наши в цвету, леса благоухающие… Ждущему поддержки да подмоги доброжелателю, может, и не пристало мне говорить о тяготах моей страны, однако же как раз привольем и величьем нашими приучен говорить я истину, ибо сама твердь российская суть божественная истина. Справедливость творить тяжело, ибо палка творящего ее о двух концах, знать да говорить истину — то первейший дух наш русский. И ежели когда русский человек утаит правду, а то и солжет, ведай, что не по доброй воле, а по принуждению содеял он сие, ибо ложь ему не в радость и не в потребу.
Разнузданность шведского да польского царей вынудила меня искать пути к пополнению казны для ратоборства с ними. По совету Морозова, Плещеева, Траханётова и прочих моих приближенных, мелкие пошлины заменил я единой да назвал ее соляной, рассудив, что без соли ни один человек негож, всяк ее в пищу употребляет, покупает да продает. Так вот, на каждую меру соли учредил такую-то пошлину. Полагал я тем самым и множество мелких пошлин снять, и казну набить, дабы внутри государства дела уладить да супостатов встретить подобающе. Дело же по-иному обернулось.
— Да, человек предполагает, а бог располагает, — не удержался Теймураз.
— Прежние пошлины я-то заменил, однако же бояре и близкие мне люди, будто с цепи сорвались, поотбирали все у люда в счет неуплаченных за три прежних года налогов. А тут еще соль вздорожала небывало. До того дошло, что на Волге да на прочих реках рыбари, коим несть числа на Руси, разоряться начали, ибо без соли улов на зиму не сбережешь. А ведь рыба у нас добрую службу служит в пропитании русского человека. Вышло так, что ни речную да озерную, ни лесную добычу нечем было солить и вялить, пропадали и драгоценные меха без соли… Вконец озлобился люд, когда иные стали помирать от непросоленной рыбы… Торговля совсем было прекратилась… — Царь расстегнул ворот сюртука, передохнул и продолжил: — Тогда-то и случись соляной бунт. Первого дня июня, когда возвращался я в Москву из Троице-Сергиевской лавры, обступила меня толпа московской черни, жалуясь, что грабят их бояре и знать. Стражники попытались разогнать толпу, да не тут-то было — взбунтовались черные люди. Ничего не оставалось мне, как укрыться в Кремле. Ведал я, что правда на стороне черни, однако, накажи я знать, расшатал бы опоры под тропом своим. Наутро и стрельцы присоединились к черни. Ворвались смутьяны в Кремль и потребовали выдать им Плещеева, ведавшего Приказом тайных дел. Требовали также Морозова и Траханётова, однако им велел я укрыться от глаз смутьянов, а Плещеевым вынужден был пожертвовать, другого выхода не было, к тому ж, воров преследуя, сам он был вором великим, как то часто случается. Вывели сего законника да забили до смерти камнями и палками, хоромы же прочих разорили, целиком спалили Китай-город да Белый град, где проживала придворная знать. Пятого дня перепуганный Траханётов попытался бежать из Москвы, однако схватили его и отсекли главу.
— Осмелюсь спросить, великий государь, что, в том возмездии, кажется, и ваша карающая длань замешана? — смиренно спросил Ираклий, которому в свое время царь Алексей сам поведал втайне, как подкинул он справедливо взъярившейся толпе еще одного вора и пройдоху, чтобы мучительная смерть его послужила уроком боярам.
— Да, — с улыбкой подтвердил царь, — не обошлось и без этого, ибо в открытую противостоять ворам не всегда может и государь. За Морозова тоже не стал я убиваться, напротив, возрадовался, что избавлюсь и от сего дошлого вора — о, как гнусны и трусливы возгордившиеся спесивцы, коль дело коснется их жизни и смерти! Когда облачили его в монашескую рясу и повелел я верным стражникам водворить его в Белозерский монастырь для пострижения в монахи, чтоб жизнь ему сохранить, пал он предо мной на колени и ноги стал лобызать, а дней за десять, когда, едва ль не преследуемый смутьянами, вошел я в палаты и накинулся на него — до каких, мол, пор будешь народ грабить, так он волком глянул и бросил нагло: «Неужто забыл ты клятву, данную твоим батюшкой на вечные времена, что вместе с нами будет править Русью род Романовых?» А июня двенадцатого дня с трудом отнял его от ног своих — все б верности клялся, без тебя, мол, и жизнь не мила... В мутной воде всяк горазд рыбку выловить. Вот и мелкие князья да дворяне, кои не успели себя запятнать, пожелали возвыситься на ступеньку-две в иерархии. Потребовали они, чтоб созвал я Земский собор, наделил их землей, жалованье положил, продлил срок поимки беглых людей и в прочем уступил. К московским бунтовщикам примкнули новгородцы и псковитяне, потому вынужден был я уступить кое в чем, упразднить соляной указ, продлить срок отдачи долгов, однако же и кнутом поугощал, не то одни пряники не дали бы пользы и до добра бы не довели. Стрельцам положил двойное жалованье деньгами и хлебом, одних приголубил, иных — вожаков бунта — перепоручил вновь созданному Приказу тайных дел, дабы поучить уму-разуму.
— О возвращении Морозова не поведаете родителю моему? — спросил Ираклий.
— Поведаю, а ты переложи. Морозова вернул я три месяца спустя, ибо был он натурой сильной, неуемным да волевым человеком, царствие ему небесное. Все одно в монастырской келье не удержать его было. Сбежал бы да натворил дел тяжких, потому и предпочел я держать пса злого на привязи у трона, ибо спущенным он когда кого разорвет, бог весть.
Дошло и до того, что псковитяне прислали гонцов — в управлении страной, мол, и чернь должна участвовать. На это я твердо ответствовал, что ни прежде — при наших предках, ни ныне — при моем царствовании, ни впредь — при царствовании потомков моих чернь не была, не есть и не будет ровней знати. Ответствовал я так и послал в Псков стрельцов под началом князя Хованского. Приблизясь к Пскову, князь отправил к смутьянам дворянина Бестужева, тот предложил псковитянам покориться, однако же был убит ими. За те несколько дней, что длилась осада, псковитян одолел раздор. Крепость, как заведено, изнутри рушится, ибо трудно людям делиться добычей, она-то, добыча, и сеет смуту в душах человеческих. Поразмыслил я да предпочел благоразумьем смирить бунтовщиков, а не силой истребить, пообещал помиловать всех, вот и покорился Псков.
— Тяжка и твоя ноша царская, высокочтимый хозяин мой! — вздохнул Теймураз.
— Была, есть и пребудет тяжкой, ибо пестр мир наш, многолик и многосущ человек, сын Адама. Править Русью суть тяжкое ярмо фамилии царствующей, и хочу заветно молвить пред тобой и твоим потомком, что страна моя тогда будет неодолима, когда на романовский престол взойдет муж великой прозорливости и мудрости, стойкий, яко кремень, беспощадный, закаленный в извечном ратоборстве жизни и смерти, и держать он должен в одной длани черпак с медом, а в другой, нет, не плеть иль кнут, — палицу, палицу! и не для устрашения, а для битвы и крови! Всякое сострадание, жалость да страх равны поражению, а я и поныне не излечил себя от недуга сострадания да жалости, раз уж приятна была мне твоя, царь грузинский, жалость к Ивану да волчатам. Править страной не сердцем должно, а мудростью да твердостью только, сердце же про себя оставить надобно, ибо мало оно и сию исполинскую страну в него не уместишь. Царю ясный ум и холодная голова надобны, а не добрая улыбка да мягкое сердце. И если я, повелитель Руси, Алексей Михайлов Романов, не могу ныне стать с тобой плечом к плечу, то только потому, что я лишь наполовину повелитель, ибо связан по рукам и ногам коварством знати да великой болью простолюдин, не говоря уж о шведском и польском царях, что держат меня на прицеле, как поутру мы с тобой держали волков. Так вот, если к тому же добавить направленный на нас блеск кривых сабель крымского да татаро-монгольского ханов или шамхалов, нетрудно понять сокровенные мои думы и голос разума, не позволяющий мне наживать еще двух врагов — преисполненного злобы персидского шахиншаха и коварного османского султана, да и тебе не будет пользы от моих ружей и пик. Единая вера народов наших станет краеугольным камнем единства нашего и первейшим знаком воистину великой помощи, как только у нас, русских, появится такая возможность. Не скажу точно, когда случится сие — при моем ли царствовании или при моем потомке, однако же случится непременно. То говорят мне и разум, и душа. Я ныне в большей силе, нежели был мой батюшка, наследник же мой станет еще могущественней, и если не ныне, то завтра протянем мы вам дружественную длань помощи, без которой вам трудно живется, и нам не радостно.
Царь Алексей передохнул, — тяжело, очень тяжело было ему признаваться в своих трудностях, но светлая миссия, с которой явился к нему грузинский Багратиони, его праведное сердце требовали от него праведного же слова и дела, а не фальши. Потому-то и раскрыл перед ним тайники своей души, куда никого никогда не допускал, потому-то и поведал свои сокровенные мысли, невзгоды и радости. Хотел с миром пришедшего отпустить — с миром и с тем светом надежды, погасить который можно было, но это вызвало бы обоюдную боль. К тому же отпустить пришедшего за помощью, не вселив в него надежды, было если не во зло, то и не на пользу Руси.
Воцарилась тишина.
Студеный ветер завывал за окнами. Огонь в печи почти угас, в палату закрался холод. Слабели, истощались язычки пламени в лампах, окна усеялись белыми звездами, какие русские женщины мастерски вышивают на холстах.
В палате все стояла цепенящая тишина.
Царь Алексей встал, выпрямился. Сначала глянул на Ираклия, потом зорко посмотрел в глаза Теймуразу.
Теймураз понял государя и не заставил себя ждать:
— Ясно мне все, повелитель великой Руси. Понимаю тебя и верую. Слова твои, если коротко сказать, таковы: «Вижу, мол, что в яму угодил, да нет у меня веревки, чтоб вызволить тебя, потерпи немного, добуду веревку и вмиг вытащу на свет божий». Так что ждать придется, выхода иного не вижу, ибо из той ямы, куда угодил я с моей отчизной, не выбраться без дружеской десницы, а помимо Руси ни от кого не ожидаю ее, поскольку вера и бог у нас едины. Не дано ведать мне, когда завершится мой бренный путь на земле, однако знаю, верую и веровать буду, что Ираклий мой при твоем дворе должен мостом подняться, мостом братского дружества народов наших.
— А не проломится ли витязь наш, мостом поднявшись? — улыбнулся государь и с любовью глянул на склонившего голову царевича.
— Не должен, великий государь великой Руси, проломиться сей мост надежды, коль плечо твое рядом будет.
— Я-то да, однако же кто ведает… что случится?
Что может случиться? — встревожился Теймураз, которого пронзила боль от одного только прикосновения к этой надежде.
— Люди мы ведь, — уклончиво ответил царь Алексей.
— А все же? — не отступался Теймураз.
Алексей Михайлович зашагал взад-вперед. Потом остановился, заглянул в глаза Ираклию, дал знак — переведи, мол, но то, что говорил он, предназначалось скорее для самого царевича:
— Молод он да горяч! К сердцу своему более чуток, нежели к разуму. Ничего не подметил пока за ним, однако недругов у меня много, боюсь, не сбили бы с пути истинного. Или, может статься, не поймет меня, ну, хотя бы то, что не могу пока помочь тебе и… ожесточит душу свою…
Государь помедлил, и Теймураз, воспользовавшись этим, вставил:
— Не стану молить да просить. Воля твоя. Неволить государя — все одно что себя же плетью огреть. Однако сказать тебе обязан я, что тот же шведский король, польский первый пан да и персидский шах, османский султан или крымский хан еще больше будут считаться с тобой, еще больше станут страшиться и жаловать тебя твои доморощенные иноземные недруги, когда всем им вместе силу свою покажешь. Возвышение властителя над иноземными ворогами всегда приумножит преданность и низкопоклонство доморощенных.
— Известно то мне, — поспешил государь, — однако же не токмо не победишь иноземного ворога, а и на поле брани не схлестнешься с ним, коль не воцаришь дома мир да покой. Ну какая польза идти походом за Кавказ, коль по сю сторону Кавказа, на юге Руси сила моя едва простирается до Астрахани, а окраина да Малороссия разоряемы набегами? Доверься мне, Теймураз, — впервые назвал он гостя по имени, и в этом обращении прозвучала схожая с мольбой нотка. — Будь ныне на московском троне не я, а самый многомудрый муж, и он бы ничем не смог помочь тебе, кроме как надеждой на будущее.
— Знаю, чувствую и понимаю. Воля твоя! На том и завершим ныне нашу беседу, — коротко молвил Теймураз, въяве представив все терзавшие Русь тяготы, как только вспомнил, что и сам по такой же причине не внял мольбам армянского епископа спасти Армению после выигранных сражений в Барде. — Ясно мне все, государь, и да расстанемся с верой в день грядущий. Об одном лишь хочу попросить тебя, на сей раз то последний моя просьба.
— Проси, и заранее даю слово, что просьбу сию выполню непременно, — царь, казалось, проник в сокровенные думы гостя.
— Скорее, то две просьбы…
— Проси.
— Первая моя просьба о том, чтобы Ираклий всегда был при грузинской чохе, дабы всяк ведал, что при дворе повелителя Руси — грузинский царевич.
— То я уж обещал тебе и подтверждаю, что, пожелай Ираклий облачиться в другие одежды, воспрепятствую, не позволю. Боле того, вся его свита, будь то грузин или русский, останется при чохе, а на каждом чествовании да молебне третьим лицом будет называться царевич единой Грузии Ираклий.
— Благодарствую! — сдерживая слезу, вымолвил Теймураз, а Ираклий смотрел на деда исполненным любви взглядом.
— Верь мне, дедушка! Памятью отца и твоей любовью клянусь, что никогда не изменю отчизне нашей!
— Благодарствую! — повторил Теймураз внуку идущее из сердца слово. И лишь переведя дух, продолжил: — Вторая просьба тоже известна тебе, государь, однако же повторю ее и ныне — породниться желаю с тобой, дабы кровное родство навечно стало для моих и твоих потомков побуждением к единству, верности и равенству.
Удовлетворение, отразившееся на лице царя Алексея при словах «единство» и «верность», исчезло, как только Теймураз произнес «равенство», но в ответ сказал лишь:
— Ираклию говорил и тебе повторю — согласен я на породнение, дело теперь за Ираклием самим.
— Не тороплюсь я, дедушка, обзаводиться семейством.
— Коль ты не торопишься, я тороплюсь, да и отчизна твоя торопится, сынок.
— И более того скажу. Дочь у меня, царевна Софья, — улыбнулся, продолжая свою мысль, царь Алексей. — Правда, старше она Ираклия, однако то в делах таких важности не представляет. Да и царица Мария, супруга моя, не против свадьбы.
Теймураз выразительно глянул на внука, но Ираклий отвел глаза.
— Годов на десять Софья старше, однако сие ему на пользу: уму-разуму научит да ублажать будет в страхе, чтоб не сбежал молодой супруг, — снова озарился благосклонной улыбкой царь. — А он и пошалить иной раз может, как то заведено на вашем Востоке, никто ему препятствовать не станет.
Ираклий понурил голову. Теймураза же занозой кольнули слова «уму-разуму научит».
— У нас не принято, чтоб царица уму-разуму учила царя. Не думаю, чтоб и у вас было то принято.
— Нет, и у нас не принято. К слову пришлось. Жена да убоится мужа своего… А потому муж время от времени и поколотить ее должен, — засмеялся государь.
— Колотить, конечно, не дело. Совет же разумный владыка приемлет не только от царицы, а и от чужака. И об измене мысль не должна прокрасться в сердце любящего мужа, — твердо произнес Теймураз, а сам вспомнил вдруг Джаханбан-бегум, подумал: «Где она сейчас?» Потом заботливо обратился к внуку: — Ты что скажешь, сынок? Что удерживает тебя?
Ираклий еще ниже опустил голову, не стал переводить вопрос деда. Царь Алексей, как бы поняв слова Теймураза, сам попытался ответить на них:
— Верно и то, что Софья своевольна, упряма да норовиста, однако ж при тебе лишнего не позволит.
Ираклий и эти слова не стал переводить и смиренно обратился к государю:
— Родителю своему ничего не скажу, а тебе, великий государь, осмелюсь молвить… Софья к стрельцам похаживает втайне…
— Знаю… Не она, а стрельцы к ней похаживают.
— Возразить осмелюсь, великий государь. И сама она похаживает к ним, — упрямо, с детской почти обидой ответил Ираклий, не понимая, что ранит сердце своему покровителю.
— Ты-?? откуда ведаешь про то? — сурово спросил государь.
— Ведаю… Недавно, когда отправил ты нас, молодых, в Коломенское, велела стрельцам привести цыган в палаты. Пели да плясали…
— Что в том дурного?
— В том ничего, да вот после выдворила всех, а одного цыгана оставила у себя до утра… Видного такого.
А наутро одарила лучшим скакуном из коломенских конюшен.
— Которым? — будто молнией пронзили государя слова о скакуне.
— Жеребцом тем, что в дар прислал вам татарский хан минувшим летом.
Царь всполошенно сорвался с места, зашагал по палате, так же внезапно остановился и сурово подступился к Ираклию:
— Федор ведает про то? — спросил он о сыне.
— Ведает, но что из того, Софью-то он побаивается.
— Пошто не дал знать до сих пор?
— Про что?
— Про жеребца!
Простодушная улыбка мелькнула на лице Ираклия:
— Тяжко было мне про Софью слово молвить.
— Ты бы про жеребца дал знать, а уж потом я и до Софьи бы добрался! Я ей покажу! Сей же ночью переворошу все покои, с постели подниму!
— Воля твоя, великий государь.
Царь не стал больше задерживаться. Внезапно вспыхнувший гнев столь же внезапно покинул царя, он ласково потрепал Ираклия по плечу и сказал смеясь:
— Передай родителю своему, что коль внук его отвергает дочь мою старшую, то пусть погодит немного, может, и объявится у меня другая.
Пожелал обоим покойной ночи и скорым шагом вышел в коридор, где стояли в ожидании замершие слуги, чтобы сопроводить царя в спальные покои.
Как только царь Алексей покинул палаты и стих шум шагов его слуг, Теймураз облачился в шубу и вышел вместе с Ираклием во двор подышать.
Некоторое время они молча шли нога в ногу.
Леденящий ветер все завывал в верхушках сосен, отдаваясь понизу тем слаженным гулом, что услышишь разве только на русской земле с ее взметнувшимися ввысь сосняками. И впрямь величествен зимний гул тех сосен, и нет во всем свете голосов звучнее его… Снежное серебро слегка поскрипывает под ногами, а в душу умиротворяюще проникает тот гул, освобождая ее от скорбей и печалей. Именно это легкое, чуткое покачивание, это величественное дыхание исполинских существ и творит ту неповторимую гармонию на земле Руси, которая озаряет душу вечным светом жизни.
Долго молчали дед и внук, наслаждаясь околдовывающим гулом зимнего бора, впитывая в себя величие природы, чары которой развеяли все их мысли. Наконец Теймураз одолел забытье и тихо спросил внука:
— Что, не по тебе царевна?
— Догадываешься о чем-нибудь? — уклонился Ираклий, которому хорошо была известна сокровенная дума деда и взлелеянная им надежда, которую юный Багратиони не спешил развеять.
— Догадываюсь, сынок. Сердцем своим родительским вычитал в твоих очах.
— Скрывать не стану, дедушка, да зачем скрывать, коль уж ты и сам все понял без слов. Сладострастница она, к тому ж спесива и надменна. У государя двое сыновей, Федор и Иван, да оба мягкотелы… Второй, тот для престола вовсе негож, хотя и первого господь не миловал. Да и самого государя то и дело хворь одолевает. Может, приметил, как чело его пот прошибает? И руками потлив, потому что он болезненный.
— А ты откуда знаешь, что потливость рук признак болезни?
— Мать говаривала. Так вот, Софья знает о батюшкиной хвори, ведает она и о том, что братья для престола негожи, потому и своевольничает часто. Даже сама царица не может ей прекословить. Батюшке же, как изволил ты, наверное, приметить, не до нее, хотя ныне намнет он ей бока, в этом сомнений быть не может. Зятя-то он все же ищет, пристроить ее стремится, пока время еще есть. Я же… Ну как тебе сказать? Время быстротечно… Как знать, может, еще появится у государя добрая наследница. А коль не появится и страну эту необъятную приберет к рукам Софья? Что тогда поделать твоему Ираклию, мужу той сумасбродной царицы, — тут оставаться, под боком сладострастной супружницы да на потеху боярам или по-воровски сбежать от тех, к кому явился за дружеством да помощью, и за страной своей горемычной приглядывать? Что на это скажешь, как рассудишь по праву родителя моего и царя Картли и Кахети?
Теймураз оторопел. Не ожидал от видевшегося ему все еще дитем Ираклия мудрости зрелого мужа.
— Подобно отцу своему, рано взошел ты под сень мудрости, сын мой. Ничего не скажу боле.
— Тогда я скажу, дедушка. Царь Алексей не может помочь нам, как изволил сам поведать тебе о том, ибо много у него своих забот и печалей. Ясны мне и мудрые мысли твои о том, что без Руси не в силах мы не только собраться воедино, но и устоять, даже существовать. А потому надобно выдержать нашествия персов и османов, еще немного напрячь разум и силы, дабы сберечь голову до той поры, покуда Русь, великая мощью своей и несметным народом своим, изыщет возможность протянуть нам руку помощи. Единая вера суть дело доброе, однако же только ее для этого недостаточно. Настанет время, не ведаю когда, но непременно настанет то время, когда Русь великая братски подставит нам плечо и избавит от истребления и насилия чуждой верой, а до тех пор принудим себя, как и допрежь, раздвоить лик свой перед шахами да султанами на горе иль на радость народу нашему. Я останусь здесь, ты же пригляди за страной. Прояви усердие в примирении княжества Дадиани с Имерети, смири Гурию, не дай отатариться Картли и Кахети. Духом ты силен, крепись и телом, не дай ослабнуть ему, потерпи еще, а я останусь здесь и сделаю все, дабы не осрамить тебя, укрепить мост братства, кровного родства, обратить его в крепость неприступную на благо страны нашей.
— Да возрадуется душа твоя, сынок, как возрадовал ты меня своей мудростью и мужеством, — с мольбой вырвалось у Теймураза, и он прижал к груди Ираклия, верного потомка грузинских Багратиони. — Здесь, посреди российской стужи, помог ты мне обрести надежду и утешение, помог обрести ту силу великую, которая не даст погибнуть нашей горемычной Грузии.
Долго еще ходили дед и внук по благодатной земле российской, что вдохнула в них животворящее тепло, несмотря на лютый мороз и снегопад, согрела, как согревает тепло надежды, что исходит из отеческих рук.
* * *
Теймураз в Москве более задерживаться не стал, боялся, что перевалы закроются от снежных обвалов, да и Хорешан он оставил совсем хворую, нездоров был и маленький Луарсаб — вредил ему климат Имерети.
С большими почестями проводили из Москвы Теймураза, который горько переживал потерю надежды на немедленную военную помощь. Ираклий и однорукий Гио сопровождали его до Астрахани, оттуда он под охраной небольшого отряда русских добрался в Терки и наконец со свитой своей прибыл в Имерети.
…Кутаисский дворец встретил его трауром.
Умер от лихорадки маленький Луарсаб, оставшийся без матери и отца.
Присутствовавшая при кончине внука Хорешан потеряла сознание и с постели больше не встала…
Облаченная во все черное Дареджан, рыдая, жаловалась отцу:
— Что за грех на нас такой давит, что хоронит нас заживо, кто проклял нас и за что? Если действительно есть бог на свете, то почему он хоть один раз не помилует, не пощадит хоть в чем-то нас! Бедняжку так трясло, что дышать было трудно… От отчаяния не знал, что делать, на помощь звал деда Теймураза и отца Датуну… Помогите, молил, обессиленный, я весь горю, умираю! В восемь лет рассуждал как мудрец, все понимал. Мы, глядя на него, сами горели без огня, мучились и страдали, вот и не выдержала мать! — Дареджан впервые помянула Хорешан матерью. — Когда она уже обессилела и сама свалилась у его ног, он меня обнимал и просил: тетушка, спаси меня, не дай мне умереть, иначе дедушка приедет и с вас спросит. Господи, почему не умерла его несчастная тетушка!
И опять покатилась слеза по лицу Теймураза, горько оплакал он малого внука и верную супругу тоже.
Поднялся в Гелати и чуть не испустил дух, упав на могилы жены и внука, которые покоились рядом друг с другом. Но, скорбя над этими двумя могилами, старый Теймураз вдруг заметил, что, лишившись Датуны, он уже легче переносит потери, ибо ни одна из них не могла сравниться с утратой любимого сына и последней опоры.
…Дни шли за днями, недели за неделями, месяцы за месяцами, беды за бедами…
Из Кахети приходили ужасные вести. Так Аббас Второй решил осуществить замысел Аббаса Первого. Отнял Кахети у престарелого Ростома, бегларбегом вновь посадил Селим-хана. Всю страну велел очистить от местных жителей и заселить своими людьми. Селим-хан послушно приступил к делу: вырубил виноградники и превратил благодатные земли Кахети в пастбища для хлынувших с юга стад. Селим-хан захватил Бахтриони, укрепился в Алаверди, осторожно подбирался и к другим крепостям.
А тут еще с кавказских гор участились разбойничьи набеги, банды рыскали по Алазанской долине, по склонам Гомбори, уводили людей в полон, скот угоняли целыми стадами, людей Селим-хана не трогали, зато кахетинцев, ингилойцев, тушннов и пшавов грабили нещадно, охотились за молодыми юношами и девушками, захватив пленных, требовали выкуп подороже.
Да и в Картли было не так спокойно, как казалось кое-кому. Еще больше осатаневший от старости Ростом объявил наследником своим Вахтанга Мухран-батони, ибо он, мухранский Багратиони, ненавидел Теймураза, Ростома же почитал чуть ли не за родного отца.
Шло время, Вахтанг, на которого работало время, все ближе подбирался к картлийскому трону, картлийские же тавады и азнауры не находили себе места — каждый из них спал и видел на троне самого себя или своего отпрыска. Вахтанга же признавать царем никто не желал. Больше других возмущался арагвский Эристави — Заал.
В тысяча шестьсот пятьдесят восьмом году, когда достигший чуть ли не ста лет Ростом наконец преставился, Заал попытался поднять в Картли мятеж, однако Мариам Дадиани опередила его и за поминальной трапезой во всеуслышание объявила шахскую волю. Готовые к смуте князья, просчитавшись, притихли, да и сам Заал, который был среди них самым сильным и смелым, на этот раз мешкать не стал — выпил за память усопшего и возглавил здравицу в честь нового царя.
Вахтанг тут же отправился в Исфаган к шаху на поклон, принял там магометанство и обратно пожаловал в Картли под новым именем Шахнаваза.
Именно тогда и восстали горские грузины, ободренные смертью Ростома и холодным приемом при шахском дворе, оказанным Вахтангу. На их стороне не замедлили выступить и ингилойцы. Они, объединившись под началом Заала и Эристави, вместе ринулись в Кахети, заселенную шахскими переселенцами.
Тушины, пшавы, хевсуры, мтиулы, мохевцы объединились с кахетинцами и беспощадно расправились с с врагом. В Бахтриони, Алаверди и других крепостях истребили кизилбашей, очистили от непрошеных новоселов оба берега Алазани.
В Кахети возвысился Заал Эристави. Проиграв борьбу в Картли, он пожелал властвовать в Кахети, а затем и Картли присоединить, для виду же он усердно приглашал Теймураза занять законный кахетинский престол.
Перепуганный шахиншах велел обезглавить Селим-хана, свалив все злодеяния на него, и вместо него послал с новым войском Муртаз-Али-хана, повелев при этом соблюдать в Кахети осторожность, кроме меча и сабли пользоваться золотом, серебром и халатами для подкупа и усмирения кахетинских вельмож, как можно быстрее внести разлад между кахетинцами и горцами. По его повелению, Муртаз-Али-хану в первую очередь следовало устранить Заала как главного смутьяна, который настраивал картлийских князей против Вахтанга, а в кахети лицемерно приглашал Теймураза.
Старик Теймураз скорбел над могилами Хорешан и маленького Луарсаба, жил одной лишь надеждой на Ираклия.
Ираклий находился в Астрахани и писал оттуда русскому царю:
«Приехали, государь, из Грузинские и Тушинские земли люди и бьют челом мне, подданному твоему, чтоб я ехал к ним в Грузинскую и Тушинскую землю, и что, государь, в Грузинскую землю приходили войною кизилбашские люди и тех кизилбашских людей всех побили грузинские и тушинские люди, и ныне собрався на одно место и дожидаются меня, подданного твоего, и присылают часто гонца с листами к нам, подданным твоим, а мы, подданные твои, без твоего, великого государя, указу ехать из Астрахани не смею. Милости у тебя, великого государя, прошу-молю и челом бью, чтоб меня, подданного твоего, повелел из Астрахани отпустить в Тушинскую землю и провожатых дал до Шибути».
В Картли и Кахети было неспокойно.
Теймураз угасал.
Ираклий стоял в Астрахани — просил у русского царя войска и разрешения действовать.
Имеретинский царь Александр внезапно слег в постель, по слухам, его отравили кизилбаши.
Александр скончался, в Имеретинском царстве началась смута.
После смерти Александра Теймураз покинул Кутаисский дворец и постригся в монахи, удалившись в Зваретский монастырь. Единственной надеждой его оставался Ираклий, о нем молил бога, мыслями о нем только и существовал.
Вдохновленный смертью Александра Вахтанг-Шахнаваз послал в Арагвское ущелье много золота и оружия для племянников Заала и велел передать, что это лишь малая часть вознаграждения, остальное же, в десятикратном размере, он обещал пожаловать в обмен на голову Заала. Нетрудно было соблазнить привыкших к крови арагвских Эристави…
Племянники убили Заала.
Старшего из убийц, Отара, Шахнаваз объявил законным правителем и владыкой арагвских Эристави.
Потрясенные судьбой вожака, ксанские Эристави Шалва и его брат Элизбар, Бидзина Чолокашвили — брат Георгия Чолокашвили, находившегося при царевиче Ираклии, явились к Шахнавазу с повинной. Вахтанг, доказывая свою преданность шаху, всех троих отправил к Муртаз-Али-хану, якобы для помилования, на самом же деле…
И еще три отважных сына Грузни лишились голов.
Неугомонность горцев-грузин озлобили Шахнаваза. Он переправился через Лихский перевал и вторгся в Имерети, заставив бежать в Сванети воцарившегося в Кутаисском дворце Вамеха Дадиани. В Одиши правителем-мтаваром возвысил Шамадавла. Абхазского мтавара, который смиренно явился на поклон к прибывшему в Одиши, он выпроводил со всеми почестями, а Кутаисский дворец Шахнаваз вручил своему сыну Арчилу.
Шахнаваз велел найти Теймураза, приставил к нему кизилбашей и вместе с Дареджан отправил в Тбилиси как заложников.
Ираклию сообщили о пленении деда. Он не стал ждать ответа государя, направился в Тушети и постоянными набегами донимал как Муртаз-Али-хаиа, так и Шахнаваза, хотя с гор в долину спускаться не решался — с надеждой ждал войска от государя. Он немедля отправил в Стамбул однорукого Гио и сообщил султану, что шахский ставленник, нарушив соглашение, перешел через Лихский хребет и прибирает к своим рукам вассальные земли султана.
Султан не мешкая строго предупредил шаха: либо освободи Имерети, либо жди от меня войны.
Дрогнул шах и велел Шахнавазу убрать Арчила из Имерети — хотя бы на некоторое время, чтобы успокоить султана.
Теймураза с дочерью доставили в Тбилиси.
Мариам Дадиани немедленно отыскала обоих, перевела в свой дворец как почетных гостей. Шахнаваз не посмел сказать что-либо царице.
Ираклий томился, метался в Тушети.
Теймураз «гостил» в Тбилиси.
Имеретинский престол пустовал.
Картлийские тавады приноравливались к Шахнавазу, хотя одним глазом и поглядывали на Тушети.
Кахети тоже с надеждой взирала на Тушети.
Глядел на Тушети и Исфаган, да только руки были коротки, а Тушети далеко в горах — поди достань!..
В Тушети ждали вестей из Москвы.
Государь не спешил.
История Грузии писалась кровью мужчин и слезами женщин.
Кура грустно бормотала о своем — вела честный сказ для мира, для потомков, для вечности.
Исфаган не мог дотянуться до Тушети — руки были короткие, да и для глаз был недосягаем!..
Теймураз угасал, таял как свеча, зажженная во здравие Грузии…
* * *
Сын Шахнаваза, Арчил, которому пришлось покинуть Имерети, по воле отца своего должен был сопровождать Теймураза в Исфаган.
Теймуразу еще в Тбилиси сказали, что он едет в гости к шаху.
Старик попросил провезти его через Алаверди.
Арчил отказался, ссылаясь на опасность пути.
Из Тбилиси двинулись в направлении Иори.
— Может, пойдем через Сигнахи? — во второй раз обратился Теймураз к Арчилу.
На сей раз Арчил согласился.
Старик жаждал видеть Бодбе.
Поднявшись наверх, он подозвал к себе Арчила, бессильно протянул руку в сторону монастыря:
— Здесь венчала меня на царство мать моя, мученица Кетеван, здесь же я хотел проститься с властью и царством своим. Знаю, что оттуда, куда еду, я живым не вернусь… Знаю, что ты грузин, из рода Багратиони. Потому прошу тебя в последний раз: после моей смерти меня и сыновей моих перенесите в Кахети. Да пошлет господь тебе… — он не смог выговорить «удачу», язык не поворачивался, ибо его удача означала неудачу всей Грузии, — да пошлет тебе господь радость…
…С торжественным ликованием доставил Арчил в Исфаган старого Теймураза.
Шахиншах с шахским радушием принял воспитанника своего прадеда, как он назвал его во всеуслышание. Он с особо подчеркнутой любезностью пригласил к своему столу человека, пятьдесят лет хранившего верность России, почтительно расспросил его о здоровье и прочем.
Не забыл поинтересоваться, как Теймураз перенес дорогу:
— Слыхал, что проехал через Бодбе. Не поспешил ли с решением отречься от престола — зачем тебе торопиться, воспитанник шаха Аббаса Великого?
Заметив, что Теймураз хранит упорное молчание и молчанием этим он изрядно портил Исфагану настроение, — шах не стал медлить с местью, спросил, как поживают его мать, супруга Хорешан, трое сыновей и внуки — Георгий и Лаусарб, предусмотрительно умолчав только об Ираклии.
Тут Теймураз оживился и устремил на шаха по-юношески заблестевший взор.
— Царица Имерети, моя дочь Дареджан, здорова и гостит в Тбилиси у сестры вашего верного раба Левана Дадиани, супруги вашего преданного слуги Ростома, названой матери нынешнего правителя Картли Шахнаваза, который вашим именем клянется… А мой Ираклий, приемный сын и зять русского царя, находится в Тушети в ожидании русских войск. У Ираклия подрастают трое сыновей, он женат на сестре московского государя, наследники и потомки мои воспитываются в московском Кремле, готовятся занять престол возвышающейся Грузии.
— А чего же ты в монахи постригся? — шахиншах не мог придумать ничего другого, чтобы уязвить Теймураза.
— Я счел дело свое и борьбу законченными, не дал никому поработить Грузию, не позволил от истинной веры отвратить, сохранил народу веру и родной язык… Теперь же, клянусь солнцем шахиншаха и моим тоже, ибо солнце у нас одно, тебе осталось укрепить и возвысить Грузию с помощью твоих ханов, их умением и мудростью. То, чего твой прадед не сумел довести до конца, сделай сам, дело мудрости твоей — найти общий язык с Ираклием моим, забудь о насилии!
Исфаган действительно уже забыл о насилии. Именно за это ухватился шахиншах и попытался возразить.
— Если бы не твое упрямство, Грузия уже сейчас бы благоденствовала.
— Если бы не мое упрямство, Грузии сегодня не существовало бы вообще — твой предок или уничтожил бы ее, или отнял бы веру, а Грузия без веры была бы уже не Грузией, а одним из твоих ханств.
— Я уничтожу Грузию! — взревел выведенный из себя несговорчивостью старика шах.
— Ведь пробовал уже, однако Селим-хана твоего быстро вышвырнули из Кахети… Еще раз попытаешься, вышвырнут и Шахнаваза или вовсе обезглавят его. Не пытайся достичь того, чего не смог достичь великий Аббас, иначе он может разозлиться и для внушения повелеть тебе явиться к нему.
Взбешенный шах не стерпел и выплеснул чашу с вином в лицо Теймуразу.
— А ведь аллах запрещает вам пить вино… А этот напиток что-то на шербет не похож! — громко воскликнул старец, слизнул стекающие с усов капли и добавил: — Настоящее ркацители, наверняка из ширазского виноградника Имам-Кули-хана, потому что в Кахети, по вашей милости, больше нет такого вина, которое было бы достойно твоего шахского величества.
— Убрать его! — прохрипел шах, задыхаясь от гнева и обиды.
Однако Теймураза не заточили в темницу. Поселили неподалеку от дворца под охраной и о царских почестях не забыли — оставили при Нем верных тушин, прибывших с ним еще из Имерети. И быт наладили, подобающий высокому гостю.
Старик свободно разгуливал по Исфагану, только выходить за пределы города ему запрещалось, дабы никто не смел обидеть шахского гостя, — так объяснил этот запрет Теймуразу шахский визирь.
Царь понимал, в чем причина такой терпимости шаха — ему не давал покоя Ираклий, стоявший в Тушети. Теймураз поспешил отправить двоих тушин из своей свиты с тайным поручением к внуку — передайте, мол, царевичу, чтобы без поддержки русских войск он ничего не предпринимал. Скажите также, чтобы ни в коем случае не верил и не слушался, если даже получит моей рукой написанное письмо о том, чтобы ехать в Исфаган или покориться шахиншаху. Если вспомогательного войска не будет, пусть возвращается в Россию и растит детей.
Предчувствие мудрого старика скоро сбылось — посланцем от шахиншаха явился сам Арчил, тоже принявший мусульманство и называвшийся теперь Шахназарханом.
— В чем дело, Арчил, что заставило побеспокоиться тебя и отца твоего шаха Аббаса Второго? — Теймураз нарочно подчеркнул последние слова, назвав шаха Аббаса Второго отцом молодого Мухран-батони.
— Отца моего Вахтангом зовут, — четко ответил Шахназархан и по возможности постарался сдержаться, чтобы не надерзить старику.
— Раньше звали… кажется… если я не ошибаюсь… теперь же того, о ком ты говоришь, Шахнавазом зовут, а ведь я не его имею в виду… — снова съязвил Теймураз, но, заметив, что Арчил настроен миролюбиво, сменил тон и спросил уже без ехидцы: — Так чего тебе от меня понадобилось, парень?
— Шахиншах велел передать тебе, что если ты соизволишь повелеть царевичу Ираклию отвернуться от русского царя и служить верой и правдой Исфагану, то ему вернут кахетинский престол, дочери твоей Дареджан — имеретинский трон, а тебе даруют жизнь.
— Да-а, это мудро придумал повелитель Востока, хотя нет… Вселенной. А что при этом требуется от меня?
— Ты должен написать Ираклию письмо.
— А кто его доставит?
— Мы сами.
— Кто вы?
— Мы.
— Та-ак. А местопребывание его вам известно?
— Он в Тушети.
— Тушети большой… Хотя это уже не моя забота.
Теймураз, не долго колеблясь, написал коротко: оставь русских и немедленно приезжай в Исфаган. Письмо адресовал: «Царю Грузии Ираклию от бывшего царя Картли и Кахети, ныне постриженного в монахи Теймураза».
Отправив Арчила, царь долго молился перед сном.
«Господь наш милосердный, смилуйся над нами, ибо бессильны мы в словах своих и можем лишь молить тебя о снисхождении, не обрекай нас, грешных, на гибель. Помилуй плоть и кровь мою, царевича Ираклия.
Не гневайся на нас, создатель, и не спрашивай строго за грехи, ибо мы есть паства твоя, ты создал нас своими руками и имя твое на нас…
Отвори же врата милосердия, дева святая…
Смилуйся над нами, боже!»
Теймураз только кончил молиться, как в дверь постучали. Старик встал и, не спрашивая, кто там, открыл дверь.
На пороге стоял однорукий Гио, за спиной которого пряталась женщина в чадре. Женщина шепнула что-то Гио и удалилась.
— Что случилось, сын мой, не приключилась ли беда с Ираклием? Не сошел ли с ума и не явился ли он в Исфаган? — спросил ошеломленный старик, даже не приветствовав прибывшего.
— Не тревожься ни о чем, отец, все так, как ты велел: в Тушети благополучно прибыли от тебя двое тушин, передали Ираклию твое мудрое повеление.
— Тогда зачем ты здесь? — пришел в себя старик от первого оцепенения.
— Ираклий велел увезти тебя в Тушети… Со мной здесь надежные люди.
Теймураз присел на тахту, неожиданно почувствовав слабость в коленях.
— Нет, сынок, куда мне бежать? Да и престол мне не нужен, если это можно назвать престолом, я его Ираклию передаю с благословением… А у меня лишь одна просьба осталась к отцу небесному…
Они долго и доверительно беседовали.
Было далеко за полночь, когда Теймураз проводил гостя в соседнюю келью на ночлег и вернулся к себе. Только приступил к молитве на сон грядущий, как в дверь заново постучали.
«Как легко эта охрана пропускает всех гостей, — подумал старик, открывая дверь. — Наверное, сами десятый сон видят».
На пороге стояла та самая женщина в чадре, которая сопровождала давеча однорукого Гио, Теймураз тогда не поинтересовался, кто она такая.
Женщина вошла, не дожидаясь приглашения, и села на тахту так, будто и вчера тут сидела.
— Это я заметила твоего приемного сына, который два дня перед дворцом крутился в поисках тебя, и привела к тебе.
— Кто ты?
Женщина ничего не ответила, сняла чадру и взглянула на Теймураза затуманенными временем, но все еще прекрасными глазами.
— Джаханбан, ты?!
— Да, я.
— Как ты сюда попала? — спросил изумленным старик, которому и в голову не приходило приблизиться к дорогому существу, ибо стар он был и бессилен, а женщина так улыбалась, так ласкала его своими по-прежнему искрящимися глазами, как это делала когда-то давно, очень давно, в крепости Схвило.
Нет, то была, конечно, не прежняя Джаханбан, но, судя по всему, в душе ее с тех пор, как она рассталась с Теймуразом, никто не жил.
У женщины слезы навернулись на глаза и полились по еще свежим, не увядшим от времени щекам.
Теймураз стоял как вкопанный, ничего не предпринимал, ничего не соображал, стоял, смотрел, и сердце не то что колотилось, нет, — гудело беспрерывно.
— Когда ты перебрался в Имерети, Ростом пожелал сделать меня своей наложницей.
— А мне собирался мстить за Свимона.
— Аллах позволял ему это, меня же Мариам защитила, взяла к себе, потом сюда отправила… в Исфагане я живу во дворце своего деда… После тебя… Я никого не знала… — Женщина потупила голову. — И не хочу знать… И не буду… — Она снова устремила на него долгий любящий взор, столь знакомый и столь далекий для Теймураза.
Теймураз глубоко вздохнул, словно со вздохом отлетала и душа его.
— Я в монахи постригся… — с трудом выговорил он, а Джаханбан в ответ с прежним очарованием опустила свои длинные, но уже слегка поредевшие ресницы, проговорила проникновенно — будто из души, из сердца шел ее голос:
— Ты был богом моим и богом останешься навсегда, ибо и в моих жилах течет христианская кровь, которая дает мне право иметь своего собственного бога.
— Какой из меня бог, из старика…
— Нет, Теймураз, я боготворю тебя с тех пор, как убедилась, что единственным человеком, которого не смог одолеть мой великий дед шах Аббас, был ты! Знаешь, что сказал он о тебе перед смертью? Двоих, говорит, на этой земле я одолеть не смог — смерть и Теймураза!
…Растерянного вконец Теймураза явно тяготило присутствие женщины. Он не знал, как вести себя, что делать, что говорить. Она чувствовала это и хотела беседой развлечь его, втянуть в разговор. Убедившись, что ничего у нее не получается, собралась уходить, а перед уходом сказала:
— Твой приемный сын знает, как меня найти… Если что-нибудь понадобится, позови меня, и я тотчас появлюсь. Моя вечная преданность тебе поможет мне совершить невозможное… Преданность и… любовь, которой суждено умереть только вместе со мной.
Женщина потянулась к нему, но старик остановил ее, положив руку ей на плечо. Потом прошелся взад-вперед по келье, стариковской трусцой подбежал к хурджину, лежавшему в углу, развязал веревку, засунул в него руку, пошарил по дну… Наконец вытащил оттуда маленький мешочек, достал из него узлом завязанный платок, развязал его аккуратно, дрожащими пальцами бережно расправил платок на ладони, и она увидела небольшой золотой крест, украшенный драгоценными камнями.
— Это крест моей матери. Его Хорешан носила. Я хотел Дареджан его передать, а потом… сберег для жены моего Ираклия. Но ее я все равно не увижу… Не суждено. А существа более родного, чем ты, у меня на земле не осталось… Кроме внука… Ираклий и ты… Потому-то пусть этот крест будет у тебя, носи его… Как память обо мне… Ничего другого у меня нет, чтобы сделать тебе приятное… Просьбами докучать тебе не стану… Хотя кто знает, может, именно ты поможешь осуществить мое последнее желание…
— Чего ты хочешь, жизнь мой?! — чуть ли не с мольбой прошептала Джаханбан, не обращая внимания на благоговейно протянутый фамильный подарок Багратиони.
— Одна мечта у меня есть, великая-превеликая и сокровенная, тебе только могу ее доверить… — в дворцовом саду у Имам-Кули-хана похоронены Леван и Александр… Я хотел бы поплакать на их могиле… Об этом мечтаю…
Джаханбан встала, нежными, легкими поцелуями покрыла лицо Теймураза, бережно взяла все еще лежавший на дрожащей руке подарок, поцеловала его, завернула аккуратно в платок и спрятала на груди, потом опустила чадру и вышла, заметив, что этот подарок будет передан для жены Ираклия.
…На третий день к Теймуразу явился Гио и с большими предосторожностями сообщил, что та женщина, которая привела его к нему, собрала людей и коней приготовила..
— Нынче на рассвете тебя, государь, выведут на ширазскую дорогу. В Ширазе тебя встретят ферейданские грузины, проведут в дворцовый сад Имам-Кули-хана и… выполнят твое желание… А что за желание такое, государь-батюшка? — поинтересовался Гио.
Теймураз не ответил, Гио не настаивал, впрочем, сердце подсказывало ему, что за желание томило его изнуренного жизнью повелителя… бывшего, а ныне… подопечного.
... В окрестностях Шираза их и в самом деле встречали ферейданские грузины, а встретив, не отставали, верхом сопровождали растущую свиту Теймураза. Ночь царь провел в караван-сарае, чуть свет его переодели в грузинское платье и представили первому садовнику дворца, который был предупрежден заранее о прибытии якобы известного грузинского садовника.
— Это тот знаменитый грузинский садовник, который может привить в вашем саду божественные розы, достойные похвалы и даже восторга самого шахиншаха. Мы сами ему поможем, ваших людей не надо нам, вы только оставьте нас одних, он не любит, когда за его работой следят…
Первый садовник с удовольствием пропустил пришельцев, а сам удалился.
Из двух ферейданцев один знал, где находятся могилы царевичей, и, немного пройдя по огромному саду, подвел к ним старика…
Невысокие холмики были покрыты нежной молодой травой, у изголовья разрослись кусты алых, всегда цветущих роз.
Теймураз упал наземь меж двух могил и до наступления вечера лежал ничком, что-то горько бормоча сквозь слезы, ставшие в последние годы столь привычными для единственного человека, не покоренного самим шахом Аббасом.
Уже смеркалось, когда появился главный садовник дворца в сопровождении двух евнухов, которые несли еду. Теймураза с трудом подняли спутники; они вежливо поблагодарили садовника и объяснили, что старик занемог, а потому придется его отвести домой. Для порядка же добавили — когда, мол, ему станет лучше, обязательно приедем для продолжения дела.
... Любовь помогла осуществиться мечте старца.
* * *
Шахиншах понял, что старик одурачил его. Понял и велел заточить в Астарабадскую крепость — в Исфагане, мол, много грузин, здесь они всегда поддержат его, сказал он.
Теперь уже никто не мог повидаться с Теймуразом, никто не мог утешить в этой страшной шахской темнице.
Опять-таки Джаханбан-бегум проявила сноровку, проникла в его келью.
И второй раз изумила она старца, второй раз ранила его неувядающей женской своей любовью.
— У тебя должны быть еще какие-нибудь желания, — допытывалась она заботливо.
— Мое последнее желание — чтобы после смерти мой прах перенесли в Алаверди… Чтобы то, что осталось от сыновей моих, положили в мой гроб… только останки надо собрать бережно… Скажи однорукому Гио, который без меня на родину не вернется… Пусть всех троих похоронят в Алаверди… Рядом с матерью моих детей… Рядом с моим Датуной… А тебе же — что я могу сказать? Виноват я перед тобой… Когда ушел в Имерети, много раз тебя вспоминал, но… Разве только перед тобой я виноват?! Утешься лишь тем, что вина — она была невольной и перед тобой, и перед всеми моими кровными и родимыми.
Джаханбан снова нежно приласкала старца и, расцеловав его глаза, губами высушила ему слезы, дабы не пришлось вытирать их перед женщиной, роняя свое мужское достоинство, попрать которое бессилен был сам шах Аббас Великий.
… Теймураз после этого прожил недолго, испустил многострадальный дух в Астарабадской крепости.
Сторожевые были предупреждены заранее, а потому тотчас же сообщили о случившемся Джаханбан-бегум…
В тот же вечер она явилась к шаху.
— Я пришла к тебе, повелитель Вселенной, я — внучка и наследница шаха Аббаса Великого. Если б он сам был жив, я бы к нему пришла с этой просьбой, и он бы не отказал мне, я знаю это твердо.
— Что за просьба у тебя?
— Теймураз скончался, свита его сообщила мне его последнюю волю. Ее исполнение в первую очередь возвысит тебя как в глазах потомков Теймураза, так и в глазах русского царя, с мнением которого, я знаю, ты очень считаешься.
— Что я должен для этого сделать? — спросил шах, удивленный столь упрямой настойчивостью женщины из рода Сефевидов.
— Он просил перенести его прах в Алаверди вместе с прахом его сыновей, похороненных в Ширазе. Выполнить это желание повелел бы сам шах Аббас Великий, прославленный неиссякаемой мудростью и несравненной проницательностью. Всемогущий аллах ему б подсказал, что тем самым можно завоевать сердце Ираклия, угодить русскому царю, успокоить Кахети и Картли, дабы они больше не надеялись на поддержку Теймураза, а не меркнувшее величие и могущество Исфагана от этого только бы возросли…
— Ладно, хватит! Я согласен! — прервал шах.
Были наняты португальские лекари, которые забальзамировали труп кахетинского царя, осторожно выкопали, по велению шаха, останки погребенных в бывшем саду Имам-Кули-хана царевичей… Своей единственной рукой сделал все это Гио — верный слуга Теймураза и названый брат Датуны.
В медный гроб уложили старца… Туда же осторожно положили кости его сыновей.
И это тоже сделал верный Гио своей единственной рукой.
Снарядили лучшую ундиладзевскую карету, которую ему когда-то как новинку подарили англичане, поставили на нее гроб и повезли по дороге, протоптанной множеством страдальцев грузин.
Сто человек сопровождали карету. К свите Теймураза, согласно воле шаха, присоединились и ферейданские грузины.
Процессию возглавляли двое — однорукий Гио и Джаханбан-бегум.
Когда прибыли в Алаверди, там их встречали царица Мариам Дадиани и Дареджан. Они привезли с собой католикоса Доментия II, сына Кайхосро Мухран-батони, того самого, который обновил церковь Анчисхати, куда и перенес из деревни Квемочала нерукотворный образ Спаса, заботливо сохраненный предками для грядущих поколений.
Доментий служил панихиду.
Гио спросил об Ираклии.
— Царевич вернулся в Москву по воле царя Теймураза, — ответили ему хмурые тушины.
Три дня служил католикос.
Три дня скорбел Алаверди.
Только на четвертый день разошлись люди.
Заплаканная Мариам увезла в Тбилиси заплаканную Дареджан.
Остался в одиночестве Алаверди — богатый могилами мучеников за отчизну и безмолвный, как сами могилы преданных родине сынов.
Весною рокот разлившейся Алазани достигал купола Алаверди…
На многих могилах цвели розы.
Если кто-нибудь спрашивал, кто ухаживает за могилой Теймураза и за этими розами, алавердские монахи отвечали — монашка Нино.
Не покидавшая никогда Алаверди, эта монахиня в миру звалась… Джаханбан-бегум.
Летопись Грузии писалась праведной кровью мужчин и благодатной слезой женщин с тех давних пор, когда трудно было разобрать, где зло, а где добро.
Ты, потомок, оцени эту кровь и эти слезы, ибо благодаря им ты возрос, возвысился и окреп в дни счастья и благополучия твоей Родины.
1975
Тбилиси
Примечания
1
Когда в Тбилиси временами хозяйничали завоеватели, столицей Картли бывал Гори.
(обратно)2
Алазанская долина — долина в Кахети, образована рекой Алазани.
(обратно)3
Кизилбаши — так грузины называли персидских завоевателей, носивших красные тюрбаны (дословно: красноголовые). Здесь и далее примечания автора.
(обратно)4
Чача — виноградная водка.
(обратно)5
Дедопалт дедопали — царица цариц.
(обратно)6
Эристави — княжеская фамилия, которая в буквальном переводе означает: глава народа; в феодальной Грузии соответствовала правителю определенной области.
(обратно)7
Алавердоба — храмовый праздник в Кахети.
(обратно)8
Шахисеваны — буквально: любящие шаха. Так называлось созданное шахом Аббасом Первым особое войско, игравшее роль шахской гвардии и состоявшее из воинов неперсидского происхождения.
(обратно)9
Моурави — административная должность в феодальной Грузии: управляющий делами при княжествах.
(обратно)10
Амирспасалар — главнокомандующий.
(обратно)11
Тавади — князь.
(обратно)12
Тонэ — врытая в землю глиняная печь для выпечки хлеба.
(обратно)13
Исфаган в ту пору был столицей Персии.
(обратно)14
Шибаки — трубка для отвода мочи у младенцев в колыбели — аквани.
(обратно)15
Дедабодзи — столб в центре жилища, подпирающий кровлю.
(обратно)16
Сардар — предводитель войск.
(обратно)17
Ингилойцы и тушины — грузинские племена.
(обратно)18
Чоха — мужской национальный костюм.
(обратно)19
Панта — дикорастующая груша с мелкими плодами.
(обратно)20
Гио-бичи — парень Гио.
(обратно)21
Азарпеша — серебряная граненая чаша.
(обратно)22
Дарбази — имеет два значения: большой зал, палата, и царский совет.
(обратно)23
Амер-Имери — Восточная и Западная Грузия.
(обратно)24
Маламо — целебная мазь, употребляемая и поныне.
(обратно)25
«Калила и Димна» — величайшее произведение мировой литературы. Перевод, начатый отцом Теймураза Давидом, был закончен позднее сподвижниками Вахтанга VI.
(обратно)26
Дедакаци — достойная женщина (в дословном переводе мать-мужчина).
(обратно)27
Азнаур — дворянин.
(обратно)28
Мухран-батони — князь Мухранский.
(обратно)29
Мегвинет-ухуцеси — придворный вельможа, ведающий делом снабжения двора и войска.
(обратно)30
Мечурчлет-ухуцеси — хранитель казны..
(обратно)31
Марани — специальное винохранилище, где в землю зарыты квеври, чури, коцо — глиняные сосуды для вина.
(обратно)32
Грузинское название поэмы Шота Руставели «Витязь в тигровой шкуре».
(обратно)33
Кизики — древнее название окраины Кахети, одна из исторических ее областей.
(обратно)34
Гуда — кожаный мех из овечьей или козьей шкуры.
(обратно)35
Чурчхела — нанизанные на нитку орехи, обмакнутые в густой виноградный сок и высушенные на солнце.
(обратно)36
Мутака — продолговатая валикообразная подушка.
(обратно)37
Тариэл, Автандил и Придон — герои поэмы «Витязь в тигровой шкуре».
(обратно)38
Мтквари — Кура.
(обратно)39
Цихисдзири — дословно: подножие крепости.
(обратно)40
Мухранули — грузинское вино, родиной которого считаются окрестности села Мухрани.
(обратно)41
Шаири — в данном случае частушки.
(обратно)42
Алаверди — застольный возглас, когда чаша идет по кругу и один из сотрапезников перепоручает тост другому.
(обратно)43
Перевод Л. Пеньковского.
(обратно)44
Камбечовани — буйволиное место, звучит чуть насмешливо.
(обратно)45
Шила-плави — вареная баранина с рисом.
(обратно)46
Корчибаш — начальник шахской кавалерии.
(обратно)47
Бегларбег — правитель области.
(обратно)48
Сабаратиано — владение князей Бараташвили в Южной Грузии.
(обратно)49
Амолахвари — игра слов: амо — приятный, лахвари — меч, имеете — приятный меч, то есть сладким словом усыплять врага, а мечом его поражать.
(обратно)50
Татара — сусло из виноградного сока с мукой, сваренное на медленном огне.
(обратно)51
Лахти — длинный кнут без рукоятки, служивший и старину боевым оружием; човган — клюшки для игры всадника в мяч.
(обратно)52
Перевод с фарси здесь и далее В. Державина.
(обратно)53
Зедафони — зеда — верхний, фони — брод; от объединения этих двух слов, по предположению автора, и происходит название нынешнего города Зестафони.
(обратно)54
Кополы — сукины дети (турецк.).
(обратно)55
Жипитаури — самогонная водка, распространенная в горных районах Грузии.
(обратно)56
Алавердоба — древний христианский праздник в Кахети, во время которого кахетинцы под началом Джандиери устроили восстание против иноземных захватчиков.
(обратно)57
Хашлама — куски вареной говядины или баранины.
(обратно)58
«Карабадини» — старинный лечебник, пользовавшийся в Грузии большой популярностью.
(обратно)59
Коши — домашние туфли с загнутыми вверх продолговатыми носами.
(обратно)60
Тари — восточный струнный музыкальный инструмент.
(обратно)61
Махобела — особый сорт пшеницы.
(обратно)62
Матара — кожаная фляга.
(обратно)63
Куро — любовник.
(обратно)64
Ундили — незрелый, неспелый; в переносном значении — неумелый, неудачливый.
(обратно)65
Риони — самая большая река в Западной Грузни.
(обратно)66
Гелати — архитектурный комплекс XII века в Западной Грузии, вблизи Кутаиси.
(обратно)67
Осмалети — султанская Турция.
(обратно)68
Сапурцле — название местечка в ущелье Арагви. Происходит от грузинского слова «пурцели» — «лист». Так же называется я место, где разводят тутовые деревья, чьи листья — пурцели — употребляются для разведения шелковичных коконов.
(обратно)69
Георгий Саакадзе был женат на сестре Зураба Эристави.
(обратно)70
Спасалар — командующий.
(обратно)71
Марчилли — серебряная монета достоинством в пятьдесят копеек.
(обратно)72
Туман (перс.) — денежная единица достоинством в десять рублей.
(обратно)73
Баяти (арабск.) — лирическая песня.
(обратно)74
Ефимка — денежная единица, соответствовавшая пятидесяти копенкам, которая по-грузински называлась «марчилли·».
(обратно)75
Чихтикопии лечаки — старинный женский головной убор в виде бархатного ободка (чихти), поверх которого надевается треугольная вуаль из тюля (лечаки).
(обратно)76
Отрывок из поэмы Теймураза «Жалоба на мир» дается в переводе К. Липскерова.
(обратно)77
Адат (арабск.) — традиционно установившиеся обязательные правила и нормы поведения в обществе.
(обратно)78
Шамхал — титул крупнейших феодальных правителей в Северном Дагестане, имевших резиденции в Терки, близ города Махачкалы.
(обратно)


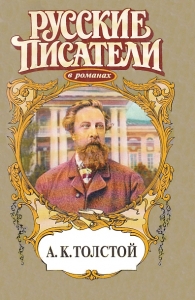







Комментарии к книге «Пламенем испепеленные сердца», Гиви Луарсабович Карбелашвили
Всего 0 комментариев