Нерон, или Актер на троне
Часть первая. Мать
Глава первая. Любимец римского народа
День этот, 26 мая 17 года, надолго запомнился жителям Рима. Лишь только вершины холмов, на которых раскинулась огромная столица империи, осветились первыми лучами солнца, улицы города тотчас пришли в движение. Наскоро перекусив или захватив с собой завтрак, состоявший из куска сухого хлеба, сыра и нескольких маслин, простой люд стремился к Капитолию.
Здесь уже шумела большая толпа горожан. Обитатели многоквартирных домов — инсул из близлежащих улиц Субуры, района, населенного беднотой, мелкими торговцами, ремесленниками, отставными солдатами и просто искателями счастья, заполнили подступы к Капитолию. Подножье холма заблаговременно оцепили легионеры преторианской гвардии, оставив проходы лишь для именитых римлян и знатных гостей, сенаторов, всадников, богатых вольноотпущенников, послов, которым можно было не спешить, чтобы заранее занять себе удобное место. Когда солнце поднимется выше, они прибудут сюда на носилках с женами и детьми, окруженные рабами и клиентами.
Множество людей вышло за городские стены и расположилось вдоль Триумфальной дороги, протянувшейся от Ватиканского холма вдоль правого берега Тибра.
В этот день население римской столицы встречало своего любимца, прославленного полководца Германика, который по случаю блистательной победы, одержанной им над германскими племенами, населявшими берега Рейна, триумфально въезжал в Рим.
Это событие никого не оставило равнодушным, ведь во всей Италии невозможно было отыскать такого римлянина, чье сердце не сжалось бы при воспоминании о страшном несчастье, случившемся восемь лет назад, — ужасном разгроме трех римских легионов, попавших в засаду, устроенную в Тевтобургском лесу молодым вождем германского племени херусков Арминием. Несколько дней отчаянного сопротивления — и все было кончено: римское войско полностью уничтожено, вместе с ним погиб наместник провинции Квинтилий Вар. Немногие счастливцы, уцелевшие в том бою и избегшие плена, рассказывали о зверствах, чинимых германцами над попавшими в плен римлянами и кровавой расправе с ними.
В Риме тяжело переживали злосчастное поражение Вара. Многие опасались даже, что окрыленные победой варвары перейдут Рейн и вторгнутся в пределы самой Италии. Теперь же, когда враг был повержен, когда были погребены останки легионеров и возвращены захваченные германцами значки и серебряные орлы двух легионов, ликованию римлян не было границ.
Солнце уже поднялось. Утренняя свежесть сменялась дневным зноем. Первоначальное возбуждение толпы пошло на убыль. Уже были съедены прихваченные с собой немудреные припасы. Многие мечтали лишь о глотке прохладной воды. Некоторым повезло. Они успели занять местечко в тени оливковых деревьев и теперь, не страдая как другие, переговаривались между собой, перебирая в памяти события восьмилетней давности. При воспоминании об изощренных пытках, которым подвергались пленные легионеры, и их мученической кончине, собеседники мрачнели и тяжело вздыхали. Но вот кто — то упомянул имя Целия Кальда, и лица у всех посветлели. Плененный воинами Арминия, этот доблестный солдат, чтобы избежать жалкой участи своих товарищей по несчастью, сам поспешил навстречу смерти, проломив себе череп тяжелыми цепями, в которые был закован.
В другом месте речь зашла о виновнике торжества Германике. Припомнили его родословную. Племянник правящего императора Тиберия, он был сыном его младшего брата Друза. Родители братьев Тиберий Клавдий Нерон и Ливия наслаждались счастливым браком. Но на беду в двадцатилетнюю красавицу Ливию страстно влюбился Октавиан, будущий император Август. Он развел Ливию с мужем и женился на ней, хотя она была в то время беременна Друзом. Друз умер совсем молодым, неудачно упав с коня. Он оставил сиротами троих детей, старшему из которых Германику едва исполнилось шесть лет, а младшему Клавдию — год. Воспитанием детей занималась их мать Антония, дочь Марка Антония и Октавии, сестры Августа. Антония решительно отвергла все предложения еще раз выйти замуж, являя собой прекрасный образец редкостного для того времени поведения римской матроны. Перебивая друг друга, участники разговора принялись перечислять достоинства матери Германика, которая была гордостью римлян. Кто — то, памятуя об удивительной верности Антонии умершему супругу, сравнил ее с легендарной Пенелопой.
Но тут словно ветер пронесся над головами собравшихся. Все вдруг оживились, задвигались, зашумели. Со стороны Ватиканского холма послышался неясный шум и так же внезапно стих. Но уже через мгновение все вокруг взорвались криком:
— Германик!.. Германик!..
Стоявшие в передних рядах приветственно махали руками и хлопали в ладоши, в задних — поднимались на цыпочки и тянули шеи в сторону приближающейся процессии.
— Германик! Смотрите скорей, смотрите! Вот наш Германик! — восторженно выкликивали обезумевшие от радости люди. Кто — то затянул победную песню и ее тут же подхватили стоявшие вокруг. Хор был на удивление стройным. Ему не требовалось хорега, потому что поющих объединяло общее всем чувство восхищения и гордости победами римского оружия и любви к человеку, приумножившему славу отечества.
Но вот все громче звуки военных труб и рожков, все ближе колесница триумфатора. Она медленно следует между тесных рядов зрителей. Впереди везут военные трофеи. Затем, согласно древнему ритуалу, идут пленники, закованные в цепи. Среди них выделяется высоким ростом и скорбным видом молодая, цветущая женщина. Она привлекает внимание собравшихся своей непривычной для римлян строгой северной красотой. Это Туснельда, жена побежденного Арминия. На руках она держит крохотного сына Тумелика, которому было суждено родиться в неволе. Рядом с Туснельдой идут знатные херуски, взятые римлянами в плен.
Чтобы римляне имели представление о местностях, в которых Германик в течение четырех лет вел боевые действия, в триумфальной процессии везут картины, изображающие горы, реки, военные лагеря, сражения. Нарисованные яркими красками на огромных деревянных щитах, они подняты высоко над землей, чтобы все хорошо видели их. Хотя эти изображения довольно грубые и понять, что именно на них запечатлено, можно, лишь прочитав соответствующие подписи, сделанные внизу, даже такие, безыскусно намалеванные, они наполняют сердца неискушенных зрителей чувством патриотической гордости за свое великое отечество.
Но вот, наконец, в сиянии славы появляется сам Германик. Мужественный и прекрасный облик триумфатора еще больше воспламеняет толпу и вызывает у нее такой взрыв эмоций, что в приветственных криках полностью тонут звуки труб и рожков.
На колеснице за спиной полководца находятся жена Агриппина, такая же прекрасная, как и ее прославленный супруг, и пятеро их детей, среди которых две совсем еще маленькие девочки, годовалая Друзилла и двухлетняя Юлия Агриппина, героиня нашего повествования. Напуганные грохотом непривычного для них шествия и неистовыми криками тысяч восторженных людей, они стоят у ног матери, крепко вцепившись руками в широкие складки ее одежд.
На дорогу, усыпанную зелеными ветками и венками, вновь летят охапки цветов. Разносятся крики, славящие семью Германика и плодовитость его жены.
Солнце уже склонилось к Яникулу, когда триумфальная процессия вступила на Капитолий. Здесь, на специальной трибуне, ее встречают императорская семья Тиберия — Ливия, жена покойного Октавиана Августа, Антония, мать Германика, родовитые сенаторы и гости Рима. Среди последних находится Сегест, отец херуски Туснельды. Сегест всегда оставался верен Риму и питал личную вражду к Арминию, который похитил у него дочь. Однако Туснельда горячо любила мужа и ненавидела римских захватчиков. И вот теперь отец с горечью взирает на дочь, идущую с младенцем на руках перед колесницей победителя.
В сердцах многих римлян, хотя и радующихся за Германика, закрадывается тревожное беспокойство. В разгар праздника им припоминаются их кумиры, которым всеобщее поклонение не принесло счастья. В первую очередь на память приходит отец Германика Друз. Горячая народная преданность не уберегла его от преждевременной и жестокой смерти. Что это? Зависть богов или происки недоброжелателей? «Недолговечны и несчастливы любимцы римского народа», — вздыхает римский историк Тацит, описывая через столетие этот триумф.
А праздник тем временем продолжался. С площадей и улиц он переместился теперь под крыши домов. В роскошных дворцах на Палатине и в убогих лачугах на окраинах города увлеченно обсуждались события уходящего дня. Вместе с Германиком в Рим прибыло немало старых воинов — ветеранов, которые долгие годы служили в рейнских легионах. У них было что рассказать родственникам и друзьям о своем доблестном полководце, об опасностях, которым они подвергались вместе с ним в далекой Германии, победах и временных неудачах.
Вот в небогатом жилище у очага собралась вся семья. Затаив дыхание, слушают пожилого человека. Волосы его седы, лицо обезображено ранами и рубцами, но глаза сверкают молодо и голос звучит как боевая труба. Старый воин вспоминает о своих боевых походах. Но вот кто — то спрашивает его о Германике. Каков он? Что он за человек? И голос сурового солдата, огрубевший от северных ветров и частых ночевок под открытым небом, неожиданно смягчается. С явным удовольствием ветеран начинает рассказывать об обходительности и ласковом обращении своего командира, о том, как жалел он солдат, посещая больных и лично осматривая раненых.
И перед глазами слушателей возникает другой образ Германика — не величественного триумфатора на колеснице, а умного и предусмотрительного командира, который с наступлением ночи, накинув на плечи звериную шкуру, обходит погрузившийся в темноту лагерь и, чтобы глубже понять душу своих легионеров, останавливается возле палаток и слушает, что говорят его воины, которые, выйдя из — под надзора и оставшись в солдатской среде, не таясь, делятся своими надеждами и опасениями.
И так было почти в каждом доме. Всюду звучали слова благодарности Германику, не посрамившему чести римского имени. О нем говорили как о полководце, всегда тщательно вникавшем в ход сражений и причины всех неудач и успехов, неустрашимом и суровом с врагами, отзывчивом и сострадательном по отношению к своим солдатам, решительном и в то же время благоразумном в бою. Вспомнилось немало примеров личной доблести Германика, когда он, сражаясь в первых рядах, своей отвагой увлекал за собой римских легионеров. Особо подчеркивалась его удивительная скромность, доступность и доброта.
В эту ночь обитатели Рима, возбужденные и счастливые, переполненные гордостью за свою великую родину, долго не могли заснуть в своих постелях, благоговейно, как молитву, шепча известные каждому римскому школьнику стихи Вергилия:
Римлянин! Помни всегда — народами править
державно –
В этом искусство твое! — налагать условия мира,
Милость покорным являть и войною обуздывать
гордых.
Глава вторая. Прах героя
Почти три года миновало с памятного дня триумфа Германика, и вновь римляне готовятся к встрече своего любимца. Но как разительно все изменилось! Где былая радость на лицах людей?.. Теперь в их глазах лишь печаль и слезы.
В Италии — траур. Со дня на день ждут прибытия корабля, который должен привезти на родину останки Германика.
Полководец ушел из жизни 10 октября 19 года. Смерти предшествовала внезапная болезнь, против которой врачи оказались бессильны. Поговаривали о преднамеренном отравлении. Называли имена виновных в этом чудовищном злодеянии. Подозрение падало и на известную смесительницу ядов Мартину, к омерзительному искусству которой могли обратиться преступники. Для выяснения всех обстоятельств ее под стражей отправили в Рим.
Смерть настигла Германика в Антиохии, столице Сирии. Здесь, на центральной площади, его тело было предано огню. Из близких присутствовали жена и двое детей, Гай, прозванный Калигулой, и младшая дочь Юлия Ливилла, которая родилась за год до смерти отца. Девочка появилась на свет на острове Лесбосе, где ее родители оказались проездом из Афин. Отсюда они проследовали в Малую Азию, чтобы осмотреть развалины древней Трои, которую римляне считали родиной своих героических предков, да и сами жители Илиона с гордостью заявляли, что Троя — мать Рима.
В Илионе, в местах, овеянных древностью и славой, супруги осмотрели все, что было достойно внимания. Перед гробницей Гектора, легендарного защитника малоазийской твердыни, Германик глубоко задумался — в его голове сами собой складывались стихи:
О поколение Марса, о Гектор, землею
сокрытый, –
Если ты слышишь меня там, глубоко
под землей, –
Можешь спокойно лежать — появился
наследник и мститель:
Славу отчизны твоей он приумножил стократ.
В те минуты римский полководец думал о троянце Энее, который, ускользнув из горящей Трои, после долгих скитаний обрел свою новую родину на берегах Италии, где троянские божества получили окончательное пристанище.
Тонкий ценитель поэзии Германик нередко брал в руки писцовые таблички и погружался в раздумья. Он писал серьезные вещи, такие, как дидактическая поэма о звездном небе, но нередко он словно перевоплощался — и тогда из — под его пера появлялись веселые комедии и насмешливые эпиграммы. Таков был нрав этого необыкновенного человека. Оберегая сошедшее на мужа поэтическое вдохновение, Агриппина старалась не беспокоить его в такие минуты.
Казалось, суровая походная жизнь ничуть не мешала его научным и литературным занятиям. Но его пытливый ум постоянно жаждал новых впечатлений. Однажды зимой, когда все военные действия прекращались, он совершил путешествие в Египет для ознакомления с его древностями.
Как некогда божественный Юлий Цезарь, путешествовавший по Нилу в компании египетской царицы Клеопатры, Германик вместе с женой в сопровождении маленькой речной флотилии поднялся к верховьям реки. Путешественники осмотрели величественные развалины древних Фив, где старейший из жрецов перевел им египетские письмена, повествующие о военных походах фараона Рамсеса II в Ливию, Эфиопию, Персию и дикую Скифию. Но больше всего их поразила главная фиванская достопримечательность — вытесанная из камня колоссальная статуя Мемнона, воздвигнутая здесь полтора тысячелетия назад. На рассвете с первыми солнечными лучами изваяние издавало громкий звук, напоминающий человеческий голос. Кроме пирамид, словно горы возвышающихся среди непроходимых песков, Германика заинтересовали искусственные озера в Фаюме — сложнейшее ирригационное сооружение египетских инженеров.
Эти и другие воспоминания оживали в душе Агриппины, стоящей на палубе корабля, который медленно приближался к италийскому берегу, чтобы доставить на родину прах человека, с которым она прожила бок о бок пятнадцать счастливых лет.
Когда в Рим пришло известие о смерти Германика, весь город погрузился в траур, площади и улицы опустели, дома затворились. Повсюду царило безмолвие, лишь изредка прерываемое горестными воплями. Те, кто воздерживался от внешних проявлений скорби, в душе горевали еще безутешнее.
Оплакивали Германика и чужеземные народы, помнящие о том, как ласков он был с союзниками и мягок с врагами. И простолюдинам, и вельможам нравилась благородная, подобающая высокому сану, сдержанность римского военачальника, его открытость и доброжелательность ко всем людям без исключения.
Поскольку Германик умер поблизости от тех мест, где когда — то прервалась жизнь Александра Великого, и оба прожили немногим больше тридцати лет, многие люди сравнивали их судьбы, признавая при этом, что милосердием и воздержанностью Германик превзошел македонского царя.
Наконец, корабль, совершивший опасное плавание по бурному зимнему морю, поворачивает в сторону гавани приморского города Брундизия. Взору изнуренной горем Агриппины открывается калабрийское побережье и древняя земля саллентинов. Отсюда, с южной оконечности Апеннинского полуострова, ей предстоит проделать еще один скорбный путь — в столицу империи.
Едва корабль показался в открытом море, набережные и гавань стали заполняться народом. Люди облепили портовые сооружения, стены и крыши домов.
Никто не осмеливается нарушить тишину. Сотни глаз напряженно всматриваются в морскую даль. Медленно и бесшумно поднимаются над водой весла. В лучах зимнего солнца они кажутся сверкающими мечами, а стекающая с них вода — кровью. Безмолвие нарушается лишь унылыми криками чаек и плеском волн, поднятых подплывающим к причалу судном.
Но стоило Агриппине с двумя детьми и погребальной урной сойти на берег, как отовсюду раздался общий стон. Несчастная женщина застыла на берегу, устремив взор в землю. Даже суровый Тацит преисполняется жалостью, когда описывает страдания Агриппины. «Женщина выдающейся знатности, еще так недавно счастливая мать семейства, окруженная общим уважением и добрыми пожеланиями, она несла теперь, прижимая к груди, останки супруга, неуверенная, удастся ли ей отомстить, страшащаяся за себя и подверженная стольким угрозам судьбы в своей многодетности, не принесшей ей счастья».
В Брундизии Агриппину встретили родственники, многочисленные рабы и вольноотпущенники Германика и его матери Антонии, сенаторы, легионеры и центурионы, служившие под знаменами покойного полководца. Прибыли выразить свое искреннее горе многие всадники, у которых Германик пользовался большой симпатией и любовью, ведь политика территориальной экспансии, которую он проводил, находила у них неизменную поддержку, так как способствовала развитию торговли и предпринимательской деятельности, сосредоточенных в руках всаднического сословия. Но главным образом здесь собрались те, кто хотел воздать последние почести народному герою, сумевшему обуздать германские племена и отомстить за поражение Вара.
Из Брундизия останки Германика отправляются в центральную Италию, Лаций. Траурная процессия шествует через Калабрию, Апулию и Кампанию. В соответствии с императорским распоряжением урну с прахом полководца несут трибуны и центурионы. В качестве почетного эскорта выделено две преторианские когорты. Впереди идут легионеры с нечищеными в знак траура военными значками и ликторы с повернутыми вниз фасциями, связками перетянутых ремнями вязовых прутьев с воткнутыми в них секирами, символом власти высших должностных лиц.
По мере того как скорбное шествие продвигается к Риму, выражение всеобщего горя возрастает. Из муниципий и колоний, близлежащих городов и деревень толпы мужчин, женщин и детей выходят навстречу процессии. Люди победнее облачились в черное, всадники — в парадные плащи — трабеи, которые надевали лишь в торжественных случаях. Особо состоятельные люди сжигают ценные ткани и благовония, ароматический шафран, нард, душистую смолу — мирру.
В Террацине, городе на юге Лация, к траурному шествию присоединяется двоюродный брат Германика, сын императора Тиберия Друз. Он привез с собой четверых детей Германика, живших в Риме. Среди них и Агриппина, которой уже исполнилось пять лет. С Друзом прибыл Клавдий, родной брат Германика. Юная Агриппина еще не подозревает, какая судьба ей уготована, не знает она и о том, что приблизительно через тридцать лет станет женой Клавдия и римской императрицей.
Наконец, процессия вступает в Рим. Навстречу ей вышли оба консула, сенат и многие горожане. Все подавлены горем и идут нестройной толпой. Никто не сдерживает слез. На всем лежит печать уныния и скорби. Даже пинии, обычно приветливые и лучезарные, сегодня преобразились, их широкие, парящие над холмами кроны кажутся зловещими птицами, распустившими над городом черные крылья.
В Риме погребальная урна с прахом Германика будет помещена в гробнице Августа, в Мавзолее, построенном на левом берегу Тибра неподалеку от Марсова поля, где, кроме Августа, уже покоятся некоторые члены его семьи.
В день прощания с останками Германика народная скорбь достигает кульминации. Кажется, весь город пришел проводить в последний путь своего героя: воины — в боевом снаряжении, магистраты — без всяких украшений и знаков своего ранга. Мужчины — в темной одежде, с покрытой головой, женщины — в белом траурном облачении, с распущенными волосами. Все шумно выражают свою скорбь и громко выкликают имя умершего.
С наступлением вечерних сумерек на Марсовом поле вспыхивают сотни факелов и восковых свечей. Звуки флейт и труб становятся пронзительней. Траурная процессия вступает под своды Мавзолея.
Еще ни о ком в Риме не сокрушались столь горестно и безутешно, как о Германике. Раздавались голоса, что с его смертью Римское государство погибло навсегда, что надежда на возвращение в Рим свободы исчезла окончательно. Сетовали римляне и на то, что Германика похоронили кое — как, что покойному были возданы не все почести, в частности, не было произнесено стихов, прославляющих его память: все это не иначе как происки недоброжелателей, завидующих славе Германика.
Чтобы пресечь толки и смягчить народное горе, Тиберий издал указ, в котором, подчеркнув, что в скорби, как и во всем остальном, следует соблюдать меру, призвал римлян успокоиться и, несмотря на тяжесть понесенной всеми утраты, которая для него тяжела, как и для всех них, стойко перенести ее. В конце эдикта, напомнив о том, что смертны лишь правители, государство же — вечно, Тиберий попросил соотечественников вернуться к своим повседневным делам.
Родившийся спустя полстолетия после описываемых здесь событий, римский историк Светоний написал слова, которые вполне могли бы быть произнесены над прахом Германика: «Всеми телесными и душевными достоинствами Германик был наделен, как никто другой: редкая красота и храбрость, замечательные способности к наукам и красноречию как на латинском, так и на греческом языках, беспримерная доброта, горячее желание и удивительное умение снискать расположение народа и заслужить его любовь».
Таким остался Германик в памяти своих современников и потомков.
Глава третья. Демон мести
Подавленная, но не сокрушенная обрушившимся на нее горем, Агриппина в смерти своего мужа обвинила наместника Сирии Гнея Пизона и его супругу Планцину. Невзирая на мягкость и великодушие Германика, эти люди не упускали ни одной возможности навредить ему. Гней Пизон, человек неукротимого нрава и неуемного тщеславия, видел в Германике своего личного соперника, считая, что и Тиберий молчаливо разделяет его ненависть к удачливому и любимому римским народом полководцу. В строптивости и гордыне Планцина не уступала своему заносчивому мужу. Ее ненависти к семье Германика способствовала и Ливия, которая из женского соперничества преследовала жену внука. Впрочем, и в окружении Германика находились недоброжелатели, которые всячески стремились разжечь в нем вражду к Пизону. Его недоверие к Пизону и Планцине было настолько велико, что перед кончиной он назвал их своими убийцами и просил о скорейшем отмщении. Друзья, находившиеся в тот час у постели умирающего, поклялись отомстить за него.
Принужденный держать ответ перед судом, Пизон прибыл в Рим в конце апреля. Он ничем не выказывал своего беспокойства. Его возвышавшийся над Форумом дом был украшен цветами; в нем часто собирались гости.
Что касается другой обвиняемой, отравительницы Мартины, то в Рим она так и не приехала. Она умерла в Брундизии, на борту корабля, который доставил ее из Сирии. В ее убранных узлом волосах был обнаружен спрятанный ею яд, но ничто не указывало на то, что она воспользовалась им.
В связи с серьезностью обвинения слушание дела было назначено в сенате. Однако доказать, что Пизон отравил Германика, положив ему в пищу яд, не удавалось. Процесс затягивался. Толпа, собравшаяся перед Курией, где заседал сенат, неистовствовала.
Завершилось это дело неожиданно. Перепуганная Планцина обратилась к заступничеству своей могущественной покровительницы Ливии. Всесильная мать императора обещала ей свою поддержку, но посоветовала отдалиться от мужа. Планцина, до этого уверявшая Пизона, что ни при каких обстоятельствах не покинет его и, если надо, умрет вместе с ним, резко изменила свое отношение к нему. Пизон увидел в этом предвестие своей гибели, но сдаваться не собирался.
Накануне заключительного заседания Пизон, заперевшись в своей комнате, набрасывал защитительную речь и писал друзьям письма. Когда же забрезжил утренний свет, его нашли с пронзенным горлом, неподалеку лежал обагренный кровью меч. Трудно сказать, умер ли он по своей воле или от руки подосланного убийцы. Известно лишь, что у него хранились какие — то важные для Тиберия документы, которые в ту роковую ночь бесследно исчезли.
Как бы то ни было, предсмертное желание Германика — по всей видимости, несправедливое — осуществилось. Германик вполне мог умереть от одного из желудочных заболеваний, столь частых и опасных на Востоке. Ведь и Александр Великий умер в цветущем возрасте в тех же местах и тоже не от ран.
А Пизона погубили интриги и мстительность женщин.
В римской истории, хотя и негласно, наступила эпоха женского владычества. В те годы римский военачальник с сорокалетним стажем военной службы Цецина Север заявил в сенате примерно следующее: «Женщины, жестокие, тщеславные и жадные до власти, по своей природе необузданные и упорные в достижении желаемого, освободившись от домашних и семейных уз, норовят распоряжаться уже не только дома и на форуме, но и в войсках». Отчаяние старого солдата понятно, ведь еще Катон Цензор, недовольный тем, что женщины забирают все больше власти, сказал: «Все мужья повелевают своими женами, мы повелеваем всеми мужьями, нами же — женщины». Правда, у большинства сенаторов речь Цецины Севера не вызвала одобрения и несколько раз прерывалась их выкриками с места.
В сентябре 23 года умер единственный сын императора Тиберия, наследник римского престола Друз. Претендентами на императорский трон стали теперь сыновья Германика. Тут и обнаружились честолюбивые вожделения Агриппины, которой после деятельной и полной опасностей жизни в военных лагерях трудно было свыкнуться с незаметным и спокойным существованием в Риме. К тому же вокруг было немало людей, служивших под знаменами Германика и отлично помнящих, как благодаря решительному вмешательству Агриппины римские легионеры не раз выходили из, казалось бы, безнадежной ситуации. Однажды во время военных действий против германского вождя Арминия, когда положение достигло критической точки, она даже взяла на себя командование когортами. Римский писатель Плиний Старший рассказывает, что Агриппина лично встречала и приветствовала римские легионы, возвращавшиеся после удачной стычки с врагом, воздавая им хвалу и благодарность, словно полководец, проводящий смотр своего войска.
Солдаты привыкли подчиняться этой властной женщине, такой же решительной и неустрашимой, как ее супруг. Следует сказать, что Тиберий никогда не одобрял, что вопреки римским обычаям в военном лагере находится женщина, которая живет интересами командующего и даже участвует в его делах.
Трудно себе представить, как эта сильная духом, энергичная женщина могла бездействовать все то время, что прошло после смерти Германика. Чрезмерное честолюбие Агриппины и нежелание смириться с второстепенной ролью, на которую она была обречена в Риме, должны были в конце концов толкнуть ее на путь, ведущий к неотвратимой гибели.
От Германика Агриппина имела девятерых детей: шесть сыновей и три дочери. Трое из них умерло в младенческом возрасте. Мальчики Нерон, Друз, Гай и девочки Агриппина, Друзилла, Ливилла жили в Риме. Когда после германского триумфа Германик с женой уехали на Восток, они оставили в Риме Агриппину с ее старшими братьями Нероном и Друзом и младшей сестрой Друзиллой, взяв с собой одного лишь Гая. Ливилла родилась позже на острове Родосе.
Дети были оставлены на попечении Антонии, бабки по отцовской линии, которая приютила их в своем обширном жилище на Палатине неподалеку от дворца Тиберйя. Вдова Друза, она вырастила в этом доме трех своих детей и теперь охотно взялась за воспитание внуков. Она продолжала заботиться о них и после смерти Германика. С присущей ей суровостью Антония старалась привить внукам такие качества, как скромность, трудолюбие, благочестие, бережливость— добродетели, от которых сама никогда не отступала.
Если раньше Тиберий почти не замечал сыновей Германика, то после смерти Друза изменил свое отношение к ним. В 21 году он женил старшего сына Германика Нерона, которому едва исполнилось пятнадцать лет, на своей племяннице, дочери покойного Друза. Тиберию казалось, что таким образом он упрочит династическую связь между родами Юлиев и Клавдиев и положит конец семейным распрям. Нерону и его брату Друзу были предоставлены некоторые привилегии, которые открывали перед ними путь к политической и военной карьере до достижения необходимого для этого возраста.
Возвышение семьи Германика мешало осуществлению далеко идущих политических планов префекта претория Элия Сеяна, к тому времени сосредоточившего в своих руках огромную власть. Сеян имел исключительное влияние на Тиберия, который полностью доверял ему. По своему положению командующего преторианской гвардией, то есть начальника личной охраны императора, Сеян подчинялся только Тиберию. Преторианская гвардия была привилегированной частью римского войска и пользовалась значительными льготами: преторианцы служили шестнадцать лет, вместо обычных двадцати, и получали жалованье, почти в два раза превышающее жалованье легионера. Преторианцы дорожили своей службой. Их когорты размещались в черте Рима. Так что, по существу, Сеян был вторым после Тиберия лицом в государстве.
Слывущий «злым гением императора», Сеян сеял раздоры в императорской семье, в своих корыстных интересах умело используя личные качества жены Германика, ее высокомерие, властность и строптивость. Понимая, что он не может нанести удар самой Агриппине из — за ее близости к императорскому дворцу, к тому же она была слишком значительной и заметной персоной в Риме, Сеян использовал любую возможность, чтобы досадить людям из ее окружения. Но когда он ложно обвинил в прелюбодеянии ее двоюродную сестру и близкую подругу вдову Вара Клавдию Пульхру, Агриппина, вскипев от негодования, помчалась во дворец к Тиберию и, потеряв всякое самообладание, выложила в лицо ошеломленному старику все, что она думала о нем и его дворе.
Тиберий попросил ее успокоиться и, дружески взяв за руку, вместо ответа произнес стих из греческой трагедии: «Не тем ли ты оскорблена, что не царица ты?» Но благоразумие, видимо, навсегда покинуло упорную в гневе женщину. И когда спустя некоторое время она занемогла и Тиберий пришел проведать ее, она, ударившись сначала в слезы, взялась упрекать императора и в завершение обратилась к нему с весьма странной просьбой. Она просила, чтобы он дал ей нового мужа.
— Я еще молода, — говорила Агриппина, — и во цвете лет. Муж облегчит мое одиночество, ведь для порядочной женщины единственное утешение — в браке.
Тиберий, захваченный врасплох неожиданной для него просьбой вдовы Германика, молча удалился.
Происки Сеяна в конце концов достигли цели. Воспользовавшись юношеским честолюбием и злопамятностью Друза, он восстановил его против старшего брата и уже не скрываясь строил козни Агриппине и Нерону, окружив их своими шпионами.
Коварство временщика не имело границ. Однажды он подослал к Агриппине мнимых доброжелателей, которые ей доверительно сообщили, что Тиберий замышляет отравить ее и что для этой цели уже изготовлен яд. Поэтому ей следует остерегаться и прежде всего воздержаться от пищи в императорском дворце. И вот Агриппина, когда ее в очередной раз пригласили к императорскому столу, возлежа рядом с Тиберием, не притронулась ни к одному блюду. Желая ее испытать, Тиберий протянул ей яблоко, которое она немедленно передала стоявшему рядом рабу. Нахмурившись, император повернулся к матери и после короткого молчания сказал:
— Ты не должна удивляться, если по отношению к той, которая подозревает меня в намерении ее отравить, будут приняты суровые меры.
Еще долго можно было бы рассказывать о соперничестве Сеяна и Агриппины, этих двух рвущихся к власти честолюбцев. Конец обоих был ужасен. Их падение повлекло за собой гибель близких им людей.
В начале 27 года император Тиберий оставил столицу и уехал на остров Капри, где прожил десять лет, лишь изредка наезжая в Рим. По его распоряжению на Капри было сооружено двенадцать великолепных вилл, названных именами богов. Самая роскошная из них, с нависающей над морем террасой, носила имя Юпитера. Здесь в ясные ночи император наблюдал звездное небо.
Через два года после отъезда Тиберия Сеян, обвинив Агриппину и Нерона в заговоре против императора, добился их осуждения. Объявленные врагами государства, они были сосланы: мать — на остров Пандатерию, сын — на остров Понтию. В 31 году, не выдержав испытаний, Нерон наложил на себя руки. Через два года умер от голода его брат Друз. Заточенный в подземелье Палатинского дворца, он в течение девяти дней не получал пищи и скончался в страшных мучениях, поедая набивку своего тюфяка.
В том же году, 18 октября, в ссылке угасла Агриппина. Одни говорили, что ее кончина была вызвана насильственным лишением пищи, другие — что она добровольно уморила себя голодом, когда узнала о жестокой участи Друза. Скорее всего, она сама распорядилась своей жизнью. «Агриппина, — пишет Тацит, — никогда не мирившаяся со скорбным уделом, жадно рвавшаяся к власти и поглощенная мужскими заботами, была свободна от женских слабостей».
Не избежал возмездия и Сеян. В октябре 31 года он был казнен. Вместе с ним погибла вся его семья, включая малолетних детей. Им была уготована мученическая смерть. Рассказывают, что девочка, когда ее с братом волокли в темницу, все время спрашивала:
— Куда меня тащат? Что я сделала? Я больше не буду… Лучше постегайте меня розгами и отпустите к маме, — умоляла она своих мучителей.
Поскольку удавить девственницу было делом неслыханным, то палач, перед тем как накинуть на нее петлю, предварительно надругался над ней.
О кознях Сеяна Тиберию сообщила Антония, мстящая временщику за своих внуков. Она единственная из всех римлян имела смелость раскрыть императору глаза на происки его любимца. Ее доверенному человеку, вольноотпущеннику Палланту, удалось преодолеть все заслоны из доносчиков и шпионов, которыми Сеян окружил на Капри Тиберия, проникнуть к императору и вручить ему разоблачительное послание Антонии.
Агриппина умерла ровно через два года день в день после казни Сеяна. Вслед за ее смертью последовала кончина ненавистной ей Планцины, избегшей в свое время наказания в связи с обвинением в отравлении Германика. Она собственноручно умертвила себя.
Сколько сил и страстей вложили все эти люди в достижение своих целей! И как плачевен их конец! Обдумывая события этого времени, Тацит заключает:
«Чем больше я размышляю о недавнем или давно минувшем, тем больше раскрывается передо мной, всегда и во всем, суетность дел человеческих». Безотрадной меланхолией веет от этих слов.
Глава четвертая. Свадьба на Капри
Названная именем матери, старшая дочь Германика родилась 6 ноября 15 года в Германии, в военном лагере римских легионеров, размещенных в низовьях Рейна. Здесь прошло ее младенчество. Каждое утро она пробуждалась под пение военных горнов и, вслушиваясь в многоголосный шум армейского лагеря, научилась различать хриплые голоса центурионов, отдающих команды. Звон мечей, стук топоров и топот марширующих на плацу солдат стали для нее привычнее звуков кифары.
Мать почти не занималась дочерью. Она старалась быть всегда рядом с мужем, входила во все его заботы, энергично вмешивалась в лагерную жизнь, разумеется, когда Германик отсутствовал и этого требовала ситуация.
Как мы уже знаем, в трехлетнем возрасте Агриппина оказалась в доме своей бабки Антонии, матери Германика. Здесь она получила суровое воспитание в духе староримских обычаев. Однако, несмотря на старания добродетельной Антонии, стыдливость и целомудрие — эти два украшения женщины — не привились ее внучкам. Строгие методы воспитания, сведение к минимуму поблажек и ласк не смогли противостоять общей атмосфере нравственной распущенности и испорченности, царившей в Риме. И толстые стены дома на Палатине не уберегли детей Германика от худших из пороков времени: половой разнузданности, наглости, кичливости.
Бабка ревностно поддерживала во внуках память об их выдающемся отце. О военных подвигах Германика постоянно напоминала триумфальная арка, воздвигнутая в его честь в Риме. На ней были выбиты слова «Знамена возвращены. Германцы повержены», повторенные на монете, отчеканенной по случаю этого незабываемого события.
Дети были знакомы с книгами отца, из которых они узнавали множество интересных вещей о звездах, атмосферных явлениях, временах года. Талантливо и поэтично изложил Германик некоторые греческие и римские мифы и рассказал о трех веках человечества: золотом, серебряном и медном. Видимо, от отца унаследовала Агриппина свои литературные способности, проявившиеся впоследствии в ее «Мемуарах».
С жадностью и восхищением слушали внуки рассказы бабки о ее легендарном отце Марке Антонии, сражавшемся под знаменами самого Юлия Цезаря. Правда, о его безумной страсти к египетской царице Клеопатре, ради которой он оставил свою законную жену Октавию, Антония предпочитала умалчивать, не охотно вспоминала о своей матери. На всем протяжении связи Антония с Клеопатрой добрая и самоотверженная Октавия терпеливо хранила верность мужу, а после его самоубийства и смерти египетской царицы взяла к себе их детей и воспитала вместе с двумя своими дочерями.
В доме Антонии Агриппина провела десять лет. Когда ей пошел четырнадцатый год, она навсегда покинула этот гостеприимный кров, чтобы перейти в дом мужа — Гнея Домиция Агенобарба.
Супруга для внучки выбрал лично Тиберий. Он принадлежал к старинному аристократическому роду Домициев, давшему Риму восемь консулов и двух цензоров. Домиции породнились с семейством Августа через его сестру Октавию. Старшая дочь Октавии и Марка Антония была замужем за Люцием Домицием Агенобарбом. Таким образом, муж Агриппины приходился ей двоюродным дядей.
Брак был заключен на Капри, куда Тиберий вызвал внучку и ее будущего супруга.
Перед отъездом из Рима юная Агриппина принесла в жертву Ларам, богам — покровителям дома и семьи, свои детские игрушки, куклы и девичье платье. Так поступали в канун свадьбы все молодые римлянки.
На Капри в назначенный для бракосочетания день Агриппину облекли в длинную тунику прямого покроя, стянутую белым шерстяным поясом, завязанную двойным «геркулесовым узлом», сверху накинули оранжево — желтое покрывало — паллу, окутавшее всю ее фигуру. Такого же яркого цвета, как палла, были сандалии. На шею надели блестящее металлическое ожерелье. Специальные рабыни долго возились с ее прической. Разделив волосы на шесть прядей и в плетя в них узкие шерстяные ленты, они уложили их особым образом вокруг головы. Волосы и верхнюю часть лица прикрыли короткой огненно — красной фатой, поверх которой возложили венок из вечнозеленого мирта и белых цветов апельсинового дерева — символа девичьей чистоты.
В приемном зале императорского дворца был совершен обряд жертвоприношения. После принесения в жертву богам свиньи настал черед гаданий. Полагалось узнать, благосклонно ли относятся боги к заключаемому браку. Лишь после того, как были получены знаки расположения богов, десять свидетелей подписали брачный контракт. Жених и невеста в присутствии собравшихся подтвердили свое согласие вступить в брак, и Агриппина произнесла ритуальную формулу: «Где ты Гай, там и я — Гайя», подтверждая этими словами, что отныне она и ее супруг неразделимы и что она обязуется хранить ему верность.
Девочка, еще ребенок, едва расставшись с куклами, Агриппина стала женой человека, который был намного старше ее. Верила ли она в то, что приобретает в его лице друга, защитника, наставника? О чем она думала в те минуты? Трудно сказать. Только вряд ли это были мысли о любви.
Наконец, после небольшого пиршества, устроенного Тиберием, молодых провожают на виллу, предоставленную им императором.
Уже вечереет. На маленький, словно занесенный в море лепесток яблони, остров спускаются ранние сумерки. В полумраке очертания скал нежны и нечетки. В быстро темнеющем море загораются первые, еще бледные звезды. Среди них выделяется вечерняя звезда Веспер.
Порыв ветра доносит с берега горьковатый запах костра. Внизу под отвесными скалами готовят свои лодки к ночному лову рыбаки. Их голоса глухи и неразборчивы. Рыбаки гремят цепями, стучат длинными веслами. Слышно, как о днища лодок плещет вода.
В теплом воздухе, напоенном запахами лета, мелькают летучие мыши. Их полет бесшумен и стремителен. Робко, еще неуверенно пробуют свои голоса ночные птицы. Но уже повсюду, на деревьях, в кустах, камнях и траве слажено и сладострастии стрекочут цикады.
Как только в дверях, украшенных венками из красных и белых цветов душистой вербены и пряного майорана, показываются молодые, тотчас вспыхивают факелы и музыканты подносят к губам флейты.
Невесту ведут два мальчика, держа ее за руки. Третий, размахивая свадебным — из плотно сплетенных прутьев терновника — факелом, идет впереди. За ним выступают три девушки. Две из них несут прялку, третья — веретено — символы женской добродетели и домашнего труда.
Хор, состоящий из девушек и юношей, затягивает свадебную песню, славя бога брака Гименея:
Ты, холмов Геликонских страж, сын богини Урании, к мужу деву ведущий бог, славься, бог Гименей, Гимен! О Гимен, Гименей!
Вот, идешь! Вот, идешь ты! Прекрасна, как нежный мирт, весь цветами усыпанный, напоенный лесною росою. Полно плакать! Ведь красивее девушки не видал еще день. Ты цветешь как гиацинт в саду богача за крепкой оградой. Как гибкая лоза — ствол дерева, так ты своими нежными объятиями обвей счастливого избранника, — обращаясь к невесте, поют девушки.
Им вторят юноши:
— Кто сравнится красотой с молодой невестой? Как цветок она расцвела, словно белая лилия, словно мак огнецветный. Счастья вам, новобрачные! Долгие лета! Пользуйтесь даром юности, не теряйте дни молодые!
— О Гимен, Гименей! Хвала Гименею, Гимену! — сливаются голоса всего хора.
Слова песни разносятся по каменистому острову и замирают далеко в море.
Вышедшие на лов рыбаки с любопытством прислушиваются к музыке и пению, доносящимся с острова, и всматриваются в мелькающие на нем огни.
И только звезды, безучастные как и тысячу лет назад, равнодушно изливают свой холодный свет на затерянный в море островок.
Глава пятая. Перстень Тиберия
Мудрый Сократ когда — то сказал: «Если бы удалось заглянуть в душу тиранов, то нам предстало бы зрелище ран и язв, ибо как бичи разрывают тела, так жестокость, любострастие и злобные помыслы — душу».
Тиберий не раз признавался, что затворничество на Капри не оградило его от душевных терзаний и мук. Однажды в порыве труднообъяснимого откровения, он написал в сенат письмо, документ удивительной искренности, в котором казнил самого себя за совершенные им злодеяния. «Пусть боги и богини, — писал Тиберий, — нашлют на меня еще более тягостные страдания, нежели те, которые я всякий день ощущаю и которые влекут меня к гибели».
Разве это не мучительная исповедь человека, ставшего заложником собственных страстей? Призванный посвятить свою жизнь благосостоянию государства, Тиберий оказался раздавленным тяжестью свалившейся на него власти. А ведь многим сенаторам была еще памятна речь, с которой он однажды обратился к ним:
— Я не раз говорил и повторяю, отцы — сенаторы, что добрый и благородный правитель, обязанный вам столь обширной и полной властью, должен быть всегда слугой сенату, порою — всему народу, а подчас — отдельным гражданам.
Благие намерения! Мы их часто слышим из уст сильных мира сего, но редко видим осуществленными на деле. Как тут не вспомнить слова Тацита: «Отнюдь не то — зло и благо, что признается таковыми толпой; многие, одолеваемые, как мы себе представляем, невзгодами, счастливы, тогда как иные, хотя и живут в богатстве и изобилии, влачат жалкую участь, а вторые неразумно пользуются своей удачливой судьбой».
Однако вернемся к нашему повествованию. Покончив с Сеяном, Тиберий всецело доверился Макрону, негодяю еще большему, чем его предшественник. Поставив его во главе преторианской гвардии, он по сути дела передал ему бразды правления в Риме, поскольку сам наведывался в столицу крайне редко.
После смерти Сеяна Тиберий неожиданно приблизил к себе сына Германика, девятнадцатилетнего Гая, по прозвищу «Калигула», что значит «сапожок». Так же как Агриппина, он родился в римском военном лагере на берегу Рейна и так же, как она, провел свои младенческие годы в солдатской среде. О рождении сына у Германика было сообщено в «Ежедневных ведомостях римского народа», газете, содержавшей, в частности, сведения о событиях в семье императора. Мальчик рос среди солдат и носил одежду и обувь простых воинов, за что получил от них ласковое прозвище «Калигула». Впоследствии в Риме ходил о нем стишок: «В лагере был он рожден, при отцовском оружии вырос».
За то время, что Калигула находился возле деда, на Капри, он глубоко постиг науку лицемерия и притворства. Но проницательный старик ничуть не заблуждался в отношении личных качеств своего внука. Однажды, когда тот в его присутствии высмеивал Суллу, он пророчески изрек:
— Не спеши с выводами, мой мальчик. Настанет время, и ты будешь обладать всеми пороками порицаемого тобой Суллы и, боюсь, ни одной из его добродетелей.
Входивший в силу Макрон решил сделать ставку на Калигулу. В нем он видел реального преемника престарелого Тиберия. Часто бывая на Капри, он во всем угождал молодому человеку, в своих низменных целях пробуждая в нем дурные инстинкты. Проведав о его непомерном сластолюбии, Макрон уговорил свою жену Эннию «изобразить влюбленность и прельстить темпераментного Калигулу. Эннии удалось не только соблазнить испорченного юнца, но и добиться от него — как того требовал Макрон — обещания жениться на ней. Макрон рассчитывал, что через Эннию он сможет легко влиять на Калигулу, а со временем и вовсе приберет его к своим рукам. Не учел он одного: двадцатипятилетний шалопай, уже давно выросший из мундирчика маленького легионера, был способен сам перехитрить кого угодно и, не задумываясь, давать любые обязательства, лишь бы заполучить императорскую власть.
Пользуясь своим исключительным положением в Риме, Макрон, чтобы избавиться от некоторых неугодных ему сенаторов, затеял скандал, в центре которого была некая Альбуцилла, известная своими бесчисленными связями. Ей было предъявлено стандартное в то время обвинение в неуважении к императору. Вместе с ней к суду были привлечены ее любовники, люди, принадлежащие к знатным римским родам и имеющие большое влияние в государстве. Среди них оказался и Гней Домиций Агенобарб, муж Агриппины. Девять лет назад Тиберий выказал свое расположение к нему, выдав за него замуж свою внучку. Породнившийся с императорской семьей Клавдиев, Гней Домиций Агенобарб в глазах Макрона был личностью опасной.
Несмотря на родственные связи с императором, уклониться от суда Домицию не удалось. Были схвачены и допрошены его рабы. Под пытками Макрон вырвал у них признания, изобличающие их хозяина. Чувствуя, что земля уходит из — под его лог, Домиций всячески пытался тянуть время, сказав, что ему нужен некоторый срок, чтобы подготовить речь в свою защиту. Именно в этом оказалось его спасение, потому что 16 марта 37 года после двадцати трех лет правления на семьдесят восьмом году жизни император Тиберий умер.
Дыхание старого императора пресеклось в Кампании на его вилле на Мизенском мысу, неподалеку от портового города Неаполя.
Смерти Тиберия предшествовали следующие события.
С первыми днями весны Тиберия страстно потянуло в Рим. Он словно чувствовал, что это была последняя для него возможность побывать в столице заброшенной им империи. Переправившись из Капри в Кампанию, он направился прямо к берегам Тибра. Уже завидев было стены города, он внезапно, не приближаясь к ним, повернул назад. Говорят, его устрашило какое — то недоброе знамение, и потому он поспешил вернуться на Капри.
В Астуре император почувствовал себя плохо и, после остановки в Цирцее, не медля отбыл в Мизен, чтобы там сесть на корабль. Но из — за непогоды и поднявшегося на море волнения ему не удалось в тот же день переправиться на остров.
Жизненные силы уже покидали его. Однако он тщательно и, похоже, небезуспешно скрывал ото всех свое нездоровье. Но все же не смог обмануть своего давнего друга, врача Харикла, который, видимо, уже заподозрил неладное. Под каким — то предлогом раньше времени уходя с пира, он, прощаясь с Тиберием, как обычно, взял для поцелуя его руку и незаметно, как ему казалось, пощупал пульс. Это движение не ускользнуло от взора подозрительного императора. Он попросил друга вернуться и не покидать пиршества, которое намеренно затянул до позднего часа.
Утром все, в том числе Макрон и Калигула, сопровождавшие Тиберия в этой поездке, были извещены о том, что императору осталось жить не более двух дней. Впрочем, он и сам чувствовал свой близкий конец.
Родившийся в год смерти Тиберия иудейский историограф Иосиф Флавий пишет, что император попросил у богов знака для разрешения мучившего его вопроса о престолонаследнике. Самому Тиберию хотелось бы оставить трон не внучатому племяннику Калигуле, а своему единокровному внуку Тиберию Гемеллу, которому исполнилось шестнадцать лет. Но у Калигулы было больше шансов оказаться на императорском престоле — он был старше Тиберия Гемелла, его, как сына Германика, горячо любили римские легионеры, наконец, его поддерживал всемогущий префект претория Макрон.
Приняв решение, Тиберий приказал, чтобы утром следующего дня оба претендента предстали перед ним — он сообщит им свою последнюю волю. Про себя он решил, что власть достанется тому, кто первым войдет в его комнату.
С первыми лучами солнца Калигула был уже у дверей Тиберия, тогда как его незадачливый соперник все еще мешкал с завтраком. Императору ничего не оставалось, как поручить империю и Тиберия Гемелла заботам прыткого Калигулы. В этот последний час, пишет иудейский историк, Тиберий со своим представлением, что бог всегда бодрствует и вмешивается в человеческие дела, впервые осознал, что его собственная личность, его воля и авторитет — ничто в сравнении с беспредельным божественным могуществом, ведь бог, по существу, лишил его права выбрать себе наследника.
Сознание своего бессилия повергло Тиберия в глубочайшую депрессию: он знал, что его внук потерял не только империю, но и жизнь. Император погрузился в коматозное состояние, так что окружающие сочли его мертвым.
Увидев Тиберия бездыханным, все тотчас кинулись поздравлять Калигулу, который с юношеской нетерпеливостью поспешил завладеть символом императорской власти, перстнем с печатью, которой Тиберий закреплял государственные указы.
Сорвав перстень с пальца императора, Калигула отбросил свое притворное смирение. Он необычайно оживился.
— Наконец я император! Император Гай! — восторженно восклицал он, вслушиваясь в еще непривычное для него сочетание слов.
Он смеялся, радостно хлопал в ладоши, вертелся и подскакивал, как малый ребенок. И вдруг:
— Мне холодно. Укройте меня.
И снова:
— Мне холодно. Я хочу есть.
Слабый, как шелест, стон, доносился с постели императора. Тиберий, только что бывший недвижимым и безгласным, постепенно приходил в себя, сначала к нему вернулся голос, потом зрение.
— Перстень. Где мой перстень? Верните мой перстень, — хрипел старик.
Поверженные в ужас, все разбежались.
Вид Калигулы был ужасен. В перекошенном судорогой лице — ни кровинки. Помертвевшие от страха губы все еще улыбались, но это была уже не улыбка, а гримаса до смерти перепуганного человека, разом утратившего дар речи и способность соображать.
Растерявшийся на какую — то секунду Макрон мгновенно овладел собой. Молниеносно выхватил из рук потрясенного — Калигулы перстень и вложил Тиберию в ладонь. Старик успокоился и сжал холодные пальцы.
Макрон позвал разбежавшихся слуг и велел им набросить на старика одеяла и ворох шерстяной одежды. Затем, удалив всех из спальни, подтолкнул оцепеневшего Калигулу к ложу умирающего и вместе с ним навалился на едва дышащего Тиберия. Немного усилий… и под грудой тяжелых одежд император испустил дух.
Глава шестая. Меднобородые
Смерть Тиберия спасла мужа Агриппины. Ему грозило самое суровое наказание. Один из обвиняемых по делу Альбуциллы уже покончил с собой: не дожидаясь суда, он вскрыл себе вены.
Что касается Гнея Домиция Агенобарба, то Макрону не стоило особого труда найти против него обвинение. Гней был действительно личностью отвратительной, наделенной одними лишь пороками и абсолютно лишенной добродетелей. Он вступил в кровосмесительную связь со своей сестрой Лепидой, которая потом вышла замуж за Валерия Мессалу Барбата и родила ему дочь Мессалину, чье имя связано с самыми скандальными страницами римской истории.
Воры, насильники и взяточники в роду Домициев были не редкостью. От своего деда, который, как все Агенобарбы, имел рыжеватую бороду (отсюда и прозвище — Агенобарб означает „меднобородый“), Гней, по словам оратора Лициния Красса, унаследовал медную бороду, язык из железа и сердце из свинца. Однажды в припадке гнева он убил своего вольноотпущенника только за то, что тот отказался подчиниться его прихоти и пить с ним, сколько ему велели. В другой раз во время вспыхнувшей ссоры он посреди Форума выбил глаз римскому всаднику. Похоже, на этого негодяя не было никакой управы. Проезжая как — то по Аппиевой дороге и увидев на ней маленького мальчика, он нарочно подхлестнул лошадей и с разгону задавил ребенка.
Кроме патологической жестокости, Гней Домиций отличался наглым мошенничеством: он не платил посредникам за вещи, приобретенные на аукционах; будучи претором, бесцеремонно присваивал награды, завоеванные победителями на скачках.
Таков был муж Агриппины, дочери великого Германика.
Обвиненный в оскорблении величества и заключенный под стражу, Гней Домиций после смерти Тиберия неожиданно оказался на свободе. Не чувствуя от радости земли под ногами, он помчался в дом супруги, и оба, пребывая в эйфории от того, что смерть лишь коснулась его своим крылом, отпраздновали счастливое событие, проведя ночь вместе, чего они не делали уже многие годы, — в супружеской постели.
Вскоре Гней оставил Рим и скрылся в Пиргах, в своем поместье на берегу Тирренского моря. Агриппина же ровно через девять месяцев после смерти Тиберия, 15 декабря 37 года родила своего первого и единственного сына, будущего императора Нерона. Произошло это в Анции, куда в ожидании родов уехала Агриппина. Здесь, в маленьком приморском городке, чуть южнее Остии, издавна находились виллы богатых римских патрициев.
Роды были тяжелые. Плод шел ножками вперед. В таких случаях всегда была угроза для жизни роженицы. Благодаря юному возрасту Агриппины — ей было всего лишь двадцать три года — все завершилось благополучно, и перед глазами испуганных повитух появилось крохотное существо, сплошь покрытое рыжеватым пушком и с такого же цвета волосами на круглой головке. Малыш был точной копией своего отца, вылитым Агенобарбом.
Сходство отца с сыном было столь поразительным, что дошедший до нас мраморный бюст Гнея Домиция долгое время считался изображением Нерона.
Гней не присутствовал при рождении сына. Избежав смертельный опасности, он теперь дрожал при малейшем шорохе, к тому же он уже тогда начал страдать от водянки, через три года унесшей его в могилу. Когда ему сообщили о том, что у него родился сын, то в ответ на поздравления он воскликнул:
— От меня и Агриппины не может родиться ничто, кроме мерзости и всеобщей пагубы.
Не приехал он и в самый торжественный для семьи день очищения, когда отец новорожденного официально признавал его своим законным ребенком. По римскому обычаю, уходящему своими корнями в седую древность, на девятый день после рождения мать клала ребенка на землю у ног отца, который брал младенца на руки в знак его признания. Лишь после свершения этого обряда новорожденный становился полноправным членом семьи и получал свое имя.
В отношении сына Агриппины эта старинная церемония была не более чем формальностью. Поскольку отец мальчика отсутствовал, выполнить этот ритуал пришлось брату матери Калигуле, который и поднял младенца с земли. Как того требовал обычай, Агриппина спросила, какое имя дать ребенку. Калигула обвел глазами присутствующих и, увидев своего дядю Клавдия, ответил с издевательским смехом:
— Назовем его Клавдием.
Разумеется, это была всего лишь шутка — неуместная и злая. Ни Агриппина, ни ее ребенок не заслуживали такой жестокой насмешки, как, впрочем и сам Клавдий, против которого она была направлена. В императорской семье он считался законченным кретином, с ним обращались как с дурачком, всячески унижая и делая всеобщим посмешищем. Кто знает, может быть, как раз благодаря этой славе семейного шута Клавдий не только сохранил себе жизнь, но со временем стал римским императором?
Нам не известно, как была воспринята Агриппиной шутка не к месту развеселившегося брата. Ей, конечно, хотелось, чтобы в этот праздничный день звучали не насмешки, а стихи, вроде тех, что сложил для своего друга поэт Тибулл:
Гений рождения твой будь славен на многие лета,
Светел во веки веков, с каждым приходом светлей!
Своего же первенца она нарекла Луцием — Луцием Домицием Агенобарбом.
Глава седьмая. Маньяк у власти
День, в который сын Агриппины получил имя, стал последним спокойным днем не только для императорской семьи Юлиев — Клавдиев, но и для всего Рима. Менее года управлял Калигула империей как здравомыслящий и справедливый властитель. Внезапно его поведение резко изменилось, и всеми одобряемый император превратился в самого сумасбродного и кровавого деспота, какого только знает римская история.
Эта неожиданная перемена в поведении императора поставила в тупик как древних, так и современных историков. Калигула и прежде проявлял свою истинную натуру — лицемерную, коварную, жестокую, и неудивительно, что императорская власть быстро вскружила ему голову. Однако такое объяснение не могло удовлетворить древних: уж очень чудовищными и неслыханными были его извращенность и кровожадность. Пытаясь понять случившееся, античные историки придают огромное значение болезни, из — за которой в конце 37 года Калигула долгое время находился между жизнью и смертью. Должно быть, он чувствовал, что его конец может наступить каждую минуту, и поэтому оставил завещание, в котором своей наследницей назначил Друзиллу, самую любимую — во всех смыслах — из сестер.
В дни болезни императора весь Рим трепетал, страшась самого худшего. Даже ночью многие горожане не покидали Палатина, вознося перед дворцом Калигулы молитвы к богам и давая письменные обещания на его спасение. Нашлись и такие, кто предлагал отдать собственную жизнь ради выздоровления императора. К несчастью, они были услышаны. Калигула выжил. Но заболевание не прошло для него бесследно. По всей видимости, речь должна идти об острой форме менингита с серьезными мозговыми последствиями. С тех пор его не оставляли маниакальная подозрительность и навязчивая идея преследования.
Нередко его охватывал такой всепоглощающий страх, что он совершенно терял голову; панически боялся грома и молнии и при сильной грозе забивался под кровать. А мания величия развилась в нем до такой степени, что, приказав как — то собрать в Греции наиболее ценные и прославленные статуи богов, он распорядился срубить им головы и заменить своими, высеченными из мрамора. Императорский дворец на Палатине он велел соединить мостом с Капитолием, где находилась древнейшая римская святыня, храм Юпитера Капитолийского, и часто в полнолуние прогуливался по мосту, беседуя с богом, иногда что — то шепча ему, но нередко, приходя в ярость, грозил кулаком и слал проклятия.
Первой жертвой его подозрительности пал Тиберий Гемелл. То, чего опасался покойный император Тиберий, произошло. Случилось так, что юноша начал принимать лекарство от кашля, запах которого вызвал у Калигулы подозрение в том, что его троюродный брат, не доверяя ему, принимает противоядия.
— Как?.. Противоядие — против Цезаря? — вскричал Калигула и отдал приказ военному трибуну зверски умертвить юношу.
Это убийство положило начало кровавой бойне, устроенной Калигулой в императорском дворце. Следующей жертвой стала его бабка Антония, которая не раз спасала ему жизнь и в доме которой он провел свои отроческие годы. Семидесятичетырехлетняя старуха не угодила ему тем, что постоянно надоедала своими упреками. Затем наступил черед Макрона, вина которого заключалась в том, что он пытался увещевать распоясавшегося тирана и призвать его к сдержанности. Не пощадил Калигула и его жену Эннию, отдав распоряжение убить ее.
За короткий срок были истреблены многие высокопоставленные римляне под тем предлогом, что во время болезни императора они желали его смерти. Но и тех, кто поклялся отдать за него жизнь, он обязал выполнить обещание. В тайных бумагах Калигулы хранились две тетрадки, под заглавием „Меч“ и „Кинжал“, — в них содержались имена людей, которых он наметил уничтожить.
Представители высших сословий, сенаторы и всадники, ссылались в рудники и на дорожные работы, бросались на растерзание диким зверям. Наслаждаясь мучениями своих жертв, Калигула заставлял отцов присутствовать при казни сыновей. Наивысшее удовольствие он получал, принуждая несчастных шутить и веселиться на глазах умирающих детей. Когда один из них, уже не в силах выдержать зрелища терзаний своего сына, попросил у тирана позволения закрыть глаза, тот, издеваясь, изрек:
— Разумеется, можно — и навеки.
Бедняге тут же отрубили голову. Свирепость не покидала его и во время попоек. По приказу принцепса на глазах у пирующих велись допросы и пытки заключенных, здесь же находился палач для немедленного приведения в исполнение смертных приговоров. Однажды, когда какой — то раб стащил что — то во время пирушки, Калигула велел отрубить ему руки, повесить их ему спереди на шею и провести перед всеми гостями.
Как — то раз во время ужина он внезапно расхохотался и на вопрос возлежавших рядом с ним консулов, что его так развеселило, ответил:
— Только то, что стоит мне кивнуть, и вам обоим перережут глотки.
„О если бы у римского народа была только одна шея!“ — не раз восклицал этот безумный человек, сокрушаясь, что не может расправиться со всеми сразу и одним ударом всем снести головы.
Но с наибольшей остротой психическое расстройство и жажда насилия проявились у Калигулы в его сексуальных связях. Извращенец и сластолюбец, он уже подростком отличался неуемной похотливостью. Еще в доме бабки он лишил девственности своих сестер Друзиллу и Юлию. Часто, ускользнув от надзора Антонии и, чтобы не быть узнанным, надев парик и длинный плащ, он проводил ночь в самых сомнительных притонах.
Особую страсть он испытывал к мужчинам. Валерий Катулл, юноша из консульской семьи, хвалился по всему Риму тем, что от забав с императором у него болит поясница. А свое увлечение мимическим актером Мнестером не скрывал и сам Калигула. Когда Мнестер выступал во дворце или в театре, Калигула иной раз так воспламенялся, что, уже не стесняясь, бросался к танцовщику и страстно целовал его.
Среди любовников императора выделялся красотой и древностью рода Марк Эмилий Лепид. С ним и Мнестером Калигула практиковал совместные совокупления и для обоих был готов на любые уступки. Лепиду он даже отдал в жены свою любимую сестру Друзиллу, вскоре оказавшись третьим в их супружеской постели.
Женщин он обожал — сладострастных, в любви — непредсказуемых, в разврате — безудержных, причем предпочтение отдавал замужним. „Ни одной именитой женщины, — читаем у Светония, — он не оставлял в покое. Обычно он приглашал их с мужьями к обеду, и когда они проходили мимо его ложа, осматривал их пристально и не спеша, как работорговец, а если иная от стыда опускала глаза, он приподнимал ей лицо своею рукою. Потом он при первом желании выходил из обеденной — комнаты и вызывал к себе ту, которая больше всего ему понравилась; а вернувшись, еще со следами наслаждений на лице, громко хвалил или бранил ее, перечисляя в подробностях, что хорошего и плохого нашел он в ее теле и какова она была в постели“.
Вот типичная для того времени сцена. Гай Пизон празднует свою свадьбу с Ливией Орестиллой. Внезапно появляется Калигула. Ему отводят место напротив новобрачных. В самый разгар пиршества и всеобщего веселья, как гром среди ясного неба, разносится крик:
— Прочь лапы от моей жены!
Тут же воцаряется мертвая тишина. Гости смотрят друг на друга с недоумением и испугом. Больше всех озадачен счастливый жених. Но похоже, все ослышались, и застолье продолжается.
— Тебе говорю… Прочь лапы от моей жены!
Сомнений нет. Визгливый голос принадлежит императору. Он злобно уставился на Пизона. Затем, словно взбесившись, вскакивает с ложа, кидается к невесте и, схватив за руку, увлекает за собой.
На следующий день Калигула объявляет эдиктом, что нашел себе жену. А еще через несколько дней отпускает ее, запретив вступать с кем бы то ни было в интимные отношения.
После нескольких подобных браков он остановил выбор на своей давней любовнице Цезонии, которая не отличалась ни красотой, ни молодостью, — была на десять лет старше его и от прежнего мужа уже имела дочерей. Но в любовных делах ей не было равной. Часто во время пирушек с друзьями Калигула заставлял ее раздеваться, и она, абсолютно лишенная стыдливости, охотно оставалась голой.
В своей сексуальной маниакальности Калигула, как уже отмечалось, не пощадил даже сестер и со всеми тремя находился в преступной связи. Но Друзиллу любил больше, чем других. Когда поздней осенью 38 года она умерла, он погрузился в траур и отрастил волосы и бороду. Похоже, эта смерть так его потрясла, что он окончательно лишился рассудка.
Даже внешность этого человека, как ее рисуют Сенека и Светоний, отвратительна. „Росту он был высокого, цветом лица очень бледен, тело грузное, шея и ноги очень худые, глаза и виски впалые, лоб широкий и хмурый, волосы на голове — редкие, с плешью на темени, а по телу — густые. Поэтому считалось смертным преступлением посмотреть на него сверху, когда он проходил мимо, или произнести ненароком слово „коза“. Лицо свое, уже от природы дурное и отталкивающее, он старался сделать еще свирепее, перед зеркалом наводя на него пугающее и устрашающее выражение“.
Глава восьмая. Последняя „шутка“ Калигулы
Январь 41 года… С утра небо заволокло низкими тучами. Не переставая моросит дождь. Он такой мелкий и частый, что, кажется, весь мир растворился в нем. Дождь над Кампанией. Дождь над Луканией. Дождь над Тирренским морем и островами, как черные утесы возвышающимися над водой. Тоскливо и одиноко в такое время и людям, и птицам, и зверям. Хорошо, если есть теплый дом, сухое гнездо, укромная нора. Отрадно в ненастье оказаться под гостеприимной кровлей и коротать вечер у жарко натопленного очага, под шум дождя уносясь мыслью туда, где бушует непогода.
Над морем быстро темнеет. В сгущающихся сумерках и дожде исчезает маленький островок Пандатерия. Даже его камни источают уныние, так здесь пустынно и безлюдно.
Вот уже два года, как на острове томятся, заточенные на нем, дочери Германика. В это гиблое место, где когда — то обрела смерть их мать, Агриппину и Юлию Ливиллу сослал Калигула.
Сестры, уставшие он постоянных унижений и безумных прихотей брата, вступили в тайное соглашение против него, посвятив в свои планы Марка Эмилия Лепида, объятий которого не миновала и Агриппина. Впрочем, с помощью этого римского красавца и любовника Калигулы, которого последний после смерти Друзиллы неосторожно объявил своим наследником, она надеялась сделаться римской императрицей. Лепид был также не прочь вступить в брак с дочерью Германика, с полным основанием полагая, что римский сенат не будет возражать против такого союза.
Агриппина уже давно перестала считаться со своим мужем Домицием, медленно умиравшим в Пиргах, чувствовала себя совершенно свободной и сама распоряжалась своей судьбой. Она находилась в цветущем возрасте — ей было всего лишь двадцать пять лет. Недавнее материнство смягчило линии ее тела, напоив его нежной женственностью. Так что Лепиду было от чего потерять голову и решиться на убийство императора.
Калигула, предупрежденный доносом о готовящемся на него покушении, сумел перехитрить заговорщиков. Он поспешил отправиться в Галлию, чтобы завершить начатые там военные операции. При этом пожелал, чтобы, кроме актеров, фокусников, акробатов, шутов, гладиаторов, возниц, поваров и палачей, словом, всего того сброда, который уже давно вертелся возле императорского дворца, его сопровождали все его любовницы и любовники, в том числе Лепид и обе сестры. Как только этот живописный караван прибыл в Лугдун, Калигула расправился с заговорщиками. Лепид был обезглавлен. Сестры приговорены к ссылке.
Так Агриппина и Юлия оказались на острове Пандатерии, обреченные на медленное угасание, ведь нелепо было надеяться на скорую смерть брата, которому в то время было двадцать семь лет.
В ссылке сестры часто вспоминали о последних днях жизни их матери Агриппины на этом проклятом людьми острове. Условия ее жизни были невыносимы. Принужденная терпеть унижения от охранявших ее солдат, она однажды не снесла их издевательств и стала роптать, за что центурион побоями вышиб ей глаз. После чего жена Германика решила умереть от голода, но и это ей удалось сделать не сразу, так как по приказу Тиберия тюремщики насильно открывали ей рот и вкладывали пищу.
Все, что произошло с Агриппиной на Пандатерии, не могло не ужасать молодых женщин. Правда, стража, приставленная к ним, не свирепствовала, а скорее сочувствовала красивым и несчастным изгнанницам. Ведь уже повсюду прослышали о кровавых зверствах императора, а чем тяжелее гнет сверху, тем сильнее сострадание простых людей к гонимым и отверженным.
Морские суда редко появлялись у Пандатерии. Из Цирцей в Кумы корабли шли минуя ее, а плывущие в Сардинию обходили стороной — уж очень дурной славой пользовался остров. Несколько раз в году небольшое суденышко привозило для малочисленного гарнизона съестные припасы и жалованье. Изредка доходили вести из Рима и Неаполя. Осенью 40 года пришло известие о том, что в своем поместье в Пиргах скончался муж Агриппины Гней Домиций, уже давно страдавший тяжелой формой водянки.
С тех пор сестры не имели вестей из Рима. Поэтому можно понять их радость, когда у берега острова случайно оказался грузовой корабль. Накануне он вышел из Остийской гавани и взял курс на Сицилию. Поднявшийся внезапно ветер сильно повредил его оснастку, и корабль, унесенный в сторону от обычного маршрута, был вынужден пристать к острову.
Пока моряки приводят в порядок корабельные снасти, владелец судна, приглашенный сестрами на ужин, делит с ними их нехитрую трапезу. Конечно, это может обернуться для него большой неприятностью, но уж очень велик соблазн провести вечер с дочерями самого Германика. Ему, человеку незнатному, судьба подарила такую редкую возможность, о которой его товарищи не могут даже мечтать. Будет о чем рассказать, вернувшись домой.
И сестры в свою очередь с трудом сдерживают любопытство. Однако они терпеливо ждут, пока насытится их гость, который не брезгует ничем из того, что ему предложено. На вопрос Агриппины, как его имя, он, немного помедлив, просит называть себя Квинтом.
— И давно ты занимаешься торговлей? — продолжает расспрашивать Агриппина.
— Десять лет. Я торговал изделиями из глины. У меня была лавка возле Большого цирка. Разбогател я случайно и совсем недавно.
— Как же тебе это удалось? — допытывается Агриппина.
— Полгода назад я приобрел в Этрурии большую партию горшков для продажи в Риме. Вернувшись домой, я стал внимательно осматривать их. Среди них было несколько очень старинной работы. И в одном из них я обнаружил клад из золотых и серебряных вещей. Не могло быть и речи о том, чтобы найти его владельца, ведь я купил горшки у незнакомого мне перекупщика.
Постепенно беседа оживляется, и первоначальная скованность исчезает. Теперь уже Агриппине не надо задавать вопросов. Квинт сам начинает делиться столичными новостями и сплетнями. Этого сестры только и ждали.
— Известна ли вам история, приключившаяся с сенатором Анонием Сатурнином? — спрашивает оказавшийся словоохотливым гость. И увидев, что сестры недоуменно переглянулись, продолжает:
— Так вот. Однажды император устроил распродажу разных вещей, оставшихся после зрелищ, в том числе гладиаторов. Он сам назначал на них цены. Когда торги были в самом разгаре, присутствовавший на них Аноний Сатурнин нечаянно задремал. Заметив это, Калигула посоветовал аукционисту обратить внимание на претора, который в знак согласия кивает головой на каждое увеличение цены… Так знаете, чем закончился этот аукцион? — Квинт приходит в необычайное возбуждение. — Этому простофиле, этой сонной тетере были проданы тринадцать гладиаторов за… — он выдерживает паузу и раздельно произносит, — де‑вять мил‑ли‑о‑нов сестерциев.
— А по мне, эти торги очень глупые, — роняет Юлия. — Как, впрочем, и те состязания, что Калигула устроил в Лугдуне, собрав отовсюду специалистов в греческом и латинском красноречии. Всех побежденных он заставлял стирать свои писания языком.
— Но все же это менее жестоко, чем то, что он проделал однажды при жертвоприношении, — вмешивается в разговор Агриппина. — Разве ты забыла? — обращается она к сестре. — Он оделся помощником жреца и вместо того, чтобы оглушить молотом жертвенное животное, подведенное к алтарю, со всего размаха нанес смертельный удар самому жрецу, размозжив ему голову.
Квинт, как всякий любящий посудачить человек, с интересом слушает хозяек.
— Наверное, вы еще ничего не знаете о новом налоге, введенном императором? — вновь вступает он в разговор.
— Что же такое мог придумать наш умный братец?
В устах Агриппины слово „умный“ звучит скорее как „полоумный“. Похоже, Квинт что — то почувствовал в ее словах. Он какое — то мгновение медлит и торжественно объявляет:
— Отныне все женщины легкого поведения облагаются в Риме особым налогом, величина которого равна цене одного сношения.
— Это действительно что — то небывалое, — смеется Юлия.
— Но это еще не все, — продолжает Квинт. — Император распорядился открыть на Палатине роскошный публичный дом, под который отвел часть своего дворца, с исключительным блеском обставив множество комнат. Посетители этого заведения не какие — то там безродные рабы и рабыни, а свободнорожденные юноши и замужние женщины из благородных семей. Предлагают они себя даром, взамен же получают установленный специально для клиентов этого дома почетный титул благодетелей императора. Когда дела идут вяло, особые глашатаи отправляются на улицы и площади Рима зазывать гостей. Расценки там очень высокие, но посетителям предоставляются деньги под проценты… Согласитесь, недурной способ умножить свои доходы, — заканчивает свой рассказ Квинт. Ему явно нравится предприимчивость императора.
Действительно, Калигула обнародовал закон о налогах подобного рода, но чтобы штрафовать тех, кто нарушил его по незнанию, приказал написать текст как можно мельче и повесить в самом неудобном месте так, чтобы никто не мог списать.
На некоторое время устанавливается тишина. Дождь за стенами дома стихает. Слышно, как в светильниках потрескивает сгорающее масло.
Квинт протягивает руку и в молчании берет кувшин с вином. Наливает в широкую чашу и смешивает с водой.
Сестры задумались. Циничность брата их не удивляет. Отправив дочерей Германика в ссылку, Калигула объяснил свои действия в сенате тем, что к этому его вынудило их возмутительное и развратное поведение. Он всегда был склонен к мрачной иронии. Даже целуя в шею жену или любовницу, он всякий раз говорил:
— Такая хорошая шея, а прикажи я — и она слетит с плеч!
Затянувшееся молчание прерывает Квинт. Он осушил изрядный бокал вина и вновь воодушевился. Он рассказывает о последней забаве императора, поразившей воображение уже ко всему, кажется, привыкших римлян. Для своего коня Инцитата Калигула приказал соорудить конюшню из мрамора и ясли из слоновой кости и подарил ему попону и упряжь, украшенную драгоценными камнями. Затем он выделил ему дворец с многочисленной прислугой, куда от имени коня приглашал гостей. Наконец, он ввел его в жреческую должность и собирался сделать консулом.
Все это выкладывает сестрам разговорчивый гость. Но женщины, погруженные в свои безрадостные мысли, слушают его рассеянно. Их томит предчувствие скорой беды, ведь Калигула не раз грозил им, что у него есть не только острова, но и мечи.
Однако судьба уже позаботилась о них. В этот ненастный январский день Калигула был убит в Риме несколькими заговорщиками из числа военных.
Римляне, привыкшие к шуткам своего императора, не сразу поверили вести о его смерти. Они подозревали, что Калигула сам распустил слух об убийстве, чтобы разузнать, как население будет на него реагировать.
Глава девятая. Престол для — ученого
— Ищите!.. Он должен быть здесь!.. Ищите всюду! — голоса преторианцев и топот их ног гулко разносятся по коридорам императорского дворца.
Врываясь в одну комнату за другой, солдаты прочесывают здание. Кто — то забежал в комнату, называемую Гермесовой, но и здесь пусто. Некоторые из гвардейцев, отчаявшись найти того, кого они искали, начали буйствовать, нарочно шуметь, разбрасывать попадавшие им на пути предметы.
— Нашел!.. Нашел! — послышался радостный крик. Кричал солдат, выскочивший на террасу. Кинувшись к занавеси у дверей, он извлекает оттуда дрожащего от страха Клавдия.
При первом известии об убийстве Калигулы он, воспользовавшись возникшей суматохой, выскочил из подземного перехода дворца, где заговорщики напали на императора, и попытался скрыться в многочисленных дворцовых помещениях. Времени было мало, и он притаился за занавесью. Но пробегавший мимо солдат увидел показавшиеся из — под нее ноги и вытащил наружу насмерть перепуганного беглеца, который, что — то лепеча и заикаясь, припал к его коленям, прося о милосердии. Тот поднял его с пола и повел к своим товарищам, уже спешащим на зов.
Они посадили трепещущего Клавдия на носилки и, поочередно сменяясь, — Клавдий был мужчина грузный — понесли на плечах к себе в преторианский лагерь. Путь был немалый — к Коллинским воротам у Квиринала. Люди, которые им встречались по дороге, видя возбужденных солдат и искаженное страхом лицо Клавдия, жалели его, полагая, что озверевшие гвардейцы тащат несчастного на казнь.
Однако они ошибались. В лагере преторианцы провозгласили Клавдия императором. Он же, наученный горьким опытом, так как уже не раз становился жертвой жестоких шуток, свое согласие давать не спешил.
На следующий день, когда сенат собрался на Капитолии с тем, чтобы восстановить республику, давление преторианцев на Клавдия усилилось, ведь в случае провозглашения республики в них, как личной охране императора, отпадала всякая необходимость. Клавдию напомнили, что он брат великого Германика и власть в государстве по праву принадлежит ему. Наконец Клавдий уступил и на вооруженной сходке принял присягу от воинов. Сенаторы, напуганные таким развитием событий, пожелали лишь одного — чтобы назначение Клавдия императором выглядело не как требование преторианцев, а как выражение воли римского сената. Против этой формальности Клавдий не возражал и на пятьдесят втором году жизни стал пятым императором Рима.
До этого времени Клавдий показывался в сенате редко. Сенаторов ненавидел до глубины души и друзей среди них не имел. Дружбу водил с рабами, вольноотпущенниками, проститутками, сводниками, игроками в азартные игры и, конечно, с эрудитами. Клавдий сам был ученым и писателем, и уже этого одного было достаточно, чтобы сенаторы не испытывали к нему особой симпатии и уважения. Однако научные занятия помогли ему в управлении обширной империей, во главе которой он оказался неожиданно для всех и прежде всего для себя самого.
Исключенный из политической жизни страны и обделенный любовью семьи, он нашел убежище в огромной библиотеке на Палатине, где под авторитетным руководством знаменитого историка Тита Ливия посвятил себя историческим исследованиям. Клавдий хотел опубликовать историю гражданских войн, но этому воспротивились его мать и бабка. Особенно Ливия, которая не желала, чтобы всем стало известно о некоторых неблаговидных поступках Октавиана Августа в бытность его триумвиром. Антония тоже была против того, чтобы Клавдий сообщал что — либо о своем деде Марке Антонии. Пришлось Клавдию остановиться на годах правления Августа, о чем он написал историю в сорока одной книге. Это был единственный период из недавнего прошлого Рима, о котором он мог писать, не боясь задеть мать или Тиберия. Впоследствии он занялся историей карфагенян и этрусков, о первых издал сочинение на греческом языке в двадцати книгах, о вторых — в восьми. Клавдий говорил и писал гораздо лучше по — гречески, чем по — латыни. Интересовался он и проблемами лингвистики, предложив, в частности, ввести в латинский алфавит три новые буквы; результаты этих исследований были изложены в отдельной книге.
Уединенный образ жизни Клавдия, его научные увлечения и абсолютное равнодушие к политике и военным делам многим римлянам казались странными и недопустимыми для члена императорской семьи. Однако Клавдий был вынужден большую часть своего времени проводить в библиотеках. В детстве он перенес паралич и с тех пор ходил прихрамывая и волоча ногу, во время разговора брызгал слюной и сильно заикался, причем до такой степени, что иногда не мог произнести подряд трех слов. Кроме того, бедняга страдал недержанием ветров и, став императором, намеревался даже особым эдиктом позволить испускать ветры в общественных местах и во время застолий. Неудивительно, что на пирах никто не хотел возлежать возле него, и если он опаздывал к обеду, ему никто не уступал места, принуждая бродить по залу. После еды он нередко засыпал тут же за столом, и насмешники бросали в него косточками маслин или фиников, либо надевали ему на руки женские сандалии и веселились, когда он, внезапно разбуженный, тер ими себе лицо.
Короче говоря, он был всеобщим посмешищем. Но, кроме славы дурака, он имел еще славу горького пьяницы. Действительно, Клавдий любил выпить и частенько бывал пьян. Репутации никчемного и непутевого человека в немалой степени способствовало и его страстное увлечение азартными играми. Об игре в кости он написал даже специальный трактат.
Чего же было ожидать от посторонних людей, если его мать Антония, желая подчеркнуть чье — либо тупоумие, говорила: „Ну, этот еще глупее моего сына Клавдия“? Слабоумия Клавдия стыдился и Август, который неоднократно рекомендовал в письмах к супруге не показывать внука на людях и просил ни в коем случае не допускать его к общественным должностям.
Трусливый и раздражительный, порой жестокий, Клавдий был рабом собственных пороков. Он находился в полном подчинении у своих вольноотпущенников, которые, пользуясь его слабохарактерностью, обманывали его, как хотели. Особую страсть — неистовую и болезненную — Клавдий испытывал к женщинам. Зато к мальчикам был совершенно равнодушен, вещь для того времени настолько необычная, что Светоний особо останавливается на этом факте, не в силах найти ему объяснения.
Однако с женщинами Клавдий не был удачлив. Еще в юности была расторгнута его помолвка с Эмилией Лепидой, родители которой попали в немилость к Августу. Другая его невеста, Ливия Медуллина, девушка из знатной римской семьи, умерла в самый день свадьбы. Наконец он женился на Плавтии Ургуланилле, женщине представительной и волевой, родившей мужу двух детей, сына и дочь. Мальчик умер в отроческом возрасте, подавившись грушей, которую, играя, подбрасывал в воздух и ловил ртом. Что касается девочки, то все знали, что она дочь его вольноотпущенника. Изгнав обеих, и мать и дочь, Клавдий женился на Элии Петине, которая родила ему дочь Антонию. Вскоре он развелся и с ней, влюбившись в свою юную кузину Валерию Мессалину. Хотя ему было уже сорок восемь лет, а ей всего лишь пятнадцать, разница в возрасте не стала препятствием для супружества.
В Риме много судачили об этом браке пожилого затворника — ученого, которого нахально дурачила его молодая и развращенная жена. Мессалина родила Клавдию дочь Октавию, а через двадцать дней после его восшествия на императорский престол — сына Германика. Впоследствии Клавдий изменил ему имя и стал называть Британником в честь своих военных успехов в Британии. Он очень любил мальчика: часто выносил его перед толпой, то нежно прижимая ребенка к груди, то высоко поднимая перед собой.
Хотя в императорской семье Клавдий долгое время служил мишенью насмешек и издевательств, он не был глуп, как это многим казалось. Уже первые его мероприятия как главы империи были последовательны и тщательно продуманы. Он осудил на смерть убийц Калигулы, чтобы никто не думал, что человек, убивший цезаря, может остаться безнаказанным. Принятые им затем акты имели своей целью заставить римлян забыть о несправедливости и насилиях, допущенных в годы правления Калигулы. Были открыты двери тюрем, изгнаны из Рима наемные убийцы, оправданы все осужденные за оскорбление величества, уничтожены дела старых процессов, аннулированы сумасбродные налоговые обложения, находящиеся в ссылке возвращены на родину.
Этими мероприятиями Клавдий быстро снискал себе всеобщую любовь и признательность.
Глава десятая. Поиски мужа
Ранней весной 41 года в Рим с толпой амнистированных вернулись сестры Калигулы. Их переполняли надежды и благодарность к дяде Клавдию, избавившему племянниц от тяжелого заточения на острове Пандатерии.
В Риме они быстро убедились, что ситуация в империи полностью изменилась, что произволу кровавого безумца пришел конец, а действия нового императора разумны и повсеместно одобряемы.
К дочерям своего брата Клавдий отнесся благосклонно. Двери императорского дворца на Палатине всегда были открыты для них, и сестры очень скоро восстановили в обществе принадлежащее им по праву положение членов императорской семьи.
Юлия Ливилла возвратилась в дом своего мужа, бывшего консула Марка Виниция. Агриппина же лишилась супруга, еще находясь в ссылке. Он умер от тяжелой болезни, оставив жене и сыну огромное наследство, значительная часть которого была присвоена и уже растрачена Калигулой. Агриппине удалось вернуть лишь недвижимость, но и это было немало.
Агриппина скоро поняла, что женщина, одинокая и без мужской поддержки, не может надеяться на многое в таком государстве, как Римская империя, в котором доступ к общественным должностям был открыт лишь мужчинам — и не всем, а определенного и весьма ограниченного круга. В условиях жесткой конкуренции и не прекращавшихся дворцовых интриг, в которых молодой вдове вовсе не хотелось оставаться пассивной статисткой, могущественный покровитель в лице мужа был просто необходим.
Конечно, во дворце Клавдия она могла рассчитывать на дружбу Палланта, одного из самых могущественных вольноотпущенников, находящихся на императорской службе. Агриппина близко узнала его еще в доме своей бабки Антонии, где он заведовал ее имуществом. Антония очень доверяла ему и, как мы уже знаем, поручила исключительно деликатное и опасное дело — отправиться на Капри и передать Тиберию письмо, изобличающее Сеяна. В той чрезвычайно рискованной ситуации Паллант оказался на высоте и способствовал падению всесильного фаворита. После смерти матери Клавдий вместе с ее имуществом получил в наследство и Палланта. Сделавшись императором, он поставил его во главе государственных финансов.
Разумеется, вольноотпущенник не мог заменить Агриппине мужа. После нескольких попыток найти себе супруга она обратила свой взор на Сервия Сульпиция Гальбу, человека очень богатого и влиятельного. Его кандидатура после смерти Калигулы обсуждалась в сенате в числе возможных на императорский трон. (Гальба действительно станет римским императором, но через двадцать семь лет и всего на полгода).
Гальба был отцом двоих детей. Недавно он потерял жену, но свое семейное положение менять не собирался. Домогательства молодой вдовы были столь откровенны, что вызвали публичный скандал. Вмешалась теща Гальбы, которая в собрании римских матрон изругала Агриппину последними словами и даже ударила ее.
В конце концов Агриппине удалось заманить в свои сети Пассивна Криспа. Правда, он был женат, причем на золовке Агриппины, Старшей сестре ее покойного мужа Гнея Домиция. Но разве это могло ее остановить? Пассиен развелся с женой и вступил в брак с двадцатишестилетней авантюристкой.
Пассиен Крисп принадлежал к интеллектуальной элите Рима. Он прославился как выдающийся оратор. К тому же он обладал сказочным богатством, что для Агриппины имело немаловажное значение. Любитель книг, живописи и красивых вещей, новый муж Агриппины увлекался разведением деревьев. Его роскошную виллу в Тускуле окружали могучие столетние буки: они были так хороши, что об этом как о достопримечательности счел необходимым упомянуть в своей „Естественной истории“ Плиний Старший. Наделенный утонченным чувством вкуса, глубокой культурой и аристократическими манерами, Пассиен пользовался неизменной симпатией окружавших его людей.
Хотя Агриппина унаследовала от своих родителей их ум и способности, обстоятельства всей ее предшествующей жизни были таковы, что никак не располагали к занятиям искусством и литературой. Сначала этому препятствовала бабка Антония, в доме которой прошло ее детство. Антония была римлянкой старого склада и считала, что образование только вредит женщине, которая должна быть прежде всего хорошей женой и примерной матерью. Впрочем, это было широко распространенным в то время мнением. Еще менее побуждала к интеллектуальным занятиям совместная жизнь с Домицием Агенобарбом, человеком грубым и неотесанным. А годы ссылки, казалось, окончательно перечеркнули возможность приобщиться к культуре.
Чем же обворожила Агриппина своего высокообразованного супруга? Разумеется, красотой и молодостью. Но не только этим. Его могла привлечь ее слава женщины, не устрашившейся поднять руку на своего брата — тирана и пострадавшей, как ему казалось, во имя высоких идеалов свободы. Идеалисту Пассиену, никогда не скрывавшему своих республиканских и антитиранических взглядов, Агриппина представлялась легендарной героиней, сошедшей с ливиевских страниц.
Обаяние Агриппины и просвещенный аристократизм Пассиена, прекрасно дополняющие друг друга, привлекли к ним многих людей искусства: художников, поэтов, ученых, среди которых выделялся Луций Анней Сенека, философ и оратор, уже прославившийся своей разносторонней эрудицией, глубиной мысли и талантом писателя.
Сенека был частым гостем у Агриппины. Помимо прочего, он состоял в любовной связи с ее младшей сестрой Юлией, которая была моложе Агриппины и обладала очень красивой внешностью. Впрочем, посещения Сенеки вскоре прекратились. Его связь с Юлией не осталась незамеченной, он был обвинен в прелюбодеянии и сослан на Корсику, остров в те времена дикий и необитаемый. Этот удар был направлен не столько против него, сколько против Юлии Ливиллы и нанесен женой Клавдия Валерией Мессалиной. Не ясно, завидовала ли императрица красоте Юлии Ливиллы или, влюбившись в ее мужа Марка Виниция, хотела таким образом устранить соперницу. Как бы то ни было, Юлия получила приказ оставить пределы Рима. Но такое наказание не могло удовлетворить Мессалину. Улучив момент, она подослала к сопернице наемных убийц, которые тайно умертвили ее. Поскольку Марк Виниций и после смерти жены продолжал упорствовать и не отвечать на ее любовные призывы, Мессалина спустя некоторое время приказала отравить его.
После смерти Юлии Ливиллы из многочисленных детей Германика в живых осталась одна Агриппина. Она понимала, какая ей грозит опасность, и старалась вести жизнь уединенную, вдали от дворца и, конечно, не попадаться на глаза Мессалине.
Расчет Агриппины оказался верен: брак с Пассивном Криспом стал для нее надежной защитой теперь уже от ярости и происков императрицы. Муж ввел Агриппину в круг людей искусства и литературы. Благодаря ему она узнала, что такая спокойная и размеренная жизнь, не зависящая от произвола власть имущих и капризов судьбы. А самое главное — она смогла, наконец, полностью посвятить себя воспитанию сына.
Глава одиннадцатая. Троянские игры
Сын Агриппины и внук Германика Луций Домиций Агенобарб с первых дней рождения был доверен заботам двух нянек — Эклоги и Александрии. Эти две женщины греческого происхождения искренне любили своего подопечного, который благодаря их уходу рос здоровым и жизнерадостным мальчиком. С пеленок он слышал греческую речь и на греческом языке начал говорить едва ли не раньше, чем на родном, латинском. Впрочем, двуязычие в аристократических римских семьях было явлением обычным и удивления ни у кого не вызывало.
В двухлетнем возрасте Луций лишился материнской опеки, а в трехлетнем потерял отца, которого, похоже, так никогда и не видел. После осуждения и ссылки Агриппины на Пандатерию Калигула распорядился передать племянника на попечение его тетки по отцовской линии Домиций Лепиде, которая доверила ребенка двум довольно странным воспитателям — брадобрею и танцовщику. Выбор был обусловлен, видимо, тем, что оба были греки, а Домиция была убеждена в том, что Луций должен владеть греческим языком в совершенстве. Кроме умения болтать по — гречески, эти в общем — то случайные наставники вряд ли могли научить мальчика чему — нибудь дельному.
Когда Агриппина вернулась из ссылки, ее сыну шел четвертый год. Замужество с Пассивном Криспом позволило ей вплотную заняться своим ребенком. И это было очень кстати, потому что Домиция Лепида была с головой поглощена своими личными делами, в которые роковым образом вмешалась ее дочь Валерия Мессалина.
Незадолго до описываемых событий Домиция вступила в брак с Аппием Силаном, близким другом и советником императора Клавдия. Новому мужу Домиций было за пятьдесят. Возраст, как оказалось, достаточно привлекательный и для женщины совсем молодой. В Силана влюбилась шестнадцатилетняя Мессалина. На свадьбе матери она смогла как следует рассмотреть своего отчима и воспылала к нему страстью.
Поскольку Аппий Силан не хотел уступать домогательствам своей падчерицы, Мессалина решила погубить его и с этой целью обратилась за помощью к вольноотпущеннику Нарциссу, который, занимаясь императорской канцелярией и отвечая за всю официальную переписку, крайне недоброжелательно относился к Аппию, имевшему огромное влияние на Клавдия. Мессалине и Нарциссу удалось убедить императора, что Аппий замышляет убить его. Их свидетельства оказалось достаточно для того, чтобы трусливый Клавдий отдал приказ о казни Силана. Так, благодаря проискам дочери, Лепида вновь оказалась вдовой. Прекратив все отношения с Мессалиной, она с тех пор вела затворнический образ жизни.
Агриппина, занятая заботами о доме и воспитанием сына, держалась в стороне от всех этих событий. Гибель сестры сделала ее осторожной и расчетливой. Ведь она прекрасно понимала, что почти шестидесятилетний император находится в полном подчинении у своей молодой, но хитрой жены, к тому же родившей ему наследника. Агриппина, стараясь не попадаться Мессалине на глаза, редко появлялась в императорских апартаментах. Но долго продолжаться так не могло.
Сын Агриппины считался в Риме одним из последних прямых потомков Августа и Германика. Уже одного этого было достаточно для того, чтобы Мессалина невзлюбила своего кузена. Со временем он вполне мог претендовать на императорский трон и составить серьезную конкуренцию ее сыну Британнику.
Вот почему Мессалина не упускала ни одной возможности досадить Агриппине. Она всячески притесняла и унижала ее, и вскоре это приняло форму самого настоящего гонения. Но Агриппина выдержки не теряла, вызывая к себе сочувствие и симпатии всего Рима, что еще больше разжигало злобу Мессалины. Последней каплей стали для нее Столетние игры, которыми в апреле 47 года была отмечена 800–летняя годовщина легендарного основания Рима.
В обрядность этого римского празднества, о древности которого император — ученый был осведомлен лучше кого — либо в империи, входили так называемые Троянские игры, представлявшие собой конные состязания юношей из знатных семей. По преданию, Троянские игры были учреждены Энеем, легендарным основателем Римского государства. А в Италии их установил его сын Асканий — Юл. Вот как рассказывает об этом Вергилий.
Эти ристания ввел, состязанья устроил такие
Первым Асканий, стеной опоясав Долгую Альбу;
Древним латинянам он искусство передал это,
Отроком сам обучившись ему с молодежью
троянской.
Это были своеобразные испытания в ловкости и умении управлять лошадью, к которым допускались сыновья сенаторов и всадников. Мальчики и юноши верхом на лошадях и в соответствующем одеянии, вооруженные каждый копьем, луком и стрелами, на глазах многочисленных зрителей выполняли на арене некоторые упражнения и согласованные маневры. Затем, разделившись на два отряда, они изображали сражение между собой. Часто спортивный дух соперничества овладевал маленькими наездниками настолько, что разыгрываемая ими баталия перерастала в самую настоящую потасовку, и мальчики бились вовсю и всерьез. Посмотреть на детей лучших римских фамилий, которые азартно колошматили друг друга, собиралось несметное количество зрителей.
В Троянских играх предполагалось участие сына Агриппины Луция. Ему шел всего лишь десятый год, но ростом и силой он значительно превосходил мальчиков своего возраста. Благодаря хорошему спортивному воспитанию он стал отличным наездником.
Агриппина небезосновательно надеялась, что ее сын привлечет к себе внимание римлян. Ему, как члену императорской семьи, было доверено командование одним из двух отрядов. Второй отряд должен был выйти на поле под руководством шестилетнего Британника. Несмотря на малый возраст, мальчик уже недурно ездил верхом, хотя соперничать с сыном Агриппины, конечно, не мог.
Накануне Троянских игр Луций с детской решительностью обещал матери выйти победителем в состязании.
— Знаешь, мама, ведь мы, Агенобарбы, отмечены божественным знаком, и я не подведу своих предков. Скоро, — продолжает он с воодушевлением, — у меня, как у древних Агенобарбов, будет большая рыжая борода.
В то время Луций еще не стыдился своего родового прозвища.
— Правда? — улыбается Агриппина и притягивает к себе сына. Ей хочется поцеловать голубые смышленые глаза, но не привыкшая баловать ребенка, она пересиливает себя.
— Послушай… — мальчик дотрагивается до лица матери, требуя ее внимания. — Ведь меня зовут Луций Домиций Агенобарб, и значит, боги помогут мне завтра.
— Но почему же?
— Разве ты ничего не знаешь о моем знаменитом предке? — удивляется Луцилий.
— Нет, — притворяется заинтересованной Агриппина. — Расскажи.
— Так вот. Давным — давно, когда боги имели обыкновение спускаться на землю и жить среди людей и даже помогать им, сыновья могучего Юпитера, укротители коней и покровители гимнастических состязаний Кастор и Поллукс, или, как их часто называют, Диоскуры, решили возвестить римлянам об одержанной победе, о которой им еще ничего не было известно. Под видом путников они остановили Луция Домиция, который направлялся из деревни в поле.
— Иди без промедления в Рим и сообщи сенату о великой победе римского войска, — сказал Поллукс.
— Иди быстро и никуда не сворачивай, — добавил Кастор.
— Но почему я должен верить вам? — спросил недоверчивый Домиций.
— Иди! — повторил Поллукс и, поощряя, дотронулся рукой до его левой щеки. И тотчас черная борода Домиция окрасилась в красный цвет меди. С тех пор мы стали Меднобородыми, — закончил свой рассказ мальчик.
Агриппина, довольная, засмеялась. Ей нравился ее пылкий сметливый сын.
— Так, значит, ты просишь Диоскуров помочь тебе в завтрашнем состязании?
— Да, мамочка… И я уверен — они помогут мне!
На следующий день состоялось торжественное открытие празднеств. Хор из двадцати семи девушек и такого же числа юношей исполнил „Юбилейный гимн“, который более пятидесяти лет назад написал Гораций.
Боги! Честный нрав вы внушите детям.
Боги! Старцев вы успокойте кротких,
Роду римлян дав и приплод и блага
С вечной славой.
Эти слова особенно пришлись всем по душе.
Жрецы приступили к священным обрядам. Наконец все необходимые церемонии закончены и настает время Троянских игр.
Когда во главе отряда наездников показался Луций Домиций, красивый, элегантный, уверенный в своих отроческих силах, аплодисменты всех зрителей принадлежали только ему. Хотя это было его первым появлением на публике, держался он спокойно, ничем не выдавая своего волнения.
Состязания начались. Собравшиеся пришли в восторг от того, как умело маневрировал своим отрядом внук Германика, и вознаградили мальчика бурными овациями. Британнику досталось несколько жидких хлопков, да и те прозвучали скорее из уважения к его отцу — императору.
Троянские игры завершились полным успехом Луция Домиция Агенобарба.
Агриппина торжествовала. Мессалина неистовствовала.
Императрица решила отомстить сопернице. Более всего ее бесило то, что сын Агриппины пользовался неизменной симпатией римского народа, уже видевшего в нем будущего императора. Оскорбленная в своем материнском чувстве, Мессалина была готова на любое злодеяние. Она пригласила наемных убийц и за щедрое вознаграждение велела им задушить Луция во время послеполуденного сна. Но наученная горьким опытом Агриппина была начеку. Она окружила сына целым штатом дядек, слуг, воспитателей, и попытка убить его провалилась.
Воспользовавшись случаем, Агриппина распространила слух, что ее сын был спасен благодаря божественному вмешательству.
— Вы слышали, — передавали из уст в уста по всему Риму, — убийцы сына Агриппины обратились в бегство, так как были напуганы змеей, которая поднималась над подушкой, защищая спящего ребенка.
Этой молве способствовала обнаруженная в спальне мальчика змея (или только сброшенная ею шкура), которую Агриппина приказала вправить в золотой браслет, и Луций долго носил его как амулет на правой руке.
Неудача, конечно, не остановила бы Мессалину. Ведь для нее не существовало ничего невозможного, а в мести она была неукротима и в конце концов нашла бы способ избавиться от своего кузена. Но, видимо, божество действительно оберегало внука Германика.
Неожиданно помыслы Мессалины обратились совершенно в другую сторону.
Глава двенадцатая. Мессалина
От своих „меднобородых“ предков Мессалина, как мы уже могли убедиться, унаследовала далеко не лучшие качества. Однако прославилась она не столько своей жестокостью, сколько ненасытным сластолюбием и половой распущенностью. Ее постоянно окружала целая толпа любовников. Со временем особое предпочтение она стала отдавать всякого рода половым извращениям. Как многие женщины этого типа, Мессалина любила, чтобы во время соитий рядом находились зрители. Это необычайно разжигало ее.
„Мессалина, — пишет Дион Кассий, — вела жизнь распутную и разнузданную и побуждала к беспутству также других женщин, заставляя многих из них отдаваться своим любовникам в самом императорском дворце, причем на глазах собственных мужей. Тех, кто для подобных забав одалживал своих жен, она особо отличала и ценила, награждая их почестями и должностями. Тех же, кто упорствовал и не хотел подчиниться такому сраму, она всячески преследовала“.
Эти оргии стали возможны после того, как Нарцисс оборудовал для Мессалины целое крыло императорского дворца, куда Клавдий допускался крайне редко и где императрица в окружении своего маленького двора могла вести тот образ жизни, который ей нравился.
Число мужчин, которых Мессалина вынудила уступить своим желаниям, — несчетно. Не подчиниться ей означало рисковать собственной жизнью. Поэтому любовники никогда не переводились у нее. Она была очень взыскательна к ним. Тех, кто ее не удовлетворял, она без колебаний изгоняла.
Некоторое время среди ее любовников был небезызвестный нам мимический актер и танцовщик Мнестер. На сцене он был бесподобен, в повседневной жизни — обворожителен. От него просто сходили с ума. Мужчины и женщины из самых аристократических семей оспаривали между собой право заполучить его в свои объятия. Мнестеру приходилось держаться с особой осторожностью. Комедианты не имели в Риме никаких гражданских прав и никакой юридической защиты и, по существу, мало чем отличались от простых рабов. Поэтому на все предложения Мессалины актер отвечал вежливым, но решительным отказом. Он прекрасно сознавал, что означает для человека его положения оказаться в постели жены императора.
Но не такова была Мессалина, чтобы останавливаться на полпути. Еще никому без риска для собственной жизни не удавалось устоять против ее желания. Чтобы сломить сопротивление Мнестера, она прибегла к уловке. Она пожаловалась мужу, что известный всему Риму актер, ссылаясь на свою занятость, отказывается прийти в ее апартаменты и доставить ей удовольствие своим прославленным искусством. Клавдий, недовольный неповиновением комедианта, призвал его к себе во дворец и приказал ему выполнить все то, что от него требует императрица. Поскольку приказ исходил от самого императора, Мнестер был вынужден теперь подчиниться.
По прошествии некоторого времени он начал постепенно отдаляться от Мессалины, которой не составило особого труда выведать, что в его жизни появилась еще одна женщина. Это была Поппея Сабина, красавица, равной которой не было не только в Риме, но, пожалуй, во всей Италии. Любовники тайно встречались в доме двух братьев, римских всадников, которые, способствуя этой любовной интрижке, не подозревали, с каким огнем они играют. Ярость Мессалины не имела границ, и вскоре оба брата поплатились жизнью.
Безнаказанные прелюбодеяния, причем в непосредственной близости от покоев супруга, уже не могли удовлетворить Мессалину. Ей хотелось все более острых ощущений, и она стала привлекать к своим оргиям профессиональных проституток, с которыми состязалась в выносливости. Однажды между ней и одной из самых опытных проституток состоялся поединок, память о котором сохранил Плиний Старший. В соревновании двух женщин, профессионала и дилетанта, победу одержала Мессалина, в течение одного дня и ночи выдержавшая двадцать пять совокуплений.
Вскоре ей наскучили и эти развлечения. С каждый днем она жаждала каких — то еще не испробованных ею ощущений. Прежние удовольствия казались ей пресными. И она нашла способ получить эти новые для себя наслаждения.
С некоторых пор Мессалина, тщательно загримировавшись, тайно покидала дворец и проводила ночи как самая низкопробная проститутка. Вот что рассказывает об этом римский поэт Ювенал, писавший спустя полстолетия после излагаемых здесь событий: „…послушай, что должен был терпеть Клавдий. Лишь только он засыпал, его жена, бесстыдная до такой степени, что предпочитала брачному ложу во дворце Палатина жалкую подстилку, эта августейшая блудница надевала ночной плащ и выходила из дома, сопровождаемая одной лишь служанкой. Скрыв свои черные волосы под белокурым париком, она устремлялась в теплый бордель, увешанный ветхим лохмотьем, и лезла в отведенную для нее каморку. Здесь под именем Лициски она, обнажившись и выставив позолоченные соски, предлагала лоно, которое зачало тебя, благородный Британник. Всех, кто входил, она принимала и, наградив искусными ласками, требовала установленную плату. Когда сводник отпускал других девиц, она уходила тоже, грустная, позже всех оставляя свою каморку, испытывая зуд в натруженном, но все еще пылающем похотью влагалище. Утомленная, но не насытившаяся, она возвращалась во дворец, с нечистым ртом, вся покрытая копотью светильников, неся зловоние борделя на императорское ложе“.
И вдруг, когда прелюбодеяниям Мессалины, казалось, не будет конца, случилось непредвиденное. Она … полюбила. Как это ни выглядит странным по отношению к Мессалине, она действительно полюбила. Рано или поздно это случается с каждой женщиной. У Мессалины всегда было много любовников, но мук настоящей любви она еще не изведала. Ее чувство было сродни помешательству. Внезапное и стремительное, оно захватило ее целиком, так, что она забыла обо всем на свете, в том числе о мщении Агриппине.
Предметом ее неистового чувства стал Гай Силий. Ему было около сорока лет, но выглядел он как юноша. Ювенал говорит о нем как о самом красивом и очаровательном человеке среди всей римской знати. Потеряв от любви голову. Мессалина уговорила Силия развестись со своей женой Юнией Силаной, после чего стала регулярно посещать его дом. Но это не были тайные любовные свидания. Мессалина действительно любила и чувства своего не скрывала. Когда она отправлялась к Силию, ее сопровождала целая свита слуг и служанок.
Вскоре чуть ли не половина императорского дворца переместилась в дом Силия. Для своего возлюбленного Мессалина ничего не жалела. Деньги, рабы, вольноотпущенники, одежды и разная утварь из дворца перекочевали в качестве подарков к нему. Кроме того, Мессалина добилась для Силия консульской должности на ближайший срок.
А что же сам Силий? „Силий, — пишет Тацит, — хорошо понимал, насколько преступна и чревата опасностями подобная связь, но отвергнуть Мессалину было бы верною гибелью, а продолжение связи оставляло некоторые надежды, что она останется тайной. Привлекаемый вместе с тем открывшимися перед ним большими возможностями, он находил утешение в том, что не думал о будущем и черпал наслаждение в настоящем“.
И все же любовь к Силию не удержала Мессалину от злодеяния. В ответ на просьбу императрицы развестись с женой Силий потребовал от нее освободиться от человека, который в течение долгого времени был не только ее постоянным любовником, но и заступником, — вольноотпущенника Полибия, секретаря Клавдия, помогавшего императору в его ученых занятиях, И Мессалина, несмотря на то, что была обязана Полибию значительной долей своего благополучия, хладнокровно добилась от императора осуждения и казни своего самого преданного единомышленника.
Это была непростительная ошибка Мессалины. Другие три вольноотпущенника: Нарцисс, Паллант и Каллист, заведовавшие при императорском дворце корреспонденцией, финансами и судебными прошениями, перестали доверять императрице, хотя прежде видели в ней друга и союзника. Но Мессалина на их враждебность внимания не обращала и, словно в ослеплении, устремилась прямо навстречу своей гибели. Опьяненная могуществом и убежденная в том, что Клавдий полностью у нее в руках, Мессалина отважилась на неслыханный шаг: при живом муже — императоре официально и с соблюдением всех формальностей вступила в брак с Силием. Трудно найти удовлетворительное объяснение этому безумному поступку. Что это? Экстравагантность? Женский каприз? Затмение рассудка?
Послушаем, что говорит об этом Тацит: „Мессалине уже наскучила легкость, с какою она совершала прелюбодеяния, и она искала новых, неизведанных еще наслаждений… Мысль о браке привлекла ее своей непомерной наглостью, в которой находят для себя последнее наслаждение растратившие всё остальное“.
В своей дерзости Мессалина преступила все мыслимые пределы и добилась совсем уже невероятного, хитростью заставив Клавдия в качестве свидетеля подписать ее брачный договор с Силием. Поставив свою подпись, император отбыл по делам в Остию. Не успел муж выехать из стен города, как Мессалина, облачившись в свадебное покрывало, в присутствии многочисленных гостей принесла жертвы перед алтарями богов и совершила необходимые при бракосочетании обряды. И уже вечером в объятиях молодого супруга возлежала среди пирующих.
Все это происходило осенью 48 года.
А в это время Каллист, Нарцисс и Паллант, не на шутку встревоженные случившимся, обсуждали в императорских покоях, что им следует предпринять в этой ситуации. Что станет с ними, если место Клавдия займут Силий и Мессалина? Для блага императора и своего собственного они решили немедленно вмешаться. Однако потребовалось немало хитрости, дерзости и коварства, чтобы их план по предотвращению государственного переворота удался.
Они сумели убедить императора в опасности сложившегося положения и получить от него разрешение подвергнуть виновных наказанию. Клавдий был так напуган, что, не переставая, спрашивал: „Силий — новый император? Или еще я?“ Ему отвечали, что пока еще — он, но надо поторопиться расправиться со всеми, кто покусился на его власть.
В течение нескольких дней были преданы казни все любовники Мессалины — в первую очередь Силий, затем различные сенаторы и всадники, префект пожарной стражи, начальник императорской школы гладиаторов, актер Мнестер, личный врач Мессалины и многие другие. Избежали смерти лишь двое. Один из них, явный гомосексуалист, мог быть скорее соперником императрицы, нежели ее любовником.
Все это время Мессалина скрывалась в садах Лукулла. Нарцисс понимал, что, если императрице удастся спастись, ее обвинителям не миновать гибели. Как — то после обильной трапезы Клавдий, разгоряченный вином и пребывая в благодушном настроении, сказал:
— Передайте несчастной, чтобы завтра утром она явилась представить свои оправдания.
Нарцисс, не дожидаясь наступления ночи, когда император мог потребовать жену в свою опочивальню, бросается к трибуну преторианцев, когорты которого охраняли в тот день дворец, и отдает приказ немедленно умертвить Мессалину — такова, мол, воля императора.
Рядом с Мессалиной в то время находилась ее мать, которая не виделась с дочерью с тех пор, как та погубила ее мужа Аппия Силана. Как только до нее дошло известие, что Мессалина попала в беду, она поспешила на помощь и теперь уговаривала дочь не дожидаться палача и самой достойно уйти из жизни. Мессалина, решительно отвергавшая совет матери, была сломлена, когда увидела прибывших солдат.
Трибун, пронзив ей грудь ударом меча, оставил мертвое тело заботам матери и спешно вернулся во дворец доложить об исполнении приказа.
Мессалина никогда не отличалась образцовым поведением и не случайно ее имя стало в веках символом сладострастия и жестокости, но не следует забывать, что, когда она умерла, ей было всего двадцать три года.
Клавдий еще возлежал за столом, когда исполнительный трибун появился на Палатине. Нарцисс трепетал. Момент наступил решающий.
Вот трибун приближается к императору, наклоняется к нему и сообщает о том, что Мессалина мертва. Клавдий молчит. Затем протягивает руку, в которой держит кубок, и бормочет стоящему рядом рабу:
— Еще вина.
Он продолжает пить и есть, как будто ничего не произошло.
На следующий день, садясь за стол, он спросил, гневаясь, почему запаздывает императрица. Столь поразительны были его забывчивость и рассеянность.
Нарциссу, главному организатору и вдохновителю падения и гибели Мессалины, были определены квесторские знаки отличия — награда весьма незначительная. „Да, его побуждения были честными, — замечает Тацит, — но повели к наихудшим последствиям“.
Глава тринадцатая. Жена для императора
Римский сенат позаботился о том, чтобы Клавдий как можно скорее забыл Мессалину. Согласно принятому постановлению имя и статуи преступницы были убраны из всех общественных мест и частных домов.
Придя как — то в преторианский лагерь, Клавдий поклялся перед солдатами никогда не вступать в брак:
— Ввиду того, что все мои супружества были несчастливы, отныне я останусь безбрачным навсегда, если же я нарушу это обещание, то убейте меня своими руками.
Возможно, в тот момент желание Клавдия остаться вдовцом было вполне искренним, и он действительно не собирался больше жениться. Но вольноотпущенники, заправлявшие во дворце всеми делами, так не думали. Они хорошо знали своего господина, который, привыкнув во всем подчиняться жене, не мог слишком долго обходиться без женщины, которая руководила бы им. Вот почему сразу же после смерти Мессалины в императорском дворце развернулась ожесточенная борьба за право наследовать ее ложе. У каждого из трех вольноотпущенников уже была наготове своя кандидатура в жены императору.
Нарцисс, роль которого в устранении Мессалины была решающей, поддерживал кандидатуру Элии Петины. Она происходила из знатной семьи Туберонов, уже была женой Клавдия до Мессалины и имела от него дочь Антонию.
Каллист предлагал другую кандидатуру. Это была Лоллия Павлина, также из знатной римской семьи. Когда — то она пользовалась славой самой красивой женщины в Риме, что стало причиной ее последующих бедствий. Прослышав о красоте девушки, Калигула отнял ее у мужа Меммия Регула, причем чуть ли не в самый день свадьбы, и сразу на ней женился, но через пару месяцев она ему надоела, и он отослал ее от себя, запретив выходить когда — либо замуж.
Паллант с самого начала сделал ставку на Агриппину, к тому времени уже овдовевшую. Пассиен Крисп умер в конце 47 года, за год до описываемых здесь событий, оставив жену и ее сына наследниками фантастического богатства в двести миллионов сестерциев.
Несколько дней Клавдий колебался, не зная, какой из женщин отдать предпочтение. Наконец он принял решение созвать всех трех вольноотпущенников и выслушать их мнение по каждой кандидатуре.
Первым говорил Нарцисс. Он начал с того, что напомнил Клавдию о том, что Элия Петина уже была его женой и родила ему дочь. С возвращением к прежнему супружеству Клавдий избежит того, чего более всего страшится — нежелательных для себя новшеств в доме. Кроме того, Петина будет хорошей матерью для осиротевших Британника и Октавии, не делающей различия между ними и своей дочерью Антонией.
Затем слово взял Каллист. Он опроверг все доводы Нарцисса. Если Клавдий уже однажды развелся с Элией Петиной, то, стало быть, у него были для этого веские основания. Развод был слишком длителен, чтобы рассчитывать на то, что за это время ничего не изменилось. Женившись на Петине, Клавдий рискует обнаружить рядом с собой совершенно незнакомую ему женщину, которая после перенесенного ею унижения наверняка даст выход своей мести. Гораздо лучше остановить свой выбор на Лоллии Павлине. Она — бездетна и, следовательно, ко всем детям Клавдия будет относиться одинаково ровно, без ревности и пристрастия.
Наконец, наступил черед говорить Палланту. Самым идеальным был бы для Клавдия его брак с Агриппиной, которая в его семью введет отпрыска императорской крови внука Германика, имеющего все основания воспитываться во дворце. В противном случае император рискует: Агриппина, правнучка Августа и жена Германика, женщина еще молодая и способная к деторождению, окажется в другой римской семье, а это может привести к осложнениям в престолонаследии. Умело построенная речь Палланта содержала довольно веские доводы, но в ней не было ни слова о том, что Агриппина приходится Клавдию племянницей, а по римским законам такой союз считался кровосмесительным.
Клавдий глубоко задумался. Он опасался, что подобным браком навлечет несчастье на себя и государство. Колебаниям императора положила конец сама Агриппина, у которой было значительное преимущество перед другими конкурентками. Как племянница Клавдия, она имела свободный доступ в его личные покои, чем не замедлила воспользоваться.
О какой недозволенности могла идти речь, когда перед ней замаячила реальная возможность стать императрицей? Ради такой цели она была готова на все. Тщеславие возобладало над стыдливостью, и очень скоро ее родственные поцелуи стали слишком откровенными, чтобы не возыметь ожидаемого действия. Старый император был похотлив и невоздержан и быстро потерял голову. Вскоре ни для кого в Риме не было тайной, что император и его племянница находятся в интимных отношениях.
Так в споре невест Агриппина вышла победительницей.
Конечно, у Клавдия имелись и другие основания предпочесть Агриппину. Она была умна, благодаря Пассиену Криспу довольно образованна, обладала неплохим вкусом и проявляла интерес к интеллектуальным занятиям — качества, редкие у римской матроны, а для человека, помешанного на учености, каким был Клавдий, уже этого было достаточно. Вдобавок, она проявила себя отличной хозяйкой и семьянинкой. С ее помощью Клавдий надеялся стереть из памяти римлян воспоминания о бесчинствах Мессалины. Конечно, обольщения Агриппины сыграли свою роль, но вряд ли решающую. Выбор Клавдия был всесторонне взвешен. Агриппина пользовалась большой популярностью у народа, преторианцев, войска и сената, и женитьба на ней значительно укрепляла позиции самого императора. Итак, этот выбор не был ни долгим, ни мучительным. После смерти Мессалины прошло чуть больше месяца. Шел к завершению 48 год.
Агриппина вела себя как жена Клавдия, еще не став ею официально. Она не только делила с императором брачное ложе, но и распоряжалась в его доме как полноправная хозяйка. Слабохарактерного и непрактичного Клавдия такое положение, видимо, вполне устраивало. „Лишь только Агриппина внедрилась во дворец, — пишет Дион Кассий, — Клавдий тотчас подчинился ее воле, поскольку она проявила себя опытной в делах государства“.
Обосновавшись на Палатине, Агриппина тотчас занялась устройством будущего для своего сына Луция Домиция, которого она планировала женить на дочери Клавдия Октавии. Осуществлению этого замысла препятствовало то обстоятельство, что к тому времени Октавия уже была обручена с прямым потомком Августа Децимом Юнием Силаном. Эта помолвка носила династический характер и была заключена, когда девочке был всего лишь один год.
Клавдий питал к Силану теплые чувства и уже видел его членом своей семьи. И вдруг при тайном участии Агриппины на юношу возводится обвинение в том, что он находится в кровосмесительной связи со своей сестрой. Его исключают из сенаторского сословия, лишают преторского достоинства и, наконец, расторгают помолвку с Октавией. Таким образом, путь для сына Агриппины был расчищен.
Время шло, а Клавдий все еще не осмеливался справить свою свадьбу с Агриппиной, хотя всем давно было известно об их супружеских отношениях. Он был хорошим знатоком римских законов и древних обычаев и боялся явным инцестом вызвать недовольство сограждан. Причиной этой задержки стала отчасти сама Агриппина и ее нетерпеливость. Клавдий не решался на брак и потому еще, что за подобную связь только что был осужден Силан.
Выйти из этого затруднительного положения императору помог сенатор Луций Вителлий, отец будущего императора Авла Вителлия, уже оказавший услугу Агриппине дискредитацией Силана.
— Подчинишься ли ты требованию народа и совету сената? — спросил он Клавдия.
— Да, — ответил тот. — Я такой же гражданин, как все прочие, и не могу противиться общей воле.
— Прекрасно! Прошу тебя не покидать дворец. Скоро я вернусь с важным для тебя решением.
С этими словами Вителлий направляется в сенат и просит слова первым, поскольку дело касается вопроса величайшей государственной важности.
Такое разрешение ему дается.
— Отцы — сенаторы! — начал Вителлий. — Обязанности нашего императора тяжелы и обременительны, так как он призван заботиться о благополучии всего мира. Поэтому необходимо ему помочь, чтобы он, избавленный от забот о семье, мог целиком посвятить себя служению общему благу. Короче говоря, Клавдию нужна жена, которая была бы ему поддержкой и опорой в его благородном деле. В наших общих интересах и в интересах всей Римской империи, чтобы Клавдий женился как можно быстрее.
Затем Вителлий долго превозносит личные качества Агриппины, отмечая ее знатность, безупречность нравов, способность рожать детей.
— Но, — продолжает он, — есть одно затруднение. Женщина, которую я указал как на единственную достойную стать супругой нашего императора, приходится ему племянницей, а для нас такой союз является новшеством. Но у других народов это — вещь обычная и законом не воспрещается. Когда — то нам были неведомы браки с двоюродными сестрами, а теперь они получили широкое распространение.
Сенаторы, давно смекнувшие, куда клонит Вителлий, стали кричать, что император должен подчиниться воле сената и немедленно жениться на Агриппине. Затем они бросаются из Курии на Форум и, собрав вокруг себя народ, объявляют ему о своем, решении.
Клавдий, узнав о происходящем и не дожидаясь еще большего смятения, спускается с Палатина на Форум. Здесь его встречает толпа, требующая немедленно взять в жены Агриппину, так как это в интересах государства. Движением руки он успокаивает бушующую толпу и объявляет, что вынужден подчиниться воле римского народа.
На следующий день в торжественной обстановке состоялось бракосочетание Клавдия и Агриппины. Клавдию было пятьдесят девять лет, ей — тридцать пять. Безотрадной и полной опасностей жизни Агриппины, казалось, наступил конец.
„Этот брак принцепса, — пишет Тацит, — явился причиной решительных перемен в государстве: всем стала заправлять женщина, которая вершила делами Римской державы, отнюдь не побуждаемая разнузданным своеволием, как Мессалина; она держала узду крепко натянутой, как если бы та находилась в мужской руке. На людях она выказывала суровость и еще чаще — высокомерие; в домашней жизни не допускала ни малейших отступлений от строгого семейного уклада, если это не способствовало укреплению ее власти“.
Глава четырнадцатая. Агриппина — императрица
Агриппина прекрасно понимала, что недостаточно завладеть властью, нужно уметь удержать ее в своих руках. Предпринятые ею меры имели своей целью, во — первых, укрепить свое влияние на Клавдия, во — вторых, устранить всех возможных соперников.
Прежде всего она позаботилась об упрочении положения своего сына, добившись от Клавдия согласия на брак Луция и Октавии. Клавдий не возражал, лишь попросил отложить обряд бракосочетания до достижения детьми предусмотренного законом возраста. Таким образом, сын Агриппины уравнивался в правах с Британником, сыном Клавдия и Мессалины.
Затем императрица принялась расправляться со своими соперницами. Первой ее жертвой стала знатная римлянка Кальпурния, красоту которой Клавдий неосторожно похвалил в присутствии жены. Этого было достаточно, чтобы Агриппина добилась ее изгнания из Рима. Потом она разделалась с Лоллией Павлиной, которая вместе с ней притязала на замужество с Клавдием. Против Лоллии было сфабриковано обвинение в колдовстве. После того как у нее конфисковали имущество, ей предложили покинуть пределы Италии. Но беспощадную и ненавидящую Агриппину такое наказание не устраивало. Она отправила к несчастной трибуна, принудившего ее к самоубийству.
В связи с гибелью Лоллии Павлины историк Дион Кассий приводит совершенно жуткую подробность. Агриппина велела трибуну доставить голову соперницы и, раздвинув пальцами мертвые губы, стала осмеивать ее зубы, якобы недостаточно ровные. Но этого не могло быть. Павлина по праву гордилась своими безукоризненными ослепительно белыми зубами. А вот у самой Агриппины зубы были далеко не идеальными. Ее рот портил клык; торчащий с правой стороны верхней челюсти. Об этом сообщает Плиний, который имел возможность видеть императрицу вблизи.
— Чтобы еще больше упрочить свое положение во дворце, Агриппина вступила в интимные отношения с вольноотпущенником Паллантом, который отныне стал ревностным защитником ее интересов. С его помощью удалось убедить Клавдия в необходимости усыновить Луцйя Домиция, сына жены от первого брака.
— Надо подумать о благе Римского государства, — говорил Паллант Клавдию. — Рядом с Британником должен находиться человек, способный поддержать его в отрочестве. Ведь божественный Август усыновил Тиберия, а Тиберий в свою очередь принял в свою семью Германика. Почему бы и тебе не усыновить юношу, который может взять на себя часть государственных забот?
Легко поддающийся чужому внушению, Клавдий выступил в сенате с речью, в которой повторил аргументацию Палланта. Сенаторы, как водится, тут же выразили свою бурную радость по случаю столь „гениальной“ идеи императора.
25 февраля 50 года в торжественной обстановке Клавдий усыновил Луция Домиция Агенобарба, который вступил в императорскую семью сначала под именем Тиберия Клавдия Нерона, почти сразу же измененным на Нерон Клавдий Цезарь Друз Германик, соединившим имена всех знаменитых предков. Прозвище „Нерон“, на сабинском языке означающее „храбрый“ и „сильный“, было издавна закреплено за Клавдиями. Под этим именем сын Агриппины и вошел в историю. Теперь, после усыновления, он с полным правом мог рассчитывать на наследование императорского трона.
Одновременно Агриппина добилась от сената титула Августы для себя, став таким образом полубожеством и получив право сидеть рядом с императором при исполнении им государственных обязанностей. Прежде этот титул имели только две женщины в Риме — Ливия и Антония, но обе удостоились его лишь после того как овдовели. Агриппина была первой женщиной, возвеличенной этим титулом при жизни мужа.
В том же 50 году Агриппина, движимая непомерным тщеславием и желанием показать чужеземным народам свое личное могущество, настояла на том, чтобы римской колонии, созданной на левом берегу Рейна, было дано ее имя в память о том, что в этих местах, где некогда находилась штаб — квартира ее отца Германика, она впервые увидела свет.
Агриппине не терпелось ускорить карьеру своего сына, который в 51 году, едва достигнув четырнадцатилетия, получил право облечься в мужскую тогу. Обычно это происходило лишь по достижении подростком шестнадцати лет. Кроме того, он был назван главой римской молодежи и назначен консулом с вступлением в должность в двадцатилетнем возрасте. А пока ему была предоставлена проконсульская власть, которую он имел право осуществлять за пределами города Рима. Одновременно он — был внесен в списки сената.
От его имени солдатам и римскому народу были розданы денежные и продовольственные подарки, а также устроено великолепное цирковое представление, на котором Нерон появился в одеянии триумфатора, а его сводный брат в детской тоге. Уже по их одежде римляне могли догадаться, какая разная участь уготована тому и другому.
Не забывала Агриппина и о себе. Для себя она вытребовала особую почесть — подниматься к святыням Капитолия, куда можно было всходить только пешком, в конном экипаже. Прежде такая почесть предоставлялась исключительно жрецам и статуям богов. До Агриппины еще никто из женщин не достигал такого почитания в Риме. Для формалистов, какими были римляне, эта уступка имела огромное значение.
Теперь Агриппина уже с полным правом вмешивалась в дела империи, присутствовала на приватных совещаниях императора и высказывала свое мнение по важнейшим государственным вопросам. Восседая на троне неподалеку от Клавдия, она участвовала в самых торжественных церемониях: принимала послов, знатных чужестранцев, представительства из провинций. Очень быстро она вошла во вкус, испытывая непреодолимую тягу к подобным спектаклям, где можно было продемонстрировать свое величие.
Упиваясь своей непомерной властью, она часто выставляла напоказ свою мнимую любовь к пасынку, который люто ненавидел мачеху и ее неуместные ласки воспринимал как насмешку и лицемерие. Девятилетний мальчик не обладал ни выдержкой, ни умением притворяться, что простительно для его малолетнего возраста. Увидев однажды сына Агриппины, он, вместо того чтобы назвать его Нероном, по привычке приветствовал прежним именем Агенобарба.
Агриппина, усмотрев в этом злой умысел, тут же бросилась к Клавдию.
— Конечно, — жаловалась она, — это могло быть всего лишь неуклюжей шуткой. Но в ней я вижу начало будущей розни.
Клавдий попытался успокоить жену, но это ее только раззадорило.
— Кто — то во дворце, — кричала Агриппина, — ставит под сомнение факт усыновления тобой моего сына. Кто — то не желает считаться ни с волей императора, ни с постановлением сената, ни с желанием римского народа.
Клавдий сник. Он не выносил орущих женщин и уже заранее был согласен со всем, что бы ни сказала ему супруга.
— Я не думаю, что Британник действительно относится плохо к Нерону, — робко заступился он за сына.
— Разумеется, — радостно перебила его Агриппина. — Во всем повинны его дурные наставники. Они восстанавливают мальчика против брата, сеют в семье смуту и ведут к гибели государство.
Заслышав о семейных раздорах, Клавдий ужаснулся, а когда речь зашла о безопасности государства, вовсе потерял голову от страха. Он дал Агриппине полную свободу действий, и та быстро избавилась от неугодных ей воспитателей Британника: одни были отправлены в изгнание, другие умерщвлены. Отныне Британника окружали люди, преданные лично императрице и доносившие ей о каждом шаге ребенка.
Агриппина, вкусившая власти, остановиться уже не могла. Ей не терпелось проявлять свое могущество и повелевать судьбами людей. Она сочла, что наступил подходящий момент для чрезвычайно важного и рискованного шага — обеспечить себе поддержку и верность преторианских когорт.
После Сеяна и Макрона во главе преторианцев стояли два префекта: Лузий Гета и Руфрий Криспин. Оба питали привязанность к детям Мессалины. Агриппине это было известно. Поэтому она убедила мужа, что два начальника не способствуют единению преторианцев, в то время как хорошо зарекомендовавшее себя в прошлом единоначалие укрепит дисциплину гвардейцев. На должность префекта претория она предложила своего человека — Сестия Афрания Бурра. Он принадлежал к всадническому сословию и, что самое главное, был уроженцем Нарбонской Галлии. Хитрая и умная Агриппина рассчитала правильно. Родившийся в Лугдуне Клавдий питал слабость ко всем должностным лицам галльского происхождения и тут же клюнул на приманку жены. Преторианские когорты были переданы под начало Бурра.
Афраний Бурр — честный солдат и хороший служака, но дослужился лишь до должности трибуна. Он был вынужден досрочно оставить армейскую службу из — за тяжелого ранения, приведшего к ампутации руки. Но и на гражданской службе он показал себя человеком исполнительным. Бурр знал, кому он обязан своим высоким назначением. Он понимал, что Агриппина рассчитывает на его благодарность и поддержку прежде всего на императорских совещаниях, на которых он по своему рангу обязан был присутствовать.
Теперь, когда Агриппина прибрала к своим рукам преторианскую гвардию, ее положение при императорском дворе казалось абсолютно неуязвимым.
Глава пятнадцатая. Воспитатели Нерона
Нерон, несколько полный мальчик с рыжими волосами и голубыми близорукими глазами, был запуган суровостью матери и учителей — греков. Даже когда его мать стала женой Пассивна Криспа и имела возможность сама выбирать для сына воспитателей, рядом с ним по — прежнему находились педагоги — греки: Берилл, уроженец Цезареи в Палестине, и Аникет. Последний занимался физической и военной подготовкой мальчика и, как мы уже могли убедиться, небезуспешно: в Троянских играх Нерон не только вышел победителем, но и завоевал симпатии всех зрителей своей ловкостью и крепостью тела.
В детстве Нерон отличался впечатлительностью и повышенной восприимчивостью. Но любое, даже малейшее проявление у него человеческих чувств немедленно пресекалось учителями, считавшими, что внуку Германика больше пристали суровость и твердость солдата, нежели сентиментальность поэта, ведь они видели в нем будущего полководца, наследника дедовской славы.
А мальчика сызмальства влекли поэзия, музыка, живопись, скульптура. Он любил рисовать, петь, заниматься чеканкой. Обожал театральные зрелища и цирковые игры, которые старался не пропускать. Особенно ему нравились скачки. О них он мог говорить без устали. Всякий раз, когда он наблюдал за несущимися по арене колесницами, у него от восторга захватывало дух. Неудачи своих любимых возниц переживал тяжело и всегда мучительно. Но стоило ему с детской непосредственностью завести разговор о колесничных бегах, как его тут же прерывали и жестоко стыдили за столь низменные увлечения.
Однажды, когда Нерон с несколькими своими товарищами оплакивал смерть возницы, которого кони сбросили и проволокли по арене, оказавшийся рядом Берилл, вместо того чтобы утешить своего воспитанника и похвалить за проявленное им сострадание, сурово отчитал мальчика.
— Как ты мог унизиться до жалости к какому — то вознице, — бранил он расстроенного подростка. — Юноша твоего положения не должен иметь подобных чувств. Мне стыдно за тебя!
И тогда мальчик, запинаясь и что — то лепеча в свое оправдание, солгал:
— Ты ошибся, Берилл, ведь мы говорили не о вознице, а о великом Гекторе и гибели Трои.
Ни учителя, ни мать не хотели считаться с природными устремлениями юного Нерона. Агриппина видела в нем лишь орудие, удобное для осуществления своих честолюбивых замыслов. Она грубо вторгалась в жизнь сына, направляя каждый его шаг. Душа мальчика рвалась к одному, а его заставляли делать совершенно другое.
Расправляясь со своими врагами, Агриппина в то же время искала новых друзей, способных помочь ей в достижении ее целей. Первым человеком, о котором она вспомнила в этой связи, был Сенека. Он томился на Корсике, сосланный на остров еще в 41 году.
Незадолго до ссылки на Сенеку обрушилось двойное несчастье: у него умерла жена, о которой он говорит так мало, что мы не знаем даже ее имени, а за двадцать дней до отъезда на Корсику он потерял своего маленького сынишку. Но об этих ударах судьбы Сенека почти не упоминает. Единственное, что полностью поглощает все его мысли, это постигшее его наказание, которое ему представляется непомерным и непереносимым. Удивительно, но мудрец, неутомимо проповедовавший добродетель и презрение к смерти, уверявший, что счастливым можно быть где угодно, страстно желал одного — вернуться в столицу империи.
Хотя его философия и сочинения призывают к суровой добродетельной жизни, сам Сенека почти всегда делал диаметрально противоположное тому, к чему побуждал других людей. Лицемерие и бесстыдство этого человека поразительны. На словах он осуждал богатство, но, разбогатев адвокатурой, продолжал наращивать состояние ростовщичеством. Он восхвалял умеренность, но себя лично ограничил лишь в том, что изгнал со своего всегда обильного стола устрицы и грибы. Он твердил, что хочет навсегда сразить роскошь, а свелось все к тому, что отказался всего — то от благовоний для тела. Он учил воздержанию, но в то же время посещал самых испорченных и мерзких проституток, ублажавших пьяных матросов и гладиаторов. Как все представители римской аристократии, он не брезговал мальчиками, но и здесь искал самых гнусных и развратных. Он не уставал прославлять чистоту нравов, а жил при этом как грязный распутник.
Клавдия, отправившего его в ссылку, Сенека смертельно ненавидел. Однако это не помешало ему обратиться к принцепсу с льстивыми стихами, в которых он прославил его военные успехи в Британии. Но желаемого результата эти лирические излияния не достигли. Клавдий остался к ним глух. Сенека продолжал изнывать на Корсике.
Вскоре Сенека обратился к вольноотпущеннику Полибию, воспользовавшись тем, что у того умер брат. Полибий играл заметную роль в императорском дворце и слыл интеллектуалом. Узнав о постигшем Полибия горе, Сенека тотчас схватился за перо и написал для него утешительное послание, в котором не скупился на похвалы своему адресату, прославлял его напряженную интеллектуальную деятельность и побуждал к занятиям историей и эпической поэзией, способным заглушить боль понесенной утраты.
В этом же послании Сенека без стыда и стеснения восхваляет Клавдия. „Пусть боги и богини надолго сохранят его для человечества! Пусть он сравняется деяниями с Августом и превзойдет его! Придет день (но его увидят лишь наши внуки), когда семья потребует его к себе на небо. О Фортуна! Удержи от него свои руки, а свое могущество покажи лишь для того, чтобы оказать ему свою помощь! Он только и делает, что восстанавливает человеческий род, уже давно истощенный и больной. Он только и делает, что приводит в порядок и исправляет на земле все то, что бешенством его предшественника приведено в расстройство. Пусть сияет вечно это яркое светило, явившееся блистать над миром! Его милосердие, которое является первейшей из его добродетелей, побуждает меня верить в то, что я тоже смогу быть с вами. В самом деле, он низверг меня, чтобы тут же поднять. Когда, толкаемый злой судьбой, я уже падал, он удержал меня своими божественными руками и бережно поставил туда, где я теперь нахожусь…“
Несмотря на столь лестные для императора слова, помилования изгнаннику все же не последовало.
Прошло несколько лет. Полибий был уже мертв, а Клавдий совершенно забыл о ссыльном философе. Казалось, никто в Риме не вспомнит о нем. Но это было не совсем так. О Сенеке помнила Агриппина, решившая вызволить его из ссылки.
В 49 году Сенека вернулся в Рим, где его ожидали два сюрприза: Агриппина сделала его наставником своего сына и добилась для него должности претора на 50 год. К тому же он был введен в императорский совет, орган хотя и не официальный, но игравший значительную роль в жизни империи.
Агриппина считала, что она хорошо разбирается в людях. Впрочем, в ошибках своих она никогда не признавалась. Бесспорно, Сенека был личностью очень яркой и одаренной, но вместе с тем наделенной худшими из человеческих пороков. К тому времени он уже имел громкую литературную славу. Агриппина полагала, что более выдающегося наставника для сына ей не найти во всей империи. Но самое главное — она рассчитывала на то, что мстительный и не забывающий нанесенных ему обид Сенека, затаив про себя ненависть к Клавдию, к ней лично будет питать безграничную преданность. И все же этот выбор был довольно смелым и необычным, ведь впервые юный отпрыск римской аристократической семьи был доверен не греческому воспитателю, а носителю латинской культуры.
Очутившись в столице, Сенека сразу же занялся устройством своих личных дел — вернул свое имущество и удачно женился. Его избранница, двадцатилетняя Помпея Павлина была одной из самых богатых наследниц в Риме. Разница в возрасте — тридцать пять лет — Сенеку не смущала. Он всегда питал слабость к молоденьким девочкам и мальчикам. Женившись, он вознамерился отправиться вместе с женой в Грецию. Но здесь решительно вмешалась Агриппина. Не для того она вызволила философа из ссылки, чтобы он развлекался в свое удовольствие. На него имелись определенные виды, в первую очередь ему надлежало заняться воспитанием Нерона.
Результаты этого воспитания хорошо известны. Нерон прославился как один из самых свирепых императоров Рима. Во всей истории педагогики трудно найти пример большей педагогической неудачи.
Взяв на себя заботу об образовании Нерона, Сенека избрал весьма странный метод: он заставлял ученика читать и изучать только свои собственные сочинения. Он даже написал для него трактат „О милосердии“, в котором давал будущему императору советы, как управлять государством.
Цель педагогики, считает Сенека, — обучение добродетели. Все то, что не служит этой цели, бесполезно, если не вредно. В одном из писем к Луцилию Сенека глумится над греческими авторами Гомером и Демокритом, не щадит и римских поэтов Вергилия и Овидия. Он обрушивается на все изящные искусства, выражая свое полное презрение к ним. Он ненавидит и осуждает поэзию, пение, музыку, живопись, скульптуру, объявляя занятия ими паразитическим и ненужным делом, служащим только для роскоши. Аналогичным образом он выказывает свое величайшее презрение к геометрии, математике, астрономии, которые, по его мнению, неспособны научить человека единственно нужному знанию — добродетели, ради которой он призывает отказаться от материальных благ и богатства, презреть страх смерти, не бояться страданий и искать внутреннее равновесие.
Для Нерона, с ранних лет склонного к искусству и не лишенного способностей к рисованию, ваянию, чеканной работе, поэзии и пению, трудно было подыскать наставника более неподходящего, чем Сенека, который ко всем увлечениям своего питомца относился с крайним презрением. Благодаря Авлу Геллию известно, что Сенека демонстративно выставлял напоказ свое величайшее пренебрежение такими признанными классиками отечественной литературы, как Энний — создатель латинского гекзаметра, Цицерон — величайший оратор древности, Вергилий — автор эпической поэмы „Энеида“.
Удерживаемый вдали от поэзии, музыки, живописи, Нерон мог выражать себя только в спорте, которому он отдался с юношеской страстью. Он обожал искусство управления колесницами, был азартным болельщиком и, восхищаясь ловкостью возниц, мечтал соперничать лично с полюбившимися ему героями цирка. В кругу сверстников говорил только о колесничных бегах.
Агриппина, внимательно следившая за обучением сына, не все одобряла в системе Сенеки. Она хотела, чтобы он был предельно строг с доверенным ему учеником. Ненавидя вседозволенность, которой грешила греческая педагогика, императрица ратовала за суровые методы воспитания. С сыном она была всегда сдержанна, предпочитая действовать скорее угрозами, чем лаской.
Сенека все свое обучение строил на философии. Но такая установка не нашла понимания у Агриппины, потребовавшей от него больше внимания уделять риторике, искусству письма и публичной речи, и всему тому, что необходимо для хорошего оратора — истории, литературе, древним обычаям и законам римлян, без знания которых, как она считала, не может обойтись ни один правитель.
Вмешательство императрицы вынудило Сенеку пересмотреть свой план обучения, хотя философия продолжала занимать в нем, как и прежде, значительное место. Согласно некоторым античным историкам, это злоупотребление философией привело к совершенно обратному эффекту. Нерон всем сердцем возненавидел порядочность, умеренность и другие добродетели, о которых с такой угнетающей назойливостью толковал его учитель. Однако Дион Кассий считает, что плачевный результат этого обучения был обусловлен в равной степени как ошибочной педагогической установкой Сенеки, так и его личным дурным примером. В самом деле, проповедуя добродетель, сам он насаждал порок, что, по мнению Диона Кассия, имело ужасные последствия: из школы Сенеки вышел гнусный и жестокий тиран.
Среди многих пороков, усвоенных Нероном от учителя, наиболее отвратительным пороком было лицемерие, в чем Сенека был непревзойденным мастером. Видимо, этим объясняется то, что долгое время Агриппина оставалась в неведении относительно пагубного влияния Сенеки на ее сына. Когда же она наконец спохватилась, было уже слишком поздно.
Глава шестнадцатая. Происшествие у Фуцинского озера
Значительным событием в правление Клавдия стало завершение в 52 году работ по осушению Фуцинского озера. В те времена это было самое крупное озеро центральной Италии. Оно находилось в Апеннинских горах на высоте шестисот метров над уровнем моря. Фуцинское озеро питали в основном дождевые воды, поэтому в сезон ливней уровень воды в нем повышался, иногда более чем на десять метров, что приводило к разрушительным наводнениям, от которых страдали окрестные поля и деревни. Положение усугублялось еще тем, что год от года дно озера неуклонно повышалось из — за ила, песка и глины, которые несли в озеро впадающие в него реки.
В свое время Юлий Цезарь планировал приступить к осушению озера, но в связи с трудностью предприятия вынужден был отложить осуществление проекта. За это дело взялся Клавдий. За основу он положил дерзкий план, предложенный ему вольноотпущенниками. Идея заключалась в том, чтобы воды озера направить в русло протекавшей внизу реки Лириса. Для этого нужно было соорудить водоотводный канал, что требовало тщательного технического расчета и большого инженерного искусства.
Из — за горного характера местности большую часть водостока пришлось вести под землей, с этой целью в горах был пробит туннель длиной около шести километров с диаметром от пяти до десяти метров. Для того времени это было беспрецедентное сооружение, над которым трудились более десяти лет тридцать тысяч рабов. Всеми работами руководил вольноотпущенник Нарцисс.
К строительству приступили сразу после прихода Клавдия к власти. Теперь все было завершено. Оставалось лишь разобрать перемычку из земли и камней и направить поток в туннель. Как обычно, окончание работ ознаменовалось роскошным зрелищем, соответствующим значительности события. Перед торжественным разрушением перемычки и спуском воды была организована навмахия — морское сражение, в котором встретились две военные флотилии. Чтобы сражение было действительно кровопролитным и ожесточенным, на корабли погрузили гладиаторов и приговоренных к смерти преступников.
В день праздника берега озера и окружавшие его холмы заполнили несметные толпы зрителей. Одни из них прибыли из Рима еще ночью, другие собрались из окрестных деревень и ближайших городов с первыми лучами солнца. Многие были привлечены необычностью зрелища, но немало было и таких, которых привело сюда желание угодить императору. Все ждали, когда на специально сооруженном помосте появится императорская семья.
В назначенный час на возвышение взошли император и пятнадцатилетний Нерон, оба в роскошных военных плащах. За ними следовала Агриппина в вытканной из золотых нитей хламиде. Впоследствии эта одежда станет обычной для римских аристократок, но в тот день наряд императрицы произвел на всех огромное впечатление. Чуть поодаль шел одиннадцатилетний Британник. На нем была надета детская тога. Невдалеке от него находились две дочери Клавдия. Они заняли свои места, вокруг разместились придворные, военачальники и вольноотпущенники, среди которых выделялся руководитель работ по осушению озера Нарцисс. Он с особым нетерпением ждал этого дня, сулящего для него небывалый триумф.
На волнах озера уже покачивались корабли. Часть из них была построена греческими плотниками — родосский флот, часть — италийскими — сицилийский флот. Флотилии состояли из трирем и квадрирем — военных судов с тремя и четырьмя рядами весел соответственно. Всего выступало сто кораблей, на которых находилось девятнадцать тысяч человек: гребцы, матросы, бойцы. На корабли были посажены все гладиаторы, какие только нашлись в Риме, рабы, содержащиеся на государственных каторжных работах, и все те, кто был приговорен к смерти. Многих доставили из муниципиев, колоний и провинций. Что бы собрать такое огромное число сражающихся, многим осужденным к смерти пришлось отсрочить приведение приговора в силу, хотя по римским законам казнь должна была происходить в ночь, следующую за оглашением приговора.
Скопление в одном месте гладиаторов, преступников, пленников и каторжников, освобожденных от оков и снабженных оружием, создавало огромную опасность для зрителей. Преторианские когорты, расквартированные в Риме, вместе с городской полицией насчитывали пятнадцать тысяч человек. Но что они могли сделать против девятнадцати тысяч отчаявшихся головорезов, если бы тем вздумалось спрыгнуть с кораблей в воду и попытаться вплавь достичь берега? Против подобного поворота дела были приняты необходимые меры безопасности. Место сражения заранее окружили связанными между собой понтонами, а у берегов озера со всех сторон расставили плоты, на которых выстроились преторианцы, в задачу которых входило сталкивать всех, кто попытался бы выбраться на берег. Кроме того, вдоль берега были размещены готовые к действию катапульты и баллисты, а на случай массового бегства с кораблей снаряжены подразделения конницы. Во внутреннем кольце, образовавшемся между понтонами и плотами, находились палубные суда с солдатами на борту. Они должны были не пропускать тех, кто осмелился бы перелезть через внутреннее ограждение.
Наконец все заняли свои места. Осталось лишь обратиться к императору с ритуальным приветствием. Два флагманских корабля, от каждой флотилии соответственно, приблизились к императорской трибуне, и бойцы прокричали Клавдию традиционные слова:
— Здравствуй, император, идущие на смерть приветствуют тебя!
На что Клавдий неуклюже пошутил:
— А может, и нет.
Находящиеся на палубах гладиаторы истолковали эти слова как помилование и тотчас стали бросаться с кораблей в воду и плыть к берегу. Но стоявшие на плотах преторианцы тут же отталкивали их назад, а тех, кто все же пытался взобраться на плоты, безжалостно протыкали пиками.
До смерти перепугавшийся Клавдий соскочил со своего места, сбежал к берегу озера и заметался около него. Ковыляя на слабых ногах, он бросался от одной группы преторианцев к другой, умоляя их защитить императорскую семью и не допустить на берег ни одного из покинувших корабли.
Морское сражение, еще не начавшись, грозило завершиться чудовищной бойней. Но, видимо, в окружении императора нашелся человек, который сумел прекратить эту резню и уговорить гладиаторов вернуться назад, да они и сами уже убедились в бесполезности своих попыток выбраться на берег.
После того как порядок был восстановлен и трупы убитых убраны, по сигналу императора из глубины озера с помощью специальных механизмов поднялся огромный серебряный тритон с поднесенной ко рту раковиной и дал сигнал к началу сражения.
Гребцы налегли на весла, корабли сошлись, и вспыхнул ожесточенный бой. Бились насмерть. Одни суда были протаранены и пущены на дно, другие пылали, объятые пламенем. И только когда вся вода озера окрасилась кровью, император дал знак остановить сражение. Немногим оставшимся в живых была сохранена жизнь.
На следующий день у озера вновь собрались зрители, чтобы посмотреть, как будет разрушена каменная преграда и вода из озера по водостоку хлынет в реку. Клавдий, Агриппина, дети и придворные расположились возле места, где озеру предстояло устремиться в канал. Для них было устроено пиршество на открытом воздухе.
И тут случилось непредвиденное.
Раздался ужасный рев и грохот. От страшного удара содрогнулась земля. Из подземного туннеля вырвалась лавина воды, которая с чудовищной силой устремилась в канал, предназначенный направить поток в реку Лирис. Но он был явно неспособен вместить такую массу воды, и в короткое время все вокруг оказалось затопленным, в том числе площадка, на которой были расставлены пиршественные столы, мгновенно смытые потоком. Император и его свита едва успели укрыться от бешенства водной стихии на прилегавших холмах.
Появился ведавший работами Нарцисс, который начал путанно говорить о чрезмерном напоре воды, прорвавшей запруду. Но тут вмешалась разъяренная Агриппина. Не желая слушать никакие объяснения, она напустилась на Нарцисса, обвиняя его в намерении погубить императора и все его семейство. Нарцисс, кричала она, как подрядчик работ несведущ; он разворовал деньги, отпущенные казной на строительство водостока.
Нарцисс, побледнев от бешенства, не сдержался и в свою очередь принялся обвинять императрицу в женской необузданности и тщеславном интриганстве.
Клавдий полностью доверял своему вольноотпущеннику и словам Агриппины не придал никакого значения. Впервые ей пришлось отступить, но своей ненависти к Нарциссу она уже не скрывала.
Глава семнадцатая. На путь предательства
В 53 году осуществилась наконец мечта Агриппины, которую она лелеяла многие годы, — состоялось бракосочетание ее сына с дочерью Клавдия Октавией. Жениху было шестнадцать лет, невесте — тринадцать. Свадьба была отпразднована с особой торжественностью. Теперь уже никто в Риме не сомневался, что Нерон — наследник Клавдия на римском престоле.
Однако это скоропалительное супружество привело к плачевным результатам. С первой же брачной ночи Нерон проникся к юной жене неистребимым отвращением. Нельзя сказать, что Октавия была безобразной. Но жалкая и невыразительная в своем отрочестве, она не обладала ни одним из тех качеств, которые способны привлечь хорошо развитого физически юношу и к тому же с эстетическими запросами, каким был сын Агриппины. Октавия была обречена на одиночество. В ее спальню Нерон даже не заглядывал. Но ни с ним, ни с Октавией никто не считался. Эта свадьба была нужна лишь одной Агриппине.
Природа требовала своего, и юноше ничего не оставалось, как искать удовлетворения с уличными девками. Сенека на сомнительные похождения своего воспитанника смотрел сквозь пальцы и, возможно, даже пособничал ему в этом.
Нерон, еще не научившийся лицемерить, не скрывал своего отвращения к жене. Вскоре — сначала по дворцу, а потом и по городу — поползли слухи о том, что молодые пренебрегают своими супружескими обязанностями. Во всем виновата Октавия, шептались на площадях и улицах Рима, не зря Нерон посещает проституток.
По случаю вступления Нерона в брак ему была предоставлена возможность блеснуть своей начитанностью и красноречием, выступив в сенате с речами по ряду важных вопросов. Это был хороший шанс приобрести известность оратора. За короткий промежуток времени Нерон выступил в сенате трижды в поддержку жителей трех городов империи: Илиона, Бононии и Родоса. В искусно составленных речах он добился для илионян освобождения от всех налогов; для жителей Бононии, пострадавших от страшного пожара, экономической помощи в размере десяти миллионов сестерциев; для родосцев — возвращения им административной независимости.
Во всех трех речах Нерон продемонстрировал свою прекрасную ораторскую подготовку. Выступая с требованием оказать помощь Бононии, он говорил по — латыни, а остальные две речи произнес на безупречном греческом языке. Ходатайствуя за жителей Илиона, он напомнил соплеменникам, что от троянцев ведет свое происхождение римский народ и род Юлиев, к которому принадлежит он сам, его мать и император.
Похвалы, расточаемые Нерону по случаю его выступлений в сенате, звучали в данных обстоятельствах как похвалы Сенеке. Многие поздравляли Агриппину со столь удачным выбором наставника для сына.
Сразу же после свадьбы Нерона и Октавии Клавдий тяжело заболел. Невоздержанный во всем, что касалось еды и питья, он уже давно страдал желудком. Иногда колики в животе были так болезненны и мучительны, что он, как сообщает Светоний, помышлял о самоубийстве.
В честь выздоровления приемного отца Нерон пообещал устроить на свои средства цирковые игры и травлю зверей. Когда император поправился, он сдержал свое обещание — игры состоялись. Нашлись люди, которые поспешили заметить, что Британник в отличие от своего сводного брата не выразил такого же горячего желания видеть своего отца здравствующим.
Успехи Агриппины сильно тревожили Нарцисса. Он чувствовал, что земля уходит из — под его ног, и потому решился на весьма отчаянный шаг: сообщить Клавдию о любовной связи его жены с вольноотпущенником Паллантом, как это уже сделал однажды, поставив императора в известность об отношениях Мессалины и Силия. В тот раз все завершилось полным успехом: императрица и ее любовник погибли, а сам Нарцисс получил должность квестора.
Нарцисс завидовал Палланту, который значительно обошел его в почестях, добившись преторских знаков отличия: честь исключительная для чужеземца, к тому же бывшего раба. Паллант слыл человеком, обладавшим несметными богатствами. Поговаривали, что накопленное им имущество оценивается в триста миллионов сестерциев. Такая сумма Нарциссу даже не снилась, ведь ему удалось скопить всего четыре миллиона сестерциев. Вместе с преторскими знаками отличия Палланту, как человеку, по словам Клавдия, бедному, было подарено из государственной казны пятнадцать миллионов сестерциев за услуги, оказанные государству. Вольноотпущенник ужасно возгордился и объявил себя потомком царей Аркадии.
— Я считаю, что заговор Мессалины и Силия мог быть для тебя роковым, — сказал Нарцисс, обращаясь к Клавдию. — Но теперь все обстоит гораздо хуже. Я долго сомневался, сказать ли тебе об этом, но поскольку дело касается твоей жизни и безопасности, мой долг побуждает меня сообщить тебе правду, чего бы мне это ни стоило. Возможно, тебе еще неизвестно, что Агриппина давно имеет прелюбодейную связь с твоим помощником Паллантом. Я убежден, что эта связь не может привести ни к чему хорошему для тебя. Впрочем, я всегда был против твоего брака с Агриппиной. Теперь ты знаешь, почему именно Паллант так горячо настаивал на том, чтобы ты взял ее в жены. Уже тогда эти двое любовников замыслили погубить не только твоего единокровного сына Британника, но и все твое семейство. Говорят, что Мессалина покрыла императорский дом позором, но не следует забывать, что для того, чтобы оказаться на троне, честолюбивая и алчная Агриппина, не колеблясь, начала торговать своим достоинством, стыдливостью и даже телом…
Клавдию было известно об отношениях между его женой и Паллантом, но он сознательно закрывал на это глаза, так как сам рассчитывал на такое же понимание со стороны Агриппины. Он был поклонником восточных проституток и имел нескольких наложниц из Греции и Египта. Поэтому на разоблачения Нарцисса не реагировал с ожидаемым от него гневом.
— Судьба дала мне в удел терпеть безнравственность моих жен, чтобы потом сурово карать их, — вот все, что сказал тогда император.
Ответ Клавдия, тут же переданный Агриппине, сильно встревожил ее прозвучавшей в нем угрозой.
Несмотря на неудачу, Нарцисс не оставил попыток расправиться с Агриппиной. Теперь он решил попробовать восстановить против нее Нерона. От его проницательного взора не ускользнуло, что в отношениях между матерью и сыном возникла некоторая напряженность. Действительно, Нерона уже начало тяготить, что им полностью распоряжается мать. Агриппина хотела закрепить за сыном верховную власть только для того, чтобы потом самолично пользоваться ею, и обращалась с юношей так, как будто он все еще был несмышленым ребенком. Не допускающим возражения тоном она властно и жестко диктовала ему свою волю. Одного лишь ее взгляда было достаточно, чтобы им тотчас овладел страх. Несколько раз дело доходило даже до оскорбительных оплеух, которыми Агриппина в гневе награждала будущего императора.
Вот тут — то Нарцисс и вспомнил о тетке Нерона, Домиций Лепиде, которую мы оставили в садах Лукулла в тот момент, когда туда прибыли убийцы Мессалины. Она была сестрой первого мужа Агриппины, но императрица ее не жаловала, видя в ней соперницу в знатности, красоте и богатстве. Поэтому после смерти дочери Лепида укрылась от преследований Агриппины в своих обширных поместьях в Калабрии.
В доме Домиций Лепиды Нерон провел немало времени, когда его мать была в изгнании, а отец умирал в Пиргах. Лепида не без оснований полагала, что племянник не забыл о хорошем к нему отношении в ее семье, где для него всегда находилось доброе слово, и вспоминает о тетке с теплотой. Вернувшись в Рим, она пыталась привлечь его к себе.
О соперничестве Агриппины и Домиций Лепиды, этих двух необузданных в честолюбии женщин, Тацит пишет следующее: „Ожесточеннее всего они боролись между собой за то, чье влияние на Нерона возобладает — матери или тетки; Лепида завлекла его юношескую душу ласками и щедротами, тогда как Агриппина, напротив, была с ним неизменно сурова и непреклонна: она желала доставить сыну верховную власть, но терпеть его властвование она не могла“.
Агриппина не могла смириться с том, что ее сын тянется к тетке, и приложила все силы, чтобы убрать Лепиду с пути. Но было бы смешно вменять ей в вину то, что она привлекает к себе племянника мягким обращением и подарками. Агриппина обвинила золовку в колдовстве и в покушении на ее, императрицы, жизнь, и, что гораздо серьезнее, в том, что она содержит в Калабрии отряды мятежных рабов, угрожая покою Италии. Это было действительно страшное обвинение.
На императорском совете против тетки свидетельствовал Нерон. Нет сомнения — это не было его личным желанием. На этом настояла мать. Толкнув сына на путь предательства и жестокости, она тем самым определила и свою дальнейшую судьбу. Хотя Нарцисс пытался защищать обвиняемую, Паллант, Бурр и Сенека приняли сторону Агриппины. Лепида была признана виновной и должна была умереть.
Все это происходило в 54 году. Британник готовился надеть мужскую тогу. Так же, как Нерон, он получил бы ее досрочно. Клавдий ждал этого дня и как — то даже сказал:
— Пусть, наконец, у римского народа будет настоящий Цезарь!
Он уже начал сожалеть, что женился на Агриппине и усыновил ее сына. Однажды он крепко обнял Британника за плечи и произнес с чувством:
— Скорее расти, мой мальчик, чтобы я мог дать тебе отчет во всех делах.
И заметив удивление в глазах подростка, добавил:
— Ранивший исцелит!
Чувствуя приближение своего конца, Клавдий составил завещание и скрепил его печатями всех должностных лиц.
Все это сильно обеспокоило Агриппину. Она поняла, что медлить больше нельзя.
Глава восемнадцатая. „Превосходная мать“
— Танцовщицы! Пусть войдут танцовщицы!
В своем длинном прозрачном одеянии Агриппина была похожа на привидение. Она металась по коридору дворца, ведущему к спальне императора. Послышался шум, гам, звон колокольчиков. Ватага полуобнаженных девушек показалась в широком проходе.
Они бежали навстречу императрице, смеясь и пританцовывая на ходу. Их наряд ограничивался кожаными повязками, пестрыми лентами и яркими ожерельями, которые сверкали и переливались в свете факелов, пылавших на стенах.
Кивком головы Агриппина указала на тяжелую портьеру, закрывавшую вход в императорскую опочивальню. В том, что Клавдий ночью позвал к себе комедиантов, ничего необычного не было. Старый император, страдавший бессонницей, нередко развлекался таким образом.
В тот вечер, однако, он пребывал в каком — то странном оцепенении. Неподвижно полулежал на кровати в глубине комнаты, так что свет не падал на его лицо, и безучастно взирал на расположившихся вдоль стены музыкантов. Возбуждающие телодвижения танцовщиц на этот раз не вызывали у него интереса. И сколько бы девушки ни старались, погруженный в полумрак император все равно остался бы нем и равнодушен. В ту ночь, 12 октября 54 года, его уже никто не смог бы расшевелить, потому что он был мертв.
Агриппина, уже давно решившаяся на преступление, воспользовалась тем, что Нарцисс, ни на шаг не отходивший от Клавдия, занемог и отправился лечиться целебными водами в Синуессу. Момент для осуществления задуманного был самый подходящий. Оставалось лишь решить, как сделать это. Обдумав все возможности, она остановила свой выбор на яде. Но это должен быть особый яд, действующий незаметно и не слишком быстро, чтобы ни у кого не могло возникнуть подозрения в преднамеренном убийстве. Смерть должна выглядеть совершенно естественной. Но если его действие будет чересчур медленным, это может встревожить самого Клавдия, поэтому нужен был такой яд, который привел бы сначала к помутнению рассудка и лишь потом к смерти.
Для изготовления снадобья императрица обратилась к поднаторевшей в этих делах галльской колдунье Локусте, недавно осужденной за сходное преступление. Через несколько дней требуемый яд был у Агриппины, оставалось дать его Клавдию. Для этого был выбран евнух Галот, в обязанности которого входило прислуживать императору за столом — главным образом, проверять предназначенные для него кушанья и напитки.
Отраву доложили в грибы — любимое лакомство Клавдия. Это блюдо Галот подал императору, сделав вид, что предварительно уже снял с него пробу. Клавдий с присущей ему рассеянностью съел все, что перед ним поставили. Вскоре он почувствовал боль в желудке и позывы к рвоте. Так как Клавдий славился своей невоздержанностью в еде, никто не всполошился. Окружающие сочли, что это результат обычного опьянения: в тот раз император как всегда пил много вина.
Агриппина, предвидевшая такой ход событий, обратилась за помощью к находившемуся рядом врачу Ксенофонту. Тот, уже не раз помогавший императору в подобных случаях, попросил его открыть рот и привычным движением, якобы затем, чтобы вызвать рвоту, ввел ему в горло перо, заранее смазанное быстродействующим ядом. У старика тотчас отнялся язык и помутилось сознание. Но когда его переносили в спальню и обкладывали припарками и подушками, жизнь в нем еще теплилась.
Слух о внезапной болезни императора быстро распространился по городу. Срочно собрались сенаторы. Консулы и жрецы возносили молитвы за спасение принцепса.
Притворившись убитой горем, Агриппина прежде всего изолировала Британника, Октавию и Антонию, не давая им выйти из их покоев. Ко всем дверям, как бы для того, чтобы не тревожить заболевшего императора, была приставлена стража.
Время от времени Агриппина выходила из дворца и объявляла собравшимся, что состояние Клавдия улучшается. Для правдоподобия в опочивальню уже мертвого мужа она призвала танцовщиц, чтобы нехитрой уловкой рассеять сомнения тех, у кого таковые еще имелись.
Агриппина тянула время. Она ждала, когда все будет обеспечено для преемника Клавдия. Для того, чтобы императорская власть была закреплена за ее сыном Нероном, надо было принять соответствующие меры. Всем этим занимались Паллант, Бурр, Сенека и другие доверенные лица. Необходимо было решить, как поступить с завещанием Клавдия. Остановились на том, что оглашать его не следует. На решение этих и других связанных с престолонаследием дел ушла вся ночь и все утро.
Наконец, в полдень 13 октября двери дворца на Палатинском холме широко распахнулись, и Нерон, сопровождаемый Бурром, вышел к дежурившим в тот день гвардейцам. Бурр отдал солдатам приказ приветствовать нового императора. Некоторые из воинов были в нерешительности, недоумевая, где же Британник. Но не осмеливаясь спросить об этом, стали выкрикивать поздравления застывшему на ступеньках дворца сыну Агриппины.
Затем его посадили на лектику и отнесли в преторианский лагерь. Здесь с почетной трибуны Нерон обратился к гвардейцам и их командирам, обещая им столь же щедрое вознаграждение, как то, что они получили от Клавдия, принявшего из их рук власть, — по пятнадцать тысяч сестерциев каждому. Обрадованные солдаты немедленно провозгласили Нерона императором.
Из преторианского лагеря Нерон поспешил в сенат и попросил подтвердить решение войска. Со стороны сенаторов тотчас последовал указ, которым Нерон признавался наследником Клавдия. Так за месяц до своего семнадцатилетия Нерон стал повелителем империи с населением в семьдесят миллионов человек, из которых правами римского гражданства обладали лишь шесть миллионов.
Еще никогда за всю историю Рима переход — власти от одного правителя к другому не проходил так спокойно, без массовых выступлений и противодействий. Возведение Нерона на римский трон — это политический шедевр Агриппины. В тот октябрьский день она наконец — то пожала плоды своего долгого и опасного труда. Хитрая и умная интриганка, она сумела заручиться поддержкой всех слоев населения — римлян и провинциалов, всадников и сенаторов, военных и коммерсантов, преторианцев и, что не менее важно, вольноотпущенников, которые с каждым годом набирали силу в государстве, верша политическими и экономическими делами империи.
Но вот наконец наступил вечер этого бурного дня. Отзвучали крики солдат и приветственные речи сенаторов. Нерон возвратился во дворец, где его с нетерпением ждала мать. Он прекрасно знал, из чьих рук получил империю, и был благодарён той, чью тиранию терпел все эти годы.
Счастливый и полный самых радужных надежд, он старался не замечать заплаканных глаз осиротевших детей Клавдия, тринадцатилетнего Британника и его сестер Октавии и Антонии.
Когда трибун, командовавший в тот вечер преторианской когортой, охранявшей дворец, приблизился к нему, чтобы спросить, какой пароль он хочет дать на ближайшую ночь, Нерон, бросив благодарный взгляд на Агриппину, после секундного размышления произнес: „Превосходная мать“.
Часть вторая. Сын
Глава первая. Первые шаги Нерона — императора
Нерон был провозглашен императором 13 октября 54 года, а на следующий день римский сенат принял декрет о торжественном погребении Клавдия и его официальном обожествлении, на чем настаивала главным образом Агриппина. Этим актом упрочивалось положение Нерона на императорском троне. Жрицей сопричисленного к богам Клавдия назначили Агриппину, на которую возложили исполнение всех обрядов, связанных с почитанием нового божества. Как облеченной высоким жреческим саном, ей выделили двух ликторов, которым надлежало повсюду сопровождать ее в качестве почетного эскорта.
В устройстве и проведении погребальных торжеств Агриппина участвовала лично. Во время похорон она вместе с другими женщинами исполнила хвалебный гимн, написанный в честь умершего императора:
Рыдайте сильней, стенайте, друзья,
Пусть Форум кругом ваш вопль огласит:
Скончался, увы, великий мудрец!
Храбрее его не рождалось на свет!
Это были обычные ритуальные восхваления. Прозвучавшие из уст плачущих женщин, они ни у кого улыбки не вызвали.
После того, как плакальщицы смолкли, на ростральной трибуне Форума появился молодой император и с чувством произнес умершему надгробный элогий. В своем похвальном слове Нерон говорил о знатности рода Клавдия, перечислил консульства и триумфы его предков. Затем он вспомнил о научных занятиях покойного и о том, что в его правление Римская империя никогда не подвергалась опасности со стороны внешних врагов.
Сначала речь Нерона слушали с сочувствием и вниманием. Но стоило ему упомянуть о мудрости и дальновидности Клавдия, как среди стоящих в первых рядах сенаторов и консуляров началось движение, послышались смех и прысканье тех, кто пытался его подавить; вскоре смех перекинулся на соседние ряды, и вот уже все перестали сдерживаться, и погребальная речь завершилась всеобщим весельем.
Нерон был великолепен. Он ни разу не улыбнулся и, сохраняя уважение к покойному, не сбиваясь и не теряя нити изложения, невозмутимо произнес заготовленную речь до конца. Впрочем, всем было известно, что ее автор — Сенека.
Теперь Нерону по случаю вручения ему верховной власти предстояло выступить в сенате. К этому выступлению он готовился с особой тщательностью. Поблагодарив сенаторов за оказанное ему доверие, он сказал:
— Отцы — сенаторы, мне несказанно повезло, ведь моя юность протекала в мирной и спокойной обстановке. Мне неведомы страдания, приносимые междоусобными войнами. Неведомы мне и семейные раздоры. Я не знаю, что такое ненависть, обида и жажда мщения. А посему мне ничто не препятствует руководствоваться только здравым смыслом и добродетелями, завещанными римлянам от предков. Я не собираюсь быть единоличным судьей во всех делах. Я рассчитываю на помощь всех вас, благоразумных и благонамеренных граждан великого государства. Если кто — то в Риме надеется, что я по молодости и неопытности буду потакать произволу кучки могущественных, но недобросовестных людей, буду терпеть под своей кровлей продажность, заискивание и низкопоклонство, скажу сразу — они ошибаются. У меня нет недостатка в советчиках, как наилучшим образом управлять Римским государством. Примером мне будет служить мудрое правление Августа. Я обещаю вам, что мой дом и государство будут решительно отделены друг от друга. Я также обещаю, что без нужды не буду вмешиваться в дела сената.
— Вы мне доверили императорскую власть, вам я вручаю управление империей.
Эта речь так понравилась сенаторам, что они постановили вырезать ее на колонне из серебра и зачитывать в сенате в начале каждого года.
"Объявив, что будет править по начертанию Августа, Нерон, — пишет Светоний, — не пропускал ни единого случая показать свою щедрость, милость и мягкость". "Он не нарушил своего обещания, — подтверждает Тацит, — и сенат действительно вынес по собственному усмотрению Немало решений".
Первое время Нерон не раз демонстрировал, что он одушевлен лучшими намерениями, и его отношения с сенатом были прямо — таки идиллическими. Сенату были возвращены многие из прерогатив в сфере судебной и законодательной власти. Был проведен закон, запрещавший брать на себя защиту в суде за деньги или какое — либо другое вознаграждение. Квесторы освобождались от разорительной для себя обязанности давать за свой счет гладиаторские бои.
Разъяренная уступчивостью сына, Агриппина пыталась опротестовать эти решения сената, поскольку ими отменялись указы теперь уже божественного Клавдия. Так как появляться в Курии, где проходили заседания сената, женщинам было запрещено, она добилась, чтобы некоторые вопросы обсуждались сенаторами в обширном зале дворца, в котором предварительно была пробита в стене брешь, скрытая ковром. Спрятавшись за ним, Агриппина могла слышать все, что говорили сенаторы.
От своего имени Нерон отменил или частично сократил обременительные подати, принял меры против доносчиков, раздал городскому плебсу по четыреста сестерциев на человека, что равнялось полугодовому жалованию легионера, обедневшим сенаторам из знатных родов назначил ежегодное пособие, причем некоторым — доходящее до пятисот тысяч, преторианцев на месяц освободил от платы за хлеб.
Поведение Нерона и его первые правительственные акты склоняли римлян к мысли, что их надежды осуществились. Молодой принцепс вел себя как заботливый правитель, исполненный уважения к согражданам и правам сената. Законы в государстве почитались, провинции управлялись без нареканий, лихоимство наместников и взяточничество чиновников незамедлительно карались. Заметно уменьшилось могущество вольноотпущенников, их поведение стало менее вызывающим. Казалось, что вновь римляне дышат забытым воздухом республиканской свободы, отнятой у них Юлием Цезарем.
Начало правления юного Нерона было просто блестящим. Возможно, в этом была заслуга матери и наставников. Более вероятным, однако представляется, что они и новое окружение еще не успели развратить его. Когда среди прочих знаков отличия ему был предложен титул "отца отечества", он отклонил его как чрезмерный.
— Разве может семнадцатилетний человек называться отцом людей, которые годятся ему в деды? — произнес он с укором.
Однажды к нему явилась группа сенаторов.
— Император, — сказали они, — позволь нам установить тебе памятник из золота или серебра. Мы поместим его в Курии, чтобы, даже отсутствуя, ты всегда был с нами.
— Я еще должен его заслужить, — скромно ответил Нерон, отклоняя предложения льстецов.
Точно так же он воспротивился решению сената считать началом года не первое января, а декабрь — месяц, в котором он родился.
Казалось, император совершенно глух к славословиям и лести. Единственное, что он попросил у сенаторов — соорудить статую своему отцу, Гнею Домицию Агенобарбу. Но такое проявление сыновних чувств произвело на всех благоприятное впечатление.
У Нерона была великолепная память на лица и имена. Это качество сыграло хорошую службу, потому что самолюбию многих римлян льстило, что при встрече император приветствует их по имени, не обращаясь к помощи номенклатора — раба, в обязанности которого входило подсказывать своему хозяину имена встречных.
В судебных разбирательствах он не стремился непременно засудить обвиняемого, с приговором никогда не спешил и по возможности переносил решение вопроса на следующий день. Привлекать к суду лишь по подозрению или навету он вообще избегал. Так, им было отклонено обвинение против сенатора Каррината Целера, выдвинутое его рабом, и проявлена снисходительность к Плавтию Латерану, который был исключен из сенаторского сословия за прелюбодейную связь с Мессалиной и теперь с его благоволения вновь восстановлен в сенате. Многим запомнилось, как Нерон, ставя свою подпись под смертным приговором какому — то уголовнику, убившему человека, тяжело вздохнул и произнес:
— О если бы я не умел писать!
Одно лишь омрачало атмосферу тех месяцев — необузданное честолюбие и мстительность Агриппины, не замедлившей расправиться со своим главным врагом, вольноотпущенником Нарциссом. Он возвратился в Рим, как только узнал о смерти Клавдия, и прилагал все силы к тому, чтобы примириться с матерью — императрицей. Однако его попытки успехом не увенчались. Его не спасло даже то, что он сжег все документы, компрометирующие Агриппину и ее окружение. К Нарциссу был послан центурион с поручением убить его. Эти вестники смерти сделались обычным явлением в жизни Рима еще со времени правления Тиберия.
Испросив разрешения попрощаться со своей любимицей, белой комнатной собачкой, единственным верным ему существом, Нарцисс мужественно принял смерть.
После того как Нарцисс был устранен, Агриппина немедленно реорганизовала императорский совет, на котором при Клавдии обсуждались все вопросы еще до того, как они оглашались в сенате. Теперь совет состоял из пяти человек. Сенека взял на себя обязанности государственного секретаря. Бурр заправлял военными делами. Паллант продолжал занимать пост министра финансов и отвечал за всю бухгалтерию. Место Нарцисса, в чьем ведении находились императорская переписка и канцелярия, занял теперь вольноотпущенник греческого происхождения Дорифор. За собой Агриппина закрепила главную роль премьер — министра. Получив от Нерона полную свободу действий, она сделалась по сути дела его регентшей.
Вскоре на совете было принято решение умертвить Юния Силана, единственная вина которого заключалась в том, что он приходился братом Луцию Силану, некогда обрученному с Октавией. Когда Агриппина расторгла эту помолвку, Луций Силан демонстративно покончил с собой в день свадьбы Агриппины и Клавдия. Страшась возмездия со стороны его брата, прямого потомка Августа, императрица убедила членов совета подослать к нему убийц и для исполнения этого грязного дела предложила всадника Публия Целера и вольноотпущенника Гелия.
В тот момент Юний Силан находился далеко от Рима, в провинции Азии, где он исполнял свои проконсульские обязанности. Убийцы отравили Силана среди пира, причем действовали так неумело, что все, включая саму жертву, поняли, что это намеренное отравление.
Едва Нерону исполнилось семнадцать лет, как в Рим пришло известие о начавшейся на Востоке войне. В сопредельную Римской империи Армению вторглись парфяне. Под командованием энергичного царя Вологеза они захватили территорию своего западного соседа и теперь угрожали границам Римской империи. Армения находилась под покровительством Рима, и претенденты на армянскую корону получали ее лишь с согласия римского сената.
В столице горячо обсуждали, сможет ли юный принцепс, управляемый женщиной и философом, справиться с захватчиками. Нерон всех удивил своими исключительно разумными распоряжениями. Для спасения Армении был выбран один из лучших полководцев того времени, Гней Домиций Корбулон, прекрасно зарекомендовавший себя в Германии. Вскоре все было подготовлено для военного похода в Армению. Но парфяне еще не чувствовали себя готовыми к схватке с римлянами и покинули захваченную ими территорию, не дожидаясь прибытия Корбулона, который остался очень недоволен таким исходом.
В Риме же бескровное завершение конфликта вызвало всеобщее ликование. Нерона прославляли как спасителя мира. Нашлись льстецы, которые предложили установить ему в храме Марса Мстителя статую таких же размеров, как статуя самого бога. Но это и другие предложения, явно отдающие низкопоклонством, Нерон благоразумно отклонил.
Приблизительно в это же время в римском дворцовом церемониале произошло важное изменение: присутствие Агриппины на официальных приемах было признано нецелесообразным. Эта уступка, сделанная Клавдием жене, вызывала постоянные нарекания со стороны сенаторского сословия и воспринималась римлянами как проявление слабости престарелого императора. И вот теперь Сенека и некоторые из его окружения решили, что настало время положить конец этой постыдной практике, оскорбительной для мужского достоинства сенаторов. Присутствие женщины на государственных аудиенциях, говорили они, дискредитирует доброе имя Рима и роняет в глазах чужеземцев представление о его могуществе, поэтому Агриппине не следует являться на официальные церемонии.
Однако Агриппина к их рекомендациям осталась глуха и, когда император и его министры принимали делегацию из Армении, она неожиданно для всех появилась в зале заседаний и направилась прямо к императорскому возвышению, намереваясь сесть рядом с сыном. Все присутствующие оцепенели и потеряли дар речи. Один лишь Сенека что — то быстро произнес на ухо Нерону. Тот немедленно поднялся со своего кресла и пошел навстречу матери. Обнял ее, поцеловал, осведомился о здоровье и после короткого разговора попросил оставить его одного с армянским посольством. "Так под видом сыновней почтительности, — пишет Тацит, — удалось избежать бесчестья".
Глава вторая. Уроки Сенеки
Сенека решил во что бы то ни стало вырвать Нерона из — под опеки матери. Человек исключительно тщеславный, он рассчитывал на гораздо большее, чем имел, — стать главным советником императора и заправлять всей политикой Римской империи.
Сперва подспудно, затем все более открыто он начал склонять своего воспитанника к отказу от сотрудничества с сенатом ради укрепления сильной единоличной власти. Подталкивая Нерона к установлению тоталитарного режима, Сенека дал ему теоретическое обоснование в специальном трактате "О милосердии", отрывки из которого постоянно зачитывал влюбленному в него ученику. Идеи Сенеки о тиранической форме правления шли вразрез со свободолюбивой традицией республиканского Рима, но философ упорно вдалбливал их в юношу.
"Цивилизация — это дисциплина, — поучал Сенека. — Монарх — обруч, который скрепляет государство. Рим прекратит повелевать, как только перестанет повиноваться. Властитель и государство так связаны между собой, что их невозможно уже отделить друг от друга, не вызвав гибели обоих. Император нуждается в силе, как государство нуждается в правителе".
К милосердию же Сенека призывал Нерона лишь как к средству, способному оградить его от опасностей, которым неизбежно подвергается тот, кто правит. "Лучшая безопасность правителя — мягкость. Частое мщение обуздывает единицы и порождает ненависть сотен. Как подрезанные деревья умножают свои побеги, так жестокость монарха, уничтожив немногих врагов, увеличивает их число".
Конечно, Сенека не ограничивался только апологией "просвещенного тирана". Он прекрасно понимал, что для того, чтобы что — то изменить в императорском дворце, одних слов недостаточно. Надо прежде всего сделать другим самого Нерона, но пока он остается под влиянием матери, эта задача невыполнима. Поскольку Агриппина держала себя с сыном исключительно сурово, требуя от него беспрекословного повиновения, Сенека, хорошо изучивший характер своего питомца, быстро смекнул, что легче всего отдалить его от матери, поощряя в нем дурные наклонности, к некоторым из которых — лицемерию, сластолюбию, жестокости — он имел явное предрасположение. Как педагог и философ, Сенека хорошо знал, что порок преобразует человека гораздо быстрее и глубже, чем добродетель.
Очень скоро Сенека нашел себе помощника. В деле развращения Нерона ему с энтузиазмом взялся помогать вольноотпущенник Дорифор. Оба энергично приступили к систематическому растлению семнадцатилетнего императора. Об этом прямо говорит Дион Кассий: "Они предоставили Нерону возможность отдаться страстям для того, чтобы, утолив их без чрезмерного ущерба для государства, он изменил затем образ жизни. А то, что душа молодого человека, предоставленная себе самой и подталкиваемая к удовольствиям и распутству, оставшись без порицания, не только не может никогда насытиться, но останется навсегда ими испорченной, — они игнорировали… Нерон посещал пирушки, чревоугодничал, пьянствовал, вступал в беспорядочные любовные связи и, видя, что дела государства идут одинаково хорошо, пришел к убеждению, что это было именно то, что от него хотели, и уже без удержу отдался все возрастающему разврату".
В выборе друзей Нерон был не особенно щепетилен. В тот период он сблизился с Клавдием Сенеционом и Марком Отоном, будущим императором. Последний был очень хитер и расчетлив. С ним мы еще встретимся на страницах этой книги. Уже в детстве он проявил свои дурные наклонности, страсть к мотовству и разврату, за что не раз бывал сечен отцом. Вскоре к этой троице присоединился мимический актер Парис и некоторые другие молодые люди. Все они были старше и опытнее Нерона.
В компании этих сорвиголов Нерон начал совершать набеги на улицы ночного Рима. В сущности, он был еще очень юн и, как многих людей незрелого возраста, его тянуло на озорство и мальчишечьи шалости. Он был уверен, что накладных волос, плаща и круглой войлочной шапки вольноотпущенника вполне достаточно, чтобы сделаться неузнаваемым. Едва смеркалось, он покидал дворец и вместе со своими дружками слонялся по кабакам, бродил по переулкам, посещал кварталы, населенные проститутками, взламывал двери домов и лавок, нападал на припозднившихся прохожих и колотил их. Впрочем, ничто не ново под луной. Когда — то его прадед Марк Антоний, переодевшись слугой, в компании с Клеопатрой вот так же шатался по улицам ночной Александрии и выделывал такие же безумные вещи, и не раз оказывался участником потасовок вроде тех, которые затевал теперь в Риме его правнук.
Заводилой был Отон, признанный самым изобретательным в разного рода увеселениях. Именно он придумал развлечение, очень веселившее друзей. Схватив зазевавшегося или подвыпившего прохожего, они подбрасывали его на растянутом плаще. Вопли и мольбы несчастной жертвы, взлетавшей в воздух, приводили молодчиков в неописуемый восторг.
Эти далеко не безобидные забавы иногда оканчивались плохо для распоясавшихся хулиганов. Некоторые прохожие, хотя и застигнутые врасплох, быстро приходили в себя и давали решительный отпор обидчикам. И на следующий день принцепс красовался перед придворными с синяком под глазом.
Однажды в ночной стычке Нерону основательно намяли бока. Ему досталось ударов гораздо больше обычного. Это постарался Гай Юлий Монтан, сын римского сенатора. Возвращаясь в поздний час домой, он подвергся нападению шайки Нерона. Возможно, все обошлось бы несколькими крепкими тумаками, но подвыпивший Нерон стал приставать к молоденькой жене Монтана и оскорблять ее. Вне себя от ярости Монтан так вздул хулигана, что тот лишился сознания. Из — за многочисленных ссадин и кровоподтеков, полученных в драке, Нерон в течение нескольких дней не мог показаться на улицах Рима.
Узнав о том, что он избил самого императора, Монтан был так напуган, что ничего лучшего не придумал, как письменно принести принцепсу свои извинения. Это было непростительной ошибкой. Нерону и раньше попадало в ночных драках, но он пребывал в убеждении, что остался неузнанным. Если же Монтан знал, что поднимает руку на императора, значит, он сознательно совершил преступление в оскорблении величества и должен умереть.
Отныне Нерон отправлялся на свои ночные вылазки только в сопровождении преторианцев и гладиаторов, которым было велено держаться в стороне и вмешиваться лишь в случае опасности. Но в Риме уже прослышали, что Нерон затевает по ночам уличные потасовки, и при стычках сопротивления ему уже не оказывали.
Из этой ситуации быстро извлекли выгоду профессиональные преступники. Невидимые в ночном мраке, они стали выдавать себя за императора, чтобы жертвы их разбоя вели себя смирно.
Если Нерона порицали за бесчинства, творимые им под покровом ночи, то его наставника Сенеку осуждали за поступки, совершаемые при свете дня. Многие римляне находили возмутительным и постыдным тот факт, что Сенека за четыре года жизни при дворе скопил триста миллионов сестерциев — сумму, равную той, которую вольноотпущенник Паллант нажил неутомимым воровством в течение всей своей жизни.
Нашелся человек, который не побоялся возвысить свой голос против Сенеки. Это был Публий Суиллий.
— Философ, лицемерно проповедующий умеренность, — говорил он повсюду, — сделал себе карьеру через постель тетки Нерона. Этот человек погряз в нудных занятиях с неопытными юношами, которым он морочит голову своим уже набившим всем оскомину морализаторством. Проницательный Клавдий в свое время отправил его в ссылку. Теперь он вернулся. Мало того, он втерся во дворец. Благодаря какой мудрости и каким наставлениям философов он за короткий срок нажил огромное состояние? Всем известно, что он крутится возле бездетных стариков, заставляя их переписывать свои завещания на его имя. Он занимается грязным ростовщичеством, под грабительские проценты ссужая деньги в Италии и провинциях.
Суллию, конечно, не поздоровилось. Но отделался он сравнительно легко, кончив свои дни в ссылке на Балеарских островах.
Глава третья. Открытие любви
Как только Нерон стал императором, Сенека попросил, чтобы тот не целовал его при людях. Возможно, такая сдержанность преставлялась ему более подобающей для принцепса. Но скорее всего, он опасался, как бы не обнаружилось, что между ним и его пылким учеником существуют гомосексуальные отношения. Опытный педераст, он не только растлил доверенного ему мальчика, но и толкнул на путь мужеложства. Как известно, Клавдий был совершенно равнодушен к лицам своего пола. С появлением Сенеки во дворце этот вид половых отношений стал практиковаться и в императорской семье. "Уроки", преподанные учителем, Нерон "закреплял" со своим сводным братом Британником.
В древнем Риме гомосексуализм не считался чем — то постыдным и неким извращением. Наоборот, в любви к мальчикам древние находили особый шик. И здесь, как во многом другом, примером для римлян служили греки. Римляне могли подтрунивать над отношениями такого рода, но им не пришло бы в голову осудить их. Предосудительной считалась связь только между римскими гражданами, но к их услугам в Риме всегда было множество мальчиков — рабов со всех концов света.
Воспитание Сенеки уже начало давать свои первые результаты. Ночные кутежи, драки на улицах города, беспорядочные половые связи способствовали проявлению у Нерона таких качеств, как наглость, жестокость, распущенность. "Когда постепенно дурные наклонности в нем окрепли, — замечает Светоний, — он перестал шутить и прятаться и бросился, уже не таясь, в еще худшие пороки".
Свою жену он теперь открыто ненавидел и избегал оставаться с ней наедине. А если иногда и заходил в ее спальню, то лишь с одной мыслью: задушить ее во сне. Как — то в покоях Октавии Нерон заметил темноглазую черноволосую девушку, которую прежде никогда не видел. Это была сириянка Акте. Все древние историки единодушно признают ее обаяние и чарующую красоту. Она была наделена прелестью, присущей только восточным женщинам. Столь очаровательной девушки Нерон в своей жизни еще не встречал. Странно, как он до сих пор не обратил на нее внимания. Не мог же Нерон знать, что эта встреча была подстроена Сенекой. Хитрый лис опасался, как бы юный принцепс, ведя беспорядочную сексуальную жизнь, не оказался вскоре добычей какой — нибудь опытной интригантки именитого рода, что могло бы привести к утрате им влияния на императора.
Сенека не сомневался, что Нерон, увидев Акте, обязательно в нее влюбится. Его расчет оказался верен. Нерон тут же бросился к старику с расспросами, кто эта девушка, откуда она, чем занимается. Любопытство горящего нетерпением юноши было полностью удовлетворено.
— Это Акте, — ответил ему Сенека. — Она родилась в Греции, но ее родители — сирийцы. В Рим она привезена как рабыня еще ребенком и была приобретена для императора Клавдия. Но сейчас она уже вольноотпущенница. Ведет жизнь куртизанки и дружит с Октавией.
В тот момент никто из них не знал, что Акте была уготована особая роль в судьбе Нерона. Она не только оставит глубокий след в его жизни, но будет среди тех немногих людей, которые проводят его в последний путь. Красавица — сириянка пробудила в императоре незнакомое ему доселе чувство, выходящее далеко за пределы обычного сексуального влечения и о котором раньше он не мог даже подозревать. Акте была на несколько лет старше Нерона. С детского возраста ее готовили угождать прихотям мужчин. Ей были известны все секреты восточной эротики, и ее утонченные ласки быстро сделали свое дело. Но император не только влюбился в Акте, он еще и сдружился с ней.
Сенека сразу дал понять, что к новому увлечению Нерона относится благосклонно, однако посоветовал держать все в секрете, потому что влюбленность императора вряд ли придется по душе его матери.
Агриппина, конечно, скоро дозналась о тайных свиданиях Нерона с вольноотпущенницей и пришла в бешенство.
— Как ты посмел, — накинулась она на сына, — связаться с какой — то безродной вольноотпущенницей? Не хочешь ли ты сделать вчерашнюю рабыню моей невесткой? Ты — самая последняя дрянь и ничтожество, если позволил прибрать себя к рукам проститутке. Я никому не позволю вмешиваться в мои планы, так и передай своей грязной развратнице!
Скандалы, подобные этому, следовали один за другим. И Нерон, наконец, на них отреагировал, но совсем не так, как ожидала Агриппина. Вместо того, чтобы попросить у матери прощения за то, что без ее ведома позволил себе влюбиться, он еще больше упорствовал в своей привязанности к Акте. Оценивая эту ситуацию, римский историк Тацит пишет: "Чем яростнее Агриппина осыпала его упреками, не желая выждать, когда он одумается или пресытится, тем сильнее распаляла в нем страсть, пока он не вышел из повиновения матери и не доверился целиком Сенеке".
Старый воспитатель немедленно предложил своему питомцу помощь. Поскольку Нерон не мог открыто делать возлюбленной подарки, не вызвав сплетен и осложнений, ведь и мать, и те, кто поддерживал Октавию, могли бы воспользоваться этим для его дискредитации, Сенека посоветовал прибегнуть к услугам начальника ночной стражи города Аннея Серена, который был его учеником и любовником. По наущению Сенеки этот молодой человек, изобразив влюбленность, начал открыто делать Акте великолепные подарки, которые ему передавал император для своей подруги. Некоторое время обман удавался: все верили, что Серен одаривает Акте от своего имени.
Но разве можно было утаить что — то от вездесущей Агриппины? На этот раз она не только изругала сына за дерзкое своеволие, но и надавала ему пощечин.
— Оказывается, ты не только дурак, но еще и расточитель, — бесилась она. — Неужели ты в самом деле так глуп, что надеешься на то, что я тебе позволю развестись с женой императорской крови, чтобы жениться на распутнице рабского происхождения?
Вот тут Нерон и показал, что он действительно сын своей матери. Он подкупил нескольких сенаторов консульского звания, которые клятвенно подтвердили, что Акте ведет свое происхождение от рода Атталидов, долгое время царствовавшего в Пергаме.
Вместо того, чтобы остановиться и прикусить язык, Агриппина в присутствии многих сановников стала бросать в лицо сыну резкие обвинения, на которые он ответил:
— Я никогда не откажусь от Акте и скорее оставлю власть, чем ее. Если ты придаешь такое значение власти, то сама и дерись за нее. Я же готов отречься от престола, чтобы вместе с Акте жить на Родосе, население которого меня любит.
От этих слов Агриппина опешила. Она всегда считала сына смирной овечкой и такой твердости от него не ожидала.
Сенека ликовал. Именно этого он и хотел. Препятствуя любви сына к вольноотпущеннице, Агриппина втянулась в опасную для себя игру.
Через несколько дней, остыв и поразмыслив, Агриппина решила резко изменить тактику. Она поняла, что ей противостоит не только слепая влюбленность сына, но и коварство Сенеки. Сделав над собой усилие, она попросила у Нерона аудиенции.
— Я признаю свою вину и прошу прощения за излишнюю суровость к тебе. Ты — мой единственный сын и самый дорогой для меня человек. Поэтому ты не должен сомневаться в моем неизменно добром к тебе отношении. Резкие слова простительны для матери, пекущейся о своем чаде. Если Акте тебе так мила, можешь воспользоваться моим спальным покоем и с удобствами встречаться там со своей возлюбленной. Чтобы ты не сомневался в моем расположении, я предоставляю в полное твое распоряжение все свое состояние.
Нерон искренне и горячо поблагодарил мать, заверив ее в своей сыновней любви.
Между Агриппиной и императором наметилось восстановление прежних отношений. Но Сенеку это не устраивало и более того — страшило. Ведь это означало для него конец.
— Будь осторожен, мой мальчик, — увещевал он Нерона. — Твоя мать — хитра и жестока. Ее уступчивость не должна обманывать тебя. Впрочем, что я такое говорю? Ведь ты не настолько наивен, чтобы сам не видеть этого.
Так как слова Сенеки ожидаемого действия не возымели, ему на помощь пришли Клавдий Сенецион и Марк Отон, спутники Нерона в его ночных похождениях. Превознося красоту и достоинства Акте, они предостерегали своего друга от излишней доверчивости по отношению к матери.
Нерон не знал, кому верить, признавая правыми всех. Конечно, ему было нелегко так сразу освободиться от многолетней тирании матери. Все же он благоразумно решил не обострять ситуацию и отблагодарить мать за сделанный ею шаг к примирению. С этой целью он отправился в императорскую гардеробную, где хранились наряды, в которых блистали жены и матери его предшественников, и, выбрав самые красивые платья и драгоценности, отослал их в дар Агриппине, полагая, что такие щедрые подарки способны привести в восхищение любую женщину.
Великодушный жест сына Агриппина расценила как оскорбление.
— Если мой сын считает, — говорила она в кругу доверенных друзей, — что эти безделицы приумножат мой гардероб, то он ошибается. Ведь он вернул лишь малую часть того, что приобретено моими стараниями, и своим подарком отнял все остальное.
В своем самомнении она заключила, что поступок Нерона продиктован его слабостью и является еще одним доказательством его зависимости от матери. И вот, уверившись в своей победе над сыном, она высокомерно попросила передать ему, что в его даре видит попытку несколькими тряпками и камешками купить ее уступчивость.
На самом деле, матери Нерон не боялся и задобрить ее не пытался. Им двигали лучшие побуждения, и действовал он от чистого сердца, но, как уже нередко случалось, матерью понят не был.
Дерзкие слова Агриппины, услужливо переданные императору, безнаказанными не остались. Удар был нанесен по Палланту, который был надежной опорой Агриппины во дворце. Вольноотпущенник, бесконтрольно распоряжавшийся императорской казной, отстраняется от заведования финансовыми делами.
Паллант, готовый к любым превратностям, смещению не противился. Он уже давно добился от Нерона обещания, что, когда будет уходить со своего поста, никто, ни император, ни его преемник не потребуют от него отчета в делах. Таким образом, заступивший на его место всадник Клавдий Этруск начинал фактически с нуля.
Настал день, когда Паллант покинул императорский дворец. Его сопровождала целая толпа опечаленных друзей, помощников, рабов, да и сам Паллант выглядел в тот день невеселым, как человек, которому нанесли кровное оскорбление.
С уходом из дворца верного ей вольноотпущенника Агриппина лишилась не только любовника, но и единственного союзника, на которого она могла рассчитывать в императорском совете. Она оказалась жестоко обманутой в своих расчетах и теперь уже открыто, не скупясь на угрозы и проклятия, поносила сына.
Глава четвертая. По стопам матери
Сенека радостно потирал руки. Он был доволен. Результаты превзошли все его ожидания. Агриппина, хотя и не поверженная окончательно, осталась без друзей и союзников. Вместе с влиянием на сына — императора она утратила то, чем так страстно упивалась в течение последних восьми лет, — власть. Но уступать без боя Агриппина не собиралась и сопротивлялась неистово. Завидев сына, она всякий раз накидывалась на него с оскорблениями и гневными упреками, взяв себе за правило постоянно напоминать ему о том, что только благодаря ей он стал императором.
Отчаявшись вернуть себе послушание сына, Агриппина потеряла всякую осторожность и, уже не заботясь о том, что может быть услышана другими, выкрикивала в лицо Нерону тяжелейшие угрозы.
— Не забывай, — грозила она, — что уже подрос Британник. Он кровный сын Клавдия и его единственный законный наследник. Ты захватил императорскую власть, принадлежавшую по праву другому. Пусть все знают, что сделать это тебе помогла твоя несчастная мать, которой ты платишь черной неблагодарностью, оскорбляя и унижая ее. Ради тебя я пошла на преступление, сначала вступив с Клавдием в кровосмесительный брак, а потом отравив его. Ради тебя я совершила множество злодеяний, в чем теперь глубоко раскаиваюсь. Но благодаря попечению богов и моей предусмотрительности Британник еще жив. Я немедленно отправлюсь с ним в преторианский лагерь и тогда поглядим, к кому прислушаются гвардейцы — ко мне, дочери великого Германика, или калеке Бурру и ссыльному Сенеке, которые тщатся увечной рукой и риторским языком управлять человеческим родом.
Это был самый настоящий нервный срыв. Агриппина простирала руки к небу, вопила, проклинала, взывала к Клавдию и теням загубленных ею Силанов, вспоминала о своих бесчисленных злодеяниях.
Угрозы Агриппины возымели наконец свое действие. Нерон знал: в ненависти мать способна на все. К тому же его сильно тревожило поведение Британника, который готовился к своему четырнадцатилетию. По достижению этого возраста он, как в свое время Нерон, досрочно получил бы мужскую тогу и, следовательно, мог рассчитывать на власть. А то, что многие во дворце относятся к сыну Клавдия и Мессалины с сочувствием и симпатией, продемонстрировал случившийся еще в декабре следующий эпизод.
В течение семи дней с 17 по 24 декабря римляне справляли Сатурналии, самый популярный в Италии праздник, посвященный древнеиталийскому богу земледелия Сатурну. В эти дни повсюду царили смех, шутки, веселье. Никому не дозволялось сердиться и обижаться. На это время даже рабам предоставлялась свобода слова. Они могли сколько угодно подшучивать над своими хозяевами и даже пировать вместе с ними. Сатурналии праздновались в память о той счастливой поре, когда все люди на земле были равны и свободны, поэтому в дни всенародного праздника все обменивались подарками и желали друг другу добра.
В один из таких декабрьских дней в императорском дворце было устроено застолье, на которое собралось множество гостей. Ближе к ночи юноши затеяли игру, для которой по жребию избирали царя. В его обязанности входило руководить всеми развлечениями и увеселениями сотрапезников. В тот раз исполнять роль царя выпало Нерону. Под взрывы веселого смеха он назначил каждому из присутствующих какое — нибудь несложное задание: спеть, сплясать, продекламировать. Когда очередь дошла до Британника, Нерон предложил ему выйти на середину зала и спеть по своему выбору песню. Британник запел известную арию из трагедии Энния "Фиест", обычную в репертуаре римских кифаредов:
Знатный род мне не поможет пред судьбиной
злобною:
Сам ты знаешь, все имел я, роскошь и достоинство,
Но и царство и богатство унесла Фортуны мощь.
Британник пел о юноше, коварством и обманом изгнанном с отцовского трона и лишенном прав наследования. В зале установилась мертвая тишина. Веселья как не бывало. И вдруг всех как прорвало. Под влиянием вина забыв об осторожности, гости, не таясь, стали открыто выражать свое сочувствие юноше, чего, конечно, не произошло бы, будь они трезвыми.
Этот случай убедил Нерона в том, что сводный брат представляет для него опасность. Теперь же, слушая угрозы матери, он еще больше укрепился в своем мнении и решил немедленно действовать.
В сложившейся ситуации он не мог отдать приказ убить Британника или взвалить на него какое — нибудь фиктивное обвинение. Оставалось одно — прибегнуть к помощи яда, средству, испытанному его матерью. Так же, как в свое время Агриппина, Нерон обратился к искусству отравительницы Локусты, которая в тот момент находилась в городской тюрьме под надзором трибуна преторианской когорты Юлия Поллиона. Вскоре снадобье было в руках у принцепса.
Поскольку еще при жизни Клавдия Агриппина позаботилась о том, чтобы из окружения Британника были удалены все преданные ему люди, среди его новых воспитателей нетрудно было найти такого, кто согласился дать юноше отраву. То ли яд был малоэффективен, то ли слишком разбавлен, но ожидаемого результата не получилось — Британник отделался лишь сильным поносом.
Взбешенный неудачей, Нерон приказал Поллиону доставить Локусту во дворец. Как только женщина предстала перед ним, он, словно безумный, вцепился в нее и стал трясти, нанося при этом удары кулаком и вопя, что она подсунула ему не яд, а слабительное средство. Иногда он оборачивался к трибуну и так же, как Локусте, грозил ему смертью. Еще никогда Нерон не был в таком истерическом состоянии.
Перепуганная отравительница пыталась оправдываться:
— Я намеренно дала медленно действующий яд, чтобы никто не мог заподозрить тебя в преступлении.
— Не изворачивайся! Какое тебе дело до того, что скажут обо мне другие?
— Да, но по Юлиеву закону преднамеренное отравление…
— Уж не думаешь ли ты, что я должен бояться Юлиева закона? — задыхался от негодования Нерон.
— Но…
— Никаких но, — отрубил он. — Ты не проведешь меня! Признайся, ты хотела возбудить тревогу у того, кому предназначалось твое зелье и таким образом предупредить его об опасности. А с предателями разговор короток.
— Позволь мне исправить мою ошибку. Дай мне последнюю возможность и ты увидишь — мой яд подействует как удар кинжала. Обещаю тебе.
Нерон внезапно успокоился.
— Хорошо. Но яд ты должна приготовить здесь, в моей спальне, и немедленно. Я буду находиться рядом и следить за тобой.
Когда новая смесь была готова, Нерон испытал ее действие на козленке, но он умер только через пять часов.
Вновь притащили Локусту.
— Это не тот яд, который мне был обещан. Его действие далеко не молниеносное и никак не напоминает удар кинжала.
Трясущаяся от страха старуха перекипятила снадобье еще раз, сделав его предельно концентрированным. Приготовленное зелье испытали на поросенке, который тут же околел.
Нерон послал к Британнику сказать, что вечером ждет его к себе на ужин.
В назначенный час Британник в окружении своих слуг появился на половине Нерона, устроившего небольшую пирушку для узкого семейного круга, на которую, кроме Агриппины и Октавии, были приглашены Бурр, Сенека и несколько друзей Британника. Гостей уже ждали два накрытых стола: один для взрослых участников пира, другой для детей. По заведенному издавна обычаю дети принцепсов располагались со своими сверстниками за отдельным, менее обильным столом.
Вместе с Британником возлежали его друзья, среди которых находился Тит, сын полководца Веспасиана. Как обычно, все кушанья и напитки перед тем, как подать их на стол, пробовал специальный раб. Нарушить заведенное правило, не вызвав при этом подозрения, было невозможно. Но все было учтено заранее и предусмотренная трудность преодолена с исключительной изобретательностью. Перед Британником поставили очень горячее питье. Тот, прежде чем пить, передал его своему рабу, который сделав глоток, возвратил чашу хозяину. Сидящие за столом пили тот же напиток, но Британнику он показался слишком горячим и он попросил его охладить. По его просьбе принесли холодную воду, которую он собственноручно добавил в свое питье, не зная, что в ней уже разведен смертельный яд.
Смерть наступила мгновенно после первого же глотка. Как обещала Локуста, действие отравы было подобно удару кинжала. Британник не успел произнести даже звука.
Сидевшие за столом на мгновение оцепенели. Потом бросились вон из комнаты, другие с ужасом уставились на императора, ожидая его реакции. Нерон продолжал возлежать, словно ничего не произошло. Увидев обращенные на себя взоры, он с невозмутимым видом пояснил:
— Не следует беспокоиться. Это обычный приступ падучей. Брат страдает ею с детства. Вы ведь знаете: это — болезнь семьи. Через несколько минут Британник придет в себя.
Агриппина застыла от страха. "Это конец!" — мелькнуло у нее в голове. Потрясение, испытанное ею в первые минуты, было таким сильным, что она не сразу смогла взять себя в руки. Что до Октавии, то она, несмотря на свой юный возраст, уже научившаяся таить про себя все свои чувства, едва дышала и голоса не подала.
После короткого замешательства застолье продолжалось. Британник принадлежал уже прошлому.
Похоронили его в ту же ночь на Марсовом поле под проливным дождем. Не было ни речей, ни погребальных почестей.
На следующий день Нерон представил в сенат объяснение столь поспешных похорон. Он сослался на древний обычай, запрещавший выставлять на всеобщее обозрение тело безвременно умерших юношей и затягивать погребение пышными церемониями. Оплакивания заслуживает скорее он сам, добавил Нерон, ведь отныне он не может более рассчитывать на помощь брата: теперь у него осталась одна опора — сенат и народ, которые должны сплотиться вокруг него, единственного уцелевшего из когда — то большой, но несчастной семьи.
Потом начался раздел собственности Британника, словно это была добыча, взятая на войне. Обширные поместья и дома покойного поделили между собой Нерон, Сенека и Бурр.
Больше других общественному осуждению подвергся Сенека. Как же так, спрашивали римляне, человек, всенародно выставлявший напоказ свое презрение к деньгам и кичащийся своей непреклонной добродетелью, не колеблясь, принимает дары, добытые преступным путем?
Глава пятая. В опале
Оправившись после двойного удара, нанесенного ей Нероном: отставки Палланта и умерщвления Британника, Агриппина уже открыто объявила о своей войне с сыном. Она не только оплакивала смерть Британника, что многими воспринималось как красноречивое осуждение его убийцы, но демонстративно взяла под свое покровительство глубоко несчастную Октавию, которую, в сущности, сама и обездолила, насильно женив на ней Нерона.
Каждый день императору докладывали о действиях его матери, которая не покладая рук и не жалея сил хлопотала о том, чтобы создать вокруг имени сына неблагоприятное для него общественное мнение: привечала трибунов и центурионов, преданных памяти ее отца Германика, встречалась с сенаторами и представителями старой знати, повсюду, где только могла, лихорадочно добывала деньги, чтобы с их помощью привлечь к себе как можно больше людей.
— Агриппина сколачивает партию, враждебную императору, и уже приискивает вождя, — шептались во дворце.
Наконец Нерон решил пресечь эти толки и наказать мать. Полагая, что для нее, женщины гордой, нет ничего хуже публичного унижения, он распорядился лишить ее всех почестей, которые ей были предписаны после смерти Клавдия. И вот ее больше не сопровождают на улицах ликторы, удаляются преторианцы, выделенные для охраны ее покоев, отбираются германцы, приставленные к ней сенатом в качестве телохранителей.
Всем этим Нерон хотел показать, что отныне его мать перестала быть императрицей и перешла в разряд обычных людей. Кроме того, он отказал ей в дворцовых апартаментах, вынудив ее перебраться в дом бабки Антонии, который находился тут же на Палатине. Так в возрасте сорока лет Агриппина вернулась в дом, где прошло ее детство.
Вокруг опальной Агриппины тотчас образовалась пустота. Редко кто отваживался появляться в ее жилище. "Немало было таких, — пишет Дион Кассий, — кто, видя ее лишенной личной охраны, начал принимать тысячу мер предосторожности, избегая даже случайной встречи с ней на улице. А если кто — то все же попадался ей на глаза, то и он пробегал мимо, старательно уклоняясь от разговора с ней". Друзья и подруги, недавно толпой теснившиеся вокруг Агриппины, разом оставили ее. Комментируя эту ситуацию, Тацит, как всегда, предельно пессимистичен: "Среди дел человеческих нет ничего более шаткого и преходящего, чем обаяние не опирающегося на собственную силу могущества. У порога Агриппины сразу стало безлюдно: никто не являлся к, ней с утешениями, никто не приходил проведать ее кроме нескольких женщин, побуждаемых к этому, быть может, любовью, а быть может, и ненавистью".
В числе последних была Юния Силана, жена небезызвестного нам Гая Силия, который развелся с ней, чтобы жениться на Мессалине. Как мы помним, эта авантюра завершилась смертью и Силия, и Мессалины.
Юния Силана долгое время пользовалась расположением Агриппины, но потом, когда Силана вознамерилась выйти замуж за Секстия Африкана, молодого человека из знатной семьи, между женщинами разгорелась вражда, виновницей которой была Агриппина, расстроившая почти уже заключенный брак. Трудно объяснить, чем руководствовалась Агриппина, но она смогла внушить жениху, что Силана — стареющая развратница, и с тех пор незадачливая невеста затаила против нее злобу и, хотя прошло уже семь лет, жаждала отмщения. Узнав об опале императрицы, Силана сочла момент для мести подходящим и потому зачастила в дом бывшей подруги. Некогда могущественная, а теперь изгнанная из дворца Агриппина была, действительно, легко уязвима.
Замыслив погубить уже поверженную Агриппину, Силана обратилась за помощью к тетке Нерона Домиций, у которой были давние счеты с Агриппиной, ведь та развела ее с законным мужем Пассиеном Криспом, женила его на себе, а после его смерти стала наследницей огромного состояния в двести миллионов сестерциев. Домиция не могла простить императрице еще и то, что та погубила ее сестру, мать Мессалины, обвинив вместе с вольноотпущенником Нарциссом в заговоре против Нерона, чем обрекла ее на преждевременную смерть.
Объединенные общей ненавистью к Агриппине, женщины разработали план совместных действий. Поскольку Юния Силана под маской дружбы усердно навещала опальную императрицу, она быстро убедилась в том, что в ее новом жилище на Палатине бывают не только женщины. Часто она заставала у нее Рубеллия Плавта. При Тиберий и Клавдии он был довольно заметной личностью в Риме. Теперь же, как и Агриппина, отстраненный от государственных дел, он нашел в ней друга по несчастью. По материнской линии он состоял в дальнем родстве с Августом. Этим и не преминули воспользоваться Силана и Домиция.
Силана поручила своим клиентам Итурию и Кальвизию сообщить Нерону о том, что его мать собирается выйти замуж за последнего потомка императорского дома Юлиев — Клавдиев Рубеллия Плавта с тем, чтобы, свергнув Сына, возвести мужа на римский престол и таким образом возвратить себе верховную власть в государстве.
В Риме было немало людей, ненавидевших Агриппину и мечтавших посчитаться с ней. В их числе был Атимет, вольноотпущенник Домиций. Его — то и посвятили в свои замыслы Итурий и Кальвизий с просьбой о содействии, поскольку они сами не имели доступа в императорский дворец. Тот свел приятелей с мимическим актером Парисом, вольноотпущенником все той же Домиций. Парис, разумеется, за высокое вознаграждение, взялся донести императору на Агриппину.
Не откладывая дела в долгий ящик, он, несмотря на позднюю ночь, отправляется во дворец, где застает Нерона, пьянствующего с друзьями. Парис нередко появлялся у принцепса за полночь, чтобы своим искусством оживить увеселения, в этот час обычно уже терявшие свой накал.
Встреченный пьяными возгласами пирующих, актер напустил на себя мрачный озабоченный вид. Нерон, никогда прежде не видевший Париса хмурым, спросил о причине случившейся с ним перемены.
— Я только что узнал о готовящемся против тебя заговоре. Скоро ты умрешь! — трагическим тоном объявил актер, умевший, когда надо, нагнать страху.
Нерон потребовал сообщить ему подробности. Парис притворно мялся. Император настаивал. Он хотел знать все. Прикинувшись, что вынужден подчиниться, актер как бы против своей воли, словно чудовищность преступного умысла сковывала его язык, с трудом выдавил из себя имена Агриппины и Рубеллия Плавта, назвав его любовником императрицы и будущим ее супругом.
Парис попал в цель. Нерон моментально протрезвел и распорядился призвать к нему Бурра. Пока его разыскивали, он составил приказ, которым отстранял префекта от должности и на его место назначал сына своей кормилицы Цецину Туска. Нерон уже готовился отправить преторианцев к матери и Рубеллию Плавту с тем, чтобы прикончить обоих той же ночью, когда во дворец явился Бурр, который попытался успокоить и вразумить обезумевшего от страха принцепса. Но тот не хотел ничего слушать.
— Начальник моей охраны узнает о готовящемся на меня покушении позже всех, — вопил Нерон. — И ты думаешь, я в это поверю? Всем известно, кто сделал тебя начальником преторианцев. Признайся: ты тайно содействуешь преступным замыслам моей матери! Ты все знал, но молчал.
— Не следует так горячиться, — увещевал императора старый воин. — К чему доверять словам какого — то актера? Надо выслушать и других обвинителей. Ночь не лучшее время для принятия ответственных решений. Лучше дождаться утра. Скорее всего, это обвинение — простой навет, и ты будешь потом благодарен, если удержишься от опрометчивого шага. В конце концов, каждый имеет право защищаться, а тем более твоя мать. Если ее виновность подтвердиться, обещаю тебе собственноручно предать ее смерти.
Услышав последние слова Бурра, Нерон, как это нередко бывало с ним, внезапно успокоился.
— Хорошо, — буркнул он. — Я задержу распоряжение о твоей отставке. Завтра ты мне доложишь о результатах расследования.
В ту ночь вмешательство Бурра спасло Агриппине жизнь.
На рассвете Бурр и Сенека, которого Нерон отправил приглядывать за Бурром, уже находились в доме Агриппины. Вместе с ними пришли несколько вольноотпущенников для ведения протокола допроса. Агриппину поставили в известность, в каких преступлениях и кем она обвиняется. Ничуть не испугавшись, Агриппина отреагировала весьма энергичной речью в свою защиту, причем, защищаясь, она перешла в атаку, и вскоре ей удалось полностью изменить ситуацию и из обвиняемой превратиться в обвинительницу.
— Я нисколько не удивляюсь, что никогда не рожавшей Силане неведомы материнские чувства, ведь матери не меняют детей как погрязшая в распутстве — любовников. И если Итурий и Кальвизий, промотав свое состояние, продают этой старухе последнее, чем еще могут распорядиться — свое пособничество в предъявлении клеветнических обвинений, то этого недостаточно, чтобы опозорить меня, приписав мне намерение умертвить сына, или чтобы обременить совесть Цезаря умерщвлением матери. Я воздала бы благодарность Домиций за враждебность, если бы она соперничала со мной в доброжелательстве к моему Нерону. Но она занималась устройством рыбных садков в своих Байях, пока моими стараниями подготовлялись Нерону усыновление, дарование проконсульских прав, консульство и все то, что ведет к высшей власти, а теперь вкупе со своим любовником Атиметом и лицедеем Парисом сочиняет небылицы по образцу представляемых на подмостках трагедий.
Затем Агриппина говорила о том, что лишь до тех пор, пока ее сын живет и находится у власти, она может быть спокойна за свою жизнь. Бурр и Сенека полностью удовлетворились ее ответом и даже принялись успокаивать ее. Агриппина закрепила свою победу, добившись возможности дать разъяснения сыну лично.
Когда ее проводили во дворец, она, и не подумав оправдываться, словно не допускала даже мысли о недоверии к себе, ограничилась лишь просьбой наказать своих обвинителей.
На этот раз просьба Агриппины была удовлетворена. Силану изгоняют в Тарент, Кальвизия и Итурия отправляют в ссылку. Самое жестокое наказание ожидало Атимета — смертная казнь. Не тронули только актера Париса, которого Нерон очень любил за его искусство.
Избежав смертельной опасности, Агриппина, чтобы не искушать судьбу, оставила Рим и с начала 57 года до середины 58 года жила в своих великолепных виллах, лишь изредка наезжая в столицу. Особенно ей нравилась ее вилла на морском побережье в Анции, где двадцать лет назад родился ее единственный сын. Другая загородная дача, унаследованная ею от второго мужа Пассивна Криспа, находилась около Тускула и славилась своими замечательными буковыми рощами. Еще одно владение она имела в Байях, на берегу Лукринского озера. Этот дом с садом и парком ей достался от бабки Антонии.
Свой досуг Агриппина посвятила составлению мемуаров, над которыми работала с большим увлечением и в которых немало страниц отвела воспоминаниям о своей матери и отце Германике.
Глава шестая. Туалет Поппеи
То, чего не смогла добиться Юния Силана, было достигнуто другой женщиной — Поппеей Сабиной. День, когда она вошла в жизнь Нерона, имел самые роковые последствия не только для Агриппины, но и для ее невестки Октавии.
"У этой женщины, — сообщает Тацит, — было все, кроме честной души. Мать ее, почитавшаяся первой красавицей своего времени, передала ей вместе со знатностью и красоту; она располагала средствами, соответствовавшими достоинству ее рода; речь ее была любезной и обходительной, и вообще она не была обойдена природной одаренностью".
Когда Нерон встретил Поппею, она была уже замужем и имела сына. Ее муж Руфрий Криспин, один из двух префектов претория, при Клавдии по настоянию Агриппины был смещен со своего поста и заменен Бурром. Наделенная редкостной красотой и живым умом, Поппея прославилась тем, что уход за собой возвела в самый настоящий культ. Чтобы всегда выглядеть привлекательной, она не жалела ни средств, ни времени и проявляла исключительную изобретательность для сохранения своей юной внешности.
Особенно она гордилась своими густыми белокурыми волосами, которые были величайшей редкостью для римских красавиц, как правило, темноволосых. У Поппеи было довольно миниатюрное лицо, которое на протяжении всей ее жизни сохраняло неизменно детское выражение, что придавало ей очарование младенческой невинности.
В Риме широкой известностью пользовались ее ванны из молока ослиц, способствовавшие осветлению кожи, и знаменитые косметические маски для лица. К каждой части своего прелестного тела Поппея относилась с величайшим вниманием. Она следила даже за тем, чтобы ее язык всегда оставался розовым и бархатистым, и часами заставляла служанок полировать его с помощью пластинок из слоновой кости. Можно только догадываться, как ухаживала она за своими глазами, если с такой тщательностью заботилась о языке. А глаза у нее были большие, светлые и блестящие. Предметом особой заботы являлась грудь, небольшая, но крепкая и высокая. Одним словом, Поппея была настоящей женщиной, обольстительной и желанной.
Мать Поппеи Сабины прославилась своей безнравственностью. У нее хватило дерзости отбить любовника у самой Мессалины. Речь идет об известном нам пантомиме Мнестере. Этим поступком она навлекла на себя ненависть императрицы. Став позже любовницей Валерия Азиатика, она была вынуждена покончить с собой после того, как Мессалина оговорила ее возлюбленного, обвинив его в преступлениях против государства.
Словоохотливые римляне любили посудачить о молодой Поппее, которая вела себя необычайно интригующе: редко появлялась на публике, а если ей все же случалось показаться в общественном месте, всегда держала лицо полуприкрытым, то ли затем, чтобы скрыться от любопытных взоров, то ли затем, чтобы, наоборот, привлечь к себе внимание нарочитой скромностью и стыдливостью.
Рассказы о Поппее, которые Нерон нередко слышал от своих друзей, возбудили его интерес к красивой римлянке. К тому же Акте ему начала надоедать, и он был не прочь сменить любовницу. Сдерживала лишь необходимость соблюдать приличия. Он был женат, а у Поппеи был законный муж. Скандалов ему, естественно, не хотелось.
Свои сомнения Нерон поверил товарищу по ночным кутежам Отону. И тот взялся помочь императору. Пустив в ход свою красоту и внешний блеск, он довольно быстро совратил Поппею, которой льстила связь с ближайшим другом императора. Вскоре ее брак с Руфрием Криспином был расторгнут, и Поппея обрела свободу.
Но разве можно предусмотреть все до мелочей? Даже в самые совершенные планы часто вторгается что — нибудь непредвиденное. В данном случае непредсказуемым оказалось то, что Отон сам влюбился в Поппею и женился на ней. Таким образом легковесная любовная интрижка переросла в глубокое чувство.
Отон решил, что ему, как старому другу Нерона, все простительно. В своей увлеченности Поппеей он потерял всякую осмотрительность. Не проходило дня, чтобы он в присутствии Нерона не расхваливал свою жену, превознося ее красоту и женские прелести. Часто в разгар пиршества он поднимался из — за стола, говоря, что не может более переносить разлуку с любимой и должен немедленно вернуться к той, что стала бесценным сокровищем его жизни, ведь судьба подарила ему женщину не только знатную и красивую, но и всеми желанную, которая стала для него источником неописуемых наслаждений и подлинного счастья.
Полные соблазна слова друга сильно разжигали Нерона. Слушая речи Отона, он трепетал от страсти, но вынужден был сдерживать себя. Не мог же он обвинить его в предательстве и всенародно признаться в своем неблаговидном умысле. Но настал день, когда вожделение и зависть переполнили его, и он, уже не в состоянии совладать с собой, послал к Отону своих людей с тем, чтобы они препроводили к нему Поппею. Но Отон изгнал посланных Нероном, даже не пустив их на порог своего дома. Такая же участь постигла и самого императора, когда он лично явился к другу, чтобы потребовать у него Поппею. Это была сцена, достойная комедии Плавта. Император стоял перед запертой дверью, мольбами и угрозами выпрашивая себе чужую жену.
Отон все же сообразил, что дело зашло слишком далеко и дальнейшее упорство может обернуться для него гибелью. Он смирился перед неизбежностью и попросил жену отправиться в императорский дворец. Похоже, просьба мужа Поппею не удивила. Выходя замуж за Отона, она, видимо, рассчитывала рано или поздно оказаться в объятиях принцепса.
В первоначальном плане друзей самой Поппее отводилась пассивная роль, но вскоре статистами оказались они сами и незаметно для себя начали делать то, что хотела от них ловкая женщина, у которой имелось достаточно ума и хитрости, чтобы вести свою собственную игру. Сомнений для нее не существовало, ведь судьба, полагала она, дает ей уникальный шанс переступить порог императорского дворца. Свой выбор Поппея уже сделала: лучше порочный император, чем влюбленный придворный. Но она вовсе не собиралась играть во дворце роль наложницы Нерона, более подходящую для вольноотпущенницы Акте. Ей, женщине знатного рода, больше подходит амплуа императрицы.
Вот какие мысли теснились в голове Поппеи, когда она узнала о приглашении Нерона посетить его во дворце. Перед тем как отправиться на Палатин, она долго и тщательно занималась своим туалетом. Утром приняла ванну, после чего служанки долго шлифовали ее кожу пемзой, чтобы на ней не было ни одной волосинки. Затем все тело умастили кремом ее собственного изобретения, вошедшим в историю под названием "Поппеиной мази". Кожа Поппеи была всегда свежей и нежной благодаря специальным маскам из теста крупчатки или хлебного мякиша, которые она делала перед сном. Против воспалений и покраснений лучшим средством служила ячменная мука, смешанная с оливковым маслом. Убрать загар помогала особая смесь, в состав которой входила смола мастикового дерева. Томную бледность лицу придавала специальная косметическая масса, изготовляемая на Родосе. На солнце она растекалась, что было очень неудобно, поэтому чаще применялся мел, разведенный особым способом.
Помады против морщин Поппея не употребляла: ее кукольное личико было безукоризненным в этом отношении. Пока она придирчиво разглядывала в зеркале свои белоснежные зубы, которые регулярно чистила порошком из пемзы, смешанным с лепестками розы, несколько служанок возились с ее прической. Чтобы еще больше высветлить волосы, Поппея пользовалась мылом, привозимым из Галлии. Его делали из золы бука и козьего сала. Служанки между тем собрали ее волосы над ушами и уложили красивыми прядями вокруг головы, отчего лицо Поппеи стало слегка продолговатым.
Теперь настало время заняться лицом. Веки Поппея подкрасила в нежный пепельный цвет, ресницы — в черный, линию бровей подчеркнула угольным карандашом. Провела у рта губной помадой из красной селитры и кошенили. Немного подрумянив лицо, поставила на щеке маленькую мушку. Никаких драгоценностей она не признавала, полагая, что женщина должна быть привлекательна своей природной прелестью. Лопаточкой из слоновой кости в последний раз прошлась по языку, выпила несколько капель возбуждающего средства, чтобы быть бодрой и оживленной, и порхнула в носилки.
Вскоре она была у дверей палатинского дворца. Перед тем как выйти из носилок, она пожевала ягоды мирта, отчего ее дыхание сделалось душистым.
Нет нужды говорить, как счастлив был Нерон, ведь к нему явилась самая блистательная женщина Рима. Она же, чтобы еще больше вскружить императору голову, пустила в ход все свои чары. При этом она так превозносила его красоту и изображала себя покоренной его страстью, что быстро завладела им без остатка. Когда же Поппея убедилась в том, что принцепс находится в ее полном подчинении, она стала держать себя с ним высокомерно и деспотично. Если Нерон пытался оставить ее у себя более, чем на одну — две ночи, она противилась, заявляя, что она — женщина замужняя и не намерена расторгать брак.
— Никакой мужчина не может сравниться с Отоном, — коварно твердила она. — У него благородная возвышенная душа. Он человек утонченного образа жизни. А с каким достоинством он держится на людях! И это не удивительно, ведь он обладает всеми качествами прирожденного властителя.
Нерон бесился, слушая эти разговоры. Но что он мог сделать? Рядом с Поппеей он чувствовал себя совершенно беспомощным. А она, видя это, с каждым разом усиливала свой натиск.
— Тебе далеко до благородства Отона, — с назойливым упорством повторяла Поппея. — Ведь ты связался с грязной рабыней и достоин только презрения.
Терпение Нерона, наконец, лопнуло. Все же не Отон, а он, Нерон, был римским императором, и даже другу этого не следовало забывать. Вскоре последовал приказ, предписывавший Отону развестись с женой. Затем под видом наместничества Нерон удалил соперника в далекую Лузитанию.
Острые на язык римляне тут же пустили гулять по Риму насмешливую песенку:
Хочешь узнать, почему Отон в почетном изгнанье?
Сам со своею женой он захотел переспать.
Глава седьмая. Конец золотого пятилетия
Первые пять лет правления Нерона римляне считали счастливейшим пятилетием. Массовые казни, ставшие обычным явлением при Калигуле, прекратились. Юный император охотно проявлял великодушие даже в тех случаях, когда смертный приговор казался неминуемым. Так, всего лишь к ссылке в Массилию был осужден брат Мессалины Фавст Корнелий Сулла. Женатый на старшей дочери Клавдия, Антонии, он был потомком знаменитого диктатора Суллы, но в отличие от своего выдающегося предка характером обладал мягким, даже робким, был лишен всякого честолюбия и, несмотря на свое родство с Клавдием, никогда не помышлял об императорском троне.
Однако нашелся человек, который попытался его оговорить. Своей целью клеветник ставил погубить Бурра и Палланта, обвинив их в заговоре против имератора. Сулла же фигурировал в нем как человек, которому заговорщики намеревались передать верховную власть в государстве. Донос такого рода мог привести к тяжелейшим последствиям, ведь у Нерона однажды уже был повод усомниться в преданности Бурра, Он даже подготовил указ о смещении его с должности начальника преторианцев. Что же касается бывшего любовника Агриппины, то расположением принцепса он никогда не пользовался.
Мужество не изменило Бурру и на этот раз. Явившись в суд в сопровождении преторианцев, он, оставив оружие и телохранителей у входа, смело вошел в зал, где проходило судебное разбирательство, и с видом человека, чья честность ни у кого не должна вызывать сомнения, направился прямо к судейскому креслу, на которое имел право как префект претория и член императорского совета.
Увидев Бурра среди судей, Паллант повел себя с надменностью, поразившей всех присутствовавших своим неслыханным цинизмом. Когда были названы некоторые рабы и вольноотпущенники, якобы привлеченные им для убийства Нерона, он заносчиво заявил:
— Всем хорошо известно, что у себя дома я отдаю распоряжения не иначе как кивком головы или движением рук. Если же требуется пространное указание, я, дабы не вступать в устные объяснения, прибегаю к письму. Мне бы и в голову не пришло довериться каким — то рабам и вольноотпущенникам.
Речь Палланта произвела на сенаторов удручающее впечатление, но убедила их в его невиновности. Корнелию Сулле не пришлось даже отвечать перед судом, потому что изобличенный в клевете обвинитель был единодушно осужден к изгнанию.
Спустя некоторое время на Суллу возводится новое обвинение. Инициатором его стал вольноотпущенник Нерона Грапт, который со времени Тиберия жил и состарился при дворце. Грапту было известно, что император — большой любитель ночных кутежей и нередко наведывается к Мульвиеву мосту. Самый северный из римских мостов через Тибр, он находился за чертой города. По нему шла Фламиниева дорога в Рим. Здесь по ночам развлекалась золотая молодежь столицы. Посетителем этого злачного места а был и Нерон, который вдали от дворца чувствовал себя свободным и безудержно отдавался веселью.
Однажды несколько приятелей принцепса, возвращаясь в Рим как обычно, по Фламиниевой дороге, подверглись нападению каких — то сорванцов, которые ради озорства и забавы нагнали на них страху. Нерона с ними не было. Изменив своему обыкновению, он в тот раз вернулся в город другим путем. Узнав о происшествии, Грапт поспешил к императору с вымыслом о вероломном нападении, подготовленном якобы Суллой. Лишь случайно, уверял он, Нерон избежал подстроенной ему засады.
Хотя среди нападавших не опознали никого, связанного каким — либо образом с Суллой, некоторые сомнения все же оставались, ведь за короткий срок это было второе обвинение, выдвинутое против него, и поэтому Нерон счел за лучшее удалить Суллу за пределы Италии.
Римляне были потрясены великодушием императора. При Калигуле или Клавдии человеку, подозреваемому в таком преступлении, не удалось бы отделаться столь легким наказанием.
Непривычное для римлян милосердие обнаружил Нерон и при открытии громадного деревянного амфитеатра, который сооружался на Марсовом поле в течение года. Император нарушил вековую традицию, даровав жизнь всем участникам гладиаторского сражения, даже тем, кто был осужден к смерти за убийство. Римлян ничто так не развлекало, как зрелище предсмертных конвульсий умерщвляемых гладиаторов, поэтому проявленное Нероном сочувствие энтузиазма ни у кого не вызвало. Пришедшие посмотреть бой гладиаторов жаждали кровавого исхода и были жестоко разочарованы необъяснимым решением императора пощадить поверженных бойцов. Кроме того, зрителей лишили возможности определить самим, кому из побежденных жить и кому умереть. Поступок Нерона заставил их усомниться в его нормальности.
Но еще больше встревожило многих то, что Нерон разрешил участвовать в сражениях на арене римским гражданам сенаторского и всаднического сословия. Хотя среди них было немало таких, кто имел добрую репутацию, тем не менее они не смогли устоять перед щедрым денежным вознаграждением, предложенным императором. То, что при Юлии Цезаре считалось смертельным позором, при Нероне становилось делом обычным. Ради денег сенаторы и всадники были готовы выступать в цирке перед многотысячной толпой зрителей. Некоторые согласились появиться на арене в качестве укротителей диких зверей, некоторые — просто прислуживать. Один именитый всадник вызвал бурный восторг публики тем, что верхом на слоне пересек цирк по наклонно натянутому канату. А в Большом цирке на скачках состязались сенаторы, причем в колесницы были запряжены не лошади, а по четыре верблюда. По этому случаю Нерон распорядился увеличить длину беговой дорожки до шестисот сорока пяти метров, так что теперь наблюдать за скачками могли двести пятьдесят тысяч человек одновременно.
Однажды Нерон устроил и вовсе невиданное зрелище. В театр внезапно была пущена соленая вода, в которой плавали рыбы и морские животные. В этом бассейне произошел бой между персами и афинянами. Затем воду выпустили, и на арену снова вышли бойцы, но сражались они уже не парами, а отряд на отряд.
Нерон заботился о том, чтобы привлечь публику прежде всего зрелищной стороной представлений, а не жестокостью и неумеренным кровопролитием. И это ему нередко удавалось. Как — то раз была показана сцена, изумившая зрителей своей реалистичностью. В ней бык покрывал Пасифаю, спрятавшуюся в деревянную телку. Известная всем легенда о жене критского царя Миноса, воспылавшей любовью к быку и родившей от него получеловека — полубыка Минотавра, получила сценическое воплощение.
На глазах многотысячной толпы был разыгран и другой мифологический сюжет — полет Икара, вместе с отцом бежавшего с острова Крита, где они были заточены в Лабиринт царем Миносом. В мифе Икар поднялся слишком высоко к палящему солнцу, забыв, что перья, из которых сделаны его крылья, скреплены воском. Солнце растопило воск, и юноша, упав с огромной высоты в море, погиб в его волнах. В спектакле, разыгранном перед римлянами, первая же попытка актера, изображавшего полет Икара, закончилась трагически. Он упал неподалеку от императора, забрызгав его и ложе своей кровью. В тот раз Нерон, сам того не желая, смог угодить публике, жаждавшей кровавых зрелищ.
Император, который старательно избегал ненужной жестокости и бессмысленного кровопролития, не мог вызвать уважения соплеменников, ценивших превыше всего воинскую доблесть, бесстрашие и презрение к смерти. Ведь самые славные страницы римской истории были связаны с победоносными войнами, которые римляне беспрерывно вели с соседями, расширяя пределы отечества. Жители Рима, немало времени проводившие на Форуме, привыкли к тому, что ворота находившегося там храма древнейшего италийского божества Януса всегда открыты в знак объявления очередной войны. И тем не менее "расширять и увеличивать державу у Нерона не было никакой охоты", свидетельствует Светоний.
Связанные с традициями и кастовыми привилегиями римские сенаторы и всадники могли простить императору его отвращение к кровавым зрелищам и даже смириться с его нежеланием воевать, но позволить ему проводить мероприятия, затрагивающие их финансовые и сословные интересы, решительно не могли. Стоило Нерону лишь попытаться изменить налоговую систему, тотчас между ним и сенатом возникли напряженные отношения. Вот что пишет об этом Тацит. "Обеспокоенный настойчивыми жалобами народа, обвинявшего откупщиков в разнузданном произволе, Нерон задумался, не отдать ли ему приказ об уничтожении всех взимаемых пошлин, предоставив этим роду человеческому прекраснейший дар. Сенаторы превознесли похвалами великодушие принцепса, однако охладили его порыв, убедив его в том, что сокращение обеспечивающих могущество государства доходов неизбежно приведет к распаду империи: ведь за упразднением пошлин последует требование и об отмене налогов".
Попытка Нерона обуздать алчность откупщиков и положить конец их злоупотреблениям, упразднив все виды косвенных налогов (пошлин), поддержки в сенате не нашла, и принцепс вынужден был отступить. Предложенная им реформа имела действительно революционный характер, потому что служила интересам широких народных масс и сокрушала откупную систему, существовавшую со времен Римской республики. В случае ее осуществления убытки терпели не только откупщики налогов, но и тесно связанное с ними правящее сословие, ведь откупщики назначались консулами и утверждались сенатом, что для сенаторов было очень прибыльным делом: в их карманах оседало немало денег, получаемых в виде взяток от соискателей на должность откупщика, которые потом с лихвой возмещали свои затраты за счет налогоплательщиков. Поэтому сенаторы готовы были сносить любые эксцессы Нерона, его пьянство, распутство, пренебрежение государственными делами, лишь бы лично им они не наносили материального ущерба.
Все, чего Нерон смог добиться, это обнародовать негласные ранее правила, регламентирующие деятельность откупщиков. Нормы, которыми они должны были руководствоваться при взимании того или иного государственного налога, до этого времени державшиеся в тайне, стали отныне общественным достоянием. Запрещалось, например, взыскивать в судебном порядке налог, если требование об его уплате не было предъявлено в течение года. Жалобы на сборщиков налогов должны были разбираться вне очереди. От налогов освобождались воины и корабли, доставляющие в Италию хлеб из заморских провинций. Отменялся незаконно установленный откупщиками поборов сбор в размере двух — двух с половиной процентов от суммы, на которую совершалась сделка.
Конечно, это было далеко не то, что Нерон первоначально планировал осуществить в сфере налогового обложения. То, чего он достиг, выглядело скорее уступкой сената, чем личной победой императора. В сражении с сенаторами Нерон убедился, что он вовсе не всемогущ и должен считаться со своими высокопоставленными подданными даже в тех случаях, когда их правота сомнительна. Разочаровавшись в мудрости и послушании сенаторов, Нерон перестал доверять им.
Глава восьмая. "Пусть убивает, лишь бы властвовал"
Древние историки передают, что, как только Нерон появился на свет, Агриппина обратилась к астрологам с вопросом о его грядущей судьбе и, когда те ответили, что младенец станет царем, но убьет свою мать, воскликнула: "Пусть убивает, лишь бы властвовал!"
Первая часть предсказания сбылась: уже пять лет как Нерон правил Римом. Исполнится ли его вторая часть? Похоже, обстоятельства складывались не в пользу Агриппины.
Потерпев неудачу в реформаторской деятельности, Нерон окончательно запутался и в своих отношениях с Поппеей, которая упорно преследовала его упреками и злыми насмешками, требуя, чтобы он развелся с Октавией и женился на ней. Ежедневно она разыгрывала перед ним дикие сцены ревности, сопровождаемые слезами и неизменными проклятиями в адрес Агриппины, которая, как полагала притворщица, всячески препятствует расторжению его брака с дочерью Клавдия.
— Ты ведешь себя как маленький школьник, — бросала она в лицо Нерону слова, больно ранящие его самолюбие. — Ты неспособен располагать даже самим собой, не то что повелевать другими. Какой ты правитель, если цепляешься за юбку своей маменьки, которая вертит тобой, как ей вздумается?
Если Нерон пытался прервать разъяренную Поппею, та напускалась на него еще пуще:
— Почему откладывается наша свадьба? Может быть, тебе не нравится моя внешность? Или я недостаточно знатна для тебя? Или бесплодна, как твоя женушка? Что же останавливает тебя? Можешь не отвечать! Я и так знаю это. Во всем виновата твоя тщеславная и алчная мать! Я, видите ли, ей не по нутру. Конечно, она предпочитает, чтобы рядом с тобой находилась не любящая женщина, а ненавидящая тебя Октавия. Ведь так ей проще управлять своим безвольным сыночком. Вот и спи с ней, а меня оставь в покое!
Толстая шея Нерона покрывается красными пятнами. Силясь удержать следы обиды, он беспомощно щурит близорукие глаза и становится похож на провинившегося ребенка. Видя его таким беззащитным и несчастным, Поппея усиливает натиск.
— Если ты не в состоянии преодолеть страх перед матерью, позволь мне вернуться к Отону. Я не могу быть свидетельницей твоего позора и видеть, как ты ежедневно подвергаешься оскорблениям и унижениям.
От слов Поппеи у Нерона больно сжимается сердце, но разве есть сила, способная заставить замолчать пришедшую в ярость женщину? Упади он сейчас замертво, ее вопли и тогда не прекратятся. Искусная притворщица, она даже его смерть сочла бы за дешевую уловку и проявление слабости.
Сцены, подобные этой, повторяются ежедневно. Никто из ближайшего окружения Нерона не пытается одернуть обнаглевшую любовницу и прекратить безобразные спектакли, разыгрываемые ею перед императором. Друзья и советчики боятся, как бы вернувшаяся в Рим Агриппина не возымела прежнего влияния на сына, и молчаливо поддерживают Поппею. А ведь тот же Сенека должен был предвидеть, до чего могут довести слабовольного Нерона отчаяние и растущая в нем неприязнь к матери.
Основания опасаться Агриппину были, ведь она прекрасно понимала: стоит Нерону уступить Поппее, и для нее, некогда повелевавшей Римской империей, все будет кончено. Забыв, что является императору матерью, Агриппина решилась на последнее средство: бороться с ненавистной Поппеей ее же оружием — обольщением.
Рассчитывая вновь подчинить себе Нерона, Агриппина в те часы, когда он бывал разгорячен вином и обильной едой, появлялась перед ним нарядно одетой и недвусмысленно предлагала себя. Не обращая внимания на замешательство окружающих, она прижималась к нему, целовала и откровенными ласками склоняла к сожительству, а иногда доходила до того, что, обнажив перед ним трепещущую грудь, демонстрировала ее, желая таким образом доказать, что ни в чем не уступает Поппее. Иной раз, сообщает Светоний, ей удавалось завлечь сына с собой в носилки, из — которых он выходил с подозрительными пятнами на одежде. Скорее всего, это была не Агриппина, а необычайно похожая на нее наложница, о которой упоминает все тот же Светоний. Однако злые языки и прежде всего Поппея постарались опорочить и мать, и сына.
Как бы то ни было, приближенные императора и в первую очередь Сенека всполошились. Причиной были не столько толки о кровосмесительной связи, сколько возрастающее влияние Агриппины на принцепса. Сказать об этом своему бывшему воспитаннику Сенека, естественно, не мог, опасаясь, что гнев Нерона обрушится в первую минуту на него самого. Вряд ли можно было предвидеть, как истолкует неуравновешенный император обращенное к нему предостережение держаться подальше от матери. Хитрый царедворец предпочел воспользоваться вольноотпущенницей Акте, которая была, пожалуй, единственным человеком, любившим Нерона бескорыстно. Акте продолжала жить во дворце, хотя в интимной близости с Нероном уже не состояла.
Сообщение Сенеки девушку потрясло. Искренне желая Нерону добра, она поспешила предупредить его о нависшей над ним опасности:
— В народе распространились слухи о кровосмешении как о свершившемся факте. Агриппина открыто похваляется этим. Ты рискуешь потерять трон, потому что войско не потерпит над собой власти принцепса, запятнанного таким ужасным преступлением.
Беспокойство Акте было столь бесхитростно, что Нерон ничуть не усомнился в правдивости ее слов. Она, конечно, не подозревала, что является всего лишь послушным орудием в руках Сенеки и своей заботой о судьбе принцепса приближает трагическую развязку.
Отныне Нерон избегал оставаться с матерью наедине и облегченно вздыхал, когда она отправлялась на отдых в свои загородные поместья. Однако Сенека на этом не успокоился. Он внушил императору, что где бы Агриппина ни находилась, она все равно незримо преследует сына. Одержимый этой идеей, Нерон пришел к заключению, что навсегда освободиться от матери можно, лишь убив ее. Утвердившись в этой мысли, он начал совещаться с приближенными, взвешивая все способы умерщвления Агриппины: яд, кинжал или что — то иное. Яд отвергли сразу. После смерти Клавдия и Британника никто не усомнился бы в преднамеренном отравлении. К тому же Агриппина, страшась отравы, постоянно принимала противоядия. Конечно, можно прибегнуть к помощи кинжала. Но как выдать убийство за несчастный случай, никто не знал. Да и где была гарантия, что исполнитель этого дела будет действовать строго по плану? Малейшая ошибка — и гнев народа обратится против вдохновителей злодеяния. Риск слишком велик.
И вот, когда эти и другие сомнения одолевали Нерона и его советчиков, им на помощь неожиданно пришел Аникет. Один из первых воспитателей Нерона, он подготовил девятилетнего мальчика к выступлению на Троянских играх, которое стало подлинным триумфом для сына честолюбивой Агриппины. Императрицу Аникет ненавидел, Нерона же обожал и был ему предан всей душой. В свое время молодой император поручил ему, бывшему рабу, командовать римским флотом, базировавшимся в Мизене. Значение мизенского флота было огромно, он контролировал африканское побережье и район западного Средиземноморья.
Узнав о том, что Нерон находится в затруднительном положении, Аникет взялся ему помочь. Предложенный им план был настолько сложен, что заподозрить какой — либо умысел представлялось просто невозможным.
— Лучше всего, — сказал Аникет, — имитировать кораблекрушение. Для этого на корабле нужно устроить особое приспособление. Как только оно будет приведено в действие, судно распадется на части и пойдет ко дну. Захваченная врасплох Агриппина утонет, и никто не усомнится, что виной всему ветер и волны, ведь ничто в такой мере не чревато случайностями, как море.
Все нашли этот план гениальным и решили привести его в исполнение не медля.
Сенека посоветовал Нерону разыграть после осуществления злодеяния сыновнюю скорбь — воздвигнуть усопшей храм, жертвенники и вообще не жалеть усилий, чтобы выказать себя любящим сыном. Прославленный философ говорил об Агриппине так, словно ее уже не было в живых.
Тем временем Аникет занялся сооружением корабля. Это было не очень трудным делом, потому что римляне давно использовали корабли с раскрывающимися бортами. Они служили для перевозки из Африки животных для цирковых игр: слонов, львов, крокодилов.
Поскольку Нерон знал, что его мать хорошо плавает, он попросил придумать что — нибудь для того, чтобы она оказалась в воде уже мертвой. Аникет предложил положить на кровлю ее каюты тяжелую свинцовую плиту, которая должна была размозжить жертву до того, как судно затонет.
Самым подходящим временем для исполнения задуманного сочли Квинкватрии, ежегодные празднества в честь Минервы, богини мудрости и знаний, покровительницы ремесленников и школьников, в связи с чем с 19 по 23 марта в школах Италии прекращались занятия. Обычно Нерон проводил Квинкватрии на своей вилле в Байях, куда он теперь заранее пригласил Агриппину.
Он позаботился заблаговременно распустить слух о своей готовности примириться с матерью. Вскоре эта долгожданная новость достигла ушей императрицы, несказанно обрадовав ее. Нет такой женщины, сколь бы недоверчивой она ни была, которая не захотела бы поверить в раскаяние своего ребенка. Забыв об осторожности, Агриппина приняла приглашение сына, тем более, что в дни праздника она находилась поблизости от Байи на своей вилле в Анции. Путь до императорской виллы был невелик, но Агриппина решила воспользоваться либурнской галерой, быстрым, но малоудобным военным кораблем, который находился в ее распоряжении.
Едва она ступила на берег, как тут же попала в объятия сына. Свою радость он изображал столь естественно, что ему позавидовал бы любой актер. Он даже взял мать за руку, чтобы проводить на свою виллу. Тронутая вниманием сына, Агриппина с трудом сдерживала слезы. Хотя и предупрежденная о готовящейся ей западне, она была настолько растрогана, что сразу же забыла о всех своих подозрениях.
Окончательно сразил императрицу подарок Нерона — пышно разукрашенный корабль, который покачивался в прибрежных волнах, лаская взор своими изящными линиями. Небольших размеров, с довольно низкой посадкой, он был приспособлен как раз для прогулок по Байскому заливу. Нерон объяснил, что на корабле имеются каюты, специально оборудованные для Агриппины и ее слуг. Теперь по первому желанию она может прибыть к сыну или в свое удовольствие прогуливаться по морю.
Подарок был так хорош, что, когда какое — то военное судно, неудачно выполняя маневр, повредило ее галеру, Агриппина не огорчилась. Очарованная любезным обхождением сына, она не могла, конечно, предположить, что это столкновение подстроено им самим, опасавшимся, что мать захочет вернуться в Анций на своем корабле. Но эта предосторожность была излишней: Агриппина страстно мечтала испытать новый корабль.
Дожидаясь темноты, которая скрыла бы злодеяние, Нерон намеренно затянул ужин, который был сказочно великолепен. Стол ломился от изысканных яств, экзотических фруктов и редкостных вин. Повсюду были разбросаны благоухающие цветы, к запаху которых примешивался долетавший с улицы аромат цветущих деревьев. Из соседней комнаты доносились чарующие звуки музыки.
Весь вечер император был необычайно предупредителен и ласков с матерью. Поместив ее за столом выше себя, он то и дело бросал на нее нежные взгляды. Войдя в роль гостеприимного хозяина, он, развлекая свою гостью, все время что — то говорил, иногда громко, иногда переходя па доверительный шепот. И Агриппине стало казаться, что по — настоящему она еще не знала своего мальчика, такого милого и чуткого, и она уже была готова винить себя за то, что, постоянно занятая своими делами, мало уделяла ему времени, доверив заботам воспитателей, людей часто случайных.
Лед недоверия был полностью растоплен, когда Нерон отправился провожать мать на корабль. Вот как описывает эту сцену Тацит. "Провожая ее, отбывающую к себе, он долго, не отрываясь, смотрит ей в глаза и горячо прижимает ее к груди, то ли чтобы сохранить до конца притворство или, быть может, потому, что прощание с обреченной им на смерть матерью тронуло его душу, сколь бы зверской она ни была".
— Мамочка, — шептал Нерон, целуя в последний раз Агриппину, — мамочка моя, ты будешь жить долго — долго, здоровая и счастливая. Ведь только благодаря тебе я живу и повелеваю империей.
Эти слова, звучавшие для нее как небесная музыка, Агриппина могла слушать вечно.
Последнее объятие… и в сопровождении Аникета она взошла на корабль. При ней находились двое приближенных, Ацеррония Полла и Креперий Галл.
Пройдя в свою каюту, Агриппина прилегла на диван. Ацеррония устроилась у нее в ногах, привалившись плечом к высокой спинке ложа. Креперий Галл стоял неподалеку от них.
Корабль вышел в открытое море. Погода была безветренная, и гребцы налегли на весла. Плыли на север, туда, где в свете луны виднелась вилла Агриппины.
Тихая звездная ночь. Ровная гладь моря. Мерные взмахи гребцов, и журчание воды за кормой. Ничто не предвещало трагедии. Возбужденные, переполненные впечатлениями женщины, все еще находясь во власти охвативших их чувств, воскрешали в памяти события дня.
— Это счастливейший день в моей жизни, — радостно говорила Агриппина. — Сегодня я не только вернула себе сына, но вновь обрела былое величие.
— Да, — вторила ей Ацеррония, — Нерон полностью раскаялся и готов искупить свои прошлые ошибки и суровое обращение с матерью.
— Но в этом была вина не его, а его дурных советчиков и прежде всего Сенеки. Ты ведь заметила: Нерон — сущий ребенок, — горячо защищает сына императрица.
Корабль уже начал поворачивать к берегу, когда по данному знаку тяжелая крыша каюты обрушивается на головы Агриппины и ее спутников. Креперий Галл был убит на месте. Женщин спасли высокие спинки дивана, оказавшиеся достаточно прочными, чтобы выдержать тяжесть рухнувшей кровли. Осознать случившееся у них не было времени, потому что тотчас приводится в действие механизм затопления судна.
Однако устройство сработало лишь наполовину. Корабль не распался, как было задумано. Открылся только один борт, но поскольку на море в ту ночь был штиль, вода внутрь не поступала, и судно оставалось на плаву.
Гребцам, посвященным в тайный замысел, отдается приказ накренить корабль на бок и таким образом затопить его. Однако сделать это оказалось нелегко. На борту началась паника, и те, кто не был посвящен в заговор, мешали тем, кто пытался исполнить приказ: одни наклоняли в одну сторону, другие — в другую. Наконец удалось все же зачерпнуть воды, и судно стало погружаться в море.
И моряки, и гребцы начали спешно покидать корабль. О пассажирах, естественно, забыли, и обе женщины вместе с экипажем очутились в воде.
Падая, Агриппина повредила плечо и не сразу смогла подать голос. Ацеррония же немедленно принялась звать на помощь.
— Спасите императрицу! Спасите императрицу! — кричала она. На ее голос тотчас устремились несколько человек и, приняв за Агриппину, насмерть забили баграми и веслами. С проломленным черепом несчастная погрузилась на дно.
Все это произошло на глазах потрясенной Агриппины. По невероятной игре случая она стала свидетельницей уготованной ей смерти. Поняв, что единственная, надежда спастись — это остаться незамеченной, она, пересиливая боль в раненом плече, молча поплыла к берегу.
Все так же светили звезды, и море было спокойно.
Агриппина уже подплывала к пляжу, когда ее заметил вышедший на ночной лов рыбак. Он поднял ее в лодку и доставил почти к самому ее дому.
И вот она уже на своей вилле, окруженная перепуганными служанками и рабами. Обсыхает, согревается, занимается своим плечом, обдумывая при этом ночное происшествие. Сомнений нет: это — тщательно подготовленное покушение.
Она достаточно умна, чтобы сообразить, что, если у нее и есть шанс выжить, то лишь сделав вид, что она ничего не подозревает. Поэтому Агриппина отправляет к Нерону одного из своих вольноотпущенников Луция Агерма с сообщением, что по милости богов и хранимая судьбой, она избежала величайшей опасности. Он, конечно, в тревоге за здоровье матери, но она просит пока повременить с посещением, поскольку нуждается в отдыхе.
Внимательно выслушав императрицу, Агерм поспешил в Байи известить Нерона о случившемся.
Глава девятая. "Поражай чрево, зачавшее Нерона!"
В Байях Нерон с нетерпением ждал известия о смерти матери. При малейшем шуме он бросался к дверям в надежде увидеть вестника. Но никто не появлялся. С каждой минутой его тревога росла. Тщательно подготовленное кораблекрушение казалось уже делом нереальным и чреватым опасными последствиями для задумавших его.
И вот, наконец, первое сообщение: план осуществлен, при крушении судна Агриппина погибла. Но только Нерон облегченно вздохнул, новая весть: императрица жива — она ранена, но жизнь ее в безопасности. От страха у него перехватывает дыхание. Что предпримет его мать? Она, конечно, уже догадалась о покушении и не сомневаться, кто его подстроил.
Трусливое воображение услужливо рисует ему разъяренную Агриппину, охваченную жаждой мести. Он уже видит ее то во главе отряда вооруженных рабов, то среди преторианцев, готовых отомстить за дочь Германика, то — обращающуюся с разоблачительной речью к сенату и римскому народу, показывающую свою рану и призывающую покарать преступников.
Впав в отчаяние, Нерон замечает на своей руке подаренный ему в детстве матерью золотой браслет с заключенной в него змеиной кожей. Он в ярости срывает его и отшвыривает в сторону. Затем приказывает позвать к нему Бурра и Сенеку. Как только они переступают порог его спальни, он тут же выпаливает:
— Мышеловка захлопнулась, но добыча ускользнула. Корабль — на дне, Агриппина — у себя на вилле. Она наверняка все поняла.
Сенека и Бурр уже все знали. Даже то немногое, что произнес Нерон, говорить не требовалось. Они долго молчат. Такой поворот событий ничего хорошего для них не сулит. В сложившихся обстоятельствах решение может быть лишь одно — отбросить все предосторожности и не мешкая убить Агриппину. В противном случае и им и Нерону — конец.
Молчание сановников затягивается, ведь им надо решиться на ничем не прикрытое убийство, которое несчастным случаем, как кораблекрушение, уже не объяснить.
Наконец, Сенека обращает взор на начальника преторианцев.
— Можно ли отдать солдатам приказ немедленно отправиться к Агриппине и покончить с ней?
Бурр мгновение размышляет и отрицательно качает головой.
— Нет. Преторианцы слишком преданы памяти Германика и никогда не поднимут руку на его дочь. Даже если приказ будет исходить лично от императора, они и тогда не осмелятся пролить ее кровь. Лучше доверить это дело Аникету. Ему принадлежала идея о распадающемся корабле, пусть он и завершит обещанное. Его подчиненные не связаны с Агриппиной узами верности, и их ничто не удержит от расправы с ней.
Посылают за Аникетом. Он тотчас является и, чувствуя за собой вину, не колеблясь, берется довести дело до конца.
Обрадованный Нерон с присущей ему горячностью обнимает Аникета и с чувством произносит:
— Наконец я стану повелителем империи! И этот бесценный подарок делаешь мне ты, простой вольноотпущенник!
Слова императора звучат как укор Бурру. Нерон неодобрительно смотрит на подавленного префекта и снова поворачивается к Аникету.
— Возьми с собой надежных и решительных людей. И поторопись! Императрица ждать не любит.
И громко хохочет, довольный своей шуткой.
Отправив Аникета, Нерон, Сенека и Бурр начинают прикидывать, каким образом оправдать злодеяние и какое обвинение предъявить Агриппине. И вот, когда они мучительно ломают над этим голову, входит слуга и докладывает:
— Прибыл некий Агерм с посланием императрицы.
Такой удачи никто из них не ожидал.
Сразу оценив, как можно воспользоваться появлением в его доме вольноотпущенника Агриппины, Нерон приказывает проводить Агерма в свои покои. Когда тот вошел и, ничего не подозревая, начал радостно сообщать о том, что его госпожа избежала смертельной опасности, Нерон незаметно роняет у его ног кинжал и, прежде чем Агерм успевает сообразить, что происходит, поднимает тревогу. На крик императора прибегает охрана и видит перепуганного вольноотпущенника и лежащий у его ног кинжал. Присутствующие свидетельствуют, что кинжал выпал из одежды Агерма и приготовлен для убийства Цезаря. Несчастного волокут на улицу и обезглавливают.
Нерон и Сенека довольны. Теперь им не составит труда объяснить смерть императрицы. Успокоить общественное мнение и пресечь нежелательные толки, говорит Сенека, лучше всего, объявив, что в эту ночь Агриппина подослала своего человека умертвить принцепса, но, узнав о провале задуманного и уличенная в преступлении, чтобы избежать наказания, добровольно наложила на себя руки.
Тем временем по побережью разносится молва, что корабль, на котором императрица возвращалась домой, потерпел крушение и что сама она чудом избежала смерти в морской пучине. У виллы Агриппины тотчас собирается толпа из окрестных деревень. У многих в руках смоляные факелы. Их свет падает на бледные, взволнованные лица. Тени снующих людей, растерянные вопросы, сбивчивые ответы и сам поздний час вселяют в сердца собравшихся тревогу. Толком никто ничего не знает. Люди теснятся у входа, не ведая, с чем войти: с поздравлениями или соболезнованиями.
Внезапно все разом смолкают, и на какое — то мгновение устанавливается тишина. Из темноты появляется вооруженный отряд моряков под командованием Аникета и разгоняет толпу.
В это время Агриппина находилась в спальне, скупо освещенной светильником, в котором, потрескивая, догорало масло. Ей прислуживала одна — единственная рабыня. Вся во власти мрачных предчувствий, императрица задавала себе один и тот же вопрос: "Почему до сих пор не вернулся Агерм?" С каждой минутой шум за окнами возрастал, а вместе с ним и ее тревога. Вдруг движение на улице прекратилось. В наступившей тишине послышались властные окрики и кем — то отдаваемые команды. Это были голоса моряков, разгонявших толпу, и Аникета, распорядившегося окружить виллу вооруженной стражей. Затем его люди взломали двери и, опрокидывая с ног бросившихся им навстречу слуг, устремились внутрь дома.
Напуганная поднявшимся шумом, находившаяся рядом с императрицей служанка сочла за лучшее бежать и поспешно направилась к выходу.
— И ты меня покидаешь, — с грустью промолвила ей вслед Агриппина.
В опустевшем доме становится совсем тихо. Но вскоре раздаются чьи — то быстрые шаги. Беззащитная, всеми покинутая женщина слышит, как кто — то стремительно приближается к ее спальне. Дверь резко распахивается, и входят три человека. Это Аникет с сопровождающими его командиром корабля триерархом Геркулеем и флотским центурионом Обаритом. Их вид не сулит ничего хорошего.
В отчаянной попытке спасти себе жизнь Агриппина бросается им навстречу.
— Если вы явились по поручению моего сына — проведать меня, можете его успокоить: я чувствую себя хорошо.
В ответ на ее слова — ледяное молчание.
— Если же вы пришли убить меня, остерегитесь делать это! Мой сын не может быть вашим соучастником и матереубийцей.
Но Агриппину никто не слушает. Убийцы обступают ее с трех сторон, и триерарх наносит ей удар палкой по голове. Агриппина падает, но сознания не теряет. Из ее рта вытекает тоненькая струйка крови. Увидев, что центурион замахивается мечом, императрица обнажает живот,
— Сюда! Бей сюда! Поражай чрево, зачавшее Нерона!
……………………………………………………………
Умерла она сразу.
Случилось это в 59 году, 20 марта, и было ей тогда сорок четыре года.
Глава десятая. Триумфальное возвращение в Рим
Оставив залитое кровью тело на полу, убийцы поспешили к Нерону с сообщением, что приказ выполнен и Агриппина мертва. На этот раз он пожелал лично убедиться в ее смерти. Вскочив на коня — а наездник он был замечательный — Нерон через несколько минут был в Анции.
Воспаленными от бессонницы глазами смотрел он на изуродованное множеством ран, плавающее в крови тело матери и чувствовал, как лихорадочное возбуждение сменяется в нем страхом. Впоследствии распространился слух, что, разглядывая убитую, Нерон якобы произнес: "Я и не знал, что у меня такая красивая мать". Добавляют также, что он внезапно почувствовал жажду, потребовал вина, залпом выпил его и сильно опьянел.
Удостоверившись, что Агриппина действительно бездыханна, Нерон распорядился немедленно сжечь ее. Через несколько минут уже пылал погребальный костер, для которого за неимением времени были использованы деревянные ложа, вынесенные из дома. Вскоре пламя полностью охватило тело Агриппины.
Нерон этого не видел. К тому времени он вернулся на свою виллу, только теперь осознав, что натворил. "Лишь по свершении этого злодеяния, — пишет Тацит, — Нерон постиг всю его непомерность. Неподвижный и погруженный в молчание, а чаще мечущийся от страха и наполовину безумный, он провел остаток ночи, ожидая, что рассвет принесет ему гибель".
До этого момента Нерон действовал сначала как во сне, потом как в горячечном бреду. Кораблекрушение представлялось ему хорошо обставленным спектаклем, в реальности которого можно было и усомниться, ведь сам он при нем не присутствовал, но вот окровавленный труп был явью.
Нерон понимал, что, убив мать, он разрушил вечную человеческую ценность и надеяться на прощение не может. Психологическое потрясение, испытанное им в ту ночь, было таково, что явившийся к нему на рассвете Бурр, человек, на своем веку повидавший всякого, содрогнулся, увидев бледное, искаженное лицо императора с мутными остановившимися глазами и запекшимися губами, из которых вырывалось лишь невнятное бормотание.
С Бурром пришли трибуны и центурионы, оказавшиеся в тот день в Байях. Заранее подготовленные, они устремились к принцепсу, ловя его руку для поцелуя и поздравляя с избавлением от неожиданной опасности, исходившей от матери, коварно подославшей к нему убийцу. Такое изъявление верности и любви ободрило Нерона, опасавшегося народного гнева.
Вскоре потянулись и другие посланцы. Все превозносили императора и его счастливую судьбу. Представители муниципиев и ближних городов Кампании спешили выразить свою радость и удовлетворение благополучным для Нерона исходом. В храмах спасение императора отмечалось жертвоприношениями и благодарственными молебствиями. Приближенные Нерона позаботились о том, чтобы никто не остался в стороне, и организовывали все новые и новые манифестации и делегации именитых граждан.
Нерон окончательно воспрянул духом и повел себя, как опытный актер. Напустив на себя страдальческий вид, он горячо оплакивал смерть матери, которая, по его словам, не выдержав позора затеянного ею преступления, наложила на себя руки.
— Я ненавижу себя за то, — притворно причитал Нерон, — что остался жив. Избежав смерти, я тем самым толкнул мать к самоубийству. Лучше было бы умереть мне самому, чем лишиться матери.
Но бесследно чудовищное злодеяние не прошло. Очень скоро его начали преследовать кошмары. Слабовольный и впечатлительный, он теперь тяготился видом моря и берега, напоминавшими ему о матери и содеянном им преступлении. Среди окрестных холмов ему слышались зловещие звуки трубы и чудилось, что из могилы Агриппины доносятся горестные стенания. Не в силах справиться с этим наваждением, Нерон в спешке оставил Байи и укрылся в Неаполе, который всегда любил за царящие в нем восточную атмосферу и греческую культуру.
Здесь под диктовку Сенеки он написал обширное послание, которое отправил в Рим для оглашения в сенате. Это было гнусное и лживое письмо, составленное ловко и осторожно. Нерон, а точнее Сенека, учитывая исключительно мужской состав римского сената, постарался использовать это обстоятельство, умело разжигая в сенаторах их исконную неприязнь к женщинам, вмешивающимся в дела государства.
Письмо начиналось с рассказа о последних событиях: попытке Агерма, доверенного человека Агриппины, убить императора; провале задуманного злодейства и самоубийстве императрицы, якобы терзаемой угрызениями совести. Но это, отмечалось в письме, лишь последнее в длинном ряду преступлений, совершенных Агриппиной. Обращаясь к временам прошедшим, Нерон воскрешал в памяти все промахи матери и перечислял ее прежние прегрешения.
Самый непростительный и тяжелейший порок Агриппины, писал Нерон, необузданное тщеславие, неистовое желание осуществлять верховную власть в государстве, сначала вместе с мужем, потом — вместе с сыном. Для достижения этого она — женщина! — хотела заставить преторианцев присягнуть ей на верность и такому же позору подвергнуть сенат и римский народ. После того как надежда на царствование провалилась, Агриппина прониклась ко всем лютой ненавистью: и к воинам, и сенату, и простому народу. Горя местью, она препятствовала сыну делать денежные подарки солдатам, бедноте и нуждающимся сенаторам. Своими интригами она привела к разорению и гибели многих именитых мужей. Сколько раз она пыталась ворваться в Курию, когда там выносились важнейшие решения о судьбах римского народа! Лишь благодаря невероятным усилиям сына удавалось воспрепятствовать осквернению этой государственной святыни. Судьба хранила Агриппину вплоть до последнего момента, когда ей удалось спастись при кораблекрушении, но отвернулась от нее, когда она подослала сыну убийцу. В конце письма выражалась надежда, что смерть Агриппины послужит ко благу всего римского народа.
Едва это письмо было зачитано, началось нечто невообразимое. Словно состязаясь между собой в гнусной угодливости и раболепии, римская знать бросилась выражать свою радость по случаю счастливого избавления императора от гибели. Не было сенатора, который не соперничал бы с другим в изъявлении лести. Принимаются немыслимые решения: во всех храмах Италии провести благодарственные молебствия; Квинкватрии, когда было раскрыто злодейское покушение, ежегодно отмечать публичными играми; в Курии установить золотую статую Минервы и возле нее статую императора; день рождения Агриппины считать несчастливым днем.
Во всем сенате лишь один человек нашел в себе силы не потерять чувства собственного достоинства — Тразея Пет, республиканец по убеждениям, автор биографии Катона Утического, римлянин, сумевший соединить стоическую философия с любовью к свободе. Обычно хранивший молчание, на этот раз он покинул сенат, чтобы не быть среди тех, кто вносил льстивые предложения. Протест Тразеи Пета остался одиноким. Никто из сенаторов не имел мужества последовать его примеру. Своим поступком этот достойный, порядочный человек навлек на себя смертельную опасность, и жизнь его была недолгой.
Хотя сенат поддержал версию, предложенную Нероном, никто всерьез не верил, что кораблекрушение было случайным, а не подстроенным императором. Однако более самого преступления возмущение народа вызвало позорное письмо, которое — в этом никто не сомневался — было написано Сенекой. По всеобщему мнению, написать такое письмо было преступлением не меньшим, чем матереубийство.
Чтобы усилить ненависть к покойной императрице и показать, насколько после ее устранения возросло его милосердие, Нерон возвратил на родину знатных матрон и бывших преторов, некогда изгнанных Агриппиной. Несмотря на то, что и воины, и сенат, и народ соревновались перед ним в раболепии, поздравляя с избавлением от матери, угрызений совести он все же не избежал. Образ Агриппины преследовал его повсюду. Ему казалось, что за ним гонятся страшные Фурии, размахивая горящими факелами и окровавленными бичами. Эти грозные богини, карающие тех, кто посягнул на кровные узы родства, долго не оставляли его в покое. Нередко, охваченный безумным ужасом, он был близок к тому, чтобы наложить на себя руки. Истерзанный кошмарами, не зная, как умилостивить Фурий, он обращается за помощью к магам, прибегает к заклинаниям и колдовству, устраивает священнодействия, пытается вызвать дух умершей и вымолить прощение. Но все напрасно. Тень, матери будет преследовать его до самого последнего часа.
Нерон все еще медлил с возвращением в Рим. Охваченный сомнениями, он объезжал города Кампании, не осмеливаясь показаться в столице империи. Он извел своих придворных, спрашивая всех об одном и том же:
— Вы уверены, что сенат действительно предан мне? А народ? Я могу рассчитывать на его благосклонность? Много ли людей чтут еще имя моей матери?
Его старались успокоить и настойчиво убеждали не колебаться и смело отправляться в Рим.
— Имя Агриппины всем ненавистно, — фальшиво уверяли Нерона. — С ее смертью народная любовь к тебе возросла. Народ счастлив и почитает своего императора, избавившего страну от гнета женщины. Все ждут тебя, чтобы выразить лично свою признательность. Ты можешь сам в этом убедиться, приехав в Рим.
Не полагаясь на случай, низкие царедворцы заранее отправились в столицу, чтобы все подготовить к прибытию императора. Но их опасения оказались напрасны. Готовность к приему Нерона была выше всех ожиданий. Местные власти уже обо всем позаботились. Вдоль всего пути следования словно для триумфального шествия были сооружены трибуны для зрителей. Принцепса встречали женщины и дети, расставленные рядами по полу и возрасту. Навстречу ему вышли представители всех городских триб и сенаторы в праздничных одеяниях. Ликование толпы, приветствующей своего повелителя, превзошло все мыслимые пределы.
Немногим более сорока лет назад вот так же восторженно и пылко встречали римляне своего героя, победоносного полководца Германика, триумфально въезжавшего в Рим. Теперь же с неменьшим энтузиазмом они приветствовали его внука — матереубийцу. Вот как оценивает Тацит последствия этого всеобщего лицемерия. "Преисполнившись высокомерия, гордый одержанной победой и всеобщей рабской угодливостью, Нерон торжественно поднялся на Капитолий, возблагодарил богов и вслед за тем безудержно предался всем заложенным в нем страстям, которые до этой поры если не подавляло, то до известной степени сдерживало уважение к матери, каково бы оно ни было".
Глава одиннадцатая. Страсть к пению и скачкам
Ни власть, ни политика не имели для Нерона такой привлекательности, как музыка, поэзия и цирковые скачки. Первое, что он сделал, став императором, — пригласил ко двору лучшего в то время кифареда Терпна, с которым проводил вечера, наслаждаясь его искусством.
Восхищенный мастерством Терпна, он начал брать у него уроки и сначала робко, потом все уверенней упражняться в пении и игре на кифаре. Прилежно следуя советам знаменитого музыканта, Нерон не пренебрегал ни одним из известных тогда средств для сохранения и укрепления голоса. Чтобы дыхание стало глубоким, часами лежал на полу со свинцовым листом на груди, очищал желудок промываниями и рвотой, воздерживался от фруктов и пищи, считавшейся вредной для певцов, регулярно постился, питаясь только рубленным пореем и оливковым маслом.
Не меньшую страсть испытывал Нерон к лошадиным скачкам. Еще в детстве он частенько бегал с приятелями в Большой цирк посмотреть на состязания колесничных возниц. "Уже став императором, — сообщает Светоний, — он продолжал играть на доске маленькими колесницами из слоновой кости, и на все цирковые игры, даже самые незначительные, приезжал со своих вилл — сперва тайно, потом открыто, так что все узнали, что в положенный день он будет в Риме".
Все попытки матери воспрепятствовать плебейским увлечениям сына успеха не имели. Ни от одного из них Нерон не отказался. Теперь же, когда Агриппины не было в живых, отдался своим страстям уже не скрываясь. Посещая лошадиные бега, Нерон свел дружбу с возницами, которых в почестях уравнял с самыми высокими лицами в государстве, наладил тесные контакты с устроителями игр, хозяевами колесниц, предводителями разных групп болельщиков, от которых во многом зависела атмосфера на скачках. Он приказал соорудить новые удобные конюшни, куда поместил больных и старых лошадей и лично ухаживал за ними.
В конце концов Нерон захотел и сам научиться править квадригою и испытать себя на ристалище. Даже для привычных ко всему римлян император — возница был чем — то неслыханным. Но когда Нерона пытались отговаривать от этой, неподобающей для властителя мира, затеи, он ссылался на царей и полководцев древности, которые не гнушались подобной забавы, и на то, что их победы на конных состязаниях воспеты лучшими поэтами.
Боясь прогневить принцепса своим чрезмерным сопротивлением, Сенека и Бурр предложили ему компромиссное решение — восстановить сооруженный еще при Калигуле в Ватиканской долине стадион, где он вдали от людских глаз мог бы править конной упряжкой. Нерон радостно принял это предложение и вскоре с упоением отдавался своей страсти, выполняя многочисленные, часто очень сложные, маневры на двухколесной колеснице. Несмотря на свою уже обозначившуюся тучность, он был юноша ловкий и крепкий и мог править упряжкой даже в десять лошадей.
Когда по Риму распространился слух, что Нерон упражняется как возница на заброшенном стадионе, толпы людей начали вскарабкиваться на стену, огораживающую ристалище, и сверху подбадривать принцепса. Скоро Нерон понял, что тренироваться на глазах восторженных зрителей куда приятнее, чем в одиночестве. "Вскоре, — сообщает Тацит, — он сам стал созывать туда простой народ Рима, превозносивший его похвалами, ибо чернь, падкая до развлечений, радовалась, что принцепсу свойственны те же наклонности, что и ей". Вполне естественно, что такая влюбленность народа в императора сенаторам не нравилась.
Не разделяя любви римлян к кровавым побоищам гладиаторов, Нерон, где только мог, заменил гладиаторские бои состязаниями по греческому образцу в пении, игре на музыкальных инструментах, танцах, декламации стихов. В 59 году он учредил игры, получившие название Ювеналий — Юношеских игр, в которых выступали не профессиональные актеры, а любители. Посвященные римской богине юности Ювенте, Ювеналий были приурочены к первой стрижке бороды императора. Открывая игры, Нерон торжественно срезал себе бороду и, заключив в золотой ларец, украшенный драгоценными жемчужинами, отнес как обетный дар в храм Юпитера Капитолийского.
Неожиданно для всех многие римляне изъявили желание стать участниками Ювеналий. Среди них были люди знатные, занимавшие прежде высокие должности, а также женщины из почтенных семейств. Для римских юношей, пожелавших подготовиться надлежащим образом для выступления в цирке или театре, Нерон распорядился открыть специальные школы, где они могли обучаться музыке и атлетике. Всех участников Нерон щедро одарил: одних — денежными подарками, других — ценными вещами, третьих — прирученными зверями. Но самой большой сенсацией на Юношеских играх стало выступление восьмидесятилетней римской матроны Элии Кателлы, которая под восторженный рев зрителей исполнила танец.
Желая показать жителям Рима, что участие в Ювеналиях — дело почетное, Нерон выразил готовность лично выступить в состязаниях певцов и музыкантов. Но чувствуя неодобрение со стороны некоторых наиболее консервативно настроенных сенаторов, которые никак не могли примириться с тем, что в руках римского императора не меч, а кифара, перенес свое выступление на день закрытия игр, причем решил спеть вне конкурса и для узкой публики в садах своего дворца.
Тщетно пытались Сенека и Бурр отговорить его от этой причуды. Нерон стоял на своем.
— Разве постыдно, — говорил он, — вступить в соперничество с самим Аполлоном, искуснейшим музыкантом и покровителем певцов? Не случайно этот величайший из богов Олимпа изображается с кифарой в руках. Не хотите же вы сказать, что Апполон делал что — то недостойное бога?
И вот, тщательно настроив кифару, Нерон появился перед публикой. На случай каких — либо беспорядков предусмотрительный Бурр привел с собой преторианцев с центурионами и трибунами. Среди слушателей находилась группа молодых римлян, главным образом всадников, в обязанности которых входило аплодировать императору. Прозванные впоследствии августианцами, они выделялись статностью и наглостью. Эти дюжие молодцы сделались вскоре постоянной свитой императора; повсюду его сопровождая, они восхваляли его музыкальные дарования и красоту голоса. Их легко можно было узнать по густым волосам, холеным рукам и великолепной одежде. Со временем число августианцев достигло пяти тысяч.
Как и следовало ожидать, пение Нерона завершилось триумфом.
В следующем, 60 году в связи с пятилетней годовщиной своего вступления на престол Нерон объявил новые игры, которые назвал Нерониями, установив справлять их раз в пятилетие. Неронии включали в себя состязания музыкантов, атлетов, возниц, а также поэтов и ораторов. В те дни многие римляне облачились в греческие одежды, чтобы во всем чувствовался греческий характер празднества. Незадолго до Нероний были открыты новые бани и гимнасии, где каждый сенатор и всадник мог даром пользоваться маслом для умащения тела. Это был подарок императора.
Сторонники римских традиций были в очередной раз скандализированы.
— Что за зрелище без гладиаторских боев? — возмущались они. — К чему эти греческие моды? Что хорошего можно ждать от изнеженного и развращенного народа? Какое чувство, кроме отвращения, может вызвать у порядочного человека танцующий и поющий мужчина?
Приблизительно в те же дни октября в Помпеях состоялось гладиаторское представление, в котором приняло участие два отряда бойцов, один — из самих Помпей, другой — из соседнего города Нуцерии. Почти сразу сражение переместилось с арены в зрительные ряды. Началось все с обмена взаимными оскорблениями между болельщиками из Нуцерии и местными жителями, затем пошли в ход камни, и, наконец, схватились за оружие. В итоге представление вылилось в массовое побоище, завершившееся гибелью большого числа взрослых и детей. Немало людей, получивших тяжелые телесные увечья, было доставлено в Рим. Помпейцам было запрещено ближайшие десять лет устраивать какие — либо зрелища, а организаторы игр и виновники беспорядков были наказаны ссылкой. Но даже эта трагедия, унесшая множество человеческих жизней, не смогла поколебать закоснелых ревнителей римской старины в их предубеждении против Нероний.
— Это новшество императора не угодно богам, — шептали они на площадях и улицах Рима. — Не ждите от Нероний ничего хорошего. Вот увидите, без эксцессов не обойдется.
Но все опасения оказались напрасны: игры прошли на удивление спокойно.
Нерон выступил на играх как кифарист и получил награду, которой был очень тронут: спустился в орхестру, преклонил колена и велел отнести венок победителя к подножию статуи Августа.
Среди соревнующихся в ораторском искусстве победителя не выявили, и судьи решили объявить победителем принцепса, хотя и не принимавшего участия в этих состязаниях. Нерон с благодарностью принял и эту награду.
В соревновании поэтов победителем был признан Марк Анней Лукан. Он был на два года моложе Нерона, но уже прославился как талантливый поэт. Впрочем, многие восприняли решение судей с иронией, потому что победа Лукана была предопределена заранее. Кто же другой мог получить награду как не племянник Сенеки? К тому же сочинение, которое он декламировал, называлось "Похвала Нерону".
Нерон и сам писал, причем много и увлеченно. Из — под его пера выходили сатирические стихи, лирические поэмы, драматические композиции. Ему принадлежали сочинения мифологического и эротического содержания. Но больше всего его влекла эпическая поэзия. Он мечтал стать для римлян новым Гомером и уже взялся за монументальный эпос о восьмисотлетней истории Рима. Широкой известностью пользовалась его поэма о гибели Трои и божественном происхождении римлян. Вполне возможно, что поэзия была его истинным призванием и, если бы он посвятил себя только стихам, он смог бы стать хорошим элегическим поэтом. Но судьба распорядилась иначе, и в историю Нерон вошел как один из самых жестоких и разнузданных императоров Рима.
Светоний, державший в руках рукописи сочинений Нерона, обнаруженные им в императорских архивах, свидетельствует: "Он обратился к поэзии, сочиняя стихи охотно и без труда. Неправы те, кто думает, будто он выдавал чужие сочинения за свои: я держал в руках таблички и тетрадки с самыми известными его стихами, начертанными его собственной рукой, и видно было, что они не переписаны с книг или голоса, а писались тотчас, как придумывались и сочинялись, — столько в них помарок, поправок и вставок".
Глава двенадцатая. Под покровительством богов
В последний день Нероний в небе над Римом появилась комета. Поскольку незадолго перед смертью Клавдия жители столицы так же наблюдали над своими головами "хвостатую звезду", многие из них сочли это божественным знаком, предвещающим смену властителя, и, как будто Нерон был уже свергнут, начали открыто обсуждать кандидатуры его преемников. Чаще других звучало имя Рубеллия Плавта, правнука Тиберия. Мы уже встречались с ним на страницах этой книги. Это был тот самый Плавт, за которого Агриппина якобы собиралась выйти замуж чтобы сделать его императором вместо Нерона. Тогда его спасли мужество Бурра и твердость Агриппины. С тех пор он вел жизнь замкнутую и незаметную.
Но как раз осторожность и нежелание привлекать к себе внимание вызывали восхищение многих людей.
Случилось так, что распространению слухов об ожидающем Рубеллия Плавта великом будущем способствовало происшествие, которому было придано значение божественного знамения: в то время как Нерон пировал на вилле у Симбруинских озер, внезапно ударила молния, разбившая стол, за которым возлежал принцепс. Поскольку семья Плавта была родом из тех мест, римляне укрепились в мнении, что волей богов ему предназначается принять власть от Нерона.
Встревоженный этими толками, Нерон обратился к Плавту с письмом. Выразив уверенность в том, что его родственник не имеет ничего общего с теми злонамеренными слухами, которые возникают вокруг его имени, он попросил его в интересах спокойствия империи удалиться в свои обширные владения в Азии. До смерти перепуганный Плавт не заставил просить себя дважды и, не задавая вопросов, немедленно покинул Италию.
Однако грозное предзнаменование богов чуть было не свершилось, когда Нерон искупался в водоеме Марциева источника, воды которого считались священными. Разгоряченный обильной едой и возлиянием, Нерон бросился в студеную воду и, плавая, сильно переохладился. Вскоре он почувствовал себя плохо и слег с легочным воспалением. За всю жизнь Нерона это был единственный недуг, угрожавший его здоровью. В Риме выходку императора расценили как святотатство и в болезни видели доказательство гнева богов. Но и в этот раз боги пощадили его.
В то время как в Италии происходили эти события, за ее пределами на границах обширной империи было очень неспокойно. Возобновилась война в Армении. Во главе римских легионов, расквартированных в том регионе, стоял Гней Домиций Корбулон. Он вел военные действия с чрезвычайной жестокостью. Однажды он уничтожил большое число местных жителей, которые укрылись с женами и детьми в пещерах. Римский военачальник отдал приказ заложить все входы и выходы в пещеры хворостом и поджечь его. Многие беглецы задохнулись от едкого дыма, часть несчастных сгорела заживо.
Жестокость римских легионеров привела к восстанию и жителей Британии, возмущенных грабительством центурионов. Последней каплей, переполнившей чашу их терпения, стало изнасилование римскими солдатами дочерей местной царицы Боудикки. Сама она была высечена плетьми.
И вот Боудикка, не желая мириться с позором, объезжает племена, населяющие остров, и просит соплеменников отомстить за отнятую свободу, за свое избитое плетьми тело, за подвергшихся поруганию дочерей.
— Разнузданность римлян, — выкрикивала она с высокой колесницы, — дошла до того, что они не оставляют неоскверненным ни одного женского тела и не щадят ни старости, ни девственности. Если мы объединимся, захватчики не выдержат даже топота и кликов столь многих тысяч, не то что нашего натиска и ударов. Неужели наши мужчины настолько цепляются за жизнь, что предпочитают прозябать в рабстве? — гневно вопрошала Боудикка, обращаясь за помощью уже к женщинам.
Набранное Боудиккой войско, хотя и значительное по численности, было малодееспособным из — за большого количества женщин, взявших в руки оружие, чтобы сражаться рядом с мужьями и братьями. Разгромить и обратить в бегство такого противника римлянам не составляло большого труда. Устроив кровавую бойню и не пощадив даже женщин, они истребили в общей сложности около восьмидесяти тысяч британцев. Боудикка, чтобы избежать плена, приняла яд.
В какой — то момент Нерон подумывал об отводе римских войск с острова, но его уговорили не делать этого, хотя бы в память о Клавдии, который необычайно гордился своими военными успехами в Британии.
В том же 61 году массовая казнь была совершена и в самом Риме. Причиной стало убийство префекта города Педания Секунда одним из его рабов, которому было отказано в отпуске на волю несмотря на имевшуюся об этом договоренность. Кроме того, оба испытывали страсть к одному и тому же мальчику, и ревнивец, убив хозяина, устранил таким образом соперника в любви. На основании древнего закона вместе с убийцей полагалось казнить всех рабов без различия в поле и возрасте, которые проживали с ним под одним кровом, а поскольку Педаний Секунд был очень богат, речь шла о казни четырехсот рабов. При мысли о том, что столько невинных людей должно быть убито, римский плебс пришел в волнение. Возникла угроза уличных беспорядков. Некоторые сенаторы сочли убийство такой массы рабов слишком суровой мерой и предложили проявить милосердие. Но их не захотели даже слушать. Выступавшие в сенате говорили о том, что нельзя нарушать древнее установление, оставшееся им от предков, что всякое преобразование старого есть перемена к худшему. Рабы, утверждали они, по своей природе вероломны и только страхом удерживаются в повиновении. Конечно, погибнут некоторые безвинные, но их жертва послужит ко всеобщей пользе.
Кто — то из сенаторов попытался взять под защиту хотя бы стариков, женщин и детей. Но тотчас получил отпор от консервативно настроенного большинства.
Толпа, собравшаяся перед Курией, уже готова была взяться за камни и факелы и силой отбить обреченных. И в этой критической ситуации Нерон уступил решению сенаторов: скрепил своей подписью смертный приговор, но воспротивился предложению выслать за пределы Италии всех вольноотпущенников Педания Секунда, считая это излишней жестокостью.
В следующем году умер Афраний Бурр. Он давно страдал от опухоли в горле, которая, медленно разрастаясь, затрудняла ему дыхание. Наконец, она достигла таких размеров, что удушила его. Но при дворе шептались, что по приказанию императора Бурру под видом лекарства смазали небо ядовитым веществом. Возможно, эти толки были порождены тем, что Бурр демонстративно отвернулся от Нерона, пришедшего его проведать, и в ответ на вопрос, как он себя чувствует, буркнул что — то невнятное.
Смерть Бурра имела самые тяжелые последствия для императорского двора. Во главе преторианцев Нерон поставил двух командиров: Фения Руфа и Софония Тигеллина. Последний был личностью отвратительной. Уроженец Сицилии, человек темного происхождения, он прибыл в Рим при императоре Калигуле и очень быстро оказался в постели Юлии Ливиллы, младшей сестры Агриппины. Ревнуя сестру, Калигула распорядился изгнать наглеца из Рима. Так Тигеллин очутился на островах Ионического моря, где промышлял рыболовством. Вернувшись после смерти Калигулы в Италию, он обосновался в Апулии и занялся разведением скаковых лошадей, сделавшись со временем поставщиком чистокровных жеребцов для императорских конюшен. Нерон, питавший неистребимую тягу к лошадям и скачкам, обратил на Тигеллина внимание, вызвал его в Рим и приблизил ко двору. Благодаря расположению юного императора безродный сицилианец сделал молниеносную карьеру от конюшего до начальника преторианских когорт и члена императорского совета.
Тигеллин был уже немолод, многое повидал на своем веку, знал цену власти и делиться ею ни с кем не желал. Первым это почувствовал Сенека, который, лишившись своего верного товарища Бурра, стал быстро утрачивать былое влияние на императора. Тигеллин не жалел сил, чтобы очернить старого философа в глазах Нерона.
— Богатство Сенеки, — нашептывал он императору, — превышает всякую меру. Его сады и поместья по красоте и роскоши не имеют равных во всей Италии. Мало того, он соперничает с тобой даже в писании стихов, не желая хотя бы здесь уступить тебе пальму первенства. Этот зазнайка — философ открыто презирает твое увлечение цирковыми скачками, умаляет твое умение править лошадьми на ристалище. Он совершенно не ценит твое музыкальное дарование и насмехается над тем, как ты поешь. Ты уже не отрок, вступил в цветущий возраст юности. Избавься, наконец, от докучного руководителя! Недостатка в просвещенных советчиках у тебя не будет.
Об этих обвинениях Сенека проведал очень скоро. Он не мог не заметить явного охлаждения к себе принцепса, упорно избегавшего близости с ним. От прежних доверительных отношений не осталось малейшего следа. Не дожидаясь решения императора, Сенека попросил его об аудиенции и, получив ее, обратился к бывшему воспитаннику с пространной речью. Поблагодарив Нерона за многочисленные почести и благодеяния, которыми тот его осыпал, он, сославшись на пример Гая Мецената, служившего при дворе Октавиана Августа, попросил освободить его от бремени богатства и распорядиться его имуществом, а самого отпустить на покой, чтобы, удалившись в деревню, он мог посвятить себя любимому делу — философским занятиям.
Нерон ответил на это не менее церемонно.
— Мой прапрадед Август, — сказал он, — действительно дозволил Меценату уйти на покой, но не отобрал у него пожалованного в награду. Если ты отдашь мне свое имущество и покинешь меня, все будут говорить не столько о твоей умеренности и бескорыстии, сколько о моей жадности и жестокости. Мудрому мужу не подобает искать славы в том, что наносит бесчестье другу. Кроме того, ты еще не в таком возрасте, который не позволяет заниматься государственными делами.
Обменявшись любезностями, они расстались внешне по — дружески — с объятиями, поцелуями, взаимными благодарностями. Но с того дня Сенека избегал появляться в общественных местах, редко показывался в городе и, ссылаясь на слабое здоровье и занятия философией, жил в своем загородном поместье.
Отделавшись от Сенеки, Тигеллин без особого труда отстранил от императора своего коллегу Фения Руфа. Для этого достаточно было напомнить Нерону о дружбе Руфа с Агриппиной, чтобы он потерял к нему всякое доверие и лишил его своего расположения.
— Руф, — нашептывал Тигеллин принцепсу, — был любовником твоей матери и до сих пор охвачен тоской по ней. Он наверняка вынашивает мысль о мщении. Будь осторожен с ним!
Желая еще больше выслужиться перед императором, Тигеллин, якобы проявляя заботу о его безопасности, внушает ему мысль, что Корнелий Сулла и Рубеллий Плавт, хотя и находятся вдали от Рима, строят против принцепса козни. Сулла, уверяет Нерона Тигеллин, составляет заговор в Массилии, подбивая германские легионы выступить против законного правителя, а Плавт склоняет к мятежу войско в Азии. Устрашив Нерона, подлый царедворец отправляет в Галлию убийц, которые, прибыв в Массилию, убивают Суллу, возлежавшего за обеденным столом, и на шестой день доставляют его голову в Рим в доказательство того, что поручение выполнено. Говорят, что Нерон, взглянув на голову Суллы, издевательски заметил, что ее портит ранняя седина. Плавт был застигнут убийцами в полдень, когда, раздевшись, занимался гимнастическими упражнениями. Если верить Диону Кассию, Нерон, посмотрев на голову убитого, сказал с мрачным юмором: "И я боялся этого носатого человека?"
Когда в Риме было сообщено о смерти Суллы и Плавта, сенаторы поспешили назначить благодарственные молебствия богам за избегнутую императором опасность и исключили обоих преступников из состава сената.
Глава тринадцатая. Смерть Октавии
Теперь, когда были истреблены все возможные претенденты на римский трон, когда Агриппины и Бурра не было в живых, а Сенека отстранен от политической власти, ничто не мешало Нерону всерьез подумать о своем браке с Поппеей. До последнего момента он не решался дать развод Октавии, страшась последствий такого шага: римский народ ее любил, и это обстоятельство могло быть использовано любым из его врагов, на что не раз в разговорах с сыном намекала Агриппина, взявшая невестку под свое покровительство и не скрывавшая своей враждебности к Поппее. Теперь не осталось никого, кто мог бы использовать юную императрицу в своих корыстных целях. Но самое главное — Нерон убедился в том, что какое бы злодеяние он не совершил, сенат не только не осудит его, а все примет с ликованием и благодарностью.
Подстрекаемый Поппеей, Нерон объявил о своем разводе с Октавией по причине ее бесплодия, как будто она могла родить ему наследника, не вступая с ним в интимные отношения. Всем было известно, что со дня свадьбы Нерон почти не заглядывал в спальню жены.
Через двенадцать дней после развода Нерон вступил в брак с Поппеей, вынудив тем самым Октавию выселиться из императорского дворца. На прощание Нерон сделал бывшей жене подарок, уступив ей некоторые владения, которые он прибрал к рукам после смерти Афрания Бурра и Рубеллия Плавта: дом — первого, землю и поместья — второго.
Но Поппея, слишком долго терпевшая Октавию, не переносила соперницу даже на расстоянии. Она подкупила одного из ее слуг с тем, чтобы он обвинил свою госпожу в сожительстве с рабом по имени Евкер. Он был уроженцем египетской Александрии и славился как искусный флейтист. Вести дознание взялся Тигеллин. По его распоряжению допросили рабынь Октавии, требуя от них лживых признаний. Некоторые из них были настолько истерзаны изощренными пытками, что, сломленные болью, подтвердили навет, но больше оказалось таких, которые стойко защищали целомудрие своей хозяйки. Рассказывают, что одна из них, корчась от истязаний, бесстрашно выкрикнула в лицо Тигеллину:
— Женские органы Октавии чище, чем твой рот!
Бывшую императрицу под вооруженным конвоем выслали в Кампанию и держали там под стражей на ее вилле.
Непредсказуемая в своих симпатиях чернь открыто поносила принцепса за беззаконие и жалела невинную жертву произвола. Перед угрозой мятежа Нерон объявил о своей готовности вернуть Октавию в Рим. В народе это решение было воспринято как возвращение императора к первому браку и расторжение супружества с Поппеей. Толпы обрадованных людей устремились на Капитолий, чтобы вознести богам благодарственные молитвы.
На Капитолии они снесли все статуи Поппеи и на их место установили изображения Октавии. Точно так же они поступили на Форуме: повалив изваяния Поппеи, заменили их статуями Октавии. Возбужденная толпа поднялась на Палатин, который огласился хвалебными криками в честь принцепса. Пришлось вмешаться преторианцам. Им понадобилось немало времени, чтобы разогнать такое скопище людей.
Поппея была охвачена смертельным страхом. Она впервые столкнулась с открытой ненавистью к себе римского народа. Но еще больше ее устрашило безволие Нерона, допустившего бесчинства черни. Поппея боялась, что он уступит толпе, вновь признает Октавию своей женой и тогда ее надеждам на власть придет конец.
Искусная комедиантка, она уже не притворялась, когда с рыданиями бросилась к ногам Нерона и, обхватив его колени, захлебываясь в слезах, говорила:
— Чернь покусилась не только на мою жизнь, но что гораздо дороже для меня — на наше супружество. Сейчас на карту поставлена твоя власть. Клиенты и рабы Октавии не остановятся ни перед чем, чтобы вернуть ее на престол. Эта женщина, даже находясь далеко от Рима, способна вызвать беспорядки. Что будет, когда она окажется в столице? В чем моя вина? В том, что я хочу родить императору наследника? Или, может быть, римский народ предпочитает видеть на троне египетского флейтиста, с которым спуталась Октавия? Если это необходимо для блага государства, можешь затребовать Октавию назад в Рим. Здесь ей наверняка найдут супруга, который встанет во главе народа и поведет его против тебя.
От слов Поппеи Нерон распалился гневом. О возвращении Октавии в Рим теперь уже не могло идти речи. Спешно ищут человека, готового оболгать ее, ведь обвинение в прелюбодеянии с рабом было явно надуманным и лживым. К тому же даже под пытками некоторые рабыни Октавии отрицали ее преступную связь с флейтистом. Нужен был человек, способный без зазрения совести пойти буквально на все. И такой человек нашелся. Это был все тот же Аникет, убийца Агриппины.
Срочно послали за ним. И вот он уже во дворце на Палатине.
— Я помню о твоей услуге, — обратился к нему принцепс. — Ты помог мне спастись от покушавшейся на мою жизнь матери. И вновь тебе представился случай заслужить мою благодарность. На этот раз ты должен помочь мне освободиться от Октавии. Нет, нет, тебе не придется пользоваться мечом, — поспешил заверить Нерон, заметив тень, промелькнувшую по лицу Аникета. — Достаточно лишь засвидетельствовать, что ты вступил в прелюбодейную связь с моей бывшей женой. После чего тебе будет обеспечено щедрое вознаграждение и спокойная безбедная жизнь где — нибудь недалеко от Италии. Если ты откажешься, мне придется лишить тебя своего покровительства, а чем это чревато, ты хорошо знаешь.
На следующий день Аникет появляется на императорском совете и разглашает измышление о своей связи с Октавией, сопровождая признание столькими подробностями, что незамедлительно принимается решение об изгнании Октавии на остров Пандатерию. Аникета ссылают на остров Сардинию, где он, как ему было обещано, жил безбедно до глубокой старости.
В обнародованном по этому случаю указе Нерон сообщил о том, что он располагает надежными фактами о преступном умысле Октавии, которая с целью заполучить в свои руки Мизенский флот обольстила его префекта. Вступив в недозволенную связь, она забеременела, но испугавшись последствий, беременность пресекла. Нерона не смутило даже то обстоятельство, что совсем недавно он всенародно объявил о бесплодии Октавии. Впрочем, никому не пришло бы в голову указать императору на это вопиющее несоответствие.
Сенаторы, приняв к сведению сообщение императора, единодушно одобрили принятую по отношению к злоумышленнице меру — ссылку на Пандатерию.
Так, в возрасте двадцати двух лет Октавия оказалась на маленьком островке, где долгие годы томилась в заключении ее свекровь, сосланная туда по приказу Калигулы. Почти десятилетнее замужество счастья ей не принесло. Жизнь ее была безотрадна и безрадостна. "Для Октавии, — пишет Тацит, — день свадьбы сразу же стал как бы днем похорон: она вступила в супружество, не принесшее ей ничего, кроме скорби". В самом деле, что она видела в своей жизни? Смерть отца и преждевременную кончину брата. Униженная сначала рабыней, а затем наложницей, она дожила до дня развода и брака мужа с Поппеей. Наконец, на ее долю выпало испытать самое худшее — позор страшного обвинения и изгнание.
И все же, несмотря на выпавшие ей страдания и горести, умирать ей не хотелось. Она была молода и надеялась на изменение своей печальной участи. Напрасные надежды. Уже через несколько дней на Пандатерию явились посланцы императора и объявили, что ей надлежит умереть. Ни слезы, ни мольбы о пощаде не смягчили убийц. Они связали девушку и перерезали ей вены на руках и ногах. Так как вследствие страха тело сильно напряглось и кровь вытекала медленно, несчастную перенесли в жарко натопленную баню и погрузили в горячую воду. Кровь тотчас забила струей.
Убедившись, что жертва испустила дух, убийцы хладнокровно отрезали ей голову и доставили в Рим на потеху Поппее, которой не терпелось взглянуть в мертвые глаза ни в чем перед ней не повинной соперницы.
Сенат, как уже стало обыкновением, поспешил сделать в храмы пожертвования в благодарность богам. "Да будет преуведомлен всякий, кому придется читать, — у нас ли, у других ли писателей, — о делах того времени, что сколько бы раз принцепс ни осуждал на ссылку или на смерть, неизменно воздавалась благодарность богам, и то, что некогда было знамением счастливых событий, стало тогда показателем общественных бедствий". Так комментирует Тацит эти прискорбные и позорные действия римского сената — следствие укоренившегося в нем раболепия.
Глава четырнадцатая. Дебют в Неаполе
Октавия была убита 9 июня 62 года. В том же году Поппея готовилась стать матерью. Нерон настоял на том, чтобы она перебралась из Рима в Анций. Его наследник, считал принцепс, должен появиться на свет в тех же местах, где двадцать пять лет назад родился он сам.
Император жил радостным ожиданием сына, однако Поппея разрешилась дочерью. Все равно Нерон был очень счастлив. 21 января 63 года, сияющий и гордый, он держал на руках крохотное тельце ребенка.
Девочку назвали Клавдией Августой. Почетный титул Августы был присвоен и Поппее. Когда в Рим пришло известие, что она произвела на свет младенца, сенат в полном составе отправился в Анций поздравить августейшую мать с благополучными родами. Лишь Тразее Пету было запрещено появляться перед императрицей. Этот запрет он воспринял как предвестие своей скорой гибели.
По случаю рождения Клавдии в столице империи были проведены благодарственные молебствия, принято решение воздвигнуть храм Плодовитости и учреждены Священные игры, вроде тех, что установил Октавиан Август после своей победы при Акции. Но все эти приношения и обеты богам оказались напрасны — на четвертом месяце девочка умерла.
Нерон был в отчаянии. Как в радости, так и в скорби он не знал меры. Его не могли утешить льстивые предложения причислить умершую к сонму богов и соорудить в ее честь храм. Единственное, что его отвлекало от мыслей об утрате и заставляло на какое — то время забыть свое горе, — это занятия пением. До сих пор он пел только во дворце или в императорских садах перед узким кругом слушателей. Теперь он пожелал показать свои вокальные способности в театре перед широкой публикой.
— Чего никто не слышит, того никто не ценит, — часто повторял он своим друзьям.
Не надеясь встретить понимания в Риме, Нерон для своего певческого дебюта избрал Неаполь, город, в котором он чувствовал себя как рыба в воде, легко и непринужденно.
— Неаполь, — говорил он, — почти греческий город. Здесь наверняка оценят мое искусство. Начав в Неаполе, я переправлюсь морем в Ахайю, завоюю там все почетные венки и вернусь в Рим прославленным певцом, что не сможет не вызвать одобрения у моих соотечественников.
Молва о предстоящем выступлении принцепса на сцене привлекла в Неаполь самых разных людей — сенаторов, всадников, вольноотпущенников, солдат, ремесленников, крестьян и всякую голытьбу из ближайших колоний и муниципиев. Все места в театре были заполнены до отказа. Здесь же расселись августианцы — хлопальщики Нерона, ставшие его постоянной свитой. Зрелище было действительно необычное. Впервые римский император выступал на театральных подмостках как простой лицедей.
Когда Нерон появился перед зрителями, все ощутили подземный толчок. Многие усмотрели в нем зловещее предзнаменование. Нерон же расценил его как свидетельство благосклонности богов и пел с особым подъемом, завершив всю программу до конца. Но после того как зрители разошлись и места опустели, театр внезапно рухнул. К счастью, никто не пострадал. Благополучный исход вдохновил Нерона на стихи, в которых он благодарил богов за их расположение к нему.
Через несколько дней император повторил свое выступление. Ему так понравилось петь перед публикой, что однажды, дав себе отдых для восстановления голоса, он не выдержал одиночества и прямо из бани явился в театр, где на глазах тысяч зрителей устроил пирушку, чем вызвал у них, даже в мыслях не допускавших ничего подобного, неописуемый восторг. Оценив энтузиазм публики, Нерон обратился к ним по — гречески:
— Позвольте мне промочить горло и я непременно исполню вам что — нибудь замечательное.
С каждым днем в Неаполь прибывали новые толпы людей, прослышавших о выступлениях императора. Много гостей приехало из Александрии. Они доставили Нерону огромное удовольствие своими мерными рукоплесканиями, которые побудили его немедленно заняться обучением своих августианцев. Разделив их на отряды, он велел им выучиться рукоплесканиям разного рода, напоминавшим по звуку плеск, жужжание или что — нибудь иное; одни из них исполнялись согнутыми ладонями — "желобком", другие прямыми — "кирпичиком". Помимо этого, он заставил всех хлопальщиков выучить его репертуар и во время пения подпевать ему.
Очень неохотно расставался Нерон с Неаполем и гостеприимными неаполитанцами. Однако он был вынужден сделать это, так как вознамерился плыть в Грецию и там продолжить свои выступления. Направляясь к Адриатическому побережью, он задержался в Беневенте, где его пригласили на представление гладиаторов, отказаться от которого он не счел для себя удобным.
Внезапно его планы изменились, и он спешно направился в Рим, мечтая уже о другом путешествии — в Египет. В Александрии его уже ждали. Наместник Египта, сын его кормилицы Цецина Туск, который однажды чуть было не стал префектом претория вместо Бурра, распорядился построить к прибытию императора новые термы.
В Риме Нерон подготовил указ, в котором объявил о своем намерении на короткое время оставить Италию, заверив сограждан в том, что его отсутствие никак не отразится на благополучии государства. Перед отъездом он поднялся на Капитолий почтить богов и принести им обеты. Когда он входил в храм Весты, ему показалось, что его словно кто — то удерживает за край тоги. Все его тело охватила дрожь, и в глазах помутилось.
Нерон счел это дурным предзнаменованием и отбросил мысль о поездке в Египет. Римлянам свое решение он объяснил тем, что остаться в Италии его побуждают любовь к отечеству и опечаленные лица сограждан, для которых, как ему стало известно, даже кратковременные его отъезды невыносимы. Такое объяснение пришлось по душе простому люду, опасавшемуся, что в отсутствие императора народ будет лишен зрелищ и возникнут затруднения с продовольствием. Чернь жаждала прежде всего хлеба и зрелищ.
Но, скорее всего, в планы Нерона вмешался всемогущий Тигеллин, тайные агенты которого пронюхали о том, что некоторые сенаторы имеют намерение воспользоваться отсутствием императора и низложить его.
Оставшись в Риме, Нерон всеми силами старался убедить горожан, что ни в каком другом месте он не чувствует себя так хорошо, как в своей столице. С этой целью он завел обыкновение устраивать пиршества в общественных местах, на Марсовом поле, в Большом цирке, как если бы весь город был его домом. Нередко его можно было видеть разгуливающим по Палатину необутым, в домашней одежде без пояса, с платком вокруг шеи, но волосы его всегда были тщательно уложены. Завитые рядами, как у женщин, они спускались ему на затылок. Не менее эксцентричным было и его поведение. Завидев кого — либо из друзей и знакомых, он тут же напрашивался к нему в гости. Оригинальничая, он утолял жажду водой, которую для него сначала кипятили и затем охлаждали с помощью снега. Обычно римляне пили воду комнатной температуры или слегка подогретую. Изобретение принцепса получило название "Неронова напитка".
Не зная, как выслужиться перед императором, Софоний Тигеллин устроил для него пир, который надолго остался в памяти римлян. Даже спустя столетие о нем вспоминали как о пиршестве непревзойденном своим великолепием и непристойностью. К востоку от Марсова поля на пруду Агриппины по распоряжению Тигеллина был сооружен огромный плот, на котором расположились пирующие. Плот все время описывал круги на воде, его тянули за собой большие лодки, роскошно отделанные золотом и слоновой костью. За веслами находились распутные юноши, рассаженные по возрасту и сообразно изощренности в разврате.
По берегам пруда были построены лупанары, заполненные женщинами из знатных домов Рима. Когда стемнело, строения и роща на берегу озарились яркими огнями. У воды показались группы обнаженных красавиц; непристойными телодвижениями и призывными криками они манили к себе пирующих на плоту, С другой стороны пруда гостей зазывали пляской и пением нагие гетеры.
Вскоре окрестные рощи огласились самыми разными звуками. Прерывистый шепот, шумное дыхание, сладострастные стоны, обжигающий смех и страстные крики доносились со всех сторон, возбуждая возлежавших на пиршественных ложах.
Стараясь затмить всех своих предшественников роскошью, Тигеллин на расходы не поскупился. Столы ломились от изысканнейших деликатесов. Чего здесь только не было! Съедобные моллюски, мизенские морские ежи, цирцейские устрицы, лукринские улитки, дрозды со спаржей, куры, обжаренные в муке, филе амбракийского козленка, паштет из птиц, свиное вымя, голова умбрийского кабана, разнообразные рыбные блюда, родосские осетры, халкедонские тунцы, сицилийские угри, речные раки в пикантном соусе, жареная утка, зайчатина, жаркое из птиц. Украшением пира стали языки фламинго и кушанье из гусиных лапок с гарниром из петушиных гребней. Не менее изобретательным оказался Тигеллин и в выборе вин. Их было представлено несколько десятков сортов — хиосское, цекубское, фалернское, косское, массикское, суррентское и многие другие — на все вкусы, сколь бы изысканными и прихотливыми они не были. Поражало обилие фруктов. Тибуртинские яблоки, груши, гранаты, виноград, сирийские сливы, черешня, орехи, каштаны, маслины, сушеные фиги и фиванские финики, распространяя упоительный аромат, ласкали взор своей разнообразной окраской. На десерт подали сладкий крем и пиценское печенье.
Звуки флейт, свирелей, бубнов, рожков сливались с неистовыми воплями женщин, звуками страстных поцелуев, горячим дыханием блуждающих в рощах парочек. Хмельные голоса пирующих зазвучали громче, и вот уже сам Нерон, воспламененный вином, музыкой и множеством нагих тел, устремился в прибрежную чащу.
Хотя и пир, и оргия, устроенные Тигеллином, поразили воображение римлян, они все же не шли ни в какое сравнение с экстравагантной выходкой самого Нерона, когда он спустя несколько дней после нашумевшего пиршества сочетался браком с неким Пифагором. Свадьба была обставлена с необычайной торжественностью. Присутствовали многочисленные свидетели и друзья новобрачных. Нерон, облаченный в огненно — красное покрывало невесты, возлег на ложе и при свете факелов у всех на глазах изобразил супружеский акт, причем кричал и вопил так правдоподобно, словно действительно был девицей, которую лишают девственности.
Надо полагать, это был всего лишь спектакль, разыгранный Нероном, любившим всякого рода розыгрыши, с целью потрясти друзей скандальной выходкой и нарочитым нарушением общепринятых норм. Эффект получился ошеломляющий, и многие римляне поверили в то, что Нерон вышел замуж за Пифагора и предается с ним любовным утехам, как женщина.
В нравственную чистоту людей Нерон не верил и тем, кто признавался ему в разврате, прощал все остальные прегрешения. Он часто говаривал:
— Нет на свете человека целомудренного и хоть в чем — нибудь чистого. Люди лишь таят и ловко скрывают свои пороки.
Глава пятнадцатая. Рим в огне
Анций, 19 июля 64 года.
Жители городка изнемогают от удушливого зноя. Лето выдалось жаркое и засушливое. За много недель не выпало ни капли дождя. Потрескалась иссохшая земля, пожухла трава, на деревьях свернулись листья. Каждое утро люди с надеждой всматриваются в выцветшее небо, ища на нем долгожданное облачко. Но над ними только палящее солнце. Хотя бы малейшее дуновение ветерка! Нагретый воздух недвижим. Даже ночью не спадает изнуряющая жара. Крестьяне с тревогой поглядывают на возделанные поля и пересохшие ручьи. Они уже устали молить богов о дожде.
Хотя перевалило за полночь, душно, как днем. Летняя резиденция императора погружена в сон. Огни погашены. Внезапно ночную тишину нарушает топот копыт. Вздремнувшая было стража выставляет пики в сторону дороги, ведущей в Рим. Топот приближается. Из темноты выныривает всадник. Он стремительно скачет по направлению к дворцовым воротам.
— Пожар! — кричит он. — Пожар! Рим в огне! Большой цирк и Палатин охвачены пламенем!
Один из гвардейцев бросается во дворец и просит слугу разбудить императора. Через секунду тот уже на ногах. При мысли, что Цирк, Палатин и недавно отстроенный Проходной дворец, заполненный статуями, картинами, бесценной утварью, — в огне, Нерон приходит в ужас. Долго не раздумывая, приказывает седлать коней и верхом в сопровождении всего лишь нескольких телохранителей устремляется в ночь.
До Рима — сорок пять километров. После часа бешеной скачки горизонт начал окрашиваться в кроваво — красный цвет. Всадники пришпоривают коней. Впереди поднимается зарево. Вскоре ветер доносит запах гари. В небе неторопливо плывет полная луна. Еще полчаса, и всадники врываются в объятый пламенем Рим.
За восемь веков Вечный Город разросся. Число его жителей достигало уже миллиона двухсот пятидесяти тысяч человек. Они ютились на довольно ограниченном пространстве, застроенном пяти и шестиэтажными домами. Во времена Нерона дома в Риме еще не заносились в реестр, как позже при Константине, который зарегистрировал тысячу шестьсот восемьдесят частных зданий и тридцать восемь тысяч четыреста пятьдесят многоквартирных инсул.
Перенаселенная столица империи горела часто. В 6 году она была основательно разрушена огнем, после чего Октавиан Август создал специальную пожарную службу, состоявшую первоначально из семисот человек. При Тиберий Рим пылал дважды. В 27 году выгорел целый квартал на Целии, а девять лет спустя — весь Авентин и часть Большого Цирка. Для восстановления разрушенных зданий на Целии Тиберий ассигновал огромную сумму — сто миллионов сестерциев. Пожары случались и при Калигуле, и при Клавдии. Последний лично принимал участие в тушении пожара в 54 году, когда был охвачен огнем район Марсова поля. Но все эти пожары по своей разрушительной мощи значительно уступали тому, который вспыхнул в ночь с 18 на 19 июля.
В ту ночь ситуация в Риме была просто катастрофическая. Огонь начался в густонаселенном квартале возле Большого Цирка. Сначала вспыхнули деревянные лачуги, в которых селились греческие и азиатские торговцы, потом пламя перекинулось на арену Цирка, и оттуда огненный шквал длиной более чем в пятьсот метров устремился на Палатин. Вскоре десять из четырнадцати районов, на которые Август разбил город, были охвачены пламенем.
В огне гибли древние храмы, великолепные дворцы, роскошные театры, триумфальные арки и бесчисленные памятники старины. Горел город, поражавший обилием мрамора и золота. Как сказал один оратор, кто никогда не видел Рима, тот подобен слепцу, не видевшему солнца.
Когда Нерон убедился, что спасти Палатинский дворец невозможно, он укрылся в своих садах на окраине города. В Риме же царил всеобщий хаос. Творилось нечто невообразимое. Впечатляющее описание той драматической ночи содержится у Диона Кассия. "Весь город охватило необычайное смятение, люди метались туда и сюда как безумные. Некоторые пытались помочь друзьям, хотя и опасались, что тем временем вспыхнет их собственный дом. Другие еще не осознали до конца, что они находятся в опасности и что все гибнет. Те, что находились внутри домов, устремились в узкие переулки, надеясь найти убежище снаружи; другие, наоборот, искали себе спасения в зданиях. Дети, женщины, мужчины, старики — все кричали и плакали. Из — за дыма и воплей ничего нельзя было ни увидеть, ни понять. Кто — то оставался там, где он находился, — онемевший и отупевший от страха. Многие из тех, кто спасал свое добро или грабил имущество других, устремлялись друг за другом и валились на землю под тяжестью узлов. Невозможно было двигаться вперед и вместе с тем невозможно было оставаться на месте, потому что все толкали и всех толкали, одни опрокидывали других и тут же были сбиваемы с ног сами. Многие задохнулись, затоптанные другими. И спастись было невозможно, потому что тот, кто избежал одной опасности, немедленно встречал другую — смертельную".
Укротить огненную стихию удалось лишь на шестой день, хотя на борьбу с огнем были брошены все силы. Пожарные пытались локализовать пламя методом "выжженной земли" и, чтобы воспрепятствовать продвижению огня, разрушали стоящие на его пути строения, используя для этого военные машины.
Нерон тотчас принял энергичные меры по оказанию помощи населению, лишившемуся крова: предоставил в его распоряжение многочисленные общественные постройки, организовал, работы по возведению для погорельцев временных бараков на Марсовом поле и в императорских садах, из Остии и близлежащих городов приказал доставить большое количество продовольствия и предметов первой необходимости, значительно снизил цены на зерно.
По словам Тацита, "принятые ради снискания народного расположения, эти меры не достигли поставленной цели, так как распространился слух, будто в то самое время, когда Рим был объят пламенем, Нерон поднялся на дворцовую сцену и стал петь о гибели Трои, сравнивая постигшее Рим несчастье с бедствиями давних времен".
Это, конечно, чистейшей воды вздор, хотя бы потому, что театр в дворцовой резиденции на Палатине находился в огне. Но сама по себе сцена весьма эффектна и способна поразить обывательское воображение. Образ императора, поющего посреди пылающего Рима, дает простор народной фантазии. Объяснение могло быть очень простое. Нерон, предпочитающий греческую культуру римской, в какой — то момент мог сравнить горящую столицу с гибнущей в огне Троей. Неуместная эскапада императора могла послужить основой для злой выдумки, имеющей своей целью возбудить против него народ.
Более того, нашлись злопыхатели, которые пытались возложить ответственность за пожар на принцепса и выставить его чуть ли не поджигателем своей столицы. Им очень хотелось создать вокруг него ореол безумца и злодея, жаждущего разрушений и кровавых жертв. Вероятно, им вспомнился Александр Великий, который в пьяном виде, подстрекаемый гетерой Таидой, спалил царский дворец в Персеполе, что повлекло за собой гибель всего города.
Приписываемый Нерону поджог Рима — всего лишь легенда. Принцепс не мог желать уничтожения Большого Цирка, места своих самых великолепных триумфов, и императорского дворца, только что заново отстроенного. По крайней мере, он позаботился бы о том, чтобы поместить в безопасное место сокровища римского и, в особенности, греческого искусства, которые находились во дворце. Нерон лишился не только своей уникальной коллекции, которую собирал по всему свету, но и многих ценных рукописей латинских и греческих авторов, которыми очень дорожил.
"Ни средствами человеческими, ни щедротами принцепса, ни обращениями за содействием к божествам, — пишет Тацит, — невозможно было пресечь бесчестящую его молву, что пожар устроен по его приказанию. И вот Нерон, чтобы побороть слухи, приискал виноватых и предал изощреннейшим казням тех, кто своими мерзостями навлек на себя всеобщую ненависть и кого толпа называла христианами".
В те дни было казнено около трехсот человек. Привязанные к столбам и облитые горючей жидкостью, они были подожжены и горели как живые факелы при огромном стечении народа. Это было обычное наказание для всех поджигателей независимо от национальности и вероисповедания. Вряд ли сами римляне усмотрели в этой казни особую жестокость, ведь три года назад сенат, не колеблясь, осудил к смерти четыреста невинных рабов префекта Рима Педания Секунда, среди которых наверняка были христиане. Даже божественный Август приказал как — то казнить шесть тысяч рабов, виновных в том, что они служили на кораблях Секста Помпея. Такова была жестокость тех времен.
В Риме никто не удивился, когда в поджоге города были обвинены христиане, пользовавшиеся в империи дурной славой. Многим был известен крайний фанатизм чрезмерно пылких последователей христианского учения, которые питали жгучую ненависть к Римскому государству и были исполнены веры в скорую гибель Рима, в то, что на смену его господству придет царство Божие на земле. Для христиан — фанатиков Рим был средоточием греха, который необходимо разрушить в очистительном огне, вроде того, о котором с таким вдохновением поведал в своем "Апокалипсисе" Иоанн Богослов, По всей видимости, случайно вспыхнувший в пламени пожара Рим вызвал у них прилив энтузиазма и, решив, что обещанный конец мира наступил, они поспешили приложить свою руку к божественному огню и были схвачены за этим занятием.
О веротерпимости первых римских императоров хорошо известно, чего нельзя сказать о ранних христианах. Не случайно они обосновались именно в Риме, где процветали самые разные религии. Здесь они могли беспрепятственно проповедовать свое учение, постоянно расширяя ряды приверженцев. Заполонив столицу языческой империи, христиане демонстративно отказывались от участия в государственном культе и почитании национальных римских богов. Глумясь над римскими святынями, с которыми было связано славное прошлое Рима, презирая его традиции и нравственные ценности, христиане не могли вызывать к себе симпатии римлян, в глазах которых выглядели смутьянами и бунтовщиками, посягавшими на самые основы римской государственности.
Глава шестнадцатая. Золотой дом
Пожар, бушевавший в Риме почти шесть дней, уничтожил множество частных домов и общественных зданий. Из четырнадцати районов города уцелели лишь четыре, три были полностью разрушены, остальным нанесен урон разной степени. Были спасены Форум, Капитолий и часть Палатина — личная резиденция Августа, храм Аполлона и жилище Ливии и ее первого супруга Тиберия Клавдия Нерона.
Император энергично взялся за восстановление Рима. По сути дела, на месте разрушенной огнем столицы он возвел новый город. До этого Рим с его узкими и кривыми улочками был застроен скученно и беспорядочно, теперь же приглашенные Нероном архитекторы проложили в городском центре широкие улицы, пересекающиеся под прямым углом. По сторонам улиц тянулись здания одинаковой высоты, не превышающие двадцати четырех метров. Новые дома не имели общих стен и, таким образом, не соприкасались друг с другом, как прежде. Нижние этажи сооружались из альбанского или габийского огнеупорного мрамора.
Перед фасадами домов возводились портики с плоскими крышами, с которых можно было бы тушить пожар. Расходы на их сооружение Нерон взял на себя. Раньше улицы были так узки, а дома столь высоки, что лучи солнца редко достигали земли, теперь город был залит солнцем. Портики и были возведены с той целью, чтобы на широких проспектах можно было укрыться от лучей палящего солнца. Во все новые дома Нерон распорядился провести воду и обеспечить их необходимыми противопожарными средствами. Все это были очень разумные меры. Никогда еще работы по строительству и благоустройству города не принимали таких грандиозных размахов. Новые принципы градостроительства совершенно преобразили Вечный Город. Теперь он стал действительно столицей великой империи.
Одновременно с восстановлением города велись работы по сооружению нового дворца для императора, спроектировать который было поручено архитекторам Северу и Целеру. Нерон хотел, чтобы ему построили нечто грандиозное, и попросил не жалеть денег. Желание принцепса выполнить удалось. Новый дворец поражал не столько своим богатством, хотя на его отделку пошла уйма золота и драгоценных камней, сколько размерами и затейливой планировкой. Это был целый дворцовый комплекс, в который входили рощи, поля, луга, виноградники, фруктовые сады, искусственные пруды. Север и Целер поставили своей целью воспроизвести египетские и восточные образцы дворцово — паркового строительства и посредством искусства представить в ограниченных пределах целый мир в миниатюре, воссоздать в центре Рима как бы естественную природу, островки сельского уединения и красивые виды.
Человека, входившего во дворец, поражал своей величиной уже вестибюль. Обегавший его тройной портик был по периметру в один километр. В вестибюле возвышалась тридцатиметровая статуя Нерона работы скульптора Зенодора.
В парках били затейливые фонтаны. В акведуках журчала вода. В прудах плескались птицы и плавали разноцветные рыбы. В лесах гуляли диковинные звери. Среди зелени деревьев и кустов белели статуи. Белоснежными мраморными скульптурами были оживлены и берега прудов, окруженных куртинами цветущих кустарников.
С дворцовыми помещениями парки были связаны балконами, террасами и лестницами, с которых можно было любоваться живописными пейзажами, яркими зелеными лугами, тенистыми рощами, цветущими полями. Все элементы архитектуры в своей совокупности создавали ощущение величия и покоя.
Внутреннее убранство дворца отличалось сказочным великолепием. Стены комнат, облицованные различными сортами мрамора, были так обильно украшены позолотой, что дворец получил название "Золотого Дома".
В пиршественных залах потолки были штучные, из квадратных и многоугольных кессонов, отделанных слоновой костью. Эти легкие, ажурные потолки могли раскрываться и сверху на пирующих рассыпались цветы и рассеивались благовония. В главном восьмиугольном зале потолок был устроен в виде небесного свода, который безостановочно вращался, следуя движению светил на небе.
Многие помещения дворца имели на стенах роспись, над которой работал римский живописец Фабулл. Роспись нигде не повторялась. Она могла быть исполнена в духе театральной декорации или изображать сцену из греческой трагедии. Одни комнаты были расписаны на тему приключений мифологических героев, другие украшены городским, сельским или фантастическим пейзажем с невиданными птицами, сказочными чудовищами, злыми демонами, порождавшими ощущение мира таинственного и волшебного.
По воспоминаниям современников, Фабулл работал всего несколько часов в день и, даже находясь на лесах, всегда был тщательно одет. В росписи дворца ему помогали многочисленные ученики.
Под стать стенам было живописное украшение потолков. В одном из помещений свод был разделен тонкими позолоченными рамками на круглые, овальные и квадратные поля, в которых были написаны мифологические сцены. Обилие позолоты, ярко — синий и красный фон полей, на которых четко выделялись светлые фигуры, придавали всей композиции чрезвычайно пышный и нарядный вид. Не менее замечательны были плафоны и в других комнатах, число которых превышало сотню.
Общая площадь, занимаемая Золотым Домом, равнялась приблизительно ста тридцати гектарам. Он простирался от Целиева холма до форума Августа и от Палатина до садов Мецената. Дворцовый комплекс был отделен от остального города рвами, наполненными водой, и стеной. Укрывшись за высокими стенами и глубокими рвами, принцепс мог чувствовать себя здесь в относительной безопасности.
Соединив в своем проекте элементы римского пригородного поместья, кампанской виллы и дворцовой резиденции, Север и Целер, как нельзя лучше, угодили Нерону. Дворец вполне отвечал его жизненной и эстетической концепции: это было строение светлое и романтичное, царство искусства и безмятежности. Осуществить свой замысел архитекторы могли лишь благодаря изобретению цемента, открывшему новую эру в строительстве. Север и Целер были первыми, кто использовал этот неизвестный прежде материал. Арки и купола не требовали теперь мощных стен для опоры, и поэтому все сооружение, получилось легким и воздушным.
Общее ощущение легкости усиливали каналы, ручьи, пруды и бассейны. По желанию Нерон мог принять ванну, наполненную свежей морской водой или водой, текущей из серных источников, которая доставлялась во дворец по акведуку за двадцать пять километров.
Нерон питал слабость ко всему красивому, чарующему, дорогостоящему. Интерьер комнат был декорирован не только росписью по штукатурке, но также пластинками слоновой кости, драгоценными камнями и жемчугом. При строительстве Золотого Дома впервые были использованы окрашенный мрамор с прорисованными прожилками и оконное стекло нового вида.
Когда дворец был завершен, восхищенный император с облегчением промолвил:
— Наконец — то я смогу жить по — человечески!
Глава семнадцатая. Заговор Пизона
В конце 64 года участились зловещие знамения: частые удары молнии, появление кометы, второй за время правления Нерона, рождение младенцев и животных с двумя головами. Суеверные римляне смирились с мыслью о скором несчастье, еще большем, чем то, которое они пережили в связи с пожаром, разрушившим столицу и ставшим причиной многих человеческих жертв. Поговаривали о том, что Нерон не угоден богам и что они гневаются на него.
Подобные разговоры особенно часто велись среди друзей Гая Кальпурния Пизона, вокруг которого постепенно образовалось ядро единомышленников, полагавших, что властвованию Нерона пора положить конец. Сначала это было не более чем салонной болтовней, но когда к ним присоединились военные, префект преторианцев Фений Руф, трибуны преторианских когорт Субрий Флав, Гавий Сильван, Стаций Проку, центурионы Сульпиций Аспер, Максим Скавр, Венет Павел и другие, общее направление разговоров изменилось, начали обсуждать вопросы уже конкретные: когда и где убить императора.
Самым неистовым из заговорщиков, по крайней мере на словах, был Субрий Флав, предлагавший — разные планы убийства тирана. Однажды ему пришло в голову поджечь загородную резиденцию Нерона и подкараулить его у выхода. Перепуганный и без охраны, принцепс устремится прямо на его меч, заверял Флав. В другой раз он воодушевился идеей умертвить императора на глазах тысяч свидетелей во время его выступления на театральных подмостках. Но всякий раз пылкого трибуна сдерживала мысль о собственной безопасности: он не знал, каким образом уцелеть самому.
Возглавивший заговор Гай Кальпурний Пизон был родом из знатной семьи и пользовался в Риме хорошей репутацией. Не обратить на него внимания было просто невозможно: он был наделен внушительным ростом и красивой наружностью. Многих людей привлекали его щедрость и ласковое обхождение с друзьями. Пизон занимался адвокатской деятельностью и охотно брал на себя защиту граждан в судах. Своим красноречием он уже давно снискал большую известность. Кроме того, он был непревзойденным рассказчиком. Строгостью нравов Пизон никогда не отличался. Склонный к пышности и порой к распутству, жизнь вел праздную. Впрочем, римлянам, отвыкшим от суровости отцов, нравился такой стиль жизни Пизона, пользовавшегося популярностью у самых разных слоев римского населения.
Вскоре число заговорщиков пополнили римские всадники, среди которых находился даже близкий друг Нерона, участник его юношеских беспутств Клавдий Сенецион. Затем к ним примкнули сенаторы Флавий Сцевин и Афраний Квинциниан. Обоих привело к заговорщикам чувство личной ненависти к принцепсу. Большинство из участвовавших в заговоре связывали с убийством Нерона надежды на достижение собственных целей, благом государства они лишь прикрывали свои низкие амбиции.
Так, поэта Марка Аннея Лукана в ряды заговорщиков толкнуло непомерное тщеславие и обида на императора, который в то время как он публично декламировал свои стихи, покинул зал, срочно вызванный по неотложному делу в сенат. Самолюбивый Лукан, еще недавно восхвалявший Нерона в своей эпической поэме "Фарсалия", оскорбился и затаил злобу. Не стесняясь в выражениях, он всячески поносил своего покровителя. Однажды, находясь в общественном отхожем месте, он, испустив ветры с громким звуком, произнес полустишие Нерона: "Словно бы гром прогремел под землей". Сидевшие поблизости пришли в смятение и бросились прочь. Мало того, разобидевшийся поэт распространял повсюду сочиненные им язвительные стихи против Нерона и в своей озлобленности дошел до того, что перед каждым встречным грозился убить императора.
По всей видимости, все ограничилось бы пустой болтовней и заговорщики не перешли бы к активным действиям, если бы среди них не появилась женщина, причем энергичная и волевая, которая привыкла действовать, а не вести праздные разговоры. Это была некая Эпихарида, подруга Аннея Мелы, отца Лукана и брата Сенеки. Ей быстро наскучили ни к чему не ведущие разглагольствования мужчин, и она решила проявить инициативу.
Находясь на отдыхе в Кампании, Эпихарида попыталась втянуть в заговор одного из командиров Мизенского флота Волузия Прокула, который принимал участие в убийстве Агриппины, но, не получив ожидаемого продвижения по службе, был обижен на Нерона.
— У тебя есть возможность отомстить принцепсу, причем не только за себя, но и за обиды других людей, — сказала Эпихарида. — Ни к чему перечислять его злодеяния. Они всем хорошо известны. Нашлись люди, которые не хотят мириться со своим угнетенным положением и готовы освободить отечество от ненавистного тирана. Ты окажешь им содействие, если найдешь единомышленников среди наиболее решительных и отважных офицеров флота. На этот раз награда тебя не минует.
Довольно прозрачно намекнув на готовящееся в Риме покушение на Нерона, Эпихарида тем не менее имен заговорщиков не назвала.
Вмешательство женщины привело к трагическим последствиям. Прокул, желая выслужиться перед императором, известил его обо всем услышанном. Взятая под стражу Эпихарида на очной ставке с доносчиком все решительно отвергала. Поскольку разговор велся без свидетелей, доказать что — либо было невозможно. Тем не менее, заподозрив неладное, Эпихариду заключили в тюрьму.
Когда заговорщики узнали, что Эпихарида арестована и содержится в темнице, они ужасно всполошились и приняли решение действовать без промедления. Слабая женщина, считали они, раньше или позже сознается и непременно выдаст их. И вот на тайном совещании выносится постановление: совершить покушение на императора в Байях на вилле Пизона. Нерон, влюбленный в красоту этих мест, часто приезжал сюда без конвоя и толпы провожатых, посещал здесь бани и пировал с друзьями.
Пизон был категорически против такого решения.
— Я не могу нарушить священный долг гостеприимства и убить императора у себя за пиршественным столом, — заявил он. — Если я пролью в своем доме кровь гостя, я покрою себя бесчестьем и оскверню богов и установленные ими законы. Почему бы не покончить с Нероном во дворце, этой цитадели деспотизма, или в каком — нибудь общественном месте? Патриотическое деяние следует совершать принародно.
Слова Пизона всеми были восприняты как нежелание взять на себя ответственность за убийство, ведь в этом случае любой человек смог бы обвинить его в злодеянии и лишить возможности овладеть верховной властью в государстве. У Пизона, как мы скоро увидим, были все основания опасаться такого поворота событий.
После продолжительных дебатов пришли наконец к соглашению, что лучше всего исполнить намеченное 19 июля во время цирковых игр, которые Нерон никогда не пропускал. Тщательно разрабатывается сценарий покушения. Первым к императору должен приблизиться Плавтий Латеран. Когда — то исключенный из состава сената за связь с Мессалиной, он был прощен Нероном и восстановлен в сенаторском звании, а теперь даже назначен консулом на будущий 66 год, Предполагалось, что он, человек рослый и сильный, к тому же пользующийся доверием принцепса, навалится на него всей тяжестью своего крупного тела и подомнет под себя. Затем с оружием в руках сбегутся остальные, которые и прикончат его. Пизон в это время будет ждать в храме Цереры, откуда после свершения задуманного его отнесут в преторианский лагерь и там провозгласят императором. Вместе с ним к преторианцам отправится Антония, единственная из детей Клавдия оставшаяся в живых. Ради императорского трона Пизон готов был развестись с женой и вступить в брак с Антонией, к тому времени овдовевшей во второй раз. Первый ее муж был казнен по приказу Клавдия, второй — Фавст Корнелий Сулла — пал жертвой происков Тигеллина.
18 июля заговорщики завершали последние приготовления к назначенному на следующий день покушению. Один из них, Флавий Сцевин, возвратившись домой, имел продолжительную беседу с римским всадником Антонием Наталом, также участником заговора, после чего составил завещание и поручил своему вольноотпущеннику Милиху наточить кинжал. Затем он устроил более пышный, чем обычно, ужин, во время которого одним рабам даровал свободу, других наделил деньгами. Все это вызвало у них удивление, тем более что не осталась незамеченной странная задумчивость хозяина, хотя он и старался скрыть ее оживленными речами. Когда же он поручил Милиху приготовить повязки для ран и останавливающие кровь средства, тот еще больше укрепился в подозрении, что замышляется нечто преступное.
Своими сомнениями Милих поделился с женой, которая настояла на том, чтобы он отправился в императорский дворец и сообщил о приготовлениях Сцевина.
— Если этого не сделаешь ты, — сказала она, — сделает кто — нибудь другой. Молчание одного ничему не поможет. Многие вольноотпущенники и рабы видели то же, что и ты. Награду же получит тот, кто всех остальных опередит доносом.
С первыми лучами солнца Милих поспешил во дворец. Но стража прогнала его. Уже уходя, он все же вернулся и продолжал настаивать на встрече с кем — нибудь из окружения императора. Наконец, его допустили к вольноотпущеннику Нерона Эпафродиту, который тут же оценил всю серьезность сообщения и не медля доложил принцепсу о нависшей над ним грозной опасности.
Нерон послал воинов схватить Сцевина и доставить его во дворец. Тот все отрицал. Кинжал, мол, похищен вольноотпущенником из его спальни, а в том, что он дал свободу нескольким своим рабам и пересмотрел завещание, нет ничего странного: он, обремененный долгами, нередко делает это, не дожидаясь особых обстоятельств; что же касается перевязочных материалов, то это злая выдумка Милиха.
Сцевин держался спокойно, твердо стоял на своем и отметал подозрения с такой непреклонностью, что все сочли Милиха негодяем и злостным доносчиком. Казалось, что тучи, сгустившиеся над заговорщиками, рассеялись и на этот раз. Но тут жена павшего духом Милиха вспомнила, что накануне их патрон о чем — то долго беседовал наедине с Антонием Наталом. Возможно, что — нибудь о заговоре скажет он.
Вызывают Натала. Спрашивают о предмете его длительного разговора со Сцевином. Ответы его и Сцевина не совпадают. Ясно, что оба лгут. Чтобы добиться от них правды, решают подвергнуть того и другого пыткам. Но прибегать к ним не пришлось. Увидев орудия палача, арестованные сразу заговорили. Сначала — Натал, назвавший имя Пизона, а за ним и Сцевин, выдавший остальных. И вот тюрьма заполняется взятыми под стражу заговорщиками, которые малодушно называют все новых и новых участников заговора.
Тут Тигеллин вспомнил о том, что в заключении содержится Эпихарида. Полагая, что теперь, когда ее тело будут терзать пытками, она окажется более разговорчивой, он велит подвергнуть несчастную женщину истязаниям. Однако мучители просчитались. Ни кнут, ни раскаленное железо не смогли сломить мужества женщины. Изувечив свою жертву на дыбе, обессиленные палачи так и не вырвали из нее признания. На следующий день измученную, но не сломленную Эпихариду притащили в застенок на носилках, так как ни передвигаться, ни стоять на ногах она уже не могла.
Улучив момент, Эпихарида сняла с груди повязку, сделала из нее петлю и, прикрепив к спинке носилок, повесилась. Простая, незнатная женщина нашла в себе силы уйти из жизни достойно, никого не выдав. Даже Тацит, недолюбливающий представительниц слабого пола, воздает должное ее доблести. "Женщина, вольноотпущенница, в таком отчаянном положении оберегавшая посторонних и ей почти неизвестных людей, явила блистательный пример стойкости, тогда как свободнорожденные мужчины, римские всадники, и сенаторы, не тронутые пытками, выдавали тех, кто каждому из них был наиболее близок и дорог".
Словно соревнуясь между собой в малодушии и низости, арестованные называли одного за другим участников заговора. Особенно старался Лукан. Его заносчивость и дерзость быстро исчезли. Трепеща за свою жизнь, он оболгал даже собственную мать Ацилию, хотя она ни в чем не была замешана. Дойдя до самых униженных просьб к императору, этот лощеный поэт шел на любую подлость, лишь бы спасти свою шкуру. Не лучшим образом вели себя и остальные заговорщики. Квинциниан и Сенецион обвинили самых близких друзей; наперебой называя имена, они надеялись предательством смягчить свою вину.
Слушая откровения сломленных страхом людей, Нерон был потрясен широтой заговора и числом его участников. Он объявил город в осадном положении и окружил себя охраной из германских солдат. В сложившейся ситуации он мог довериться только чужеземцам, которые к борьбе за римский престол относились с полным безразличием. На городских стенах были расставлены часовые. На всех дорогах в окрестностях столицы рыскали конные и пешие патрули. Подозрительных личностей хватали прямо на улицах и площадях. Солдаты врывались в дома и лавки. Тюрьмы были переполнены. Непрерывный поток закованных в цепи людей тянулся ко входу в сады, где под наблюдением Нерона и Тигеллина происходило дознание. Достаточно было быть другом или даже случайным знакомым кого — либо из заговорщиков, чтобы немедленно попасть в число подозреваемых.
Все это время Пизон выжидал. Его пытались убедить, что глупо надеяться на молчание допрашиваемых, рано или поздно его имя будет произнесено и скорее всего оно уже названо. Нужно действовать без колебаний и промедления: отправиться в лагерь к преторианцам и призвать их к мятежу. Если же гвардейцы его не поддержат, то лучше расстаться с жизнью героически, в борьбе за свободу, чем дожидаться бесславной смерти, запершись в своем доме.
Ко всем этим призывам Пизон оставался глух. Но вот настал день, когда к нему в дом явился вооруженный отряд новобранцев. Старым солдатам Нерон не доверял. Даже не попытавшись защитить себя или других, Пизон поспешно перерезал себе вены на руках и умер. Перед смертью он написал завещание, наполнив его отвратительной лестью императору. Опасаясь мести Нерона, он рассчитывал спасти таким образом хотя бы свою жену.
До сих пор в списки обвиняемых не попало ни одно имя военных. Ни Фения Руфа, ни Субрия Флава, ни других преторианцев арестованные не назвали. По всей видимости, это было вызвано тем, что преторианцы участвовали в дознании. Фений Руф вместе с Нероном и Тигеллином лично вел допросы, причем отличался особой жестокостью. Своей свирепостью он надеялся отвести от себя подозрения в соучастии в заговоре. Когда Субрий Флав во время одного из расследований взялся за рукоять своего меча и взглядом спрашивал стоявшего рядом Фения Руфа, не заколоть ли Нерона, тот отчаянными знаками остановил его порыв.
Не меньшую жестокость обнаружил и трибун Стаций, который собственноручно казнил Плавтия Латерана, не дав ему обнять напоследок детей и лишив возможности вскрыть себе вены. Он притащил свою жертву к месту, отведенному для казни рабов, и заколол сенатора как барана. Плавт умер, не проронив ни слова, хотя мог бы упрекнуть трибуна, который еще вчера был его сообщником.
Наконец, следствие вышло на Луция Аннея Сенеку.
Глава восемнадцатая. Прощай, Сенека
Как только Сенека вернулся из Кампании, к нему был послан трибун Гавий Сильван. Философ не стал въезжать в Рим и остановился в своей загородной вилле в шести километрах от столицы. Уже вечерело, когда к нему прибыл Сильван с отрядом воинов, которые не мешкая оцепили дом. Старый учитель Нерона возлежал за столом и ужинал в обществе жены Паулины и двух близких друзей: историка Фабия Рустика и врача Стация Аннея.
Увидев вошедшего трибуна, Сенека предложил ему возлечь и разделить с ним трапезу. Сильван отклонил предложение и, продолжая стоять, потребовал у него дать разъяснения по вопросам, интересующим принцепса.
— Император спрашивает, встречался ли ты недавно с Наталом? — начал допрос Сильван, явно тяготясь своей миссией.
— Передай Нерону, что Натал действительно был у меня, когда я лежал больной. Он осведомился о моем здоровье и попросил принять Пизона, желающего, по его словам, поддерживать со мной дружбу в личном общении.
— И что же ты ответил на просьбу Натала?
— Лишь то, что как в обмене мыслями через посредников, так и в частных беседах с глазу на глаз я не вижу никакой пользы.
— А что означали твои слова, что твое благополучие зависит целиком от благополучия Пизона?
Сенека ничуть не удивился такой осведомленности императора.
— В моих словах нет скрытого смысла. Это была всего лишь простая любезность.
— А как ты объяснишь свое внезапное возвращение из Кампании? И почему ты не въехал в Рим, а остановился у городских ворот? Ты ждал каких — то известий?
— Это уже плод твоего воображения. Мой приезд совершенно случаен и ни с чем не связан.
Сенека кривил душой. Он знал, что параллельно заговору Пизона существовал еще один — военный, возглавляемый трибуном преторианской когорты Субрием Флавом. Привыкшие к строгой дисциплине и порядку, военные считали, что в государстве не станет лучше, если место кифареда займет трагический актер. Нет смысла, говорили они, сажать на императорский трон поверхностного и тщеславного Пизона, который охотно выступает перед публикой в трагическом одеянии. На тайном совещании Субрия Флава с центурионами было принято решение после умерщвления Нерона тотчас устранить и Пизона, если понадобится, убить его. Императором же провозгласить Сенеку, который хорошо показал себя во главе государства в первое пятилетие правления Нерона.
Но обо всем этом Сенека, разумеется, умолчал.
— Передай императору, — сказал он, — что для меня всего важнее покой и что ни к каким приемам в угоду чьим — либо амбициям я не расположен. К лести же я никогда не был склонен, и Нерон, имевший немало возможностей убедиться в независимости моих суждений и поступков, прекрасно знает это.
И как ни в чем не бывало, философ продолжил беседу с друзьями, прерванную вторжением трибуна, всем своим видом показывая, что разговор с ним закончен.
Сильван вернулся во дворец и сообщил императору ответ Сенеки.
— Не собирается ли Сенека добровольно расстаться с жизнью? — спросил Нерон.
— Нет, мне этого не показалось. Ни в словах, ни в лице его я не уловил признаков тревоги и страха. Он был совершенно спокоен и сказал…
Нерон потерял терпение и перешел на крик.
— Меня не интересует, что тебе сказал выживший из ума старик! Неужели ты, болван, не понял, что от тебя требуется? Немедленно отправляйся назад и возвести его о смерти!
Помертвевший от страха трибун, как ошпаренный, выскочил из дворца. По пути, успокоившись и поразмыслив, он свернул к префекту Фению Руфу.
— Император приказал сообщить Сенеке о том, что он должен умереть. Следует ли мне повиноваться?
— Делай, что велено, — ответил перетрусивший Фений. — Приказ есть приказ, и для всех будет лучше, если ты выполнишь его без промедления.
Сильван, тоже участник заговора, не имел решимости вновь взглянуть в глаза старому философу и вместо себя послал одного из своих центурионов.
Появление центуриона в столь поздний час Сенека воспринял спокойно. Ни один мускул не дрогнул в его лице.
— Принесите мне завещание! — обратился он к слугам.
— Никакого завещания! — грубо вмешался посланец Сильвана.
— К сожалению, друзья, я не могу вознаградить вашу преданность, как вы того заслуживаете, — обернулся философ к Фабию Рустику и Стацию Аннею. — Но я оставляю вам лучшее, что у меня есть — память о себе. Я завещаю вам самое драгоценное из моего достояния — образ жизни, которого я держался. Мне же лучшей наградой будет ваша память обо мне и верность нашей дружбе.
Увидев, что друзья готовы разрыдаться, он поспешил удержать их:
— Не надо слез! Будьте тверды! Где ваша мудрость, которая учит быть стойким в бедствиях? Кровожадность Нерона ни для кого не тайна. После убийства матери и брата ему только и остается, что убить своего воспитателя и учителя.
В своем благородном порыве Сенека совершенно забыл о том, что в убийстве Агриппины он принимал самое непосредственное участие. Разумеется, никто из присутствующих не напомнил ему об этом.
— Затем он обернулся к жене и нежно обнял ее.
— Не плачь! Не поддавайся горю! Оно не вечно. Тоску обо мне тебе поможет облегчить созерцание моей добродетельной жизни. Постарайся найти в этом достойное утешение в скорби.
— О, нет! Я хочу умереть с тобой! Палач, за дело! — выкрикивала в отчаянии молодая женщина.
— Ну что ж, — тотчас уступил жене Сенека, — я не хочу противиться твоему желанию прославить себя достойной кончиной. Я указал тебе, как ты могла бы примириться с жизнью, но ты предпочла благородную смерть. Мне не должно препятствовать этому возвышенному деянию. Мы расстанемся с жизнью с равным мужеством, но в твоем конце больше величия.
Оба одновременно вскрывают себе вены на руках. Из ослабленного скудным питанием и старостью тела Сенеки кровь еле текла. То ли страшась яда, то ли вернувшись к вегетарианским привычкам своей юности, то ли став с возрастом более умеренным, он полностью отказался от мясной пищи и последние месяцы питался только овощами со своего огорода и пил исключительно проточную воду. Торопя смерть, Сенека надрезал себе вены на голенях и под коленями. Эффект тот же. Изнуренный болью, он, не желая своими мучениями причинять страдания жене, попросил препроводить ее в другую комнату.
Поскольку ему было отказано сделать распоряжения об имуществе, он пожелал оставить хотя бы духовное завещание. Вызвал писцов и продиктовал многое, что впоследствии было издано, но в настоящее время утрачено.
Когда Нерону доложили о намерении Паулины умереть вместе с мужем, он, не видя смысла в ненужной жестокости и лишней смерти, приказал не допустить ее гибели. Под наблюдением воинов рабы и вольноотпущенники перевязали ей запястья и остановили кровь. Находясь в бессознательном состоянии, Паулина уже не отдавала себе отчета в происходящем с ней. Она пережила мужа лишь на несколько лет, до конца своих дней сохраняя в лице мертвенную бледность, вызванную большой потерей крови.
Между тем в соседней комнате ее супругу никак не удавалось умереть. Смерть явно не спешила к нему. Агония затягивалась. Тогда он попросил Стация Аннея дать ему давно припасенную цикуту — яд, которым когда — то умерщвлялись осужденные к смерти афиняне и от которого погиб великий Сократ. Но и после того как яд был выпит, смерти не последовало. Тело, охваченное предсмертным оцепенением, потеряло восприимчивость и ни на что не реагировало.
Ослабевшего, обескровленного Сенеку погрузили в бассейн с теплой водой. Результат прежний. Жизнь никак не хотела покидать измученное тело. Пришлось перенести несчастного в раскаленную баню, и только здесь, в непереносимой духоте, он наконец лишился дыхания.
Такова была кончина выдающегося философа и писателя Рима. Задолго до своей смерти, в 58 году, в трактате "О счастливой жизни" Сенека писал: "При виде смерти и при известии о ней я буду сохранять одинаково спокойное выражение лица; я буду переносить тяжелые испытания, каковы бы они не были, подкрепляя телесные силы духовными; я буду презирать богатство независимо от того, будет ли оно у меня или нет; я не стану печальнее, если оно будет окружать меня своим блеском; я буду равнодушен к судьбе, будет ли она жаловать меня или карать; на все земли я буду смотреть как на свои, а на свои — как на всеобщее достояние; я буду жить в убеждении, что я родился для других, и буду за это благодарен природе, так как она не могла лучше позаботиться о моих интересах: меня одного она подарила всем, а всех — мне одному… Я ничего не буду делать для славы, а всегда буду поступать по совести. Мое поведение, хотя бы я оставался наедине, будет таково, что на него мог бы смотреть народ. Целью еды и питья будет служить мне удовлетворение естественных потребностей, а не наполнение и опоражнивание желудка. Я буду любезен в обращении с друзьями, кроток и уступчив в отношении врагов, оказывая милость раньше, чем услышу мольбу, и предупреждая честные просьбы. Я буду помнить, что моя родина — весь мир, что во главе его стоят боги и что эти строгие судьи моих деяний и слов находятся надо мной и около меня. А когда природа потребует, чтобы я возвратил ей свою жизнь, или я сделаю это по требованию разума, я уйду, засвидетельствовавши, что я дорожил чистой совестью и стремился к добру, что ничья свобода, и прежде всего моя собственная, по моей вине не была ограничена".
Глава девятнадцатая. "Пет, не больно"
Уже простились с жизнью Пизон, Сенека, Эпихарида, а маховик репрессий лишь набирал свои обороты. Массовый характер казни приобрели только после того, как обнаружилось участие в заговоре военных.
Сначала задержанные безропотно сносили то, что префект преторианцев Фений Руф, их товарищ по заговору, участвует в допросах в качестве следователя. Но так как положение арестованных с каждым днем ухудшалось, а Фений свирепствовал с нарастающей силой, их ненависть к нему вырвалась наружу. Когда на одном из допросов префект угрозами вымогал показания у Сцевина, тот, усмехаясь, сказал:
— Почему ты спрашиваешь об этом деле меня, ведь о нем никто не знает больше, чем ты сам?
Заметив, что Фений побелел от страха, Сцевин продолжал:
— Что мешает тебе отплатить нашему доброму принцепсу признательностью? Откройся ему! Расскажи, что тебе известно о заговоре! Это гораздо лучше, чем выбивать показания из нас.
Тут уже Фений окончательно перетрусил. Вместо того, чтобы сделать вид, что слова Сцевина не имеют к нему никакого отношения, он начал в ответ что — то невнятно бормотать. Ни от Нерона, ни от Тигеллина не укрылся испуг Фения, который своим замешательством и бессвязным лепетом полностью выдал себя. Тигеллин уже давно хотел избавиться от Фения, с которым ему приходилось делить власть над гвардейцами. Нерон же недолюбливал префекта за его предполагаемую связь с Агриппиной. Так что ни тот, ни другой не были заинтересованы в выгораживании трусливого изменника.
Видя такой поворот дела, арестованные заговорщики бросились обличать Фения. Особенно был щедр на обвинения всадник Церварий Прокул. Из показаний стало совершенно ясно, что префект — одна из центральных фигур заговора.
— Заковать мерзавца в цепи! — распорядился Нерон.
Тотчас к Фению кинулся телохранитель Кассий. Отличавшийся необычайной силой, он неотлучно находился рядом с императором.
После задержания префекта показания посыпались со всех сторон, писцы едва успевали записывать их. В тюрьмах уже не хватало места для арестованных.
Только теперь Нерон смог полностью составить себе представление об истинном размахе заговора. О каком милосердии с его стороны могла идти речь, когда люди, с которыми он дружил, которым доверял и оказывал в затруднениях помощь, без жалости и зазрения совести готовили ему смерть? Теперь аресты и казни не прекращались даже ночью. Нерон действовал так, как на его месте поступил бы любой человек, наделенный властью, ведь еще никто на земле не лишал царей и императоров права защищать свою жизнь и карать террористов.
Вскоре под стражей оказался и Субрий Флав. Но в отличие от своего командира он держался мужественно и дерзко.
— Ты признаешь свое участие в преступном сговоре? — спросил его Нерон.
— Нет, — не моргнув глазом, ответил трибун. — Как человек военный, я не стал бы связываться с людьми изнеженного образа жизни, которые и боевого оружия в руках никогда не держали. Не таков мой нрав, чтобы подчиняться трусливому лицедею и развратнику Пизону.
Последовала очная ставка с Фением Руфом и Церварием Прокулом, которые постарались полностью изобличить Флава.
— Твоя взяла, — признался он наконец Нерону, — я был заодно с заговорщиками.
— Почему ты нарушил данную мне присягу в верности? Что тебя заставило забыть о своем воинском долге?
— Я возненавидел тебя. Я сохранял тебе преданность до тех пор, пока ты был достоин восхищения. Но я воспылал к тебе ненавистью после того, как ты стал убийцей матери и жены, возничим, комедиантом и поджигателем.
Еще никогда за всю свою жизнь не слышал Нерон таких резких слов в свой адрес. Привыкший лишь к славословиям и благодарственным речам, он был потрясен откровением трибуна. Только мать да Бурр позволяли себе время от времени говорить ему правду. Но они оба уже давно были в могиле.
— Казнить! — рявкнул разгневанный принцепс. Тут же неподалеку на поле вырыли яму и подвели к ней Флава. Взглянув на место своего последнего пристанища, он пренебрежительно бросил:
— Экая теснотища!
И обращаясь к воинам, оцепившим место казни, произнес с упреком:
— Даже могилу не могли вырыть, как следует, по уставу.
Но тут вмешался трибун Вейаний Нигер, которому было поручено совершить казнь:
— Не хорохорься, Флав, а смелей подставляй под меч голову.
— Лишь бы ты столь же смело ее поразил, — парировал неустрашимый Флав.
Только со второго удара дрогнувший палач отсек ему голову.
Не менее дерзновенно вел себя на допросе центурион преторианцев Сульпиций Аспер. Спрошенный Нероном, почему он покусился на его жизнь, он кратко ответил:
— Это был единственный способ помочь тебе в твоих гнусностях.
Затем последовало императорское повеление умереть Аннею Лукану. Вскрыв себе вены, истекающий кровью поэт фиксировал в сознании свои ощущения, сравнивая их с теми, которые он приписал воину, умирающему такой же смертью, в поэме "Фарсалия". Самомнение не покинуло Лукана даже в последние минуты. Он умер, декламируя свои стихи из "Фарсалии". О его матери Ацилии, которую он трусливо оговорил, забыли, а она сама постаралась, чтобы о ней никто не вспоминал.
В те дни руки у Нерона онемели от поцелуев всех тех, кто хотел воздать ему благодарность и поздравить с избавлением от смертельной опасности. "Если в городе не было конца похоронам, — свидетельствует Тацит, — то не было его и жертвоприношениям на Капитолии: и тот, у кого погиб сын или брат, и тот, у кого — родственник или друг, возносили благодарность богам, украшали лавровыми ветвями свои дома, припадали к коленям Нерона, осыпали поцелуями его руки".
Антонию Наталу, Церварию Прокулу, Гавию Сильвану, Стацию Проксуму и другим, раскаявшимся в преступном умысле и особенно ревностно разоблачавшим своих товарищей, Нерон даровал прощение. Многим была определена ссылка, многим — изгнание с конфискацией имущества. Ссыльных набралось так много, что они образовали целое поселение на островах Эгейского моря.
Преторианцев, не поддержавших заговорщиков, Нерон щедро наградил, раздав им по две тысячи сестерциев на человека. Сверх того, он освободил их от оплаты хлеба. Тигеллину, который более других усердствовал в расследованиях и вынесении смертных приговоров, были пожалованы знаки отличия: сооружена триумфальная статуя на Форуме и поставлено изваяние в Палатинском дворце.
В сенате принцепс выступил с пространной речью, в которой изложил результаты расследования. Кроме того, был обнародован указ и к нему приложены отдельной книгой показания и признания осужденных.
Сенаторы воздали благодарность богам и прежде всего богу Солнца, который своим присутствием пролил свет на тайные планы заговорщиков. На заседании сената было принято постановление о переименовании месяца апреля в нероней. Но когда один из сенаторов предложил соорудить за общественный счет храм богу Нерону, император отклонил это предложение, усмотрев в сооружении подобного святилища зловещий знак. И Цезарь, и Август, и Клавдий были обожествлены только после своей смерти. Преждевременное обожествление, полагал Нерон, может стать предвестием его скорой кончины.
Кровавый след потянулся за Нероном и в следующий, 66 год. Пользуясь тем, что принцепс был изрядно напуган масштабностью заговора, Тигеллин сводил счеты со всеми неугодными ему людьми. Всех, мало — мальски заподозренных в неблагонадежности, сенаторов и всадников без разбору осуждали к смерти или ссылке. Так, жертвой козней Тигеллина пал Петроний Арбитр, который своей выдающейся праздностью добился известности, которая обычно достигается лишь деятельной жизнью. Петроний не был прожигателем жизни, он вел себя как утонченный жуир, постигший все тонкости искусства наслаждения. Принятый в узкий круг приближенных императора, он стал в нем законодателем изощренного вкуса и арбитром изящества. Нерон ничего не признавал утонченным и изысканным, если это не получало сперва одобрения у Петрония. Гигеллин завидовал Петронию и боялся в нем возможного соперника, поэтому он оболгал его, обвинив в причастности к заговору Пизона.
И вот, когда Петроний следовал за Нероном, отправившимся на отдых в Кампанию, ему внезапно приказали остановиться в Кумах. Не желая оставаться в неизвестности и оценив ситуацию как неблагоприятную для себя, Петроний добровольно вскрыл себе вены, не дожидаясь формального приговора. Но он не торопился расстаться с жизнью, то перевязывал раны, то снимал повязки, проводя свои последние часы за пиршественным столом и беседуя с друзьями, но не о бессмертии души, как водится в такие минуты, а о вещах легкомысленных и приятных. Он слушал веселые анекдоты и любовные стихи. Некоторых своих слуг он наградил, некоторых наказал. В своем завещании он, не уподобляясь большинству, не заискивал перед императором, не расточал ему льстивых слов, а, наоборот, описал во всех подробностях его безобразные оргии, гнусности и бесчинства, назвав поименно всех участников его блуда. Написанное он отослал Нерону. Затем уселся за пиршественный стол и незаметно погрузился в сон, так что смерть его имела видимость естественной кончины.
"По уничтожению стольких именитых мужей Нерон в конце концов возымел желание истребить саму добродетель, предав смерти Тразею Пета". Столь высокопарно и патетично приступает Тацит к рассказу о гибели вождя стоической оппозиции в Риме. Тразея был одним из немногих в сенате, кто не льстил Нерону, не восторгался его дарованиями, не угодничал участием в зрелищах. Когда все трусливо молчали, он не боялся возвысить свой голос и открыто упрекал императора в распущенности.
Независимый дух Тразеи многими был истолкован как проявление строптивости и злокозненности. В ежедневных ведомостях римского народа его имя часто мелькало среди имен мятежников и бунтарей. В провинциях и войсках жадно прочитывали все, что касалось этого несгибаемого человека. Богохульник и ниспровергатель законов, вождь всех тех, кто презрел обычаи предков и жаждет новшеств, посягатель на свободу — такими словами характеризовали Тразею Пета его недоброжелатели всякий раз, когда о нем заходила речь в присутствии Нерона. За три года, нашептывали они, Тразея не соизволил перешагнуть порог Курии, предпочитая заниматься частными делами своих клиентов. Ему милы гражданские раздоры, он не присягает на верность указам принцепса и не воздает обеты за его благополучие.
В конце концов эти нашептывания сделали свое дело. Тразее было велено предстать перед судом сенаторов. Но он колебался, следует ли ему защищаться в сенате или горделиво дожидаться решения своей участи у себя дома. Не желая подвергаться оскорблениям и издевательствам сенаторов, Тразея написал Нерону полное достоинства письмо, в Курию же не явился.
Между тем как Тразея дожидался результата сенатского разбирательства у себя в садах, в Курии звучали следующие речи:
— Тразея, как бывший консул, жрец и римский гражданин, обязан присутствовать в сенате. Нечего ему разыгрывать из себя римлянина минувших времен. Пусть явится сюда и здесь перед нами заступается за врагов принцепса. Он получит от нас достойный отпор. Что ему не нравится? Может быть, то, что на земле царит мир и Рим наконец — то избавлен от кровопролитных войн? Разве не видно, что общественное благополучие повергает его в скорбь? Мы уже достаточно потакали честолюбцу, который давно стал врагом отечества. Если он ждет нашего решения, то вот оно: ему не место среди живых!
Тразея был обречен.
В тот день он созвал к себе друзей. Уединившись с учителем кинической философии Деметрием, он долго обсуждал с ним вопрос о природе души и загробном существовании. За этой беседой его застало известие о решении сената. Он тут же удалился в свой спальный покой. За ним последовала его жена Аррия, которая, как сообщает Плиний Младший, первая пронзила себе грудь кинжалом и со словами "Пет, не больно", протянула его мужу.
Глава двадцатая. Сокровища дидоны
Когда бессмертные боги хотят кого — нибудь наказать, они делают его всеобщим посмешищем. Шутки богов далеко не безобидны, а порой и жестоки. Задумав потешиться над Нероном, всемогущие боги своим орудием избрали некоего Цезеллия Басса. Пуниец родом, он был римским всадником. В Риме объявился совершенно неожиданно, прибыв в Италию из Карфагена, где у него было обширное поместье. Оказавшись в столице империи, никому неизвестный всадник стал домогаться аудиенции у Нерона. Далеко не каждому удавалось быть допущенным к императору, но для безродного провинциала это не составило особого труда. Не жалея денег, он подкупил охрану и вскоре предстал перед принцепсом.
— Император, — начал он, вступив в дворцовые покои, — я хочу сделать тебе подарок. Речь идет об огромном богатстве.
Нерон с любопытством взирал на странного субъекта, сулящего золотые горы. Так как в то утро ему было скучно, он был не прочь поразвлечься болтовней приезжего.
— Я обнаружил в своем африканском имении глубокую пещеру, а в ней несметное количество золота, но не в монетах, а в слитках. Большие золотые кирпичи уложены там штабелями, рядом возвышаются колонны из чистого золота. Не случайно сокровище, сокрытое на протяжении многих столетий, обнаружилось именно сейчас. Это могло произойти только с благоволения Олимпийских богов, вознамерившихся облагодетельствовать и одарить тебя, чтобы ты мог увеличить благосостояние своих сородичей.
С недоверием слушавший этот рассказ, принцепс выразил сомнение в возможности излагаемого: откуда было взяться такому сказочному кладу в Африке.
— Клянусь всеми олимпийскими богами, я говорю правду, — заверил его незнакомец. — А сокровища, о которых я тебе поведал, спрятаны финикийской царицей Дидоной, основавшей на африканском побережье город Карфаген. Это казна финикийских царей, которую Дидона прихватила с собой, когда бежала из Тира. Царица утаила сокровища, боясь, что новый народ погрязнет в роскоши и лености. Кроме того, она опасалась, что живущие по соседству нумидийцы, узнав про золото, пойдут на нее войной.
Объяснение Цезеллия Басса удовлетворило Нерона, и он загорелся желанием завладеть мифическим богатством Дидоны. Он даже не послал своих людей в Африку проверить достоверность сообщения, сразу приступив к снаряжению кораблей. После раскрытия заговора Пизона Нерон окончательно уверовал в милость к себе богов, без содействия которых, как он полагал, ему не удалось бы избежать кинжалов заговорщиков. Боги, считал принцепс, в очередной раз явили свое расположение к нему и именно тогда, когда он больше всего нуждался в этом.
Расходы на восстановление разрушенной пожаром столицы и содержание римского плебса, а также личные затраты Нерона полностью истощили государственные финансы, к тому же он затеял грандиозное строительство — прокладку сложной системы судоходных каналов от Мизена до Авернского озера и от него до самой Остии, чтобы морской транспорт мог попадать в Тибр, а по нему в Рим, минуя море, где из — за частых бурь нередко гибли корабли. Положив начало этому величайшему сооружению, Нерон окончательно опустошил казну. Для производства работ он приказал свезти в Италию всех заключенных, где бы они ни находились. Отныне всех уголовных преступников приговаривали только к принудительным работам.
В расчете на сокровище карфагенской царицы Нерон опрометчиво пустился в еще большие расходы, повсюду делая щедрые подарки и во всем проявляя необычайную расточительность.
— Расчетливые люди, — говаривал Нерон, — просто грязные скряги. Деньги существуют только для того, чтобы их тратить. Это их единственное применение. Молодцы те, кто сорит деньгами, они умеют со вкусом пожить. Нужно брать пример с моего дядюшки Калигулы, который за короткое время сумел промотать огромное наследство, доставшееся ему от прижимистого Тиберия. Вот кто действительно достоин восхищения.
В своей щедрости Нерон только на подарки истратил два миллиарда двести миллионов сестерциев. От супруга не отставала и Поппея, которая отличалась невероятной расточительностью. Ни одного платья она не надевала дважды. Можно себе представить, как она сорила деньгами, если у ее мулов были золотые подковы.
Залезая в долги, Нерон повсюду распространялся о неожиданно свалившемся на него богатстве. Чтобы скорее доставить в столицу золото, которое, как утверждал Цезеллий Басе, можно добыть почти без труда, он снарядил две быстроходные триремы с отборными гребцами на борту. В те дни в Риме только и толковали, что об этой экспедиций.
В ожидании африканских сокровищ Нерон вознамерился выступить на театральных подмостках, возобновив с этой целью пятилетние состязания, названные его именем Неронии. Сенат, ужаснувшись при одной только мысли о позоре, ожидающем их императора, поспешил заранее присудить ему венок победителя в пении и ораторском искусстве, надеясь таким образом избежать всенародного бесчестья. Но не тут — то было.
— Ни в каких поблажках я не нуждаюсь, — заявил Нерон, — и обойдусь без поддержки сената. Со своими соперниками я готов состязаться на равных правах. Не сенату, а авторитетным судьям решать, кто победил и кому должна достаться награда.
Вместе с другими участниками состязаний Нерон тянул жребий и с волнением ждал своей очереди выходить на сцену. Наконец, он появился перед глазами многотысячной аудитории и продекламировал поэму собственного сочинения о падении Трои. Вначале он хотел ограничиться только декламацией, но пришедшая в восторг публика потребовала от него показать все свои дарования.
И вот он снова на подмостках и снова обращается к зрителям с традиционными словами:
— Прошу вашего внимания и благосклонности. В ответ гром аплодисментов.
Затем бывший консул Клувий Руф объявил:
— Сейчас император споет "Ниобу". Вновь аплодисменты.
Нерон вдохновенно исполнил песню о супруге царя Фив Амфиона, которая, гордясь своими многочисленными детьми, смеялась над богиней Лето, родившей только Аполлона и Артемиду. Оскорбленная богиня попросила своих детей отомстить за нее. Все семь сыновей Ниобы были сражены стрелами Аполлона, а за ними и семь ее дочерей пали пронзенные стрелами Артемиды. Ниоба, в одно мгновение потерявшая всех детей, от горя превратилась в скалу, вечно источающую слезы скорби.
На сцене Нерон держался по строго заведенным правилам, не отступая ни от одного из них: ни разу не присел, чтобы передохнуть, пот стирал, обходясь без платка, пользуясь только своей одеждой, тщательно следил за тем, чтобы из ноздрей и рта не было никаких выделений, ни на секунду не забывая о том, что кифаредам строжайшим образом запрещено сморкаться и сплевывать перед зрителями.
Римская чернь была в восторге и без конца вызывала императора на сцену. Вынужденный вновь подняться на подмостки, Нерон спел "Аттиса" и "Вакханок", потребовавших от него большого искусства, так как оба произведения отличались стремительным ритмом и сложным музыкальным рисунком. Принцепс великолепно справился со своей задачей, бесподобно передав исступленный характер обеих поэм, и в очередной раз сорвал шквал рукоплесканий, гремевших как морской прибой. Вот где нероновы августианцы смогли показать себя во всем блеске. Провинциалы, прибывшие из отдаленных колоний и муниципиев и непривычные к представлениям подобного рода, только диву давались. Они не умели хлопать так же слаженно и затейливо, как завсегдатаи римских зрелищ, и быстро уставали. Хуже того, своими неумелыми хлопками они сбивали со счета более ловких и опытных зрителей. Но стоило кому — либо опустить обессиленные руки, как немедленно рядом с ним появлялся солдат гвардии, который требовал не прекращать аплодисменты, грозя в противном случае высечь за нерадивость.
Уже вечерело, а Нерон все еще не исчерпал свой репертуар. Теперь он взялся петь оперную переработку трагедии "Безумный Геркулес". Появившись по ходу действия в венках и цепях, он своим видом так перепугал стоявшего на страже новобранца, что тот, не разобравшись в происходящем, бросился на подмостки спасать императора, чем вызвал неистовое ликование и восторженный рев зрителей.
Казалось, ничто не сможет остановить распевшегося Нерона. А многим зрителям уже давно было не до пения. Проведя целый день в театре, некоторые почувствовали себя плохо. Другим нужно было выйти по нужде. Третьи просто не могли оставаться в сидячем положении столько времени. Однако Нерон ничего не замечал и продолжал самозабвенно петь одну партию за другой. Выйти же из театра никому не дозволялось. Все выходы были перекрыты гвардейцами. Наиболее сообразительные притворялись мертвыми и их выносили на носилках. Другие, рискуя переломать себе кости, перебирались через стены. Таких, разумеется, были единицы, остальным приходилось терпеть. Говорят, что какая — то женщина даже родила в театре под пение принцепса.
Лишь перед самым закатом утомленный Нерон, преклонив перед зрителями колено, движением руки поблагодарил их за внимание и застыл в эффектной позе, ожидая решения жюри.
Едва завершились пятилетние игры, как из Карфагена пришло известие о том, что сокровище Дидоны — всего лишь плод воображения Цезеллия Басса. Ни в его имении, ни в ближайших окрестностях клада не обнаружили, хотя на его поиски согнали крестьян из всей округи и перекопали обширные пространства. Наконец, Басе сознался, что сокровище привиделось ему во сне, и очень удивлялся тому, что сновидение обмануло его, ведь прежде все его сны сбывались. Солдаты не стали везти незадачливого мифомана в Рим, предоставив самому лишить себя жизни.
Когда в Риме стало известно, что экспедиция за сокровищами Дидоны провалилась, эта новость тут же сделалась всеобщим достоянием. Доверчивость императора мало у кого вызывала сочувствие, зато злорадству не было конца, все упражнялись в поношениях, насмешках и язвительных песенках о простаке Нероне.
К насмешкам в свой адрес Нерон относился довольно — таки спокойно. Светоний свидетельствует: "Особенно удивительно и примечательно было то равнодушие, с которым он воспринимал нарекания и проклятия людей. Ни к кому он не был так снисходителен, как к тем, кто язвил его колкостями и стишками. Этих стишков, и латинских и греческих, много тогда складывалось и ходило по рукам. Однако он не разыскивал сочинителей, а когда на некоторых поступил донос в сенат, он запретил подвергать их строгому наказанию".
Поскольку Нерон, рассчитывая на богатство Дидоны, сыпал деньгами налево и направо, он до основания издержался и не мог даже выплатить жалование солдатам, чем вызвал у них сильное недовольство. Пришлось ему пойти на крайние меры — у многих храмов отобрать приношения и для изготовления монет отдать в переплавку золотые и серебряные изваяния. По его приказанию имущество умерших людей, в чем — либо провинившихся перед ним, отходило в казну; на рынках конфисковывались товары даже без видимой причины; многих лишали состояния по ничтожному поводу.
Утрата надежд на сокровище Дидоны не прошла для Нерона бесследно. Сделавшись посмешищем всего Рима, он пытался забыться в вине и ночи напролет предавался пьянству, бесцеремонно напрашиваясь в гости к состоятельным гражданам. Это привело к беде. Однажды после особенно обильного возлияния он вернулся домой очень поздно и был встречен упреками недовольной Поппеи. Она была беременна и к тому же больна. Произошла бурная семейная сцена. Нерон что — то бормотал в свое оправдание. Но усталая и нервная Поппея, невзирая на поздний час и невменяемое состояние мужа, бранила его, не умолкая. В ту ночь ей изменила присущая женщине осторожность, и она, неистово обрушившись на вспыльчивого и неуравновешенного супруга, спровоцировала его на несвойственное ему действие, обернувшееся трагедией. Потеряв над собой контроль, пьяный Нерон в припадке внезапной ярости ударил жену ногой. Удар случайно пришелся в живот и оказался для Поппеи роковым. Она выкинула и вскоре умерла от кровотечения.
Нерон был безутешен и ужасно раскаивался в содеянном. Жену он страстно любил и с нетерпением ждал от нее ребенка. Но боги распорядились иначе.
Покойнице были возданы божественные почести. Тело ее не сожгли, как это было принято у римлян, а забальзамировали по обычаю египетских царей и поместили в построенном Августом на берегу Тибра Мавзолее, где уже покоились останки императорского рода Юлиев и где сорок лет назад был захоронен прах Германика.
Во время похорон Нерон с ростральной трибуны Форума произнес прочувствованную надгробную речь, в которой говорил о красоте усопшей, ее многочисленных заслугах и о том, что она родила ему дочь, ставшую предметом божественного культа.
Удары судьбы продолжали сыпаться один за другим. Осенью разрушительный ураган опустошил всю Кампанию, уничтожив множество построек, насаждений и весь собранный на полях урожай. Римские легионы потерпели сокрушительное поражение в Британии. Не лучше обстояли дела в Армении, где римское войско попало в окружение и было выпущено парфянами на крайне унизительных условиях. Вдобавок к этим бедствиям в том же 65 году в Риме разразилась эпидемия чумы. Дома наполнились мертвыми, а улицы — похоронными процессиями. Из лачуг бедноты зараза стремительно перекинулась в богатые кварталы и за несколько недель унесла тридцать тысяч жертв, кося всех без разбору, рабов и свободнорожденных, всадников и сенаторов.
Глава двадцать первая. Все дороги ведут в Рим
Лопнувшая как мыльный пузырь надежда на сокровища Дидоны, трагическая смерть Поппеи, стихийные бедствия и эпидемия чумы в Риме повергли Нерона в состояние глубокой депрессии, из которой его вывело лишь прибытие в столицу империи нового царя Армении Тиридата, который должен был получить царскую корону из рук римского императора. Хотя Корбулону удалось на некоторое время Захватить армянскую столицу Тигранокерт, удержать ее он не смог, и вскоре римлянам пришлось покинуть страну, отказавшись от установления своего господства в этом регионе и унизиться до соглашений с парфянами, давно оспаривавшими у римлян право протектората над этим горным краем. Между Нероном и парфянским царем Вологезом был заключен компромиссный договор, по которому царем Армении становился младший брат Вологеза Тиридат, но акт возведения его на армянский престол происходил в римской столице.
Организация поездки Тиридата в Италию заняла немало времени. Еще больший срок понадобился на само путешествие, потому что для парфян существовал религиозный запрет на передвижение по морю, и Тиридат следовал исключительно сухопутным путем. К тому же этот давно запланированный визит пришлось дважды откладывать сначала из — за пожара в 64 году, потом из — за заговора Пизона.
Для римлян прибытие Тиридата в их столицу было событием чрезвычайной важности, его давно ждали и к нему тщательно готовились. Что касается Нерона, то он, питавший неистребимое отвращение к войне, дорожил любой возможностью отпраздновать и прославить мир. Кроме того, представлялся удобный случай для устройства зрелищ, во время которых римскому императору хотелось показать гостю свое могущество, блеснуть перед ним своими талантами, ослепить столичной пышностью и великолепием.
И вот, затратив девять месяцев на дорогу, долгожданный гость прибыл в Италию. Его сопровождала огромная свита из знатных соплеменников и три тысячи всадников, к которым присоединился почетный эскорт римских граждан, возглавляемый зятем Корбулона Аннием Виницианом. Нерон встретил армянского царя в Неаполе, и они вместе присутствовали на роскошных играх эфиопских гладиаторов в кампанском городе Путеолах. Отсюда они двинулись прямо в Рим.
О дне въезда высокого гостя в столицу было заранее объявлено особым эдиктом. Но появление Тиридата перед римским народом пришлось отложить из — за дождя, который испортил бы все великолепие зрелища. Наконец тучи рассеялись, и выглянуло солнце. В тот день Рим превратился в громадную сцену, на которой разыгрывался грандиозный спектакль коронации армянского царя. У всех общественных зданий выстроились гвардейцы в парадной форме. Сотни тысяч горожан высыпали на улицы, ведущие к Форуму, куда должен был проследовать со своей свитой Тиридат. Воздух сотрясался от рукоплесканий и приветственных криков.
Римский император в пышном одеянии триумфатора восседал на троне, выставленном перед ораторской трибуной на центральной площади города. Рядом застыли стройные ряды преторианцев. Развевались боевые знамена. Сверкали начищенные значки. От горящих факелов в синее небо поднимались сизые клубы дыма. Нерон, упиваясь своим величием, прищурив один глаз, взирал на происходящее через шлифованный изумруд, которым пользовался из — за сильной близорукости.
Тиридат по наклонному помосту поднялся к принцепсу и, встав перед ним на колени, смиренно склонил голову. Нерон, сойдя с трона, заставил гостя подняться, обнял его и милостиво облобызал.
— Государь, — громогласно заявил Тиридат, — я потомок основателя парфянского царства Арсака, брат властителя Парфии Вологеза и царя Мидии Пакора — твой верный раб. Я прибыл сюда, в твою столицу, чтобы повиноваться тебе, мой бог, как я повинуюсь великому Митре.
После того как эти слова были произнесены и переведены, Нерон церемонно ответил:
— Ты хорошо поступил, придя ко мне. Скоро ты лично убедишься в моем расположении. А сейчас я тебе жалую то, чего твой отец ни тебе, ни твоим братьям не оставил в наследство. Я вверяю тебе корону Армении. Пусть знают все: в моей власти не только брать, но и дарить царства!
С этими словами Нерон снял с головы Тиридата тиару и вместо нее возложил царскую диадему. Собравшиеся неистово рукоплескали. Отныне Тиридат стал царем Армении под протекторатом Рима.
Однако на этом торжественная церемония не завершилась, она имела продолжение в убранном в золото театре Помпея, где к величайшему удовольствию Нерона Тиридат повторил слова, произнесенные им на Форуме. По случаю торжеств не только театр, весь город был украшен с таким великолепием, что день коронации остался в народной памяти как "Золотой день".
В театре армянский царь, восседая справа от Нерона, насладился пышным зрелищем, устроенным в его честь. Ликующие римляне провозгласили Нерона полководцем — победителем, и он, словно после триумфа, в знак благодарности богам возложил на Капитолии лавровый венок. Затем он приказал закрыть храм двуликого Януса, бога входов и выходов, начала и конца. Ему был посвящен храм на Форуме, представлявший собой двойную арку, соединенную боковыми стенами. Крытая бронзой, она опиралась на колонны, образуя ворота, которые во время мира были закрыты, а при объявлении войны отворялись. Но так как римляне постоянно с кем — нибудь воевали, двери храма почти всегда были отперты. При императорах храм закрывался лишь при Августе и вот теперь — при Нероне.
В лице Тиридата Нерон приобрел друга и союзника, а Тиридат в эксцентричном римском императоре нашел себе кумира и чуть ли не молился на него. В немалой степени этому способствовала щедрость Нерона, ведь каждый день пребывания восточного сатрапа в Италии обходился римской казне в восемьсот тысяч сестерциев. В день отъезда император подарил ему сто миллионов и большое число квалифицированных строителей для реконструкции второй столицы Армении Артаксаты, которую Тиридат решил переименовать в честь своего римского друга в Неронию. Энтузиазм армянского царя заставил задуматься и Нерона, не дать ли и Риму новое название Нерополь.
Во время пребывания Тиридата в Италии римский император имел с ним продолжительные беседы. Гость познакомил его с культом древнеиранского бога солнца Митры и посвященными ему ритуалами. Нерон в свою очередь рассказал о своих смелых проектах экспедиций за Каспийское море и в Эфиопию. Но главным образом ввел армянского царя в сладкую римскую жизнь, которая открылась ему во всем своем великолепии настолько, что он, отказавшись от своих строгих религиозных запретов, вернулся в Армению морским путем.
Обряд посвящения Митре, открытый Тиридатом Нерону, лег в основу домысла о чудовищном сексуальном извращении принцепса. Если верить Светонию, Нерон, облеченный в звериную шкуру, выскакивал из клетки, набрасывался на привязанных к столбам голых мужчин и женщин и насыщал свою похоть. Толкование Светония — скорее всего плод писательского воображения или результат непонимания истины, а возможно, сознательного искажения ее. Гораздо правдоподобнее, что Нерон в этой сцене демонстрировал ритуал посвящения в митраический ранг "Льва". Человек увлекающийся, экзальтированный, актер по самой своей сути, он, видимо, захотел разыграть перед своими друзьями один из обрядов митраизма, и этот в общем — то безобидный спектакль впоследствии был истолкован в высшей степени превратно и оскорбительно для него.
Следует сказать, что Нерон проявлял живое любопытство ко всем религиям, особенно пришедшим в Рим с Востока. Интересовался он и христианством, но не нашел в нем ничего привлекательного для себя. В учении христиан слишком много было аскетизма, презрения к человеческим радостям, страдальческого самолюбования, бессмысленного мученичества за веру. Нерон же страстно любил жизнь, его артистическая душа жаждала красоты и гармонии, царящих в мире традиционных греческих богов.
Знаком он был и с религией иудеев, большой почитательницей которых была Поппея. Увлеченная иудаизмом, императрица встречалась даже с великим жрецом Иерусалима. Еврейский актер Алитир представил ей писателя — историка Иосифа Флавия, который добился у нее освобождения нескольких раввинов, заключенных римлянами в тюрьму. В одной из своих книг еврейский историк отозвался о Поппее с большой похвалой, назвав ее благочестивой. Благодаря жене Нерон смог сделать различие между иудеями и христианами, которые тогда часто смешивались.
В то время принцепс был захвачен новым суеверием, истово почитая маленькую статуэтку, изображавшую девушку. Эту фигурку, как охрану от всех козней, ему подарил какой — то плебей незадолго до раскрытия заговора Пизона. Поэтому Нерон уверовал в то, что она наделена чудесной силой и аккуратно трижды в день приносил ей жертвы.
— Фигурка этой девушки открывает мне будущее, — уверял он многочисленных скептиков.
Полагая, что императору надо иметь супругу, Нерон после соответствующего траура по умершей Поппее принял решение вновь вступить в брак. В этот раз он обратил свой взор на Антонию, единственную из детей Клавдия оставшуюся в живых. Выбор был не случаен. Этот династический брак укрепил бы его положение. Однако свояченица, помня об участи Октавии и печальной судьбе своего мужа Фавста Суллы, казненного по приказу Нерона, выйти за него замуж отказалась. Но это ее не спасло. Последовало обвинение в подготовке государственного переворота и смертный приговор.
Поиски супруги завершились в начале 66 года, когда Нерон вступил в брак со своей любовницей Статилией Мессалиной, у которой незадолго до этого был казнен муж. Но на эти мелочи Статилия внимания не обращала, уже четвертый муж кончал у нее таким образом. Она была богата, красива, образованна и не видела причин для отказа императору.
Кроме этого брака, Нерон отпраздновал еще один — с юношей — гомосексуалистом Спором. Нерон влюбился в него с первого взгляда, потому что и лицом, и фигурой Спор напоминал покойную Поппею. Чтобы сделать юношу еще больше похожим на умершую жену, Нерон предложил ему подвергнуться операции по изменению пола и, когда тот согласился, ему были удалены половые железы. Как многие римляне, Нерон был бисексуалом, в то время это никого не удивляло, поскольку любовные отношения между людьми одного пола зазорными не считались.
На Споре Нерон женился в торжественной обстановке. Как полагается, были на этой свадьбе и приданое, и свадебные факелы, и красное покрывало невесты и нежные поцелуи. По всей видимости, юноша был очень привлекателен. Впоследствии он достался префекту претория Нимфидию Сабину, заменившему на этом посту казненного Фения Руфа, а затем императору Отону, участнику юношеских забав Нерона.
Мессалина ничего не имела против этого брака, более того, вскоре она и Спор стали хорошими "подругами".
В Риме новое супружество принцепса незамеченным не осталось, тут же появилась острота какого — то шутника: счастливы были бы люди, будь у Неронова отца такая жена!
Глава двадцать вторая. Осуществление мечты
В августе 66 года по Аппиевой дороге двигалась весьма странная процессия. Шли сотни мужчин в театральных масках с музыкальными инструментами в руках, при этом они пели, танцевали, декламировали. Среди музыкантов и певцов, парикмахеров и костюмеров шествовали также рабы и солдаты императорской гвардии. В середине этой процессии на огромной сверкающей золотом колеснице ехал сам император, отправившийся в свое первое и последнее заморское путешествие.
Путь Нерона лежал в Грецию, страну его юношеских грез. Принцепса сопровождали Статилия Мессалина, Спор, верный Тигеллин, историк Клувий Руф, полководец Веспасиан; личный секретарь Эпафродит, придворный казначей вольноотпущенник Феб и многочисленная челядь.
Мысль отправиться в Грецию вызревала у Нерона давно. Напуганный заговором Пизона, он хотел лишь одного — скрыться от политических интриг, судебных процессов и нескончаемых казней, больше года сотрясавших империю, и, как можно дольше, не возвращаться в ставшую ему ненавистной столицу. Для него Рим уже не был, как прежде, городом муз и искусства и напоминал скорее кипящий котел, в котором смешались люди, самые не сходные по своему происхождению, социальному положению, политическим и религиозным убеждениям. Вся эта взрывоопасная человеческая масса, далекая от подлинного искусства, жаждала только кровавых зрелищ. Это был мир, глубоко чуждый Нерону.
Толчком к поездке послужило прибытие в Рим делегации представителей греческих городов, доставивших в дар римскому императору венки кифаредов. Нерон пригласил посланцев на банкет, во время которого греки выразили желание послушать пение императора. Нерон охотно показал им свое искусство. Гости шумными рукоплесканиями выразили свое одобрение.
— Как жаль, император, что лишь немногие из наших соотечественников имеют счастливую возможность насладиться твоим голосом, — посетовал кто — то из них.
От такой похвалы принцепс пришел в восторг: — Только греки умеют слушать, — воскликнул он. — Только они достойны моего искусства.
Теперь он твердо вознамерился отправиться в турне по греческим городам и доказать, что венки преподнесены ему по заслугам. Нерон никогда не забывал слова поэта Горация о том, что "Греция, взятая в плен, победителей диких пленила, в Лаций суровый внеся искусства". Он уже давно мечтал покорить Элладу, но не с мечом, а с кифарой в руках.
Возложив управление Римом на вольноотпущенника Гелия, единственного в Италии человека, которому он полностью доверял, Нерон выехал в Брундизий, чтобы оттуда морем переправиться в Грецию. По пути он чудом избежал покушения в Беневенте, где его поджидали заговорщики, возглавляемые Аннием Виницием, зятем прославленного полководца Корбулона. Путешествие было продолжено, лишь после того как злоумышленников казнили.
Дебют принцепса в Греции состоялся в день его прибытия на остров Коркиру. Здесь в городе Кассиопе Нерон выступил перед алтарем в храме, посвященном Зевсу Кассию. Он исполнил гимн, которым благодарил отца богов и людей за воплощение в жизнь самой сокровенной мечты своей юности. Вступив на греческую землю, Нерон испытал такой небывалый эмоциональный подъем, что в память об этом событии попросил выбить монету с изображением корабля, доставившего его на землю древних эллинов.
2 сентября, в годовщину битвы при Акции, в которой Август разбил войска Антония и Клеопатры, Нерон выступил в городе Никополе, основанном Августом на западном побережье Греции. Наконец — то он достиг того, о чем мечтал всю свою сознательную жизнь: он мог посвятить себя музам, не отвлекаясь ни на что другое. Никогда еще он не был так счастлив и чувствовал себя как рыба в воде. Самозабвенно отдаваясь искусству, он старался не вспоминать о своих императорских обязанностях.
Однако Гелий оказался не на высоте и возлагаемых на него надежд не оправдывал. В своих посланиях он умолял принцепса вернуться, доказывая, что политическая ситуация требует его личного присутствия в Риме. Рассерженный тревожными депешами Гелия, Нерон раздраженно ответил: "Ты настойчиво советуешь мне поспешить с возвращением, а между тем тебе следовало бы скорее желать, чтобы я вернулся достойным имени Нерона".
Ни о каких делах Нерон слушать не хотел. Достаточно было того, что за событиями в империи внимательно следил Тигеллин. Проведав о каких — то интригах Корбулона, Тигеллин вызвал его в Грецию. До этого у Нерона состоялась тайная встреча с Аррием Варом, занимавшим высокое положение в штабе полководца. В беседе с Варом Нерон с большой похвалой отозвался о Корбулоне, но доносчик умерил его пыл, свидетельствуя против своего командира и всячески черня его в глазах принцепса. Вскоре Тигеллин получил от своих агентов доказательства участия Корбулона в заговоре против принцепса.
По прибытии гонца с повелением императора прибыть в Грецию Корбулон тотчас пустился в путь, но по дороге из Аргоса в Тегею до него дошел слух, что Нерон желает его смерти. Оповестить об этом полководца постарался не кто иной, как Тигеллин.
Узнав о намерениях принцепса, доблестный военачальник не стал испытывать судьбу и бросился на меч, воскликнув: "Поделом мне!" Неясно, что он хотел сказать этими словами, унеся их тайну с собой в могилу.
Нерон тем временем усердно готовился к Олимпийским играм, в которые специально для римского императора организаторы ввели музыкальные состязания. Нерон выступил сначала с пением, причем сам аккомпанировал себе на лире, потом — как трагический актер. В обоих видах он завоевал лавровый венок победителя.
Несколько дней спустя принцепс принял участие в скачках на четырехконной упряжке. В другой раз он появился на беговой дорожке на колеснице, запряженной десятью лошадями. Но здесь его постигла неудача. Он был сброшен с колесницы на арену и не смог довести скачки до конца. Тем не менее судьи объявили его победителем. Нерон отблагодарил их двумястами пятьюдесятью тысячами драхм. Впоследствии Гальба, его преемник на римском троне, потребовал от греков вернуть деньги в императорскую казну.
Свое искусство певца Нерон пожелал показать и на Пифийских играх. Он очень волновался, ведь победу оспаривали самые знаменитые певцы Греции. Со своими соперниками Нерон был предельно вежлив и любезен. Наиболее искусных из них он старался подкупить. Видимо, он знал свои пределы и не очень — то обольщался на свой счет. Перед некоторыми конкурентами он даже заискивал, старался выведать об их недостатках, чтобы потом воспользоваться ими.
Перед выступлением он смиренно обратился к судьям:
— Я сделал все, что было в моих силах, но исход есть дело случая. Вы, люди мудрые и сведущие в искусстве, должны не принимать во внимание всякие случайности.
Судьи просили его мужаться. Но он все равно трепетал. Ему казалось, что одни из них слишком сдержанны и молчаливы, а другие недоброжелательны и даже враждебны.
Когда подошла его очередь выступать, он появился на сцене с группой аккомпаниаторов, получивших подробнейшие инструкции. Он очень старался, пел во весь голос и произвел хорошее впечатление. От напряжения его лоб покрылся обильным потом, и Нерон, так как пользоваться платком во время выступления не дозволялось, вытирал его руками.
Зрители наградили императора — певца аплодисментами, ведь перед ними выступал не просто артист, а сам повелитель вселенной.
— Нерон — победитель! — провозгласил глашатай. — Слава римскому народу, имеющему такого императора!
И все зрители подхватили:
— Слава римскому народу!
Не обходилось и без досадных происшествий. Как — то раз, представляя сцену из трагедии, Нерон, сильно нервничая, выронил из вспотевшей руки скипетр и хотя тут же быстро подхватил его, пребывал в страхе, что будет дисквалифицирован и исключен из состязаний, пока стоявший рядом второй актер не уверил его, что эта оплошность осталась никем не замеченной.
Широкую огласку получило поведение Веспасиана, который во время выступлений принцепса нередко покидал свое место или держал глаза полузакрытыми, словно спал. Ему было предложено покинуть свиту Нерона. Веспасиан вернулся в Италию и там получил назначение возглавить римское войско в Иудее, где началось крупное восстание.
Однако ничто не могло омрачить праздника Нерона. Беспредельное счастье владело им. Осуществилась мечта его юности: он вышел победителем на всех играх: Олимпийских — в Олимпии, Пифийских — в Дельфах, Истмийских — в Коринфе, Немейских — в Немее. Чтобы доставить Нерону удовольствие, греки, нарушив традицию, провели в одном году все общегреческие состязания, а в Олимпийские и Немейские игры, отведенные лишь для атлетов и всадников, ввели не предусмотренные в них музыкальные соревнования.
В Греции Нерон гастролировал больше года, но никогда не выступал в Афинах и Спарте. Видимо, он боялся взыскательного суда афинских зрителей. Ему были хорошо известны проницательность и едкая ироничность афинян, и он решил не рисковать. Спартанцы же, славившиеся своим полным безразличием к мусическим искусствам, к певческому таланту римского императора интереса не проявляли.
Гастрольное турне Нерона завершилось его выступлением на Истмийских играх в Коринфе, где в конце ноября собрались представители всех греческих городов. 28 ноября 67 года Нерон вышел на середину стадиона и звонким голосом объявил, что всей провинции Ахайе он дарует свободу, а своим судьям — значительные денежные награды. Его речь звучала следующим образом:
— Жители Греции, даже вы, знающие мое великодушие и щедрость, не ожидаете дара, который я вам сегодня жалую. Вы даже не дерзали мечтать о таком великолепном даре. Все греки, населяющие провинцию Ахайю и землю, которая до сих пор называется Пелопоннесом, с сегодняшнего дня освобождаются от всех налогов. Я полагаю, что все вы очень счастливы, как никогда за всю вашу историю. Долгое время вы были рабами, и чрезвычайно прискорбно, что я не выразил вам своего расположения раньше. Тогда еще больше людей смогло бы насладиться этой радостью. Не будем сейчас вспоминать эти несчастливые времена, дабы не омрачать сегодняшний праздник. Знайте же, что не сострадание, а любовь побуждают меня совершить этот благородный жест. Есть города, которые добились свободы еще раньше от других правителей, но я, Нерон, единственный, кто дарит свободу целой провинции.
Текст речи Нерона выбили на каменных плитах, установив их по всей провинции и выставив среди памятных святынь в священных местах.
В римской империи имелись различные города с автономным управлением, но дарование свободы целой провинции было фактом сенсационным, ведь это было более чем простым проявлением симпатии, это означало прекращение налоговых платежей и, следовательно, уменьшение государственных поступлений.
Своим актом Нерон нанес очередное оскорбление римскому сенату. Ахайя считалась сенатской провинцией, а не императорской. В качестве компенсации вместо Ахайи Нерон предложил сенаторам Сардинию, которая в те времена была безлюдной землей, используемой как место изгнания для преступников.
За год пребывания в Греции Нерон совершенно забыл о своей столице, своем народе и своих императорских обязанностях. А между тем из Рима продолжали приходить депеши Гелия, которые день ото дня становились все более отчаянными. Гелий заклинал принцепса вернуться на родину, а тот в это время был захвачен новой идеей — прорыть Коринфский перешеек и проложить судоходный канал. Египетские инженеры подготовили проект. Веспасиан прислал из Иудеи шесть тысяч пленных евреев.
В торжественный день начала работ под звуки труб Нерон в роскошном одеянии вышел из своей палатки. Перед огромной толпой он произнес речь, которая заканчивалась словами:
— Пусть это предприятие завершится счастливо для меня и римского народа!
Не упомянув о сенате, император нарушил издавна заведенный этикет. Известие об этом моментально донеслось до Рима. В "забывчивости" императора сенаторы увидели проявление враждебности.
Закончив речь, Нерон первым сделал удар золотой лопатой и, наполнив землей корзину, вынес ее на плечах. Гордый своей затеей, он уже подумывал о переименовании Пелопоннеса в Нероннес.
Глава двадцать третья. "Прокормимся ремеслишком!"
Прошло полтора года, как Нерон покинул Италию, но возвращаться на родину он не спешил, хотя в империи было неспокойно, в войсках шло брожение.
Из Рима Гелий слал одно послание тревожнее другого. Однако на все его призывы принцепс не реагировал. Вконец растерявшийся Гелий, пытаясь скрыть свое бессилие жестокостью, вызвал в столице массовое недовольство, обострив в ней и без того опасную ситуацию. В начале января 68 года он уже подумывал о том, чтобы самому отправиться в Грецию и лично уговорить императора вернуться в Рим.
Хотя власть мало привлекала Нерона, он понимал, что, утратив ее, он одновременно потеряет жизнь. Как — то астрологи предсказали ему, что он в конце концов будет низвергнут. Однако пророчество не смутило его.
— Ну что ж, — произнес он, не задумываясь, — прокормимся ремеслишком!
Но это было давно, когда еще ничто не угрожало его власти. Теперь ситуация полностью изменилась. Если он не хотел умереть тридцатилетним, он должен был оставаться императором. В Греции Нерон получил предостережение Дельфийского оракула, велевшего ему остерегаться семьдесят третьего года. Решив, что он умрет в возрасте 73 лет, Нерон возликовал и еще больше уверовал в свое исключительное счастье.
Вернуться в Италию ему все же пришлось. В начале марта он высадился в Брундизии, но до выяснения истинного положения дел в столице счел за лучшее задержаться в Неаполе, который по — прежнему очень любил. Для встречи императора неаполитанцы пробили в стене пролом, через который Нерон въехал в город как древний победитель на священных играх. Точно так же он вступил в Анций и Альбан.
В Рим Нерон въехал на колеснице, которая служила во время триумфов Августу. Ее влекли две белоснежные лошади. В пурпурном одеянии триумфатора, в расшитом золотыми звездами плаще император был великолепен. Его длинные, тщательно завитые волосы рядами спадали на шею. Голову украшал олимпийский венок. В правой руке он держал пальмовую ветвь победителя в Дельфах. Перед колесницей несли завоеванные в Греции венки. На специальных табличках было указано, где и за что они получены. Позади шли хлопальщики, которые распевали во весь голос:
— Мы слуги Августа, солдаты его триумфа!
Процессия была столь многолюдна, что для ее прохождения по Большому цирку пришлось снести арку. По всему пути следования закалывались жертвенные животные и разбрызгивался ароматический шафран. Простые люди подносили принцепсу свои бесхитростные дары: яркие ленты, певчих птиц, всякие сладости..
Завоеванные в состязаниях венки Нерон повесил в залах своего дворца. Те, которым не хватило места во дворце, была размещены в храме Аполлона на Палатине и прикреплены к Египетскому обелиску в Большом цирке. Всего венков оказалось тысяча восемьсот восемь. В ознаменование побед принцепса была выбита монета, на которой он был изображен в одежде кифареда.
После триумфальных гастролей в Греции Нерон чрезвычайно заботился о сохранении своего голоса. Даже к преторианцам он обращался теперь только через глашатая. При нем неотлучно находился врач, напоминавший о необходимости беречь горло и дышать через платок.
В столице, однако, Нерону не сиделось, и вскоре он вернулся в Неаполь, устроив там игры по случаю годовщины смерти матери. Здесь его известили о восстании в Галлии, где пропретор провинции, тридцатичетырехлетний Гай Юлий Виндекс взбунтовал войско. К известию о мятеже Нерон отнесся на удивление беспечно. Он отправился смотреть на состязания борцов и был так увлечен, что уселся прямо на арене и руками отталкивал пары, которые слишком отдалились от середины площадки.
Хотя донесения о мятежниках продолжали поступать, Нерон по — прежнему никак на них не реагировал. Он возмутился лишь на восьмой день, когда ему сообщили о том, что Виндекс в одном из воззваний назвал его не Нероном, а Агенобарбом и обозвал дрянным кифаредом.
— Это ложь, — говорил он повсюду дрожащим от обиды голосом. — Я достиг в искусстве совершенства. Всем известно, с каким упорством я оттачиваю свое мастерство.
Когда его пытались утешить, он, чуть не плача, вопрошал:
— Неужели вы знаете кифареда лучше, чем я? Пройдет немного времени, и я выступлю перед вами как танцовщик. Потерпите! Ждать осталось недолго. Я уже разучиваю балетную партию вергилиевского "Турна".
Его просили не расстраиваться и не обращать внимания на оскорбления Виндекса.
— А то, что он назвал меня Агенобарбом, — не успокаивался Нерон, — очень даже хорошо. Я вновь приму свое родовое имя и откажусь от того, которое принял по усыновлению. Я это сделаю, чтобы впредь меня никто больше не попрекал.
В Рим он все же вернулся, но в сенате не появился, ограничившись письменным посланием, в котором извинялся перед сенаторами, что не может прийти лично и выступить с речью. "Все дело в том, — писал он, — что врач запретил мне напрягать горло. Но я прошу вас потребовать от Виндекса удовлетворения за оскорбление, нанесенное вашему императору и Римскому государству".
В тот же день он созвал во дворце самых влиятельных членов сената, но о политических делах совещался с ними недолго, лишь вкратце коснувшись мятежа. Весь остаток дня он демонстрировал им новый водяной орган неизвестной еще конструкции. Увлеченно объяснял его устройство и действие.
— Я обещаю вам показать, как он звучит в театре. Если, конечно, Виндексу будет угодно, — пошутил он напоследок.
Нельзя сказать, что Нeрон полностью бездействовал. Он сместил обоих консулов, взяв на себя их функции; против Виндекса послал наместника Верхней Германии Вергиния Руфа, который с тремя легионами тотчас устремился на мятежника. За этими делами принцепса застало сообщение о том, что в Испании ему изменил Гальба, управляющий этой провинцией в течение восьми лет. При известии о новом мятеже Нерон лишился чувств.
— Все кончено! — вскричал он, придя в себя. Только теперь он понял смысл предсказания, данного ему Дельфийским оракулом: Гальбе было семьдесят три года.
Старой кормилице, пытавшейся его успокоить, он сказал:
— Я знаю, что такое случалось и с другими правителями. Но моя судьба — небывалая: я теряю императорскую власть при жизни.
Тут — то он и вспомнил о браслете с вправленной в него змеиной кожей, который ему подарила в детстве мать. Он всюду искал его, но безрезультатно.
Тем временем пришло новое сообщение: в Лузитании восстал Отон.
Нерон топил тревогу в вине. Уходя однажды с пира, он, с трудом стоя на ногах, сказал поддерживающим его под руки приятелям:
— Я немедленно отправлюсь в Галлию и безоружный предстану там перед мятежным войском. Я ничего не сделаю и не скажу. Я только заплачу и слезами склоню бунтовщиков к раскаянию. А на следующий день я, счастливый среди счастливых, буду петь победный гимн. Нужно только, не откладывая, сочинить его.
Утром он начал деятельно готовиться к походу. Однако в Галлию так и не поехал, потому что прибыло сообщение о том, что войско Виндекса разбито, и сам он покончил жизнь самоубийством. По случаю хорошей вести Нерон устроил роскошный пир, на котором пропел сложенные им игривые песенки про Виндекса, Гальбу и Отона. Эти насмешливые стишки были тотчас подхвачены и разнесены по всему Риму.
Однако общее положение все же оставалось напряженным. Сенат и народ внимательно следили за развитием событий, не принимая пока ничью сторону.
А Нерона все чаще устрашали зловещие сновидения. Ему снилось, что Октавия тащит его в черный мрак, или что тучи крылатых муравьев облепляют его со всех сторон. А однажды ему приснилось, что его любимый испанский иноходец превратился в обезьяну, сохранив лошадиной лишь голову. Но самым ужасным было то, что эта обезьяно — лошадь издавала громкое ржание.
Чувствуя, что его власти приходит конец, Нерон объявил воинский набор, но на его призыв никто не явился. Он попросил денег на войну, но и в этом получил отказ.
8 июня 68 года он в глубокой задумчивости возлежал за обеденным столом. Его раздумья были прерваны слугой, передавшим ему срочную депешу. Сломав печать, Нерон с нетерпением развернул послание. В нем говорилось, что мятеж охватил остальные войска. С искаженным от ярости лицом он изорвал донесение, опрокинул стол и разбил оземь два хрустальных кубка. Однако быстро взял себя в руки и, прервав обед, тайно отправился к своей старой знакомой, отравительнице Локусте. В этот раз он попросил снадобье для себя. Приготовленный по его просьбе яд Нерон спрятал в золотом ларчике.
Затем он послал нескольких вольноотпущенников в Остию снаряжать корабли для бегства. Но когда он попросил преторианских трибунов и центурионов сопровождать его, те под разными предлогами уклонились, а один из них процитировал стих Вергилия: "Так ли уж горестна смерть?" Не зная, что предпринять, Нерон отложил решение на следующий день.
Среди ночи он внезапно проснулся от непривычного ощущения. В Золотом Доме царила мертвая тишина. Принцепса охватил страх. Выйдя из спальни, он увидел, что телохранители покинули его. Все двери были заперты. Он пытался стучать и кричать, но на его призывы никто не отвечал. Тогда он спешно вернулся в свою опочивальню. Но и там уже никого не было. Последние слуги разбежались, унося с собой даже простыни. Бросившись к столику, он с ужасом увидел, что ларчик с ядом похищен.
Он снова выбежал из спальни, надеясь найти гладиатора Спикула или кого — нибудь другого, чтобы от его руки принять смерть. Все напрасно. В огромном дворце не было ни души. Нерон с горечью усмехнулся.
— Нет ни друга, ни недруга, чтобы прикончить меня.
Глава двадцать четвертая. "Какой артист погибает!"
Он вновь заметался по дворцу, выбежал наружу и уже готов был устремиться к Тибру, чтобы в его водах найти себе смерть, когда неожиданно для себя столкнулся с вольноотпущенником Фаоном. Вид принцепса был достаточно красноречив, и Фаон, ни о чем не спрашивая, предложил ему укрыться на его вилле в нескольких километрах от города.
— Тебе надо успокоиться и собраться с мыслями, — сказал он Нерону.
Тот с благодарностью принял его предложение и, как был, босой, в одной тунике, лишь накинув на себя темный плащ и закутав голову и лицо платком, вскочил на коня. При выезде из Рима к ним присоединились Эпафродит и Спор. Вскоре Номентанскую дорогу огласил топот четырех коней, стремительно мчащихся к северо — востоку от столицы. Над всадниками нависали низкие тучи. Черное небо прорезали ослепительные вспышки молний. Казалось, сотрясается сама земля. Нерона била мелкая дрожь. Проезжая мимо лагеря, он услышал, как солдаты проклинают его и чествуют Гальбу.
Какой — то прохожий, завидев бешено скачущих всадников, сказал другому:
— Они гонятся за Нероном.
Услышав эти слова, император подстегнул коня. Конь рванулся вперед и тут же шарахнулся в сторону от валявшегося на дороге трупа. От этого движения платок, закрывавший лицо принцепса, свалился. В тот же миг сверкнула молния, и при ее свете один из встречных путников узнал Нерона. Это оказался какой — то отставной преторианец. Увидев перед собой императора, он отдал ему честь.
Доскакав до тропы, ведущей к дому Фаона, Нерон и его спутники отпустили коней, чтобы они не выдали их своим ржанием.
— Мы должны подобраться к дому незаметно с задней стороны, — сказал предусмотрительный Фаон. — Не исключено, что вход уже под наблюдением.
И четверо людей поползли через кусты и колючий терновник. Внезапно Нерон громко вскрикнул. Он поранил босые ноги. Сдернув с себя плащи и подстилая их под ноги императору, спутники помогли ему выбраться к задней стене виллы. Чтобы попасть к дому, надо было прорыть подкоп под стеной.
Я советую тебе спрятаться пока вон в той яме, — сказал Фаон, показывая Нерону рукой на глубокую черную впадину, откуда брали песок для строительных нужд.
— Живым под землю не пойду! — выдохнул Нерон.
Ожидая, когда сделают подкоп, он смотрел на свои израненные ноги, и по его лицу текли слезы.
Ему мучительно хотелось пить. Воды взять было неоткуда, и он с отвращением утолил жажду из какой — то грязной лужи.
— Вот напиток Нерона! — страдальчески прошептал он.
Разостлав на коленях изодранный о терновник плащ, он обирал с него колючки, когда ему сообщили о том, что подкоп готов. Согнувшись, он пролез на четвереньках по узкому лазу и, добравшись до первой каморки, рухнул на постель. Он был настолько измучен, что ничего не мог есть, и от предложенного ему хлеба решительно отказался, попросив лишь немного теплой воды. Даже находясь в смертельной опасности, он продолжал заботиться о своем горле.
И Фаон, и Эпафродит умоляли его принять добровольную смерть, как единственное средство избежать позора. Сломленный духом, Нерон согласился с их доводами и, поминутно всхлипывая и повторяя: "Какой артист во мне погибает!" — начал отдавать приказания. Прежде всего он велел снять с себя мерку и по ней вырыть ему могилу. Затем он попросил собрать куски мрамора и обложить ими яму. Наконец, попросил принести воды, чтобы омыть труп, и приготовить дрова для погребального костра.
— Умоляю вас, сделайте все возможное, чтобы моя голова никому не досталась и мое тело было сожжено целиком. Во что бы то ни стало, сделайте так! — непрестанно просил он своих спутников.
Уже светало, когда на вилле появился гонец с письмом для Фаона.
— Дай его мне! — вскричал Нерон и выхватил у него послание.
Это было письмо, в котором сенат объявлял Нерона вне закона и сообщал о том, что преступник будет наказан по обычаю предков.
— Что это за наказание? — спросил император.
— Осужденного раздевают донага, голову зажимают колодкой и до смерти забивают палками, — пояснил Эпафродит.
От ужаса у Нерона пресеклось дыхание. Схватив кинжал, он попробовал его острие, затем взял другой кинжал и, вздохнув, оба спрятал под одежду.
— Еще не настал час, назначенный судьбой, — сказал он, заметив немой вопрос в глазах Фаона, и попросил Спора начать погребальные причитания.
Но когда тот начал вопить, как это делают наемные плакальщицы, он прервал его:
— Лучше бы ты помог мне встретить смерть собственным примером.
Спор затрясся от страха.
— Так действовать гнусно, позорно и недостойно Нерона, — причитал принцепс. — Да, недостойно, подло и низко! Нельзя терять хладнокровия в такую минуту. Мужайся! — уговаривал он себя. — Встряхнись же, наконец!
Снаружи донесся стук копыт. Это приближались всадники, которым было поручено взять императора живым.
Медлить было нельзя. Нерон прекрасно понял, что означает этот цокот, и, уже не колеблясь, вонзил себе в горло кинжал. Но клинок вошел неглубоко, и Эпафродит сильным ударом руки вогнал кинжал по рукоять.
В следующий момент в дом ворвались солдаты. Император лежал на полу. Из его горла с торчащим в нем кинжалом со свистом вырывалась алая струя. Все оцепенели, вслушиваясь в этот страшный звук. Первым опомнился центурион. Он бросился к поверженному Нерону, вырвал из его горла кинжал и зажал рану плащом.
— Слишком поздно! — прохрипел Нерон.
С трудом открыв глаза, он обвел мутным взором столпившихся вокруг него людей и, испуская дух, с усилием промолвил:
— Вот она, верность!
С ужасом взирали присутствующие на искаженное болью лицо императора, на его выкатившиеся из орбит глаза и искривленные предсмертной судорогой губы.
Просьба Нерона была исполнена. Его тело, завернутое в белые, шитые золотом ткани, сожгли целиком. Останки собрали и похоронили его старые няньки Эклога и Александрия и вольноотпущенница Акте, не перестававшая любить Нерона и после его смерти. Прах императора поместили в родовой усыпальнице Домициев на Садовом холме. Саркофаг был сделан из пурпурного мрамора, алтарь над ним — из белого этрусского, ограда вокруг — из фасосского.
"Еще долго, — пишет Светоний, — украшали его гробницу весенними и летними цветами и выставляли на ростральных трибунах то его статуи в консульской тоге, то эдикты, в которых говорилось, что он жив и скоро вернется на страх своим врагам. Даже парфянский царь Вологез, отправляя в сенат послов для возобновления союза, с особой настойчивостью просил, чтобы память Нерона оставалась в почете".
Послесловие. Миф о Нероне
В трагедии "Юлий Цезарь" Шекспир в уста Марка Антония вкладывает следующие слова: "Зло, которое совершают люди, переживает их; добро часто погребается с их костями". Так было не только в отношении Юлия Цезаря. Это — участь общая почти для всех римских императоров, память о которых связана по большей части с их исключительной жестокостью, человеконенавистничеством, развращенностью, изредка с какой — нибудь странностью.
В ряду императоров, которые в трудах историков обезличены своей кровожадностью настолько, что теперь все они представляются нам на одно лицо, зловещей яркостью, жизненностью и полнокровностью изображения выделяется Нерон. И это при всем том, что античные историки в обрисовке тиранов старательно избегали каких — либо полутонов. "Деяния Тиберия и Гая, а также Клавдия и Нерона, — пишет Тацит, — пока они были всесильны, из страха перед ними были излагаемы лживо, а когда их не стало — под воздействием оставленной ими по себе еще свежей ненависти".
Сейчас можно лишь догадываться, каким неординарным человеком был Нерон в действительности. В самом деле, ставший в веках символом беспредельного злодейства, он не укладывается в привычные схемы трафаретного злодея. Ведь в нашем сознании Нерон не просто злодей, он — изверг, которому нет равных во всей истории человечества.
Он — тот, кто в сочинениях христианских авторов наделен особой демонической силой Зла. Он и есть само Зло, в мощи не уступающий самому Иисусу. Не случайно и тот и другой имеют общий титул Пантократора, то есть повелителя вселенной.
Основные источники, повествующие о принципате Нерона, которыми мы сейчас располагаем, это сочинения Тацита, Светония и Диона Кассия. Корнелий Тацит, консул 97 года и проконсул Азии в 112 году, создавал свои "Анналы" (русский перевод А. С. Бобовича) в конце двадцатых — начале тридцатых годов второго столетия. Дошедшие до нас книги содержат рассказ от времени восшествия Нерона на престол до 66 года. Таким образом, повествование прервано на событиях, происходивших за два года до смерти принцепса.
Гай Светоний Транквилл родился около 70 года в семье всадника, служил в императорской администрации и достиг должности секретаря императора Адриана. Вынужденный в 121 году оставить государственную службу, он посвятил свой досуг созданию "Жизнеописания двенадцати цезарей" (русский перевод М. Л. Гаспарова).
Дион Кассий Кокцеян, консул 222 года, написал на греческом языке "Римскую историю". Книги, охватывающие время правления Нерона, сохранились в виде извлечений, сделанных в византийскую эпоху. Дион часто обращается к "биографиям" Светония. Его описание преступлений и безумств Нерона имеет своей целью поразить воображение читателя. Как и Светоний, он часто выдает слухи и сплетни за реально случившееся.
В отличие от Светония, Тацит — историк серьезный. Его интересуют политические и экономические причины описываемых им событий. Он редко пересказывает сплетни и домыслы, хотя и потрясающие воображение, но доверия не заслуживающие. Сам Тацит говорит, что в "Анналах" он следует историкам, свидетелям событий, Плинию Старшему, Клувию Руфу и Фабию Рустику, книги которых были в его руках. Эти произведения сейчас утрачены.
В свою очередь, труд Светония изобилует ценнейшими подробностями, которые ему были известны благодаря доступу к императорским архивам. Но нередко этим чрезвычайно интересным частностям он дает ошибочное или намеренно искаженное толкование. Вот как, к примеру, комментируется им широко известная страсть Нерона к лошадиным скачкам. "Уже став императором, — пишет историк, — он продолжал играть на доске маленькими колесницами из слоновой кости". Этот смешной инфантилизм Нерона приобретает совершенно иной смысл, если допустить, что принцепс увлекался какой — то разновидностью шахмат, ведь его всегда тянуло к восточной экзотике. Тогда можно было бы пересмотреть и историю самих шахмат, и их предшественницы — индийской чатуранги.
Кроме трудов историков, мы располагаем немалым числом литературных произведений, созданных в эпоху Нерона. Они дают нам полезную информацию о различных сторонах социальной и духовной жизни римлян второй трети первого столетия. Наиболее важными из них являются сочинения Сенеки, такие как трактат "О милосердии", отразивший политические события того времени, или книга "О счастливой жизни" (русский перевод С. Янушевского), демонстрирующая возрастающее влияние в Риме стоической философии. До нас дошли сочинения Персия, Лукана, Петрония и других авторов, благодаря которым мы можем создать довольно полную картину нероновской эпохи.
У Тацита, Светония и Диона Кассия преображение Нерона в кровожадное чудовище и тирана происходит сразу после смерти матери. Отныне жестокость и варварское злодейство самым причудливым образом совмещаются в нем с неистребимой тягой к прекрасному, любовью к поэзии, пению, рисованию, желанием помочь актерам и литераторам. В "Апокалипсисе", написанном Св. Иоанном на острове Патмосе в последние десятилетия I века, римский император — это воплощение самого Дьявола, магическое число которого — "666" — является суммой цифр, соответствующих буквам еврейского алфавита, которые составляют слова "Нерон. Цезарь".
В легендах, безуспешно отвергаемых Отцами Церкви, Нерон после своей смерти унесен дьяволом, более того, он вообще не умирал и унесен живым, чтобы вернуться на землю в облике Антихриста. Это представление было настолько живучим, что около 1100 года в Риме на Монте Пинчо была разрушена предполагаемая гробница Нерона. Жертвой суеверия стали также старый тополь и сороки, которые строили на нем гнезда. Папа Паскуале II приказал снести гробницу и уничтожить дерево и птиц, поскольку ходили упорные слухи о дьявольской реинкарнации Нерона. Теперь на этом месте воздвигнута часовня Санта Мария дель Пополо.
Слывущий самым кровавым из римских цезарей, Нерон, в действительности, был ничуть не хуже многих других императоров, а в чем — то даже лучше их. Римские историки больше, чем злодеяниями Нерона, были возмущены тем, что он выступал перед публикой как певец, актер и наездник, тем самым роняя, по их мнению, достоинство римского императора. Увлеченностью поэзией и греческим искусством Нерон превосходил всех своих предшественников на римском троне. Не лишенный способностей к рисованию, чеканной работе, ваянию, поэзии, пению, Нерон был покровителем людей искусства. По всему миру он рассылал своих агентов с поручением приобретать для него лучшие произведения живописи и скульптуры.
О художественном вкусе самого Нерона можно судить хотя бы по монетной эмиссии того времени. Никогда прежде не чеканились в Риме монеты, столь безупречные по своему исполнению. Они отличались совершенством рисунка и тщательностью чеканки. Особого внимания заслуживает серия портретов императора, выполненных с исключительным реализмом. На монетах Нерон изображен всегда с обнаженной головой, причем нигде не заметно стремления идеализировать его внешность. Хотя мы и не знаем этого с точностью, но на определенном этапе изготовления монетного штемпеля, то есть когда требовалось авторитетное мнение человека, имеющего ясное представление по данному вопросу, Нерон, надо полагать, вмешивался лично, отвергая или одобряя предложенный ему вариант.
Впрочем, в глазах римлян такая осведомленность являлась вовсе не обязательной для главы государства. Они предпочитали видеть на троне императора — солдата, а не искусствоведа и актера. При Нероне — редчайший случай в римской империи! — на какое — то время были закрыты двери храма Януса в знак того, что во всей империи прекратились войны и воцарился мир. Но для римского имперского сознания император — актер вместо привычного императора — солдата был явлением, выходящим из ряда традиционных представлений, и потому абсолютно неприемлем.
О разносторонности интересов Нерона говорит то, что он финансировал научную экспедицию к истокам Нила и планировал другую — в Индию и страны Востока. В его планы входило прорыть Коринфский перешеек: в XIX веке этот проект был осуществлен. Известно о его увлечении восточными мистериями и религиями, особенно митраизмом. Проявлял он любопытство и к христианской религии и вполне мог встречаться с Апостолом Павлом, который в своем "Послании к Римлянам", написанном около 60 года, ничего плохого о его правлении не говорит. Но об этом вспоминать не принято, как и о том, что первое пятилетие правления Нерона всеми признано как счастливейшее в истории Рима.
Когда император умер, многие оплакивали его, даже Светоний вынужден признать это. Каким бы тираном ни изображали Нерона историки, нельзя отмахнуться от того факта, что спустя некоторое время после его смерти о нем стали вспоминать с сожалением. Долгое время на его могиле не переводились свежие цветы и в разных местах выставлялись его изображения. В 69 году император Отон, пытаясь заслужить популярность у римского народа, объявил о своем намерении следовать примеру Нерона и среди прочего собирался жениться на его вдове, Стацилии Мессалине. Вслед за Отоном поклонником и подражателем Нерона выставлял себя император Вителлий. Он заявлял, что, по его мнению, Нерон показал пример хорошего управления государством. Желая завоевать доверие римлян, Вителлий постоянно подчеркивал свои прочные связи с Нероном.
Память о Нероне всегда оставалась живой на Востоке, в Парфии, Армении, Греции. Для греков Нерон — освободитель Ахайи, первый император — филэллин.
Темные обстоятельства смерти Нерона стали причиной различных слухов, и на Востоке распространилась молва, что он жив. Дион Хризостом, писавший при императоре Траяне, свидетельствует: "По сей день все надеются, что он еще жив. В самом деле, многие полагают, что он не умер". "Когда я был подростком, — подтверждает Светоний, — явился человек неведомого звания, выдававший себя за Нерона, и имя его имело такой успех у парфян, что они деятельно его поддерживали и лишь с трудом согласились выдать". О каком — то человеке, невероятно похожем на Нерона и так же, как он, увлекавшемся пением и игрой на кифаре, рассказывает Тацит. Он водворился на острове Китносе в январе 69 года или, может быть, в декабре 68 года. Прибывший на Китнос в сопровождении двух галер Мизенского флота Кальпурний Аспренат, назначенный Гальбой наместником Галатии и Вифинии, захватил этого Нерона и велел убить. Отрезанная голова была отправлена в Рим. Трогательная история о каком — то человеке, выдававшем себя за Нерона, содержится в Талмуде. Он прибыл в Палестину, женился там на еврейской девушке и в окружении целой ватаги детишек жил в Иерусалиме, упражняясь в пении и игре на музыкальных инструментах.
Спору нет, за свою тридцатилетнюю жизнь Нерон совершил немало зла. Однако не следует приписывать ему злодеяния, к которым он не был причастен, и наделять пороками, которых он не имел, как это делает писатель III века Флавий Филострат в своем сочинении "Жизнь Аполлония Тианского". Мало того, что Нерон у него сражается в цирке как гладиатор, он оказывается еще и каннибалом, живьем пожирающим людей. Да, Нерон, по общему мнению, не заслужил доброго слова в свой адрес, к тому же слишком многие были заинтересованы в том, чтобы даже то, что имелось в нем хорошего, было похоронено вместе с его прахом. Но зачем же лишать его права хотя бы на более рассудительное к себе отношение?
Многое в сообщениях о Нероне является преувеличением, искажением и просто ложью. Что касается Светония, то он, похоже, часто сам не верит в передаваемый им вздор, но сообщает его в угоду своим читателям, лишь бы поразить их обывательское воображение, ведь он пишет не историю, а занимательный рассказ скандального и курьезного характера, старательно, без какого — либо критического отбора, передавая все слухи, измышления и анекдоты о том или ином римском императоре.
Созданию отталкивающего образа Нерона немало способствовали поздние авторы и авторы нашего времени, которые в своих оценках руководствовались христианской идеологией. Примером может служить роман — эпопея Генрика Сенкевича "Камо грядеши".
Из преступлений, связанных с именем Нерона, пожалуй, самым известным и чудовищным по величине нанесенного ущерба и количеству человеческих жертв, является приписываемый принцепсу поджог Рима, событие, которое очень быстро обросло слухами и легендами. Нерон и в историю вошел как поджигатель своей столицы, вдохновляющийся видом гибнущего города на поэму о пожаре Трои. Но это предположение — совершеннейший абсурд. В момент возгорания сам Нерон в Риме отсутствовал. Время для пожара было выбрано самое неподходящее: ночь полнолуния в середине лета.
О причине пожара римские историки говорят сбивчиво и противоречиво. Весьма показателен тот факт, что по мере удаления от времени события утверждения различных хронистов, что Нерон поджег Рим, становятся все более определенными. Удивительно то, что слух об участии Нерона в поджоге Рима полностью игнорирует один из первых христианских авторов епископ Рима Клемент. Примерно через два десятилетия после смерти Нерона, в любом случае до Тацита и Светония, он написал послание к своим единоверцам в Коринф, среди которых возникли распри в связи с перемещением нескольких священников. В этом послании Клемент говорит об Апостоле Петре, которого он знал лично, и преследованиях христиан при Домициане. Однако тщетно пытаться отыскать в письме какие — либо упоминания о том, что Нерон причастен к пожару. Клемент и другие христианские авторы игнорируют не только версию об ответственности Нерона за пожар в Риме, они ничего не говорят о маневре, якобы предпринятом Нероном с целью свалить вину на христиан и начать на них гонения.
Придумать и распространить злой вымысел об императоре — поджигателе своей столицы могли только римские сенаторы, которым очень не нравилось, что их государством управляет не полководец, а актер. К тому же римская знать уже почувствовала на себе тяжелую руку сумасбродного юнца — императора и воспользовалась случаем, чтобы возбудить против него народ, который, как было отмечено, не чаял в нем души, ведь Нерон не стеснялся выступать перед простым людом: в цирке — как возница, на подмостках — как певец.
В деятельности Нерона просматривается явное стремление гуманизировать римское общество приобщением его к греческим нормам жизни. Но римляне упорно не желали этого и состязаниям в пении и танцах, повсюду насаждаемым императором, по — прежнему предпочитали гладиаторские бои с кровавым и смертельным исходом. Сопротивление закоснелой части сенаторской верхушки было таково, что она готова была выставить своего принцепса жестоким сумасбродом, кровавым деспотом, матереубийцей, женоубийцей и даже поджигателем Рима, лишь бы не сворачивать с пути, проторенного имперскими амбициями многих поколений предков, начиная с Ромула, отличавшегося невероятной жестокостью. Само возникновение Рима сопровождалось войнами и кровопролитиями, и семена, брошенные легендарным Энеем, постоянно давали свои ужасные всходы.
Что касается пресловутой жестокости Нерона, то она не превосходила жестокости его предшественников на римском троне Октавиана Августа, Тиберия, Калигулы, Клавдия. Удивить кого — либо жестокостью в то время было трудно, если, конечно, не заострять на этом внимания с определенными пропагандистскими целями, как это делает Тацит, ревностный поборник интересов сената, в котором он видит единственного хранителя римских традиций и нравственных устоев древности. Причину общего упадка Тацит часто объясняет испорченностью монарха. Но Нерон — детище своего времени, и сенат своим гнусным раболепием и подлой угодливостью весьма способствовал растлению юного принцепса. Мать, Сенека и римский сенат постоянно толкали Нерона на дикие, уродливые поступки. Пресмыкательство и низкопоклонство сената достигли в то время чудовищных размеров. Однако принцепс иногда находил в себе силы отклонять льстивые предложения, сыпавшиеся на него со всех сторон.
Образ Нерона в сочинениях Тацита и Светония как бы двоится. Трудно объяснить, как в одной личности могли сочетаться такие противоречивые качества, как человеконенавистничество и исключительная терпимость к насмешкам в свой адрес, жестокость и щедрость. Никто из историков не отрицает, что Нерон был хорошим другом, любил и жалел животных. А как совместить отвращение Нерона к войнам и к гладиаторским боям с его чудовищной кровожадностью, о которой толкуют античные писатели? Складывается впечатление, что речь идет о каком — то подобии мифического Януса, с одним лицом — юным, восторженным, светлым, и другим — старым, сморщенным, злобным, устремленным в преисподнюю.
В общей цепи римских традиционных ценностей Нерон оказался слабым звеном. Не являясь хранителем вековых традиций, он сделался заложником своего филэллинизма и даже жертвой его, обрекая себя на бесчестье у потомков. Как евреи отреклись от Христа, так римляне с легкостью отступились от Нерона, принеся его в жертву новой религии и способствуя — сами того не желая — возникновению легенды о Нероне — Антихристе.
Трагична судьба не только Нерона, но и самой Италии, обращенной одновременно и на Восток, и на Запад. В то время как христианство устремилось на Запад, Нерон был весь во власти очарования Востока и поэтому оказался очень удобной фигурой для спекуляций христианских проповедников. Нерону не повезло уже потому, что в его время один из языческих ликов древнеиталийского божества Януса начинал приобретать явно христианские черты, что вполне естественно для бога начала и конца.
Но для рождения мифа нужна была еще тайна. Тайна Христа — в его воскресении. Не было бы воскресения, не было бы и самого христианства. Всех чудес, совершенных Христом, было недостаточно, чтобы люди поверили в его божественную сущность. В сознании людей Сын Человеческий стал Сыном Бога лишь после чуда воскресения, послужившего толчком к созданию Евангелий. Как тайна Христа — в его воскресении, так тайна Нерона, родившегося через несколько лет после распятия Христа, — в его смерти.
Загадочность его кончины порождена, скорее всего, существованием двойника. Любитель мистификаций и эксцентричных выходок, Нерон на протяжении всей своей жизни имел явную слабость к двойникам. Внешнего сходства с кем — нибудь из близких ему людей было достаточно для того, чтобы он приблизил к себе этого человека. Так было с рабыней, похожей обликом на Агриппину, так было со Спором, напоминавшим лицом и фигурой Поппею. Сам Нерон имел склонность выступать на театральных подмостках в масках, имевших сходство с лицами женщин, которых он любил. Но самое любопытное то, что иногда театральные маски напоминали его собственное лицо.
Таким образом, идея двойничества присутствовала в разных сферах жизни Нерона, в интимных отношениях, в артистической деятельности. И мы, видимо, не ошибемся, если допустим, что и сам Нерон имел рядом с собой своего двойника, человека, не только похожего на него внешне, но обладавшего такими же природными способностями — умением петь, декламировать, играть на кифаре. Если все обстояло действительно так, то тогда нас не должна удивлять необычайная выносливость Нерона — актера, способного выступать на театральных подмостках с утра до захода солнца. Существованием двойника можно было бы объяснить, как у Нерона Совмещались страсть к пению и активное участие в скачках, ведь в колесничных бегах мог участвовать не сам принцепс, а его двойник.
Неясен вопрос и о личности человека, убитого и сожженного на вилле Фаона 9 июня 68 года. Был ли это сам император или какое — то подставное лицо? Может быть, принцепсу все же удалось ускользнуть от агентов сената, посланных в роковую июньскую ночь, чтобы схватить его. И что это за люди, выдававшие себя за Нерона, когда в Риме было уже объявлено о его смерти? Были ли это некие неизвестные самозванцы или двойники Нерона? Или сам принцепс? Этого мы никогда не узнаем.
Если в истории Христа все ретроспективно, то легенда о Нероне, извращенном императоре — скоморохе, складывалась по горячим следам. Еще при жизни императора его экстравагантные поступки обрастали слухами и домыслами. В определенный момент христианству для оправдания его исторических поражений понадобился миф об Антихристе. Кто же лучше Нерона подходил на роль антипода Христа? Ведь именно в его правление пресеклась жизнь Апостолов Павла и Петра. Только дьявольские козни могли оборвать их священные жизни. Так в Нероне был узнан Антихрист. Этому способствовало появление в течение двух десятилетий после его смерти нескольких Лже — Неронов. Впечатление, которое эти события произвели на Иоанна Богослова, побудили его обратиться с посланием к Церквам Азии, чтобы поведать им о воскресшем Нероне. В "Апокалипсисе" — Нерон — это воплощение самого Дьявола, это Зверь, вышедший из бездны и властвующий над миром. Он сам дал повод отождествить себя со Зверем, когда разыгрывал сцену посвящения в митраический ранг "Льва".
Творимая римлянами легенда о лицедействующем императоре вылилась в христианский миф об Антихристе. Сам факт, что тысячи язычников поклоняются его образу и сохраняют в памяти его имя, был на руку воинствующим христианам, укрепляя их в необходимости бескомпромиссной борьбы с идолопоклонничеством. В истории христианства Нерон занял первостепенное место. Спустя сто пятьдесят лет после его гибели христианский писатель Тертуллиан воскликнет: "Да, мы счастливы, что объявление нас вне закона было торжественно возвещено подобным человеком! Когда научились его понимать как следует, то поняли, что все, осужденное Нероном, могло было быть только великим делом!"
Так создавался миф о Нероне, кровожадном чудовище и Антихристе.
Основные даты жизни Нерона
37 г. по P. X. — 15 декабря: в Анции родился Нерон; получил при рождении имя Луция Домиция Агенобарба.
38 — 16 марта: к власти пришел Калигула, дядя Нерона по материнской линии.
39 — Агриппина, мать Нерона, осуждена к ссылке. Нерон передан на попечение Домиций Лепиды, тетки по отцовской линии, матери Мессалины. Брак Клавдия с Мессалиной.
40 — Рождение Октавии, дочери Клавдия и Мессалины. В Пиргах умер отец Нерона, Гней Домиций Агенобарб.
41 — 24 января: убит Калигула (род. 31 августа 12 г. по P. X.). Императором провозглашен Клавдий. Родился Британник, сын Клавдия и Мессалины. Агриппина возвращается из ссылки в Рим и вступает в брак с Пассивном Криспом. 42–46 — Нерон находится в доме отчима. 47 — Апрель: празднование Столетних игр. Участие Нерона в Троянских играх. Смерть Пассивна Криспа.
48 — Октябрь: казнь Мессалины (род. в марте 25 г. по P. X.).
49 — Брак Клавдия с Агриппиной. Помолвка Нерона с Октавией. В Рим из ссылки возвращается Сенека и становится воспитателем Нерона.
50 — 25 февраля: Клавдий усыновляет Нерона, получившего при усыновлении имя Нерона Клавдия Цезаря Друза Германика. Агриппина получает титул Августы.
51 — Празднование совершеннолетия Нерона.
52 — Завершение работ по осушению Фуцинского озера и устройство зрелищ в честь этого события.
53 — Брак Нерона с Октавией. Выступление Нерона с речами в сенате.
54 — Осуждение и смерть Домиций Лепиды. 12 октября: умер Клавдий (род. 1 августа 10 г. до P. X.). Нерон произносит надгробную речь на погребальных торжествах в честь обожествленного " Клавдия. 13 октября: Нерон провозглашен императором.
55 — Февраль: отравление Британника. Связь Нерона с вольноотпущенницей Акте.
57 — Январь: Агриппина оставляет Рим и живет в своих поместьях.
58 — Поппея Сабина при дворе Нерона. Почетная ссылка Отона в Лузитанию. 59–20 марта: убийство Агриппины (род. 6 ноября 15 г. по P. X.). Учреждение Ювеналий — Юношеских игр. Выступление Нерона в качестве певца и музыканта.
60 — Пятилетние игры (Нероний). Нерон публично выступил как кифаред. Болезнь Нерона.
61 — В Британии подавлено восстание Боудикки. Массовая казнь рабов в Риме.
62 — Смерть Бурра. Изгнание и казнь Октавии (9 июня). Брак Нерона с Поппеей Сабиной.
63 —Рождение (21 января) и смерть (апрель) дочери Нерона.
64 —Певческий дебют Нерона в Неаполе. 18–19 июля: пожар Рима. Расправа с христианами.
65 — Раскрытие заговора Пизона. Самоубийство Сенеки. Поиски сокровищ Дидоны. Выступление Нерона в Риме на вторых Нерониях. Смерть Поппеи. Эпидемия чумы в Риме.
66 — Прибытие в Рим армянского царя Тиридата.
Брак Нерона со Статилией Мессалиной. Август: отъезд Нерона в Грецию.
67 — Нерон в Греции. 28 ноября: дарование свободы Греции.
68 — Март: возвращение Нерона из Греции. Восстание Виндекса в Галлии и его поражение. Выступление Гальбы в Испании. 9 июня: гибель Нерона.

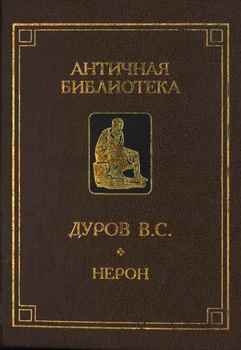
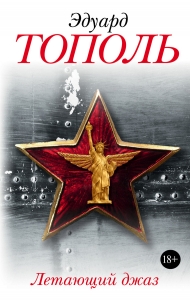

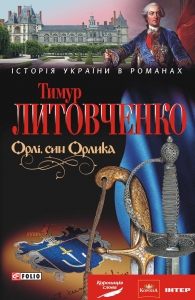
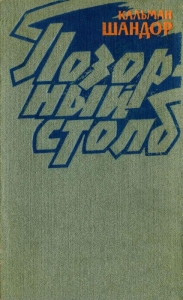


Комментарии к книге «Нерон, или Актер на троне», Валерий Семенович Дуров
Всего 0 комментариев