Айдын Шем Нити судеб человеческих. Часть 1. Голубые мустанги
Глава 1
Земное бытие вовсе не мелководная чистая речка, сквозь ласково журчащие воды которой видны все камешки на дне - беленькие, серенькие, черненькие. Бытие земное больше подобает сравнить с глубоким омутом с темной водой, поверхность которой затянута опасно привлекающей глаза светло-зеленой ряской. Неизвестно, что там, на дне, да и есть ли оно, это дно. Неведомо, какие процессы выталкивают порой на поверхность тяжелые запахи, а иной раз и манящие ароматы. В часы, когда мир не освещен божественным светом Солнца, над поверхностью пруда происходят тайные движения, что-то выскальзывает из темной бездны и разлетается по округе. Странные звуки слышны из непознаваемых его глубин, но еще ужасней таинственные звуки, которые не слышны уху человеческому, - их слышат только те, кто альтернативен человеку, для кого человек не объект, а случайная помеха. И они, эти самые, творят то, что находится за границами человеческого понимания. Ни суть, ни необходимость этих явлений нам не дано постичь.
В конце шестидесятых годов в Алупке баба Настя, - так она велела себя называть, - рассказывала:
" А было это где-то в середине мая сорок четвертого года. Немцев только с месяц как из Крыма выгнали. Однажды утром задала я корм курам, подбросила сенца корове и пошла на огород в ожидании прихода пастушонка Амета, который выгонял соседских овец на поляну в горах. Но Амета все не было и не было. Через какое-то время я обратила внимание, что отовсюду раздается блеяние овец, мычание коров и крики домашней птицы. Я вышла за плетень и встретила на тропе соседку Марью.
- Ой, Настюшка! У соседях никаво нема! И у тех, и у етих. Заглянем-ка у Фатиме, чево-то и на ейном дворе никаво не видать.
Я бросила нащипанный щавель на скамью у калитки и поспешила с Марьей к Фатиме, жившей со старухой матерью и четырьмя детьми пониже от нашей хаты. Зашли во двор, стали кликать ее - никакого ответу. А за плетнем овечки блеют, куры в сарае все крылья пообломали, горла надирают. И ни души во дворе и в доме, все двери заперты, на них бумажечки да веревочки, сургучом припечатаны - как посылки на почте. Ужас! Марья, та послабее меня, в голос реветь стала:
- Ой, батюшки! Ой, чево же это таке? Чево с людьми содеялось?
Тут мимо нас с топотом промчались кони. Это старик Сулейман завел себе пару, ездил по окрестным деревням и подвозил кому что, - зарабатывал на большую семью. За конями с уздечкой бежал Ванька Степанов, шалопай, срок при советской власти отсидел, а при немцах где-то в Феодосии огиналси, воровал, говорят. Кони на горную тропу ушли, Ванька рукой махнул и пошел назад. Увидев нас, говорит:
- Вы чего это, бабки, по татарским домам шастаете? Не троньте ничего, а то в милицию сообщу.
Это он, значит, об нас в милицию сообщать будет. Но видно что-то знает Ванька-то, я и спросила.
- Чего это людей на дворах нет, чего это случилось?
Захохотал Ванька.
- Вы что ж, не знаете? Всех татар в ночь из всей Алупки вывезли. В Сибирь. За измену родине. Я с ночи в дружине по обороне служу. Неровен час, татаре нападут на Алупку.
- Чего ты, Ванька-шалопай, болтаешь! Кто нападет на Алупку?
- Я тебе, бабка Настя, не шалопай и не Ванька. Попрошу разговаривать уважительно! А не то...
Ой, да что с этого Ванька взять! Объяснил бы попонятней, что происходит.
- Да ладно, Ванечка, не серчай. Ты скажи толком, что в ночь-то произошло?
- Говорю вам, татар всех вывезли! Дома их опечатали, не велели входить никому. Мы вот, дружинники, за порядком наблюдаем.
- Ой, батюшки! А дети-то где?
- Дурная ты, бабка Настя! Всех вывезли, и детей ихних, всех!
- Господи, воля твоя! Как же так? А скотина голодна, птица... Пошли бы задали бы корму, что ли?
- Ну да! Я вот коней пожалел, бьются взапертях. Только двери открыл, а они как рванут. Не догнал, сами видели.
- Ой, Ванечка, чево же таперча будет? - опять заголосила Марья.
Ванька молча пожал плечами, сплюнул и пошел вниз. Лицо его стало расстроенным, - ведь у него в дружках все больше татарчата были, с бесштанной поры вместе резвились.
Помнилось мне, как раскулачивали людей, высылали семьями. Но чтобы так вот всех, да по татарскому признаку? Ей богу, не верилось.
А скот орет, куры кудахчут – ахырзаман, как татаре говорят, то есть «конец света». Не стерпели мы, бабки да пацанята, пошли по дворам, выпустили коров, овец, лошадей, где были, всю птицу. Разошлись они по улочкам да по полянкам, успокоились. А к вечеру сами пришли в свои дворы, по сарайчикам да по загончикам, бедненькие. А вот кони - те не вернулись..."
Баба Настя нынче живет в том же своем домике, в котором проживала в том году, когда высылали татар. Дом тоже когда-то построен был татарами, но отец бабы Насти, приехавший в Алупку еще при царе Николае и работавший по шорному делу, по честному купил этот дом, родил и вырастил здесь детей, и мирно почил в кругу родственников и соседей в предвоенную пору. Братья бабы Насти погибли в войну как были бобылями. Жила она нынче здесь одна, только летом дочь привозила ей внуков, да еще сдавала она, как все жители прибрежных поселений, каморки при доме отдыхающим. Я снимал у нее такую каморку, в которую приходил только ночевать, остальное же время проводил на пляже и в очереди в столовую. Сегодня же я не пошел на пляж по причине обострения радикулита, и баба Настя, узнав о постигшей меня напасти, вызвалась растереть мне поясницу каким-то своим настоем. И вот после проведенной доброй моей домохозяйкой лечебной процедуры я лежал на деревянной койке, стоящей во дворе, мы пили чай с московскими конфетами, и бабуся, даже не предполагающая, что я крымский татарин, вдруг стала мне рассказывать о таинственных конях горного Крыма.
- Да, кони не вернулись, ни один. Тогда мы ничего не знали… А еще, милый ты мой, чудно повели себя коты. Собачки из татарских дворов разбежались по дворам, где обитали люди, стали общими для всей маалле (микрорайона). А коты... Вот говорят, что собака привязывается к человеку, а кошка к жилью. Не знаю, так ли это. Потому что однажды в полдень, вскоре после того, как пропали жильцы татарских дворов, я с удивлением увидела, как на дороге, ведущей в горы, сошлись около двух десятков кошек и котов. Гляжу, а они, не обращая внимания ни на кого, выстроились в ряд, один за другим, и, задрав высоко хвосты, степенной походкой направились к нависшим над Алупкой скалам. Было что-то внушающее оторопь в этом уходе. Они шли молча, не оглядываясь, и только одна молодая кошечка, шедшая последней, порой приостанавливалась, оглядывалась и затем вприпрыжку догоняла строй. То ли она выглядывала опоздавшую подругу, то ли надеялась в последние мгновения вдруг увидеть, что ее любимая маленькая хозяюшка все же вернулась в свой дом.
- Но не о кошках нынче наш разговор, - продолжала баба Настя. - То, что я сейчас расскажу, это очень страшное дело. Страшное и непонятное.
- Да вы, баба Настя, и так про невозможные ужасы рассказываете. Чего может быть страшнее? - заметил я, действительно потрясенный повествованием о том, что было наутро после выселения народа, о чем сами татары могли только догадываться.
- Ты слушай, что я тебе поведаю. Ты человек ученый, сам разберись откедова это идет, по чьей это воле происходит. Но это и впрямь страшно. В те майские дни вся выпущенная на волю живность домашняя по вечерам возвращалась в свои дворы. А через несколько дней приехали какие-то люди, весь скот увезли, курей по скрытному предлагали нам по дешевке купить. Кто-то, может, и купил, да мне не надо осколка от чужой беды, - рассказывая это, баба Настя энергично махнула рукой в сторону, - я прогнала продавцов. А вот, как я тебе уже говорила, кони, как и коты, не вернулись ни один.
Ты слышал, небось, что в горах крымских появились дикие лошади? Их мустангами называют, не по-нашенски. Велено всем говорить, что то партизанские кони одичали. Вранье это. Партизаны тогда с голодухи всех коней своих съели, кору с деревьев сгрызали. Мустанги эти - татарские кони. Ушли они в горы и не давались специальным командам, посланным для их поимки. Так и остались табуны зимовать в горах. А в весну, говорят, у них жеребеночки появились, и все они стали такими гладкими и упитанными, какими на службе у людей никогда не бывали. Я и сама их издали видала, на склонах паслись. Добрые кони...
Но через несколько лет, рассказывала далее бабка Настя, появились удивительные слухи. Будто видели в горах странных коней, полупрозрачных и синих в тени, прозрачно-голубых на освещении. Проносились эти кони мимо случайного наблюдателя с огромной скоростью, не касаясь земли - пыль за ними не клубилась, как она клубится всегда за табуном. Но след на земле эти создания все же оставляли - трава бывала чуть примята, на дорожной пыли будто ветряный свей пролег. И самое страшное - ежели кто из людей оказывался на пути голубого табуна, то неведомая сила отбрасывала его далеко в сторону, и душа несчастного тотчас покидала тело…
Хотя я, естественно, не принял всерьез ничего из рассказа бабы Насти о конях-привидениях, холодок пробежал по моей спине от ее затейливого повествования. И невольно, желая скрыть произведенное на меня впечатление, я рассмеялся, и спросил:
- Так откуда же берутся эти голубенькие лошадки? - и опять засмеявшись, почувствовал уже досаду на себя, теряющего время на слушание всяких россказней.
- Один лесник, который живет на Ай-Петри, вел наблюдение за горными табунами много лет и разобрался в этом деле, - неожиданно вмешался в разговор незадолго до того вышедший из дома во двор внук бабы Насти, семнадцатилетний Костя.
- Да? Так что же он говорит? - насмешливо обернулся я к юноше.
- Лесник установил, что как только в табуне живых мустангов погибает конь, то сразу же в голубом табуне появляется новый, - очень серьезно ответил мне он.
Я вновь весело рассмеялся.
- Молодой человек, - назидательно, как и положено профессору физики, обратился я к Косте. - Надеюсь, вы относитесь с юмором к этой красивой сказке? Кстати, ничего нового в ней нет, всегда привидения в легендах появляются после смерти человека. Иногда в привидение обращается и конь какого-нибудь сказочного персонажа. Это живописный рассказ, но будет грустно, если кто-нибудь будет принимать это за правду.
Юный Костя поглядел на меня, как убеленный сединой академик смотрит на запальчивого студента.
- Хотите увидеть голубых мустангов? - спокойно спросил он. - Я видел их не раз, могу и вам показать.
- Ой, Костенька, не смей! - всполошилась баба Настя. - Не смей, не смей! Вспомни, что было в минувшем году!
- Нет никаких голубых, сказка это! – обернулась она ко мне. - И забудьте! Ой, Господи…
Старая женщина стала растерянно шарить в своих широких, как у татарок, до самых пяток юбках, нашарила карман, и вынув из него маленькую бутылочку, глотнула из нее. Запахло валерьянкой.
- Ладно, бабушка. Все! - при этом Костя заговорщически подмигнул мне.
Я теперь был всерьез заинтригован конкретностью полученного предложения, но, увидев обеспокоенность бабы Насти, счел за благо прекратить разговор и удалиться под подходящим предлогом.
Вечером того же дня я сидел на большом, выступающем из зеленой травы камне и любовался видом расстилающегося внизу моря. Константин подошел, сел рядом и, помолчав, спросил:
- Ну, как? Решились?
- На что? - с деланным равнодушием спросил я.
- На рассвете поднимемся в горы, спрячемся в кустах. Там старая заросшая дорога, по ней голубой табун перед восходом солнца уходит за дальние скалы. Но выходить нам нужно затемно, идти далеко, часа два будем добираться.
Константин говорил так, как будто уже получил мое согласие. Он, конечно, не ошибся, я уже решил идти с ним. Но при этом мне было немного стыдно самого себя за то, что я как бы поверил в сказку и с серьезным видом собираюсь принять участие в детском спектакле. Но, убедил я самого себя, отнесись к этому как к игре. Игра есть игра, у нее свои правила.
- Ладно, Костя. Разбудишь меня, когда надо.
- Только наденьте плотную одежду, кусты там колючие, - и Костя ушел.
Я не стал спускаться, как обычно по вечерам, к морю и отправился спать пораньше. Засыпая, я подумал, что зря я это затеял, но потом рассудил, что ранняя прогулка в горы тоже весьма увлекательна. С этой мыслью я и заснул.
Когда внук бабы Насти разбудил меня, было еще совсем темно. Я натянул джинсы, надел рубашку с короткими рукавами и вышел во двор. Было прохладно, но я решил, что через пять минут ходьбы по горной тропе вверх станет очень даже жарко. Однако Костя поглядел на мою экипировку, ничего не сказал и куда-то ушел. Вернулся он потряхивая какой-то одеждой.
- Вот штормовка, возьмите. В вашей рубашке в кустарник не пролезете. Она чистая, штормовка-то, только жуки могли заползти, вытрясите ее получше.
Я встряхнул штормовку несколько раз и решил надеть ее, когда полезу в те самые кусты.
- Ну, пошли, - сказал Костя. - Дойдем как раз к рассвету.
Мы двинулись по той самой тропе, по которой, как рассказывала баба Настя, ушли в горы и не вернулись коты со своими кошками.
- А что с котами-то стало? - спросил я Константина. Тропа была еще не крута, и можно было разговаривать без напряжения.
- Да так и живут в горах. Я их встречал.
- А голубых котов не появилось? - с демонстративным сарказмом полюбопытствовал я.
- Нет, - Костя рассмеялся. - Не видел и не слышал. А насчет других того же цвета не сомневайтесь. Скоро повстречаетесь. Только сидеть тихо, не выдавая своего присутствия. Они-то, может быть, и знают, что за ними наблюдают, они, мне кажется, очень все чуют. Но если не стоять перед ними на виду, то беды не будет, бабка моя напрасно беспокоится. Никто еще не погибал, если сидит и не высовывается.
Э-ге-ге! - подумал я. Так спокойно и уверенно говорит Константин об этих монстрах, что, пожалуй, это и впрямь дело серьезное. То, что во вчерашнем разговоре казалось мне смешной выдумкой сейчас, на ночной тропе, представлялось иным. Признаться, я немного оробел.
- А что было с теми, кто не прятался от этих мустангов?
- Мой хороший знакомый, он всегда был несколько пустоват, все превращал в баловство. Они втроем пошли поглядеть на голубых мустангов, и когда при их появлении двое других замерли от страха, этот парень вдруг вскочил на ноги и стал размахивать руками и кричать что-то. Как рассказывали потом его спутники, некая сила подняла его вверх, закрутила колесом, он стал светиться и упал на обочину. Табун промчался как бы и не заметив его. Когда ребята оправились от ужаса, они осторожно вышли из кустов и нашли своего приятеля лежащим неподвижно на земле с широко открытыми глазами. Неживого, конечно.
- Да правда ли это? - уже серьезно, без давешнего ерничанья, спросил я.
- Правда. Я был на похоронах. Рассказывали и о других похожих случаях. Жертвами коней-привидений оказывались и случайные путники, ранней порой полезшие зачем-то к скалам. О встречах с ними в дневное время никто не рассказывает.
- Пожалуй, после таких рассказов и днем в горы ходить боязно станет, - заметил я.
- А зря в горы вообще ходить не надо. Не игра это, - строго произнес рассудительный Константин.
- Ну, я, вообще-то, альпинист с довольно большим опытом, - заметил я с некоторым вызовом. – Ходил в серьезных горах, на Тянь-Шане и на Памире. Кое-кто, говорят, встречал там снежного человека, но о привидениях я не слышал.
- А вот здесь такие вот дела, - отвечал Константин. - Бабка же вам рассказывала. Один старик, наш, алупкинский, он живет внизу и с лесником айпетринским общается, так он говорит, что это кони татарские, обижены они на людей за то, что хозяев их изгнали. Они животные, говорит старик, не разумеют кто прав, кто виноват. Наверное, он говорит, какая-то потусторонняя сила управляет голубыми мустангами. Не дай Бог, говорит, чтобы кони эти вырвались за пределы Крымских гор. Здесь они все же на жилье не нападают, все же нас за своих считают, что ли.
- Ну, страсти какие ты рассказываешь! - мне стало не по себе.
Мы, когда умирали в чуждых азиатских землях сами или когда на наших руках умирали близкие нам люди, мы слали мысленно, без слов, проклятия тем, кто нас обрек на изгнание, на гибель. Но никогда не желали мы никакой беды людям, которые остались на нашей земле, но не сделали нам зла, не оскверняли наши кладбища и мечети. Не причастны наши проклятия к появлению голубых монстров, если, конечно, они и вправду существуют. Впрочем, об этом я скоро узнаю.
Мы уже шли не по тропе, а поднимались на склон «в лоб». Я шел тяжело, то и дело останавливался и передыхал, опершись на колено. Мне было неловко, ведь я недавно с некоторым гонором аттестовал сам себя опытным горовосходителем. Что делает с человеком многомесячная работа за письменным столом! Нет, форму надо поддерживать весь год!
Наконец, мой вожатый остановился, огляделся и молча показал рукой на заросли справа:
- Вон там дорога. Мы спрячемся в кустарнике.
Небо над морем, которое широко раскрывалось внизу, заметно посветлело, хотя солнечные лучи еще не показались из-за горизонта. Однако в кустах, к которым мы приблизились, царил полный мрак. Когда мы ползком под низко стелящимися ветвями пробрались к неширокой грунтовой дороге, которая обозначилась только вдруг открывшейся сверху полосой звездного неба, Константин шепотом произнес:
- Выбери какую-нибудь кочку и схорони голову за ней.
Я не вполне уяснил, какую кочку я должен искать в этой темноте, но отполз назад в заросли. Константин по издаваемому мной шороху понял, где я нахожусь:
- Тебе видна дорога? - все так же шепотом спросил он.
- Мне вообще ни черта не видно, - отвечал я, стараясь освободиться от вдруг упершегося мне в спину сука.
- Посмотри налево, ты видишь там просвет? – продолжал проявлять заботу о моем обустройстве добрый Константин.
Я взглянул и увидел, что слева от меня просвет небес сверху полого опускается, и там уже становится возможным рассмотреть ленту дороги.
- Скоро отраженный от верхних скал свет упадет сюда, и дорога станет видней, - заметил Константин, и потом добавил: - Свечение воздуха на повороте, из-за которого выбегут кони, ты увидишь до их появления.
Во мне вроде бы и страха никакого не было, хотя именно теперь пропали сомнения в том, что сейчас я должен стать свидетелем необычного явления. Я лежал, со всех сторон утыканный сухими колючими сучками. Почему-то пахло сухим сеном, и я догадался, что это запах накопившихся под низкими ветками прошлогодних листьев. Рассвет на этой окруженной плотными зарослями кустарников и невысоких деревьев горной дороге все не наступал.
- Идут! – услышал я и обернулся налево.
Легкая дымка испарений, поднимающихся на рассвете над землей, засветилась, как светится разряженный воздух в стеклянном баллоне, в который введены высоковольтные электроды. Странное сияние становилось все ярче, и я увидел первого выскочившего на дорогу крупного жеребца, сине-голубого, светящегося и изнутри, и по всей поверхности тела. Он быстро приближался, и мне показалось, что эта нежить идет прямо на меня. Лишь призвав на помощь все мое благоразумие, я удержался от того, чтобы не вскочить на ноги и не убежать сам не знаю куда. Жеребец был зол и решителен, он несся почти беззвучно, только в воздухе слышалось легкое потрескивание. За вожаком появились и другие, быстрые, с недобрыми красными глазищами, устремленными вверх и вперед. В воздухе возникло некое движение, холодный ветерок коснулся моих волос. Нет, не серой запахло, а запахло озоном, и запах этот становился все более острым, от него заслезились, было, глаза. Табун из не менее чем тридцати лошадей проскочил перед нами секунд за двадцать, оставив в атмосфере за собой голубое мерцание и красные тлеющие пятна на дорожном щебне…
- Это не все. Еще два табуна должны пробежать. Это еще не все, подожди, - шептал Константин, и в модуляциях его шепота чувствовался страх, охвативший и его.
Меня била дрожь, очень сильная дрожь. Когда я пытался не дышать, чтобы сдержать эту внутреннюю тряску, то начинал вибрировать мой черепок вместе с заполнявшим его глупым, как я теперь точно знал, мозгом искателя острых ощущений. Мне казалось, что я вибрирую беззвучно, но, по всей вероятности, я издавал дребезжание, потому что Костя каким-то образом учуял мою дрожь. Я увидел во все более светлеющем воздухе протянувшуюся ко мне его руку, в которой что-то было. Оказалось, что это солдатская фляжка. Откручивая крышку, я уже знал, что там не вода. Это было крепкое ароматное вино. Я отпил глоток, потом обратил внимание на то, что вина много, и сделал еще два больших глотка. И почти сразу дрожь отпустила меня.
- Уф! – произнес я громко.
- Тише, - раздался негромкий голос моего вожатого, - верни фляжку.
Я услышал, как он забулькал вином.
И тут за поворотом опять возникло голубое зарево…
Нам не дано постичь ни суть, ни необходимость странных явлений, которые находятся за пределами человеческого повседневного опыта.
Глава 2
За пределами повседневного опыта десятилетнего мальчика оказалось то неожиданное обстоятельство, что тети и дяди, стоящие у водопроводного крана, грубо ругаясь, отказывали ему в просьбе наполнить водой бидончик, который он опустил на шнуре из высокого окошечка наглухо закрытого товарного вагона, наполнить обычной холодной водой, которая с шумом текла из трубы тут же рядом. Эшелон остановился на въезде на какую-то узловую станцию, где-то возле Саратова. Случилось так, что напротив вагона, в котором находился мальчик Камилл и его родственники, оказался большой водопроводный кран, из тех, которые предназначены для заполнения резервуаров подвижного состава. Кран или был испорчен, или его забыли перекрыть, и желанная влага со сводящим с ума журчанием текла на черные маслянистые шпалы, растекалась по серому щебню, затекала темными полосами под вагоны. Рядом проходили простые советские граждане, много горя повидавшие за прошедшие три года войны, да и нынче лишенные радостей жизни. А в вагонах мучились от жажды люди, накормленные соленой рыбой и запертые вот уж скоро как вторые сутки... Больные умирали, дети уже беззвучно плакали, матери были близки к помешательству. Но находящиеся на свободе граждане проходили мимо, со злобным любопытством разглядывая ободранные дощатые вагоны цвета красного кирпича, проходили без сострадания в сердце. Обогнав эшелоны с людьми, пришла сюда запущенная чекистами весть, что везут в предназначенных для перевозки скота вагонах предателей, которые показали немцам дорогу на Полуостров.
Но мальчик не знал, что это по его вине немцы три года стояли в Крыму, что, может быть, и война началась по его вине, и что теперь ему положено умирать от жажды. И он просил, и все просил тех, кто оказывался рядом с вагоном, набрать ему воды в небольшой алюминиевый бидончик. Ни один человек не пожалел ребенка, не дал ему воды, хотя иные и замедляли, оглядываясь, шаг, но потом, поразмыслив на ходу, быстро удалялись. Камилл подумал, что если бы тут появился бы какой-нибудь мальчишка, то он бы точно принес бы ему водички. И высунув из окошка голову, он уже не обращался со своей простой просьбой к взрослым, высматривая какого-нибудь своего ровесника.
Но детей на окраине железнодорожной станции в этот ранний час не было. Вот под окошком остановились какие-то мужчины, и Камилл услышал обрывки их разговора.
- Татары показали немцам дорогу в Крым, гады! – это говорил полноватый толстогубый мужчина с отвислыми щеками. На нем был темно-зеленый некогда свитер, явно натянутый на голое тело. Волосы у него, как хорошо видел сверху Камилл, были черные и густые, покрытые серой пылью.
- Как это дорогу показали? – возразил другой, помоложе, лет эдак двадцати двух, с белобрысым чубом, спадающим на лоб. Он был в таких же, как и первый, мятых брюках неопределенного цвета и в синей рубашке с короткими рукавами. - А разве у немцев карт не было? Не-е, у немцев такие карты - ого-го!
Третий их товарищ во время этого разговора не произнес ни слова. Он с решительным выражением на лице, должным показывать безусловное согласие или непримиримое отрицание, крутил шеей, оборачивая лицо то в одну, то в другую сторону, то и дело поднося к губам самокрутку, и к Камиллу поднимался острый запах махорки. Одет был этот решительного вида молчун в серый пиджак с закрученными лацканами, из-под которого видна была тельняшка настолько грязная, что белые ее полоски казались темнее тех, что должны были считаться синими.
- Ишь ты, карты! – злобно отозвался первый. - А ты сам-то карту Крыма видел?
- Ну?
- Что "ну"?
- Ну, видел.
- А ты заметил, какой перешеек Перекоп узкий? Попробуй, найди его в степи! А татары туда-сюда всегда шастали, они тут все знают. Вот и провели немцев без труда.
- А-а...
Пыльноволосый протянул руку, в которую владелец закрученных спиралью лацканов молниеносно вставил самокрутку. Пыльноволосый затянулся и назидательно произнес:
- Вот тебе и "а-а"! Понимать надо!
Белобрысый помолчал, но потом все же не выдержал:
- Жалко все же людей…
- Чего их жалеть! – взорвался пыльноволосый. - Они как цыгане, грязные и баранами воняют!
- А ты их видел, - не мог угомониться чубатый.
- Татар не видел, а цыган видел, - отвечал пыльноволосый, начинающий терять терпение.
Тут молчун вдруг негромко, но энергично произнес:
- Вон он! – и вся странная троица трусцой побежала вдоль состава.
Камилл не стал провожать их взглядом, он заворожено смотрел на струю, падающую из крана. Разуверившись в том, что кто-то подаст ему снизу воду, он решил самостоятельно решить эту проблему. Мальчик шепотом сказал папе, что может спуститься из окошка к воде. Мама поначалу воспротивилась, но отец убедил ее, что сейчас тот самый случай, когда имеет смысл идти на риск, - вода была нужна для выживания больных стариков и малых детей. Как каждый здоровый мальчишка его возраста Камилл был ловким и цепким. Сбросив с ног кожаные сандалии и оставшись в одних трусиках, он без труда спустился из высокого окошка, схватил брошенный ему вослед бидон, и быстро набрав воды, поначалу напился сам, а потом, вновь наполнив, передал наверх, откуда уже спустили другой сосуд, потом еще другой. Ему уже кричали из соседних вагонов, и он с огромной радостью в своем маленьком сердце бегал от водопроводного крана то к одному, то к другому окошечку. Бегал, не замечая боли, по ранящему босые ступни щебню, быстро развязывал узлы, которыми были привязаны к различным шнурам бидоны и ведерки, набирал воду в эту разномастную посуду, огорчался, когда ему спускали маленькую емкость, и, как мог, не отвергая даже полулитровой банки, спущенной в авоське, снабжал водой своих бедных соплеменников. И вот уже другие мальчишки спрыгивали на насыпь из высоких окошек, и вода, пусть и не вдосталь, но хотя бы в качестве первой помощи приходила и в дальние вагоны. Однако бдительные граждане из числа местных жителей не могли допустить такого, не знаю, как уж понятого этими людьми, действа. Наверное, жизненно необходимое желание попить воды было расценено ими как диверсия против победы коммунизма во всем мире или против чего-то там еще, что было дорого жителям этой приволжской территории. Но закричал и забегал один, затем закричали и забегали, размахивая руками, другие. Сначала для того, чтобы помешать мальчишкам, подающим воду умирающим от жажды людям, звали на помощь кого-то из начальства, а потом кто-то героически решил проявить в решающий момент инициативу: выхватил из рук мальца ведерко с водой и опорожнил его. Другой герой, - простой советский герой! - развил идею, выхватил у ребенка бидон с водой и далеко зашвырнул его. Татарские мальчишки не слабаки, и в героя полетели камни... Но водоснабжение пришлось прекратить, и мальчишки забрались в свои вагоны. Тут и конвоиры появились, стали бегать и страшно материться, да ничего не смогли поделать, - не ходить же по вагонам с целью реквизиции воды, может быть к тому же уже и выпитой.
Я не знаю, во все ли вагоны попала спасительная влага, но некоторую часть людей мальчишки все же напоили. Камилл с удовольствием наблюдал, когда глаза привыкли к вагонному мраку, как на лицах пьющих вкусную холодную воду людей появлялась неконтролируемая ими улыбка, как спокойнее становились эти лица, и особенно радовало его, что когда поезд опять с шумом и грохотом двинулся, в сосудах плескалась недопитая вода. И опять тряска, опять громкий стук колес на стыках...
"С чего начинается Родина? Со стука вагонных колес..."О, этот колесный стук, когда в щели дощатого пола видны сами колеса! Не умолкающий ни днем, ни ночью и не стук, собственно, а грохот! Каково было старым и больным переносить это, каково было засыпать под громовой аккомпанемент, проникающий в мозг не через уши даже, а сквозь череп.
Женщины, старики, дети были наглухо заперты в тесных телячьих вагонах, были растеряны, не понимали что с ними происходит. Были среди них в малом числе и мужчины, из числа тех, кто вернулся в Крым незадолго до трагической ночи, ибо большинство мужского населения сражалось на фронтах с фашистами, а те, кто подрос за военные годы или каким-то образом не был мобилизован в сорок первом, тех две недели назад забрали почти поголовно в "трудармию", - тем самым власти хотели избежать сопротивления населения войскам при насильственном выселении.
А ведь еще трое суток назад мы ходили по земле, сидели на лавочках в палисадниках, забегали к соседям, копались в огороде, ухаживали за живностью, ночевали в городских или сельских домах в своих постелях, печалились из-за разбитой чашки или потерявшейся курицы. Еще не прокисло замешенное тесто в оставленных домах, еще не окончательно зачерствел завернутый в полотенца хлеб, еще не усохли тщетно ожидающие полива ростки на грядках, но мечется третий день запертая в сараях скотина, обламывает перья в тесных курятниках обезумевшая птица.
"Биз Къырымдан чыкканда Къазан толу аш къалды..." (Когда мы покидали Крым Остались казаны полные едой...)....Здесь недавно кто-то жил, еще угли в очаге не остыли.
...Всего несколько дней назад Камилл должен был ходить в школу, у него были большие и малые проблемы с одноклассниками, с соседскими мальчишками, самые разные заботы занимали его ум, - он обменивался книгами или какими-то игрушками со сверстниками, собирался записаться в открывшуюся недавно детскую библиотеку, мечтал поймать на старом кладбище ежа. Но главным событием последних дней было письмо от папы! Счастливые мама и Камилл узнали, что он жив! И вот, наконец, 16 мая пришла телеграмма - завтра отец приезжает...
На следующий день Камилл проснулся на рассвете и, выбежав на улицу, простоял там, пока бабушка не позвала к завтраку.
Все они жили в одной большой комнате, окна которой выходили на узкую застекленную веранду. Они - это Камилл с мамой, мамина сестра с двумя детьми, бабушка и хозяйка жилья - невестка, то есть жена маминого брата, тоже с двумя детьми. Камилла с мамой оккупировавшие город немцы еще два года назад выселили из их благоустроенной квартиры - оккупанты занимали все хорошие дома в городе. С тех пор и до недавнего времени мальчик с мамой жили в бабушкином доме. Но когда немцы оставляли Симферополь, то советские самолеты почему-то бомбили жилые кварталы, и в основном в той части города, в которой традиционно преобладало татарское население. Из-за взорвавшейся в соседнем дворе бомбы в бабушкином доме рухнула стена - слава Аллаху, никто не пострадал, потому что дело было днем, и все сидели на веранде. И вот четверо женщин и пятеро детей поселились теперь в этой комнате. Детишкам, надо сказать, нравилась такая жизнь. Как было весело каждый вечер перед сном, когда на полу расстилалась одна большая постель, и на ней можно было кувыркаться, бросаться подушками, вдосталь порезвиться.
Однако, время шло, а папа все не появлялся. Взрослые тоже нервничали - почти три года ждали, а последние часы оказались самыми тоскливыми.
Камилл не отлучался со двора, в котором было еще с десяток таких же "квартир", как та, в которой они обитали. Соседские мальчишки звали его на разные интересные дела, но он отвечал: "Сегодня мой папа приезжает!" - и мальчики уважительно умолкали, какое-то время еще рассматривая его, такого счастливчика... У всех отцы ушли в сорок первом и неизвестно, живы ли они, вернутся ли. Был день семнадцатого мая сорок четвертого года, шел первый месяц освобождения Крыма советскими войсками.
Камилл предвкушал тот миг, когда отец обнимет его и поднимет своими сильными руками. Мальчик знал, о чем ему расскажет, чем похвастается. Только одно сомнение одолевало его - можно ли рассказать отцу о пистолете с патронами и кинжале, спрятанных на старом кладбище? Мама, он знал, очень бы разнервничалась, если бы узнала о его небольшом арсенале. Но отец? Какой он? Когда их разлучили, мальчику было семь лет, и он помнил отца добрым и великодушным. Но как папа все же отнесется к тому, что у его сынишки спрятан новенький пистолет с полной обоймой?
Камилл жаждал показать отцу коллекцию красивых камней и кристаллов, которую нашел однажды под стеной разрушенного дома. Покажет он папе и свою любимую книжку про волшебника изумрудного города - правда, мама говорит, что эту книжку купил еще до войны сам папа. Зато когда они жили с папой до войны, то Камилл умел только читать, а сейчас умеет писать, и мама говорит, что у сына почерк немного похож на папин.
Время близилось к вечеру. Мальчик раза два всплакнул, но мама на него накричала. Когда солнце ушло за крону одиноко растущего во дворе большого дерева, Камилл, устав от ожидания, решил сбегать на старое кладбище и проверить свой тайный арсенал. Бегом он добрался до пустыря за домами, каким нынче было старое мусульманское кладбище. Оглянувшись по сторонам, и убедившись в отсутствии случайных свидетелей, он опустился на колени и заполз за кусты, где под обломками каменных надгробий лежали завернутые в мешковину пистолет "Вальтер" и кинжал в красивых ножнах.
Мальчишки военных лет хорошо разбирались в разного вида оружии, которое нередко находили в оврагах, в заброшенных садах. Бывало, укрывшись за речным обрывом, бросали в воду "лимонки" - противопехотные осколочные гранаты. Русские винтовки, длинные и тяжелые, вообще в первые месяцы после прихода немцев были не в диковинку: брошенные вместе с патронами они валялись в самых разных местах. Немецкий же новенький пистолет был редкой находкой, и дружок Дима готов был выменять его у Камилла за кучу великолепных вещей.
Насладившись созерцанием своего арсенала и еле удержавшись от того, чтобы не пальнуть из пистолета, он вновь тщательно упрятал оружие в камнях и побежал домой. Отец в белой рубахе с расстегнутым воротом сидел за столом, на котором уже разожгли большую керосиновую лампу...
Камилл, по-видимому, только-только уснул, когда вдруг все детишки, испуганные и сонные вскочили из-за страшного грохота. Взрослые еще не спали, им было о чем поговорить. Бабушка бросилась к дверям, и по прошествии нескольких секунд все увидели ее пятящейся назад, а дюжий советский солдат упирал ей в грудь ствол автомата. Вслед в комнату вошли еще два автоматчика, а за ними маленький кругленький человек с рыжими ресницами, которого Камилл узнал - он приходил неделю назад и записывал в большую тетрадь имена и даты рождения всех проживающихв доме, якобы, для распределения продовольственной помощи. Но тогда он был в штатской одежде, теперь же на нем была офицерская форма. Фамилия его была Козлов - мальчик ее запомнил, потому что у них в прежнем их доме были соседи Козловы.
Увидев среди испуганных сонных детишек и онемевших женщин не числившегося в его списке мужчину, офицер взвизгнул:
- Кто такой? Откуда?
Солдаты защелкали затворами автоматов, направив стволы на детей и взрослых.
- Не надо кричать. Вот мои документы. А это моя жена и сын, - произнес отец, потянувшись к пиджаку, висящему на спинке стула.
- Не двигаться! - опять взвизгнул храбрый офицер, и все автоматчики перевели стволы оружия на папу. Офицер сам достал из кармана отцовского пиджака бумажник и, приблизившись к лампе, стал разглядывать документы. Через пару минут он успокоился и почему-то скомандовал:
- Вольно!
Камилл неподвижно стоял возле отброшенной солдатскими сапогами в сторону постели, с недетской злостью глядя на офицера. Маленькая кузина стала плакать, и её мама схватила девочку в охапку, зажимая ей ладонью рот.
Из отцовских документов следовало, что его срочно вызывают в Крым в распоряжение Верховного Совета республики. Крайний срок прибытия - пятнадцатое мая. Была ночь с 17-го на 18-ое мая 1944 года. Вызвали отца для того, чтобы не затерялся где-то на просторах Советского Союза свободный крымский татарин. Капитан Козлов не мог знать о мудрой стратегии высоких руководителей и не получал инструкций на сей особый случай. Увидев бумажки на бланках Верховного Совета, он слегка опешил. Поразмыслив, он разъяснил отцу, что все, занесенные в список женщины и дети, вне зависимости от того, кому они приходятся родственниками, должны быть сейчас же вывезены из города. Что касается отца, то ему капитан разрешал остаться в городе, но немедленно покинуть квартиру, которая будет опечатана.
Камилл впоследствии часто думал об этой ситуации и ставил мысленно себя на место отца, только несколько часов тому назад обретшего сына и жену. С одной стороны, отец мог бы остаться, узнать, что к чему и уехать из Крыма (если позволили бы!) свободным человеком, чтобы потом забрать из ссылки своих близких. С другой стороны, вполне вероятно, что его сына и жену через полчаса расстреляют, вывезя на окраину города... В последние мгновения он сможет прижав к себе сыночка закрыть ему ладонями глаза и шептать на ушко обманные слова утешения...
Отец заявил, что не намерен расставаться с семьей, что поедет вместе со всеми. Офицер Козлов повеселел и вроде как бы стал выше ростом. Не вызывающим возражения голосом он приказал всем собираться и через пятнадцать минут освободить помещение.
- В случае невыполнения приказа нам советской властью дано право открывать огонь на поражение! - твердо и с какой-то гордостью заявил Козлов.
Врал капитан, он не дал бы приказа расстреливать детей и взрослых здесь, в комнате. Ведь татарские кровь и мозги забрызгали бы ковер на полу, скатерть на столе, мебель и другую утварь. А к вечеру этого же дня, как потом написали в письме соседи, Козлов приехал на грузовике, и вывез из квартиры все вещи, включая кастрюли и сковородки.
Поэтому и взволновался бравый капитан НКВД, когда мама стала скатывать в рулон лежащий на полу ковер. Он подбежал к женщине и оттолкнул ее с криком - “Громоздких вещей не брать!”. Наверное, он заранее дал указание своим автоматчикам препятствовать выселяемым забирать с собой любые вещи, которые он уже считал своими, иначе не стал бы дюжий солдат бить прикладом по руке семилетнюю девочку, когда она попыталась взять свою куклу. Будь прокляты до седьмого колена все его потомки! Через год девочка умерла в далекой азиатской стороне от туберкулеза кости.
Вышли все из дверей квартиры только с носильной одеждой, да еще с двумя заплечными сумками, в которых многоопытная, много несчастий пережившая бабушка всю войну держала, периодически заменяя, одну банку с топленым маслом и одну банку с бараньей каурмой, да еще сухари.
Только что прошел небольшой дождь, и мальчику хорошо запомнилась свежесть ночного воздуха. Под ногами скрипел мокрый песок, блестели капли на листьях буйно разросшихся по весне сармашлык и акшам сефа, которыми была обсажена веранда. Тихо прошли они по темному двору. Соседи, разбуженные грохотом прикладов и сапог, которыми солдаты армии-освободительницы дубасили в дверь татарского жилья, не спали и, боясь зажигать свет, следили за уводимыми людьми из-за оконных занавесок.
На улице выселяемых поджидала машина, в кузове которой уже сидело около десятка человек - женщин и детей. Когда все взобрались в машину, с тетей случилась истерика. Она кричала, что их везут на расстрел, проклинала советскую власть и Красную Армию.
- Я знаю! Мы видели, как везли в Красный совхоз бедных евреев! Нас туда же везут, будь они прокляты! Фашисты и коммунисты - все палачи, убийцы и палачи! Будьте все вы прокляты!
И тут Камилл был поражен случившимся далее: сидевший в кузове молодой солдат, но не с автоматом, а с винтовкой с примкнутым штыком в руках, тоже стал громко плакать и успокаивать тетю и вторящих её плачу детей. Он уверял, что их не будут расстреливать, что он уже сопровождал машину с татарами, которых свозят к железной дороге, и там грузят в вагоны для отправки куда-то. Солдат успокаивал женщину, а сам плакал...
Машина шла по темному пространству ночного города. Из перекрещивающихся улиц выезжали такие же заполненные людьми грузовики, и по мере приближения к железнодорожному вокзалу образовалась длинная колонна машин, в которых сидели, сгрудившись, несчастные крымчане. Из кузовов раздавались приглушенные рыдания женщин, внезапно громко вскрикивал ребенок, к нему присоединялись голоса других детей, и как пламя по бикфордову шнуру по всей колонне пробегал импульс панического страха, и плач плененных людей раскалывал сырую ночную темноту. Люди не просили пощады, они проклинали власть и прощались с землей предков.
- Лянет олсун хаинлара! Эльвида, ватанымыз! Эльвида, ана юрту! Эльвида, гузель Кырым! (Проклятие злодеям! Прощай, Родина! Прощай, земля предков! Прощай, прекрасный Крым!).
Казалось, небо разрывалось и клочьями туч разлеталось за крыши городских домов, за темные кроны деревьев. Но две-три автоматные очереди прошивали пространство, и вдруг окутавшая улицы тишина оглушала сильнее раскатов грома. И только сами тесно прижавшиеся в кузовах машин друг к другу люди слышали, как давятся собственным криком дети, которым матери зажимают ладонями рты.
Выстрелы на ночных улицах будили людей в домах, и они, прильнув к окнам, глядели на проезжающие по улицам машины, еще не зная, что им, остающимся в своих теплых постелях, предстоит многие годы убеждать себя и других, что творившееся в эту ночь страшное дело есть высшая справедливость, что их долг и обязанность многие годы ненавидеть и поносить тех, кого сейчас провозят по всем городским и сельским дорогам Крыма на черных ночных грузовиках, тех, на чьей земле и в чьих домах им теперь жрать и спать, чьи мечети они разрушили, чьи кладбища разрыли, чьи пашни изгадили, чьи источники иссушили...
Грузовики, миновав железнодорожный вокзал, остановились в открытой степи, где на путях стояли длинные составы товарных вагонов, в которые велено было немедленно грузиться.
Железнодорожную насыпь окружала цепь солдат с автоматами наизготовку. Лай и хриплый рёв специально раздразненных псов должен был усилить сознание бессилия и обреченности у аборигенов Крыма, с корнем вырываемых из родной земли и отправляемых куда-то в чужие края.
Бабушка, рахмет олсун джанына (да будет милость Аллаха ее душе), прошептала Камиллу, своему старшему внуку:
- Положи в карман горсть земли, мальчик мой. В изгнании с нами будут хотя бы крупицы родной земли.
Старое, из серой ткани в елочку, пальтишко Камилла служило ему и постелью, и подушкой, крупицы родной земли где-то порастерялись, смешались с лёссовой пылью Азии, как порастерялись и смешались с чужой землей косточки десятков тысяч родившихся под небом Крыма потомков тавров и кипчаков. Но все эти годы смертей и унижений в памяти нашей, в сердце нашем всегда неотступно присутствовала наша единственная Родина, и любовь к земле предков переходила не затухая, а странным и страшным для имперских чиновников образом возрастая от поколения к поколению. И спросите у едва научившегося говорить малыша кто он, где его родина и вы услышите один и тот же ответ:
- Мен татарым, ветаным Кырым! (Я татарин, Крым моя родина!).
... Когда Камилл своими детскими пальчиками скрёб поверхность крымской земли, он нащупал стебли травы, и по терпкому запаху узнал свои любимые маки. Он нарвал охапку влажных цветов и взбираясь в вагон старался не помять свой букет. Маки без воды быстро завяли. Но с той поры запах и вид маков возрождали в его памяти картины ночи, когда люди не знали, на смерть их везут, или на какую ни есть жизнь.
Тяжелые двери вагона с криками и руганью были задвинуты. Люди затихли в зарождающейся вагонной духоте. Было слышно, как бегают под вагонами спущенные с поводков собаки в поисках татар, которые могли попытаться спрятаться и убежать. И, наконец, состав с грохотом тронулся и стал постепенно набирать скорость. Это вывело людей из оцепенения, все вагоны заполнился криками, проклятиями, плачем детей, женскими рыданиями.
До самого выезда из Крыма состав шел почти без остановок. Двери не открывались, стало невыносимо душно. В вагоне, где оказался Камилл и его близкие, было двое-трое трезво видящих события мужчин. Они овладели ситуацией, успокоили особо нервных, разъяснили людям, - а было их в вагонной тесноте полсотни человек, - разъяснили необходимость придерживаться диктуемых чрезвычайной обстановкой норм поведения. Старшим в вагоне был объявлен Афуз-заде, отец Камилла.
Нужен был воздух. Выбили два маленьких окошка, находящихся под самой крышей вагона и тщательно заколоченных. Нашли в полу вагона доску, которую удалось немалыми усилиями отодрать. При желании через образовавшееся отверстие можно было выбраться и сбежать. Поэтому его замаскировали, и доску отодвигали только для отправления нужды, для тех же целей соорудили из простыни подходящую ширму.
Плохо было без воды. Какая-то еда была почти что у всех, с водой же нужно было что-то решать. Нашлось в вагоне два больших бидона, владельцам которых предоставили другую посуду, большие же ёмкости решили использовать как общественный водный резервуар. Надеялись, что где-то конвойные позволят набрать воды. Но только под вечер, вывезя состав за Перекоп, конвоирующие состав солдаты как особую милость предоставили людям возможность набрать воды, для чего от каждого вагона было выделено два человека. В каждом вагоне нашлись ведра или бидоны и люди сумели сделать небольшие запасы.
Кормить выселяемых людей советская власть все же стала. Утром второго дня, остановив состав в поле, солдаты стали отодвигать вагонные двери. Народу позволили выйти из вагонов, но велели не отходить на более, чем пять шагов от насыпи, пригрозив стрелять по отдалившимся без предупреждения. Здесь люди из разных вагонов смогли увидеться. Некоторые нашли родных и начали переходить из вагона в вагон, но конвоиры быстро эти действия запретили. Принесли откуда-то большие дюралевые баки с пшённой кашей, стали раздавать хлеб. Изумительный вкус этой каши до сей поры помнится Камиллу, видно уж очень сильно проголодалось бедное дитя. Чудное творение человек! Столько лет прошло, а запомнился вкус сваренной на подсоленной воде крупы...
А на следующий день вечером конвой решил потешиться. По вагонам раздали засушенную соленую рыбу, и в тот день никакой другой пищи не было. Люди, конечно же, ели эту рыбу - у кого ничего другого не было съели побольше, у кого было что-то свое тоже пожевали государственную рыбку. Ели эту сухую рыбу и на утро следующего дня. И никто не мог подумать, что кормление лишенных свободы людей сухой соленой рыбой - это излюбленная садистская забава конвоя. Конечно, после такого угощения людей лишают воды - в этом весь смысл шутки! Сколько людей погибло бы, если бы не шустрые татарские мальчишки, добывшие воду! Не всем из них доведется выжить в последующие месяцы, но те, кто выживет, никогда не склонят головы перед бесчеловечной властью, не станет для них руководством в жизни насаждаемый в стране закон страха...
Но конвой все же отомстил за добытую мальчишками воду: солдаты начали мочиться на людей в вентиляционные отверстия на крыше вагона...
...Что помнится более всего изгнаннику, счастливо выжившему в жестоких условиях спецпоселения? Забывается ли смерть близких тебе людей и смерть чужих, но связанных с тобой одной судьбой, одной землей, одним языком? Забывается ли горькая обида, особенно, если эта обида нанесена всему твоему народу?
Глава 3
Наступали сумерки. Вдали от городских кварталов несколько женщин неумело орудовали лопатами на черной после прошедшего недавно дождя земле. Здесь, в пригороде, желающим недавно выделили по небольшому участку земли под огороды. Две немолодые подруги-учительницы, позже многих других своих соседей по земельным наделам заканчивали подготовку грядок, которые они надеялись засадить картошкой и кукурузой.
- Таня, я больше не могу! Да и поздно...
- Тебе, Хатидже, хорошо, ты с дочками уже почти всю землю вскопала, - отвечала Таня, - а мой шестилетний внучек мне не помощник... А почему сегодня твоих девочек нет?
- Оставила их нынче похозяйничать дома, - вчера они натрудились на участке до кровавых мозолей. Завтра они докопают и твой огород, не беспокойся. А сейчас давай заканчивать.
Женщины обтерли лопаты травой, достав из корзинок бутылки прихлебнули воды, освежив ее остатками потные лица.
- Эй, подруги! Пора домой! - окликнула Татьяна Петровна все еще возящихся на своих участках соседок по огороду. Те на несколько секунд распрямились и, помахав рукой, опять продолжали выравнивать грядки на налипающем на башмаки черноземе.
Пошел моросящий теплый дождь. Подруги шагали по обочине дороги, по которой лишь изредка проезжали темные автомашины, - был май сорок четвертого, и в Крыму еще не отменили светомаскировку. Утомленные непривычным трудом женщины лишь изредка перекидывались короткими фразами. Идти до города надо было не менее часа, да и там по темным улицам до дому шагать им почти столько же. Хорошо хоть, что комендантский час был недавно отменен, и теперь поздним пешеходам не грозила встреча с патрулем, который неизвестно как мог себя повести - всяко бывало. Об одном таком случае, происшедшем с ее родственницей и рассказывала Татьяна Петровна, когда женщины подошли к перекрестку, на котором их пути расходились.
- Таня, приведи завтра внука ко мне, надо убрать зимние вещи и я буду дома, - сказала Хатидже прощаясь. - Пойдешь вместе с моими девочками, они тебе помогут докопать.
- Хорошо, Хатидже. Утром в восемь я с Володей буду у вас. Он любит у тебя гостить, двор у вас зеленый, детишек много. Ну, спокойной ночи!
К приходу матери девочки уже спали. Разогрев на керосинке лапшовый суп Хатидже поела и собиралась уже ложиться в постель, когда раздался громкий стук в дверь. В комнату ворвались вооруженные автоматами солдаты, и первой мыслью учительницы было, что кто-то уже донес, что во время немецкой оккупации она работала в школе. Вот и пришли за ней. Что станет с дочерьми, старшей из которых только исполнилось семнадцать, младшей же, приемной дочери, которая стала не менее дорогой, чем родная, было всего двенадцать лет. Позаботятся ли о них немногие оставшиеся в живых за годы большевизма родственники или же девочек заберут в колонию для детей “врагов народа”? Может быть, надо было поспешить с поисками оставшихся в живых родственников младшей?
Но вошедший вслед за солдатами офицер с погонами капитана сорвал одеяло с укрывшихся им по глаза девочек и велел всем собрать вещи и выходить на улицу. "Собрать вещи"... Значит не в тюрьму и тем более не на расстрел...
- Ну что же... Одевайтесь, доченьки...
- Чего еле двигаетесь? - капитан рассвирепел. - Пятнадцать минут на сборы! Через пятнадцать минут выведу всех хоть голыми!
Большие часы на стене как раз пробили полночь.
Испуганные женщины в возрасте от двенадцати до сорока пяти лет стали суетливо одеваться. Хатидже, не переставая повторять “быстрее, девочки, быстрее!”, металась по комнате, не зная за что схватиться. Ценностей дома не было, всё было снесено в скупку еще до войны, после того, как энкаведешники однажды ночью увели мужа.
Накануне она проветривала во дворе зимнюю одежду, которая сейчас кучей лежала на сундуке в углу. Несчастная учительница брала в руки то пальтишко, то платок, опять бросала в угол, подбегала к дочерям, от них к комоду... Капитан зло смотрел на беспомощных женщин, потом, смачно сплюнув, поглядел на часы и вышел в сени. В этот момент один из солдат, закинув автомат за плечо, подошел к Хатидже и шепотом произнес:
- Матрац распорите!
- Что? - Хатидже не поняла.
Солдат сдернул с постели матрац, снятым с пояса кинжалом распорол его край, оглядываясь на дверь, разорвал матрац по шву и вытряхнул овечью шерсть, которой наполняют одеяла и матрацы крымские татары. Он, все также оглядываясь на дверь, бросил матрац растерянно глядевшей на его действия женщине и шепнул:
- Держи, тетка, пошире!
Второй солдат подошел и, не снимая с груди автомат, двумя руками помог учительнице раскрыть зев матраца, а первый солдат схватил в охапку зимние вещи, и стал их заталкивать в получившийся из матраца большой мешок.
- Вот так! - с удовлетворением произнес первый солдат, второй тоже хмыкнул и оба они отошли как ни в чем ни бывало к дверям. На всю эту процедуру было затрачено не более полутора минут. Действия солдата вывели растерявшихся женщин из ступора. Айше, старшая девочка, схватила с этажерки ножницы, и по примеру доброго солдатика распорола другой матрац, вытряхнула его содержимое и подбежала к комоду.
- Мама, помоги!
Хатидже держала мешок, а Айше быстро перекладывала в него содержимое больших ящиков комода. Хатидже при этом крикнула младшей девочке:
- Сафие, собери еду!
Сафие, только закончившая шнуровать свои ботинки, бросилась в сени и столкнулась в дверях с капитаном, который, подняв глаза к часам на стене, входил в комнату.
- Куда ты, шустрая! - прикрикнул офицер на девочку, схватив ее за плечо.
- Пустите! Я вещи собираю! Отпустите, говорю!
- Ишь ты! - офицер недобро ощерился, вперив взгляд в девочку, которая тоже с нескрываемой злостью смотрела ему прямо в глаза, но потом отпустил ребенка, и только приказал солдату:
- Ефремов, присмотри за ней!
Увидев рядом с уже одетыми женщинами два огромных мешка, капитан удивленно поморщился, и опять взглянул на часы. Из отпущенных на сборы пятнадцати минут прошло только десять.
- Ну, все выходите! - скомандовал он.
- Сейчас, сейчас, - заторопилась Хатидже, - документы вот возьму!
И она подбежала к стоящей в углу тумбочке.
- Выходить, я сказал! - зычно крикнул капитан.
В это время в комнату вошла Сафие с заплечной сумкой.
- У нас еще пять минут времени, чего вы кричите! - девочка помнила, что часы били ровно двенадцать, когда прозвучал жесткий приказ офицера.
Бравый капитан взревел:
- Разговорчики! - и стал демонстративно расстегивать кобуру висящего на боку пистолета.
- Вай, аначыгым! Ой, мамочка! - вскрикнула Хатидже. - Выходим, доченьки, выходим!
Она пыталась поднять мешок с зимними вещами на плечи, но не смогла, и потащила его волоком к двери. За ней последовала Айше, тоже еле справляясь со вторым большим мешком. Сафие пропустила их мимо себя, и, окинув медленным взглядом бравого капитана, пошла не торопясь к дверям. По пути она увидела стоящие на этажерке книги и бросила, не разглядывая, несколько из них в свой рюкзак, который она волокла по полу за собой, и при этом, обернувшись, направила на капитана полный ненависти взгляд. Капитан был растерян явно вызывающим поведением этой двенадцатилетней девочки, но не стал все же вновь хвататься за пистолет. А девочка между тем неспешно проходила по длинным сеням, по пути находя взглядом разную посуду, какие-то другие предметы, и бросала их в свой заплечный мешок и в прихваченную в углу сумку. Со двора послышался тревожный голос Хатидже:
- Сафие, ты где?
- Здесь я, - спокойно ответила девочка, спускаясь по каменным ступенькам во двор. Она с трудом забросила рюкзак за плечи, взяла в руки сумку, и вслед за Хатидже и сестрой вышла на улицу. Там их ждал открытый грузовик, в котором уже сидело человек пятнадцать. Солдаты, увидев, как женщины тщетно пытаются поднять свои мешки в кузов, помогли им, и маленькая семья учительницы оказалась среди таких же растерянных женщин и детей. Одна из сидящих в кузове татарок узнала Хатидже и обратилась к ней:
- Недир бу, оджапчем? Не япалар бу хаинлер? (Что это твориться, учительница? Что задумали эти каины?)
- Не билеим, джаным! Алланын кулымыз, сонгу хайырлы олсун! (Что я могу знать, дорогая! Над нами Аллах, пусть минуют нас худшие из бед!)
- “ Красный совхозга” алыб бараджаклармы, ёксам? (Наверное, нас везут в “Красный совхоз”?) - продолжала причитать бедная женщина, но Хатидже резко прервала ее:
- Балаларны янында олмаджак шейлер айтма! Я Уралга, я Сибирьге алыб кетеджеклер. “Красный совхозга” алыб бараджак олсалар чувал алдыртмаз эдилер (Не болтай всякую чушь при детях! Или на Урал, или в Сибирь. Если бы в “Красный совхоз”, то не разрешили бы брать вещи.).....
Все знали, что в “Красном совхозе” до войны расстреливали людей...
“ На Урал! В Сибирь!” - с надеждой думала, Хатидже, которая многих своих родственников и друзей числила среди раскулаченных и высланных в восточном направлении.
...На окраине городского вокзала, куда их доставили в тесно набитом людьми грузовике, Хатидже-оджапче опять повезло - прямо перед ней остановился вагон, и она, подсадив своих девочек в широкие двери, стала подавать им мешки и сумки. Они заняли один из углов вагона, который был, видимо, недавно не особенно тщательно отмыт от крошева сена и навоза, и оставшиеся ароматы однозначно указывали на прежних обитателей этого жилища. Такие вагоны почему-то называют "телячьими", хотя перевозят в них и взрослых представителей рогатого племени. По какому-то, часто свойственному даже вполне разумным людям неадекватному реагированию на нештатные ситуации, бедняжка учительница начала возмущаться:
- Какая здесь вонь! Как можно помещать людей в немытые телячьи вагоны! - и устыдилась, вдруг поняв нелепость своего возмущения: а в вымытые можно?
Вагон заполнялся. Люди без крика, без плача карабкались, подталкиваемые снизу, на мокрые скользкие доски. В полумраке старались забиться по углам, прибиться к стенам вагона. Тем, кого грузили в вагон последними, уже ничего другого не оставалось, как бросать свои баулы, если они имелись, на уже расположившихся ранее вынужденных пассажиров, - это вызывало злобную ругань, швыряние вещей, потасовки. Наконец конвойные задвинули и заперли снаружи двери, и в вагоне сгустилась влажная, остро пахнущая духота. Какая-то старая женщина призвала плачущих, причитающих, переругивающихся между собой людей осознать всеобщность катастрофы, понять, что по злой воле властей течение нормальной жизни прервано, и чтобы выжить, надо всем проявить терпимость. У несчастных моих крымчан сработал инстинкт коллективного самосохранения, и они перестали злобиться друг на друга, и очень скоро возникло единение этих обреченных на одинаковые мучения людей, и те, кто недавно еще пихались и ругались, теперь старались помочь друг другу как-то устроиться в нечеловеческих условиях. Когда поезд двинулся, духота постепенно рассеялась. Измученные люди впали в неустойчивую болезненную дрему.
Хатидже сохраняла остроту восприятия, ее память перебирала события последних восьми - десяти лет.
После ареста мужа как-то жили, привыкли к нищете. Работала в школе, пожалели, не выгнали. В войну, после прихода немцев, стало совсем плохо. Собралась, было, учительница поехать в деревню, к родственникам, но пришла черная весть: в горную деревеньку нагрянул карательный отряд, жителей согнали в сарай для просушки табака и сожгли. За связь с партизанами. Сумели спастись только трое мальчишек лет по двенадцати, которые пролезли в нору, прорытую собственными руками под стеной сарая...
Как жили, чем питались - один Аллах ведает. Хатидже взялась обучать грамоте двух-трех малышей - школ ведь не было. В оккупации все жили бедно, но получше было тем, у кого были родственники в деревне. Вот такие семьи и поддерживали Хатидже и ее дочерей в качестве платы за обучение.
На второе лето Хатидже узнала, что с сентября открывается школа, в которой она работала до войны, преподавала русский язык и литературу. Она поспешила в школу, зашла в дирекцию, но там какие-то незнакомые ей работники ошарашили ее, сообщив, что школа будет теперь только для русских детей и не рекомендовано принимать в ученики татар. Что касается учителей, то и среди них не должно быть неправославных. Хатидже сначала даже не поверила в такой новый порядок, ведь татары являются коренным населением Крыма, и такие дискриминационные правила как-то не вязались с логикой. Но сидевший в директорском кабинете чиновник, присланный из городской Управы, терпеливо разъяснил, что дискриминации никакой в этом нет, а просто новая власть восстанавливает традиционные нормы российского государства, которые были порушены большевиками.
- Я до революции училась в гимназии, никакого запрета на прием татар не было! - воскликнула Хатидже. - Вы разрушаете национальный мир в Крыму...
- Гарантом, как вы изволили выразиться, национального мира, а точнее - порядка и цивилизованности, является великая германская армия! - высокопарно выговорил чиновник, поднявшись из-за стола. Он одернул полы узкого черного сюртука, в который был облачен. - Вы, выражая недовольство, выступаете вольно или невольно с большевистской агитацией. Прошу вас назвать вашу фамилию.
- Никак собираетесь сообщить обо мне в гестапо? - Хатидже тоже встала. - Успокойтесь, я не буду вам докучать.
Хатидже вышла из кабинета и поспешно покинула территорию школы. Она вся дрожала от возмущения и, надо признаться, страха. Хотя днем на улицах немцы вели себя мирно, как бы не замечая горожан, но ходили слухи об ужасных криках, слышащихся из дома, где находилось, опять же по слухам, гестапо. Достоверно было известно о проводимых немцами карательных акциях в горных деревнях. И никак нельзя было не помнить о массовом убийстве евреев. Хатидже шла по немноголюдной улице и плакала. Страх, всегда страх! Только лет до восемнадцати и прожила она без омерзительного страха. А потом... Бандиты с красными бантами, бандиты в хромовых сапогах и с нагайками, откровенные бандиты с гармошками и с черными знаменами. Потом голод, какие-то шумные "чоновцы", которым было все позволено, молчаливые чекисты, которые уводили людей навсегда, продразверстка, особо страшная для сельских жителей, у которых отбирали все, включая сушеные яблоки и груши. Потом преследование за социальное происхождение, всевозможные чистки, потом раскулачивание... Тридцать седьмой и все последующие годы... Не хватало ежедневного страха перед родным НКВД, а тут еще ужасное чужеземное гестапо!
Через несколько дней после этого к Хатидже зашла одна из ее коллег, энергичная толстушка.
- Хатидже, ты, что же, в нашу школу не идешь? Смотри, без работы останешься! Или не знаешь, что с сентября школы открываются?
Хатидже рассказала возбужденной своей приятельнице о своем визите в дирекцию. Приятельница ахнула:
- Господи, что же это такое? Может, ты не так поняла?
- Чего тут понимать, все предельно ясно. Новый порядок. А мы старым бывали недовольны...
Однако через день приятельница вновь прибежала к Хатидже.
- Директором школы назначили нашего учителя физики, я ему о тебе рассказала, и он хочет взять тебя к себе секретарем. Соглашайся! Все же какая-то зарплата будет.
Чего же тут не соглашаться, лишь бы приняли в эту школу "только для белых".
- А что же с нашей бывшей директрисой? - поинтересовалась Хатидже. Шустрая ее коллега всегда славилась тем, что все знала, во все вмешивалась, каждому старалась чем-нибудь помочь.
- Наша бывшая была членом партии, ей сейчас лучше не высовываться. Я слышала, что она уехала в Керчь к дочери, она же у нее врач. Ну, значит, беги утречком в школу.
Наутро Хатидже пришла к новому директору в кабинет, где на стене над обтянутым зеленым сукном письменным столом, светлым прямоугольником выделялось место, где, как хорошо помнила Хатидже, в прежние времена висел портрет Сталина с монгольского типа девочкой на руках. Директор, встав, предложил посетительнице сесть. Затем бывший учитель физики стал извиняться перед коллегой, что не может принять ее на должность педагога.
- Так ваша ли в том вина, Сергей Сергеевич? Вы и так рискуете, что берете меня в секретари.
- Риска никакого нет, в ГПУ меня за это не заберут. А тот, который вас так напугал, он не злой человек. Просто он трус, всегда боялся НКВД, а теперь боится гестапо. Он до революции был школьным инспектором, при коммунистах работал где-то за Перекопом. Ему предложили быть директором, и он сперва согласился, а потом испугался - что будет, если советская власть вернется?
- Сергей Сергеевич, а вы того же не боитесь?
- Боюсь. Но все отказываются. Должен же быть у школы директор, ведь дети уже два года без школы. Я пошел на эту жертву. Ладно, бог милостив. Ведь школу не немцы открывают, и денег на нее Германия не дает. - Сергей Сергеевич поднялся из-за стола, высокий, худой, в сером обветшалом костюме. “Риск нешуточный”, подумала Хатидже, которая, как почти все наши люди, не верила, что немцы надолго останутся в Крыму.
- Итак, надеюсь увидеть вас завтра с утра на работе, - директор-камикадзе наклоном головы распрощался со своей будущей секретаршей.
Школу при содействии оккупационных властей собиралась субсидировать городская дума, состоявшая в основном из выживших при советской власти бывших чиновников Таврической губернии. Почти все они были русские шовинисты, привыкшие презирать нерусских, на земле которых нынче проживали. При всей мерзости коммунистической национальной политики, приведшей под лозунгом борьбы с буржуазным национализмом к почти полному уничтожению образованного слоя крымских татар, откровенного расизма и антитюркских лозунгов при советской власти не было. Теперь же под сенью германского “нового порядка” бывшие чиновники русского царя устанавливали своего рода режим апартеида для коренного населения. В частности, открывались школы “только для русских”, в которые принимали всех, кроме татар. Деньги на это мероприятие собирали в качестве налога у появившихся разного рода мелких предпринимателей, у сельских кооперативов. В числе налогоплательщиков немало было и татар, пытавшихся выживать в новых экономических условиях, несмотря на всяческую дискриминацию. Дискриминация была жестокая, и ее удавалось проводить в основном по той причине, что мало оставалось на полуострове мужчин-татар, были все они призваны в Красную Армию. А чиновники из дореволюционных губернских учреждений откуда-то нынче повылазили, как тараканы, - видно и спрятались от призыва в армию надежно, как эти самые насекомые. В городские учреждения, которые оказались необходимы немецким хозяевам, татар на службу не брали. Полицаи в городах были только из русских, хотя в татарских селах по необходимости на полицейскую службу брали иногда и представителей коренной нации. Все оставшиеся с довоенных времен вывески на татарском языке были сняты...
Так и стала педагог со стажем работать в своей же школе секретарем директора. Под свой страх и риск порядочный русский человек взял себе в секретари крымскую татарку. Хатидже была ему безмерно благодарна еще и за то, что удалось устроить в ученицы русской школы старшую дочь. Татарская школа была одна на весь город и ютилась в полуразвалившемся старом здании, к тому же почти всех татарских учителей расстреляли в тридцатых годах как буржуазных националистов.
Младшую дочь нельзя было выводить на люди...
И вот теперь, после возвращения советской власти, новая беда.
Весь крымско-татарский народ был лишен земли под ногами, был поднят над землей и брошен в темноту и тесноту грязных товарных вагонов. Не герой Геракл оторвал Антея от матери-земли, - большевистская власть предательски заключила под стражу женщин, детей и стариков в те дни, когда мужчины на фронтах жесточайшей из войн защищали эту власть! Захватила беспомощных людей под дулами автоматов, и, отлучив от домов, от нажитого годами какого-то имущества, лишила и почвы под подошвами ног...
Шли по степям кипчакским, всё удаляясь от Крыма, эшелоны. На голых досках, на клочке сена, на тонком одеяльце тряслись в гремящих старых телячьих вагонах несчастные люди, - не преступники, не враждебный класс, а целый народ!
...В каждом вагоне своя жизнь, свои страсти. Хатидже и ее дочерей соседки по вагону невзлюбили за то, что у них было много вещей. То и дело какая-нибудь сварливая тетка начинала попрекать учительницу, что та заняла много места, что едет с комфортом как ханша. Хатидже не знала, что ответить на эти грубые выпады и плакала. Наконец, всеми уважаемая старая Семадие-тизе потребовала прекратить придираться к учительнице:
- Эвингден шийлерингни алыб олмагъанынгны такдирингден корь! Биревни малына не ишинг бар? (На судьбу свою пеняй, если не удалось тебе взять из дому вещички. Какое тебе дело до чужих вещей?).
Разговоры приутихли, но непонятная неприязнь к семье учительницы не исчезла. Хатидже не общалась с соседками. Пока девочки читали в вагонном сумраке свои книжки, пока бабы вокруг судачили, бог знает о чем, она сидела в своем углу и переживала события последних лет. Она бросала взгляд на склонившуюся над книгой черноволосую головку Сафие, и слезы наворачивались ей на глаза.
...и слезы наворачивались ей на глаза. Хатидже вспоминала тот страшный день, когда под конвоем немецких автоматчиков по узкому тротуару под окнами ее квартиры шли женщины, дети, старики. Евреи. До этого дня городские жители были взбудоражены слухами о том, что немцы повсюду в занятых ими городах расстреливают евреев. Те из жителей, которые с вне логической патологией всю жизнь ненавидели евреев, услышав об этом сперва произносили с садистской жестокостью:
- Очень хорошо! Давно бы надо.
Но даже эти обыватели, вдруг поняв, что это не бессмысленная злобная болтовня, не пьяная ругань, а, похоже, правда - цепенели от ужаса и бежали закоулками к знакомому еврею предупредить его о грозящей беде.
Многие еврейские семьи эвакуировались, но еще большее их число осталось в городе: как бросить дом и нелегко нажитой скарб из-за, даст Бог, вздорных слухов. Немцы - цивилизованная европейская нация. Да и на дворе двадцатый век. Не может быть такого, чтобы людей расстреливали за принадлежность к еврейскому этносу! Много было в истории человечества зверств, но такого и в древности не было! Немцы, немцы... Нет, это цивилизованная европейская нация!
И вот их ведут. По два-три человека в ряду. Женщины и дети. Старенький дед еле ковыляет под руку с такой же старой женой. Они уже знают, что их ведут на смерть - куда же еще! Они идут молча, ни всхлипа, ни мольбы. Только детишки не знают, что их ждет, потому что взрослые не говорят между собой о конце пути, взрослые удивительно спокойны. Чем позже ужас придет в сердца детей, тем лучше. А там - покой...
Хатидже вспомнила, что ее хорошая приятельница Инна Моисеевна, преподававшая в школе немецкий язык, осталась в городе. Муж ее, врач, был на фронте. Родственники мужа все уехали, Уговорить Инну Моисеевну не оставаться на оккупированной фашистами территории, когда весь мир знает о событиях "хрустальной ночи", они не смогли. Муж ее был известный в городе доктор, у них была хорошо обставленная квартира, богатая библиотека. Инна Моисеевна была поклонницей немецкой культуры, читала наизусть из обеих частей "Фауста". Она не допускала мысли, что великий народ, носитель великой культуры, может опуститься до небывалого варварства. Увлеченность Германией прошлых веков заслонила в ее сознании события последнего десятилетия.
Хатидже накинула на себя кофту и побежала к углу дома, из-за которого тротуар сворачивал на эту последнюю прямую, ведущую к огороженной территории городской больницы, за воротами которой исчезали медленно бредущие люди. Там за углом Хатидже присела на каменную скамью, скрытую за редкими кустами, и молила Бога, чтобы Инны Моисеевны и ее дочери Сонечки не было среди тех, кто уже здесь прошел. В этом случае у нее имелся шанс спасти их. Дело было в том, что в каменном заборе с декоративной решеткой, который шел вдоль тротуара, был пролом. Этой весной на город обрушился ливень огромной силы. Ложбина за трехэтажным домом, так называемая "горка", любимое место игры детишек, заполнилась дождевой водой. Недавно выстроенный забор загородил ложбину как плотина, маленькое отверстие для стока воды, которое было предусмотрено строителями, не справлялось со своей задачей. Вода поднялась почти до окон стоявших по ту сторону лощинки старых одноэтажных домиков и угрожала подмыть их стены. Вызванные пожарные проломили внизу нового забора большое отверстие, и вода вскоре вытекла. Пролом же остался на радость ребятишкам, которые почему-то предпочитали выбираться на тротуар не через калитку, а через эту дыру в стене. Инна бывала в гостях у Хатидже, и они выходили на "горку", посидеть на траве. Не раз, глядя на пролом в стене, они обсуждали непредсказуемость крымской погоды. "А теперь пойдем на плотину", - говорила Инна, после того как они кончали чаевничать. И сейчас Хатидже надеялась, что у Инны есть шанс скрыться в проломе, в который ребенок проскакивал, чуть нагнувшись, а взрослый человек мог бы броситься в дыру головой вперед...
...Из-за поворота показалась очередная группа предназначенных для заклания несчастных людей. Впереди шла немолодая женщина, маленькую девочку она несла на руках, за подол держался мальчик лет пяти. И чуть не вскрикнула Хатидже, когда увидела в середине колонны Инну, ведущую за руку свою девочку. Наших людей было человек сорок, их сопровождали двое немцев с автоматами на груди. Вели людей неспешно: в группе было немало детей и немощных стариков, а подгонять их - себе дороже, еще упадут посреди дороги...
Хатидже вышла из-за кустов и быстро пошла навстречу идущим.
- Инна, плотина! Плотина! Слышишь, плотина!
Инна Моисеевна была в трех шагах и не могла не услышать громкий шепот своей подруги. Она кивком и движением глаз дала знать, что поняла. Девятилетняя Сонечка вскрикнула, было:
- Мама, вон тетя... - но Инна шикнула на нее:
- Тихо! - и послушная девочка, переставшая удивляться событиям этого странного дня, подавила свой возглас.
Немец увидел, что женщина со стороны близко подошла к конвоируемым и что-то, кажется, сказала.
- Vek! - крикнул он, в полуобороте погрозив автоматом ускорившей шаги женщине. Потом больше для собственного удовлетворения добавил: - Donner-wetter! Russische schwein!
Хатидже быстро обошла угол дома и поспешила на "горку" с другой стороны двора. Затаившись за углом, она ждала.
Инна нервно продумывала услышанное. Она вспомнила, что стена с дырой внизу, действительно, вплотную примыкала к тротуару, по которому их ведут. Только бы конвойный оказался бы подальше! Если же немцы увидят и выстрелят, так ведь исход один. Они уже приближались к пролому. Да, тротуар здесь узок. Вот, она идет, почти касаясь забора плечом. Немцы-конвойные вышли на дорогу и идут оба слева от группы. Боже милостивый, помоги...
- Соня, перейди на эту сторону. Слушай внимательно и не слова не произноси. Сейчас рядом с тобой будет дыра в заборе. Как только подойдем к ней, ты, нагнувшись, быстро беги за забор. Не произноси ни слова. Я буду за тобой. Только не издавай ни малейшего шума, поняла?
- Да, мамочка. И ты не задерживайся.
Надо было пройти еще шагов двадцать. Немец, шедший сзади, пропуская идущую по мостовой машину, быстро прошел вперед, и шел теперь почти рядом с Инной. Господи! Инна сообразила, что Соня в любом случае может незаметно исчезнуть, но она сама... Нет, ей незаметно не уйти.
- Соня, ты быстро прыгай в дыру, я приду чуть позже, жди меня у тети Хатидже. Все, беги... - от неимоверного напряжения голос ее стал жестким и бесцветным.
Девочка испуганно оглянулась на маму и быстро юркнула в дыру. Ее побег заметила только идущая за Инной пара стариков. Уходящая в смерть Инна отправила дочь в жизнь, даже не обняв ее на прощание...
... Стучат, стучат колеса на стыках стальных рельсов, то и дело с треском подпрыгивают шаткие вагоны на заезженных путях, пугая людей возможностью развалиться на части.
И однажды к вечеру кто-то, по всей видимости, непредумышленно, опрокинул принадлежащий учительнице Хатидже бидончик с водой, которой конвоиры снабдили их со строгим предупреждением на два дня. Семадие-тизе, которую, за отсутствием в вагоне взрослых мужчин, выбрали старостой, призвала соседок отлить понемногу воды для Хатидже с дочерьми, но сварливые бабы отказались делиться. И вот на очередной стоянке Хатидже, завидев из открытых дверей вагона протекающую среди камышовых зарослей речушку, - всего в каких-то пятнадцати шагах внизу, - спрыгнула с бидончиком и побежала к воде. Она бы и успела незамеченной вернуться - высокие заросли подходили к самому полотну, - но, неловко ступив, подвернула ногу и упала, пролилась вся вода из бидончика. Женщина побежала назад к речке, и в это время состав, быстро набирая скорость, двинулся с места. Бросив бидон она рванулась вверх к насыпи, закричала, люди из хвостовых вагонов увидели ее и тоже что-то крича махали ей руками. Но уже ничем помочь ей было нельзя. Хатидже остановилась в высокой траве и как во сне глядела, как мимо нее с грохотом промчался последний вагон поезда, увозившего в неизвестность ее дочерей. Когда поезд исчез за деревьями, несчастная женщина упала без чувств на болотистую землю...
Глава 4
Мальчик мечтал о мешке муки.
- Если бы у нас был мешок муки, то мы бы продержались до конца войны, - не раз говорила бабушка.
Так мешок муки соединился в сознании мальчика с концом войны. А конец войны - это возвращение домой к маме и папе. Это возобновление прежней счастливой жизни. Мечта о мешке муки вытеснила все другие мальчишечьи мечты, даже мечты о двухколесном велосипеде.
И вот в наступившие страшные дни бомбежек, взрывов, пожаров призрачная мечта о мешке муки вдруг приблизилась к реалиям городского бытия, но для мальчика вряд ли была доступной. В городе шли грабежи. Это был такой вид грабежей, когда удачливый горожанин мог сказать другу или соседу такую, к примеру, фразу:
- Сегодня грабили маслозавод. Мне удалось утащить полведра масла и кусок макухи.
И друг или сосед не ужаснулся бы моральному падению своего собеседника, а завистливо охнул бы, или же в свою очередь поделился бы радостью, что довелось участвовать в грабеже мельничного комбината и притащить домой мешок муки.
Уже два дня, как на городские кварталы обрушивался то и дело перекатистый гром - это специальные отряды взрывали промышленные предприятия, склады, военные казармы, железнодорожные составы с оружием и с продовольствием. Порой командир подразделения взрывателей сознательно не выполнял приказа на уничтожение объекта, или же кто-то из работников предприятия, наделенный органами правом организовать уничтожение объекта, вырывал в последний момент бикфордов шнур и портил взрывное устройство, подвергая разрушению только запоры и стены продуктовых складов. И тогда начинался грабеж. Уж не знаю, почему в языке не нашлось другого слова для этого действа, и почему “грабежом” назвали беспорядочный унос населением продукции со складов разного рода, ведь эта продукция, так необходимая людям на оставляемой советской властью территории, волей этой власти должна была быть уничтожена, превращена в дым и пепел...
Уже в первый день грабежей бабушка, не выдержавшая зрелища, когда перед воротами двора разгоряченные люди тащили кто на тачках, кто волоком мешки, коробки, банки, повелев внуку сидеть дома и никуда не ходить, пошла в город. Однако, старая женщина не решилась влезть в толчею в проломе стены какого-то склада и пройдя еще немного повернула назад. Только горсточку маленьких гвоздей подобрала она по дороге.
Она нынче жила одна с внуком в своем старом двухкомнатном домике в густо заселенном дворе. Дочь перед самым началом войны приехала к ней с восьмилетним сыном из Москвы на летние месяцы. Зять, родом из Казани, прирабатывал в столице в качестве художника. Жили они более чем скромно в маленькой комнатушке и дочь, работавшая медсестрой в поликлинике, обычно летом брала месячный отпуск и приезжала в Крым. Здесь были родственники в горных и приморских деревнях, и мальчик Диян прекрасно проводил лето. А муж-художник между тем имел возможность расставить в московском их жилище мольберты и поработать над своими картинами. Наиль был талантлив и ему была обещана персональная выставка, но забота о ежедневном пропитании не оставляла времени для завершения творческих замыслов.
Когда вдруг началась война, то первым побуждением Зоре было срочно вернуться с сыном в столицу. Однако по здравом размышлении она написала мужу, который, надо сказать, был близорук и посему не подлежал мобилизации, чтобы он приезжал в Крым - наверное, здесь будет безопаснее. Наиль, гордый молодой мужчина, обиделся на такое предложение и написал в ответ, что он просит жену быть сыну заботливой матерью, и что сам он решил идти на фронт добровольцем. Зоре, оставив сына на попечение матери, решила срочно добираться домой, к мужу. Ее уговоры не идти под пули, уж коли обязательная мобилизация его минует, не убедили Наиля, и настал день, когда Зоре провожала его на Белорусском вокзале на фронт... Перед тем, как вернутся к сыну, Зоре должна была надежно упаковать картины мужа и развезти их по дачам друзей, - так казалось надежней. Нужно было еще получить деньги в разных организациях за выполненные работы, и это заняло больше времени, чем можно было ожидать. И когда, казалось бы, почти все дела уже были сделаны, стало известно, что поезда на юг уже не ходят. Вскоре сообщили, что немцы вошли в Крым...
А в те дни, когда бедная молодая женщина в растерянности металась по московским вокзалам, надеясь найти какие-нибудь обходные пути на полуостров, там развернулось массовое самоснабжение населения продуктами питания. И только старые и немощные не участвовали в этом действии.
После неудачной бабушкиной попытки Диянчик задумал провести свою операцию. В сарае еще с прошлого лета лежал самодельный так называемый самокат - доска на шарикоподшипниках. Чем не транспортное средство! Диян тишком достал этот самокат, сунул в карман моток веревки и незаметно для бабушки ушел со двора.
Миновав несколько перекрестков, мальчик увидел, как из боковой улочки то и дело выскакивают дяденьки и тетеньки в одиночку или вдвоем несущие мешки. Вот оно! Диян стремглав бросился в переулок. Действительно, неподалеку грабили крупяной склад. Людей было не много, но проход в развороченной стене был узок, и рвущиеся внутрь сталкивались со стремящимися наружу, причем эти были более агрессивны - добыча уже была в их руках. Земля перед проломом была обсыпана перловой и еще какой-то крупой. Женщины, по двое тащившие мешки за ушки, падали, визжали, через них перешагивали, ругаясь, мужики, взвалившие мешок на плечи. Диян пригляделся и понял, что сможет проскользнуть на склад. Но как выволочь оттуда мешок весом, возможно, в полцентнера, а то и больше? Да ладно, решил мальчишка, надо сначала туда забраться.
Но тут две толстые тетки, вдвоем вытащившие на свет божий два мешка перловки и озадаченные проблемой, как дотащить добычу до дому, увидели самокат в руках у мальчишки.
- Ой, мальчик, - заголосила одна, - голубчик, одолжи свой самокатик, милый! Я верну тебе, адрес скажи свой! Ой, верну, верну!
Диян обхватил свой транспорт руками и отпрянул. Вторая баба, видя, что мальчик может сейчас убежать, схватила самокат обеими руками и легко вывернула его из рук ребенка. Что-то приговаривая, и стараясь не глядеть на ошеломленно молчащего мальчонку, бабы торопливо прилаживали мешки на неудобное экспроприированное транспортное средство. И тут Диян закричал, заплакал, бросился отнимать свое. Бабы молча отталкивали его своими широкими задами, и уже как-то сумели веревками прикрепить мешки.
- Мальца легко обидеть, - бросил проносящий на спине мешок мужчина, но защищать ребенка не стал. Тогда первая женщина подошла к Дияну и стала его уговаривать:
- Милый, не обижайся. Я, клянусь, занесу тебе твой самокат, клянусь. Вот, возьми, деньги. Тут много, десять самокатов купить можно, Но я тебе занесу твой, обязательно!
Она совала в карман Дияну красные тридцатирублевки, а между тем ее товарка, с трудом удерживая равновесие, утащила самокат с мешками куда-то в соседние дворы. Увидев, что та скрылась, женщина, которой и вправду было совестно обижать ребенка, сунула в руки мальчика еще пару купюр, и с неожиданной для ее комплекции скоростью скрылась в подворотне.
Потрясенный Диян не бросился за ней вослед, да и не нагнал бы ее в этих неизвестных ему проходных дворах. Еще немного постояв и поглядев на толкотню у прохода на склад, он медленно пошел прочь. Он не думал о том, что, по сути, хорошо, что не влез в эту толкучку, все равно ему не вытащить бы оттуда тяжелый мешок, а пострадать в давке озверевших людей он мог очень даже просто, - ему было очень обидно, что он такой маленький и малосильный.
И когда огорченный неудачей и потерей самоката мальчик понуро шел уже домой, мимо него по неровной булыжной улице промчался здоровенный дядька с небольшой двухколесной тачкой, до предела загруженной мешками. Вдруг на колдобине тачка заваливается, одно колесо откатывается куда-то, веревки, опоясывающие свисающие мешки, лопаются, и дядька со страшными ругательствами пытается уложить неподдающиеся мешки вновь на свою уже одноколесную повозку. С трудом он складывает свою добычу на скособочившуюся тачку, но веревки уже не хватает и мешки сползают, какие ухищрения не выдумывает дядька. Особенно непокорен один мешок, который все время оказывается лишним и, будучи водруженным на полдюжины своих более послушных собратьев, начинает соскальзывать сам и вовлекает в это дело других. Как не матерился мужик, как не пытался обрывками веревки обвязать мешки - все было тщетно. Заметив, наконец, с любопытством наблюдающего за его мучениями мальчишку он подозвал его:
- Эй, мальчик! Поди сюда! Ты видишь, у меня авария. Я сейчас оставлю здесь вот этот мешок, а ты его посторожи. Если кто приставать будет, скажешь, что ты Яшки Черного сын, понял? Я вернусь и тебе заплачу. А чтобы ты не скучал, - на, вот, открой карман! - и он протянул мальчишке горсть очищенных подсолнечных семян.
- Не! Не в карман, давайте в шапку! - торопливо снял с головы шапчонку Диян. В кармане курточки у него был моток веревки, которую дядька, несомненно, позаимствовал бы. Дияну же позарез надо было остаться наедине с мешком.
Простодушный дядька отволок один мешок на обочину, а оставшиеся пять или шесть мешков сумел перетянуть своей драной веревкой. Пообещав скоро вернуться, и приветливо махнув Дияну рукой, он поволок, чертыхаясь, одноколесный драндулет по негладкой дороге. Пока Яшка не скрылся за дальним поворотом, Диян с невинным видом и с внешним спокойствием сидел на мешке и бросал в рот семечки. Сердце у мальчишки бешено колотилось, он соображал, какие действия надо ему сейчас предпринять. Район города был ему достаточно хорошо знаком. Его доверитель повернул на улочку направо, бабушкин же двор был налево и через базарную площадь. Если бы был самокат, то проблем бы не было, - чуть не плача подумал мальчик. Он попытался сдвинуть мешок, но в том было не менее полусотни килограммов, и даже волоком ребенок не смог бы его протащить. По мере того, как Диян осознавал невозможность сдвинуть мешок - о!.. заветный мешок с мукой! - им овладевала нервная дрожь, он начал было плакать, но серьезность момента требовала сохранять трезвое спокойствие. Доставить мешок домой - это была вторая задача. Первое, что надо было сделать - это спрятаться вместе с мешком от дядьки Яшки. Просить кого-либо из редких прохожих донести мешок было бесполезно, да и опасно. Тут мальчик увидел белобрысую тетку, каждый день торгующую на базаре молоком. Она толкала перед собой тележку с бидонами и явно направлялась на базарную площадь.
- Тетенька, помогите мешок до базара довезти! Мама моя там мукой торгует, я ей подвозил вот мешок, а у меня большие мальчишки самокат отняли. Тетенька, помогите, пожалуйста, меня мама заругает! - Диянчик вполне натурально плакал.
- Кто там у нас мукой торгует? - стала соображать молочница. - А, ты, что Валентины сынишка, что ли?
- Ну да! Мама, знаете какая строгая? Я боюсь! Тетенька, помогите!
- Валька, она строга, я знаю. Не пожалеет мальца, задаст тебе ремня, бедолага. Как же это ты не уберег свою каталку?
- Да мальчишки большие, хулиганы! Еще и побили меня! Только вы и можете помочь...
- Да уж! Давай свой мешок. Эй, мужик! Подсоби-ка мешок поднять!
Проходящий мимо мужчина поставил мешок с мукой на тележку рядом с бидонами и добрая тетка-молочница, сетуя на утяжелившуюся поклажу, продолжила свой путь на базар.
Диян соображал, как быть дальше. Когда они завернули в переулок, мальчишка с деланной радостью обратился к натужно толкавшей тележку молочнице.
-Ой, тетенька, вон наш сосед идет. Он здоровый дяденька, он всегда маме помогает, он мешок дотащит. А то вы совсем утомились.
- Да? - не без облегчения спросила молочница. - Где он, твой здоровый дядька?
- Он за киоск зашел, я его догоню. Давайте мешок скинем.
Вместе они скинули мешок на землю, и мальчик от избытка благодарности обнял и расцеловал свою благодетельницу, и та, довольная от такого искреннего проявления чувств, повезла свой груз дальше.
Диян же стал думать, что делать теперь. Пока что он действовал успешно. Умненький от рождения он, московский мальчишка с Солянки, отточил свою находчивость и смелость в проказах с ровесниками и со старшими ребятами, пропадая день-деньской на Яузе, ловчил в закоулках Китай-города. Приходящим с работы под вечер родителям только казалось, что это они воспитывают своего сына - воспитывала Москва. И в Крыму Диян был не новичок, хорошо знал округу, где находился бабушкин дом, дружил с местными мальчишками. Сейчас он очень надеялся, что от обычно оживленного базара его подбросит до дома какая-нибудь повозка. Но в этот особенный день, когда одна армия покидала город и вот-вот должна была прийти другая, вражеская армия, на базар не стремились ни продавцы, ни покупатели. И только несколько не адекватно воспринимающих ситуацию сбытчиков молока да свежеиспеченных булок ожидали редких сегодня клиентов. Со страхом оглядываясь по сторонам в ожидании появления хозяина мешка, - а, впрочем, какой он хозяин, ведь он сам стырил мешок где-то со склада, - мальчик бесполезно прождал около часа. Положение казалось безвыходным, и ребенок не мог удержать слез.
Вдруг возле него остановились немолодые уже мужчина и женщина, опустив на землю заплечные мешки.
- Что случилось, сынок? - спросила женщина.
Взглянув на них, мальчишка быстро сориентировался:
- Бабушка еще утром оставила меня посторожить мешок, и все еще не приходит. Наверное, что-то случилось, - захлебнулся он рыданьями. - Мы купили муку на последние деньги, а я не могу добраться с мешком до дому-у-у-у...
- Тима, надо помочь, - сказала женщина.
Она повесила мужнин рюкзак на одно плечо, свой на другое. Мужчина, среднего роста крепыш с круглой облысевшей головой, крякнув взвалил мешок на спину и обратился к Дияну:
- Ну, где твой дом?
...Антонина и Тимофей, супруги из Мелитополя, уже неделю бродяжничали по Крыму, избегая возможных знакомых. Тимофей Иванович был из тех, кто учится не только на собственных ошибках и уж, безусловно, не наступает дважды на одни и те же грабли. Служил он счетоводом на элеваторе. В начале тридцатых годов стал работать у них бухгалтером интеллигент, высланный из Ленинграда. Никогда из соображений нравственной гигиены не увлекавшийся политикой Тимофей Иванович со временем подружился с ленинградцем, плененный его обширными знаниями и вместе с тем простотой в общении. Немолодой уже бухгалтер жил бобылем, и Антонина Васильевна с удовольствием потчевала его своими разносолами, - работа на элеваторе гарантировала обеспеченное по тем временам существование. Ленинградец избегал разговоров о своей прежней жизни, и тем более не было у них бесед о политике - Тимофей Иванович с самого начала знакомства обозначил нежелательной эту тему. Тем не менее, вскоре после ареста ленинградца арестовали и Тимофея Ивановича. Дали срок за связь с троцкистом, однако во времена смены руководства в карательных органах счетовода выпустили на свободу. Он вернулся на свой элеватор, где его знали уже лет пятнадцать, и без расспросов приняли на прежнюю должность. Но теперь уже Тимофей Иванович четко отслеживал события в стране, читал газеты и прислушивался к разговорам о том, кого взяли, кто донес, кто хозяин в городе и кого следует остерегаться. Когда началась война, по городу прошла волна арестов, и Тимофей Иванович ожидал, что его возьмут. Была мысль о бегстве из города, но вместе с тем он понимал, что это-то и может спровоцировать рано или поздно очередной арест. А так может и обойдется... Между тем германские войска стремительно продвигались на восток. Когда большая часть Украины уже была под немцем, Тимофей Иванович, после беседы с таким же, как и он, бывшим политзаключенным, пришел к выводу, что нет, не обойдется, что опасность ареста и, может быть, расстрела без суда возрастает. Когда стало очевидным, что Мелитополь скоро будет отдан немцам, и в городе почувствовалась возросшая суетливость работников карательных органов и партийных активистов, Тимофей Иванович и Антонина Васильевна, упрятав ценные пожитки, закинули за плечи котомки и ночью выехали на попутной машине из города. Далеко бежать они не собирались, надо было только выждать критические дни, а потом, когда немцы, по-видимому, захватят весь регион, вернуться в свой дом. На работе счетовод распространил накануне версию о болезни любимой тещи, якобы проживающей в Саратове, но покинув город супруги направились в противоположную сторону, в Крым.
...Как только Диян и его спутники вошли во двор, мальчик стремглав побежал к бабушкиному крыльцу и взлетел по ступенькам на веранду.
- Бабуся! Куда поставить мешок с муко-о-й! - торжествующий крик мальчонки заставил зазвенеть посуду в шкафу.
Из комнат вышла бабушка как всегда в длинном темном платье с забранными косынкой волосами.
- Не олду, балам? (Что случилось, детка?)
- Куда поставить мешок с мукой! - не спрашивал, а пел мальчик.
Бабушка не успела понять, о чем речь, и в это время вошел Тимофей Иванович, а за ним Антонина Васильевна. Тимофей Иванович сбросил с плеч мешок, и бабушка услышала ту же фразу, которую пел ее внук:
- Куда поставить мешок?
Удивленная бабушка все еще не находила слов, а внук высоко поднимая коленки отплясывал в это время на крашенном деревянном полу веранды какой-то дикарский танец. Мужчина, принесший мешок, рассмеялся и женщина, пришедшая с ним, тоже стала весело смеяться.
- Муку вашу принесли! Внук ваш сидел на мешке и плакал. Что же вы его на улице с таким грузом оставили...
Наконец бабушка обрела дар речи:
- Я не понимаю, какой мешок, какая мука? Откуда? Диян, объясни, что за мука?
Мальчик прервал свой дикарский танец и, взглянув на удивленную бабушку и недоуменно замолчавших гостей, быстро заговорил:
- Я сейчас все объясню...
Долго объяснять не пришлось. Гости поняли все прежде бабушки, которая, когда до нее дошло случившееся, забеспокоилась, как же, мол, это, целый мешок муки, ведь малыш же, а что теперь будет?
- Мука для лапши будет, вот что будет, - спокойно и строго произнес Тимофей Иванович, и все вдруг замолчали, глядя на мальчика. Мужчина подошел к Дияну и положил руку ему на голову:
- Молодец, настоящий мужчина. Таким внуком гордиться можно.
- Вай, Алла! Кто бы мог ожидать такого! - расслабилась бабушка и присела на установленный под окнами веранды топчан. Мальчик в свою очередь сел на оставленный у дверей мешок и удовлетворенно заерзал на нем. Пришедшие почувствовали некоторую неловкость, и мужчина произнес:
- Ну, мы пошли. Молодец, мальчик! Рады за вас и желаем вам всего доброго! - он поправил заправленные до локтей рукава рубахи и повернулся к дверям, жена его протянула ему его пиджак и тоже погладив мальчика по голове попрощалась, было, но тут бабушка, вдруг очнувшись, вскочила и подбежала к дверям, широко расставив руки.
- Нет, нет! Никуда вы не пойдете! Ой, спасибо вам за помощь, как Диянчик без вас бы обошелся! Сейчас чай будем пить! Вы где живете, вам далеко до дому идти? Ничего, еще рано! - она отстраняла пришедших от дверей и оттаскивала в сторону за их заплечные мешки. - Сейчас чай будем пить! Успеете домой, успеете!
- Да нам, вроде и торопиться некуда, и дома у нас тут нет, - улыбнулся Тимофей Иванович, жена же его посмотрела на него с укором.
На этот раз, не в пример ситуации с мешком муки, бабушка сразу все поняла. Не первую войну переживала пожилая женщина, - были и красные, и белые, и немцы, и банды зеленых. И всегда впереди и позади всех этих отрядов шли беженцы, беженцы, беженцы...
- Так, - уже более уверенно произнесла бабушка, - раздевайтесь и отдыхайте. Диян балам, быстренько разожги самовар!
- Ой, давайте я помогу с самоваром, - как-то сразу по-свойски отозвалась Антонина Васильевна, и на этот раз уже муж посмотрел на нее с укоризной, она же перехватив его взгляд, махнула рукой, размотав платок сняла кофту и занялась самоваром. Самовар у бабушки был большой, всегда начищенный до золотого блеска, с множеством выгравированных на поверхности медалей.
- Ну, тогда давайте знакомиться, что ли, - резонно заметил Тимофей Иванович и взрослые, засмеявшись, стали представляться друг другу. Мальчик сидел на добытом мешке своих мечтаний и счастливо глядел на возникшую радостную суету.
- Поговорим за столом, - прервала бабушка начавшиеся было разговоры, и пошла накрывать стол, стоявший здесь же на просторной, застекленной, как обычно в татарских домах, веранде.
Тетя Тина и дядя Тима остались жить с бабушкой и Дияном, который, как можно догадаться, более других был рад гостям. Дядя Тима знал много интересных историй, и по вечерам не зажигая лампы, - керосин надо было экономить, - взрослые женщины и ребенок слушали его чудные, выдуманные в большой степени, рассказы о всяких приключениях, смешных и страшных,. С дядей Тимой было не так страшно во время бомбежек, и еще он учил Дияна мастерить всякие поделки из дерева и бумаги. Тетя Тина, бодрая пятидесятилетняя полтавчанка со следами былой типично украинской сельской красоты, своим присутствием отвлекала бабушку от печальных мыслей, и уже не так часто сердечко мальчика сжималось от жалости, когда он слышал горестные вздохи своей бабуси. А еще тетя Тина доставала из глубин своей котомки кольца домашней колбасы, такой вкусной наперченной и начесноченной колбасы, какой Диян никогда прежде не пробовал.
- Я потому и женился на хохлушке, что они такую колбасу научены делать, - утверждал дядя Тима, сам родом из Твери.
А в ту первую после появления мешка муки и гостей ночь в городе продолжали греметь взрывы, порой слышалось натужное фурчание грузовиков и печальное пение солдат, загруженных в эти грузовики:
- И на Ти-хом о-ки-я-не свой зако-нчили по-ход...
Уж не до самого ли Тихого океана задумали и в самом деле отступать? Ведь столько земли отдать за три месяца войны...
На следующий день перед воротами еще проходили молча несколько отрядов красноармейцев, провожаемых укоряющими и вместе с тем жалостливыми взглядами разных возрастов женщин и испуганных детей. Шли печальные наши солдаты на Севастополь, потому что Перекоп уже был под немцем.
Вслед за тем в городе воцарилась странная тишина...
Под вечер, когда на открытых пространствах еще было светло, а на затененных деревьями улицах уже наступали сумерки, послышался незнакомый для жителей города негромкий машинный стрекот. Никаких других звуков не было, только то возникающий, то пропадающий стрекот. Но он был пугающим, этот не наш звук. Диянчик рванулся во двор под сдавленный крик бабушки: - Чыкма, балам! (Не выходи, детка!). Но мальчик был уже за воротами.
Но мальчик был уже за воротами.
Из-за поворота на улицу неспешно выезжали один за другим два мотоцикла с колясками. На каждом мотоцикле сидели, - один за рулем, другой в коляске, - солдаты. Не наши. Гимнастерки цвета гусиного помета были с узкими погонами, рукава гимнастерок были закатаны. На груди висели автоматы. Не наши автоматы - у этих вместо круглого диска с патронами были рожки. Каски солдат были другой формы, на них вместо звезд были изображены орлы с развернутыми крыльями. Мотоциклы двигались на малой скорости, чужие солдаты улыбались и те, которые сидели в колясках, приветственно помахивали рукой.
Эти два мотоцикла проехали, и вновь послышался спокойный негромкий стрекот - из-за поворота выезжала вторая пара. У ворот дворов вдоль всей улицы уже стояли люди - женщины с прижавшимися к ним детьми. Солдаты на мотоциклах так же приветливо улыбались и помахивали рукой. Но ни один самый маленький, самый глупый мальчишка не поднял руки, не ответил солдатам чужой армии на приветствие...
Так начались годы оккупации...
Тетя Тина и дядя Тима через две недели уехали к себе. Они потом, на следующее лето, приехали с гостинцами, привезли в подарок маленький серебристый самовар. Тимофей Иванович открыл там у себя магазинчик, торговал овощами и молоком, скупая товар у сельских жителей. "Жить стало интереснее", - говорил Тимофей Иванович. "А немцы?" - спрашивала бабушка. " Да какие там немцы, я их и не вижу!" - отмахивался Тимофей Иванович. И еще взрослые говорили о чем-то, что Дияну было не очень понятно.
Диян днем ходил играть к своему другу, жившему в многоквартирном доме на берегу реки Салгир. Дети купались в заводи, играли в казаки-разбойники на заднем дворе. Один из корпусов дома занимала какая-то немецкая военная часть. Был там один фельдфебель, длинный и худой. Под его опекой были две большие немецкие овчарки, которых он выводил во двор. Этот фельдфебель натравливал на детишек своих собак, хотя и не спускал их с поводков. Что за удовольствие получал он оттого, что дети в страхе разбегались, а малыши плакали – нормальному мужчине неведомо. Нормальные мужчины в лице других солдат, оказавшихся в этот момент во дворе, возмущались этим и ругали собачьего поводыря. Однажды молодой, лет восемнадцати, немец, повар из оборудованной в одноэтажной пристройке на заднем дворе кухни, подрался с фельдфебелем. Тем не менее, фельдфебель, продолжал натравливать собак на мальчишек и девчонок, предварительно оглянувшись, нет ли неподалеку его сослуживцев.
К осени мука и привезенные гостями из Мелитополя продукты кончились, и бабушка решила закрыть дом на замок и уехать в дальнюю деревню к родственникам, которые давно уже звали к себе. Известное дело, на земле без продовольствия не останешься. "Если большевики не придут и не отберут все до последнего", - с мрачной усмешкой всегда добавляла бабушка, а Дияну и это было малопонятно.
Диян попрощался с городскими друзьями и приготовился к встрече с полузабытыми товарищами деревенских проказ. Он вспомнил, как они лазали ночью по колхозным виноградникам, как ловили в горах ежей, как загоняли стадо по дворам. Конечно, было немного грустно расставаться с городскими мальчишками, но жизнь в крымской деревне обещала быть тоже нескучной...
Две зимы и одно лето прожил маленький москвич среди своих двоюродных братьев и сестер в горной татарской деревне. Всегда был у них хлеб, было и молоко, опять же куры, а что касается овощей, фруктов и орехов - так это же Крым! Весной собирали на полянах козукулак-щавель, созревала сначала черешня, потом абрикосы и вишня, тут и огородные овощи подходили - кабачки, огурцы, помидоры. В садах наливались яблоки, лоза виноградная отягчалась янтарными и яхонтовыми кистями - великолепнейший из даров Аллаха! Приходила пора орехов - грецких и горного фундука. А кизил, завещанный Асклепием-Лукманом как лекарство от семи недугов? Из абрикосов, вишни и кизила варили повидло, которое, выложив на плоские деревянные щиты, сушили на крышах, чтобы получить пестиль - пастилу. Свой мед был почти в каждом дворе, но старые женщины тосковали очень по сахару. И только к чашечке горохового кофе хозяйки выносили гостям блюдечко с маленькими кусочками сохранившегося с довоенной поры твердого сахара, а сбежавшимся детям давали что-нибудь из фруктовых сладостей и отгоняли от каве софрасы (кофейного угощения).
Долгими осенними и зимними вечерами, затеплив едва-едва фитилек лампы, чтобы не было совсем уж сонно, женщины вполголоса судачили между собой, дети в своем углу также вполголоса рассказывали выдуманные тут же страшные истории. Семьи были большие, обычно в один дом приходили и соседи, - как никак экономия керосина для ламп. Иногда упрашивали какую-нибудь старушку, славившуюся своим знанием старых татарских и турецких сказок, поразвлечь собравшихся. И все замирали, когда начиналось заветное:
"Бир заманда бар экен, бир заманда йок экен. Бир падишахны мермер сарайында...". (В одни времена все это было, в другие времена все позабылось. В мраморном дворце падишаха...).
И всегда на узорчатом медном подносе лежали орехи, сушеные груши и яблоки, изюм, пестиль...
Глава 5
В приморскую деревню Юкары команда прибыла под вечер. Селение было большое, более пятидесяти домов. Согласно официальной бумаге команде должно было быть придано десять студебеккеров, а фактически пригнали только пять машин. Начальником команды был капитан Дыбенко, опытный чекист, прославившийся своим интернационализмом и принципиальностью. Интернационализм его заключался в том, что он с холодной бесстрастностью выполнял карательные задания в отношении жителей любого региона многонационального Советского Союза. Свидетельством его неуклонной принципиальности явился случай, который потряс многих и для многих стал причиной долгих ночных раздумий: однажды в годы раскулачивания он велел забросить в телегу своего пятилетнего сына и цеплявшуюся за ноги суровых чекистов собственную жену, которые случайно оказались в гостях у родственников на Полтавщине. Этот твердокаменный солдат партии, хотя и малограмотный, но сообразительный, велел созвать всех жителей Юкары на общую сходку к сельскому клубу, бывшей мечети. Дабы не оставляли дома стариков и младенцев, - откуда было быть младенцам, ежели более или менее молодых мужчин три года назад всех поголовно забрали на войну? - велел Дыбенко объявить, что будут, мол, выдавать каждой живой душе, и только в собственные руки, по куску мыла и по коробке белого сахара. И пошли солдаты по домам, оставив студебеккеры внизу, у въезда в селение, и ни один сукин сын не шепнул татарской бабе, чтобы собрала бы хоть какие-то вещички, что увезут их вместе со стариками и с несмышленышами черт знает куда, на черт знает какие муки. И пошли старики, женщины и дети по многохоженным тропам налегке, многие босиком, а иные малышки чуть ли не голышом, пошли за мылом и за сахаром...Ну, Дыбенко, ну, многоопытный большевик! Знает, чем завлечь деревенский люд!
А некоторые семьи, запоздав, шли с мешками и узлами - с чего бы это? А с того это, что шепнула жившая в школьной пристройке у клуба единственная в татарском селе русская женщина, учительница, своему хромоногому сыну, до войны работавшему почтальоном и возившему на скрипучей телеге по окрестным селам письма и посылки, шепнула Мария Николаевна своему Васеньке то, что доверительно сказал ей старшина, армейский, не чекист, сказал ей от внутренней тоски и, возможно, с умыслом. Пошел Василий по задворкам, а известно, каковы задворки в горных селениях, да и хромоног же! Не многих успел уведомить Василий, да и не все поверили - наши, ведь, советские, не фашисты. Но которые поверили, те послали гонцов к соседям... Озаботился Дыбенко, поиграл скулами на обветренном худом лице, но не сказал женщинам ни слова. Только решил про себя, что при погрузке в машины велит выбросить лишний груз, если не вместятся, а коли вместятся, то и хрен с ними. Зла на людей Дыбенко не имел, главное - задание четко выполнить.
В ветхий домишко Фатиме ухмыляющийся солдат, в пыльных растоптанных сапогах, пришел под хмельком, - в соседнем доме, где он сообщил семье из пятерых детишек и двух женщин о халявном мыле и сахаре, ему на радостях поднесли кружку домашнего вина, а когда босоногие детишки и бабы скрылись за плетнем, шустрый солдат заскочил в хижину, пошарил там, да взять было нечего, а вина еще добавил. Вкусным татарское винцо-то оказалось!
- Ну, чего за мылом и сахаром не идете? - крикнул с порога солдат с автоматом, ударом сапога открыв дверь.
- Вай аначыгым! (Ой, мамочка!) - испугано вскричала Фатиме, а двое ее босоногих сыновей забежали со двора, где они задавали на ночь корму овцам.
- Ты чего, хозяйка, напужалась, что ли? - пьяно расхохотался солдат. - Давай, беги к клубу, там продукты и мыло раздают!
- Что говоришь? Кто продукты дает? - не понимала напуганная женщина.
- Русская власть вам татарам продукты задарма раздает, давай поспешай! - заходился смехом солдат.
- Вай, балаларым, не дий бу эриф? Бир шейлер берелер, гальби. Барда джамие бакыныз. (Ой, деточки! Что этот мужчина говорит? Кажется, что-то дают. Сходите к мечети, поглядите!), - и обратилась к солдату:
- Садись, сейчас кофе угощать буду. Вай, спасибо, тебе.
- Не мне спасибо, а советской власти спасибо скажешь, - куражился солдат. - Ну, давай, беги со своими щенятами, а то не хватит на тебя конфет.
- Вай, конфет! - радовалась Фатиме. - Сейчас мальчики пойдут, а ты садись, кушай немного.
- Не-е! Всем идти надо! В руки каждому дают, - ухмылялся солдат, и глянув на мальчишек, которым было годков по десять-двенадцать, уже с угрозой рявкнул:
- А ну быстро! Бегом марш! - и передернул затвор автомата.
Все еще не понимающие происходящего ребята, оглядываясь на солдата, вышли во двор.
- Идите! Быстро идите! - рукой помахивала им мать, перейдя ради вестника доброй вести на его язык.
- Ну, нет! И ты давай, беги! - все также ухмыляясь подтолкнул стволом автомата солдат женщину.
Заподозрив недоброе, Фатиме, подобрав подол широкой длинной юбки, медленно вышла во двор, где стояли настороженные недобрым весельем солдата сыновья.
- Ну, надоели вы мне, - посуровел краснозвездный воин. - А ну, бегом на площадь, мать вашу!
Ствол автомата был направлен на мать с детьми, и в испуганном недоумении они трусцой, в чем были, поспешили к бывшей мечети.
Убедившись, что мальчики и женщина, не оглядываясь, идут куда положено, солдат направился к последней хижине, притулившейся на окраине села под одиноким большим деревом.
- Эй, кто тут есть! - крикнул он, оглядывая убогий, неухоженный, но все же с признаками нищенского обитания, двор.
Никто не отвечал. Воин с автоматом смело, толкнув ногой притворенную дверь, вошел в низкий домик. В углу на сколоченном из некрашеных досок топчане лежал старый полосатый матрас с неубранным лоскутным одеялом, к стенке прислонены были две жесткие, видимо набитые соломой подушки - кто-то проводил здесь время, но сейчас комната была пуста. Солдат вышел во двор и приметил открытую дверь покосившегося от старости сарая. Вытянув шею, он заглянул внутрь и убедился, что он пуст. Оглянувшись он увидел, наконец, хозяина жилища: сгорбленный старичок с круглой каракулевой шапкой на голове сидя на скамеечке доил козу, привязанную к вбитому в землю колу.
- Эй, мать твою так, чего затаился! - крикнул озлобленный солдат.
Старик даже не обернулся на окрик, лишь коза испуганно дернулась.
Солдат подошел к старику и схватил его за худое плечо.
- Ты чего, старый козел, не откликаешься?
Старик, как можно было догадаться, был глух и посетители, желая обратить на себя его внимание, всегда дергали его за плечо. Поэтому безо всякого испуга, а, напротив, обрадовавшись нежданному гостю, старик, улыбаясь, повернул голову. Увидев чужого человека в военной форме, он сперва от неожиданности замер, а затем сообразил, что это наш солдат, красноармеец, и что он, может быть с весточкой от внука, ушедшего в армию еще в сороковом году. Старый татарин с широкой улыбкой, открывшей его не по возрасту крепкие зубы, смотрел на возвышавшегося над ним военного. Но пришелец был настроен по недоброжелательно. Он что-то кричал, показывал рукой на село и грозил автоматом. Старик с трудом поднялся со скамеечки и встал перед стволом автомата, растерянно заправляя перед белой холщовой рубахи за широкий матерчатый пояс коротких серых штанов. Солдат, у которого хмельное веселье перешло в хмельной гнев, толкнул старика, тот упал навзничь, испуганно прикрываясь от воина со звездой на пилотке худыми руками. Сообразив, что если он покалечит старика, то придется его тащить до машин на себе, солдат приподнял упавшего и поставил его на ноги. Поняв, наконец, что несчастный старик глух, он жестами дал ему понять, что от того требуется. Старик понял и как мог отвечал ему на ломанном русском:
- Сынок, нога не ходит, - на что воин обматерил его, мол, как козу доить, так нога ходит. Старик отказывался идти, но автоматчик, подталкивая, заставил его выйти за калитку на дорогу. Страх обуял несчастного Осман-деде, который никогда не ведал такого обращения. Когда-то очень давно он учился в медресе и был уважаем в своем селении и в ближайшей округе за знание Корана и мусульманских обычаев. Единственный сын его бесследно пропал, уехав еще до войны по трудовой мобилизации работать на шахтах, подросшего внука забрали в Красную армию, жена и невестка скончались в один год от зимней хвори, и остался глухой немощный старик один-одинешенек. Спасибо односельчанам, посещали его, как могли часто и летом, и зимой, подкармливали, следили за опрятностью одежды и быта. А в этот роковой вечер никого не оказалось рядом, чтобы защитить от уруса со страшным оружием.
Он взаправду не мог идти, его едва хватало, чтобы пройтись по двору и посидеть на старой скамеечке, им же вбитой в землю у калитки много лет назад. Не держали ноги, переламывалась поясница, а этот хаин (каин) подталкивал его ударами по спине. Каждый шаг казался ему последним, и спасения не было. И Осман-деде повернувшись к обидчику ударил его головой в живот. От неожиданности тот не смог удержаться на ногах и упал, а слабые руки старика потянулись к его горлу, будто бы были способны удушить мерзавца. Оправившийся от неожиданности солдат вскочил на ноги и разрядил свой автомат в голову враждебно настроенного к советской власти татарина...
Собравшихся на площади людей, многие из которых были босыми и легко одетыми, экзекуторы окружили и погнали вниз, к машинам. Плач испуганных детей и женщин бесил солдат. Толпа шла в темноте по высокой траве, не разбирая дороги. Порой приземистый и темный клубок отделялся от колышущейся толпы, и солдат лупил по этому клубку путающимся в траве сапогом. Острый крик ребенка подтверждал, что удар был меток. Вдруг останавливалась и падала одна женщина, идущие позади нее люди не обходили упавшую, а тоже валились на землю. Конвоиры били носками сапог по темной куче, в которой иногда светлело неосторожно повернутое к мучителям лицо, и тогда тот солдат, кому повезло, бил ногой прямо в это светлое пятно. Визг и вой оглушал воинов, их ярость достигла предела. Наконец офицер выхватил у ближнего солдата автомат и дал очередь над головами сельчан. Охнув в один голос, толпа присела и затихла.
- Вот что, граждане! - громко обратился к селянам Дыбенко. - Без паники и без воя всем идти к машинам и загружаться в них. При попытке отдалиться на пять шагов солдаты будут стрелять. Все поняли?
Ответом было испуганное молчание.
- Значит, поняли. А теперь - марш вперед!
Молчащая толпа приблизилась к машинам. Дети залезли в грузовики быстро и шустро, и пока старые и молодые женщины, с трудом поддерживая и подтягивая друг друга, взбирались в высокий кузов, там уже развернулась борьба за лучшее место - а где оно, это лучшее место, в телеге, везущей вас на эшафот?
Кто с вещами, кто вовсе без ничего, кто одет, кто в старом платье и босиком, - аборигены древнего крымского поселения, те, чьи корни уходили на тысячелетия в нелегкую историю полуострова, были оторваны от родной почвы и заброшены в кузова машин. Оставался на отчей земле лишь убитый солдатом Осман-деде...
Когда студебеккеры взобрались на перевал, и перед взором открылся величественный вид на море и горы, Дыбенко, успокоенный тишиной установившейся в кузовах машин, приказал своим воинам сделать остановку и, оставив у каждой машины по одному автоматчику, на десять минут расслабиться.
Старая татарка, имя которой история нам не сохранила, и поэтому ею мы можем сегодня считать каждую истинно преданную земле предков крымчанку, потомка тавроскифов и кипчаков, громко обратилась к соплеменникам, так, что ее услышали во всех машинах:
- Эй, джемаат! Атылайык бу хаинлерни устюне! Кары кючюмиз аз олсада, сайымыз чок! Эпимизни атып олдюрселерде озь топракмызда олермиз. Кана, апайлар, панджалыйык душманлары! (Эй, люди! Набросимся все на этих злодеев! Хоть женская сила невелика, но нас много! Если и перестреляют нас всех, то умрем на родной земле. Ну, женщины, давайте растерзаем врагов!).
К добру ли, к худу ли, - слабые женщины не поддержали призыв славной безымянной дочери Крыма. Не решились они уничтожить хотя бы одного врага и самим умереть сегодня на родной земле, ибо суждено им было через полгода почти всем лечь костьми в чужой азиатской степи...
Глава 6
По всей видимости, дня через четыре после выезда из Крыма конвоирующая состав бригада сменилась. Прекратилась ругань, перестали мочиться с крыши и, главное, - разрешили держать открытыми двери вагонов. На остановке в степи люди потребовали от начальника конвоя разрешения хоронить умерших. В ответ было предложено оставлять трупы у насыпи. Татары пригрозили, что если не разрешат закапывать покойников как положено по-людски, начнется общий бунт и народ покинет вагоны. Конвойные в свою очередь пригрозили, что закроют двери наглухо. Татары заявили, что для бунта используют любой момент, когда двери окажутся открытыми. У конвоя не было, по-видимому, задания перестрелять весь эшелон, и они дали разрешение во время остановок хоронить умерших. Но возникла чисто техническая проблема - не было лопат.
...Старый Раип-баба где пешком, где на попутной телеге прибыл к дочке Фериде из деревеньки под Карасубазаром. Дочь сумела сообщить ему через случайных путников, что пришло письмо от мужа из действующей армии, откуда-то из Белоруссии, и старик на радостях отправился устроить дуа - благодарственную молитву за спасение от напастей единственного своего зятя. Старуха его, мать Фериде, была совсем немощна и осталась дома, он же посадив в корзину молодого петушка, и прихватив немного сушеных груш, решился на нелегкое путешествие. Вечером, накануне выселения, он добрался до домика дочери, где она жила с двумя малыми детьми, и, поиграв с обрадованными визитом дедушки внучатами, устало заснул. Когда ворвались в дом солдаты, он настойчиво пытался объяснить им, что зять его воюет с фашистами с первого дня войны, пока офицер не вырвал из его рук письмо зятя и не вытолкал без обуви на улицу - плачущая дочь уже в кузове машины обувала отца в его стоптанные башмаки. Раип-баба шарил руками в воздухе, ища вырванное и порванное советским капитаном письмо от зятя, сознание так и не вернулось к нему, и он тихо умер на третий день в тряском вагоне.
Когда состав остановился под вечер в безлюдной степи, старший по вагону Афуз-заде, отец Камилла, пошел по соседним вагонам в поисках лопаты. К нему присоединилось еще несколько мужчин из других вагонов, и они пришли к начальнику состава с просьбой как-то посодействовать.
- Откуда я вам найду здесь лопату, - какое-то время покочевряжился офицер, стоя на подножках пассажирского вагона, в котором располагался конвой, а потом запросил за инструмент огромную цену.
- Главное, акайлар (мужики), что лопаты у него есть, - успокаивал Афуз-заде приунывших товарищей по беде. - Соберем деньги у народа. Дадут, от смерти никто не может зарекаться.
Оказалось, что конвоирам с самого начала были выдано достаточное количество лопат и именно для целей захоронения умерших по пути следования. И когда, набрав по вагонам требуемую сумму, татары пришли за обещанным землеройным инструментом, начальник заявил, что выдаст пять лопат и ни одной меньше, а значит и оплата увеличивается. Дело в том, что после первой договоренности на начальника насели его сотоварищи и совершенно обоснованно заявили, что плата за одну лопату, разделенная на всех заинтересованных лиц, мала и уж лучше отдать лопаты, как и положено, бесплатно. Но потом порешили содрать с этих собак татар денег побольше, мать иху ети... Или пусть бросают своих мертвяков под насыпь, нам по-фую.
-У баб ихних кольца золотые, пусть за одну лопату дают одно кольцо, - решили конвойные начальники, их и было как раз пятеро.
- Значит так. Или приносите мне пять золотых колец, или идите на фуй, а полезете ко мне опять с жалобами, - сдам на ближайшей станции в НКВД как оказавших сопротивление советской власти, - заявил начальник конвоя, и это была серьезная угроза.
Мужчины наши были оскорблены. В такой ситуации хочется в ответ на мат - обматерить, в ответ на угрозу - дать в морду. Однако, несдержанность есть признак слабого ума, не способного трезво оценивать обстановку. Горячий симферопольский татарин порывался вернуться в вагон конвоя и обругать начальника, потом предложил отнести покойников в этот вагон, потом, успокаиваясь, предложил написать жалобу в Верховный Совет, отправить телеграмму товарищу Сталину...
- Как ты отправишь телеграмму? - спокойно спросил его Афуз-заде. - И скажи мне, на скольких ногах ты стоишь?
Парень опешил.
- Как это, на скольких ногах?
- Сколько всего ног у нашего татарского народа, братец, - продолжал Афуз-заде.
Тут другой, понявший к чему клонит Афуз-заде, с ухмылкой вмешался в разговор:
- Число голов умножь на два вот и число ног узнаешь.
Афуз-заде бросил на него взгляд и продолжал:
-Так вот голов наших тысяч четыреста. Ног, значит, тысяч восемьсот. А в данный момент из всех восьмисот тысяч ног нашего несчастного народа стоят на земле, наверное, только несколько десятков, как мы, по случайности.
- Если не считать тех, кто на войне, - добавил тот, понятливый.
- Если не считать тех, кто на войне, в лагерях или в ссылке, - повторил Афуз-заде.
Горячий парень уже все понял и угрюмо молчал.
- Враг оторвал нас от земли и собирается удушить. Кому и на кого жаловаться? Надо только стараться не подыграть злодеям.
- И еще заметьте, - продолжил Афуз-заде, - золото у нас, а у них ржавые лопаты. Решение принимаем мы...
Товарищи, идущие рядом, хмыкнули, но особого веселья этот тезис у них все же не породил.
Мужчины шагали по густой траве вдоль железнодорожного пути. Солнце близилось к закату, воздух был напоен ароматом цветущих трав, прохлада уже опускалась на землю. И если бы не было этой страшной действительности, не было бы в пяти шагах от тебя этих вагонов для скота, в которые были загружены твои родные, твои соплеменники, вся твоя страна, твое прошлое с его хорошим и с его плохим, если бы не было этой сверлящей голову мысли о гибели всего твоего народа, - можно было бы наслаждаться этой чудной предвечерней порой в приволжской степи. Сейчас же от благотворной чистоты наполнявшего грудь воздуха, от красочного майского разгула трав, освещаемых низко летящими над ними и уже начинающими краснеть лучами солнца, - от всего этого половецкого великолепия хотелось, напротив, броситься на землю, и от сознания безысходности и бессилия дать волю горьким рыданиям...
А люди, сидящие поджав ноги в вагонах, уже позволили будничному быту заслонить собой великую национальную трагедию, уже начинались склоки между женщинами, перешептывания о том, кто на кого как поглядел, ссоры из-за чересчур расшалившихся детей...
Когда о требовании конвоиров было объявлено, многие поспешили снять кольца с рук и спрятать. Начались скандальчики, даже некоторые родственницы покойников скрывали свое золото. Но, в конце концов, собрали деньги со всех вагонов и выплатили владельцам колец запрашиваемые ими вознаграждения. Долго потом шли бабские разговоры, что, мол, этой за маленькое кольцо заплатили больше, чем той за большое...
В вагоне, где находился Камилл, у дочери умершего Раип-баба не было никаких ценностей. Кто-то из вагонных соседок, возможно, и припрятал колечко, но если и был такой грех среди населения вагона, то он был искуплен одинокой женщиной Лютфие-тата. Она отдала свое кольцо и только попросила, чтобы ее кормили до конца пути, - солдаты выгнали ее из дома даже не позволив взять чего-нибудь съестного.
- Это колечко привез мне покойный отец из Бурсы, - сказала Лютфие, поглаживая снятое с пальца золото. - В память о покойных родителях я даю его на угодное Аллаху дело.
Конечно, ее заставили взять собранные деньги, но, тем не менее, ее поступок смягчил души несчастных людей, и некоторые, возможно, втайне покаялись за какие-то свои неблаговидные дела или мысли.
- Когда я умру, не оставьте меня на поверхности земли, похороните по мусульманскому обычаю, - как бы в шутку сказала Лютфие-тата, и все шумно запротестовали, желая ей долгой жизни и здоровья...
Безымянные могилы остались в степях за Идилем... Поезд вез людей в азиатские пустыни, где многие найдут свою безвременную гибель...
Милостью конвоя двери вагонов оставались открытыми. Поперек широкого проема располагалась крепкая доска, и можно было сидеть за этой доской свесив ноги из вагона. При желании можно было спрыгнуть во время замедления хода поезда и убежать в открытую степь. Убежать при желании можно было и во время остановок, - конвой перестал строго стеречь переселяемых татар.
Эшелон долго добирался до границы Европы и Азии. В европейской части империи стоянки были разрешены только в безлюдных районах на запасных путях. Если поезд задерживался на станции, то запрещалось даже высовываться из окошек и вообще производить какой-нибудь шум, - застеснялись власти, что ли? В наказание за общение с населением обещали запереть двери на протяжении всего маршрута. В течение суток поезд больше стоял где-нибудь в степи, пропуская встречные составы, чем находился в движении. Когда же добрались до Приуралья, а затем выбрались в приаральские пустыни, то стесняться перестали, - казахам в их нищих юртах, казалось, было не до провозимых по железной дороге людей.
Аборигены Крыма с интересом смотрели на пустынные ландшафты, на незнакомую растительность, на странных сизо-голубых ворон, сидящих на тянущихся вдоль железной дороги телеграфных проводах. За многодневное продвижение по Казахстану насмотрелись и на верблюдов, и на глинобитные кибитки, и на круглые юрты, прочувствовали сухой зной пустыни, изнуряющий даже в эту майскую пору.
Однажды состав остановился на каком-то полустанке. Не видно было нигде ни единого деревца, голая степь с уже усыхающими травами, несколько глинобитных домиков, бедные юрты, покрытые какими-то бесцветными лоскутами, гордые верблюды у колодца с журавлем, без видимого интереса взирающие на длинный ряд ободранных вагонов. Так же без видимого интереса сновали между юртами старые казахи в странных шапках, иногда на хилой лошаденке куда-то спешил безразличный к окружающему всадник, копошились возле юрт редкие детишки.
Люди в вагонах запаслись водой на предыдущей остановке, и колодец не привлекал их, и уже не удивлял скудный быт местного населения.
И вдруг из юрт, из кибиток, еще Бог знает, откуда, побежали к вагонам люди. Те самые мужчины в странных шапках, женщины в косынках, босоногие и нищенски одетые дети. В руках у них были тряпичные узелки, у некоторых – глиняные или алюминиевые миски. Они бежали ко всем, - и к дальним, и к близким, - вагонам. Видно, кто-то заранее распорядился, куда кому бежать. Вот этот, сидящий на коне, старый мужчина с редкой бородкой, в меховой, несмотря на жару, шапке, наверное, и управлял всей устремившейся к длинному составу ватагой. К изумленным татарам бежали, торопились казахи, кто с хлебной лепешкой, кто с кусочками отварного мяса на кости, кто с миской каши, с банкой кислого молока, с горсточкой жареного ячменя…
...Утром двенадцатого дня эшелон прибыл на станцию назначения, каковой оказалась железнодорожная станция Шарихан в Андижанской области Узбекистана. На подъезде к Шарихану округа поражала живописностью - небольшие речушки, цветущие луга, отяжелевшие от плодов деревья в садах. Речушки, как это потом узнали переселенцы, были искусственными водными артериями Ферганского оазиса - большими и маленькими арыками. Мощные деревья с темными корявыми стволами оказались абрикосовыми деревьями, ветви которых буквально ломились от оранжевых крупных плодов. Обращали на себя внимание еще и другие большие деревья с более темной зеленью - это были тутовые деревья. Виноградная лоза у домов с плоской крышей обвивала сплетенные из веток клети вдоль всего жилища, на крышах многих домов сидели женщины в светлой одежде, окруженные детишками.
Вскоре состав въехал на территорию большой узловой станции и остановился у обширной асфальтированной площадки, над которой простирался опирающийся на высокие металлические столбы навес. Это был товарный склад, предназначенный для хранения прибывающего сюда в осенние месяцы со всей округи хлопка - "белого золота", по пошлой терминологии советской пропаганды. Здесь всем велели выгружаться из вагонов и ждать дальнейших указаний.
На обширной территории склада группами расположились люди - часть крымскотатарского народа. В это же примерно время выгрузились из эшелонов в сотнях других регионов Средней Азии и за Уралом, а также на севере европейской части России, тысячи и тысячи их несчастных соплеменников.
...Через час после выгрузки появились люди в белых халатах - это добросовестные работники санитарно-гигиенических станций пришли для санитарной обработки новоприбывших, как они привыкли это делать с беженцами в годы войны. Крымчан группами повели в баню. Одежду заставили сдать в дезинфекцию и после мытья мы получили ее горячей и влажной. Погода стояла замечательная. Когда весь эшелон помылся, и все вернулись к своим вещам, вдруг принесли еду - отлично испеченный хлеб, вкусную похлебку и большие белые куски чего-то явно животного происхождения. Пошел слух, что это верблюжий горб. Так или иначе, люди помылись и поели, можно было отдохнуть.
Было непривычно ходить по твердой земле и не слышать ставшего за многие дни привычным стука колес, - что-то, по-видимому, от ощущений моряка, сошедшего на землю после долгого плавания. Взрослым было ясно, что сегодня или завтра всех должны развести по каким-то объектам. Так как в баню людей водили без конвоя, и вокруг места их пребывания охраны не было, а только двое милиционеров не разрешали покидать территорию склада, то можно было предполагать, что за колючую проволоку концентрационного лагеря переселенцев из Крыма не поместят. Их, должно быть, ожидали то ли бараки какого-нибудь завода, то ли хижины колхоза или совхоза.
Наступил вечер. Мальчишки завели новые знакомства, им было хорошо после вагонной тесноты, и очень хотелось выскочить за пределы складской площадки в незнакомый и странный город. Взрослые были нервны и одергивали их, сдерживали мальчишечьи исследовательские инстинкты.
Вдруг, как это порой бывает в начале лета на юге, подул сильный ветер, небо быстро затянулось тучами. И через несколько минут полил такой дождь, какой был неведом даже жителям Крымского полуострова, не отличающегося засушливостью. Ставший ураганным ветер гремел по металлической крыше, пугая возможностью сорвать ее. Те, кто расположился у края площадки, спасаясь от заносимых под крышу водных струй, спешно перемещались на сухие участки, ругаясь и причитая. Молнии сверкали одна за другой. Наконец, первые сильнейшие порывы бури прошли, но гроза еще долго не затихала, и раскаты грома то и дело перекатывались от одного края неба до другого, застревая и оглушительно грохоча под высоким навесом, спасающим людей от дождя.
Неподалеку от того места, где находились Камилл и его родственники, расположились два молодых татарина в солдатской форме. Еще днем всем своим поведением они подчеркивали свою непричастность к тем, кто их окружал. Камилл все же был маленьким мальчишкой, и его тянуло к "нашим" солдатам, но те грубо его отогнали. Ведь все вокруг были предатели, которых не зря выслали, воины же эти оказались здесь по ошибке, они были уверены, что их, защитников советского отечества, вскоре отделят от остальных и, может быть, повезут назад в Крым.
И вдруг во время грозы, - из страха ли, из доблести ли, - эти двое в солдатской форме громко запели. Пели они военные и революционные песни, и запомнилась Камиллу одна особенно хорошо звучавшая - "Смело-о мы в бой пойдем за власть Совето-ов...". Когда раздавались раскаты грома, лояльные герои, двое лучшие из лучших, возвышали голоса, стараясь перекричать грохот, и это им почти что удавалось. Они не задумывались, какое впечатление производило их пение на несчастных, лишившихся всего людей, в тоске и страхе прижавшихся друг к другу под гремящей крышей железнодорожного склада где-то очень далеко от родного жилища.
Как Камилл слышал впоследствии из случайного разговора старших, примерно через год один из этих лучших повесился, другой же получил работу холуя и осведомителя при спецкомендатуре, женился на не татарке, и потом куда‑то исчез.
Утром солнечные лучи, отражаясь от зданий и деревьев, окружающих крытую площадь склада, веселыми бликами пытались разукрасить серые груды измученных людей, лежащих на своем мятом и грязном скарбе. Хмурые мужчины и женщины поднимались после тяжелого сна. Еще прохладный, очищенный ночной грозой воздух не облегчал головную боль, маскированная вагонной теснотой безнадежная убогость и потрепанность вещей и людей, обнажено предстала перед взором в свете ясного весеннего утра и вызывала ощущение распада времен, полного разрыва всех связей с прошлым, - так оно и было. В гремящей скученности вагонов присутствовало в качестве иллюзорного будущего ожидание конца пути. Теперь же мир разделился на две половины, - одна, не принадлежащая этим людям, как всегда существующая в неразрывном времени с непрерывно перетекающими от дня ко дню заботами и радостями, и другая, им уготовленная, - инфернальная, клочковатая, похожая на страшный сон. Здесь крымчане не имели будущего, были вне закона, каждый последующий миг бытия зависел не от них, - его определяла сильная и злая внешняя воля. Эта злая воля могла вести на убой на край оврага или в газовые камеры людей только за принадлежность к одному этносу, могла поднять в единый час на дощатые полы телячьих вагонов целые народы и переселить их за тридевять земель, могла принять решение перекроить континенты, повернуть вспять реки. Она не персонифицируема, - пусть не обольщаются шикльгруберы и джугашвили, эти марионетки. Идеи национал-социализма или великодержавного национализма не создаются одним человеком, они вызревают столетиями, пестуемые неполноценным разумом и патологическим комплексом неполноценности...
За оградой товарного склада проходили в будничной суете люди, они останавливались, переговаривались, куда-то торопились, принимали решения. Крымчане же, будь то вчерашние малограмотные крестьяне или прославленные поэты и известные ученые, ждали прибытия покупателей их физической силы, чтобы на хилых плантациях хлопководческих колхозов окучивать ростки, выравнивать грядки, собирать по осени в бязевые мешки созревший хлопок.
И покупатели прибыли. Не совсем ясно представляли себе роль и возможности новоприбывшего контингента приехавшие председатели узбекских колхозов. Приютившие в годы войны десятки тысяч жителей западных земель Советского Союза добрые узбеки поначалу и крымских татар, извергов рода человеческого, приняли как обычных беженцев. Называли они их добрым словом "михман", что означает "гость". Особенно приятно поразило их то обстоятельство, что на этот раз все "михманы" были их единоверцами - мусульманами.
Рассадили людей по полуторкам и повезли по живописной Ферганской долине в разные колхозы. Группа, в которой оказались Камилл с родственниками, была направлена в колхоз имени Карла Маркса, куда они приехали часа через два. Выгрузили их на площади перед правлением колхоза. Сошли люди с машин покачиваясь, - водители гнали старенькие грузовички по проселочной дороге так, будто бы везли бездушные тюки с хлопком, а не людей. Если взрослые, оправляясь после поездки, думали о том, как будут дальше развиваться события, то Камилл был захвачен новизной ощущений. Ему казалось, что он попал в сказочную страну. Кругом абрикосовые и вишневые деревья обсыпанные плодами, на ветвях сидят удивительные птицы с чудным цветным оперением, и, распуская радужные хохолки на головке с длинным загнутым клювом, распевают:
- Упу-пуп, упу-пуп, пыш-ш!
Это были удоды, которые не могут не поразить воображение тех, кто никогда их прежде не видел. В густых кронах деревьев гукали горлицы, в зарослях клевера у пруда жужжали огромные полосатые шмели.
Восприятие взрослых было иное. Красота незнакомой природы проходила мимо их сознания, хотя благодарить Аллаха было за что:
- Аллаха шюкюр! Уралны дагына алыб барыб тушюрген олсалар не япар эдик? (Слава Аллаху! Что бы мы делали, если бы нас завезли в горы Урала?)
Сыны ислама благодарны Аллаху за то, что и в несчастье Он не лишает их надежды и веры в Его благость...
Глава 7
...Обитал на лучшем из лучших полуостровов прекраснейшей из прекраснейших планет гордый народ, корнями уходящий к древним таврам, которые переплелись позднее с великой цивилизацией скифов. Гены и культурные яды Эллады, соединившись с тавро-скифской укорененностью, способствовали возникновению этноса, выдержавшего экспансию и гуннов, и римских легионеров, и печенегов. И когда половецко-кипчакский поток залил весь Крым, то и его, в конце концов, этот этнос впитал в себя и выплеснул в последующие генерации обогащенным тавро-скифской первородностью и греко-римской основательностью.
Здесь, в этих складках моря и земли, Людских культур не просыхала плесень - Простор столетий был для жизни тесен, Покуда мы, Россия, не пришли. За полтораста лет - с Екатерины - Мы вытоптали мусульманский рай, Сожгли леса, размыкали руины, Расхитили и разорили край. Осиротелые зияют сакли, По склонам выкорчеваны сады. Народ ушел, источники иссякли. Нет в море рыб, в фонтанах нет воды...Русский поэт Максимилиан Волошин написал эти скорбные строки в начале двадцатого века, когда, хотя и оттесненные с лучших земель имперскими вельможами, крымские татары жили худо-бедно на своей родине, ходили в свои мечети, обучали детей в своих школах.
А нынче лишенные родной земли, жилищ и собственности мы ждали дальнейшего развития событий. Ждали безоружные, безлошадные, беспомощные, приведенные почти в небытие... А тот, кто изгнал нас из наших домов, торжествовал победу над нашей историей, над нашей слабой плотью, над нашими обманутыми душами.
Фашистская Германия перешла границы нашей страны, жгла наши города и деревни, убивала мирных жителей. Пусть когда-то будет доказано, что нападение Германии на СССР только на несколько недель опередило планировавшееся нападение СССР на Германию, - для меня первостепенным является то обстоятельство, что именно Германия вела военные действия на землях народов Советского Союза. Поэтому для всех моих сограждан война против немецких оккупантов всегда будет священной войной. Многие тысячи крымских татар сражались против немецких войск на фронтах Второй мировой войны. Но оказалось, что наши мужчины и женщины проявляли воинскую доблесть, спасая от фашизма семьи русских, англичан, французов, поляков - всех народов, кроме своего, ибо победившая фашистов сторона уничтожила половину семей нашего народа.
Половина крымско-татарского народа была уничтожена после выселения из Крыма - даже несчастный еврейский народ не потерял в войну половину своей численности! Каково это приносить на алтарь счастья других племен жизнь своего племени? Сражаться и умирать на той стороне, которая еще до окончания войны уничтожит твоих детей, твоих престарелых родителей - вот великое самопожертвование…
Мы геройски воевали с вторгшимися в пределы нашей Родины немецкими оккупантами! Но у вернувшихся с фронтов живыми крымских татар не может не возникать мысль, - за какую Родину мы сражались и умирали?
За ту Родину, которую у нас отняли и которую заселили выходцами из псковщины и брянщины?
Или за ту Родину, в голодные степи которой высадили нас весной сорок четвертого?
Может быть, за ту Родину, в которой жировали, сладко ели и сладко пили вместе со своими отпрысками те, кто решал участь нашего народа, кто раздумывал, кому принести в дар землю наших предков?
За что воевали? За выселение наших семей из Крыма, за смерть половины нашего народа на спецпоселении? За бесконечные унижения, за спецкомендатуры, за лишение элементарных прав, за двадцать лет каторги, присуждаемые сыну, выехавшему в соседний район на похороны матери? За дискриминацию на протяжении всех последующих лет, за досье, сопровождающее крымского татарина, куда бы он ни поехал? За то, что и по сей день народ еще не может вернуться в Крым? Велика обида наших доблестных солдат!
Это уже много позже я, кажется, осознал, что доблесть воинов-крымчан тем выше, что они в войне с фашизмом жертвовали собой как бы бескорыстно.
Глава 8
Тимофей Иванович расшевелил кочергой кизячные кирпичики в железной печурке, и в комнате стало светлей. Кончился керосин, и жена еще днем отправилась за ним в город и уже должна была вернуться, да что-то запаздывала. Тимофей Иванович беспокоился. Поселились они здесь недавно. Окраина города все же не деревня, люди могут жить на одной улице и не быть знакомыми. А домишко их нынешний располагался и вовсе на отшибе. Ходили супруги в город обычно вдвоем, но сегодня дядя Тима остался, чтобы на огороде поработать: вторая уж половина мая, а на грядках черным черно. Прибыли они сюда, в саратовские края, бежав из родного Мелитополя. При немцах завел Тимофей Иванович там у себя продовольственную лавку и стал частным торговцем. Теперь же большевики вернулись, и всех частников по их законам надлежало уничтожать. Тимофей Иванович еще полгода назад прикрыл свое дело, заколол кабанчика и купил лошадь с телегой. Как только фронт прошел на запад, супруги загрузили телегу домашним скарбом, и отправились на восток, в приволжские степи, где их никто не знал. Купили они в пригороде ветхий домик и надеялись уберечься от преследования властей. Лошадь с телегой продали задешево, лишь бы избавиться и не бросаться в глаза. Прожить можно было огородом, да вот запоздали.
Тимофей Иванович опять расшевелил кизяк и подбросил новых кирпичиков. На старости лет начинать новую жизнь не легко. Но хлебнув лиха в советской тюрьме он не хотел рисковать, - неровен час какой-нибудь доброхот донесет властям, что, мол, живет рядом с честными советскими людьми буржуй, который обирал при немцах несчастных граждан путем продажи им по спекулятивной цене молока и картошки, - нет чтобы бесплатно раздавать. Капиталист, одним словом, пособник немецких оккупантов и слуга всего мирового империализма. И если за бытовые разговоры с высланным ленинградцем его упекли в тюрьму, и только по счастливому случаю вышел он оттуда живым, то за то, что при немцах не голодал, а сумел даже денежки заработать - и вовсе на месте расстреляют. Вот и приходится ютиться в глуши, в хате-развалюхе. А в Мелитополе у них хороший дом оставлен...
Со скрипом отворилась калитка, и Тимофей Иванович с облегчением выпрямился - вернулась жена.
- Слышь, Тима? - поставив в сенях канистру с керосином, Антонина Васильевна вошла в комнату. - Слышь, все говорят, что татар из Крыма в товарных поездах везут.
- Что? Куда везут? - не понял Тимофей Иванович.
- Да уж не на экскурсию, на высылку везут. Всех, и женщин и детей.
- Господи, неужто весь народ высылают? Да врут люди, не может быть такого?
- Похоже, что правда. Повсюду говорят. Письма, говорят, из окон выбрасывают, кто Сталину пишет, а кто мужу на фронт.
- Сталину... Это поможет... Да, если такие подробные разговоры, то значит правда. Как же там наши?
- Вот и у меня душа не на месте.
- Напиши письмо, завтра же. Они, должно быть, из деревни уже вернулись.
- Вот теперь-то и не надо бы возвращаться. Но написать напишу. А может съездить?
- Подумать надо. Нынче же решим. Давай вечерять, что ли...
Залив в лампу керосин Тимофей Иванович поднес ее к печи и лучиной зажег подрезанный загодя фитиль. Затем он надел на лампу хорошо протертое стекло и повернул вороток фитиля. В комнате стало светло, и сразу сгустилась тьма за окном. "Надо бы собаку завести" - подумал Тимофей Иванович. С чего это вдруг стало еще тяжелее на сердце? Ах, да! Жена дурную весть принесла...
Антонина Васильевна между тем достала хлеб, домашней колбасы и поставила на печку медный чайник. И вспомнился ей маленький Диянчик, каждый вечер взволнованно ожидавший, достанет ли тетя Тина из мешка заветное "кильце ковбаски". Антонина Васильевна тихо улыбнулась, было, про себя, но горечью и тревогой обожгла ее вновь вернувшаяся мысль о выселении татар. Господи, как они там, бабушка и ее внучек?
...Очнувшись от обморока, Хатидже поднялась на ноги, оглянулась вокруг и вновь чуть не потеряла сознание. Она одна в степи, а дочерей страшный поезд унес неведомо куда! Закружилась голова и женщина опустилась на колени. Ей казалось, что все это происходит во сне. Она ущипнула себя, вскочила на ноги, осмотрелась, - сон был очень четким, никакой расплывчатости в окружающем мире. Неподалеку блестели под лучами солнца стальные рельсы, валялся в траве у ног бидончик. Хатидже взвыла и упала в конвульсиях на землю. Через некоторое время истерика прошла, и ощущение реальности постепенно возвращалось к бедной женщине. Прежде всего, она представила себе состояние оставленных ею в вагоне девочек. После пережитого шока старшая Айше задумается о дальнейших действиях. Они или сообщат об отставшей от состава матери конвою, что будет очень глупо, или же доедут до места назначения и вместе со всеми будут поселены в отведенных местах. Хатидже надеялась, что окружающие люди посочувствуют девочкам в их беде, и неприязнь сменится хоть какой-то заботой. И с вещами им теперь помогут, перенесут куда надо. А вещи можно продать, обменять на хлеб... Старшей семнадцать, это уже взрослость. И если будут рядом свои татары, то не обидят. А что будет с ней самой? В одном старом платьице, на ногах тряпичные тапочки. Вот бидончик еще... Ну что ж, руки-ноги целы... Хатидже сумела взять себя в руки. Саг кулны чареси тапылар! (Живой раб божий как-нибудь выкрутиться). И наполнив бидончик водой, женщина пошла в сторону от железной дороги.
В создавшемся положении, соображала Хатидже, разумнее всего пойти в милицию и заявить о случившемся. Конечно, могут судить как за побег и отправить в тюрьму, но могут и отправить туда, где поселят высланных крымчан. Со временем она найдет дочерей, и все как-то образуется. Конечно, надо явиться к властям, другого пути нет.
Близился вечер. Женщина медленно шла по нераспаханной степи, по высоким травам и цветам. На безветренном тихом закате остывающий воздух уже не поднимался вверх, туда, откуда степные орлы высматривают укрывающегося в зарослях зайца или выбежавшую на бугорок стайку куропаток. Жарким днем ароматы сырой земли и цветущих трав щекочут широкие ноздри парящих на неимоверной высоте орлов, зазывают их вниз, туда, где спрятаны в густом бурьяне их гнезда. Но охота есть охота, и орлы, стараясь не поддаваться зовущим испарениям земли, напрягают с высоты зрение и в долгом полете обозревают землю в поисках жертвы. А в час, когда солнце с все возрастающей скоростью приближается к далекому горизонту и вот-вот уже коснется его, в этот час всепокоряющие запахи полыни и шалфея с тонкой прослойкой из магического аромата маков и нездешнего когда-то, но становящегося привычным, стойкого запаха низкоцветущей ромашки, - эта хмельная смесь сгущается у поверхности земли, и пьянит, и врачует, и связывает сознание нитями, которые тянутся через всю жизнь, запутываются, но не рвутся и, не теряя своей упругости, удлиняются до самой смерти человека, зазывают его сюда, в половецкую степь, в мечту...
Оранжево-малиновый шар коснулся окоема земли, чуть заметно подпрыгнул и смялся, стал медленно, словно расплавляясь, растекаться. Но раскалившийся горизонт, будто в полынью, быстро увлекал сплющившееся светило, и вот от него остался только все уменьшающийся купол, который, исчезнув, испустил вдруг изумительной яркости зеленый луч, заставивший уже погружающуюся в сумерки степь вскрикнуть то ли в испуге, то ли в восторге.
Женщина ускорила шаги, встревоженная быстро наступающей ночью. Щедрый настой вечерних благоуханий, и вправду, действовал как лечебный бальзам, успокаивал нервы и упорядочивал мысли. На западе, где еще не остывшее небо пылало всеми оттенками красного, у самого горизонта завиднелись дымки, сливающиеся в сплющенное серое облачко, - там находилось селение. Там чужие люди с незнакомыми нравами, - женщине стало страшно. Но выбирать не приходилось, и она направилась к жилью.
Уже совсем стемнело и небо стало затягивать тучами, когда она подошла к поселку. Слышался лай собак, крики детей, кто-то неумело пытался играть на гармошке. Хатидже поостереглась явиться туда, где ее приход стал бы известен многим людям. В стороне от других стоял у самой границы с нетронутой степью невзрачный домишко, в окошке которого виднелся свет. Женщина осторожно подошла к дощатой изгороди и постаралась заглянуть в окна, но ничего не смогла углядеть. Собаки, по-видимому, во дворе не было, и Хатидже решилась постучать в ворота.
- Кого еще принесло об эту пору? - встревожено подошел к окну Тимофей Иванович. Ничего в воцарившемся за окном мраке увидеть было невозможно. Он прислушался. Антонина Васильевна, разрезавшая хлеб, тоже настороженно замерла. Взяв в руки лежавший в углу тяжелый отрезок стальной трубы, Тимофей Иванович вышел во двор. " Собаку надо завести", - опять подумал он сердито.
- Кто там! - он крикнул и остановился, не доходя до ворот.
- Я заблудилась. Приютите меня до утра, я могу переночевать хоть в сарае, - услышал Тимофей Иванович слабый женский голос. Он подошел к воротам и приоткрыл калитку. Перед ним стояла женщина в легком платьице и без всяких вещей в руках. Это было подозрительно, и он, не отпуская дверцу, прислушался, а потом спросил:
- Откуда вы?
- Я случайно отстала от поезда, - робея ответила Хатидже.
Тимофей Иванович помешкал несколько секунд, потом открыл калитку и пропустил женщину:
- Входите! - и быстро задвинул за вошедшей щеколду.
Хатидже вошла вслед за хозяином в дом и несмело остановилась у дверей.
- Здравствуйте, извините. Мне только переночевать где-нибудь, можно в вашем сарайчике, - быстро заговорила она. - Я отстала от поезда, вот какая смешная штука приключилась. Я утром пойду в город и дам телеграмму, мне деньги родственники пришлют.
То, что говорила эта женщина, очень походило на правду, откуда же иначе взяться здесь легко одетому человеку без всяких вещей. Антонина Васильевна сочувственно охнула, и подойдя к женщине взяла ее за плечи.
- Ой, миленькая, какая беда! Ну, ничего, переночуете у нас, а утром сообщите своим. Всяко бывает в жизни. В поезде-то кто из своих остался? О вещах-то есть кому позаботиться? Да вы идите, умойтесь. Мы как раз вечерять собирались.
- Нет, спасибо! Я есть не хочу! Спасибо, спасибо! - и упавшим голосом добавила: - Дочки у меня в поезде остались...
- Ну, значит, вещи не пропадут! А то ведь сейчас всякое старое барахло ценным для нас стало. Да вы не стесняйтесь, умывайтесь и за стол. Дочки взрослые, небось?
Антонина Васильевна подвела неожиданную гостью к умывальнику в сенях и та, не отвечая на ее вопрос, с удовольствием вымыла лицо и руки по локоть. Хозяйка дала ей свежее полотенце и усадила за стол. Хатидже пригубила чаю из стакана и ответила запоздало на заданный вопрос:
- Семнадцать старшей, а младшей двенадцать...
- О, старшая уж совсем взрослая, не растеряется! Да вы ешьте, ешьте!
Антонина Васильевна положила на ломоть хлеба кружочки колбасы и поставила перед гостьей. Та расстроено попивала чай.
- Куда ехали-то? – спросил, вступая в беседу, Тимофей Иванович.
- Не знаю, - упавшим голосом произнесла женщина, отставив чашку с чаем. - Не знаю, куда я ехала. Ничего не знаю. Не знаю, куда увезли моих детей! Ой, простите меня!
Хатидже выбежала в сени, задыхаясь от сдерживаемых рыданий.
Супруги переглянулись. Кажется, они все поняли. По крайней мере, они, кажется, знали, откуда ехала эта женщина со своими детьми. Хозяйка подошла к плачущей в сенях женщине и молча положила руку ей на плечо. Гостья подняла на нее глаза и с мольбой проговорила:
- Позвольте у вас остаться до утра.
Антонина Васильевна повела несчастную назад к столу. Какое-то время все молчали. Потом Тимофей Иванович спросил:
- Вы из Крыма? - и быстро добавил, увидев, как испуганно встрепенулась гостья: - У нас там друзья, мы слышали о выселении татар и очень переживаем.
Бедная учительница со страхом и надеждой переводила взгляд с одного из супругов на другого и молчала. Хозяйка ласково погладила ее по руке, мужчина смотрел с добрым сочувствием. И Хатидже спокойно, без слез, будто бы пересказывая прочитанное, поведала им о том, что произошло за последние четыре дня.
- Пойду завтра в милицию, что-нибудь они подскажут, - завершила учительница свое повествование.
- В милицию? Надо подумать, надо ли идти в милицию. Они, знаете ли, за побег, вас...того... Это им легче, чем отправлять вслед за эшелоном.
- Я и сама боюсь. А что они могут сделать?
- Проще всего для них заслать вас в лагеря куда-нибудь на Колыму. По законам военного времени это делается в административном порядке, без всякого суда. А может быть у них и специально для таких случаев закон уже есть. Дочерей уж точно вам никто искать не будет.
- Что же мне делать! У меня же девочки одни остались! - не удержавшись закричала Хатидже, и сразу же прикусив руку замолкла, глядя на мужчину.
- Вам надо остаться на свободе. И никакой милиции! Свободный человек и других может освободить, а что вы сможете сделать для дочерей, если окажетесь в тюрьме?
- Но может быть, меня отправят туда, куда повезли дочерей?
- Кто отправит, за чей счет? И куда? Кто и как будет искать ваших дочерей? Единственно правильное поведение - остаться на свободе и со временем найти своих родственников.
Правота замечаний Тимофея Ивановича была совершенно очевидна, но где и как остаться?
- Останетесь у нас. Выдадим вас за родственницу, получим какой-нибудь документ. Сейчас много беспаспортных.
Антонина Васильевна взглянула на мужа и вполголоса произнесла:
- Паспорт- то тети Вали...
Тимофей Иванович помолчал и потом пожал плечами - не знаю, мол.
Хатидже чувствовала огромную благодарность к этим людям, появившимся неожиданно в самые кошмарные часы ее жизни и проявляющим родственную заботу о чужом для них человеке. Но внутренне она сопротивлялась. Этот день, за который она прожила целую жизнь, изменил ее мировосприятие, в ее болезненном, новом ощущении бытия возникли отныне две неравные части: в одной она и фантомы ее дочерей, в другой, враждебной, все остальные, которым нельзя верить. И сейчас этот мир, который она уже приняла, с которым убедила себя смириться, рушился, уступая место прежнему. Прежнему, желанному, но без детей, с которыми она никогда прежде не разлучалась. Значит он не прежний, значит это обман, видимость, которая рассеется.
Но голос мужчины был спокоен, он говорил убедительно, неопровержимо.
- Надо выждать и через какое-то время будет известно, куда отвезли крымчан, где их поселили. Тогда с паспортом русской или украинки вы сможете найти своих дочерей. Я думаю, что татар расселят где-нибудь на Урале или в Средней Азии, как многих раскулаченных.
Несмотря на всю разумность сказанного хозяином дома, его слова оставались только в голове бедной женщины, сердце же не принимало доводов и требовало немедленных действий. Как примириться с пассивным ожиданием, когда дочерей арестантский поезд увез неведомо куда? Как оставаться свободной и бездеятельной, если родные дети ее в руках безжалостных чекистов? Если сдаться властям, то неужели они не посодействуют в поисках дочерей? Возможна ли такая жестокость, ведь она не преступница! И в то же время из глубин сознания всплывало знание того, что никто из расстрелянных или высланных в прошлые годы не был преступником или заговорщиком.
Тимофей Иванович еще что-то говорил, но Хатидже уже плохо воспринимала слышимое. Хозяйка заметила состояние несчастной гостьи:
- Ну, все! Утро вечера мудренее. Спать пора, а утром договорим.
Антонина Васильевна занялась приготовлением постели для гостьи на кушетке в углу, сами же хозяева ушли спать в другую комнату.
Хатидже заснула сразу же. Снилось ей, что она в "родном" вагоне с детьми...
А Тимофей Иванович вышел в ночную прохладу, и стоя у сарая задумался над неуспокоенной изощренностью властей. Он смотрел в степь, туда, где густая чернота затянутого тучами неба не освещалась ни единой звездочкой, ни самой малой искоркой света. И вдруг в этой беспроглядности, где взгляду не на чем было остановиться, возникло движение, какое возникает в колдовской чаше гадалки, вызвавшей запредельного духа, или, чтобы всем было понятно, какое возникает в искривленном зеркале, которое еще и вращается вокруг накренившейся оси. И оказалось, что есть во Вселенной особая темнота, которая чернеет мрачной круговертью даже на абсолютно черном фоне.
Тимофей Иванович тряхнул головой, чтобы отогнать представшее перед ним наваждение. Но черный изгиб пространства уже скрылся, и нечаянный свидетель происшедшего облегченно рассмеялся.
- От свежего воздуха закружилась, видно, голова. Да и спать пора! – и он пошел в дом.
Утром Хатидже чувствовала себя очень стесненно. Еще до завтрака высказала робкое предположение, что, может быть, ей все же пойти и заявить, что она не преднамеренно отстала от эшелона. Антонина Васильевна, которая полночи обговаривала возможные варианты с мужем, без обиняков ответила на это, что большей глупости представить себе нельзя.
Когда попили чаю, Антонина Васильевна вышла в другую комнату и вернулась с чем-то, завернутым в голубую салфетку.
- Вот, - проговорила она, разворачивая салфетку. - Это паспорт моей покойницы тети, перед приходом немцев умерла. Поглядим, подойдет ли вам.
Тимофей Иванович тоже встал и заглянул в паспорт и потом поднял глаза на ночную гостью.
- Может сойти, если волосы обрезать и собрать пучком, - засмеялся он.
С фотографии на паспорте смотрела старая женщина лет шестидесяти, длиннолицая, худая.
- Форма глаз и бровей совпадают, - тоже весело рассмеялась Антонина Васильевна. - Тетя Валя постарше, но это ничего, состарить - не омолодить.
Хатидже тоже встала и заглянула в паспорт. Ей показалось, что они с тетей Валей совершенно не схожи и этот документ никак не может ей пригодиться. Огорченная она взяла протянутую ей книжицу. Валентина Степановна Иванько, украинка, год рождения 1885 - на пятнадцать лет старше. И, главное, не похожа, совсем не похожа!
- Все! Теперь вы тетя Валя - так и буду называть! А муж называл покойницу Степановной - так и будет величать!
- Но ведь непохожи мы! - с отчаянием воскликнула Хатидже. - Поймают меня на обмане!
- Да кому надо вас... ой!.. тебя, тетя Валя, ловить! Это на крайний случай, а на этот самый случай и платочек повязать можно по-старушечьи, посмурнее глядеть. Главное - глаза и брови одинаковые. Да и нос горбонос! - опять веселилась Антонина Васильевна.
- Похожа, похожа! Очень хорошо подошел документик! - Тимофей Иванович тоже был доволен.
Поддаваясь хорошему настроению хозяев, Хатидже-ханум опять внимательно изучила фотографию. Да и чего там было изучать, господи! Старый маленький фотоснимок, женщина на нем по типу лица и вправду была схожа с ней. Конечно, ежели подвергнуть фотографию экспертизе, то идентичность можно опровергнуть. А так, на быстрый взгляд, вполне сойдет Хатидже за Валентину...
Так и осталась Хатидже у добрых людей в ипостаси их тетки Вали. Порассказали они своей тетке об ее былой жизни, о родственниках, и вместо татарки Хатидже появилась украинка бабуся Валентина.
Глава 9
Большие оранжевые абрикосы плавали в обширной луже. Камилл снял ботинки, затолкал в них носочки и полез за абрикосами. Сразу же поскользнулся на илистом дне и шлепнулся в лужу, которая представляла собой, если быть точным, затопленный ночным ливнем участок заброшенной проселочной дороги. Было обидно и противно, его шорты были в желтой жидкой грязи. Но вокруг была вода, и он пучком травы смыл грязь с мокрых шортов и с тела. Затем вновь осторожно полез за манящими абрикосами. Оказалось, что под водой, доходящей порой ему до колен, есть участки с травой, и, отыскивая их пальцами ног, можно не скользить и устойчиво перемещаться по акватории. Сразу же отправляя абрикосы в рот, он понял, что среди них большинство пропитаны теплой водой и потеряли свой вкус, а встречаются и нормальные - видно упавшие недавно. Он сообразил, что в высокой траве на обочине должны быть сухие вкусные плоды.
Над затопленной дорогой нависали из-за глиняного забора мощные деревья с темной рельефной корой, ветки с ярко зелеными листьями были усыпаны плодами. Ночная гроза, сопровождавшаяся сильным ветром, растрясла деревья, и созревшие золотые плоды обильно усеяли землю. Не удаляясь от нависших веток Камилл, нашарил в траве множество плодов, пусть и разбитых, но спелых и вкусных. И тут он увидел, что на него молча глядит стоящая в проломе стены женщина в странном одеянии - в длинном белом платье, в темной безрукавке и с большим белым платком на голове. Камилл был напуган внезапным появлением молчащего соглядатая, так же, как и самим фактом, что его застукали за собиранием урожая чужого сада. Необычность одеяния женщины усилила степень его потрясения. Та, увидев его испуг, стала кричать и махать рукой:
- Кет! Йокал! Уходи! Исчезни!- сама, видно, испугалась появления неведомого мальчишки в странной для этих мест одежде.
Торопливо сложив собранные плоды в кепчонку, Камилл ретировался. Но, поспешно убегая, он радовался, что несет папе и маме вкусные абрикосы.
Перед этим, как только примерно полсотни переселенцев, сгрузили с машин на главной деревенской площади, Камилл обежал вокруг всю эту площадь, обнаружил небольшой пруд, обнаружил большое дерево, на котором зрели незнакомые белые ягоды, похожие на шелковицу, у которой в наших краях плоды темно красные и чуть кисловатые. А эти ягоды, тоже оказавшиеся шелковицей, то есть тутовником, были большие и медово сладкие. Камилл очень хотел есть, папа и мама тоже были голодны. Услышав их слова, что хорошо бы сейчас съесть чего бы ни будь горяченького, мальчик быстренько набрал полную кружку тутовника, тут же соорудил самодельный очаг из двух камней и налив в кружку воды вскипятил ее - чем не горяченький компот из свежих ягод. Все это он сделал очень оперативно и гордый поднес кружку с варевом родителям. Искоса подозрительно взглянув на что-то белесое в кружке, отец все же отхлебнул, и с неудовольствием, вызванным то ли разочарованием от вкуса испробованного, то ли от нервозности ожидания дальнейшего развития событий, вернул Камиллу кружку без доброго слова. Мама тоже отпила из кружки, предварительно спросив, что это такое.
- Компот, - с некоторым вызовом ответил Камилл.
Мама все же заметила его назревавшую обиду, поняла и, сделав еще глоток, вернула кружку.
- Спасибо, сынок, очень вкусно.
Камилл теперь тоже попробовал своего компота и понял, что больше никогда не будет варить компот из тутовника, а будет потреблять его только в сыром виде. Конечно, мальчик был огорчен неудачной попыткой накормить своих родителей, ему было обидно, что не услышал одобрения от отца. Разочарованный он продолжил обследование местности и, завернув за длинный земляной забор, обнаружил выше обрисованную водную поверхность с абрикосами. И вот теперь он принес своим голодным родителям целую шапку по настоящему хорошей еды. Отец с посветлевшим лицом погладил его по голове, а Камилл опять, уже с матерчатой сумкой, отправился за угол того же забора, чтобы набрать абрикосов. Узбечки в проломе не было, и мальчик собрал в траве немало плодов и вновь поспешил к своим. На это раз хватило и бабушке, и теткам, и кузенам с кузинами...
Всех прибывших распределили по домам сельчан, причем по домам рядовых колхозников - никто из колхозного начальства не принял к себе ни одного переселенца. Маленькая семья Камилла, и с ними вместе две тети с детьми и бабушка, были поселены в чистом глиняном домике недавно пришедшего с войны с ранением молодого узбека. Хозяин дома вместе с женой перешли жить в пристройку, а в основных двух комнатах расположились ссыльные крымчане.
Все казалось Камиллу не настоящим, временным. Стояли жаркие влажные дни. Вокруг селения было много озер, поросших камышом. Странно, но некоторые озера были с водой мутной, цвета жидкого кофе с молоком. В других же озерах вода была кристальной чистоты, и, остановившись неподвижно на берегу, можно было видеть, как из подводных зарослей выплывают большие рыбы. Набравшись терпения и простояв бесшумно над водой можно было наблюдать охоту затаившейся в водорослях щуки за мелкими рыбешками. И когда взмахнешь рукой, разгоняя беспечную подводную шушеру, щука зло посмотрит на тебя из прозрачной толщи, ударит хвостом и уйдет в заросли. Узбеки объяснили, что воду из прозрачных озер и арыков пить нельзя. Питьевой же была мутная вода, которую отстаивали в больших глиняных кувшинах, и которая тоже становилась прозрачной, но вкусной ее вряд ли можно было назвать. Кстати, озера с мутной водой оказались просто разливами многоводных арыков, которые во время дождей переполнялись выше всякой меры и даже грозили наводнением.
Было начало июня и время массового созревания урюка - абрикосов. Перезревшие плоды отрывались от ветвей под своей тяжестью. А если вдруг налетал ветер, то с задрожавших веток обрушивалось сразу множество прекрасных абрикосов. И надо было только знать места, тогда корзинка ваша или ваша сумка быстро наполнялись урожаем из чужого сада.
На другой день после прибытия в узбекский колхоз Камилл увидел здешних детишек. Мальчишки как мальчишки, но девочки! Их черные маслянистые волосы были заплетены в сотню мелких косичек! Их брови были соединены мостом через переносицу, - черной растительной краской, как потом он узнал.
Знакомство с мальчишками произошло так. Камилл отправился на задворки собирать абрикосы. Вдруг его окружили мальчишки, в основном его ровесники, которые вполголоса повторяли одну и ту же фразу:
- Амингни скей! Амингни скей!
Камилл сначала решил, что они говорят, что собирать абрикосы нельзя и собирался уйти - чего связываться. Но они стали подбирать с земли плоды, подбегали к нему и бросали их в его сумку, отбегали, повторяя при этом ту же самую фразу:
- Амингни скей!
Камилл подумал-подумал, и тоже стал говорить им:
- Амингни скей!
Узбечата немного опешили, но затем все продолжилось. Камиллу это надоело, и он решил уйти. Он оглядел окруживших его, но все же сохранявших дистанцию детишек - их было пять или шесть человек мальчишек. "Ну и черт с вами! Заладили повторять одно и то же!". Ему захотелось пописать и он, подойдя к глиняной стене, пустил на нее струю. Мальчишки издали удивленные возгласы. Камилл закончил свое дело и спокойно отправился к своему нынешнему жилищу. Мальчишки следовали за ним, но уже тех надоевших слов не было слышно. Они что-то пытались ему сказать, в их интонации слышались дружеские нотки, но смысла их слов Камилл опять же не мог разобрать. Уже гораздо позже он понял, что его, из-за длинных волос, приняли за девочку, и смыслом той надоевшей Камиллу фразы было то, что лелеют в своих мечтах юноши, заводящие знакомство с красивой девушкой.
На следующий день, едва завидев Камилла, его давешние приятели подбежали к нему, но вдруг удивленно глядя остановились. Пока Камилл соображал, чем он их поразил на этот раз, мальчишки подошли к нему и стали пальцем указывать на кепку, которая была на его голове:
- Вой! Доппусини айвоны бар! Ух, ты! У него тюбетейка с навесом! - раздавались удивленные возгласы.
В общем, маленький крымчанин не переставал удивлять маленьких аборигенов. Кроме Камилла среди прибывших в колхоз переселенцев были и другие мальчики того же возраста, но то ли они сидели по своим хижинам, то ли у них были свои почитатели.
На этот раз Камилл понял объект их интереса и, сняв кепчонку с головы, протянул им. Каждый из них примерил ее под насмешливые замечания приятелей, и только один малыш лет пяти отказался надевать на свою голову такой странный предмет. Потом мальчишки что-то говорили, о чем-то рассказывали. Отдельные слова казались Камиллу знакомыми, - его родной язык родственен узбекскому, - но уяснить смысла он все же не мог. Жестикулируя, его собеседники предложили ему куда-то пойти, и на этот раз Камилл их понял, и все они дружной компанией отправились к тому забору, где Камилл собирал накануне абрикосы. Набрав в траве плодов, они сели рядышком и стали весело их уплетать, причем новые приятели Камилла все что-то пытались ему объяснить. Потом мальчишки нашли в траве пару камней и стали колоть абрикосовые косточки и угощать Камилла.
Вдруг подул резкий ветер, на небо быстро набежала темная большая туча и раздались пока еще далекие раскаты грома. Узбечата вскочили на ноги и принялись с веселым ужасом орать:
- Мамагилдырок! Мамагилдырок!
Было понятно, что означает это слово, и Камилл тоже вскочил на ноги и стал скакать вместе с новыми друзьями и кричать:
- Мамагилдырок! Мамагилдырок!
Начали падать крупные капли дождя, их становилось все больше и больше. Мальчишки все собрались под высокой плотной кроной, но прилетел мощный порыв ветра, и с деревьев на их головы посыпались плоды. Вдруг огромная ветка над ними не выдержала и с треском стала обламываться. Мальчики рванулись в сторону и едва успели спастись от рухнувшей махины, которая могла бы разрушить, окажись он под ней, целый дом местной конструкции. Поэтому-то аборигены не сажают урюковые деревья в непосредственной близости от построек.
Дети спаслись от опасности быть покалеченными, но оказались под хлынувшим с небес водопадом. Мгновенно они промокли насквозь, и искать укрытия уже не было смысла. Дождь был теплым, мальчики скользили на глинистой дороге и падали, но ливень сразу же смывал грязь с их спин и задниц. Оно бы и ничего, было от чего веселиться, но вдруг наступившие посреди дня сумерки пронзил блеск молнии, и прямо над головами загрохотало. Привычные к таким проявлениям стихии приятели Камилла весело заорали:
- Мамагилдырок!
Камилла охватил страх, особенно, когда молнии стали непрерывно одна за другой прочерчивать небо то над ними, то спереди, то сзади. Гром гремел не переставая, раскаты, казалось, взгромождались друг на друга, низвергались и разрывались, катились по небу большими шарами и, взрываясь, рассыпались малыми ядрами, которые, попеременно отскакивая то от земли, то от туч, исчезали вдали. Камиллу хотелось сейчас быть рядом с мамой и с папой, в сухом помещении, в безопасности.
…Страх перед бурными проявлениями стихии, как Камилл имел возможность убедиться впоследствии, превосходил страх перед падающими с неба бомбами. Во время дневных бомбежек он неоднократно со своими приятелями, теми, уже далекими от него, стоял где-нибудь на крыльце или лежал в каких-нибудь кустах, и смотрели они на пикирующие на городские кварталы советские бомбардировщики, а были люди там живущие уже, как видно, не советскими, так как жили под немцем, в оккупации. А когда немцы убегали, а наши войска входили в город, то бомбили неизвестно чьих, привыкших уже ко всяким напастям, все - и наши, и немцы. Когда бомба свистела, мальчишки знали, что упадет она не близко. Когда же после того, как пикировавший со страшным воем самолет отваливал, свиста бомбы не было слышно, то многоопытные ребятишки ложились на землю и закрывали головы руками. Но вот ночные бомбардировки были очень неприятны - лежали тогда Камилл с мамой во время налета под кроватью, ибо считалось, что кроватная сетка спасает от рухнувших стен.
... Грома гремели не переставая, новые друзья Камилла уже устали орать и прыгать, и все поплелись все же под какое-нибудь укрытие. Неподалеку оказалась небольшая постройка - три стены и соломенно-земляная крыша, туда все они и забрались. Сняв с себя нехитрые летние одеяния, мальчики остались голенькими, и стали отжимать воду из своих рубашек и штанишек. Одежда узбечат была предельно проста: штаны на затягивающемся шнуре длиной до колен из светлой домотканой бязи и из такой же бязи рубашки без привычного нам отложного воротника.
Гроза бушевала еще с полчаса, и внезапно, как и началась, затихла. Через полминуты уже ярко сияло солнце, и по колено в залившей селение воде мальчишки разошлись по домам...
"Твоя жена не пойдет за тобой туда, Где не цветут абрикосовые деревья- это из фольклора другого азиатского племени. Но и для жителей обширных плодородных земель в междуречье Сырдарьи и Амударьи абрикосы - важный элемент многовековой материальной культуры. Весной, в первые недели после серой зимы, когда только лук и вялая морковь, - если, конечно не считать пирожков из зеленого клевера, - разнообразят ежедневную еду из дробленого зерна и из надоевших лойи и маша, местных бобовых, весной еще зеленые твердые плоды абрикоса, именуемого здесь урюком, дети и взрослые грызут, посыпая солью, и это довольно вкусно и полезно для организма - в кислых плодах уже много витаминов, а соль, оказывается, способствует лучшему их усвоению. Потом наступают роскошные дни обилия оранжевого цвета в садах, на керамических блюдах, на дастурханах, на зеленых лужайках под деревьями, в больших плоских плетеных корзинах во дворах, на базарах, в руках замызганных ароматной мякотью малышей. Из урюка варят пастилу и разливают ее на камышовые циновки, разостланные на плоских крышах. Рядом на таких же циновках сушатся целые плоды, здесь же разложена под лучами солнца курага - две сцепленные между собой половинки абрикоса, напоминающие раскрытые створки ракушек, которыми устланы песчаные мелководья теплых морей. Косточки съеденных плодов или плодов, использованных для изготовления кураги, высушивают, затем калят в горячих углях и, отсеяв золу, подсаливают их, чуть приоткрывшихся и ставших похожими на фисташки. Все это для зимы, когда липкая грязь, мокрый снег, неслабые морозы, и ни тебе телевизора, ни даже электрического света, а только сиди под одеялом, накрытым на деревянный ящик, под которым на железном сетчатом поддоне горячие уголья того же урючного дерева. Лучшая древесина для очага, для получения долго не остывающих углей - древесина абрикосового дерева. И на вид поленья эти не спутаешь с другими - плотные, желтоватые, с приятным ароматом - вот бы такие для европейских каминов, да где уж!
...Три дня переселенцам выдавали по утрам хлеб из кукурузной муки, а в первый день даже накормили вкусной кашей из неизвестных круп. Уже много позже они узнали, из чего готовят эту кашу, называемую "маш - кичирик". Есть, оказывается, такой зерновой продукт, который созревает в виде крупной грозди из белых круглых зерен размером с пшеничное. Эти белые, склоненные вниз грозди увенчивают высокие кусты, полностью схожие с кукурузными, и называются они джугарой. Кроме джугары в равном количестве в казан засыпают маш - это бобовое с мелкими зелеными плодами, тоже неведомое жителям Крыма. Если в казане еще в небольшом количестве масла или жира был поджарен лук, то каша получается на диво!
Камилл чувствовал себя туристом, открывателем экзотической земли. Все было в диковинку, немного нереальным, иногда ему казалось, что все происходит во сне. Это смутное ощущение ненастоящности каждого мига сохранилось у него на многие годы. Нет, это не было сомнамбулизмом. Камилл сохранял ясность ума, принимал решения и выполнял их, в заботах о ближних был добытчиком и рачительным хозяином, в минуты опасности действовал рационально, против врага строил козни, и они достигали своей цели. Но где-то в подсознании он ощущал существование другой, истинно ему предназначенной, но проходящей мимо него реальности...
Он исследовал новую для него страну. Здесь не только у воды был другой вкус, здесь и воздух был другим, жара здесь была иной, хотя и на его родине бывали знойные дни. Трава и цветы имели другой запах, и Камилл не находил здесь многие хорошо известные ему растения. Птицы здесь были совсем другие. Возле пруда гуляли на поляне пестро раскрашенные удоды, с открывающимся как веер хохолком на голове. Вороны здесь были синими - никогда бы он не поверил, если бы ему прежде об этом кто-то рассказал. В саду дома, где проживали Камилл с мамой и папой, а также бабушка и тети с детьми, на кустах красовались цветы с твердыми и толстыми, будто слепленными из воска, лепестками - разве можно было такое себе представить прежде? Как оказалось, это были цветки граната, но для городского мальчика все это было удивительной экзотикой.
Отца Камилла, профессора Афуз-заде, назначили бригадиром полеводческой бригады из переселенцев-татар. Надо сказать, что перспективы на дальнейшее продвижение по службе у него не было, даже удержаться на этой высокой должности ему вряд ли было дано, - уволили бы за профнепригодностью. Исконный городской житель и потомственный интеллектуал - и вдруг на колхозной плантации! Надо было уходить из этого сельскохозяйственного кооператива. Уйти можно было только в районный центр, в близлежащий город Андижан спецпереселенцу, будь он даже и профессор, пути не было. Выбралась профессорская семья из колхоза имени Основоположника в кишлак, примыкающий к районному центру с интригующе древним названием “Чинабад”. Туда же перебралась вскоре одна из теток, другая же с бабушкой Камилла уехала в более цивилизованную часть Узбекистана - в столичную Ташкентскую область. Благо, что в первые год-два перемещаться в пределах Узбекистана большинству спецпереселенцев было разрешено, если только поставить в известность комендатуру при местном управлении НКВД. Позже, в году сорок шестом, чтобы переехать в другой район или область нужно было получить так называемый "вызов", который выдавала комендатура принимающей стороны, и, если будет на то разрешение комендатуры по месту вашего проживания, вам могли разрешить переезд, но только со специальным сопровождающим из сотрудников НКВД.
А профессору Афуз-заде в столичную область переехать не разрешили...
Глава 10
Для уничтожения еврейского народа, - для "окончательного решения еврейского вопроса", - германские фашисты сконструировали и построили газовые камеры. Советская же власть, то ли в силу технологической слабости, то ли ради экономии средств, решала проблему уничтожения крымских татар древним ассирийско-вавилонским способом - выселить и обречь на вымирание. Власти надеялись, что погибнет весь народ, но мы оказались живучими. Половина народа выжила. Мы всегда обманывали ожидания имперских властей...
Аборигены "Зеленого Острова" - "Ешиль Ада", так называет наш народ свою Отчизну, оказались заброшены в самый центр Азиатского материка. Мы выжили и вскоре наладили свой быт, но не для того, чтобы «укорениться», а чтобы дождаться возвращения на Родину. И стали размножаться, размножаться. Власти испугались, а мы все размножались, размножались, размножались. Семьи крымских татар расползались по чужой земле, но нашей вины в этой экспансии не было. Нас, не помышляющих о чужой земле, насильно поселили на исконной территории других народов, не спросив на то согласия ни у этих народов, ни, тем более, у нас. В самые трудные часы нашего существования мы помнили об отнятой у нас Родине. Умиравшие завещали остающимся вернуться, во что бы то ни стало, на крымскую землю, где возник, развился и обрел самосознание наш этнос.
Многие из людей, которые жили-поживали в тех азиатских краях до нашего прибытия, помогали нам насколько могли, не могущие ничем помочь хотя бы сочувствовали. Но были и такие, которые смеялись над нашей нищетой - это были те, кто сросся с советской властью.
- Смотрите, они ходят босиком! Боже мой, у них даже утюга нет! Опять пришли просить мой керамический таз для стирки, - свой надо иметь! Она просила у меня ножницы постричь волосы ребенку: что за люди, у которых даже ножниц нет! Изольда Михайловна, представьте себе - у них в их хибаре нет ни одной книги!
Эти люди не удивлялись тем, кто просил подать кусочек хлеба - просящих милостыню в войну много было во всех краях тяжело воюющей страны. Их удивляли до презрения люди, живущие рядом с ними и не имеющие самого простого домашнего скарба. Им бесполезно было рассказывать про два утюга, оставленные в кухне на полке. Про набор ножниц, ниток и иголок, который выселявший семью офицер вырвал из рук дочки. Про большой медный таз, изготовленный медниками Карасу-базара еще в восемнадцатом веке, и который прослужит в семье выселявшего нас чекиста еще сто лет, если будет на то разрешение Аллаха. И босиком мы прежде не ходили даже в худшие времена. И не носили своих сапог на плече, чтобы обуться при входе в город.
Книги... Роскошные собрания сочинений Шекспира и Шиллера издательства «Брокгауз и Эфрон». Собрания сочинений всех классиков девятнадцатого века - лучшие издания. Все маленькие изящные томики издательства "Academia"... Данте, на суперобложке черная женщина, несущая в руках горящее черным пламенем черное сердце, "Vitanova" - читал и перечитывал и не понимал. Из Шекспира больше всего любил "Макбета" и "Бурю" - там действовали ведьмы. Еще хорош по мне был Фальстаф с подушкой на голове вместо короны... Было мне восемь лет. Это было дома. Да, много лет после высылки мы называли домом то, что осталось в Крыму.
Глава 11
Все последние дни эшелон шел по пустынной степи. Жаркое солнце и сухой горячий ветер высушили здесь уже к концу мая травы и кустарники, и только редкими бурыми пятнами встречались в низинах небольшие участки почвы, поросшие жесткой растительностью, незнакомой обитателям горного Крыма. И степь эта именовалась пустыней Кызылкум, что тоже было неведомо обитателям вагона, в котором вместе с другими односельчанами тряслись уже почти две недели Фатиме с сыновьями. Пять дней провалялись они на голых досках, пока не удалось на одной из стоянок набрать несколько охапок прошлогодней соломы, после чего поездка стала казаться им комфортной. Люди в вагонах голодали - по миске жидкой крупяной каши им стали выдавать только на второй день поездки. Было плохо и с водой - редко у кого была своя посуда, чтобы можно было сделать хоть небольшой запас воды. В некоторые вагоны конвой забросил мятые, пахнущие керосином ведра, набрать воды в которые удавалось, если еще повезет, единожды в сутки. Только несколько раз за поездку удалось вдоволь напиться возле железнодорожного гидрокрана. Смертность была высокая, умерших же велели оставлять на насыпи. После того, как конвой на глазах у всех застрелил немолодую женщину, никак не желавшую отойти от тела брошенной на насыпь старушки-матери, люди уже не осмеливались прыгать из вагонов вслед за покойниками, выбрасываемыми конвойными. В вагоне, где находилась Фатиме с сыновьями, у молодой матери умер на руках трехлетний сын, но она умоляла соседей не говорить об этом конвою, надеясь, что сумеет похоронить его где-то дальше. Когда на третий день трупный запах стал распространяться по всему вагону женщина, поняла безнадежность положения и тихо вскрыла себе вены, так что из вагона ее выбросили вместе с ее сыном.
Люди не знали, куда их везут. Более или менее крупные железнодорожные станции они проезжали с задвинутыми вагонными дверьми, но могли прочитать их названия через узкое оконце или через щели в деревянных стенках. Однако эти названия им ничего не говорили, потому что народ в эшелоне был из горных деревень, малограмотный. Со страхом смотрели они на плоский пустынный ландшафт, на низкие глинобитные кибитки с одним крошечным окном на всю стену. Потомки горных тавров с ужасом думали, что им придется жить на такой выжженной солнцем земле, где, куда ни глянь, - ни гор, ни моря, ничего до самого горизонта не видно кроме этой безжизненной равнины.
И вот однажды под вечер их долго продержали за закрытыми дверями на станции Арысь, потом без остановок они проследовали в наступившей темноте через какую-то большую станцию, названия которой, однако, увидеть не удалось. И, наконец, в еще не рассеявшейся ночной темноте, поезд вдруг встал, начали отодвигать двери, и раздалась команда:
- Всем выгружаться!
Крымчане, в основном женщины и дети, в молчаливом страхе нехотя покидали вагоны. Начиналась новая, пугающая неизвестностью, полоса жизни. Все выгрузились из эшелона, конвойные с руганью оттеснили народ от насыпи, и поезд медленно отъехал, провожаемый испуганными взглядами людей, готовыми чуть ли не бежать за ним.
И когда сделалось светлей, они прочли название станции - "ГОЛОДНАЯ СТЕПЬ". Через две недели ужасной поездки в адском поезде им довелось ощутить под ногами твердую землю в ГОЛОДНОЙ СТЕПИ.
Вдоль всего железнодорожного полотна серыми кучками стоял народ. В предутренней дымке высаженные из дальних вагонов люди казались неподвижными грудами чего-то неживого. Весть о том, что их привезли в Голодную степь, распространялась как по испорченному телефону. Голодная степь – “ач дала, ачлык чолю”. Когда это сообщение прошло половину пути, оно уже звучало как "Степь, где умирают от голода". Отразившись от самых дальних людских груд, эта весть пошла назад, вернувшись к своему началу в виде страшного предсказания: "Степь, где все умрут от голода".
Люди взволнованно обсуждали эту весть, к неказистому одноэтажному домику, каковым было здание вокзала, потянулись ходоки от дальних групп, они ошалело смотрели на четкую надпись - "ГОЛОДНАЯ СТЕПЬ". Люди пытались успокоить себя рассуждениями, что, мол, название оно и есть название, название это еще не суть. Но когда совсем рассвело, они увидели, что вокруг нет ни единого деревца, по обе стороны от железнодорожной насыпи простиралась странная белесая земля в виде покрытой трещинами твердой корки, местами будто обсыпанная сахарной пудрой. Им еще предстояло узнать, что эта почва именуется такыром, а сахарная пудра ни что иное, как выступившая на такырах горькая соль. Безжизненность ландшафта придала значимость названию этой земли, и среди людей, недавних обитателей Крымских гор, началась паника.
- Куда нас привезли? Зачем нас здесь высадили? Мы хотим ехать дальше! Где начальство? Почему нас привезли в эту голодную степь? Где начальство? - можно подумать, что с "начальства" хотели потребовать ответ за обман, за нарушение договоренности.
Так называемого "начальства", действительно, не было, если не считать растерянно стоящих на перроне работников железнодорожной станции и нескольких милиционеров, которые не знали, то ли их вызвали охранять этих выгрузившихся из вагонов людей, то ли от них охранять всех остальных. Сказано было - "обеспечить порядок ", а здесь, где на квадратный километр не приходится и одного человека, порядок нарушали обычно только привезенные из города в осеннюю пору на сбор хлопка любящие выпить урусы - русские, а точнее - русскоязычные. Машины из расположенных в регионе совхозов запаздывали. Представители местных властей, а также несколько работников НКВД в их числе, сочли за благо не высовываться из служебного помещения станции, даже когда среди прибывших людей началось волнение.
Но вот нездорово урча истасканными моторами, появилась колонна грузовиков. Обдав тучами пыли растерянных людей, машины остановились. К переселенцам выскочили озабоченные злые мужчины, - это было станционное начальство. Ругаясь с непонятным акцентом эти люди, велели всем оставаться на местах. Однако, крымчане, имевшие уже некоторый опыт, саркастически отнеслись к угрозам суетящихся аборигенов, в руках которых не видно было оружия. Сразу же у толпы, - а сгруженные из товарных вагонов вдали от родины жители Крыма нынче стали бесправной толпой, - пропал страх перед теми, кто пытался распоряжаться ими. Что стоят угрозы, не подкрепленные стрельбой на поражение! То ли они испытали на долгом пути к этой мертвой степи! Сейчас они стояли на твердой земле, и все они были вместе. И не сговариваясь, они, женщины и старики, грудью пошли на разоравшуюся челядь. Но из здания вокзала тесной кучкой вышли офицеры НКВД и руководители некоторых районных организаций и близлежащих хозяйств, получившие указание провести встречу переселенцев, и один из них, обладатель зычного голоса, чуть ли не ласково обратился к переселенцам.
- Дорогие товарищи! Простите нас, что не успели подготовить вам торжественную встречу - очень рано прибыл ваш эшелон. Мы приветствуем вас на новых землях солнечного Узбекистана! Здесь вас ждет интернациональная семья советских тружеников, превращающих эту когда-то бесплодную степь в изобильный рай! Пусть вас не смущает старое название станции, оставшееся еще с проклятой дореволюционной поры. Сейчас в этой степи коммунисты вырыли каналы, и сюда пришла вода великой реки Сырдарьи. Теперь земли эти превращаются в цветущий сад...
Красноречие штатного краснобая было избыточным, ибо малограмотные крымские сельчане, которыми были практически все, кого привез этот эшелон, не могли оценить перлы вроде "превращения бесплодной степи в изобильный рай", но речь эта все же достигла цели - толпа несколько успокоилась.
- Сейчас вы погрузитесь в машины, которые повезут вас в отделения совхозов. Там вас ждет вкусная еда и жилье. С завтрашнего дня сможете приступать к работе на землях Гулистана - Страны цветов. А это название, - краснобай с убедительной беззаботностью засмеялся, кивнув головой на вывеску над домиком, - это название для того, чтобы помнили ваши внуки, какая на месте Страны цветов была степь.
Людей покоробило предположение, что их, крымчан, внуки будут интересоваться прошлым или будущим этого края. Никогда, - пусть ведомо будет всем! - никогда мы, крымские татары, не допускали мысли, что чужая земля станет нам родной, что Крым у нас удастся отнять! Мы уже вскоре знали, что многие из нас найдут вечный покой в этой чужой земле. Мы догадывались, что из-за наших степей и гор, нашего моря и неба многие чужаки будут ссориться, будут предъявлять права на наше исконное, пытаться делить между собой наше неделимое. Но ни на миг никто из нас, к какому бы поколению он не принадлежал, на какой чужбине бы не родился - в Средней Азии, в Турции, в Добрудже - ни один крымский абориген не допускает ни на миг мысли, что Крым перестанет быть нашей родиной.
Но, тем не менее, сейчас эти несчастные люди, которые еще две недели назад имели свои дома, свое имущество, стояли у железнодорожной насыпи в чужой Азии и ждали, что их куда-то повезут, и, может быть, накормят. И только одна глупая (а, может быть, и самая умная!) женщина громко крикнула:
- А когда нас домой в Крым отвезут?
Люди слышали эти слова, которые были в сердце у каждого, но никто не продолжил тему, ибо все они понимали, что сейчас никто им на этот вопрос не ответит. Среди офицеров НКВД, стоявших у здания вокзала, возникло оживление, кто-то высказался, что, мол, это антисоветская провокация и надо наказать зачинщиков. Но потом решили оставить этот единичный выкрик без последствий.
Прошел еще примерно час, пока подгоняли машины и грузили людей в кузова полуторок. Обращались с ними ласково, на вопросы отвечали - будто волшебную сказку рассказывали. Поняли, что с толпой лучше не связываться.
В горном районе Крыма, откуда собрали "пассажиров" этого эшелона, действовали особенно бесчеловечные энкаведешники, которые обманом или приказным порядком воспрепятствовали стремлению высылаемых взять с собой побольше домашних вещей. Многие имели только то, что было одето на них, некоторые были без какой-либо обуви. Редко какая семья взяла с собой одеяла и подушки. Представители местных властей с недоумением смотрели на людей, которые лезли в кузова машин без даже маленькой котомочки в руках. Ведь даже семьи раскулаченных везли множество узлов и мешков. Не будучи посвящены в подробности они, представители местных властей, которым сопровождавшие эшелон конвоиры только вручили какие-то бумаги и тотчас же уехали с опустевшим эшелоном, подумали даже, что багаж этих людей идет дополнительным поездом. Поэтому последовала команда задержаться с выездом, и к несчастным переселенцам обратились с вопросом:
- Граждане, где же ваш багаж?
Переселенцы растерянно разводили руками и невнятно отвечали, что вот они сами и все что на них, и больше ничего нет. Начальство не восприняло такого ответа, требовало четкого разъяснения.
Тогда старая Мелиха-оджапче, учительница из Алупки, с начала войны жившая в семье племянницы в Юкары, со злым сарказмом крикнула:
- Вещи наши везут в отдельном поезде, скоро доставят!
Ну, конечно, так оно и должно быть! Этот ответ показался представителям властей нормальным, не нормальным было только то, что их не информировали, когда прибудет багаж и долго ли им всем пребывать в ожидании здесь, на маленькой станции. Один из офицеров НКВД пошел звонить и выяснять, но ни в областном управлении, ни даже в Ташкенте, в республиканском НКВД, не знали, когда же должен подойти состав с багажом переселенцев из Крыма. Стало ясно, что на выяснение уйдет много времени, поэтому было решено накормить новоприбывших здесь, на станции, чтобы не устроили голодного бунта. Людям велели сойти с машин и ждать. Пока сообщили в отделения совхозов, где полевые кухни готовились к встрече переселенцев, чтобы пищу доставили на станцию, пока эту доставку организовали и осуществили, прошло около трех часов. Солнце уже поднялось высоко, и сгрудившимся у пыльной дороги людям негде было спрятаться от палящих лучей. Работники станции показали им путь к каналу с мутной сырдарьинской водой, который пролегал метрах в ста от железнодорожного полотна, и по несколько человек от каждой группы поплелись с кое-какой посудой за водой.
Наконец, прибыли полевые кухни, которыми тогда укомплектовывались совхозы на целинных землях. В котлах была горячая каша из незнакомой крымчанам крупы, она показалась несчастным изгоям сверхвкусной, и было ее, как ни странно, вдосталь. Вдосталь было и хлеба. Настроение у людей улучшилось, и страх сменился какой-то надеждой.
Они не ведали, что для большинства из них это был последний в их жизни случай, когда довелось поесть досыта...
И вот главный из энкаведешников, наконец, дозвонился туда, где его компетентно обматерили и обвинили в гнилом либерализме, а также в потворстве врагам социализма. Какой еще поезд с багажом? Кого встречаете, может передовиков социалистического труда? Или артистов цирка, вслед за которыми везут декорации и слонов с леопардами? А ну, кто там у вас руководит мероприятием, подозвать его, мать вашу, немедленно к телефону!
Главный по проведению мероприятия медленно опустил телефонную трубку на рычаг, и с освирепевшим лицом обернулся к своей шайке.
- Кто сказал, что надо ждать поезд с багажом? Так вашу мать, кто велел задержать этих сволочей здесь?
Присутствующие некоторое время молча смотрели на главного.
- Так вы же сами и сказали, что не может быть, чтобы люди были без вещей, - наконец злорадно отозвался один из офицеров НКВД, который работал в областном управлении и не зависел от районного руководства, которое и не любил за его огромные возможности безнаказанно воровать.
Начальник районного масштаба побагровев проглотил оскорбительное заявление, а один из его лизоблюдов, поспешно заминая неловкость воскликнул во гневе:
- Это умышленная провокация! Это они сами сказали, что ждут свой багаж! Сказали, что идет эшелон с багажом! Эта худая баба в черном платье!
Утомленные многочасовым пребыванием на этой мерзкой станции начальники разных уровней, возбуждаясь в праведном гневе, жаждали мести. Но, как и утром, самый умный из них, главный инженер хлопкового завода, сказал воспылавшим номенклатурщикам:
- Стоп, товарищи! Не надо нагнетать атмосферу! Люди должны спокойно влезть в кузова и без лишнего шума отправиться к местам поселения. Если начнем сейчас репрессии, то придется вызывать армию. Их же здесь несколько тысяч! Так что, успокойтесь, товарищи!
Как не горели начальнички желанием сорвать злость на этих жалких крымчанах, на которых и смотреть противно, они сочли все же верным суждение не затевать бучу - все торопились разбежаться по домам. И дали поручение этому еврею, раз он такой умный, организовать немедленную отправку застрявших на станции переселенцев. Тот опять выступил перед толпой с короткой речью, в которой посулил им благоустроенное жилье и хорошую работу в совхозах, куда их сейчас повезут. И тут из толпы кто-то крикнул:
- А когда мы получим наш багаж?
- Его вам доставят прямо по месту жительства, - не моргнув ответил главный инженер. И как это ни странно, многие из несчастных крымских татар долго верили, что после выселения власти собрали по домам их скарб и отправили вслед за ними. Умирая от голода, многие надеялись на спасение - вдруг, наконец-то, прибудут долгожданные вещи, и можно будет обменять что-нибудь на хлеб...
...Фатиме с детьми тряслась в кузове грузовика, везущего их к "благоустроенному жилью". На других грузовиках, мчащихся по пыльной колее так называемой дороги, везли примерно половину ее односельчан. Другую часть жителей Юкары повезли то ли в другое отделение того же совхоза, то ли вообще в другой совхоз. Шофера, которые были свидетелями недоброго разговора начальников о новых переселенцах, поняли, что с этими людьми можно не церемониться, тем более что мужиков, могущих дать отпор, практически среди них не было, и ради забавы гнали машины так, как будто везли не живых людей, а мешки. Люди стучали по крыше кабины, просили ехать потише, но в ответ слышали веселое ржание и ругань на непонятном языке - потом уже, позже крымчане идентифицировали составляющие этой ругательной формулы со знакомыми словами. И вот грузовики лихо затормозили, подняв пыльные облака. Из кабин вышли злобно смеющиеся субъекты, нагло ругаясь в лицо измотанным бешеной поездкой женщинам и старикам. С этими людьми переселенцам предстояло общаться в нынешнем их бытие. В целинные совхозы сгоняли неудачников со всей Средней Азии, здесь были собраны в основном те, кто не ужились в своих кишлаках и аулах, кто не мог прокормить свою семью на прежнем месте и позарился на ссуды, которые давали поселенцам в новых совхозах.
Сразу же должен сказать, что ни один крымский татарин не получил ни единой копейки ссуды - она то ли и не предполагалась для спецпереселенцев, то ли, что вернее всего, была для них получена и полностью прикарманена высокопоставленными республиканскими чиновниками.
Людей привели к длинному глинобитному сараю, в котором были сколочены двухэтажные нары, и велели занимать места. В ответ на недоуменные вопросы, а где же благоустроенное жилище, хозяева с издевательским смехом указывали на нары из необструганных досок:
- Вот ваше благоустроенное жилье. Разве это не лучше того, что вы имели там у себя, в каком-то Кириму?
- Сынок, то, что мы имели, ты никогда иметь не будешь, - спокойно ответила на это Мелиха-оджапче, и добавила - Да тебе и не надо.
Женщины дружно подняли крик и никак не хотели входить в сарай, который был предназначен для хранения хлопка в осеннюю непогоду, и где нары срочно оборудовали за несколько предыдущих дней. В ответ на принятую за стандарт общения ругань ожесточившиеся женщины бросились на "гостеприимных" хозяев с кулаками. Те быстро скрылись, оставив новоприбывших одних. Примерно через час верхом на лошадях приехали несколько сытых и чисто одетых узбеков, появилась и вся прежняя шантрапа, которая сочла за благо встать поодаль. Приехавшие верхом спешились и со сладкой улыбкой на лоснящихся лицах подошли к молчаливо ожидающей развития событий толпе, стали пожимать руки оказавшимся впереди старикам.
- Ассалом алейкум, хош келибсизлар! Вас уже покормили? Эй, Джура, джелябды боласы, почему не кормишь гостей? Как, покормил уже? На станции не считается, давай срочно всех здесь корми! Вы, дорогие товарищи, сейчас идите в этот временный барак. Уже для вас дома построены, и только двери и окна нужно поставить. Пожалуйста, поживите несколько дней в этих не очень хороших условиях, скоро мы вас переселим!
Директор совхоза говорил ласково, но, будучи высокого мнения о себе (до войны окончил сельскохозяйственный техникум и сумел откупиться от мобилизации на фронт, что стоило больших денег!) с презрением смотрел на этих, как он считал, рожденных быть рабами людишек. Погодите, завтра вызову милиционеров, они вам мозги вправят! Ишь, в домах жить захотели! Мне своих негде селить! Предатели родины, условия хорошие им нужны!
Вслух же с маслянистой улыбкой врал:
- Размещайтесь, дорогие гости, это для вас временное жилище, стелите свои постели и отдыхайте! Эй, Джура! Давай, быстро накорми гостей, ты что медленно движешься! Давай, давай!
- Хоп, болади, ходжаин! - Джура, заведующий отделением, покорно сложил руки на груди и дал вполголоса распоряжение своим подчиненным.
Приветственно помахивая рукой, директор совхоза и его нукеры уехали. Руководящие работники отделения получили наглядный урок, как надо разговаривать с толпой в отсутствии милицейской или армейской поддержки, и уже без ругани стали наблюдать, как люди с оглядкой входят в барак. Вскоре принесли несколько джутовых мешков, в которых был хлеб, и принесли в больших дюралевых бидонах воду для питья. У барака стояли так называемые "титаны" для кипячения воды, и работники совхоза показали, где лежит хворост для растопки.
Нельзя сказать, что люди поверили всему, что наговорил директор, но надо было как-то устраиваться. " Стелите постели и отдыхайте", - даже сей черствосердый бай-директор не предполагал, что у большинства нет не то что одеяльца, но даже тряпочки размером с носовой платок! Однако, нашлась неподалеку вынесенная из сарая прошлогодняя солома, и несчастные переселенцы разделили ее между собой, чтобы не лежать совсем уж на голых необструганных досках.
Глава 12
Днем шестнадцатого мая в деревню прибыли машины с солдатами. Взрослые отнеслись к этому факту спокойно, - ведь фронт давно отодвинулся далеко за пределы Крыма. Но радости мальчишек не было границ! Мальчишки всегда тянутся к мужчинам, а в деревне уже несколько лет оставались одни старики, любящие ворчать и поучать по любому поводу, да несколько калек, с которыми тоже неинтересно было проводить время. А тут - бравые солдаты в гимнастерках с погонами, в пилотках со звездой! Очень скоро детишки щеголяли в этих пилотках, а некоторым довелось тайно погладить тяжелые новые автоматы с куцыми прикладами и скрытыми в черных металлических кожухах стволами. Малышей и девчонок расслабившиеся солдаты носили на плечах, угощали сахаром. Для забывших отцовские руки детишек это были счастливейшие часы.
Диян опрашивал всех солдат подряд, не встречали ли они на фронте его папу, он из Москвы на фронт ушел. Один из солдат, не молодой уже усач, чтобы сделать приятное ребенку повел с ним беседу:
- Как, говоришь, твоего папашу зовут? Ага, так! Глаза у него какого цвета? Не знаешь? Что ж это ты... Ага, очки носит? Веселый и добрый? Знаю! Встречал я его! Недавно, на западном фронте. Он у тебя жив и здоров! Точно, Наилем его зовут! Веселый такой...
- А где он сейчас? - воскликнул Диян.
- Сейчас? Да он, кажется, сейчас на побывку домой отправился. Твой дом-то где? В Москве? Точно, в Москву он поехал!
Диян радостно побежал к бабушке, рассказать о солдате, который встречал на фронте его папу...
Не знаю, какие уж сладкие грезы возникали у девиц и у молодок в связи с неожиданными гостями, но вот старики, те самые, которые всегда ворчат, были встревожены, во-первых, общим возбуждением, а еще их вдруг обеспокоило то обстоятельство, что сорок солдат прибыли на десяти грузовиках. Тем не менее, по решению стариков было зарезано несколько овец и приготовлено для гостей роскошное угощение. Солдаты и их командиры были очень довольны, хотя простодушное веселье солдат контрастировало с загадочной сдержанностью сыто рыгающих офицеров. И когда деревенский оркестрик - даул, зурна ве кемане, - бубен, зурна и скрипка, - уже настроился грянуть "Эски-Кырым хайтармасы" (“Старокрымская хайтарма -танец”), вдруг прозвучала резкая команда, и все военнослужащие нехотя покинули бал. Мальчишки последовали, было, за ними, но командиры грубо отогнали их прочь. Удивленные и обиженные такой резкой переменой мальчишки недолго посовещались и тайком проползли через заросший кустарником ров к машинам, у которых был построен отряд. То, что они услышали, было совершенно невероятно и не хотелось верить своим ушам. Но, не теряя времени, они поползли спешно назад и побежали к старикам с ошеломляющей вестью: отряду дан приказ прекратить всякое общение с татарами и быть готовыми к восьми ноль-ноль начать осуществление вывода всего населения на площадь и погрузки всех в машины. Вещей разрешается взять столько, кто сколько сам понесет. Операцию по выводу из домов завершить за пятнадцать минут. Пресекать панику и всяческое неповиновение. Разрешается стрелять на поражение.
Старики не поверили. Запретили сообщать остальным и решили сами проверить. Двое седобородых, опираясь на тяжелые посохи, отправились на окраину деревеньки, где притихли недавние гости. У маленькой рощицы шагов за пятьдесят до машин их остановили жестким окриком часовые.
- Стоять! Прохода нет!
- Сынок, проход не надо. Зачем ушли? Чай пить идите!
- Какой еще чай, старик? Иди домой и никуда не отлучайся!
- Командир свой позови, сынок. Давай, всех зови!
Тут быстрым шагом подошел офицер.
- Кто тут ходит? Марш отсюда!
- Сынок, всех чай пить зови...
- А ну-ка домой! Немедленно уходите! И деревню не покидать! Марш отсюда!
Старики поняли, что такой крутой поворот в отношениях недавних гостей не сулит ничего доброго. Но и в сказанное мальчишками верить не хотелось. Как это всех выселять? Выселяли так называемых кулаков, кое-кто из сельских бездельников имел к этому позору отношение. Но выслали три семьи, да и тем заранее было известно о выселении. Арестовали перед войной русского учителя и грека-счетовода “за шпионство”, но семьи их не тронули. А всех жителей деревни за что выселять? Наверное, опять кого-то арестовывать будут. А кого? Одни старики и женщины в деревне... И ведь столько грузовых машин...
Решили старики сообщить всем сельчанам, чтобы были готовы к неприятностям - то ли кого-то ищут, то ли продукты забирать будут. Последнее вероятней всего, так что у кого что есть - припрячьте. Мальчишки тут еще слышали, говорят, что всех в восемь часов выселять будут, но, наверное, не так поняли, вряд ли такое возможно - чем это их деревня так провинилась?
И уж никак не могло придти никому в голову, что выселяют не одну деревню, а весь народ!
Сельчане в большинстве своем бросились сразу прятать зерно и пытались вывести в поле овец. Но за деревней их остановили щелкающие затворами автоматов часовые, а зерно на скорую руку где спрячешь! Надо бы ямы за околицей вырыть, но это делается загодя... Как-то стихийно почти во всех домах люди приготовились к выселению - собрали одежду, что-то ценное, если у кого было, одеяла и подушки постарались закатать в тюки.
Диян и его бабушка затолкали в мешочек свою одежонку и стали помогать родственникам собирать их вещи. Когда часы-ходики показали восемь часов вечера, в дом вошли двое солдат с автоматами. Один из них был тот самый, который еще недавно рассказывал мальчику, что встречал на фронте его папу.
Сейчас солдаты были грубы:
- Давай, давай! Шевелитесь, мать вашу! - будто бы не они еще недавно пировали за татарскими столами и улыбались подносившим еду женщинам.
Диян звонким голосом обратился к усатому солдату:
- Куда мы поедем, дяденька солдат? В Москву?
Солдат сердито поглядел на ребенка и пробурчав:
- Куда, куда. На кудыкину гору! - быстро вышел из комнаты.
- Сынок, куда нас везут? - спросила бабушка солдата, который выводил их со двора.
- На Урал, вас, бабка, отвезут. А может и подалее - в Сибирь.
Услышавший слова солдата Диян громко заплакал:
- Мне нужно в Москву! Меня мама и папа ждут! Не хочу в Сибирь!
Солдат злобно рассмеялся:
- Ишь ты, в Москву захотел! Ну, быстрей шагайте!
Раздалась команда, и жителей села, собравшихся на площади перед бывшей мечетью, повели за околицу. Солдаты были злы, они норовили поддеть сапогом замедлявшую шаг женщину или вдруг выскочившего в сторону ребенка.
Как только человек становиться исполнителем державной воли он теряет человеческий облик
Люди, стоявшие близко к бабушке Анифе с внучеком, слышали громкий горячечный шепот мальчика: “Мне надо в Москву... Меня мама с папой ждут... Не хочу в Сибирь, мне надо в Москву... Меня мама с папой ждут в Москве...”.
.
...Когда вели народ к машинам, пятнадцатилетний Хайри, сбросив с плеч мешок с вещами, рванул в сторону лесистого оврага. Солдат вскинул автомат и короткой очередью наповал уложил парнишку в десяти шагах от идущих сельчан. Несчастная мать Хайри бросилась к сыну, и вслед за ней ринулась толпа соседок и родственниц. Офицер подбежал к склонившимся над умирающим мальчиком женщинам и стал разгонять их ударами сапога. Подоспели и солдаты. Офицер выхватил у одного из них автомат и дал несколько очередей в воздух. Часть женщин отпрянула, но мать и еще несколько других, наверное, из близких родственниц, суетились вокруг умирающего. Офицер приказал солдатам взять женщин на прицел и объявил, что считает до трех. Все кроме матери убежали с плачем. Мать не плакала. Она положила голову захлебывающегося кровью сына себе на колени и обрушила проклятия на вооруженных мужчин, перемежая татарскую речь с русской. Бледный от возбуждения офицер велел солдатам оторвать женщину от умирающего, но хватка матери была железной. Толпа односельчан стала медленно приближаться. Тогда офицер схватил автомат и выпустил очередь в женщину и в агонизирующего парнишку.
- Добейте сволочей! - крикнул он солдатам, а сам стал стрелять поверх голов сельчан. После двух - трех очередей те как будто очнулись от наваждения и отхлынули назад. Еще несколько угрожающих очередей из автоматов, и под ругань озверевших советских воинов старики, женщины и дети в страшном молчании поплелись к машинам, готовым везти их в чуждые азиатские края. На окраине родной деревни остались изрешеченные трупы сына и матери. Двое малолетних сирот на руках у родственниц убитой, прикрывающих им глаза и рот ладонями, ошеломленные и не до конца понимающие случившегося, тоже отправились в страшную ссылку, чтобы, став взрослыми, думать ежечасно о мести.
Но на кого направить свою месть?..
...Через двенадцать суток эшелон с измучившимися в пути людьми прибыл на небольшую станцию в Бухарской области Узбекистана. Отсюда путь был в колхозы и совхозы, большинство из которых были хлопководческими, но были и разводящие каракулевых овец. Диян с бабушкой и с другими родственниками попал в большое село - центр каракулеводства области. Поселили их в сараях на общих нарах и велели уже на следующий день выходить на работу - чистить загоны для овец, грузить сено, выполнять всякие подсобные дела. Первые две недели ежедневно бесплатно давали плохо испеченный хлеб из кукурузной муки - такой хлеб ели все работники совхоза. Но у местных жителей, при всей убогости их бытия, были скудные огороды и какая-то живность. Татары же должны были существовать на малую хлебную пайку. Только в конце месяца работающим выдали деньги, на которые можно было купить немного крупы и подкармливаться отваром на воде. Даже солили этот отвар очень скупо - стакан соли стоил почти половину месячной заработной платы.
Некоторым удалось расселиться из сараев в глиняные пристройки местных жителей, в основном узбеков или казахов, отношение которых к переселенцам-единоверцам было доброе и жалостливое. Большая часть жителей поселка тоже были несколько лет назад переселена в эти сухие предгорья из других районов Узбекистана и Казахстана, и все они знали, почем фунт лиха. Было в поселке немало семей русских и евреев из числа бежавших от войны, но все они были работниками руководящей сферы.
Уже в конце июня из уст в уста передавались горестные вести о смерти детей и стариков в семьях крымчан. Умирали от болезней и "от климата" - так говорили в народе. В стремлении хоть чем-то наполнить желудки ели какие-то незнакомые плоды, семена, корешки и в результате мучались поносами. Позже началась массовая гибель людей от голодного истощения...
Нынешний поселок каракулеводов вырос на месте старинного поселения, которым владел когда-то род богатых и самолюбивых беков, со строптивостью которых вынуждены были мириться и эмиры бухарские. С давних времен лучшие сорта среднеазиатского каракуля давали отары овец, пасшиеся здесь, в полупустынных предгорьях Гиссарского хребта. Племя, владевшее этой территорией, нынче записали как узбеков, но по быту и обычаям оно было ближе к племенам туркменов, чем к сартам и кипчакам Ферганской долины. Феодальные порядки тут были более крутые, и страх перед вооруженным воином, служившим беку, был существенным фактором, определившим менталитет населения. Былых феодалов теперь не было, но нынешнее начальство - районное и совхозное руководство и коммунистические бонзы - были более жестоки, чем прежние беки, которые все же верили в Аллаха и боялись высшей кары. Коммунистическо-советская власть в этом окруженном пустыней удаленном районе замещала и бога, и царя. Резиденция прежних беков - слепленное из странных черных кирпичей здание, ограда-стена высотой с двухэтажный дом с тремя круглыми башнями по углам - использовалась нынче как гараж и автомастерская. Районные и совхозные власти помещались в двух длинных, стоящих друг против друга одноэтажных зданиях, всегда тщательно выбеленных и обсаженных трудно растущими в этом регионе деревьями.
Среди крымских татар, злою судьбой заброшенных на эту окраину цивилизованного мира, были образованные люди, - учителя, агрономы, бухгалтера. Немного очнувшись после пережитого шока, эти люди осознали, что труд чернорабочего на животноводческой ферме для них невыносим даже по соображениям морального порядка. Прихватив с собой свидетельства и дипломы, они зачастили в зеркально расположенные белые здания. Некоторые из них имели при себе также билеты членов коммунистической партии. Власти благосклонно отнеслись к первым пришедшим к ним специалистам - война отодвинулась далеко на Запад, и эвакуированные в эту глушь русские и евреи начинали мало помалу уезжать в свои края. Оставались только ловкачи, которые впервые здесь увидев живую корову объявили себя зоотехниками, потерявшими в пожаре войны дипломы, или те, кто слово "инженер" писали с двумя ошибками, но рекомендовались инженерами-механиками или инженерами-строителями, тоже, естественно, потерявшими документы об образовании во время вражеских бомбежек. Объединяло всех этих смелых людей только знание хотя бы разговорного русского языка, а всяческая документация и отчетность в этой окраине узбекской земли велась на русском языке, потому эти неучи и оказались востребованными. Как и везде в Советском Союзе первым коммунистическим секретарем района, как и председателем органа советской власти, были представители местной нации. Вторыми же людьми, а, по сути, - первыми, были посланники Центра - чаще всего русские, евреи, армяне. Вторые (которые, по сути, первые) должны были контролировать первых и сообщать в Центр о настроениях первых, об их следовании по начертанному Центром пути или о возможных отклонениях от этого пути. О доходах, которыми первые делились со вторыми, они в Центр не сообщали. В общем, все процветали. Не в накладе оказывались и те, кто приносил первым доходы, которыми те делились со вторыми. Здесь, на этаж ниже, был полнейший интернационал, здесь человек ценился только за умение извлекать доходы, и не важно, был ли он русским, евреем или азиатским аборигеном, имел ли он должное образование или полагал, что козел - это муж овцы. До дела им не было дела, они интересовались только возможностью что-то утаить, что-то продать налево, принизить сортность, скрыть количество. И только многовековой, передаваемый от поколения к поколению опыт народных мастеров, низовых низкооплачиваемых работников, позволял как-то сохранять поголовье каракулевых овцематок и выделывать качественные шкурки... В школах редко можно было встретить директора, который знал бы таблицу умножения. Главных бухгалтеров учреждений нельзя было застать на месте, ибо они с утра отправлялись есть плов и пить водку с другими главными бухгалтерами. И слава Богу! - не мешали простым счетоводам, хорошо знающим таблицу умножения, что-то считать и писать на бланках, отпечатанных на русском языке.
И вот в это царство водки, плова и некомпетентности стали проникать настоящие зоотехники, настоящие бухгалтера, настоящие врачи и настоящие инженера - ведь не зря Крымская республика первой в огромном Советском Союзе была награждена орденом за успехи в хозяйственном развитии! Так кому это понравится, когда какой-то враг советской власти, из великой милости Вождя не расстрелянный, а переселенный в этот великолепный край, ужасается распоряжениями Главного инженера строительства или чуть не падает в обморок от безграмотного диагноза, поставленного Главным врачом больницы. Вокруг же люди, а они, как известно, только и ищут повода почесать языки насчет начальства... И татарских специалистов стали отвергать, не принимали на работу и отправляли назад на грязный скотный двор. В те первые месяцы режим спецпоселения был не очень строгим, и большинство крымчан сумели переехать в другие районы Бухарской и прилежащей Самаркандской областей, где развивалось садоводство. Некоторые сочли за благо уйти в немногочисленные хлопководческие хозяйства района. В каракулеводческом совхозе оставались только самые беспомощные.
Бабушка стала работать уборщицей на ферме. Этот труд был для нее непосильным, но без тех грошей, которые платил совхоз, пришлось бы голодать. Через некоторое время ей удалось найти работу уборщицы в конторе хлопкового завода. Здесь платили те же гроши, но труд был намного легче. Диянчик рвал по садам фрукты, собирал на полях колоски пшеницы и ячменя. Из собранных зерен бабушка дробила крупу у соседей на ручной мельнице, и это было большим подспорьем для маленькой семьи. К тому времени они поселились в маленькой пристройке к глинобитной кибитке у многодетной узбекской семьи. Майра-хан работала счетоводом в сельсовете, муж ее пропал без вести на войне, и на руках молодой женщины остались дочь десяти лет и трое мальчишек от четырех до восьми годков. Несмотря на пособия на детей, выдаваемые сельсоветом, семья только что не голодала. Бабушка в поисках посильной работы зашла как-то в сельсовет, и узнав о ее лишениях в сарае на нарах сердобольная Майра-хан приютила старушку и мальчика в пустующей комнатенке. Это была слепленная из глины тонкостенная хибара - "кибитка" по-здешнему. В оконце, величиной с полгазетного листа, было вмазано стекло, деревянная дверь запиралась изнутри на щеколду. Майра-хан дала своим жильцам старую циновку и пару старых джутовых мешков - это стало постелью для бабушки и внука. В азиатскую жару спать можно было даже просто на камышовой циновке, брошенной на земляной пол. Но что ожидало их в предстоящие месяцы?
Другие их родственники, жители деревни, к тому времени перебрались в хлопководческие хозяйства, и бабушка надеялась, что они там не голодают. Себя же она считала устроившейся при существующих обстоятельствах прилично. К осени может что-то и изменится к лучшему...
Мальчик целыми днями бродил один по пыльным дорогам поселка. Детство - удивительная пора. Даже в страшном поезде, который вез людей прочь от родных дворов, от взлелеянного своими руками хозяйства, от всегда тщательно оберегаемого домашнего скарба, от всего нажитого в труде - даже в этой поездке дети находили удовольствие. Потрясение взрослых, их ужас перед предстоящей неизвестностью, конечно, омрачали настроение детей. Однако, неприятное быстро забывалось, как только в вагоне случалось что-то интересное или вблизи полотна железной дороги появлялось нечто необычное - высокая башня элеватора, аист на болоте, верблюды, казахские юрты... Здесь, в старинном азиатском селении, все было интересно для любознательного мальчишки. Здешний темный глиняной замок будоражил его фантазию. Верблюды, с неподражаемо гордым видом несущие между горбами мешки с зерном или с шерстью, старики в белых чалмах, трясущиеся на бегущих мелкими шажками осликах, девочки, со многими маленькими косичками на голове - все вызывало жгучее любопытство.
Особенно привлекало его удивительное строение - огромный, метров пятьдесят в диаметре купол, возведенный из плоских небольших обожженных кирпичей над маленьким озерцом, единственным источником питьевой воды в селении. Озерцо питали подземные источники, вода в нем всегда была холодной и чистой. В озерце плавали большие рыбы, которых никто не смел ловить - их почитали как священных. Считалось, что тот, кто нарушит запрет и использует священную рыбу в пищу, умрет в страшных мучениях. Об этом рассказал Дияну на ломанном русском языке одноногий инвалид, всегда находящийся под куполом в качестве смотрителя. Конечно, никто не мог помыслить нанести вред водному источнику, но в последние годы в селении то и дело появлялись чужеземцы, которые обычно не знали, как и где доставать воду, иногда даже могли напачкать или повредить по незнанию - для этого и поставили здесь сторожа. Диян верил рассказу смотрителя и с некоторым трепетом наблюдал, как плавают в прозрачной глуби озера сильные верткие рыбы. В охраняющем священных рыб рассказе не было неправды - это были маринки. Хорошо известно, что икра и покрывающая брюшину пленка маринок очень ядовиты, и если тушки рыб перед употреблением в пищу тщательно не вычистить, то очень даже вероятна смерть в страшных мучениях.
Диянчик порой заходил на поселковый базар. Там на прилавках стояли плетенные плоские корзины с ароматными лепешками, торговцы зазывали гуляющих по базару купить маслица, молока, творога. В мясной ряд или в ряды, где торговали хлопковым и кунжутным маслом или зерном, мальчика не тянуло. А заставить себя не ходить в бесполезных мечтах там, где пахло свежим хлебом и маслом, бедный ребенок никак не мог. И только после того, как однажды его грубо прогнали, заподозрив в попытке украсть что-то с прилавка, оскорбленный мальчик твердо решил отказаться от своей слабости.
Со временем он от многого отказался. Его все меньше стала интересовать экзотика этой земли, вдруг он осознал ее чуждость, даже враждебность. Казалось бы, ему повезло - он не голодал, он только недоедал. Бабушка, эта пожилая женщина, оказалась достаточно сильной, чтобы уже и тогда, когда крымские татары целыми семьями умирали от голода и болезней, обеспечить себя и внука хотя бы один раз в день сваренной на воде кашей из какой-нибудь крупы. Но мальчика стала беспокоить недетская мысль бессмысленности, бесчеловечности происходящего. Однажды Диян остановился перед домиком из саманного кирпича с плоской крышей, - привычных ему нормальных домов здесь практически и не было, - и долго смотрел на жизнь небольшой семьи. Две белокурые девочки резвились во дворе под защищавшим от солнца навесом, временами во двор выходила их мама, и то развешивала белье, то выносила какие-то вещи в сарай. Молодой мужчина, видимо, отец детишек, выходил на крыльцо и, подозвав дочерей, давал им что-то, что те радостно смеясь заталкивали себе в рот. Потом женщина принесла белую скатерть и накрыла им стол под навесом, и девочки стали приносить настоящую посуду и расставлять ее на столе. Тарелки, чашки с блюдцами, ложки и вилки - это было как во сне. Затем семья села за стол и стала ужинать - за покрытым скатертью столом, с посудой, со столовыми приборами... Когда на Диянчика, зачаровано глядящего на воспоминание о прошлой жизни, обратили внимание, он поспешно ушел.
В тот вечер он спросил у бабушки:
- Бабу, а нас когда отвезут назад домой?
Старая женщина помолчала и потом жестко ответила:
- Никогда.
Диян мог бы задать ей множество вопросов по этому поводу, но он понял, что у бабушки не будет успокаивающего ответа. И он только спросил:
- А за что у нас отняли нашу хорошую жизнь?
Вопрос вопросов. "За что!" - не вопрос, а крик. Вселенский крик.
Бабушка не ответила ничего, и впервые у нее появилось желание наорать на внука. Усилием воли она сдержалась, и чтобы внук не видел ее злого лица, поспешила выйти из хибары.
А мальчик заболел. Однажды, вернувшись под вечер домой, бабушка увидела, что внук лежит на мешковине так, будто бы он и не вставал с нее весь день. Так оно и было. Мальчик лежал с открытыми глазами, односложно отвечал на вопросы, молча сходил к кустам пописать.
- Деточка моя, Диянчик, у тебя не понос?
- Нет.
- А животик болит?
- Нет, нигде не болит, - ребенок опять улегся на мешки и широко раскрытыми большими глазами глядел в потолок.
Казалось бы, ребенок ни на что не жалуется, спокоен, но сердце старой женщины чувствовало беду. Она заглянула в жестяную коробку, служащую им кастрюлей, - каша из джугары была нетронута. Не говоря ни слова, она принесла из очага хозяйки угли, раздула их под собранными вчера Диянчиком сухими веточками и слегка разогрела кашу.
- Ну, поднимайся, помощник мой. Вай, Аллахым, как мой внучек своей бабушке помогает! Что бы я без твоей помощи делала? Смотри-ка, сколько топлива для очага собрал мой молодчина! Давай, вставай. Поедим сейчас с тобой.
Диян безучастно слушал ее, и ничего не отразилось на его лице. Бабушка холодела от ужаса, но старалась не показать свои чувства внуку. Она поднесла жестяную коробку с кашей к лежащему мальчику, положила перед ним деревянную ложку и сама взяла другую.
- Ну, давай есть. Как я проголодалась!
Диян молча поглядел на бабушку и медленно отвел взгляд. И все молчал.
- Что случилось? Почему не ешь? Возьми ложку в руки! - почти уже кричала старая женщина.
Ребенок без единого слова приподнялся и, взяв ложку, пару раз воткнул ее в кашу.
- Ешь! - бабушка вся дрожала.
- Не хочу, бабу.
- Кушай, Диянчик, родной! Ведь ничего другого нет!
- Я знаю, бабу... - мальчик оставил ложку и опять лег на свою постель.
- Ты заболел!
Бабушка стала щупать мальчику лоб, грудь - жара не было.
- Ты хочешь пить! - бабушка схватила другую жестянку, служившую им чайником, заполнила ее водой из большого керамического кувшина с отбитым верхом и спешно стала кипятить воду. Она поставила высокую и узкую жестянку на угли, обсыпала ее вокруг мелкой соломой и стала раздувать - таков был почерпнутый из обычаев аборигенов метод кипячения воды для чая. Вскоре вода запузырилась с краев. Бабушка все раздувала солому.
- Бабу, не дуй! Закружится голова! - Диянчик знал, что если долго дуть, то сильно кружится голова и темнеет в глазах.
Старая женщина не оборачивала лица к внуку, чтобы он не видел ее слез.
- Аллахым, Аллахым! Хорчала эвлядны хасталыклардан, беля-хазалардан! Йараппым раппым! Баланы саклаб оламасам не дерим анасына ве бабасына! (Аллах, Аллах! Огради дитя от болезни и разных напастей! Господи, боже мой! Если не уберегу ребенка, что скажу его матери и отцу!).
Совладав с голосом, она ласково обратилась к мальчику:
- Чайку попьешь, сыночек, не правда ли?
- Попью... Только ты не дуй!
- Не дую, - старая женщина сглотнула рыдание. - Уже все, закипела!
Она засыпала в жестянку горсть ягод шиповника и дала воде еще немного покипеть. Затем достала из ниши в стене старую латанную перелатанную пиалу, подарок хозяйки Майра-хан, и налила туда отвар шиповника, остро пахнущий дымом, к чему мы все привыкли в то азиатское лето.
Диянчик выпил отвар и попросил еще. Напившись, ребенок лег на спину и опять молча глядел куда-то мимо всего. Когда бабушка села рядом с ним, он взял ее руку и ласково погладил ее. От такой молчаливой ласки надрывалось сердце, но старая женщина сдержалась и молча, неподвижно сидела у изголовья внука. Через некоторое время мальчик закрыл глаза, и по его ровному дыханию бабушка поняла, что он заснул. Посидев, прислушиваясь, еще минут пять, она тихо поднялась и пошла к Майра-хан посоветоваться. Та выслушала тревоги старой женщины, но не знала, что ей сказать и только пыталась успокоить:
- Дети, они такие. Набегался, наверное, устал.
- Да нет! Я ж говорю - весь день пролежал, ничего не ел...
Чем могла помочь странно занедужившему ребенку малограмотная узбечка?
Бабушка вернулась в свою хибару и всю ночь прислушивалась к дыханию мальчика.
Наутро старая женщина ушла на свою службу, мальчик еще спал. Она оставила у его изголовья отвар шиповника и вчерашнюю кашу.
У нее еще оставалось несколько рублей, но купить на них мяса или маслица она не могла - на это ушли бы все ее деньги. Но чем-то ребенка надо было обрадовать - уже месяц они не ели ничего, кроме сваренной джугары или перловки, даже местное бобовое маш было им не по карману. И этому еще надо было радоваться - люди умирали на улицах. Но с внуком происходило что-то нехорошее, и бабушка потратилась на маленькую душистую лепешку из пшеничной муки...
Когда она пораньше вернулась домой - это обиталище было теперь для них домом, - мальчик сидел на пороге такой же безучастный и молчаливый. Он слабо улыбнулся своей бабусе и не сказал ни слова. Он не ждал ничего - несколько месяцев бытия на этой чужой и страшной земле привели к тому, что вдруг выветрилась из него вся его жизнерадостность и любознательность. Он видел умирающих с голоду детей и взрослых, слышал, как бабушка возносит благодарения Аллаху, посылающему им жестянку варева на каждый вечер. И пришел день, когда его "Я " осознало, что не может больше так существовать - это не было нежеланием, это было невозможностью.
Когда бабушка, широко улыбаясь и с ожиданием заглядывая ему в глаза, протянула ему изумительно пахнущую, обсыпанную ароматным кунжутом пшеничную лепешку, он взял ее, но откусив раза два молча положил на бабушкину ладонь - он не хотел есть.
Опять проведя тяжелую бессонную ночь, старая женщина отправилась на свою работу, которая спасала их до сей поры от голодной смерти, но которой было недостаточно, чтобы сохранить у ее маленького внука желание жить. Мысли путались от бессонной ночи, но решение было принято: надо любым путем заработать деньги для нормального питания внука.
У нее сохранялась старая колода карт. Как все женщины своей страны она увлекалась домашним гаданием, как и все повторяя при этом поговорку "Фал яланджы, гонюльге эглендже" - гадание есть обман, забавляющий чувства. Забежав днем домой, - мальчик спал на циновке - она повязала голову старым цветастым платком и положила в карман колоду.
Проходя по улицам поселка, бабушка высматривала дома, в которых располагались более или менее приличные учреждения. Она заглянула в двери какой-то конторы. Там веселые молодые узбечки над чем-то хохотали. "Не подходящая компания", - справедливо решила старая женщина. В другой конторе, кажется какой-то бухгалтерии, сидели три далеко не старые русские бабенки и что-то горячо обсуждали.
- Дамочки, не хотите ли погадать, узнать, что будет, кто вас полюбит, чем успокоитесь? - сколько раз к ней самой с похожими присказками обращались на улицах ее города бродячие цыганки.
Женщины замолчали и посмотрели на нее. И вдруг одна из них, пышная блондинка лет тридцати пяти, зазывно замахала рукой:
- Заходите, бабушка, заходите!
Бабушка с дрожью в коленках зашла и села на предложенный стул.
- На чем гадаете, бабуся? Вы и вправду гадать умеете?
К тому времени уже овладевшая собой старая женщина ответила с деланной амбицией:
- В моем городе я принимала не каждого, кто мечтал у меня погадать.
- А откуда вы, бабуся?
- Из Крыма мы. Цыганка я, у меня мать и бабка знаменитые гадальщицы были!
При этих словах бабушка попросила у памяти своей мамы и своей бабушки прощения, ибо были они не гадалками, а почтенными и богатыми дамами, чьи мужья были князьями своего народа. Аллах прощает ложь во спасение и не считает ее богохульством!
Молодые женщины радостно оживились, видно накопилось у них семейных и любовных забот, может и со здоровьем проблемы появились. Так или иначе, бабушка достала карты и раскинула их по очереди для всех трех дам... Гонорар оказался выше бабушкиных ожиданий и, успокоив жаждущих любви и счастья женщин, она поторопилась на базар. Заработанных денег хватило на банку молока, кусочек масла и пару свежих яиц - прекрасная еда для больного ребенка!
Но к великому горю бабушки, Диянчик слабо улыбнулся ставшей непривычной еде, и лишь попробовав сваренного всмятку яичка, как он всегда любил, отложил ложечку и протянул его бабушке:
- Не хочу, бабу...
Бабушка, в глубине души ожидавшая и боящаяся такого результата, засуетилась.
- Сыночек, молочка попей, молочка!
Ребенок отпил из банки глоток и отставил ее:
- Не хочу, бабушка... - и лег на свою циновку.
На следующий день, закончив уборку порученных ей помещений, бабушка поспешила в поликлинику. Хорошо говорившая по-русски женщина решила скрыть, что она спецпереселенка и выдать себя за приехавшую к родственникам украинку.
- А родственники, оказывается, вдруг уехали, и осталась я тут с внучеком, да еще в поезде нас обворовали - ни вещей, ни денег, ни паспорта.
Ну, беспаспортные в войну, пока органы не навели в этом порядка, были не в диковинку, а старушке бедной захотелось помочь - в благостную для врача минуту явилась бабушка со своей бедой. И ей велели привести внука в больницу.
Бабушка на попутной двухколесной арбе довезла сильно ослабевшего ребенка до больницы. Узбек-арбакеш не взял со старушки платы и погнал свою телегу дальше. Бабушка, поддерживая мальчика под руку, привела его в палату. Пришел тот самый знакомый врач и осмотрев ребенка не нашел признаков какой-нибудь болезни.
- Нервная система дает сбой, - констатировал врач, когда они с бабушкой вышли в коридор. - Оставьте его, здесь и питание вполне приличное.
- Да не ест он ничего, - заплакала бабушка и сама уже понявшая, что у мальчика заболевание нервного происхождения.
Диянчика оставили в больнице. Он не возражал, только долгим взглядом проводил уходящую бабушку.
Роль профессиональной гадалки, которую взяла на себя бабушка, оказалась прибыльной: за три дня она заработала месячную зарплату уборщицы. Поначалу она испытывала чувство стыда от такого не свойственного ей амплуа, боялась встретиться с кем-то из тех, кто знал ее раньше. Но по трезвом размышлении, она пришла к совершенно верному выводу, что работа уборщицей не менее чужда ей, чем роль гадалки, при том, что эта последняя дает больше средств для существования.
Теперь у нее появилось больше свободного времени, и она проводила многие часы у постели ребенка. Она приносила ему куриный бульон, обжаренную куриную ножку, персики или арбуз - мальчик рад был, что бабуся может покупать хорошую еду, но едва откусив кусочек или выпив ложку бульона, уже не мог ничего взять в рот - он физиологически не мог проглотить пищу. Правда, съедал небольшой кусок арбуза или половину персика, выпивал приносимый бабушкой отвар шиповника. Но силы покидали ребенка и бабушка, холодея от ужаса, видела, как ребенок тает на глазах.
Однажды, когда старая женщина молча сидела у постели внука, держа в своих почерневших руках его маленькую неподвижную ручку, мальчик вдруг открыл глаза и направив взгляд на бабушку спросил:
- Бабу, а у нас будет стол?
- Будет, сыночек, будет, - встрепенулась бабушка.
- А скатерть у нас будет?
- Ну какой же стол без скатерти! Конечно, будет.
- А кастрюля с крышкой будет?
- Бу-у-дет! Все будет! – бабушка выбежала из палаты.
- А вилки у нас будут? – уже вполголоса, не надеясь, что бабушка услышит, проговорил мальчик.
Наступила осень, был убран урожай с полей и огородов, и несчастные переселенцы лишились последней возможности добывать себе хоть какую-то пищу. В больницу татар не принимали и на подходе к ней лежали скрюченные трупы взрослых и детей, пока специальная похоронная команда не убирала их. На фоне этого повального голодного мора положение бабушки было сказочно благополучным. Она сейчас могла покупать все, что предлагал базар, но ребенок угасал, казалось, он не хотел жить. Еду, от которой отказывался больной внук, старая женщина выносила из больницы и давала встреченным татарчатам...
Диян умер в середине сентября. Когда бабушка под вечер прибежала к нему, он улыбнулся ей, и она долго молча сидела рядом, держа его слабую руку. Вдруг мальчик обернулся к ней и произнес:
- Бабу, хочу яичницу.
Его внешнее, детское, слабое выявилось в нищенском желании, - где есть место желаниям, есть место и жизни. Но его глубинное, сильное, вечное не хотело смириться перед ничтожным, оно закрыло этот узкий выход в жизнь. Когда встрепенувшаяся в надежде старая женщина выбежала из больницы и вскоре принесла сковороду с горячей яичницей, Диян уже не отвечал на ее призывы, широко раскрытые глаза его были устремлены вверх, он еще дышал и даже ручка его сжала бабушкину руку. Но через несколько минут грудь его неподвижно опустилась и рука расслабилась... Что видел мальчик внутренним взором в последние мгновения, когда еще дышала его грудь?
Оборвалась и недвижно повисла нить судьбы ребенка…
Папа мальчика, художник Наиль, погиб в тот же день, в бою местного значения в Белоруссии. В последнем своем сне накануне боя он видел сынишку, веселого и беззаботного, требующего, чтобы отец поносил его на плечах. Он и поносил его на плечах, маленького и легкого, обоим было радостно, и поэтому наутро шел Наиль в бой весело и беззаботно, крепко скрутив медной проволокой дужки очков.
Глава 13
Когда я голодный бродил по дорогам, высматривая колоски или стручки, я сооружал в мыслях фантастические построения, в которых, пережив многие удивительные события, я вдруг находил мешок с лепешками, да еще и банку масла, а на дне еще и тысячу рублей - я всегда был мастер на выдумки!
Папа каждое утро уходил искать какой-нибудь заработок, мама пыталась продать что-то из того немногого, что у нас оставалось. Я хорошо помню, как она стояла на базаре с черными лаковыми "лодочками" в руках. Эти были парижские туфли на высоких каблуках, мама готова была продать их задешево. Но кому в "славном городе Чинабаде", не знающем, что такое асфальт или паркет, нужны туфли на высоком каблуке? Но мама надеялась, что кто-нибудь из возвращающихся в цивилизованный мир все же купит эти прекрасные и совсем новые, - такая обувь не может истрепаться, потому что ее надевают изредка в театр или на банкет, - да, совсем новые парижские лаковые лодочки. Она так и не продала их, эти туфли по сей день хранятся где-то в маминых вещах, как память о былом хорошем и былом плохом.
Вечером вдруг оказывалось, что мама варит в жестяной банке "буламук". Разведите в литре воды горстку муки, доведите до кипения и не добавляйте ничего, даже соли, вот тогда поймете, что означает это слово "буламук". Если еще и утром доведется выпить кружку этой прекрасной, дающей жизненные силы пищи, то их, то есть жизненных сил, хватит, чтобы дойти до заветного участочка земли, притаившегося на окраине соседнего колхоза за высокими зарослями бурьяна, на котором еще оставались неделю назад не убранными несколько грядок лои и маша, усохшие побеги которых плотно обвили стебли колючек. Эти чахлые побеги, задушенные сорняками, возможно, никто и не собирался убирать, но страх наказания за воровство с чужого огорода стал сильнее, по мере истощения мальчишеских сил. Одна вылазка на заветные грядки, другая - и уже только на земле, среди ее комочков, под исцарапавшими все тело колючками можно набрать за день горсти две мелких, как дробинки, плодов маша.
В иные дни в мой желудок не попадало ничего, что содержало бы хоть немного калорий, и я ощущал головокружение, мерзкую тошноту, но продолжал бродить с шарящими по дорожной колее глазами, высматривая в пыли упавшие с телег колоски или стручки. Я еще был жив, когда начались занятия в школах. Я отстранено смотрел на детей, которые, беспечно размахивая ранцами, шли в школу или возвращались оттуда. Эти детишки казались мне жителями другого мира, я мог только наблюдать их со стороны, их жизнь была мне недоступна, как недоступно то, что мы видим на белом полотне киноэкрана. И полюбовавшись ими, такими, каким и я когда-то был, я продолжал свои поиски хоть какой-нибудь еды.
Все чаще случалось, что даже одного зернышка не удавалось отыскать. Я добирался до хижины, где мы обитали. Молчаливые мама и папа старались не смотреть мне в глаза. Все мы тихо ложились на камышовые циновки и впадали в забытье.
Но иногда по возвращении меня ждали родители, которые улыбались. Я уже знал, что где-то им удалось раздобыть какую-то еду. Обычно это было такое количество еды, которое не могло бы насытить и пятилетнего малыша. Но даже после этих крох наутро я просыпался, не ощущая тошноты и головной боли.
Такие удачные дни становились все более редкими.
Почему-то маму и папу мне было жаль больше, чем себя. Может быть потому, что я видел их страдания, их ужасный вид со стороны, а к своей тошноте, идущей не из желудка, а из сердца, я как-то уже начинал привыкать, если можно привыкнуть к многократно повторяющейся смерти.
А ну-ка, кто опишет мне эту особую тошноту, когда сердце размягчается и растекается по всей груди, как тесто для блинов растекается по горячей сковородке? Но это жаркое и растекающееся находиться ведь в груди, в живой мальчишечьей груди... И оно поднимается к горлу - и не выходит. Опускается вниз, к желудку, и еще ниже, вызывает потуги, чтобы опять, спустя несколько мгновений, подкатить к горлу.
Когда в такие моменты мне встречались весело болтающие, да еще и жующие что-то дети со школьными сумками, мое маленькое сердце начинало бешено колотиться, меня охватывала недетская злость, и на этих учеников, и на весь мир, который равнодушно взирал на мои муки, и я хотел бы в этот миг все сжечь, взорвать, обратить в небытие, как вскоре - я это чувствовал! - буду обращен в небытие я. На своем пути я видел где-то под кустами, у полуразрушенных стен трупы взрослых и детей – моих соплеменников, их еще не успели свезти в ямы на окраине поселка. Тогда у меня, изможденного, появлялось желание прилечь рядом с этими неподвижными телами, и чтобы из моей головы ушли все мысли, все желания. Труп понял бы мои страдания, а эти, со школьными сумками, никогда не поймут. Если что-то меня и удерживало от такого кажущегося спасения от мук, то это мысль о маме и папе - вернутся ли они к вечеру?
Однажды, когда голодный туман не застилал с самого утра глаза, и сознание было достаточно четким, я подошел к школе, единственной в этом поселке. Школа была одноэтажная, чисто выбеленная, от центрального входа расходились два крыла с большими высоко расположенными окнами. Я пытался через эти окна увидеть сидящих в классе учеников. Но видна мне была иногда только голова учителя, который ходил по классу. Недоступный сказочный мир, как он манил меня! Я решил пройти в школу через двери, но когда я их приоткрыл, то увидел тетку, сидевшую в коридоре на табурете. Она прикрикнула на меня, чего, мол, тебе нужно, чужой оборвыш, а ну выйди вон! Я захлопнул дверь, но желая все же полюбоваться хотя бы маленькой частью школьной жизни, взобрался на сучковатое дерево под окнами какого-то класса. Мне удалось увидеть ряды парт, за которыми сидели ученики, увидеть учителя, мелом пишущего на черной доске... И тут зазвенел школьный колокольчик, звук, который пришел ко мне из моего прежнего бытия, уже не существующего. Я спрыгнул с дерева и спрятался за кустами. Через некоторое время школьный двор заполнила выбежавшая из классов разношерстая детвора. Старшие классы занимались, по-видимому, в первую смену, а сейчас, шла вторая смена для учеников начальной школы. Детишки резвились, орали, забегали в здание и опять выбегали во двор. Я стоял за кустами и с замиранием сердца наблюдал за этой такой узнаваемой, но такой далекой теперь от меня жизнью. Через положенное время на ступени крыльца вышла та самая прогнавшая меня тетка с медным школьным колокольчиком в руках, звон которого - танкуль, танкуль! - зазывал расшалившихся ребятишек на урок.
Школьный двор опустел. И когда я тихо побрел, было, на свою тропу, то увидел, как дежурная тетка вышла из школы, и торопливо куда-то ушла. Я догадался, что поскольку до следующей перемены еще сорок пять минут, то она решила использовать это время для своих собственных дел. Дождавшись, когда тетка скрылась за поворотом, я вошел в школу. Коридор был пуст, и я на цыпочках прошелся по нему. Дверь одного из классов оказалась полуоткрытой, я подкрался к ней и, прижавшись к стене, стал смотреть. Я видел первые два ряда учеников, которые сидели на черных партах и внимательно списывали с доски какие-то цифры. Наверное, у них контрольная работа, решил я, потому что в классе стояла напряженная тишина, которая обычно характерна для ответственных событий. Учитель кончил писать на доске, что-то произнес и пошел по рядам. Я с неизъяснимым чувством смотрел на склонившихся над тетрадками мальчиков и девочек. Наверное, с таким чувством смотрели лет тридцать спустя мальчишки на космонавтов. В эти мгновения я любил этих учеников, гордился ими, желал им славы и добра. И то обстоятельство, что я так близко от них, когда они пишут свою контрольную работу, как бы приобщало меня к высшим человеческим ценностям, приподнимало меня над суетой мирской, я ощущал себя чем-то большим, чем умирающим от голода татарчонком. Тишина, витающая в воздухе сосредоточенность, чистота в школьном коридоре - все это где-то в глубинах моей души порождало сознание того, что не хлебом единым... Но хлеб, хлеб... Все же хлеб... Я медленно пошел прочь.
Найти бы хотя бы одно зернышко джугары, один засохший плод шиповника! Листья, трава – они ведь такие безвкусные, и от них понос…
Если хватит сил, схожу на базар, и, не подходя близко к прилавку, подышу запахом свежих пшеничных лепешек…
Но грезы о школьной жизни все еще не оставляли меня. Мне хотелось еще раз поглядеть на школьную переменку, на радостно выбегающих из распахнувшихся дверей детей. Я прошел в угол школьного двора и притаился за корявым стволом старого тутовника. Но тут вновь началась тошнота. Закружилась голова и потемнело в глазах. Я знал, что если опуститься на колени и согнуться, уперев голову в землю, то тошнота легчает. В таком положении я пробыл какое-то время в полубессознательном состоянии. Откуда-то издалека донесся до меня звук школьного колокольчика, кажется, и голоса детей я слышал, но не было ни сил, ни позыва поднять голову…
День уже приблизился к вечеру, когда я встал на ноги и, нетвердо ступая, пошел в направлении хижины, где меня ждали родители. Боль в голове усилилась, тошнота выворачивала внутренности. В какое-то мгновение я увидел за полузасохшим кустом у отбрасывающей длинную вечернюю тень стены неподвижное тельце девочки. Я был с ней знаком, - несколько дней тому назад мы, помогая друг другу, искали среди шуршащих белесых листьев джиды сухие плоды, которые могли до того остаться не замеченными. Сейчас она отдыхала. Я подумал, что девочка права, что и с меня уже довольно, ведь вечереет. Вообще-то я знал, какой это отдых, поэтому оглянулся - не увидит ли кто меня и не осудит ли за непозволительный переход через грань? И быстренько пробравшись за куст, лег рядом с девочкой. Она была холодная, но в жаркую азиатскую осень это не было недостатком. И прижавшись к остывшему тельцу, я сразу ушел в полусон.
В успокаивающем забытьи перед моим внутренним взором пробегали небогатые приключения моей короткой школьной жизни. Мне привиделись сентябрьские дни первой военной осени, когда я вместе с такими же сорванцами пошел в первый класс. Иногда начинали грохотать зенитки и наш класс во главе с учительницей бежал прятаться в вырытую во дворе школы “щель” - идущую зигзагом узкую траншею… Потом, уже на третью осень оккупации, я пошел во второй класс. В этом классе парт не было, ученики сидели за самыми невероятными столиками и тумбочками. Мы любили свою всегда грустную от жалости к нам учительницу, мы были всегда голодными и удивлялись, почему мальчики и девочки учатся в разных классах.
В моем бреду мне явились маленькие школьные радости. В погожие осенние дни мы затевали на переменках веселые игры возле большого старинного фонтана, чудом сохранившегося еще с ханских времен на площади возле школы. Вновь оказался я на школьной новогодней елке, читал какие-то стихи. Мы с одноклассниками катали на снежные шары и сооружали огромного, как нам казалось, снеговика. Весной я выглядывал из-за угла, ожидая появления красивой девочки, обучавшейся в “женской школе”, которая размещалась в таких же беленных известкой одноэтажных домиках, как и наша “мужская школа”. И в то необычайно радостное мгновение, когда девочка вдруг пошла, улыбаясь, ко мне навстречу, я окончательно потерял сознание.
… Папа и мама уже в ночной темени отыскали и принесли меня в хижину. На следующий день отец похоронил меня в вырытой им самим неглубокой яме, обернув мне лицо своей белой рубахой.
Глава 14
Летом сорок четвертого года Камилл, его папа и мама голодали. Это был настоящий голод, от которого умирают. Вокруг было много еды. Прилавки на базарах ломились от самых разных хлебных изделий, висели на крюках бараньи туши, в зерновом ряду взвешивали на смешных самодельных чашечных весах рис, пшеницу, кукурузу, джугару. Молоко, катык, масло - всего было на базарах вдосталь. Но крымские татары распродали к тому времени все то малое, что у них было. Те, кто вышел из родного дома ни с чем, умирали прежде других. Некоторые опустились, и ради спасения себя или своих голодающих детей и стариков, просили милостыню - но это не спасало, это только продлевало агонию.
На работу в районные учреждения татар не брали. Можно было пойти в колхоз, выходить на полевые работы, но проблему выживания это никак не решало, напротив! Ведь расчет с работником колхоза производился не понедельно, не помесячно, а только в конце года. Табельщик колхоза вел учет так называемых трудодней - "трудовых дней". На каждый трудодень приходилось сколько-то зерна, сколько-то растительного масла. Я не знаю точных цифр, но знаю, что на трудодни прожить было нельзя, потому и назывались они "пустыми". Но даже на сытные трудодни, которые работник мог получить в декабре, нельзя прожить в августе. Крымским татарам оставалось одно - умирать на дорогах. Чудо, что каждый второй все же выжил. Эту статистику, по-видимому, обеспечили те регионы, где крымских переселенцев направили на труд в шахтах, на урановых рудниках, в грязных цехах химических комбинатов и других вредных производств, куда свободные люди не шли. Во всяком случае, на этих предприятиях платили каждый месяц зарплату. Это были очень небольшие деньги, они не спасали от голода, но спасали от голодной смерти.
В сельских районах гибель татар была массовой. Должна была погибнуть и семья Камилла. Отец и мать приняли решение после заветного дня в сентябре, дня его рождения, отвести сына в детский приемник, а самим покончить с жизнью. Отец страшно исхудал, ходил шатаясь. Мама держалась лучше - женщины, говорят, живучее. После того, как распродали все, жизнь поддерживали главным образом тем, что приносил Камилл. На охраняемых огородах ему удавалось украсть горсточки две маша. Горсть еще чего-нибудь он собирал на сельских дорогах, по которым на старых арбах возили в драных мешках зерно и собранный на огородах урожай того же маша - сухие, свернутые в тюки стебли с маленькими коричневыми стручками, из которых на домашнем току выбивали мелкие, зеленые, твердые плоды. Половину собранного мальчик сжевывал сам в сыром виде, оставшееся приносил маме. Еще он рвал со свисающих за глиняную ограду узбекских садов незрелые твердые плоды персиков, и мама варила их в какой-то жестяной банке. Камилл съедал эту горьковатую зелень сырой и от этого у него постоянно болел живот.
Отец ходил каждый день в районный центр, находящийся примерно в одном километре от жилища - сарая с земляным полом, предоставленного им доброй узбечкой-учительницей. На нем были потерявшие товарный вид, но все же не вконец изодранные брюки, хлопчатобумажная рубашка с короткими рукавами, светлые полуботинки, подошва которых еще держалась. В общем, он выглядел вполне респектабельно по тем условиям. Он не был членом правящей партии - некоторым татарам с партбилетом в кармане удалось получить работу в различных районных конторах после многократных посещений партийного начальства. Он предлагал свои услуги в качестве учителя, писца, счетовода, табельщика. Просился в сторожа, в письмоносцы, в контролеры кинотеатра. Но все эти должности были или заняты, или ответственные лица опасались брать на работу ссыльного. Настал день отчаяния, когда родители решили, что им уже не спастись и надо попытаться спасти ребенка, а самим достойно уйти, - без мучений, без агонии. К тому времени районный детдом уже принимал татарских сирот. Кто-то решил, наверное, использовать этот человеческий материал, дав несмышленышам просоветское воспитание, - так детей расстрелянных в тридцать седьмом году "врагов народа " воспитывали как преданных советской власти граждан, и часто весьма успешно.
Приняв это страшное, но единственно рациональное в той ситуации решение, родители Камилла продали то, что было оставлено на последний день, – папин бритвенный прибор. Еще что-то было продано, так что хватило на пшеничную лепешку и кусочек маслица, завернутого в большой лист фигового дерева - сколько этих фиговых листов с соблазнительными пластинками свежего сливочного масла с любовью созерцал и я на прилавках базара, млея от грез! Наверное, Камилл когда-то проговорился о своем сладостном желании, - горячая пшеничная лепешка и маслице! - и вот папа и мама на прощание каким-то образом сумели исполнить мечту своего маленького сынишки. Был день его рождения. Камилл по сей день помнит, - очень хорошо помнит! - тогдашнюю свою радость! И не столько от свежей ароматной лепешки и столь же ароматного кусочка сливочного масла расцветала радость в душе ребенка, сколько от наивной уверенности, что теперь, значит, все у них будет хорошо. Мальчик буквально прыгал от счастья, а родители смотрели на него спокойно - как глубоко было в них чувство безысходности... Когда все продумано, все варианты просчитаны и принято решение, тогда только слабые натуры впадают в истерику. Окончен бал, осталось погасить последнюю свечу - и точка.
Камилл поел, перед тем разделив, конечно, необычайное яство на три части. Папа и мама сперва сказали, что это все ему, а потом, помолчав, съели свои порции. Вот в том трехсекундном молчании Камилл тогда почувствовал что-то нехорошее. Что-то темное и страшное проскочило через эту узкую трехсекундную щель в его сознание, но он подавил в себе дурные предчувствия. Родители весь день были очень спокойны, ровно к нему относились, никаких излишних эмоций. Что творилось у них в душе? О трагическом решении, принятом родителями Камилл узнал от них лет через двенадцать, и тогда они рассказывали ему о тех днях со странным спокойствием.
Хвала Аллаху! Ничего страшного не случилось! Напротив, уже следующий день принес семье спасение! Потрясения дня, назначенного отцом быть последним для его семьи, подвигли его на нестандартное (во всяком случае, для него) решение.
Отец Камилла испробовал прежде все возможные способы добычи средств для существования. Но оставались еще невозможные.
Что значит “невозможные”?
Художник Модильяни погибал от безденежья, его возлюбленная в прямом смысле слова умирала. Но вот некий купец из России пожелал купить его картину и пригласил художника в номер роскошной гостиницы. Пока купец рассматривал необычное творение гения, сам гений стащил со стола несколько кусочков сахара для больной возлюбленной. Купец между тем закончил созерцание картины, и признался, что в такой живописи он ничего не понимает, но картину купит, так как ему это посоветовал его приятель. Модильяни отказался продать картину этому купцу, раз тот не в состоянии оценить ее достоинства. Тем самым гениальный художник отказался от целого состояния, его возлюбленная умерла, а он продолжал нищенствовать.
Надо быть гением, чтобы возможное для нормального человека счесть невозможным для себя.
Давайте отгадаем загадку, какой нестандартный акт в ситуации, когда гибнет от голода твой ребенок, был невозможным для камиллова отца?
Взять в руки дубинку и ночью ограбить прохожего? Я бы, лично, так и поступил. Но так поступить не мог тот человек, о котором идет речь.
Но и он совершил невозможное, и слава ему!
Он ворвался в кабинет председателя районного Совета, оттолкнув секретаршу, бросившуюся ему наперерез. Лениво дремлющий председатель с удивлением увидел, как какой-то человек приближается к шкафу, в котором наряду с сочинениями классиков марксизма-ленинизма стояли и тома Большой Советской Энциклопедии. Этот человек молниеносно достает из шкафа нужный том Энциклопедии, без заминки находит необходимую страницу, кладет раскрытый фолиант перед все еще не опомнившимся от изумления председателем, рядом кладет свой паспорт. Фотография в паспорте совпадает с фотографией в Энциклопедии. Тут председатель приходит в себя, встает со своего кресла, и, уже стоя, еще раз сверяет фотографии и смотрит на лицо гостя.
Я не знаю, что сказал отец Камилла председателю, но, наверное, что-то вроде того, что вот мой паспорт, вот фото в Энциклопедии, а вот я сам. Я хочу работать, у меня семья голодает. Человек, высокие достоинства которого удостоверяются статьей и фотографией в Энциклопедии, наверное, может быть полезным и для Чинабадского района, а?
Нет, нет, не знаю, что сказал этот человек, который отличался всегда поразительной скромностью. Но результат этой отчаянной акции был великолепен! Председатель исполкома велел, во-первых, принести в кабинет чай и еду. Затем он позвонил куда-то и велел кому-то незамедлительно явиться к нему в исполком. Через какое-то время в кабинет вошел заведующий районной конторой Наркомата заготовок. Председатель велел ему взять вот этого сидящего перед ним гражданина, человека больших достоинств, на лучшую из имеющихся вакансий. Так профессор Афуз-заде стал начальником над мукомольными мельницами в Чинабадском районе!
Была, оказывается, польза от указа об обязательном приобретении для кабинетов руководящих работников собраний сочинений классиков марксизма-ленинизма и всех томов Большой Советской Энциклопедии!
А в тот день отец принес домой кусочки узбекского хлеба, которые он стянул со стола и засунул в карман брюк в тот момент, когда председатель отвернулся к телефонному аппарату...
Шла борьба за выживание! Кругом голод, семья необута и неодета. Ни нормальной крыши над головой, ни постели, ни кастрюли, ни тарелок... Любой другой человек, - да хотя бы и я! - озолотился бы на должности начальника над всеми мельницами и рисорушками района. Но не профессор Афуз-заде - утонченный интеллигент. Однако вскоре его семья уже не голодала. Поселились они в более или менее нормальной комнате в доме его теперешнего сослуживца в самом районном центре, обзавелись кастрюлей и алюминиевым подносом. Жизнь продолжалась, и все они набирались сил. Заведующий конторой быстро понял, что его новый Главный Мельник человек не практичный, и в целях повышения, так сказать, квалификации, сам возил его по колхозам района. По приезде высокого начальства председатели колхозов, по традиции, бросали все дела и вели гостей к себе домой, где вскоре на дастурхане уже были разложены лепешки, сладости, фрукты и уже поспевал замечательнейший плов! Отец возвращался домой поздно ночью и привозил с собой лепешки, сладости, фрукты...
А на дорогах Чинабада умирали крымчане. Идя по утрам в контору, Афуз-заде брал с собой кусочки лепешек, и давал их встречаемым знакомым. Не знаю, помогли ли эти кусочки хлеба спастись хоть кому-то из голодающих, но хотелось бы думать, что помогли.
Пришла осень, начались дожди. Полуботинки профессора полностью развалились. Какая-то еда дома была, но денег на обувь не было. В служебные обязанности Главного Мельника входило вести учет сведений, поступающих от непосредственно мельников, то есть от заведующих мельницами: сколько зерна поступило, сколько муки выдано, сколько уплачено сдатчиками зерна, сколько из уплаченного сдано в заготконтору (в плату брали десятую долю помолотого зерна). Кроме того, он был обязан ходить по мельницам и самолично проверять правильность отчетности - для этой цели в его распоряжении была лошадь. Поначалу отец ездил по мельницам со своим начальником, который представлял его низшему звену, потом несколько раз ездил один. Но начались дожди, и оставшийся без обуви Главный Мельник вынужден был сидеть в конторе в своих разваливающихся полуботинках, в которых можно было передвигаться только по гладкому паркету, да и то очень осторожно. Замечу, что паркет упомянут ради красного словца - в тех краях о нем не слыхивали, и роскошью был крашенный деревянный пол.
И вот советская власть, лицемеря, предприняла циничную меру "помощи" переселенцам: людям, у которых она отобрала все имущество, - все, от чайных ложек до домов! - решено было выдать по пять тысяч рублей на семью. Не на человека, а на семью. В то время зарплата конторского служащего была восемьсот рублей. Впоследствии я слышал от осведомленных людей, что мероприятие с этими пресловутыми "пятью тысячами рублей" имело следующую предысторию. В том же подписанном Сталиным в мае сорок четвертого года указе, которым предписывалось выселить татар из Крыма, один из пунктов обязывал власти выделить на каждую семью пять тысяч рублей "на строительство и хозяйственное обзаведение". И это в то время, когда мешок пшеницы стоил те самые пять тысяч! И еще: деньги эти выдаваться должны были в виде ссуды, с тем, чтобы вернуть эту сумму в казну в течение семи лет.
Казна присвоила себе дома, домашнее имущество, скот и птицу татар стоимостью на сотни тысяч рублей у каждой семьи, и после этого дала в долг по мешку пшеницы. В долг! Оцените, господа, степень мерзости и цинизма!
Но самым подлым в этом деле было то, что эту ссуду стали давать только зимой, когда половина населения погибла. Все было рассчитано коммунистическими ворюгами: к зиме погибло сто тысяч человек, это примерно двадцать пять - тридцать пять тысяч семей, значит около ста пятидесяти миллионов рублей работники органов, которые ведали делами спецпереселенцев, положили в свой карман.
Как бы то ни было, семья Камилла эти деньги получила, и на них отец купил одну пару крепких кирзовых ботинок на двоих - на себя и на жену. Дело в том, что к тому времени в контору Уполнаркомзага (вскоре наркоматы заменили министерствами и контора стала именоваться Уполминзагом) поступила работать и мама. Утром она надевала эти бутсы и вместе с Камиллом, у которого еще держались на ногах привезенные из Крыма ботиночки, шла на службу. Там она переобувалась в плетенные из скрученных хлопковых волокон лапти, а ботинки Камилл приносил домой отцу, который ходил в них днем, а по его возвращении мальчик, владевший персональной парой обуви, относил ботинки маме. Когда отец задерживался, маме приходилось допоздна оставаться в конторе одной. Но что означали для них эти, мягко выражаясь, неудобства, когда они были спасены от голодной смерти.
Осень была дождливая, лессовая пыль оборотилась обильной вязкой грязью, а мощенных и, тем более, асфальтированных дорог в славном городе Чинабаде никогда не было. По дорогам бродили, а чаще лежали на обочине голодающие крымчане. Умерших специальные команды раз в сутки собирали и хоронили в общих могилах...
Однажды отец пришел домой взволнованный более обычного.
-Я встретил Лютфие, она в ужасном состоянии, - сказал он маме.
Лютфие - это была та одинокая женщина, которая отдала свое золотое колечко в обмен на лопату, когда люди умирали в телячьих вагонах по пути в ссылку. Папа увидел ее просящей милостыню у входа на базар. Но дело было не только в этом, - бедная женщина почти ослепла и еле передвигалась. Проживала она в старом сарае на территории хлопкового склада, где до обрушившейся на нее слепоты работала сменным сторожем и где ее из милости оставили жить. Отец отвел бедную женщину в ее сарай, вскипятил ей воду и напоил чаем с купленной для нее лепешкой - наном.
- Она потеряла зубы и не может прожевывать пищу, - добавил папа.
Мама сварила на очаге затирушку из поджаренной муки, завернула в бумажку парочку узбекских самодельных конфеток, и они вдвоем поспешили к Лютфие. Женщина эта не была им знакома по прежней жизни, но на фоне всеобщего голода и смертей она вызывала особое сострадание, ибо был памятен ее бескорыстный поступок по пути в ссылку. Родители Камилла не могли оставить ее без внимания, тем более, что уже никого из тех соседей по вагону рядом не было.
Каждый день кто-нибудь из семьи посещал Лютфие и приносил ей горячую пищу. Несчастная женщина, которая ясно представляла себе обстановку, еще недавно не надеялась встретиться уже с дружеским участием. Теперь она говорила, что человек, оказывается, может почувствовать себя счастливым и в такой безнадежной ситуации.
Однажды под вечер Камилл нашел ее бездыханной.
Отец купил на базаре самодельную бязевую ткань, которую узбечки ткали из "ворованного" колхозного хлопка (был закон, запрещающий использовать хотя бы маленький клочок выращиваемого этими людьми хлопка, и при желании власти могли сурово покарать бедных женщин, которые на ручном станочке выделывали эту бязь из самими же скрученных толстых хлопковых нитей), нашел живую старушку-татарку, и та, обмыв покойницу, завернула ее в саван из бязи. Потом уже на последние деньги профессор нанял двухколесную арбу, и вместе с другим земляком они повезли Лютфие на кладбище. Там они сами вырыли могилу, отец прочел молитву над усопшей, опустили тело в могилу и засыпали чужой землей...
Вскоре Камилл заболел воспалением легких. Неделю он был в забытьи, бредил, температура держалась очень высокой. Но мальчик выжил. Мама не отходила от него. В ту пору простым людям антибиотики не были доступны, лечили его сульфидином, горячим питьем. Когда Камилл пришел в сознание и у него открылся аппетит, мама приготовила ему специальное блюдо, которое должно было укрепить его легкие. В пленку нутряного бараньего жира она завернула рис с кусочками мяса и отварила. Камилл ел это блюдо два дня и, действительно, быстро пошел на поправку. Постель ему родители устроили в высокой нише в стене, там не было сквозняков, и мальчик чувствовал себя очень уютно.
Тут надо, наверное, дать некоторые пояснения. Стены в узбекских домах обычно очень толстые, хоть и сложены из необожженных глиняных кирпичей. Такие стены нужны не для сохранения тепла в холодную пору (печей в традиционных узбекских домах не бывает), а для сохранения прохлады в летний зной. Летом, когда снаружи жара достигает сорока градусов по Цельсию, в узбекских домах, особенно в задних комнатах, сохраняется комфортная прохлада. Так вот, в этих стенах по всей окружности комнат располагаются глубокие ниши, в которых укладывают цветные одеяла, вышитые подушки, обитые цветной жестью сундучки с одеждой, на полках, устроенных в нишах, стоит чайная и обеденная посуда. Так что пространство в комнатах свободно - все аккуратно уложено в стены.
Однажды, когда мальчик еще был слаб и лежал в постели, вошел несколько взволнованный папа с загадочной улыбкой на лице. Такая улыбка у него бывала обычно, когда он приносил домой какую-нибудь вкусную еду, а в ту пору всякая еда была желанной и вкусной. На этот раз это была книжка in quarto, без обложки и без первых страниц. Ее папа выхватил у торгующего на улице тыквенными семечками старика-узбека, который делал из листов кулечки для своего товара. Книга эта оказалась первой частью "Былого и дум" Герцена. Надо сказать, что в доме не было никаких книг, взять их тогда и там было негде. Папа знал о приверженности своего сынишки к чтению и переживал, что ребенок лишен книг. Это замечательное произведение Александра Ивановича Герцена отец очень высоко ценил и надеялся, что его двенадцатилетний сын найдет в нем хоть что-то понятное и интересное для себя. Сын, действительно, поначалу искал в книге только фабулу, но затем, читая и перечитывая (ведь альтернативы этому чтению не было) и задавая вопросы отцу, он постиг вполне мысли и события этого произведения, которое и сегодня может многое пояснить желающему познать все же Россию умом. "Былое и думы" стало тем фундаментом, на котором воздвигалось историческое мировоззрение Камилла, его понимание добра и зла.
…Проживала в Чинабаде немолодая русская женщина, проживала она в благоустроенной по местным критериям квартире, в приличном доме. Папа назвал Камиллу ее адрес и сказал, что он может брать у нее книги. Камилл не запомнил ее имени, может быть и потому, что она всегда молча открывала ему дверь и, разговаривая почти что шепотом, советовала, какую книгу взять. Ходил мальчик к ней вечером, когда наступали сумерки. Он читал тогда - по ее совету! - Кнута Гамсуна, Эптона Синклера о Ленни Беде, Гюго, Достоевского, Гумилева... Было Камиллу пятнадцать лет. Всегда в последующие годы он с благодарностью вспоминал этого человека. Что за судьба? Как она попала в эту глушь? Выбралась ли? Отцу Камилла доверяли многие, поначалу малознакомые люди, из тех, кто не мог примириться с этой властью.
А несколько лет спустя Камилл оказался в городке, где была библиотека. Боже, какой хлам предлагали ему добрые, но необразованные библиотекарши! Но мальчик спрашивал Гомера, Данте, Шиллера, Гете. Когда в его руки попал двухтомник Байрона, он продлевал его полгода, а потом, страшно стесняясь, предложил за него милым библиотекаршам кем-то подаренную ему книгу "Сталь и шлак" - невыносимое чтиво для юноши, познавшему в далекой ссылке Гамсуна и Достоевского. Библиотекарши были безмерно рады - эта писанина была в те годы бестселлером. "Самая читающая страна" - да? И потом много лет Камилл не брал в руки книг советских писателей (кроме требуемых школьной программой, конечно), и уже в университетские годы однокурснику стоило немалых усилий убедить его хотя бы начать читать роман некоего не известного ему Дудинцева... Потом появился сборник "Литературная Москва. 1956 год"...
В жизни районного центра Чинабада назревали серьезные изменения. Здесь жило несколько десятков семей польских евреев, которые были где-то, кажется, в сороковом году, то ли высланы, то ли эвакуированы в Среднюю Азию. Уровень образованности этих людей был различный, но при том, что они быстро усвоили русский язык, они стали в условиях узбекистанской глубинки необходимыми для ведения разных бумажных дел людьми, занимая должности от конторских счетоводов до банковских бухгалтеров. Были среди них и медицинские работники, и инженеры, и парикмахеры, умеющие не только наголо обрить, но и сотворить какую-нибудь прическу. Но вот пришла из высоких инстанций команда отправлять всех польских евреев... Куда? Были слухи, что немалое число их были этапировано в арестантские лагеря... Но как бы то ни было, государственные учреждения и сфера обслуживания лишалась работников. После небольшой паузы в делопроизводстве (наверное, не только Чинабада) власти обратили внимание на неблагонадежных крымских татар, среди которых тоже были специалисты разного профиля, да и просто грамотно умевшие писать и читать по-русски люди. Вопреки первоначальной установке не допускать спецпереселенцев до государственной службы наших людей стали брать на инженерные должности, врачами, учителями, в бухгалтера.
Отец Камилла был востребован в райисполком. Оставался он на прежней должности Главного мельника, но ему придали заместителя, который занимался делами мельниц, отец же сидел в кабинете председателя районного совета в качестве помощника. Так как Главный в Кремле имел привычку работать по ночам, то и вся система партийной и советской работы была сориентирована на такой же режим. Афуз-заде сидел в исполкоме всю ночь и возвращался домой на рассвете. Он, беспартийный и недавний политзаключенный, был в курсе всех самых секретных указов и распоряжений советской власти. Конечно, это было злостным нарушением со стороны руководства района, но, воспользовавшись однажды консультациями отца, они уже не могли обходиться без него. Между прочим, два мерзких полковника, милицейский и чекистский начальники района, злобствовали по этому поводу и требовали прекратить допуск спецпереселенца к государственным делам, - но кормились-то эти полковники у районных властей! Однако через несколько лет эти полковнички отыгрались... И еще позже пришло время, когда оба этих мерзавца сдохли в советской же тюрьме, куда они попали за очень уж наглое взимание взяток. А Афуз-заде, его жена, его сыновья продолжали жить и бороться.
Прожили они в Чинабаде пять лет. Отца уважали и районные руководители и простые люди. В райисполкоме Афуз-заде фактически работал как советник председателя, присутствовал на заседаниях узкого круга руководителей района, где обсуждались политические вопросы, связанные с регулярно поступающими инструкциями или телефонограммами из областного центра и из республиканских учреждений. Во-первых, районным руководителям нужен был человек, хорошо знающий русский язык, а во-вторых, – историк и литературовед Афуз-заде великолепно знал теорию марксизма, мог сказать в каком томе Маркса или Ленина упоминается тот или иной вопрос. А малограмотным районным боссам нужны были консультации по господствующей идеологии. Кстати, Афуз-заде и Коран почти весь знал наизусть, хотя не был силен в арабском языке. Труды Маркса и Ленина он когда-то изучал не из-за того, что принимал марксистско-ленинскую доктрину, а по той причине, что позицию противника надо хорошо знать.
Чинабад был небольшим поселком, и все его обитатели были знакомы друг с другом хотя бы в лицо. Жители Чинабада видели, как скромен и приветлив со всеми Афуз-заде. Он хорошо знал узбекский язык и мог остановить поздоровавшегося с ним прохожего и завести с ним беседу. Очень скоро люди стали с почтением называть его "Домулла" - учитель, и сравнительно нестарого человека - ему тогда не было еще и сорока лет - чинабадские узбеки стали почитать за самого авторитетного и мудрого советчика в сложных ситуациях. Афуз-заде никому не отказывал в беседе, хотя сознавал свою ответственность как человека, слову которого верят, и нервничал, не будучи уверен в правильности всех своих советов. Но надо знать узбекскую глубинку середины сороковых годов, надо представлять себе несчастный древний народ, который веками жил по своим жизненным нормам и которому иноверцы навязывали нынче чуждые их пониманию, странные и даже греховные правила. Эти навязываемые правила не принимали во внимание обычную человеческую доброту, уважение друг к другу и почитание старших - все было оттеснено какими-то "нормами социалистического общежития".
В этих искривлениях человечности Афуз-заде разбирался, ибо сам был их жертвой. И со временем он понял, что вправе давать людям советы, помогающие им выбираться из лабиринта чиновничьих установлений или хотя бы не усугублять свое положение поисками рациональности и человечности в проникнувшем в их бытие большевистском абсурде.
Глава 15
Сначала мы умирали от болезней. Смерть непосредственно от голода как от истощения организма в летние месяцы могла придти к совсем уж немощным и неподвижным - ведь были колхозные огороды, сады, где можно было, хотя и под угрозой побоев, воровать овощи и фрукты. Можно было ловить рыбу в многочисленных озерцах, речках, даже в арыках - так мы и делали.
Голод заставлял людей есть не созревшие зеленые персики или зеленый виноград, если удавалось найти свисающие из-за забора ветки или лозу. И это приводило к поносам, к дизентерии, кончавшимся порой гибелью несчастного человека.
Хорошим подспорьем было собирание колосков на жнивье. Правда, на этом поприще приходилось конкурировать с местными жителями и, конечно, лучше было не попадаться на глаза кому-то из колхозного начальства.
Нужно сказать, что говоря о возможности прокормиться в летние месяцы, я имею в виду тех моих земляков, которые попали в благословенную Ферганскую долину, страну садов, виноградников и плодородных полей. Хуже было тем, кто попал в знаменитую Голодную степь - Мирзачуль.
Урожай в Узбекистане собирают рано. К сентябрю все зерновые, включая джугару и кукурузу, были убраны, местные бобовые тоже свезли по амбарам. На грядках в узбекских дворах еще зеленела ботва моркови и других корнеплодов, но то было во дворах. Украсть что-нибудь можно было только с колхозных плантаций, но на них после уборки зерновых и бобовых оставался - увы! - только хлопок.
Главной убивающей людей болезнью была малярия!
Вот как проходит приступ малярии, которую узбеки именуют "безгак". Сначала ощущается некая пустота под ложечкой, какой-то холодок по ходу пищевода. Если вы уже опытный малярик, а опыт подразумевает и использование информации, полученной у аборигенов, то получив первый сигнал вы берете большую пиалу, наливаете в нее катык (вид простокваши), насыпаете столовую ложку острого красного перца и заливаете все крутым кипятком. Эту взрывную смесь надо выпить. Между прочим, со временем напиток этот кажется очень приятным, и его пьют и вне связи с приступом малярии. Так вот, этот горячий жгучий настой таким образом действует на организм, что самая мерзкая фаза приступа проходит с меньшей амплитудой и оказывается короче. А фаза эта есть невыносимый озноб (за неимением более подходящего ощущения можно назвать это ознобом), когда человека трясет, будто бы он попал в резонанс с ультразвуком. Трясет каждую мышцу, каждый внутренний орган - это особенно противно. Зуб на зуб, как принято говорить, не попадает, но точнее будет сказать, что зубы выбивают частую дробь. Обычно человека в малярийном ознобе укрывают теплым одеялом, но это не помогает, трясучка не прекращается. Наконец, минут через двадцать - тридцать первая фаза подходит к концу, в течении трех - пяти минут амплитуда тряски постепенно уменьшается, и тело охватывает приятная теплота. Температура поднимается до сорока градусов и даже выше. Вот тут-то, наверное, и умирают те, кто слаб. Я всегда на этой фазе засыпал в приятном изнеможении. Просыпался я часов через пять, обессиленный. Но, пролежав часок другой, я вставал с постели, и еще через час чувствовал себя вполне здоровым. Я знавал узбеков, которые могли очухаться от приступа за более короткие сроки, чем приведенные в моем описании. Далее нужно сказать, что единичные приступы малярии мне не известны. После первого приступа на следующий день или через день наступает такой же второй, потом третий. У меня больше шести приступов подряд не бывало, и я относительно хорошо переносил их. Но обычно люди от частых приступов истощаются, и такого несчастного уже легкий ветерок шатает. Наши крымчане многие умирали от малярии...
Была еще одна и посейчас загадочная для меня болезнь, именовавшаяся тогда странным словом "потопач" - не знаю, медицинский ли это термин или местное наименование этой напасти. Тоже немало жизней унесла...
Если бы все горе, страдания, смертный ужас взрослых и маленьких крымских татар, выпавшие на их долю в сорок четвертом и сорок пятом годах, собрать воедино и доставить туда, где в то же самое время обжирались и веселились, заботились о своих сытых отпрысках те, чьей волей или безразличием мы были лишены отчей земли и нажитого не только нами самими, но и нашими предками имущества, то наше тогдашнее горе и наша сегодняшняя ненависть взорвали бы их сытое существование как сто тысяч атомных бомб!
Знойной и пыльной осенью одна тысяча девятьсот сорок четвертого года я бродил голодный по поселку…
Самое таинственное из известных науке понятий – это время. И чтобы не обременять себя неразрешимыми вопросами, мы принимаем на веру утверждение, что время неразрывно, что оно необратимо. Это утверждение есть такое же суеверие, как и представление о едином для всей Вселенной времени, не зависящем ни от чего. Однако нынче каждый студент второго курса уже знает, что время у каждой движущейся телеги свое и что ход его зависит от скорости каждой телеги - о какой неразрывности времени может идти речь! Когда-нибудь будет понято, что и представление о необратимости времени есть грубый образ, оставшийся нам в наследство от пещерных наших предков. Время разрывно и потому обратимо. Лента времени порой истончается, волокна разрываются и торчат веником в разные стороны, некоторые волокна свертываются колечком и соприкасаются с другими пучками, выдержавшими напряг, избежавшими разрыва. Тогда малая струйка, казалось бы, невозвратимых событий изменяет свой ход на иной, вливается в общий поток событий, в котором другой порядок.
Я умер в одном из волокон Времени. Это в другом временном волоконце отец похоронил меня в вырытой им самим неглубокой яме, обернув мне лицо своей белой рубахой. Но сразу же тогда тонкая нить событий разорвалась, упруго развернулась колечком и сомкнулась с другими, магистральными нитями, логика которых требовала живого меня.
Вот и бродил я как прежде, испытывая муки, но не сознавая ужаса своего положения – ведь второй раз колечко времени вряд ли образуется.
Для ребенка голод только физиологическое чувство, не трагедийная ситуация. И если бы я мог насытиться вдоволь хотя бы хлебом, я тотчас же обрел бы возможность интересоваться, радоваться и желать игры. Но когда я брел по дороге, и взгляд мой искал в пыльной колее стручок фасоли, оброненный с арбы, или когда я обшаривал белесые шуршащие ветки джиды, надеясь отыскать хотя бы один не замеченный другими сухой плод, то меня не могло бы отвлечь от поиска пищи никакое приглашение на самую развеселую забаву, на смешное или страшное повествование.
Ну, хоть бы зернышко джугары, хоть бы ягодка шиповника, хоть бы горошинка! Трава и листья - они такие безвкусные и от них понос... Пойду, пожалуй, на базар и буду вдыхать аромат свежего хлеба, издали....
Глава 16
Девочки Айше и Сафие беспечно читали свои книжки, когда их мать спрыгнула с бидончиком в руках из высоких дверей вагона. Ни у кого, пожалуй, эта предпринятая учительницей экспедиция особой тревоги не вызвала, - уж минут пять поезд всегда стоит. Только тетка по имени Селиме, в прежней жизни торговавшая самодельными сладостями на базаре, вредная толстуха, больше других ехидничавшая по поводу шибко грамотных, заполонивших тесный вагон своим барахлом, рассеянным взглядом следила за рискованно покинувшей вагон Хатидже и без злобы думала: " Бахса ановы туваргъа, поездан къаладжакъ! - Вы посмотрите только на эту тупицу, от поезда отстанет!". При этом она вовсе не желала этого, просто она чувствовала себя выше этой учительницы, так как не пошла бы на такой неосторожный поступок. И когда поезд резко сорвался с места, и стало ясно, что бедная учительница не успеет даже подняться на насыпь, Селиме охнула и вполголоса произнесла: - Вай аначыгъым! Къалдыда ановы къары! (Мамочка! А ведь отстала эта женщина!).
Старшая девочка Айше то ли услышала сквозь грохот колес этот сдавленный возглас, то ли сердцем почуяла беду. Она вскочила на ноги, отбросив книжку, вслед за ней вскочила ее сестра. Все, кто уже понял случившееся, молча смотрели на сестер. С криком "Ана! Мама!" Айше кинулась к двери вагона, младшая ринулась за ней. Сидевшие рядом женщины едва успели удержать сестер, навалившись на них и оттащив их в глубь вагона. Старшая как обезумевшая кричала "Мама! Мама!", младшая просто визжала. Женщины, опасно высовываясь в двери, пытались что-то увидеть, успокоить детей. Селиме подошла к девочкам:
- Чего вы раскричались? Мама ваша села в соседний вагон! Слышите? В соседний вагон она села, я вам говорю! Ну, успокойтесь!
Первой перестала кричать старшая. Она вопросительно глядела на Селиме и лишь постанывала.
- Мама ваша в соседнем вагоне едет. На остановке перейдет к нам, и все! Рядом она, в соседнем вагоне.
Девочки, кажется, поверили. Младшая прервала свой визг и стала плача повторять:
- Зачем она выпрыгнула! Зачем она ушла из вагона! Почему мамы всегда уходят!
- Тихо, тихо, тихо! Успокойся. Сейчас будет остановка и она вернется.
- Остановка не скоро бывае-э-т! - плакала младшая, старшая же обняв ее молчала, раздумывая, можно ли верить тому, что мать их в соседнем вагоне. Наконец, девочки, кажется, поверили.
Селиме подумала про себя, что хорошо, если поезд не скоро остановится. Надо дать детям успокоиться и что-то придумать. Другие женщины смотрели на нее вопросительно, и Селиме отвернувшись, чтобы не видели ее лица девочки, гримасами показала, что, увы! - Хатидже отстала от поезда.
Мерно стучали колеса, и это было признаком того, как было замечено обитателями вагонов, что перегон будет долгим. Женщины собрались в другом конце вагона и стали обсуждать дальнейшие свои действия. Когда заметили, что младшая девочка Сафие задремала, они подозвали к себе старшую Айше.
- Доченька, ты уже большая, - начала Селиме. - Ты разумная и толковая девица, слушай, что мы тебе скажем. Мама ваша, кажется, не успела сесть в вагон, но ничего страшного в этом нет. Следующим поездом она догонит нас, это может произойти сегодня или завтра. Ты должна успокоить младшую сестренку. Объясни ей, что сегодня или завтра мама нас догонит, понимаешь?
Надо сказать, что женщины и сами надеялись, что Хатидже подсадят на следующий за ними состав и помогут догнать своих дочерей. Только пожилая Семадие-тизе, которая была выбрана старшей по вагону, с горечью подумала, что да уж, из-за несчастной татарки станут эти гяуры догонять и ждать, как же! Трупы выбрасывают из вагонов прямо в поле, похоронить не дают, чего от них человеческого можно ожидать...
Айше, вопреки опасениям, восприняла это сообщение сдержанно. Женщины очень обрадовались такой реакции девочки. Селиме от полноты чувств обняла и расцеловала ее, другие тоже постарались приласкать девочку. Когда Айше вернулась к спящей сестренке, к ним потянулись то одна, то другая соседки с гостинцами. Оказалось, что в вагоне люди везут и сушеные яблоки, и сушеные груши, и пастилу, и, даже, вкусное печенье курабье. Сафие уже проснулась и с удивлением принимала дары от соседей по вагону, которые еще недавно казались ей недобрыми и жадными.
Подобрав подходящий момент Айше сказала сестренке, что, возможно, мама задержится, что она, может быть, пошла дать телеграмму родственникам, что она, может быть, и не отстала вовсе от поезда, а поступила обдуманно, чтобы им потом всем было хорошо. Но об этом надо молчать, чтобы не узнали эти вражеские солдаты, которые их сопровождают, а если узнают, то поймают маму и арестуют. Этот последний тезис Айше изобрела сама и очень потом этим гордилась, а старшие хвалили ее за догадливость. Сафие судорожно вцепилась в руки сестры и не мигая смотрела ей в глаза, и Айше многое прочла во взгляде Сони-Сафие. Когда поезд поздно вечером сделал, наконец, следующую остановку, все обитатели вагона, кроме Селиме, которая своими глазами видела стоявшую в траве Хатидже, все в вагоне, и стар и млад, напряженно ждали, что вот сейчас подойдет к распахнутым дверям мать бедных девочек и попросит, чтобы ей помогли взобраться. В сторону съежившихся в ожидании сестер старались не смотреть. Когда поезд опять тронулся с места и ничего не произошло, Сафие громким шепотом, слышным по всему затихшему вагону, произнесла по-русски слова, понятные только Айше:
- Они всегда уходят и не возвращаются.
Больше чем себя Айше жалела бедную маленькую девочку, свою любимую младшую сестренку...
Сафие давно отплакала свою родную маму. Еще в первую зиму она услышала, разговор двух женщин, о соседе-пьянице, который пробрался во двор больницы и набрал целый мешок вещей, которые были брошены евреями.
- Их же заставили все оставить во дворе и в машинах повезли на балку. Там уже заставляли раздеться перед расстрелом. О, Господи! Как подумаешь... Так вот, Васька со двора больницы натаскал барахла. Даже детскими куклами не побрезговал. Сейчас выносит на базар, кто не знает, тот покупает.
Соня, придя домой, прямо спросила, что с ее мамой. Хатидже стала, было, выкручиваться, но девочка сказала, что она все знает. Хатидже подтвердила страшную правду. Соня целую неделю пролежала в своей кровати, отвернувшись к стене, отказывалась от еды. Наконец, отошла, но стала еще более молчаливой, хотя и раньше не отличалась словоохотливостью. Названная мама и названная сестра окружили ее такой заботой, такой любовью, что за три прошедших с того страшного дня года девочка стала чувствовать себя родной в этой новой своей семье.
...Здравый смысл подсказывал, что от конвоя случившееся надо скрыть. Правда, не обошлось без голосов, что "начальству" надо обязательно сообщить об отставшей женщине, а не то "всем нам худо будет". Старая Семадие-тизе прикрикнула на этих, готовых пресмыкаться и лизать бьющую их руку, и сказала, что берет всю ответственность на себя, а ежели кто донесет, то найдутся и такие, кто этих доносчиков накажет. Тут же решили, что отныне для властей девочки Айше и Сафие - племянницы Селиме-апай. Ве весселям! (И вопрос решен!).
Семадие-тизе, сидевшая с подоткнутыми под себя длинными подолами цветастых юбок на полотняной подстилке посередине вагона, сурово предупредила всех, чтобы на остановках лишнего не болтали, иначе не миновать беды - накажут весь вагон за соучастие.
- Разберемся сами, и, во всяком случае, детей в обиду не дадим, - твердо сказала она.
Не все соседи и знакомые любили суровую Семадие, но все боялись ее. Она была из семьи кады - судей. И хотя мужчин из ее рода высылали из Крыма еще при царской власти, а при большевиках некоторые исчезли без вести, все равно клан их был велик и разошелся по всему полуострову. Обижать своих они не позволяли никому. Да и попытка обидеть кого-нибудь из этого рода могла придти в голову только кельмешеку - пришлому, не приученному уважать прошлое своего народа. И теперь не у одной бабенки из вагона чесался язык, неудержимо хотелось говорить всем и вся об отставшей от эшелона женщине и о ее оставшихся дочерях. Но предупреждение Семадие-тизе было серьезное, и то или иное наказание, ну хотя бы для начала в виде позора и изоляции, последовало бы неукоснительно.
...Все шло своим чередом. Зеленые луга и подлески сменились сухими степями со скудной растительностью, потом появилась пустыня, приземистые кибитки, юрты, верблюды. И на одиннадцатый или двенадцатый день поезд добрался до намеченного рубежа. Людям велели выгружаться.
Привезли их в утопающий в зелени садов и виноградников колхоз недалеко от старинного города Коканда, расселили по домам местных жителей, которые отнеслись к приезжим как к гостям, бежавшим от какой-то там напасти, - война ведь еще продолжалась. Только примерно через год власти, озаботившись почему-то хорошими отношениями между спецпереселенцами и аборигенами, стали проводить антитатарскую агитацию, разъясняли, что это не беженцы от напавших на страну супостатов, а враги народов великого Советского Союза. А вначале крымчан в большинстве мест их поселения встречали хорошо.
Селиме с двумя собственными детьми, со старушкой матерью и с двумя названными племянницами, поселилась в доме у молодого узбека, недавно прибывшего в родной кишлак из военного госпиталя на поправку после ранения. С учетом приближающегося, Бог даст, окончания войны районный военкомат комиссовал его и оставил в колхозе. Когда в правлении ему сказали, что к нему в дом подселяются переселенцы из далекого Крыма, молодой мужчина вместе с матерью перебрались в старую кибитку, находившуюся тут же, а гостей-михманов поселили в новой двухкомнатной постройке, возведенной перед войной самим Исматом, собиравшемся привести молодую жену. Однако по какой-то причине за три года, которые он пробыл на фронте, брак расстроился. Еще до войны Исмат-джан любовно разукрасил стены нового дома цветными картинами-фресками - огромные яблоки, гранаты, диковинные птицы и цветы, барсы и сказочные единороги. Все было выписано мастерски, композиция была безупречна, и окажись эти фрески в поле зрения нетрадиционно мыслящего искусствоведа, то автор прославился бы как незаурядный художник - примитивист. Сад перед домом был любовно ухожен. Все здесь было необычным для новых жильцов, но особенно изумили их кусты граната с твердыми, с как бы восковыми цветами.
Холида-хан, немолодая уже, добрая узбечка, всегда аккуратная, в белоснежном, из похожей на марлю ткани платком на голове, предоставила своим гостям ватные одеяла-курпи, которые расстилаются на ночь поверх лежащих на земляном полу камышовых циновок или паласов - хлопчатых ковров. У дочерей Хатидже были вывезенные из дому шерстяные одеяла заводской выделки, и гости подарили одно такое одеяло хозяйке в ответ на ее доброту. С разрешения хозяйки Селиме расширила огород, посадила лук, морковь, тыкву-скороспелку, местные бобовые маш и лойю. Воды в селении было достаточно, а в этом благодатном крае при достаточном поливе земля давала скорые и обильные урожаи.
А еще Селиме зачислили в колхозную хлопководческую бригаду. По сезону на хлопковых полях проводилась так называемая чеканка, - надо было окучивать маленькие ростки хлопчатника, оставляя в лунке не более пяти штук. Работать надо было с утра до вечера под палящим солнцем Азии. Но ловкая Селиме-апай составила хитрый график: с утра выходили две девочки, их сменяли через три часа другие две, работая уже два жарких часа, затем каждая пара детей еще дважды сменяла одна другую. Сама Селиме на поле так и не появлялась, а дети не успевали утомиться - все было хорошо. Было плохо то, что колхоз обещал расплатиться с работниками только осенью, а людям надо было питаться чем-то сегодня. До последнего обстоятельства правлению колхоза дела не было.
И жители Крыма, насильственно пересаженные на эту благословенную почву, страдали от недоедания, от дизентерии, от малярии. Может быть, большая семья Селиме-апай была одна из самых благополучных, но только из-за того, что девочки тайком собирали на колхозном поле созревший ячмень, и сама Селиме в большой деревянной ступе хозяйки превращала смоченные зерна в тесто, из которого пекла лепешки. Кроме того, были овощи с огорода - морковь, свекла, зеленая лойя. У хозяйки была коза, которая давала около литра молока и иногда Холида-хан приносила кружечку свеженадоенного. Сами хозяева, мать и сын, жили очень бедно, но у них был запас муки, маша и джугары, а также было и хлопковое масло. В первые дни хозяйка предлагала жильцам пользоваться маслом из ее фляги и Селиме несколько раз брала у нее по полной деревянной ложке, чтобы поджарить лук для постного супа, но вскоре поняла, что вернуть не сможет, и категорически отказалась от предложений доброй узбечки.
Долго кормиться пятерым на подножном корму было невозможно, организмы девочек и самой Селиме быстро истощались. С согласия "племянниц" Селиме выбрала из их тюков кое-что из старой одежды и отправилась на кокандский базар. Вернулась она с бутылкой хлопкового масла, с несколькими килограммами маша и с одной курочкой-несушкой. Белая немолодая курочка несла пять-шесть яичек в неделю - вот и добавка к пище появилась! Среди привезенных из Крыма вещей и у самой Селиме, и у девочек оказались хоть и не новые цветастые платки и юбки, очень ценимые в этой местности, и Селиме с Айше еще несколько раз побывали с этим товаром на базаре в Коканде, куда ходу было пешком часа два..
Наступил сентябрь. Из одного своего путешествия в город Селиме и Айше вернулись потрясенные: в городе крымские татары умирали прямо на дорогах. Они не стали рассказывать об ужасных встречах с умирающими от голода земляками младшим девочкам, но Селиме задумалась о предстоящей зиме. Просуществовать на продаже вещей можно было только ограниченное время, рассчитывать на плату за труд на колхозном поле не приходилось. Хозяин дома, работавший учетчиком в бригаде, точно подсчитал, сколько получит Селиме где-то в декабре. Получалось, что в лучшем случае на полученной от колхоза довольствие можно будет прожить месяца полтора-два. Значит, поняла Селиме, весной будем умирать от голода. На базаре в Коканде она повстречалась со знакомыми, которые сказали, что собираются ехать в горную местность, где есть хорошо оплачиваемая работа для мужчин и женщин на шахте. Действительно, переселенцев из Крыма вербовали в местность по названию Майли-сай, где были урановые рудники. Люди в те годы не слыхивали о вредном излучении урана и охотно шли на работу, которая могла прокормить их семьи. Да они, собственно, и не знали, что добывается в шахтах, им говорили, что это металлическая руда, а какой металл - люди ведать не ведали, для большинства понятие "металл" было равнозначно понятию "железо". Когда Селиме узнала, что в Майли-сае живет семья ее родственников, то она приняла твердое решение ехать. Айше без особого желания тоже согласилась отправиться на поиски своей доли в другую местность. Но при этом ее беспокоила мысль, что их отъезд из этого колхоза усложнит для матери поиск дочерей. Альтернативой было остаться в доме Исмат-джана и протянуть до следующего лета на выручке от продажи барахла и, может быть, на колхозных выдачах за летние труды. Наконец, решено было на совместном обсуждении, что две сестры остаются в колхозе, а Селиме со своими детьми едет в горный поселок Майли-Сай. На принятие такого решения повлияло и доброе отношение хозяйки дома и ее сына к бедным девочкам, отношение, в котором явно проглядывали матримониальные надежды хозяина. Айше был симпатичен скромный и всегда опрятный молодой мужчина, но возможности своего замужества с перспективой стать колхозницей в Узбекистане горожанка наша не допускала. Ухаживания Исмат-джана не были назойливыми и девушка надеялась, что в мусульманской семье добрых узбеков ей не грозит никакое принуждение.
Исмат до войны закончил семь классов, кроме того он много читал, хорошо знал восточную поэзию. В колхозе он работал табельщиком, вел учет произведенных работ в разных бригадах, составлял месячные сводки, а в конце года готовил для правления годовые отчеты. До появления в его доме михманов из Крыма он ходил по колхозным участкам в обычном летнем одеянии узбекских дехкан - белые хлопчатобумажные штаны чуть ниже колен, белая рубаха с открытым воротом навыпуск, запахнутая спереди и перевязанная по пояснице сложенным в полоску большим цветным платком. К такому летнему костюму обувь не обязательна, но можно надеть низкие башмаки. Исмат, прослуживший не один год в армии, знал, что такое одеяние очень похоже на солдатское белье - кальсоны и рубашка. Знал он и о том, что это обстоятельство служит поводом для насмешек со стороны жителей западных районов большой страны. Поэтому после того, как в доме поселились европейские женщины, на одну из которых он желал бы произвести хорошее впечатление, молодой мужчина стал носить брюки с рубашкой. В первое время он говорил со своими жильцами на русском языке. Со временем Айше сама попросила его говорить больше на его родном языке. Имея собеседника, хорошо владеющего двумя языками девушка быстро осваивала узбекский.
Глава 17
О переселенцах, оставленных в бараке четвертого отделения, похоже, в совхозе забыли. Здесь, в четвертом, не было своей конторы, постоянные работники при надобности приезжали сюда из центральной усадьбы, где находились их дома. Техника, приписанная к этому отделению, тоже базировалась на центральном отделении. Кроме одного единственного строения, в котором сейчас обитали татары, да больших весов, стоящих в этом строении, здесь никакого имущества не было.
В хлопководческих совхозах Голодной степи, татарам негде было сорвать с дерева яблочко или незрелый твердый персик, негде было собирать пшеничные или ячменные колоски - все земли были под хлопчатником. “Совхоз” – советское хозяйство. Рабочие совхоза, то есть государственного хозяйства, не обязательно наделялись землей под огород, а в качестве жилья им мог быть предоставлен барак с нарами. “Колхоз” – коллективное хозяйство, где по уставу каждая семья имела приусадебный земельный надел, ну хотя бы размером с хоккейное поле. Работники колхоза, кормились за счет своего, хоть и скудного хозяйства, и только в конце года получали какое-то количество зерна, мыла, масла, - в зависимости от числа трудодней, то есть дней, в которые был зафиксирован их выход на колхозную работу. В отличие от них рабочие совхоза должны были получать плату за работу в конце каждого месяца. И еще - совхоз кормил своих рабочих обедом один раз в день. Это обстоятельство поначалу оказалось благоприятным для крымчан. С первого же дня переселенцам стали привозить в полдень какую-нибудь кашу, - из джугары, из дробленой кукурузы или из перловки. Позже, когда созрели овощи, стали давать варево из кормовой свеклы или из шалхама - местной репы. Если первые два-три месяца несчастные татары как-то держались и еще выходили на работу в поле под палящие лучи азиатского солнца, то к концу лета большинство от скудного одноразового питания обессилило настолько, что падали без чувств на грядках. Производительность труда переселенцев была низкой, и никакой платы в конце месяца почти никто не получал, а вскоре труд больных и истощенных людей не оправдывал даже миски каши. Когда переселенцев стали кормить кормовой свеклой и шалхамом, они стали пухнуть и умирать целыми семьями. Выбраться из совхоза практически было невозможно, да и куда идти...
Подошла пора собирать созревающий хлопок, и люди были нужны. Тогда руководство совхоза распорядилось выдать татарам зерно, но выдавать только тем, которые имели силы выходить на работы. Остальные, больные и истощенные, были предоставлены сами себе.
...Младшенький умер от дизентерии в августе, Фатиме еще имела силы похоронить его. Когда начался сбор хлопка, она несколько раз выходила в поле, но норму выполнить была не в состоянии. Старший сын Февзи оказался крепче, и они решили, что числиться в рабочих будет он, а мать в меру возможностей будет помогать ему выполнять дневную норму. Так они получили ведро кукурузных зерен. Кстати сказать, кукуруза была американская, зерна были крупными, как лошадиные зубы, - то ли поставки от Международного Красного креста, то ли по лендлизу.
Еще Фатиме выбирала из волокон семена хлопчатника, которые оказались маслянистыми и вкусными. Среди грядок встречались кусты паслена, черные водянистые ягоды которого были съедобны, но если целый рабочий день есть эти ягоды, то у человека начинался изнуряющий понос. Тем не менее, разжевывая семена хлопчатника и заедая их пасленом, люди собирали свои урочные восемьдесят килограмм хлопка в день, а если не могли собрать эту норму, то записывали собранные килограммы сегодня на одного, завтра на другого. Вечером они съедали горсточку кукурузы, которую негде было раздробить и приходилось варить после долгого отмачивания.
Когда зерно у людей кончилось, привезли муку из какого-то неведомого курмака и выдали по половине ведра на внесенного в ведомость работника. Это была странная мука, темносерая, с блеском, будто содержащая дробленое стекло. И испеченные из нее лепешки тоже заставляли вспомнить о стекле, - они были хрупкие, разваливающиеся и скрипели на зубах. Оказалось, что курмак этот всем хорошо известен - это были те мелкие семена, которые часто встречаются в пачках "очищенного" риса. Курмак - сорняк, всегда проникающий на рисовые делянки, его семена не съедобны, но в голодные годы вычищаемый из обмолоченного риса он не выбрасывался, а использовался как добавка к ячменной или кукурузной муке.
- Лепешки из курмака наполняют живот, но голода не утоляют, - говорили узбеки. - Если долго им питаться, то можно умереть.
Даже будучи очень голодным, есть лепешки из этого злака было трудно. Мучимый голодом человек заставлял себя отковырнуть кусочек от лепешки, с отвращением разжевывал его и глотал. Затем через час-другой он не удерживался, и опять отламывал кусочек, и опять на зубах хрустело стекло и приходилось глотать этот странный хлеб. Кора деревьев казалась более вкусной...
Привезли кормовую свеклу - большие серо-грязные коренья. Ее запекали в огне, и оказалось, что это вкусно и питательно. Кормовая свекла отдалила для некоторых смерть, других же спасла от смерти. Но пришли холода, переносить которые неодетым истощенным людям было не под силу.
В бараке оставалось не более двадцати человек. Те, кто был посильнее и поудачливее, перебрались в кибитки-развалюхи в центральном отделении совхоза. Кое-как подправив соломенные крыши и подмазав глиной щели в стенах, эти счастливцы имели шансы дожить до весны. Жильцы же барака были обречены.
Однажды утром учительница из Алупки, которая еще летом похоронила племянницу и ее двух сыновей, не встала, чтобы пойти вскипятить воду в титане. Эта была ее обязанность, водой же титан с вечера заливал Февзи.
- Фатиме, я сегодня умру. Нет, нет, не надо лишних слов. Я жду свою смерть, это избавление. Но ты еще молода, у сына твоего много сил. Вы должны выжить. Как только я умру, ты сразу же забери мое одеяло и другое мое барахло. Хоронить будешь потом, слышишь?
- Что вы говорите, Мелиха-абла! Просто немного приболели, наверное. Аллах даст вам здоровья!
- Ладно, Фатиме, спасибо за сочувствие. Но как только закроешь мне глаза, положи меня на солому и возьми одеяло. У других хоть что-то есть, а вы на голой соломе. Забери мои вещи сразу себе, слышишь? Вот эта шерстяная кофта - она хоть и старая, но очень теплая. Февзи, ты слышишь меня?
- Слышу, Мелиха-абла. Я сделаю так, как вы сказали, - с недетским спокойствием печально ответил Февзи.
- А сейчас, заметте олса, (если не очень озаботит) дайте мне кружку горячего чаю. Пусть будет погорячей...
К вечеру, когда солнце еще не зашло, Мелиха-оджапче тихо умерла. Фатиме наклонилась к ней спросить о самочувствии и, увидев ее застывший взгляд, вскрикнула. Столько смертей видели они за последние месяцы, но эта объявленная смерть старой женщины вдруг оказалась для всех, покуда еще живых, сильным эмоциональным потрясением. Может быть потому, что из всех, кто оказался в бараке, она была единственным грамотным человеком, которая объясняла, почему они, обитатели Крыма, оказались вырваны с корнем из родной почвы, почему оставлены в Голодной степи на смерть. Мелиха-оджапче знала историю своей страны, знала о том, как еще в конце восемнадцатого столетия князья и графы из Петербурга обманом отнимали лучшие земли у татар, рассказывала о массовых исходах на протяжении всего прошлого века разоряемых и униженных на своей исконной родине крымчан, о не прекращавшейся никогда национальной и конфессиональной дискриминации.
- Эй, балаларым! - говорила она покачиваясь. - Сколько горя принесли нам люди Севера! Сколько еще мы натерпимся от этих явуров (гяуров)! Лякин умидден тюшмейик! Не будем терять надежды! Если не нам суждено вернутся в Крым, обязательно вернутся наши дети и внуки! И не забывайте, что наших соплеменников много в Добрудже, в Турции и в других землях. Когда-нибудь все наши люди соберутся на нашем Полуострове и мы, умершие на чужбине, будем взирать с небес, как возрождается наше государство.
И Мелиха-оджапче читала стихи крымских поэтов, расстрелянных большевиками. Иногда она пела старинные дестаны, и сельчане затаив дыхание слушали повествования о героике былых походов, о славном воине Чора-батыре, о борьбе за честь и достоинство, о любви, не ведающей преград. Пока была жива эта образованная женщина, с людьми была их история, их многовековая культура, и в холодном бараке горел маленький костерок крымской цивилизации. С уходом Мелиха-оджапче осталось в сердцах еще живых людей то чувство единства со всеми прошлыми и будущими поколениями, которое пробудили ее рассказы и ее песни, но только одному из приобщившихся к этому сокровищу суждено было запомнить и донести полученное знание своим детям и внукам, чтобы из зароненной в их души искорки возродилась страсть к поискам утерянного, к возрождению того, что превращает множество людское в единую нацию.
Теперь у противоположного конца оставшегося невспаханным пригорка расположилось кладбище крымских татар...
Наступили холода. Морозов пока еще не было, но пошли нудные моросящие дожди и холодный ветер продувал барак насквозь. Солончаковая земля и под дождем была не такой, какой должна быть нормальная земля. Дождь не пропитывал ее насквозь, а протекал в трещины, а на поверхности образовался тонкий слой такой скользкой грязи, что разбежавшись босиком можно было проскользить шагов пятнадцать. Покойница Мелиха-абла оставила для Февзи свои стоптанные круглоносые туфли с ремешком, но мальчик не носил их, так как они были откровенно немужскими, даже с невысоким женским каблуком. Босые его ноги за день покрывались липкой грязью до колен и вечером он с удовольствием обмывал их теплой водой, нагретой в титане, благо, что топлива было вдосталь. В качестве топлива использовались сухие кусты хлопчатника, - гуза-пая по здешнему, - которые горели тепло и ярко и оставляли после себя долго не угасающие красные угли. Гуза-паи было вдосталь. Г-образными узбекскими серпами - ураками Февзи рубил на расположенном в двадцати шагах поле гуза-паю и складывал ее в бараке, число жильцов которого уменьшилось до шести человек. Большие запасы гуза-паи мальчик, единственный, сохранивший для какой-либо работы силы, сделал еще до дождей, да и теперь, когда дождь прекращался и ветер высушивал кусты, он рубил их и таскал под крышу, в нежилую часть барака.
- Молодец, сынок, хороший из тебя был бы дома хозяин. Чем больше топлива заготовишь, тем больше надежд пережить зиму, - говорил единственный из оставшихся в живых стариков Мурат-эмдже. Жена его уже не вставала, а он еще уверенно передвигался, разжигал титан, даже приносил воду из канала.
Февзи догадался использовать связанные камышовыми жгутами снопы гуз-паи как перегородки на нарах и люди были защищены от ветра. Но к тому времени скудные запасы зерна и свеклы кончились, оставался только отвратительного вкуса шалхам, который только заполнял желудки не насыщая. Мурат-эмдже решился отправиться вместе с мальчиком в центральное отделение совхоза за помощью.
Назавтра выдалась сухая погода, можно было отправляться в путь, если, конечно, не идти по самой дороге, где лессовая пыль в дождь превращалась в вязкое болото. Ходить, да и водить какой-либо транспорт, арбу или грузовик, можно было по неширокой полосе между собственно дорогой и хлопковым полем, которое от дождей тоже размокало, и если идти по нему, то через несколько шагов на ногах образовывался земляной комель килограмм на пять. Старику и мальчику предстояло пройти километров пять, но если для Февзи это путешествие было в забаву, то больному и обессиленному Мурату-эмдже предстояло тяжелое испытание. Выйдя поутру они в полдень добрались до центральной усадьбы совхоза и, помыв грязные ноги, - Февзи так и был босиком, - пошли в контору.
Робко постучав в дверь, старик отворил ее и по-узбекски попросил разрешения войти.
- В чем дело? - удивленно и неприветливо поднял голову один из мужчин, сидевших вокруг большого письменного стола.
Старик и мальчик, тем не менее, вошли в комнату.
- Мы из четвертого отделения, нас там осталось шесть человек. Никакой еды у нас нет, мы голодаем. Помогите чем-нибудь.
Мужчины переглянулись.
- Так там люди оставались? - обратился к присутствующим старший, оказавшийся парторгом совхоза.
Все опять переглянулись и уставили взгляд на вошедших.
- А ну-ка, позовите управляющего четвертым, - повелел парторг. - Где он сейчас?
- Он собирался сегодня в Джетысай, там у него отец, - отозвался один из мужчин, в котором Февзи узнал шофера, который вез их в тряской машине от станции до совхоза и который тогда потешался над их измученным видом. Сейчас Болта-бай, так его звали, водил газик парторга.
Парторг посмотрел на незваных гостей и пригласил их сесть. Старик сел на стул у стенки, рядом с ним сел и Февзи.
- Нет, садитесь к столу, - сказал парторг.
На столе стояли чайники (на узбекском дастурхане всегда несколько чайников), на металлическом блюде лежали кусочки пшеничной лепешки-нана и белые комки сахара.
- Болта-бай, налей гостям чаю, - обратился парторг к своему шоферу.
Болта налил в пиалы чай и придвинул к пересевшим к столу гостям.
- Угощайтесь.
Мурат-эмдже взял самый маленький кусочек лепешки с блюда и велел Февзи тоже угощаться. Старик не спеша съел половинку от своего кусочка и отпил чаю, а мальчик мгновенно сжевал свой кусок и посмотрел на Мурата-эмдже.
Болта засмеялся и придвинул к мальчику блюдо.
- Давай, сынок, ешь! Не стесняйся, вот сахар возьми.
Февзи вопросительно смотрел на своего эмдже. Тот кивнул ему, - ешь, мол.
Стараясь соблюдать приличие мальчик стал уплетать хлеб, запивая его чаем и хрустя сахаром, который он видел до этого лет пять назад. Болта-бай опять засмеялся. Парторг и другие мужчины не смеялись и молча смотрели на изможденных старика и ребенка.
- Ахмедов, завези в четвертое отделение пшеницы и кукурузы. Посмотри, чего еще там можно им отвезти.
И обратился к старику.
- Ешьте, отец, не стесняйтесь. Эй, Болта-бай, принеси еще лепешек.
Мурат-эмдже почувствовал человечность обращения и позволил себе немного расслабиться. Он сам налил в пиалу чаю (Болта, разливальщик, пошел в машину за лепешками), бросил в пиалу кусочек сахара и поискал глазами чайную ложку. Не увидев на столе таковой он удивился про себя и не спеша стал есть.
Пришел Болта с двумя нанами. Мужчины стали говорить о делах, чтобы не смущать своим вниманием изголодавшихся гостей. Переселенцы и в центральном отделении и в других были в очень тяжелом положении, умирали от недоедания и болезней. Но они регулярно получали какие-то продукты, их жилье как-то было обустроено. Эти же несчастные явились из небытия, об их существовании уже больше месяца никто не вспоминал. Переселенцы-татары после окончания сельхозработ самостоятельно перемещались между отделениями в поисках родных и знакомых, и даже переходили в соседние совхозы. Не имея сведений из отдаленного и считавшегося малоперспективным четвертого отделения, руководство совхоза сочло его опустевшим. Человек, даже в не самом лучшем своем воплощении, не полностью лишен сочувствия к себе подобным. И как бы искупая вину перед оставленными на произвол судьбы людьми, парторг приказал завести продукты обитателям барака в четвертом отделении.
Старик допил чай из пиалы и поблагодарив отодвинулся от стола. Февзи почти утолил свой, ставший уже хроническим, голод, но если бы не строгий взгляд Мурата-эмдже, он не отодвинулся бы от еды. Парторг увидел, что несчастные его посетители перестали есть и сделал знак рукой своему шоферу. Тот сделал кулек из лежавшей на подоконнике газеты, вложил в него принесенные им два нана, смел туда же все кусочки наломанных лепешек вместе с кусочками сахара и вручил кулек мальчику.
- Сегодня вечером вам завезут еду, вы там поживите. Мы будем вас считать сторожами, да? Ну, идите.
Старик встал и искренне стал благодарить на смеси русского и нескольких усвоенных за эти месяцы узбекских слов.
- Катта рахмат! – Большое спасибо! Очень хорошие люди! Спасибо, катта спасибо... - и добавил по-татарски: - Алла разы олсун, балаларым! – Да будет с вами согласие Аллаха, дети мои!
Февзи, довольный и благостный от еды, улыбался во весь рот:
- Рахмат, рахмат!
Хоп, хоп - ответил нетерпеливо парторг и добавил: - Сегодня или завтра продукты вам привезут.
Для старика и мальчика обратный путь показался и короче, и легче. Они принесли больным и потерявшим надежду женщинам еду и, что было важнее, надежду. Принесенные хлеб и сахар разделили на всех, Увидев сахар старушки вспомнили о кофе, вспомнив о кофе заговорили о прошлом. Февзи, заснул крепким молодым сном. До поздней ночи сидели пятеро пока еще живых крымских татар, с тихой печалью вспоминали свою деревню, своих близких, и тех, кто похоронен в родной земле, и тех, кто зарыт здесь, в двадцати шагах от барака...
Утром умиротворенность вчерашнего вечера рассеялась. В свете дня яснее представилась безнадежность их положения. Если даже начальник не обманет и пришлет зерно, то и тогда мало было шансов пережить зиму для больных и истощенных немолодых людей. В теплые летние дни недоедание и болезни унесли жизни более двух десятков детей и взрослых. Чего же можно было ожидать в зимние холода? Хорошо бы спасти мальчишку - эта мысль сверлила мозг не только матери. Если бы только начальник не обманул и прислал бы зерна...
Начальник не обманул. Но, получив на складе по подписанной парторгом накладной полмешка пшеницы и мешок кукурузы, главный агроном Ахмедов велел своему шоферу завести пшеницу к своей матери, у которой гостили родственники из неурожайной Арыси. Шофер выполнил приказание своего начальника, но потом заехал к себе домой и отсыпал в свои скудные закрома более половины мешка кукурузы - зима только начиналась, а детей у него было пятеро. Так что получили шестеро переселенцев менее полумешка зерен кукурузы. Дед Мурат огорчился было малостью обещанной помощи, но потом решил, что дорогу к начальству совхоза он уже знает и когда зерно закончится надо будет вновь идти туда же.
Вскоре на смену сравнительно теплой погоде пришли холода, настоящие морозы. Грязь покрылась тонкой ледяной коркой и ходить босиком стало невозможным. Февзи обматывал ноги обрывками джутового мешка и надевал оставленные ему туфли Мелиха-абла. Голь, как известно, на выдумку хитра. Мурат-эмдже и мальчик разжигали на земляном полу барака несколько костров, небольших костров, чтобы не устроить пожара, но по всей длине занимаемых шестью живыми душами нар. Сухая гуза-пая горела с малым дымом и давала хороший жар. В костер клали несколько найденных на территории обожженных кирпичей, которые заворачивали в джутовую ткань от старых мешков и брали на ночь на лежанку - в "постель". Вот так надеялись пережить зиму. К тому времени в живых остались Фатиме с сыном, старик Мурат с женой и еще две пожилые больные женщины, которые похоронили еще летом своих ближних и которым было ниспослано войти живыми в эту зиму, для того, возможно, чтобы рассказать о зимних холодах и небывалых тяготах земных там, в истинном мире...
В один из дней тихо скончалась жена Мурата-эмдже старая бабушка Невзие. Старик и мальчик вырыли в еще не промерзшей земле яму с подбоем, старик прочитал над женой молитву и еще одну дочь Крыма приняла чужая азиатская земля.
В ту ночь Мурат-эмдже продумал одну мысль. Наутро он отошел с мальчиком в отдаленный угол барака.
- Февзи-оглум, слушай меня. Зима еще только начинается, нас здесь три старых человека, которые вряд ли доживут до весны. Только у тебя и твоей матери есть шанс выжить. Но могилы для умерших придется копать тебе. Я прошу тебя, сынок, вырой могилы, пока земля не заледенела. Если все они или некоторые окажутся ненужными - слава Аллаху! Но оставить мусульманина не захороненным нельзя и забота об этом достается тебе. Сделай так, как я тебе сказал, сынок. Но чтобы женщины о том не узнали.
Февзи молча выслушал эмдже и без слов согласно кивнул головой. В этом двенадцатилетнем ребенке созревало подсознательное чувство ответственности не только за себя, но и за ближних. Жизнь в нечеловеческих условиях, когда смерть окружающих его взрослых и детей из маловероятного несчастья становилась обыденностью, чем-то ежедневно ожидаемым, когда были забыты смех и радость, когда все вокруг было чужим - эта жизнь исподволь формировала в нем характер вожака, но не того вожака, который требует от членов клана покорности и части добычи, а вождя, который выводит племя из плена, из чащи дикого леса, из песков пустыни. Он не ставил перед собой осознанных задач, но на уровне эмоций он ощущал, что если волей Всевышнего суждено выжить только ему и его маме, то он, выживший, будет искать своих тоже оставшихся в живых соплеменников по всему миру, чтобы соединиться с ними, продолжить жизнь свою в детях и внуках, рассказать им об этих гибельных годах, о мечтах не доживших до возвращения на родину, о врагах, о том, чего никогда ни в каком поколении нельзя простить. Двенадцатилетний мальчик брал на себя ответственность за будущее.
Со дня этого разговора Февзи начал копать ямы на краю запорошенного снегом хлопкового поля. Он копал три ямы.
Фатиме слабела день ото дня. Дело было не только в том, что она ограничивала себя и в без того скудном пайке, отдавая половину суточного рациона ничего не подозревающему сыну. Ее точила изнутри болезнь, которой врачи, наверное, не могли бы дать названия и от которой многие крымчане умирали так же часто, как умирали от малярии и дизентерии. Эта болезнь происходила от другого вкуса здешнего воздуха и здешней воды, от несравнимости покинутого и имеющегося, от обиды, от смерти самых близких, от ужаса всех человеческих потерь. Долгими ноябрьскими вечерами она не могла заснуть, вспоминала прежнюю жизнь. Вспоминала мужа, которого призвали в армию еще в тридцать девятом и от которого она перестала получать письма с самого начала войны, и неизвестно, скувырнулся ли он от немецкой пули где-то в полях России еще в первых боях или пробивается и сейчас в рядах Красной армии к границам Германии. А письма его потеряли почтальоны... Вспоминала, как рожала сыновей, как играли они на руках у отца, как укладывала она их в теплые и чистые постельки. Никак не хотела она вспоминать о смерти своего младшенького, отгоняла видения этого и последующих дней. Она думала о своем маленьком Эдемчике как о живом, представляла себе как она будет танцевать на свадьбах обоих своих мальчиков, танцевать агъыр ава ве хайтарма лицом к лицу с мужем. И под утро засыпала в приятных грезах, чтобы проснувшись утром тоже не думать о горьком, а думать только о Февзи, только о том, что он должен выжить и выживет, - так велит Аллах...
Проснувшись однажды утром Февзи не почувствовал привычного тепла, исходящих от обнимавших его маминых рук. Руки были холодные, объятие было жестким...
Февзи дорыл в то утро одну из могил и тут же начал рыть четвертую.
Днем Фатиме завернули в саван из ее единственного платья. Мурат-эмдже прочел над ней молитву и Февзи устлал нишу в яме соломой, прежде чем уложить в нее свою маму.
А старик Мурат с ужасом думал, что будет, если мальчик теперь уйдет. Поддерживать огонь в костре, варить кукурузу и печь в углях кормовую свеклу сил у него еще хватит. Но кто сможет предать земле умерших, если мальчик покинет барак? Утром старик, опережая мальчика, вылез из под груды тряпья, служившей ему одеялом, вскипятил воду в титане и раздул костер. Женщины поднимались со своего ложа только для отправления нужды, поддерживая друг друга они шли в дальний угол барака, за груду запасенной гуза-паи. Вылез из своей "постели" и Февзи. Все обитатели барака сели вместе принять скудный завтрак. Женщины осторожно начали разговор о достоинствах покойницы, находили слова утешения для сироты. Февзи молча слушал, временами кивал головой. Перед ними стояла алюминиевая миска с зернами сваренной накануне кукурузы и горячая большая свекловина, которую запивали кипятком, называя его словом "чай".
Мальчик не плакал над телом своей мамы. Не плакал он и по ночам. Словно холодная льдинка засела в его сердце. Порой льдинка оборачивалась раскаленным стальным осколком и Февзи, будто бы освободившись от забытья, удивленно осматривался - вокруг странная плоская земля, хижина без окон и дверей, ни тепла, ни еды, ни одежды. Ни мамы, ни братика. Ни отца, которого он помнил плохо и к отсутствию которого уже давно привык. Смерть матери потрясла его, казалось бы, мужавшую душу. Он вдруг стал глядеть на этот чужой мир взглядом одинокого волчонка, но не ослабевшего и сдавшегося, а готового бежать, кусаться, умереть. Старый Мурат увидел в глазах мальчика звериную отрешенность, принятие ниспосланного одиночества и испугался теперь за него. Не произнося лишних слов он старался быть рядом с ним, молча протягивал ему руку, как бы прося помочь подняться с сиденья, просил передать ему кружку или там ложку, сам подносил мальчику ту или иную вещь, - словом, старался больше с ним общаться. Когда Февзи оправлял холмик на могиле матери старик без слов присоединялся к нему. По вечерам Мурат-эмдже начал рассказывать мальчику о былой жизни, о традициях быта, которые сложились в их горной деревеньке, о событиях давних времен, которые стали местной мифологией и были по настоящему понятны только их односельчанам.
- Сынок, не теряй надежды. Верь, что отец твой вернется с войн, и тогда ты уже не будешь сиротой. И ты, может быть, единственный молодой мужчина из нашего рода, кто понесет в будущие времена наши обычаи и наши предания. Крым - наша большая родина. Наше старинная деревня - наша малая родина. Она нас выпестовала, она нас соединила в один род, мы все связаны друг с другом кровными узами, наши корни уходят во времена, когда мы говорили на другом языке, имена у нас были другие. Теперь ты один из немногих, кто продолжит наш род. Жена твоя может быть из другого рода, но детям своим ты должен поведать все то, что ты знаешь и то, что я тебе буду рассказывать. Ты, Февзи, вырастешь, вернешься на землю предков, ты будешь главой новой поросли на родной почве...
Мальчик благодаря таким речам обретал прежнюю твердость. И со временем он перестал ощущать себя одиноким сиротой, беседы со старым и мудрым Муратом породили в нем новое отношение к прошлому и настоящему, он свято поверил всему, что поведал ему мудрый его эмдже, он принял на себя уже вполне осознанно ответственность за продолжение рода...
Рано взрослеющий юноша уже строил трезвые планы на ближайшее будущее, исходя из ожидания новых бед. Он думал о том, что когда он всех похоронит, то надо будет пойти к людям. Может поначалу на центральную усадьбу, а потом и в город. В том, что три старых человека, которые сейчас ворочаются без сна на своих лежанках, в эти зимние месяцы умрут он, привыкший к смертям, не сомневался.
...Прислушавшись к тишине барака, нарушаемой временами тяжелыми вздохами стареньких его земляков, Февзи спустился с нар, завернул нагревшиеся на углях кирпичи в обрывки мешковины и тихонько положил их взамен остывших камней у ног притворявшихся спящими своих подопечных стариков.
Бедные старушки в один из дней попросили Февзи принести два камня, один побольше, а другой поменьше. Они завертывали сваренные зерна кукурузы в марлечку и долбили по ним камнем, пока не получали тестообразную массу, и это было более приемлемо, чем падающие в старые желудки маленькими камешками целые зерна.
На следующий день завернув за угол барака Февзи увидел, как дедушка Мурат завернув в тряпочку зерна кукурузы разминал их осторожными ударами камнем. При этом старик плакал и что-то шептали его губы...
В один из дней Мурат-эмдже отвел мальчика в сторону:
- Февзи-балам, у каждого человека есть обязанности перед другими людьми. Тебе в твои юные годы досталась пережить много горя. Ты потерял брата и мать - рахмет олсун джанларына. Но по воле Аллаха тебе надлежит выполнить тяжкую обязанность по отношению к нам, старикам, оставшимся на твое попечение. Мы умрем, до весны нам не дожить. Ты не должен уйти отсюда, пока не похоронишь последнего из нас. Знай, сын мой, кроме тебя некому предать нас земле, а если мы останемся не похороненными, нас будут грызть собаки и крысы...
- Не надо, Мурат-эмдже! - даже для рано повзрослевшей от множества несчастий детской души есть граница дозволенного восприятия ужасов земного бытия. - Я знаю свой долг, не надо ничего мне говорить. Будьте во мне уверены.
- Хорошо, сынок, прости меня. Но только еще об одном мне надо тебе сказать. Мы мусульмане и над телом умершего мусульманина должна быть прочитана молитва. Ты знаешь какую-нибудь молитву?
- Я знаю только " Ля илля-и иль Алла, Мухамеди ресул улла".
- Хорошо, сынок, Аллах примет эту твою молитву. С этими святыми словами ты должен похоронить своих стариков, Февзи-оглум.
- Да, Мурат-эмдже, я понял. Вы должны быть во мне уверены.
- Я уверен в тебе, Февзи, - сказал Мурат-эмдже и обняв мальчика прижал его к себе. Февзи приник к старому своему дядюшке и ему захотелось заплакать, вновь почувствовать себя ребенком, но сглотнув вырвавшиеся было всхлипы он подавил в себе слабость и отодвинулся от старика.
Каждый день Февзи подходил к могиле матери, подправлял земельный холмик над ней и начинал копать три еще не дорытые ямы рядом.
В декабре ударили настоящие морозы - под двадцать градусов. Снега навалило по пояс взрослому человеку. Обитателям барака трудно стало сохранять тепло. Был страх, что заготовленной гуза-паи может не хватить на ближайший месяц, а при отсутствии надежной обуви и одежды нарубить новую для Февзи не представлялось возможным. Но тем не менее весь день в бараке горел огонь, а на ночь мальчик готовил для стариков по несколько нагретых кирпичей. Дед Мурат старался себя обслуживать сам, но старые женщины едва имели сил ходить по нужде, а так все дни и ночи проводили в своих постелях. И вот Февзи заметил, что старушки стали угасать прямо на глазах. Он не знал, что с согласия Мурата они решили не принимать пищу и закончить свои мучения. Мальчика решили об этом не ставить в известность. И не прошло и недели, как утром скончалась одна из мучениц, а вечером испустила свой последний вздох вторая. Мурат-эмдже прочел над ними молитву и двое мужчин, старик и мальчик, опустили в могилы своих старых односельчанок как они были, в их старой одежде, и забросали их крупными мерзлыми комками земли.
Теперь из пяти десятков жителей крымской деревни, заброшенных в отделение совхоза, оставалось двое. Старик и мальчик сдвинули свои постели, теперь после смерти старушек, ставшие плотнее и сверху и снизу, и целые дни они теперь проводили рядом. Если не дремали, то старик продолжал свои рассказы о бытие их родной деревни, о своей нелегкой жизни, о достойных упоминания событиях, которым Аллах соблаговолил сделать его свидетелем. Он продолжал рассказывать мальчику об обычаях, которые соблюдали его родители и деды, о нормах морали, обязательных для мусульманина. И еще Мурат-эмдже обучал Февзи молитвам.
Был конец января, еда еще у них была, было и топливо. Но дед Мурат сильно простудился, наверное подхватил воспаление легких. Февзи ухаживал за старым своим дядей как опытный санитар. По ночам многократно повторяя молитвы, которым его обучил Мурат-эмдже, просил Аллаха сохранить старику жизнь. Глядя со стороны на мечущегося в бреду больного, мальчик плакал, понимая, что теряет единственную оставшуюся ему от прошлой жизни родную душу. Мурат-эмдже скончался на третий день и почти сутки Февзи читал над телом старика молитвы. Опустив эмдже в могилу, он долго дробил мерзлые комки земли, чтобы не обидеть бесчувственное тело тяжелыми ударами холодных глыб. Когда возник земляной холмик на последней из четырех вырытых им в чужой земле могил, обессиленный ребенок едва дошел до нар, не разжигая костра упал на постель и забылся тяжелым сном. Проснулся он ночью от жуткого холода. В нем было достаточно жизненных сил, и волей Аллаха он должен был выжить, должен был выполнить завет старейшины своего рода Мурата, должен был нести сообщение о своем жизненном опыте, о последних днях жизни своих близких следующим поколениям. Он заставил себя подняться, раздул огонь и скоро в бараке уже пылал жаркий костер. В ночи мальчик вскипятил воду в титане, напился горячего "чаю", пожевал зерен. Сидя у огня, он обдумывал свои дальнейшие действия и принял решение остаться в бараке еще на несколько дней, а потом отправиться к людям. Он в колхозной деревне в Крыму не знал легкого бытия и за свою короткую жизнь мало видел хорошего, но он жаждал его. Во всем он всегда надеялся только на свои силы и был готов найти то, что имели другие, но о чем он только мечтал. А для этого надо было продолжать жить.
Следующие дни он прилаживал для себя имеющуюся в бараке обувь, подобрал из женских кофт подходящее для холодной зимы одеяние, скатал в узел пару более или менее целых одеял. Настал день, когда Февзи решил идти на центральную усадьбу совхоза. Он надел на ноги несколько пар нашедшихся чулок и затискал ноги в старые женские туфли, от которых оторвал предварительно каблуки. Потом он натянул на себя несколько слоев драных кофт, обвязал уши сложенным на узбекский манер платком и, полностью экипировавшись, присел ненадолго на опустевшую теперь лежанку. Ему хватило минуты, чтобы припомнить все события, происшедшие здесь с того дня, как он и его соплеменники вошли под эту крышу. Глубоко вздохнув, он громко произнес “Бисмилля!” и встал.
Выйдя из барака, мальчик плотно прикрыл за собой дверь, и твердым шагом, не оглядываясь назад, выбрался на заснеженную дорогу.
Глава 18
Стоял солнечный октябрь сорок четвертого года Лесник, живущий в хижине на горе Ай-Петри, оседлав старого сивого мерина, отправился в обход своего обширного хозяйства. Солнце еще не взошло, и в предрассветных потемках иной всадник не решился бы пуститься в путь по каменистым тропам над осыпями и скалистыми кручами. Но конь Лесника ходил по этим камням еще жеребенком, знал здесь каждый склон, каждый обрыв, и поэтому его хозяин отпустил поводья, не навязывая умному животному свое человеческое несовершенство.
Ночь была прохладной, но на Леснике была теплая кожаная куртка, привезенная ему еще перед войной сыном летчиком, от которого уже более трех лет не было никаких вестей. Лесник был вдов, других детей Бог ему не дал, и внуков не было, ибо сын не успел жениться. Дальние родственники проживали когда-то на Новгородчине, теперь и с ними связь была потеряна.
Старый Лесник поежился и застегнул молнию на куртке. Куртка была почти новая, за эти годы она хорошо сохранилась, потому что во время оккупации Лесник не надевал ее, опасаясь, что немцы распознают в ней летную форму.
Верный товарищ старый конь шел неспешно. Невидимая в темноте тропа уже давно спустилась вниз, не доходя до водопада повернула назад, и теперь вела на запад. Вскоре небо над головой посветлело, побелели высоко нависшие скалы. Но на тропе, пролегающей в густом лесу, еще царила темень. И только когда неторопливый всадник уже миновал горный кряж над Алупкой, сквозь заросли пробились первые солнечные лучи. Теперь Лесник намеревался спуститься на пролегающую внизу грунтовую дорогу и по ней возвратиться назад к водопаду.
Сивый мерин знал маршрут обхода лесных угодий получше даже своего хозяина. Сойдя у не замеченного Лесником приземистого черного камня с тропы, он, без указаний со стороны седока, стал осторожно спускаться по некрутому здесь склону вниз, на дорогу. Обогнув небольшую рощицу, конь оказался на неширокой грунтовке, на которой нынче две телеги с трудом могли бы разъехаться. Здесь конь остановился, ожидая от седока команды. Лесник чуть дернул левый повод, и конь рысью, чтобы немного размяться, пошел в направлении, как он знал, дома.
Сквозь редкие просветы справа порой проникали лучи солнца и ярко вспыхивала зеленым пламенем не стоптанная трава, которой стала зарастать дорога обезлюдевших крымских гор. Когда впереди завиднелись заросли дикой груши, конь вдруг стал проявлять беспокойство. Лесник подумал, что его мерин почуял присутствие других лошадей, но тот не фыркал, не ржал, как бывает в этих случаях. Конь издавал низкие грудные звуки, и вдруг застыв на секунду, медленно, стараясь не создавать шума, спустился без приказа седока с дороги и притиснулся к деревьям, как бы желая укрыться.
- Что такое, дружище, чего испугался? – громко произнес несколько удивленный всадник.
В ответ конь задрожал всем телом, не произведя, однако, ни звука, и замер неподвижно. Лесник понял, что и ему следует умолкнуть и замереть. Чуткое животное стояло неподвижно, повернув голову назад, в ту сторону, где горная дорога выворачивала из-за недалекого поросшего лесом склона. И Лесник, почему-то исполнившись невнятной тревоги, направил настороженный взгляд туда же. Над склоном появился неяркий голубоватый свет, и вдруг из-за поворота на дорогу выбежали…. О, небеса! Это были кони, но не обычные, а прозрачные, с красными глазами, страшные… Лесник не успел ущипнуть себя, как четверка призрачных коней пронеслась уже мимо, оставив за собой потрескивающее, быстро гаснущее голубое свечение. Тут Лесник все же ущипнул себя, но не проснулся, ибо не спящий проснуться может только в ином мире. Конь все еще стоял недвижно. Человек, как ему казалось, быстрее животного обрел самообладание. Он погладил своего надежного друга по шее и ласково вымолвил:
- Ну, Сивка, успокойся. Сейчас обдумаем ситуацию…
Но конь стоял неподвижно, все так же повернув морду к заслоняющему дорогу склону.
- Что, еще кто-то там есть? – тихо спросил всадник.
И, действительно, из-за поворота появилась еще одна пара фантомов. На сей раз рядом с прозрачной сине-голубой кобылой скакал такой же, но еще более прозрачный жеребенок. Они, несомненно, стремились догнать быстро промчавшуюся четверку, но жеребенок был слаб, и кобыла придерживала свой бег, чтобы малыш не отстал. Несмотря на обуявший Лесника ужас, он успел подумать о странности того, что у кобылы такой поздний приплод…. Но разве в этом была странность?
Когда эта пара тоже скрылась за леском, Сивка тряхнул головой, как бы отгоняя наваждение, и пошевелился, но не выходил на дорогу. Так они простояли минут пять. Человек был напуган и не торопил своего коня. Чтобы иметь хоть какое-то свидетельство о происшедшем, он сломал небольшую ветку и спрятал ее за пазухой. Наконец, конь глубоко вздохнул, вышел, осторожно ступая, из-за деревьев и остановился на обочине. Лесник немного подумал, и направил Сивку в ту сторону, откуда примчались кони-призраки. Этим выбором, казалось, был доволен и конь. Там, как было ведомо Леснику и его четвероногому другу, простиралось открытое на море плоскогорье, которое сейчас уже было залито светом, поэтому там вряд ли могли еще оставаться эти прежде невиданные в крымских горах призрачные существа.
Сивка шел быстрой рысью, пока не выбрался на светлую солнечную дорогу. Здесь всадник попридержал коня, да тот и сам уже не торопился.
Слева открывался великолепный вид на море, над которым висели округлые белые облака. Лесник вдруг обратил внимание на слетающихся к обрыву ворон и других крупных птиц. Он спешился, и, не отпуская узды, заглянул в пропасть. Там лежали два лошадиных трупа, один большой, другой маленький. Видно, лошади сорвались туда недавно, потому что птицы еще не уселись на неподвижные туши несчастных животных. Лесник огляделся, и, похоже, понял, что произошло здесь не более часа назад. Крутой обрыв подобрался здесь к самой дороге в том ее месте, где она разворачивалась почти под прямым углом. Неопытный жеребенок промчался, по-видимому, сверху к самому краю пропасти и не успел затормозить, мать же бросилась за ним, пытаясь спасти свое дитя…
Но существенным было то, что Лесника озарила догадка о происхождении прозрачно-голубой пары, догонявшей умчавшихся вперед таких же прозрачно-голубых призраков. «Это погибшие кони превращаются в призрачных существ! Они - порождения беды, которая обрушилась на Полуостров…», - подумал он, содрогнувшись от прошедшей с головы до ног волны холода.
То, что случилось в Крыму, не вмещалось в понимание простого человека. «Русская держава добилась освобождения исконно русского Крыма от азиатских оккупантов. Татары испоганили наш дивный Крым. Их козы уничтожили всю растительность на склонах, и потому не стало в горах воды», - говорил лектор в здании школы в деревне Коккоз, выступая перед новыми ее жителями, переселенными сюда из глубинных земель России. Лесник где-то в августе случайно оказался в Коккозе, и милиционеры, в большом количестве приехавшие вместе с лектором, чуть ли не силой заставили его зайти в школу, перед этим долго выясняя, кто такой и откуда. Вышел Лесник на улицу растерянный и подавленный. Нет, не от того, что ему открылась ужасная правда о татарах, пособниках мировой контрреволюции, а от того, что такого циничного оправдания злодейства, как услышанное им, он не ожидал. «Татары опоганили Крым… Из-за них исчезла вода…» – это надо же придумать такое! Лесник знал все родники в округе, и каждый родник здесь имел татарское название, как имели татарские названия каждая заметная скала, каждое ущелье – дере. А этим летом воды в родниках, действительно, не стало.
Лесник прошел по Коккозу. Вот дом его давнишнего приятеля Мустафы. Во дворе матерится какой-то неопрятного вида мужик, огородные грядки пусты, сад бесплоден. Вот колхозные виноградники – лоза суха и худородна. Большая смоковница, гордость татарина Селима, безлистна и черна, - будто проклята пророком.
В то лето и в горах не уродились ни кизил, ни фундук, ни груша, - и так продолжалось три года…
Дружил Лесник с ялтинцем Энвером, потомственным виноградарем, с которым еще в двадцатых годах познакомился на курсах по садоводству. В зимнюю пору, когда спускаться вниз было опасно, они обменивались письмами, которые шли окружным путем, через столичный Симферополь. Теперь Лесник надеялся, что Энвер пришлет ему письмо из тех краев, в которые его заслали. А ведь никто так и не знал, куда отправили татар, даже были такие, кто уверял, что их всех до единого расстреляли, как немцы расстреливали евреев. Вот и осень пришла, а вестей от Энвера все не было.
Не знал Лесник, что друг его Энвер еще летом умер в Голодной Степи, в совхозном бараке …
Лесник, родившийся еще в конце прошлого века, не был верующим в полном смысле этого понятия, но был крещен и был знаком с основами христианской нравственности. И он был умен и достаточно образован, чтобы не стать жертвой прежней, довоенной пропаганды, и, тем более, нынешней мерзкой антитатарской истерии. То, что свершилось в Крыму, он расценивал с правовой позиции преступлением, а с точки зрения человеческой морали – страшным грехом. Кто бы мог подумать, что можно весь народ целиком выслать с его родной земли. Весь народ! Такое зло не остается безнаказанным!
- Дочь Вавилона, опустошительница! Блажен, кто воздаст тебе за то, что ты сделала! – эти слова, когда-то затверженные на уроках закона Божьего, вертелись у него в мозгу весь день, после той страшной встречи на горной дороге. Появление потусторонних голубых призраков он расценивал как кару. Но боялся, что кара эта, - небесная ли, адская ли, - обрушится на безвинных соседей тех, кто был изгнан со своей отчей земли.
Лесник решил спуститься назавтра в город, пойти в церковь и встретиться со священником.
Было около двенадцати дня, когда Лесник вошел в церковь. Он не посещал храм Божий со времен своей юности, и сейчас несколько смущенно стоял в почти пустынной в этот час церкви. У входа торговала маленькими свечками из желтого воска неопределенного возраста женщина. Одна старушка в очках ставила свечу к иконе, другая быстрыми движениями осеняла себя крестным знамением у алтаря. Лесник решил спросить у торговки свечами, как увидеться со священником, но как раз в этот момент из дверей справа от алтаря вышел человек в длинной рясе и оглядел находящихся в церкви людей, остановив свой взгляд на посетителе в кожаной летной куртке.
- Батюшка, дозвольте поговорить с вами, - быстро подошел Лесник к священнику.
- Слушаю вас, сын мой, - отвечал священник, оказавшийся мужчиной примерно тех же лет, что и Лесник.
- Батюшка, не сочтите меня шизофреником, - начал Лесник. – Я вполне здоров и придерживаюсь очень трезвых взглядов на наше мироздание. Но вчера я встретился с явлением, которое не укладывается в мои представления о сущем. Скажу без долгих предисловий: вчера в горах я встретил табун коней-призраков, прозрачных, сине-голубых. Поверьте, я отдаю себе отчет в необычности этого утверждения, но прошу вас не сомневаться в достоверности сказанного мной. Голубые призрачные кони пронеслись мимо меня почти беззвучно, оставляя на траве и в воздухе недолгое свечение. Батюшка, мне не с кем больше обсудить этот факт, только с вами.
Священник на какую-то пару секунд вперил резкий недобрый взгляд на говорившего, потом взгляд его смягчился, и под конец можно было заметить в нем некоторую растерянность. Когда Лесник кратко рассказал о встрече на горной дороге, рассказал и замолчал в ожидании, священник принял суровый недовольный вид и назидательно произнес:
- Церковь не признает подобных суеверий. В этих святых стенах неуместно вести разговор о привидениях. Молитесь…- он повернулся и пошел к алтарю, где стал класть поклоны и осенять себя крестом.
- Суеверия… Да, как же, - тоже недовольно пробурчал Лесник и вышел из церкви.
Что предпринять, с кем посоветоваться? Желая поговорить о голубых конях со священнослужителем, он с самого начала понимал, что проблема решения не имеет. Но нести в одиночестве это ужасное знание о страшных фантомах было тяжко и, как Лесник понимал, чревато для психики. И опять завертелось в мозгу: «Дочь Вавилона, опустошительница! Блажен, кто воздаст тебе за то, что ты сделала!».
Вдруг Лесник услышал за собой шаги, и голос священника окликнул его:
- Помедлите, сын мой!
Лесник ждал, пока священник не поравняется с ним. Какое-то время двое мужчин шли молча по устилающим растрескавшийся асфальт тротуара палым листьям.
- У алтаря я не мог позволить себе говорить о привидениях, противных Господу, - начал священник. – Вы не первый, пришедший ко мне с этой вестью. Двоих мальчишек привела еще летом старушка. Потом был еще один парнишка. Я не верил, я надеялся, что это пустые россказни. Но вот теперь я получил свидетельство зрелого и ответственного человека. Я вынужден допустить существование этих призраков. Как они выглядят, эти фантомы?
Лесник описал, как мог, голубых монстров, рассказал о погибшей кобыле с жеребенком. Священник слушал и сокрушенно кивал головой.
- Что вы думаете о причине этого явления? Может быть это проклятие татар, высланных из Крыма? – спросил лесник.
Священник задумался, и вновь между неторопливо идущими мужчинами возникло молчание.
- Проклятия, исходящие от человека, не действенны, - произнес, наконец, служитель религии. - Но мощный отрицательный эргрегор, порожденный внезапным ужасом, обрушившимся на сотни тысяч душ – это большая сила. Она может возбудить неведомые могущества…
Опять наступило обоюдное молчание, которое прервал Лесник:
- Да… И сама крымская земля не могла не ощутить исчезновение своего народа. Нынче летом не родили ни огороды, ни сады, ни леса. И кладбища мусульманские возбуждены, должно быть. Ведь некому на них произнести молитву.
Священник бросил быстрый взгляд на попутчика. «Сказать или нет?», подумал он. Потом все же произнес:
- Кладбища татарские велено уничтожить, сравнять с землей. Из могильных камней уже строят коровники и свинарники.
- Не может быть! – воскликнул Лесник, на что священник только горестно закивал головой.
- Церковь отвергает мистику, - произнес через некоторое время священник, - но я, грешный, допускаю, что живые корни, невидимые человеку, есть не только у деревьев. Если выкорчевать деревья на горном склоне, то склон осыпается…
Когда двое объятых горестной тревогой мужчин распрощались, Лесник пошел вниз к морю. Он шел и думал над словами священника, думал о том, что народы прорастают невидимыми корнями в родную землю, о том, что кладбища – это не только захоронения лишенных душ тел.
Лесник был достаточно образованным человеком, только ему самому были ведомы те пути, которые привели его в хижину в крымских горах. Он, размышляя и сопоставляя, вспомнил о таинственных и недобрых силах, скрытых на индейских кладбищах Северной Америки, о дорогах этого континента, и по сегодня вдруг уводящих потомков завоевателей в искривленные миры. А ведь предки нынешних индейцев появились на континенте только двадцать тысяч лет назад! Корни же народа, нынче именуемого по имени их ханов «татарами», уходят в те невообразимо далекие времена, от которых остались только могилы со срубами, - так и сейчас, кстати, хоронят крымские татары своих покойников. Гораздо позже народ этот получил от начавших посещать берега полуострова эллинов имя «тавров». К стволу этого этноса прививались в последующие века множество разных пришельцев. Последний вал пришельцев, появившихся на Полуострове в те времена, когда его народ уже называли татарами, не смешался с аборигенами, но жил с ними в дружбе, несмотря на побуждения со стороны властей к насаждению татарофобии. И вот власти вырвали с корнями древний этнос из его родной почвы.
- Что же теперь будет? - думал Лесник. Глубоко потрясенный злодейством властей, он только теперь, после встречи с фантомами татарских коней, задумался о запредельных последствиях этого противного человеческим и божеским законам акта. Обстоятельства, сложившиеся в Крыму, могут стать чреватыми последствиями, которые будут гибельней тех, которые возникли в Северной Америке. Там народ остается жить на своем континенте, оказавшись только потесненным. В Крыму бунт оскорбленной земли может оказаться ужасней. Только одно может смягчить ситуацию, это то, что крымские татары – народ Книги, верующие в Бога Единого. Аллах не допустит, чтобы за обиду, нанесенную народу, уверовавшему в Его последнего пророка, пострадают те иноплеменные, кто остался жить в Крыму, но ни сном, ни духом не причастен к злодейскому деянию властей. Но гнев Матери-земли велик! Только сам народ, вернувшийся на Полуостров, сможет умилостивить крымскую землю, горы, воды …
Лесник шел по набережной, пустынной в этот солнечный октябрьский полдень. У старой гостиницы, балконы которой почти нависли над галечным пляжем, на иссохшем газоне под пальмой сидели прямо на пожухлой траве несколько молодых мужчин и распивали жидкость из большой бутыли, уснащая дружескую беседу густым матом. Рядом, под соседней пальмой, разлеглись на остатках клумбы с бархатцами их жены, и детишки резвились тут же. «На воскресный пикник выбрались», - понял Лесник, узнав в этих непривычных для Крыма людях переселенцев, которых становилось здесь все больше. Лесник вспомнил, как однажды во время оккупации он проходил здесь же, как нагло тарахтел мотоцикл, выделывающий на набережной кренделя, как с пьяным хохотом вывалились из дверей офицерского казино немцы в черных мундирах, как в пьяном кураже начали палить из пистолетов по пробегавшей вдоль набережной собаке. Нет, уж лучше хмельной русский мат…. А еще лучше – поскорее убраться отсюда к себе в горы! И Лесник повернул в боковую улочку.
Глава 19
Я уже знал, что в нашем мире происходят порой странные вещи.
В году, наверное, сорок пятом, когда я жил уже сытой, хотя и убогой жизнью изгоя, меня стал посещать необычный повторяющийся сон.
К тому времени я обзавелся огородом, где у меня зрели разные овощи, поднимались стебли кукурузы и джугары. В курятнике у меня было десятка два кур, завел я и кроликов, которые, однако, вырыв длинные норы, ушли из сооруженного загончика, и только изредка появлялись все же, чтобы пожевать подбрасываемый мной свежий клевер.
Земляки мои, изгои, строили дома из высушенных на солнце кирпичей, которые по примеру азиатских аборигенов формировали из глины, густо замешанной на мелкой соломе. Эту глину забивали в деревянный короб, состоящий из двух отделений, каждое размером в стандартный кирпич. Тут же отформированные глиняные брикеты вываливали на разровненную площадку, где под жарким солнцем уже за неделю созревал кирпич, который и сырцовым называть было совестно – по крепости он мало уступал обожженному в печи. Строившиеся дома считались временными по причине того, что все изгои только и жили мыслью поскорее вернуться на свой Полуостров.
Я по малости своих лет, которых тогда мне было двенадцать, а также из-за невозможности рассчитывать на помощь родителей, типичных интеллигентов-белоручек, не мог построить дом для семьи, что не способствовало упрочению моей самооценки, а, следовательно, и довольству собой. Вот тогда и стал приходить ко мне несколько раз в месяц странный сон. Будто брожу я по зеленому склону горки, располагавшейся за нашим многоэтажным домом. Брожу один, и неизвестно где все мои друзья-приятели, которые всегда шумно играли "на горке за домом". Грустный от одиночества я поднимаюсь в свою квартиру. Войдя в комнату, я вдруг вижу на белой стене огромную, в четверть стены птицу с ярко раскрашенными во все цвета радуги перьями. Птица каким-то образом держится лапами за стену, крылья распластаны, пушистые разноцветные перья длинного красивого хвоста колышутся как будто от ветра. Голова птица повернута, взгляд устремлен на меня. Птица прекрасна и не агрессивна, но я кричу от ужаса и просыпаюсь.
Этот сон снился мне на протяжении пятнадцати лет, я привык к нему, как привыкают к виду за окном. И даже пропал охватывающий меня в конце этого сна ужас, хотя я все же просыпался. Необычный, никак не связанный с реально произошедшими в жизни событиями сон. Он начисто исчез после того дня, когда я однажды пришел на "горку за домом" моих ребячьих игр. Я тогда стоял у забора, и незнакомые мне прежде рыдания вырывались из моего горла, и шли они из всего моего нутра, будто бы все страдания того маленького ребенка, которого вывозили отсюда солдаты с автоматами пятнадцать лет назад, все пережитое за годы изгнания горе, все обиды и вся ненависть исходили оттуда, чтобы остаться только в памяти. Я помню, что слез на моих глазах в те минуты не было, только какой-то птичий клекот вырывался из моего человеческого горла. Но с того дня я приобрел какую-то легкость в груди, которой, оказывается, я был лишен, исчезла в моем мировосприятии некое отношение к происходящему как к наблюдаемому со стороны.
Существуют странные связи между светом, тьмой и жизнью человека. Что за птица мне снилась столько лет подряд? Я, сколько не раздумывал, так и не мог этого понять.
Глава 20
Загадочное название - «Чинабад». Его можно перевести как "Истинный город". "Чинми?" - спрашивают одни тюркоязычные. "Чин, чин!" - уверенно отвечают им другие тюркоязычные. А можно перевести это название как "Китай-город", ибо "Чин" - это по-тюркски еще означает и "Китай". Возможно, что происхождение наименования этого нынешнего районного центра в бывшем Кокандском ханстве и вовсе иное. Несомненно только, что поселение это древнее. Расположено оно километрах в двух от довольно серьезной реки Кара-дарьи, что означает "Черная река". Я думаю, что в этом названии реки нет ничего загадочного, ибо воды ее по весне несут так много примесей, что цвет их если и не черный, то уж точно коричнево-серый. Если набрать воду Кара-дарьи в стакан, то после отстаивания илистый осадок составит никак не меньше четверти стакана. Воды Кара-дарьи только в конце лета очищаются. Но тогда она уже не бурная и не пугает новичка своими водоворотами. В августе она прозрачна, будто Салгир или какая-нибудь речка на Рязанщине. Но и тогда желающему переплыть на противоположный берег надо преодолеть саженками или брассом метров двадцать по прямой, а учитывая, что и в это время течение здесь довольно сильное, то проплыть надобно и все тридцать метров. Но мальчишки переплывали Кара-дарью в мае, когда ширина ее в облюбованном месте была метров сто, не меньше. Чтобы течением не отнесло к далекому крутому берегу противоположной стороны надо было держать курс под углом примерно градусов в сорок пять против течения. Тогда, если работать руками без отдыха, окажешься на противоположном берегу как раз напротив того места, откуда начинал заплыв.
Когда Камилл решился на этот серьезный заплыв в первый раз, то где-то на середине реки от страха, что его затягивает водоворот, он чуть не оказался в этот водоворот действительно затянутым. Спас его дружок Шуран, брат Митьки. Шуран сперва кричал " Бей ногами! Бей ногами!", а потом вошел в водоворот, и сам бия ногами вытащил Камилла из воронки. После этого случая Камилл раза два еще переплывал Черную реку рядом с Шураном, преодолевая страх, а потом уже сам в одиночку входил в эти очень непрозрачные воды. Надо знать, что умеющий хоть немного плавать, может утонуть только в пароксизме страха, ибо у человека положительная плавучесть, так что если не терять присутствия духа, можно проплыть очень много, и вырваться из водоворота можно самостоятельно, если, конечно, это не какой-нибудь ужасный Мальстрем.
Так вот, Чинабад стоял на Кара-дарье. В излучине вверх по течению, где даже безответственные мальчишки не рисковали купаться в самую благоприятную пору, по уверениям аборигенов обитал до недавнего времени Адждага - дракон. Уже два десятка лет его не видели, но и поднесь ни на правом, ни на левом берегах вблизи излучины реки узбеки не пасли скот, не заводили огородов. Мальчишки во время спада реки, когда воды становились прозрачными, с опаской подходили к крутому обрыву и заглядывали в обширную заводь. Но, должно быть, до дна здесь было много метров, и солнечные лучи затухали в зеленой глуби, в которой ничего нельзя было разглядеть. А какие страшные водяные круговерти возникали на этом повороте реки в весенние месяцы!
Кроме Кара-дарьи здесь протекала еще одна речка. Она была спокойна во все сезоны, вода в ней была прозрачна, и вытекала она, по-видимому, из одного из озер, которых было немало в округе. Название этой реки было «заур». В ее водах ребята ловили рыбу, однако, купаться в ней не было принято, из-за холодной даже в летний зной воды. Кроме того, вода в ней была непригодна для питья: она была "шор" - соленая. Камилл пробовал эту воду не раз. Солености, как в морской воде, конечно, в ней не было, но была она, действительно, невкусной, - то ли щелочной, то ли, действительно, содержала какие-то другие соли. Сейчас, я думаю, гидрологи уже изучили этот феномен.
Но жизнь в Чинабаде поддерживала не Кара-дарья, не этот странный заур, воду из которого нельзя было пить, а два знаменитых арыка - небольших речек с искусственным ложем. Неизвестно, когда и кем были прорыты эти арыки, мне неведомо также, откуда в них поступала вода - очень вероятно, что ее где-то поднимали запрудой из той же Кара-дарьи. Как и Черная река, они были полноводны и мутны в первой половине лета, и становились прозрачными осенью. Тот из арыков, который проходил по окраине Китай-города (или как там его именовать), носил название Аман-арык, другой же, протекавший примерно в километре от поселка, имел название Кош-арык. Были они шириной в два-три метра, глубина же их была изменчива: в большей части русла она достигала в пору полноводья одного метра, а в ямах перед запрудами была метра два. Поздней осенью или зимой вода в них истощалась, ее не оставалось и в ямах. Тогда ребята, друзья Камилла, а было им лет по двенадцать-четырнадцать, брали ведра и отправлялись по воду на Кара-дарью...
Если уж речь пошла о, так сказать, акваториях Чинабада и округи, то нужно, безусловно, упомянуть о хаузе. Это был небольшой пруд, небольшое водохранилище, размером примерно пятнадцать на пятнадцать метров. Над хаузом в тени больших чинар стояла главная чинабадская чайхана. Старый чайханщик, к был другом Камилла, но еще большим другом он был для его маленького братишки, который каждый день, как только оставался без присмотра, притопывал сюда, где его любили и угощали конфетами все завсегдатаи чайханы. Вода в хаузе всегда была прозрачная, значит, она не поступала сюда из арыка. Но зимой вода в этом хаузе полностью иссякала - может ли такое быть, если хауз питали подземные источники? Осенью в прозрачных глубинах хауза можно было простым глазом увидеть больших и малых извивающихся нематод. Воду из хауза узбеки пили только после кипячения, в то время, как проточную арычную воду здесь пили и сырой, но только после отстаивания в больших керамических кувшинах, когда она становилась прозрачной, будто вода из московского водопровода. Никого не беспокоило то обстоятельство, что метрах в десяти какая-нибудь местная красавица смывала со своих длинных волос катык - простоквашу, от катыка, считалось, волосы лучше растут. Стирать в арыках было не принято, но по утрам именно у арыка большинство населения совершало свой туалет, - хорошо, что по тем временам мылом пользовались только в бане.
Еще одна тайна была у славного "города Чинабада". Через хлопковые поля, через нераспаханные земли (в те годы еще были такие земли) проходила непрерывающаяся насыпь, которую узбеки называли "поезд йолу", иначе говоря - "дорога для поезда". Кто и когда проложил здесь железную дорогу, функционировала ли она или так и осталась недостроенной - Камилл не мог выяснить ни тогда, ни потом, когда уже был студентом университета. В доступной литературе упоминания о железной дороге в этом регионе он не мог обнаружить...
Древняя земля Ферганской долины издревле населена людьми, каждое поселение этого благодатного края, богатого солнцем, водой, плодородными почвами, хранит множество неразгаданных тайн. Счастливы люди, которым судьбой предназначено было родиться и жить здесь. Но для нас, насильно привезенных сюда из совсем иного мира, из омываемого морями полуострова, где наши корни и где нас ждут горы, степи, воды, деревья, цветы - для нас этот чужой край был тюрьмой. Но надо было жить. И мы, выжившие в сорок четвертом и сорок пятом, жили. Сильные подчиняли себе обстоятельства, вступали в борьбу за достоинство нации, и погибая физически торжествовали духовно. Слабых река времени затаскивала в омуты духовного оскудения, в водовороты цинизма, где торгуют совестью и достоинством. И кто чего стоит, кем потомки будут гордиться, а кого будут стыдиться - определялось в эти годы.
Со временем стало казаться удивительным, как это советские и партийные руководители Чинабада могли работать без камилловского отца. Ни один мало-мальски важный документ не мог быть составлен без его участия, ни одно обсуждение поступающих сверху директив не проходило без исчерпывающих разъяснений Домуллы. Дело было в первую очередь в том, что знания русского языка местных выдвиженцев хватало только на произнесение приветствия вдруг посетившим район представителям Центра или на отказ в просьбе русскоязычному просителю. А значительная часть поступающих директив, постановлений, указаний была на русском языке, точнее - на бюрократическом диалекте русского языка. Прежде вопрос об адекватной реакции или полном ответе на поступивший документ вообще не стоял, ограничивались стандартными обтекаемыми отписками (речь не идет о приказах провести очередную акцию против каких-либо социальных слоев или о реквизиции коров или кур за недоимки - такие важные документы переводились на узбекский язык в Центральном Комитете, в Ташкенте, а, возможно, и в самой Москве). Такая реакция районных учреждений была обычной, хотя районных руководителей на совещаниях в области привычно ругали за бессмысленные ответы. Но поскольку и сами эти циркуляры или постановления имели мало практического смысла, особенно, если речь шла об идеологических мероприятиях, то привычной руганью и ограничивались. Теперь же имея в своем распоряжении изощренного толкователя советского инояза, районное руководство имело шанс быть замеченным, отмеченным и поощренным. Так оно и произошло. Правда областное начальство с усмешкой интересовалось, кого, мол, вы там нашли такого, шибко грамотного?
- Не-ет! Мы сами! - ответствовало чинабадское начальство, и на этом разговор заканчивался. Однако, на совещаниях район отмечали и ставили в пример другим.
Надо сказать, что поступающая из области или из республиканского центра почта на узбекском языке тоже не вполне была доступна пониманию малообразованных советских и партийных выдвиженцев районного масштаба. А если документ и был понят, то составление внятного ответа оказывалось не под силу районному чиновнику. А профессор Афуз-заде, после чудесного освобождения из-под первого ареста во время войны, года два проработал в городе Фергане в газете - действовал тот же синдром дефицита в грамотных людях. Так что его знания узбекского языка явно превосходили требования к районным чиновникам. Короче говоря, будучи репрессированным спецпереселенцем, не будучи членом партии отец Камилла одним из первых знакомился почти со всеми поступающими по спецпочте документами. Он мог находиться в кабинете председателя райисполкома, когда его срочно требовал к себе первый секретарь райкома, получивший бумагу, на которую срочно надо было составить ответ. Также звонок от председателя исполкома в райком партии мог вежливо попросить секретаря прислать Домуллу не на долго в исполком. Благо, что парадные подъезды зданий райкома и райисполкома разделяло несколько шагов.
Районные руководители уже не могли расточительно относиться ко времени Домуллы. Номинально Афуз-заде оставался начальником над всеми чинабадскими мельницами, но уже в инспекционные поездки по району ему ездить не приходилось - для этого, как я уже упоминал, был назначен другой работник. Это обстоятельство огорчало, по-видимому, Камилла и мельников. Мельников по той причине, что сам Домулла не облагал их поборами в свою личную пользу (пуд пшенички, доставляемой домой к Главному мельнику не в счет - это было необременительной мелочью, да и репрессивных мер в случае недоставки этот добрый Домулла не принимал). Камилл же, обычно сопровождавший папу в этих поездках, был лишен интереснейшего времяпрепровождения. Бывало, на двух лошадях (для Камилла из районной конюшни приводили меланхоличную клячу) они скакали с папой по неразбитому, как ныне автомашинами, мягкому травяному покрытию чинабадских дорог. В районе было около двух десятков мельниц. Задачей инспекторских поездок было напоминание о том, что начальство бдит и, главным образом, напоминание о грядущем наказании тем мельникам, которые не во время платили налог. За помол с клиентов мельник брал десятину, и сколько-то с этого надо было платить в казну. Но самой тяжелой частью поборов была та, которую надо было платить начальству разного уровня. Председателю колхоза надо было отдавать долю за то, чтобы он не предложил районному начальству заменить мельника, районному начальству подносить в деньгах за то, чтобы оно по своей инициативе не произвело такую же замену. Ну, еще инспектору по мельницам за то, чтобы он был доволен и не давал начальству отрицательную информацию, - такая информация обошлась бы мельнику в солидную добавку к той сумме, которую он передавал этому начальству. Делалось это так: когда мельник привозил на заготовительный пункт зерно или муку, то приемщик не имел права принять этот товар без резолюции начальника - уполномоченного Министерства Заготовок. При беседе мельник и передавал денежки, за что получал нагоняй (обязательно!) и резолюцию на бланке сдачи. Как я уже упоминал, "уполминзаг" Усманов понял, что Домулла - человек из другого мира. Поэтому, выполняя указание председателя райисполкома, Усманов совершил первую поездку по мельницам вместе с Главным мельником, и приказал из ближних мельниц ежемесячно доставлять к новому начальнику на дом пуд пшеницы. Это указание выполнялось, поэтому в доме у Камилла всегда было мешка два зерна - куда оно уходило я расскажу чуть позже.
Отец нашего молодого героя, непосредственный начальник над мельниками, мог сильно обогатиться - на это и рассчитывал Написов, председатель райисполкома, потрясенный бедственным положением "человека из энциклопедии" - когда сам сыт, то иногда хочется помочь и другому, если, конечно, твой карман от этого не пострадает. Дело в том, что учета числа клиентов мельниц не велось. Норма сдачи зерна государству рассчитывалась по некоторой средней производительности жерновов. Ничто не мешало мельнику занижать в отчетах количество смолотого зерна раза в два-три относительно реального. Собственно говоря, по умению убедительно занизить этот показатель и ценило начальство мельника. Но каждый мельник, не будь дураком, знал, как увеличить суточный помол выше того уровня, о котором было уведомлено начальство. И начальство знало, что мельник не дурак, и что он имеет избыток больший, чем тот, от которого он платит ординарную мзду. Этот избыток от избытка был неуловим, но именно он позволял начальству держать мельника за горло и время от времени угрозами лишить места иметь экстраординарную мзду. На узком пространстве между ординарным и экстраординарным ловкий инспектор мог получать от мельника свою долю прибытка, указав тому на большое число людей, ожидающих очереди помолоть зерно, на хорошо наполненные водой желоба и хорошую скорость вращения мельничного колеса. Папа Камилла этого делать не умел, за что он и был сердечно любим всеми мельниками Чинабадского района. Но один раз он прибег к самому суровому наказанию - забрал и унес с собой главную деталь, без которой жернова не могут крутиться. Эта деталь называется "бака", что переводиться как "жаба", и представляет собой плоский стальной ромб весом килограмма в полтора-два. Эта "жаба " вставляется в строго совпадающую с ее формой выемку в каменном жернове и имеет в своем центре отверстие, в которое входит вращающийся вал. Именно посредством "бака" приводится во вращение тяжелый жернов. Почему мельники не имеют запасную "бака", я не знаю, но без "бака" мельница стоит и каждый час простоя несет невыносимые для сердца мельника убытки, поэтому он уже с утра ожидает в конторе уполминзага, готовый на любые условия. Я очень подозреваю, что в тот раз папа нашего героя забрал "бака", чтобы показать эту экзотическую ситуацию Камиллу: то, чего он не сделал бы ради получения выгоды, он сделал бы для наглядной демонстрации такой ситуации своему сыну - тому в жизни был не один пример.
Теперь Камиллу уже не приходилось вместе с отцом разъезжать по мельницам. Если отец и ехал в какой-нибудь дальний сельсовет, то по другим, более важным делам, как полномочный представитель высших руководителей района. Но такие отлучки отца были редки. Обычно он приходил домой вечером часов в пять, потом часам к восьми уходил опять. Все районные руководители должны были находиться на рабочих местах в ночное время, так как областные начальники сидели в своих кабинетах далеко за полночь, потому что республиканское начальство в эти же часы бодрствовало в своих ташкентских кабинетах, ибо во всех московских кабинетах высшие чиновники в любой момент могли получить срочное распоряжение из Кремля, где до поздней ночи работал сам товарищ Сталин. Вот такая карусель, из-за которой прежде свободный художник, а ныне Главный Помощник районного руководства Домулла Афуз-заде приходил домой спать далеко за полночь.
Несколько раз в месяц около домика, где проживала семья, останавливалась телега, и без лишних слов почтительный узбек заносил в дом мешок или полмешка пшеницы - дань от соседних мельниц. После того, как отец "пошел на повышение", зерно стало поступать даже с большей регулярностью, ибо теперь, в случае получения от сурового Камилла информации, что пшенички стало меньше, отцу надо было при встрече с "уполминзагом" только намекнуть на это обстоятельство, как в поставки сразу вносились необходимые поправки.
Только на одну мельницу Камилл продолжал ходить раз в месяц сам. Находилась она недалеко, в получасе ходьбы. Мельником там был атлетического сложения, рыжий, с короткими курчавыми волосами, голубоглазый еврей. Когда Камилл еще ходил к нему на мельницу с отцом, взрослые уединялись и подолгу беседовали, покуда Камилл изучал устройство мельницы. Мельник, которому было лет пятьдесят, называл папу просто по имени, папа же обращался к нему по имени и отчеству. Отчества Камилл не помнил, для него он был дядя Моисей. Судьба его была, видно, очень непроста. Похож он был на опытного хирурга или на университетского профессора.
Когда Камилл спросил у отца, как дядя Моисей оказался мельником, то отец коротко бросил:
- Сени ишинг дегиль (Это не твое дело), - и вопрос был исчерпан.
Но Камилл-то, сын политзаключенного и ныне сам спецпереселенец, был не лыком шит, он додумал, что дядя Моисей прячется здесь от НКВД. Конечно, от них так легко не спрячешься, и дело было, конечно, не в желании спрятаться от кого-то, а, как Камилл додумал уже гораздо позже, в добровольном отшельничестве. Тем более, что папа в разговоре с мамой упомянул, что дети и жена дяди Моисея погибли.
Рыжий мельник никогда не улыбался. В том, как он обращался к отцу, было много уважения и теплоты, но много было и суровой сдержанности.
У мельницы всегда было много людей, особенно осенью, когда крестьяне привозили зерно для помола со всей округи, даже из других районов, где природа не создала условия для строительства мельниц. Тут же сидели торговцы фруктами, рисом, хлопковым маслом. Обязательно были тут продавцы свежих лепешек, которые, однако, денег не брали, а брали пшеницей по весу лепешки. Однажды, когда дядя Моисей насыпал Камиллу в мешок ведро пшеницы, тот попрощавшись ушел и, решив поесть горячей лепешки, развязал мешок, собираясь обменять зерно на готовый хлеб. Мельник увидел эти его приготовления, зазвал в комнатку за жерновами и наказал никогда не менять зерно на хлеб, а если голоден, то сказать ему. Он принес той же горячей лепешки и еще пиалу с каймаком - вареными сливками. Камилл поел с удовольствием, и дядя Моисей, так и не улыбнувшись хотя бы чуть-чуть, еще раз повторил, что когда мальчик приходит на мельницу, то чего бы ему ни захотелось, он должен об этом сказать ему, дяде Моисею. В те времена семья Камилла уже была сыта, и по тем условиям благополучна. Камилл обычно ни о чем не просил мельника, но, бывая на мельнице, старался пробыть там подольше. Они с мельником пили чай, вели немногословные разговоры, но на губах у дяди Моисея ни разу не промелькнула даже тень улыбки, а голубые глаза под запорошенными мукой бровями глядели строго и проницательно.
Мельницы в Чинабадском районе ставили на небольших речках, под запрудами. Вода из запруды бежала вниз по длинному деревянному желобу, и ее энергии хватало на вращение тяжелого мельничного колеса. Колесо через посредство, как я уже говорил, "жабы" вращало в свою очередь жернов диаметром в один или полтора метра. Зерно падало в отверстие в центре жернова из прикрепленного над ним короба через узкий желобок, скорость подачи зерна регулировалась двумя палочками, связанными между собой веревочкой, - через эту систему осуществлялась обратная связь вращающегося жернова с коробом. Вот так все: палочка, веревочка, желоб, желобок, а работала мельница надежно и управлялась просто. Были мельницы с двумя жерновами и обычно на одном мололи пшеницу, а на другом ячмень. Или на одном твердую пшеницу, на другом мягкую, мука которой была второсортной, с малым количеством клейковины...
Камилл приспособился продавать пшеницу на местном базаре. Не знаю, какие такие гены пробудились в нем, в городском мальчишке из интеллигентной семьи, но торговцем он оказался крутым. Покупателями пшеницы были главным образом "нанвои" - продавцы лепешек-нанов. Купленную пшеницу они немедленно перемалывали в муку на маленькой домашней мельнице, жернов которой вращали руками. Килограмма три пшеницы на такой мельнице можно было смолоть за полчаса, тонкость помола зависела от скорости вращения и от скорости поступления зерна. Из твердой высококачественной пшеницы получали тонко смолотую белую муку, заквашенное тесто в тепле подходило за час, и еще через час нанвой выносил на базар горячие, пышные, ароматные наны, мимо которых только безденежный мог пройти и не купить.
Камилл выходил на базар, до которого от его дома было минут пять ходьбы, не спеша проходил по рядам. Если в продаже была хорошая пшеница, он возвращался домой, и продолжал заниматься своими делами. Если же любимой нанвоями твердой пшеницы не было, а ко второй половине дня пришлые продавцы, распродав свой товар, уезжали, он выносил свою пшеничку в небольшом мешочке, килограммов пять. Спокойно ставил мешочек на лавку, закатывал его края, чтобы было видно прекрасного янтарного цвета зерно. Цену он называл гораздо более высокую, чем у других торговцев, ибо знал, что поярившись на нахального мальчишку, которого нельзя уломать ни посулами, ни угрозами, кто-нибудь из навоев купит его янтарную пшеницу, ибо так или иначе лепешки из нее сулят ему хорошую прибыль. И в то время, как другие будут зазывать покупателей к своим лепешкам из серой муки, продавец золотистых нанов, посыпанных покрасневшими в печном жару кунжутными семенами, распродав одну корзину поспешит за другой, уже уставленной только что вынутыми из тандыра лепешками, местами мягкими, как волокно хлопка, местами хрустящими, как поджаренное крылышко цыпленка.
Не могу избежать искушения поведать не сведущему читателю процедуру приготовления великолепных узбекских лепешек, которые, несомненно, относятся к лучшим в мире хлебным изделиям. Когда тесто подойдет, хозяйка разворачивает стеганную ватную скатерть, насыпает муку и вываливает в нее тесто. Затем тесто нужно хорошо помять, и после этого от него отрезают или, обычно, откручивают руками кусочки, которые опять хорошенько месят. Потом расплющивают эти кусочки теста на скатерти и маленькой скалкой раскатывают в толстый блин. Середину этого блина утончают, проминая руками, а потом специальной деревянной толкушкой, торец которой утыкан металлическими гвоздиками, несколько раз бьют по этой серединке. Готовые лепешки укладывают на плоскую плетеную корзину и плотно укрывают полотенцем. К тому времени уже возведен огонь в земляной печи - тандыре. Представьте себе большой глиняный кувшин без дна, диаметром в пятьдесят - восемьдесят сантиметров. Его горизонтально устанавливают на кирпичной тумбе, плотно обмазывают глиной. Открытое дно "кувшина" закрыто обмазанными глиной кирпичами, широкое входное отверстие, как уже сказано, диаметром от полуметра, как большая буква "О" направлено прямо на вас (большие тандыры зарываются в землю вертикально и "О" смотрит в небо). Растапливается тандыр сухими ветками, гуза-паей (кустами хлопчатника). Огонь вырывается из "О" огромными красными платками, внутренняя поверхность тандыра оказывается вся в черной копоти. И вот когда копоть в большом жару сгорает, и тандыр изнутри становиться чистым и белым, угли приминают, слегка обрызгивают нагретую поверхность водой - и печь готова. Хозяйка надевает на руку большую стеганную ватную рукавицу, кладет на нее лицом вниз лепешку, смазывает ее спинку водой и, просунув руку в печь, прилепляет тесто к стенке. Средний домашний тандыр, а без него не бывает узбекского двора, вмещает полтора десятка лепешек. Готовность лепешек проверять не надо - испеченные наны падают сами, только успевай брать их с остывшей золы и, отряхнув, складывать в корзину.
Для Камилла операция продажи пшеницы была своеобразной игрой. Такой тип игры, может быть, помогает закалке характера. Но продавцы лепешек относились к забавам Камилла очень нервно - для них это был вопрос коммерческий. Дело в том, что хорошая твердая пшеница была редким товаром, у Камилла же она всегда была в достатке, так как, познав ее ценность, он требовал от поставщиков только ее - и это требование, подкрепленное через отца приказом по мельницам, неуклонно выполнялось.
Особенно страдал от его ценового диктата один нанвой по имени Хамид, мужчина лет сорока. Его дом находился неподалеку, жена его пекла лучшие на базаре лепешки, и если что и создавало трудности в его бизнесе, так это дефицит хорошей муки и этот юный торговец пшеницей, властный снабжать или не снабжать его этим дефицитом. Я думаю, что закупить заранее большую партию отборного зерна нанвоям мешало отсутствие свободных денег. Семьи у узбеков всегда большие, дневной заработок нанвоя уходил, по-видимому, на повседневные нужды. Если бы не это обстоятельство, купил бы Хамид несколько мешков янтарной пшеницы, и ходил бы мимо маленького дерзкого торговца, не замечая его. Однако обстоятельства были таковы, что приходилось задорого покупать зерно у никогда не уступающего ни рубля от затребованной цены парнишки. Вообще-то говоря, дело было не столько в тех нескольких рублях, которые приходилось переплачивать, а в том, что делом чести покупателя на восточном базаре является умение добиваться снижения цены продавцом в артистически обставленной процедуре торга. Камилл, освоив принципы базара, назначал уж вовсе запредельную начальную цену и на первом же этапе торга снижал ее до обычной своей твердой цены (а иногда, в соответствии с ситуацией, и держал более высокой, что особенно возмущало покупателей). Уж Хамид пробовал и умасливать его дружеским общением, и ругал его, и угрожал пожаловаться на него самому Домулле - мальчишка бесстрастно наблюдал за его потугами и был непоколебим. Другие нанвои после безуспешных уговоров сбавить цену отходили и покупали низкосортную пшеничку, чтобы через пару часов выности на продажу горячие серые наны. Хамид же был художником в своем деле, он бывал неразговорчив и угрюм, если в его корзине были не лучшие на базаре наны. Ему нужны были восхищенно блестевшие глаза его покупателей, их возбужденно вибрирующие ноздри, вбирающие в себя аромат свежеиспеченных, золотистых как маленькие солнца, пшеничных лепешек. Наверное, в снах своих он шествовал навстречу восходящему над голубым горизонтом огромному солнечному нану, заполняющему мир не только своим золотистым светом, но и неизъяснимым ароматом, как вдруг на светлую дорогу наползает черная тень маленького нахального торговца...
А Камилл жил полнокровной мальчишечьей жизнью. Он хоть и не принял этот новый ему мир как свой - свой был дома, в Крыму! - но вошел в него, познал его, не боялся его и пытался управлять в нем. Ему все здесь было интересно - и люди, и обычаи, и вещи, и природа.
Он, затаившись в сторонке и убрав с прилавка свой мешочек с пшеницей, наблюдал со смешанным чувством любопытства и почему-то страха пришедших на чинабадский базар странных людей. Они объяснялись между собой на непонятном гортанном языке, по-узбекски говорили со странным рокочущим акцентом. Волосы у них, в отличие от бреющих головы узбеков, были до плеч, темные их лица обрамляли жесткие кучерявые бороды и усы. Привозили они на продажу темно-вишневого цвета густое масло в старинных бутылях. Не каждый житель мирного Чинабада мог купить это масло из-за его дороговизны, но каждому хотелось бы его купить, потому что плов, приготовленный на этом масле, называемом "зыгыр йог", был особенно вкусен и хорош для здоровья.
Камилл любил, остановившись возле торговца ножами, любоваться разложенными на войлочном коврике великолепными изделиями. Разной величины односторонние лезвия были украшены выгравированными по полотну розетками, змейками, другими узорами. Особенно роскошны были костяные рукоятки, среди которых не найти было двух одинаковых. Черная, серая или желтоватая кость была инкрустирована перламутром, под золото и серебро. Металл лезвия был какой-то особенный, знающие люди говорили, что делают эти лезвия из обломков старых булатных сабель, которыми предки нынешних аборигенов защищались от завидущих врагов. Торговец, когда к нему подходил не любопытствующий мальчишка, а солидный мужчина, демонстрировал качество лезвия – оно, не сгибая, срезало пополам волос, который торговец выдирал из козьей шкуры, на которой сидел скрестив ноги перед своей великолепной коллекцией. Тут же покупатель мог выбрать ножны, сшитые из кожи или из замши, украшенные металлическими заклепками и ремешками. Особо почтенному покупателю торговец доставал из хурджина (переметной сумы) заветный экземпляр с толстой рукоятью из темной кости. Как узнал потом Камилл, рукоятки этих ножей, которые не выставлялись на всеобщее обозрение, были сделаны из рога носорога. Это были редкие и особо ценные изделия! Кроме многих разных достоинств, среди которых престижность была не на последнем месте, эти ножи, вернее - их рукоятки, обладали уникальными лечебными свойствами. Камилл сам был свидетелем того, как кузнец, чья кузница была на его пути от дома до базара, долго водил рукоятью из рога носорога по распухшей ножке маленького мальчика, укушенного майским - особенно опасным! - скорпионом, и опухоль постепенно спадала и ребенок успокоился.
Был на чинабадском базаре еще и другой мастер, чьи услуги были совершенно необходимы для жителей всей округи. Этот старый узбек починял разбитую посуду. Не знаю, как в других местах, но недаром "Чин-абадом" называлось древнее поселение - во всех домах в ближней и дальней округе пользовались красивой фарфоровой посудой, изготовленной когда-то китайскими мастеровыми. Увы, фарфор не золото и не серебро! Посуда, которой пользовались много раз на дню, билась. Ценящие истинную красоту узбеки не желали покупать грубые ширпотребовские фаянсовые пиалы, чайники и касы-миски. Поэтому, если, конечно, посуда не разлеталась на вовсе уж мелкие осколки, фарфоровые скорлупки бережно собирали и относили сидевшему на базаре мастеру. Если вы думаете, что мастер аккуратно склеивал эти кусочки каким-то клеем, то ошибаетесь. Старый ремесленник связывал бечевкой одному ему известным способом сперва два самых крупных обломка так, чтобы они плотно прилегали один к другому сколами, и начинал процедуру их соединения. Закрепив сооружение из осколков на небольшом деревянном станочке, он просверливал в фарфоре несквозные дырочки, и вставлял в них металлические скобки длиной около сантиметра и шириной миллиметра в два. Так кусочек за кусочком он собирал целиком чайник или пиалу. Скобочки так крепко соединяли осколки, что в собранный из десятка кусочков чайник можно было вновь заливать кипяток и быть уверенным, что ни мельчайшая капелька не просочится из него! Это было величайшее мастерство, и я боюсь, что ныне это умение старых ремесленников утеряно. Надо сказать, что в те времена, когда я бывал в Чинабаде, редко в каком доме можно было увидеть не побывавшую в руках мастера-ремонтника фарфоровую посуду. Зато вам предлагали чай из тонких пиал с великолепнейшим красочным рисунком, изображающим драконов, диковинные растения, сказочные дворцы. На некоторых изделиях неведомых китайских фарфористов можно было насчитать до двух десятков скобочек - видно не единожды восстанавливал их мастер на базаре. Но если вы ели шурпу из такой видавшей виды касы или держали в руках пиалу с рисунком дракона, в нескольких местах перетянутым металлом, то могли быть уверены, что шурпа не растечется из вдруг распавшейся касы, что ароматный чай не прольется и не обожжет ваши колени.
И еще нравились Камиллу узбекские девочки с сорока косичками, в пестрых платьицах из шои - домотканого шелка. На головках девочки носили бархатные, расшитые бисером тюбетейки, и не было в Чинабаде двух девочек в одинаковых тюбетейках. Но больше всего нравилось ему в чинабадских девочках не узор их тюбетеек и не перламутровые пуговички на спинах их платьиц, а ласковое и ревнивое отношение этих быстроглазых баловниц к красивому нездешнему мальчику.
Камилл в свободное время заходил в соседний двор, где жила большая узбекская семья - три взрослые женщины, три девочки, три мальчика и только один мужчина за шестьдесят лет. Двое из молодых мужчин этой семьи уже больше никогда не войдут в ворота двора - они погибли на фронте. Одна из оставшихся без отца девочек, десятилетняя Ходжи, более других привлекала внимание Камилла.
Жилые помещения во дворах аборигенов Ферганской долины обычно представляют собой вытянувшиеся в ряд постройки с общими торцовыми стенами. Одна постройка при этом может быть и выше, и благоустроенней других - в ней, значит, живет отец семейства. Другие пристройки, по-видимому, сооружаются по мере появления новых семей - обычно при родителях остаются сыновья, пока не надумают строиться где-то обособленно. Могут, естественно, быть и другие причины для возведения пристроек. Во дворе, где проживала Ходжи, стоял один большой дом с высоким айвоном - навесом, поддерживаемым резными деревянными колоннами. В этом доме было четыре комнаты, причем две дальние не имели окон наружу, дневной свет проникал в них через остекление передних комнат. Внутренние комнаты были наиболее комфортабельными, там полы были деревянные, застеленные коврами. В одной из передних комнат с земляным полом был сооружен очаг с прямым дымоходом на крышу, так что если в зимнюю пору хозяева забудут поставить задвижку, деревянную крышку большого казана может запорошить снегом.
Примыкал к этому главному зданию другой домик. Он был пониже, навес перед ним был попроще, но продолжал навес большого дома, чтобы в дождь, например, можно было без проблем пройти из двери в дверь. В этом доме было две комнаты, обе с окнами во двор. Опять же в первой комнате был такой же очаг. Еще два таких же дома стояли в одну общую линию.
Перед каждым строением от самой земли до края навеса поднимаются шесты с поперечинами, к которым весной привязывают откопанную из-под земляного бугра виноградную лозу - так защищают ее от зимних морозов. Летом протянувшийся перед всем рядом строений обвитый виноградной лозой навес защищает от зноя, хотя и застит свет. К осени огромные виноградные кисти - темно-фиолетовые, красные, зеленые - висят над головой и надо только протянуть руку, чтобы сорвать желаемую кисть.
Под навесом стоят высокие плетенные из прутьев корзины с яблоками, сливами или с другими плодами - смотря по сезону. Висят длинные связки белого лука, на циновке просушивается другая партия недавно выкопанных луковиц. Привязаны к шестам, поддерживающим лозу, связки головок джугары и початки кукурузы, оставшиеся, может быть, с прошлогоднего урожая. Чуть слышно журчит вода в маленьких, шириной сантиметров в тридцать, арыках, без которых немыслим узбекский двор, как немыслим он без тандыра - печи для выпечки лепешек. Обязательно есть в каждом хозяйстве и деревянная ступа - кели. В ней толкут, подливая воду, зерна джугары, которую иначе не разварить. Также толкут в ступе шалу, неочищенный рис, обдирая с зерен прочно приставшую к ним кожуру, превращая их в белый чистый рис - но это очень трудоемкое дело. И совсем в стороне, в глубине двора, стоит загон для овец или для коровы с теленком.
Камиллу нравилось ходить вместе с Ходжи в дальние поля собирать вьюнок-траву для коровы. Девочка прибегала к нему с двумя большими мешками и он, если не было неотложных дел по дому, шел с Ходжи к Кош-арыку, где заросли сочного вьюнка были особенно густы.
Мальчик с девочкой шли в тени тутовых деревьев, которыми в Ферганской долине обсажены прямоугольники хлопковых полей, размеры этих прямоугольников два-три гектара. Тутовник высажен в два ряда, с расстоянием между рядами метра в два. Может быть, эта разбивка плантаций нужна и для самого хлопчатника - я не знаю. Но главное назначение этих деревьев - давать пищу для тутового шелкопряда. Весной деревья тутовника покрываются большими сочными листьями, и вскоре приходит пора, когда ветки с бедняжек деревьев срезают, остается голая кочерыжка, на которой обнажается множество сучков - печальные свидетельства повторяющегося из году в год обрезания. Новые длинные прутья со свежими листьями быстро отрастают, деревья оказываются одетыми в большие зеленые шары. Но стволы их остаются навсегда скрюченными и невысокими, метра в два.
В первой половине лета в полосе между рядами этих деревцев, куда не проникают жгучие солнечные лучи, расцветают ирисы. Светло-фиолетовые, в стеблях-ножах, они обладают сильным и приятным ароматом. Камилл и Тоджи собирали цветы наперегонки - кто больше. А потом, когда оказалось, что у Камилла букетик пышней и Тоджи заметно огорчена, мальчик дарит ей все свои цветы. Радость девочки бурная и искренняя, чем Камилл очень удивлен - какой пустяк, эти цветы. Но, конечно же, не в цветочках дело, а в чем - это понятно только девочкам.
- Хочешь, я тебе буду каждый день собирать красивые цветы? - спрашивает мальчик, тронутый тем, как радостно перебирает его подружка цветы.
- Хочу! - быстро и с каким-то значением отвечает девочка, и что-то тревожащее пробегает между детьми, что почему-то не очень приятно Камиллу, но что быстро исчезает, когда дети выходят из-под тени тутовника на жаркую тропу, ведущую к Кош-арыку.
Дойдя до арыка, Камилл быстро прыгает в его прохладную воду. Девочка же сразу начинает рвать траву и в ее молчании чувствуется неодобрение - сначала, мол, надо сделать дело. Камилл выходит из воды и тоже молча начинает тягать сочные стебли вьюнков и скатывать их в большие клубки. Вдоль всей прибрежной полосы вьюнки щедро опутывают другие, растущие кверху травы. И очень скоро у мальчика оказывается заготовлено сочных стеблей в два раза больше, чем у девочки. Дети опытным глазом определяют, что собрано уже достаточно. Но еще остается трудоемкая процедура забивания травы в мешки. Джутовый мешок надо доверху заполнить травой, а потом нужно в него залезть и тщательно утрамбовать траву ногами. Если это сделано умело, то трава уминается на четверть мешка. Опять заполняется мешок и опять мальчик прыгает двумя ногами в мешке, а девочка поддерживает его края. И так повторяется до тех пор, пока мешок не становится твердым, будто в нем не стебли сочной травы, а туго скрученные тюки материи. Теперь остается зашнуровать мешок веревкой и все - гуляй!
Тоджи весело смеется, Камилл с радостным воплем вновь бежит в воду. Но Тоджи на берегу не видно, она зашла за земляной бугор и там, видно, снимает платье. Камилл недоумевает, зачем для этого нужно прятаться. Вдруг девочка появляется из-за своего укрытия и изумленный мальчик видит, что она совершенно голенькая. А если подумать, то какой ей быть? Ведь девочки узбекские не носят трусиков, они носят панталончики ниже колен. Что же, в таких панталончиках и купаться?
Мальчик растерян, девочка смущена. Но вскоре они весело плещутся в воде арыка, которая им чуть выше колен. Дно песчаное и чистое, можно брызгаться, подныривать, бороться в воде. Все бы хорошо, но странная девчачья нагота все же смущает Камилла. Впрочем, он скоро к этому привыкнет и будет всегда с нетерпением ждать, когда же Тоджи позовет его на Кош-арык собирать траву для коровы.
Глава 21
И я, как Камилл, всегда любил учебу, но в моей жизни школьные пути оказывались тернистыми. В первый класс я пошел, как уже было упомянуто, в первую военную осень. Моя школа находилась в здании бывшей Первой гимназии города Симферополя. От дома до школы я и мои сорванцы-товарищи добирались на трамвае, но не в его салоне, а "на колбасе" - так называлась изогнутая железная балка, торчащая сзади вагона. Если "колбаса" была занята, то мы ехали "на подножке", а на промежуточных остановках соскакивали с нее, чтобы, дождавшись момента, когда трамвай тронется, вновь вскочить "на подножку" и висеть, ухватившись за поручни. Злые трамвайные кондуктора ничего не могли поделать с такими мальчишками, потому что согнать их во время движения трамвая можно было, только подвергая драгоценную кондукторскую жизнь опасности сорваться на булыжную мостовую вместе с огромной кожаной сумкой - непременным атрибутом каждого кондуктора. А во время остановки трамвая мы отбегали в сторону.
Трамвай ползет как черепаха, Вожатый спит, как бегемот. Кондуктор лает, как собака: - Пройдите, граждане, вперед.Мама давала мне на булочку в буфете какую-то сумму денег (кажется, двадцать копеек), кроме того, я получал от нее какие-то копейки на трамвай. Экономя на транспорте и на школьном буфете, мы, мальчишки, копили деньги на всякие излишества, такие, например, как мороженое. В те времена у продавца мороженого были короткие цилиндрические стаканчики, на дно которого он укладывал вафельный кружок, затем ложкой заполнял стаканчик мороженым, подравнивал "заподлицо", вгладь, а сверху пришлепывал опять вафельный кружок. Поршенек выталкивал полученный столбик с торцовыми нашлепками из металлического цилиндрика, и ловким движением руки мороженщик передавал вам заказанное вами лакомство в обмен на звонкую монету. Вы держали это сооружение за торцы двумя пальцами правой руки, если, конечно, не были левшой, и ваш счастливый язык вылизывал изумительную замороженную смесь из молока и сахара из пространства между двумя, тоже очень вкусными, вафельными кружочками.
Кроме того, у мороженщика в ящике со стеклянной крышкой были еще и "эскимо на палочке", но это было дорогое удовольствие, и далеко не каждый мальчишка мог позволить себе такое роскошество.
Между прочим, у мороженщика было два железных цилиндрика - один короткий, другой в два раза длинней. Если вы такой богатый, что можете заплатить за длинный цилиндр, то я вам не советовал бы так поступать. Лучше взять два коротких. Не сразу, конечно, а когда съедите первый, то берите и второй - мороженого никогда много не бывает. Но если вы возьмете один длинный, то вы пожалеете об этом. Во-первых, вылизывать из пространства между сильно удаленными друг от друга вафельными кружочками неудобно, и когда перемычка становится узкой, есть очень большая опасность, что система разрушится и вывалится из вашей руки. Если вы умный и поняли, что сейчас должно произойти, и поэтому немедленно затолкаете теряющую устойчивость систему в рот, то (это - во-вторых) от большого холода во рту мороженое теряет свой вкус, да и вообще глупо съедать за две минуты то, что можно смаковать гораздо дольше.
Я не помню учительницу той первой моей школы, ни облика ее, ни имени. Помню только, что она давала мне задания переписывать в тетрадку тексты из учебника, в то время, как другие ученики писали в тетрадях палочки, крючочки и прочее. Дело было в том, что я к тому времени бегло читал, и учительница решила, по-видимому, что мой уровень знаний не позволяет ей заставлять меня писать какие-то бессмысленные палочки, крючочки, ну и прочее. Поэтому почерк мой всегда был отвратительным, за что мне доставалось в последующих классах школы. Но что теперь поделаешь.
Этим скучнейшим в моей жизни школьным дням не суждено было долго продолжаться. Я посещал школу на улице имени Карла Маркса полтора месяца. В середине октября в результате временно неудержимого наступления германской армии участились бомбежки города в дневное время, а потом грянула и оккупация. Так что первый класс я так и не окончил. Так у меня и осталось неоконченное первоклассное школьное образование. Нет, в целом я получил в последующих классах средней школы кое-какие знания, даже бином Ньютона удалось преодолеть. Но вот со знанием материала трех последних четвертей первого класса у меня туго. До сих пор.
В первую и вторую оккупационные зимы я школу не посещал - не знаю, работали ли в эти годы школы. На третью осень я пошел во второй класс. Мой дружок Димка, закончивший до войны аж два класса, пугал меня трудностями арифметики, но убедившись в моей непреклонной решимости идти не в постылый первый, а во второй класс, начал меня тренировать. Задачи, которые он мне зачитывал из учебника второго класса, я решал сразу же. Но оказалось, что в моем образовании, действительно, имеется зияющий пробел - я решал эти задачи эмпирически. Этого существующая во всех цивилизованных странах школьная система не допускала! И Димка научил меня решать задачи как принято, в согласии с некоторым алгоритмом: первым вопросом требуется узнать, вторым вопросом требуется узнать... Так я вошел в парадигму современной методологии, не то к многочисленным идеологическим ошибкам, зафиксированным в моем досье, добавился бы и грех "ползучего эмпиризма", с которым так трудно боролись лучшие умы в нашем отечестве.
Забегая вперед скажу, что и второй класс я не смог закончить, - на этот раз из-за неудержимого наступления Советской армии. И хорошо, что не закончил, скажу я вам. Бог с ними, со знаниями четвертой четверти. С чистой совестью могу я теперь говорить где угодно и кому угодно, что не закончил за всю свою жизнь ни единого класса несоветской школы. Зачем мне эти мурашки? И без того инспектора отделов кадров советских учреждений, увидев в "Личном листке по учету кадров" в графе "Проживали ли Вы на территории, находившейся под временной оккупацией в годы Великой Отечественной войны?" простодушное "Да", вписанное моей рукой, брались за телефонную трубку и просили меня подождать за дверью. Проживать проживал, но ни единого класса не закончил я в школе, находящейся вне юрисдикции родного советского районо. Между прочим, по поводу того, что я "Да", что проживал - ведь проживал я не по своей инициативе, а вследствие неудержимого отступления Красной армии...
Итак, я пошел во второй класс. Еще в августе мама была озабочена устройством меня в школу. Грамотой я овладел с четырех лет. Я много читал разных книг, которые были в большой отцовской библиотеке, не до конца распроданной в тридцать седьмом - тридцать восьмом годах, когда отца выгнали с работы, и он каждый час ждал ареста (который последовал все же, но тремя годами позже). Однако мама справедливо полагала, что ребенку все же необходимо систематическое школьное образование. Наверное, как раз в сорок третьем году при оккупационном режиме открылись школы. Однако проблема моего школьного обучения казалась неразрешимой. Уже я упоминал о том, что гражданская власть в городе была в руках городского Управления, сплошь состоящего из русских шовинистов, поддерживаемых высшей германской властью. Школы были разделены на русские и татарские. Причем в русские школы принимали всех, кроме татар. Сравнительно недалеко от дома, где мы проживали, находилась русская школа. Мама обивала пороги школьной канцелярии, но ей отказывали в приеме ее татарчонка.
- У нас для своих не хватает места! - поражаясь ее настойчивости отвечали ей и в городском Управлении, куда она ходила.. - Для татар создана школа на Кантарной, туда и отведите вашего сына.
Эта школа располагалась на другом конце города. Мама, во-первых, боялась отпускать меня одного так далеко. Сама она не могла меня отводить, потому что работала с раннего утра в "молочно-раздаточной кухне", которая была организована для помощи больным детям и в которую мама устроилась благодаря знакомым симферопольским врачам. Откровенно скажу, что боязнь мамы отпускать меня на другой край города была несколько наивной - я с приятелями, пока мама была на работе, успел уже много раз побывать во всех районах города. Второе обстоятельство было более обоснованным. Практически не оставалось не только в Симферополе, но и во всем Крыму достаточно образованных и культурных татарских учителей, их как буржуазных националистов при советской власти арестовывали по всему Крыму и расстреливали, этот процесс начался еще в двадцатых годах. Некоторые наши учителя и просветители тайно уехали в другие тюркоязычные республики, где им удавалось затеряться, некоторые затаились в крымских деревнях, отойдя от общественной и преподавательской деятельности. Мама разузнала, кто преподает в татарской школе (она хорошо знала образованный слой населения Крыма) и решила оставить меня дома, обоснованно решив, что обучение в такой "остаточной" школе будет крайне неэффективно. Так я остался вне школьного образования. Мама видела, как я переживал, как встречал возвращающегося после занятий моего русского дружка Димку, как слушал его рассказы о школьных событиях.
Но бывают странные стечения обстоятельств, которые выходят за рамки предсказаний теории вероятностей.
Как-то уже в середине сентября мама встретила на улице своего учителя математики по фамилии Серов. Мама была самой младшей студенткой в училище, всеобщей любимицей, и старый учитель хорошо ее помнил. Он обрадовался встрече и стал расспрашивать маму о жизни, и мама поведала ему о том, что ее сынишку не принимают в школу. Учитель Серов страшно возмутился, но сказал маме, что эта проблема может быть разрешена немедленно.
- Директор школы, в которую ты безуспешно пыталась устроить своего сына, мой старый товарищ. Прямо сейчас я пойду к нему, а ты завтра приходи в школу и проходи прямо в директорский кабинет.
Мама наутро пришла в то самое здание, в котором недавно безуспешно обивала пороги. Директор немедленно ее принял.
- Я хорошо его знал вашего отца, - сказал он маме, - и очень горевал, узнав о его трагической гибели. Мир праху его... Какие у вас трудности с сыном?
Мама ему все рассказала.
- Считайте, что ваш мальчик уже зачислен в ученики. Но у нас нет не только школьных парт, но и просто столов. Вы должны принести для сына стол и стул. Только прошу, чтобы стол был как можно меньше по размерам, потому что в младших классах очень тесно. Я распоряжусь, чтобы место для вашего сына нашли.
Через день мама тащила в школу где-то раздобытый квадратный столик, а я тащил табуретку. Уроки в тот день уже закончились, но в классе нас ждала учительница, с помощью которой мы с трудом нашли место и для моего столика. Разномастные столы и стулья стояли так плотно, что на перемене сидящие внутри класса не могли выйти, пока не выходили передние. По той же причине к доске наша учительница вызывала учеников только в редких случаях.
Учительница наша, Лидия Константиновна, была высокая, худая женщина лет, наверное, сорока пяти. Она всегда была печальна, всегда носила темное длинное платье, изношенную вязаную кофту. Мы, ученики, гармонировали своим внешним видом с нашим классом и с нашей любимой и оберегаемой Лидией Константиновной. Она была добра, но вместе с тем и строга. Баловства или непослушания на уроках у нас не было. Своей первой учительницей я почитаю ее, добрую Лидию Константиновну.
На переменках в теплые дни мы выходили во двор, в холод теснились в маленьком коридорчике или же оставались в классе. Некоторые ученики приносили с собой из дому бутерброды или что-нибудь другое. И на большой перемене вокруг тех, кто что-то жевал, собирались их соученики, и слышалось опротивевшее:
- Оставь, а? Оставь кусочек.
Попрошайничали почти все. Не позволяли себе эту ставшую обычной низость, как я помню, ученик Белокуренко и я. В классе было три отличника - Белокуренко, еще один, фамилию которого я забыл, и я. Тот, фамилию которого я забыл, тоже ежедневно попрошайничал. Белокуреннко, которого звали Володей, был первым учеником, вторым учеником был тот, фамилия которого забыта мной, третьим учеником был я. Всего в классе было, наверное, человек тридцать.
Среди не попрошайничающих был один мальчишка, к которому никто не подходил. Этот белокурый и голубоглазый, с полными губами и толстыми щеками мальчик доставал на каждой большой перемене из своего портфеля большую белую булку с какой-то начинкой внутри, доставал и демонстративно, с противной улыбкой, показывал всем большую кисть винограда, яблоко, или еще что-то вкусное. С этим странным в то время человеком никто не дружил, у него не просили даже самые отъявленные попрошайки, его вообще старались не замечать. Между прочим, какие все же это были тяжелые годы, если даже отпрыск какой-то очень благополучной под немецкой оккупацией семьи вынужден был ходить в такой чудовищный класс, каким был наш второй "А".
Лидия Константиновна вела в нашем втором классе все предметы, кроме пения.
Учитель пения был строгий мужчина лет сорока, высокий и худощавый. Он начинал урок, глядя в класс как в пустое пространство, не удостаивая вниманием отдельных индивидуумов. Только однажды он с удивлением заметил, что перед ним не микрофон в пустой студии, а живые мальчишки, по крайней мере один из них точно живой. И тем, кто привлек его внимание, оказался я. Дело было так.
- Записывайте текст песни, - бесстрастно произнес учитель и начал выписывать на доске мелом:
Коль славен наш Господь в Сионе Не может изъяснить язык. Велик он в небесах на троне, В былинах на земли велик...- Пишите так, как написано мной. Не "на земле", а "на земли". Это песня на церковно-славянском языке, она прославляет Бога православного...
Я дерзко поднял руку. Краем глаза учитель заметил поднятую руку и поморщился. Он не любил вопросов: все, что надо знать ученику он произносил не торопясь и внятно. Вопросов быть не должно. Поэтому он игнорировал мою поднятую руку.
Однако я был настойчив и поднял руку еще выше. Появившийся в поле его периферийного зрения объект, то есть поднятая рука, раздражал его, и он неприязненно задержал сквозь очки взгляд на назойливом существе.
- Что у вас? - он обращался к ученику младшего класса на "вы", как в старорежимной гимназии.
- Я мусульманин и не буду петь православную религиозную песню, - твердо произнес я, встав, как полагается, во весь рост.
Учитель был поражен. Нет, не дерзким отказом ученика был он удивлен, он вдруг заметил индивидуума. Прежде пестрый класс был для него чем-то вроде рисунка на обоях, и вдруг оказалось, что тут есть живые души. И даже не просто живые, а активно живые, умеющие дерзко протестовать. Он секунд пять внимательно глядел на меня. Я видел его глаза, в которых был холодный интерес.
- Садитесь! - только одно слово жестко произнес учитель пения и по-прежнему бесстрастно продолжал урок. Закончив писать весьма сложный для учеников второго класса текст, он начал своим резким голосом напевать мелодию последовательно каждых двух строк. Я не пел, и учитель раза два бросил на меня взгляд.
Дома я рассказал об этом эпизоде маме и бабушке. Мама расстроилась и схватилась за голову:
- С таким трудом я устроила тебя в эту школу! Теперь тебя исключат...
Бабушка, которой я полностью обязан осознанием себя мусульманином, помолчала и потом сказала:
- Не исключат, побоятся. А исключат, так и черт с ними! Не долго этой школе быть...
Бабушка не любила советскую власть, но и нынешнюю, не понятно какую, признать не могла. Порядки, которые вылезшие из тараканьих углов чиновники царских времен пытались установить, были уродливы, нежизненны. Оккупационный режим есть то, что он есть, и долго просуществовать он не может, - так говорила привычным шепотом моя бабушка.
Преследований ученика второго класса по идеологическим мотивам не последовало. Учитель пения продолжал не замечать мальчишек, которых он обучал каким-то старинным песням. И на меня в дальнейшем он не обращал никакого внимания, будто бы и не было моего заявления. Мы уже учили другую песенку:
Дети в школу собирайтесь, Петушок пропел давно. Поскорее одевайтесь, Смотрит солнышко в окно. Ясно небо, светел луг, Лес проснулся и шумит. Дятел носом тук да тук, Звонко иволга кричит. Рыбаки уж тянут сети, На лугу коса звенит. Помолясь за книжку, дети. Бог лениться не велит.Помню, хорошо помню я эти песенки. И "Коль славен" тоже помню - и слова, и мелодию. И еще помню, как старшеклассники научили нас песенке:
Наш учитель пения Вышел из терпения. И поехал на перрон Покупать себе гандон.А я и по сегодняшний день благодарен Учителю Пения! Он научил меня песням, которые я помню до сих пор.
Что касается "Коль славен", то я в своей взрослой жизни ни разу не встретил человека, который знал бы этот гимн хотя бы в малой его части.
И еще я сегодня внимательно вглядываюсь в чудом сохранившуюся любительскую фотографию тех лет, на которой вижу десятилетнего мальчика с милой улыбкой. И я горжусь тем мальчиком, который в стопроцентном окружении иноверцев заявил протест против навязываемых ему чуждых доктрин.
Кроме учителя пения наш странный класс посещали еще и другие посторонние лица. Несколько раз заходил с очень строгим видом завуч, страстно ненавидимый старшеклассниками. Был слух, что однажды в своем кабинете он насквозь проколол руку ученику перьевой ручкой. Достоверно мне известно, что ученики забросали окна его кабинета камнями - сам видел разбитые стекла.
Еще посещал наш класс очень страшный, по рассказам тех же старшеклассников, инспектор. Мы были вдвойне напуганы известием о его ожидаемом визите, потому что была напугана наша Лидия Константиновна. После его молниеносного визита, когда он холодным взглядом оглядел наш класс и ни единый мускул не дрогнул на его лице, мы рассказали нашим старшим товарищам, что инспектор вовсе не оказался страшным, на что наши многоопытные старшие друзья возразили, что, да, к малышам он милостив. Железная выдержка, надо сказать, оказалась у этого инспектора. Живописно одетые в старые мамины кофты и в дедушкины истертые пиджаки десятилетние мальчишки, сидящие за своими разностильными столами, а то и за тумбочками или просто деревянными ящиками, не могли не вызвать у среднестатистического наблюдателя изумления.
И еще одно знаменательное посещение врезалось в мою память.
Школу посетили представители оккупационных властей. В наш класс вошли три немецких офицера и холуйски лебезящий перед ними завуч школы. Бог с ним, с завучем... Три лощенных офицера с нескрываемой брезгливостью осматривали наш чудовищный класс. Было бы нормально, если бы представители цивилизованной Германии ужаснулись бы, увидев несчастных детишек в тесном, загроможденном имитирующими парты столами и ящиками помещении, - как никак и сами имели отношение к совершившемуся хаосу и разрухе. Однако господа офицеры, прибывшие инспектировать школу в военной форме, откровенно насмешливо улыбались, презрительно смотрели на мальчишек. Хотел бы я ныне встретиться и поговорить с детьми этих офицеров, поговорить о немецкой литературе, о немецкой музыке, о немецкой философии. Надеюсь, папаши, которые в том далеком сорок третьем году были так насмешливы и высокомерны, смогли дать достойное образование своим детям.
... Это те, детские обиды еще живы в моей душе.
После мая 1944 года я уже не обижался. Я ненавидел. Я копил не обиды, я копил ненависть. Точнее, ненависть не могла не накапливаться во мне, ибо я, мои близкие, мой народ были ежедневно, ежечасно унижаемы, оскорбляемы, уничтожаемы. В этой ситуации в душе человека могли созревать или ненависть или страх. Страх заполнял рабские души.
...Ненависть не оказала разрушительного воздействия на мою личность, на мое сознание. Со временем я переставал ненавидеть отдельных людей, считающих своим долгом сделать пакость несчастному переселенцу из Крыма, ненависть моя закономерно переходила на систему, на государственные институты, на великих вождей. Ненависть же к людям, в свое время целенаправленно вершивших зло в отношении меня и моих близких, переходила в жалость к этим морально неполноценным, слабым личностям.
Только предателей, доносчиков, отщепенцев из числа моих соплеменников я не могу жалеть. Я их презираю всегда.
Чужой человек, человек-мигрант, очень часто предубежден. И трудно быть непредубежденным против соседа, у которого ты отнял землю, отнял дом, и обуреваем страхом обывателя, мечтаешь отнять жизнь. Такого обывателя нельзя уважать, но понять можно. А предавшего свое собственное племя - понять нельзя, нельзя и не можно!
Глава 22
Вскоре после отъезда тетушки Селиме в дом, где остались девочки, пришел хромой сторож из правления колхоза и косноязычно, с ужимками и подмигиваниями объявил, что Айше должна придти в контору. Девушка пошла вслед за хромым посланником. В конторе сидел председатель и еще кто-то из руководства.
- Проходи, дочка, садись, - пригласил председатель девушку. - Ну, решила у нас остаться? Это хорошо. Мы тут посоветовались и решили взять тебя в контору делопроизводителем. Ты девушка грамотная, и наш язык уже знаешь. А у нас много бумаг приходит на русском языке. Вот ты и будешь у нас вести всю канцелярскую работу. Имей в виду, что конторским работникам мы платим зарплату каждый месяц.
Айше была бы очень рада получить такую работу, но беспокоило ее одно.
- Я плохо знаю узбекский язык, а писать на нем и вовсе не умею, - смущаясь ответила она.
- Ничего, по ходу работы научишься...
Так и стала Айше работать в колхозной конторе, что обеспечило ей и сестренке нормальное по нормам тех времен существование.
Однажды в контору забрел сын председателя, обучавшийся в сельскохозяйственном техникуме в Коканде провинциальный бонвиван. Деньги отца и смазливая внешность породили у него иллюзии о собственной неотразимости. Что касается отношений к представительницам женского пола, носившим европейскую одежду, то оно определялось бытующими среди таких же как он недорослей мифами о доступности "русских" девушек. Скромная Айше показалась ему легкой добычей, тем более, что девушка работала в подвластной его отцу системе. С нетерпением дождавшись минуты, когда девушка осталась в комнате одна, этот сельский донжуан с мерзкой развязностью стал приглашать ее отправиться с ним в ресторан в Коканд. Айше с искренним удивлением восприняла наглый стиль разговора и наглое предложение незнакомого парня. Сдержанно ответив, что она никогда в ресторан не ходила и не собирается ходить, Айше попросила посетителя выйти из комнаты.
- Ты, девка, ты знаешь, кто я? - озлобился парень. - Я сын твоего хозяина и одного моего слова достаточно, чтобы тебя выбросили из колхоза. Пойдешь тогда на улицу и будешь продавать себя за пол-лепешки.
Мразь эта не раз пользовалась услугами голодных женщин на улицах Коканда. Подобострастие колхозных льстецов и холуйство купленных на криминальные денежки отца городских друзей породили в нем, как это часто бывает и в более цивилизованной и образованной среде, чувство безнаказанности, чувство хозяина жизни. И он грубо схватил в объятия выбегающую из комнаты Айше. Девушка вырвалась из цепких рук и схватив оказавшийся под рукой тяжелый чернильный прибор съездила грубияна по голове. К счастью, удар оказался скользящим и не убил бонвивана, а сильно его отрезвил. С помутившимся взором парень, пошатываясь, стоял перед спокойно и уверенно смотрящей на него девушкой.
- Если еще когда-нибудь притронешься ко мне - убью, - тихо произнесла Айше, не выпуская мраморную плиту из рук. - Я не смогу убить, так найдутся люди, которые уничтожат тебя.
Айше и сама не знала, кто может постоять за нее, но хотелось ощущать себя защищенной кем-то добрым и сильным.
Председательский сын ощупывал голову, на которой выступила внушительная шишка, но крови не было. Бормоча неразборчивые угрозы, он нетвердым шагом поспешил из комнаты. После его ухода девушка опустилась на стул и стала нервически смеяться. Так и застала ее молодая узбечка, жена одного из колхозных бригадиров. Как только она вошла, смех Айше обернулся в плач.
- Это сыночек приставал, да? - сразу поняла Гюльчехра. - Да, о его похождениях в Коканде я слыхивала. Не бойся, скажи раису, у него кроме этого шалопая и дочки есть, он поймет.
- Никому я не скажу! Если надо, то сама справлюсь! - воскликнула Айше.
- О! Ты гордая! Ну, ну! Желаю тебе удачи.
Но Гюльчехра разболтала о приставании председательского сына своим соседкам и скоро весть об этом дошла до раиса-председателя. Тот сопоставил шишку на голове своего отпрыска с услышанным, и понял все.
- Ну, блядун, чего ты наделал? - окликнул он сына, вернувшись домой. Тот собирался ехать в город, и в плане у него было выпросить у папаши деньжат.
- Ха, в чем дело? - ответил он беспечно вопросом на вопрос.
- Побитый и весь в дерьме, - грубо ответствовал папаша. - Чего это ты полез к нашей девушке, бездельник? Городских блядей тебе не хватает?
- Отец, напрасно вы так говорите! - с деланной обидой возразил сын. – Ничего я ей не сделал, она сама все…
- Что же она сама сделала? - с насмешкой спросил раис. - На шею тебе бросилась?
- Да! Заигрывать со мной стала...
- Ах ты, сын сучки! Да, я ее уже месяц каждый день вижу, она скромная девушка, не из тех, кто о таком деле помышляет.
- Все они скромные, - с кривой улыбкой начал было пошлый малый, но отец прервал его.
- Слушай, ты, поганец. Там у себя в городе покупаешь на отцовские деньги уличных шлюх, и здесь, среди своих, пакостить решил?
- Да какая она своя! - воскликнул паршивый студентик, - переселенка, татарка!
- Если она у меня работает, значит уже наша девушка. Запомни это, поганец. А теперь прочь с моих глаз!
- Отец! Денег подбрось! - заныл сын.
- Пошел прочь! Иди скажи матери, чтобы еды тебе собрала, а на твои блядки денег я больше давать не буду!
Разозлился папаша, но знал старый, что даст он денег своему единственному сыну, даст денег на молодые развлечения.
А байбоча между тем загорелся не на шутку. На человеческом языке чувство, которое разгорелось в сердце у председательского сынка, называется любовью. Узбекский фольклор, поэзия, песенное богатство проникнуты этим чувством, причем любовь воспевается не банальными ахами и охами, а великолепными чистыми образами, изумляющими метафорами. Но пустая душонка кишлачного недоросля в восприятии этого чувства не доросла даже до " я спросила - милый чо прислонился на плечо... и т.д. ". Он непрестанно думал о девушке из колхозной конторы, говорил о ней с приятелями, но содержание и его мыслей о ней, и разговоров сводилось к тому, что, мол, дам ей деньги и все что надо получу. Он стал чаще приезжать в родительский дом, спрятавшись за деревьями наблюдал за девушкой, когда она под вечер шла домой. И ранее неизвестное ему чувство все сильней томило его, но слова, которые шептали его губы, были ругательные "Ну, погоди, блядюшка!".
Один из его более зрелых городских товарищей, которому надоели разговоры юнца о том, что именно он очень скоро намеревается сделать с девицей из "папиного колхоза", дал ему конкретный совет. Ты, научал он его, подкарауль ее под вечер, заткни рот платком, затащи в кусты и изнасилуй. А потом дай ей денег, да побольше. За деньги любая смолчит, да и позора огласки испугается. А потом будешь иметь ее, когда пожелаешь.
Ничего не ведающая Айше продолжала спокойно ходить в контору, гуляла в свободные часы с сестренкой по осеннему кишлаку, любуясь золотом увядающих деревьев, красными виноградниками. Ласточки собирались перед отлетом в большие стаи, и стаи эти как огромные черно-серые существа стлались на белесо-голубом азиатском небе, принимая самые невероятные и причудливые формы. Часто-часто взмахивая короткими крыльями летели утки. Высоко над этими, не рискующими далеко удаляться от земли птицами, пролетали клином журавли, и расстояние не гасило их грустного курлыканья. Гуси, мерно взмахивая крыльями, тоже летели клином, но эти летели молча и сосредоточенно. Девочки любовались прежде неизвестной им, горожанкам, жизнью природы и говорили о маме, которая их ищет, мучительно решали, какие бы действия предпринять им самим. Сейчас их повседневная жизнь не грозила им лишениями - было жилье, была еда, вокруг были добрые к ним люди. Но девочки, конечно же, не смирились с положением вещей, никоим образом они не считали, что жизнь их вошла в новую, приемлемую для них колею. Их отношение к действительности было как к чему-то временному, преходящему. Нормальный ход жизни начнется только после того, как мама их найдет, и они вернутся домой - другого будущего они не представляли себе. Они и знать не хотели о другом будущем - убивающем, унижающем, лишающем прошлого и настоящего. Здесь, в колхозе, оставались две-три татарских семьи, которые как-то приспособились жить, и выжили благодаря благоприятным начальным условиям: у одних были деньги и вещи, другая была подготовлена к жизни в сельских условиях и стала для колхоза незаменимой на конюшне и на скотном дворе. Так что здесь не видели умирающих на дорогах людей, девушек, предлагающих себя за половину лепешки, чтобы той половиной лепешки накормить обессилевшую мать. У прижившихся в узбекском колхозе была тоска, неизвестность, не проходило удивление содеянным с ними, но не было страха смерти. Когда доходили до них вести о гибели и лишениях людей они ужасались, вспоминали своих неведомо куда заброшенных родственников и благодарили Аллаха за то, что имели кров и еду.
Безлунным осенним вечером Айше возвращалась из конторы домой. Шла она, как всегда, мимо хауза - пруда, берега которого густо заросли высоким камышом. Нынче ей довелось получить килограмм дефицитной соли и она радостно думала, что отдаст, наконец, взятую взаймы у хозяйки соль, а оставшейся им с сестренкой хватит до лета. Тропинка огибала хауз, справа был редкий кустарник, заросший бурьяном, который выстаивал обычно до зимних дней, пока кто-нибудь из сельчан не скашивал его для растопки тандыра - глиняной печи, в которой пекут лепешки-наны. Этой тропинкой пользовались только жители четырех домов, для которых это был кратчайший путь на центральную площадь кишлака. А в этот поздний для деревеньки час вероятность встретить здесь случайного прохожего была очень мала. "Байбоча" знал маршрут, по которому всегда возвращалась домой девушка, и не надо было обладать особым стратегическим талантом, чтобы однозначно выбрать для задуманного нападения именно этот участок пути. Не помышляющая ни о какой опасности Айше проходила по узкому коридору посреди возвышающейся по обе стороны растительности, когда кто-то обхватил ее сзади одной рукой, другой пытаясь зажать ей рот. Ошеломленная девушка, даже не вскрикнув, попыталась вырваться, но нападавший уже затащил ее в заросли. И тут она услышала дрожащий шепот, по которому опознала председательского сынка.
- Не бойся, не бойся, я тебе заплачу...
Байбоча повалил ее на землю и взгромоздясь на девушку пытался добраться до ее тела. Айше не стала биться, не стала кричать. Со спокойствием, странным в такой ситуации, она обдумывала, какое ее действие может оказаться эффективным для высвобождения. Руки насильника шарили по ее одежде, и уже это было омерзительно. Неподвижность девушки была им неверно истолкована, и он уже готов был принять ее капитуляцию. И вдруг Айше большим пальцем правой руки со всех сил надавила на глаз председательского сынка. От страшной боли тот закричал и отпустил девушку. Айше вскочила и выбежала на тропу. Байбоча быстро оправился и бросился за ней. Девушка бежала по тропинке, которая обычно представлялась ровной и безопасной, сейчас же она оказалась вся в рытвинах и ямах, ноги цеплялись то ли за корни, то ли за стебли. Айше поняла, что может упасть, и тогда разъяренный насильник изобьет ее, совершит с ней все, что захочет. И она остановившись повернулась к тоже спотыкающемуся в беге мерзавцу.
- Не подходи, убью! У меня в руках нож! - крикнула девушка.
"Байбоча" не мог видеть в темноте ее лица, не мог он увидеть и того, что никакого ножа в руках его жертвы не было. Но голос девушки был полон отваги и решительности, а ничтожества вроде этого председательского сынка боятся смелого отпора. Он остановился и вытащив из кармана пачку банкнот, протянул их девушке и почти жалобно заговорил:
- Вот деньги, возьми! Не бойся меня, я тебя люблю...
В темноте Айше слышала шелест бумажек и видела медленно приближающегося человека. Левая ее рука все время крепко держала, не выпуская, тряпичную сумку с тяжелым пакетом соли. Она перехватила тяжелую сумку в правую руку и с размаху ударила ею по приближающемуся парню. Удар пришелся по руке, деньги выпали, "байбоча" вскрикнул и, кажется, забыв обо всем, бросился шарить по траве, пытаясь собрать разлетевшиеся банкноты. Айше побежала, но теперь уже никто ее не преследовал.
Она вошла во двор вся дрожа. Исмат-джан отвязывал от жердей, лесенкой поднимающихся до крыши, виноградную лозу, чтобы перед наступлением холодов забросать ее землей - так принято в Узбекистане укрывать виноградники от морозов. Айше поздоровавшись, быстро забежала к себе и бросилась ничком на лежанку в рыданиях, которые не могла удержать. Сафие в страхе обнимала ее и все повторяла:
- Что случилось? Что случилось?
На плач девушки пришла Холида-хан, Исмат стоял у дверей снаружи. Айше, наконец, перестала плакать. Вытерев слезы, она сказала:
- На меня кто-то напал на тропе у хауза.
- Вой, худаи! Боже мой! - воскликнула Холида-хан. - Что это такое твориться! Никогда у нас такого не было! Кто напал, зачем? Доченька, кто напал?
Айше уже почти полностью овладела собой. Она встала, молча умылась и достав из ниши в стене металлическую кружку наполнила ее солью и протянула хозяйке.
- Спасибо вам, дорогая Холида-хан. Я сегодня соль получила.
- Доченька, так кто тебя обидел? - допытывалась пожилая женщина. - Нет, это, наверное, кто-то не из нашего кишлака. У нас такого никогда не бывало.
Исмат неподвижно стоял у дверей.
- Председательский сын набросился на меня, - жестко произнесла Айше, ссыпая оставшуюся соль из пакета в стеклянную банку.
- Вой, худаи! - так и села Холида-хон. А Исмат громко произнес:
- Я так и думал. Ну, собачий сын, погоди!
- Вай, какой позор, какой позор! - запричитала тетушка Холида. - Сын такого почтенного человека, и надо же такому случиться! Исмат-джан, утром пойди вместе с Айше к раису, расскажи ему о поступке его сына.
- Я сам с этим сынком поговорю, обойдемся без почтенного папаши, - сурово произнес Исмат.
- Ой, Исмат-джан, не трогай ты этого бездельника! Расскажи все его отцу, не надо самому ничего предпринимать.
- Я трогать его не буду, я с ним только поговорю, - ответил молодой мужчина. - Не бойся, Айше, больше тебя никто здесь не обидит.
Председатель был в этом кишлаке пришлым человеком, Исмат же был сыном коренного и уважаемого человека, который присоединился в двадцатых годах к отряду Исламкула и то ли погиб в боях, то ли вынужден был остаться где-то в Афганистане. Исмата здесь никто не преследовал как "сына басмача", потому что старшее поколение мужчин половины семейств кишлака в свое время ушли в "басмачи". Нынешний председатель колхоза сам был когда-то в отряде, сражавшемся с буденовскими конниками в далеком отсюда Джизаке, но он во время осознал, что не получающие помощи от свободных стран отряды сопротивления не имеют шансов на победу. Он сменил имя, и здесь, в далекой от Бухары Ферганской долине, вступил в отряд молодежной милиции, сказавшись сыном батрака. Потом хитрый и беспринципный Ахмад вступил в комсомол, работал в продразверстке, отнимая последний куль с зерном у бедных дехкан. Уже тогда НКВД раскопало прошлое доблестного "солдата коммунистической партии", о чем ему намекнули, чтобы знал, что находится на крючке, и не проявлял неповиновения. В свое время Ахмада послали председательствовать колхозом в этот кишлак, сместив честного человека, которого избрали сами жители села, когда их заставили отдать свои земли, свой скот и другое имущество в "коллективное хозяйство". Конечно же, это "коллективное хозяйство" не было ни коллективным, ибо все решал по указке сверху сам председатель, ни хозяйством, если под этим подразумевать разумно организованное пользование землей и живностью. Колхозы были более или менее доходными плантациями хлопка, картофеля или табака, где трудились почти рабы, ибо крестьянин теперь не мог покинуть, если бы вдруг захотел, родного села. Дехкане скудно кормились с маленького клочка земли у своего жилища, были как никогда прежде бесправны перед местными и высшими властями.
Так вот, Исмат, родившийся и выросший в этом кишлаке, обладал здесь не бросающейся в глаза властью коренного жителя. В каждом доме были свои, все понимающие с полуслова люди, одинаково не любящие нынешнего председателя и его приближенных. Председатель и все группировавшиеся вокруг него знали об этом, поэтому старались не вступать в открытую конфронтацию с дехканами. И если Исмат просто сказал бы сынку, чтобы тот не смел приближаться к Айше, то этого было бы достаточно.
На следующее утро Исмат провожал Айше в контору. И вдруг на тропинке, где накануне байбоча набросился на девушку, они увидели его. Он ползал по пожухлой высокой траве и собирал денежки, которые выпали вечером из его рук... Остановившись над не успевшим подняться с колен парнем, Айше стала весело смеяться. Тот вскочил на ноги и хотел, было, скрыться, но Исмат крепко схватил его за плечо.
- Айше, ты иди, иди, - ласково обратился Исмат к девушке, которая продолжая смеяться быстрым шагом пошла прочь.
Бойбоча стоял весь бледный, ожидая побоев.
- Слушай, ты, сучий сын, - сквозь зубы произнес Исмат. - Ты свои поганые делишки в нашем кишлаке не пытайся проводить. Если еще раз подойдешь к Айше - шею сломаю. Запомни.
Исмат сильно дал коленом под зад парню, от чего тот, охнув, кубарем полетел в бурьян. Хотелось избить подонка, но Исмат сдержал себя и, не двигаясь с места, смотрел, как байбоча поднялся, не произнеся ни слова выскочил на тропу и поспешил убраться.
Глава 23
Придя к полудню в центральное отделение совхоза, Февзи направился прямо в контору, к человеку, который однажды проявил участие в его судьбе. Парторг сидел в той же комнате и, не узнав мальчишку, удивленно обернулся на вошедшего без приглашения гостя.
- Все умерли, - без предисловий произнес Февзи.
После этой, не вполне понятой присутствующими короткой фразы, неожиданный пришелец замолчал и пристально смотрел на парторга. Тот растерянно переспросил:
- Что? Кто умер?
- Все в четвертом отделении умерли. А я, вот, пришел.
Тут парторг вспомнил мальчишку, который приходил осенью вместе со стариком. Немного помедлив, он произнес.
- Ну, рассказывай.
- Все умерли, а я, вот, пришел. Никого кроме меня не осталось. Все умерли, и я их похоронил.
Взгляды всех троих находящихся в комнате мужчин были направлены на мальчишку. В их довольно веселую беседу вдруг вошел этот странно одетый ребенок с сообщением, что все умерли, и что он их всех похоронил.
- Садись, - придвинул парторг табуретку к мальчику. Тот опустил на пол свою котомку и, размотав обмотанный вокруг ушей платок, сел на табуретку, аккуратно сложив платок на коленях. Наступившее молчание опять прервал гость.
- Три дня назад умер Мурат-эмдже. Я прочел над ним молитву и похоронил его. А когда умирали старушки, то молитву читал сам Мурат-эмдже. А могилы выкопал я. И я похоронил дедушку с молитвой, как он меня научил.
- Это хорошо, что с молитвой, - вымолвил, наконец, парторг. - Значит, все умерли? Ну-ка! - он поднял соединенные мизинцами ладони перед собой и произнес короткую молитву. Все присутствующие, и Февзи в том числе, повторили за ним эти действия и по окончании молитвы провели ладонями по лицу. В Узбекистане мало какой идиот демонстрировал свой атеизм, даже руководящие партийные работники весьма высокого ранга не стеснялись участвовать в различных религиозных обрядах. Бывали случаи доносов, что, мол, такой-то, будучи членом коммунистической партии присутствует на дженаза (похоронах), на молитве в праздник Рамазан, или, скажем, вставая из-за стола после приятия пищи с благодарением проводит ладонями по лицу. Такие сигналы могли поступить почти на каждого члена партии и ход им давали только в том случае, если надо было человека снять с должности или просто прижать немного.
В комнате жарко горела кирпичная печь, сложенная каким-то русским умельцем. В узбекских домах печей не бывает, и не оттого, что зимы здесь нехолодные, нет. Морозы в Средней Азии часто достигают двадцати и более градусов по Цельсию. Только обычно число морозных дней здесь не велико, зима относительно короткая. От холодов здесь спасаются под сандалом - это большие ватные одеяла, накинутые на специальные невысокие столики, под которыми в углублении помещают горячие уголья. Одетые в ватные халаты женщины, дети и мужчины накрывают нижнюю часть тела одеялами и так сидят, беседуя или дремля. Спят тоже здесь, но уже сняв халаты и понадежней спрятавшись под одеялом. Нередко случается, что одеяло начинает тлеть, но запах горелой ваты обязательно кого-нибудь разбудит, и огонь тотчас же гасят заранее припасенной в большом сосуде водой. Оно, казалось бы, просто, - тепло и уютно, но эта система служит питомником для известных насекомых. И если вы не пренебрегли приглашением и погрелись в сандале, то за короткое время на вас перебежит не одна пара вшей, избавиться от которых в этих непривычных зимних условиях будет большой проблемой.
В конторах учреждений в те годы, о которых идет речь, или не было никакого отопления, или устанавливали жестяные печурки с трубой, выводимой в окно. Редко где уже ставили кирпичные печи, которые, как известно, держат тепло и после прекращения топки. Здесь стояла именно такая печь, в которую время от времени входящий в комнату сторож подкладывал поленья. Не ожидая приглашения Февзи снял две из натянутых на него драных кофт и с ожиданием поглядел на мужчин.
- Кушать хочешь? - спросил хозяин кабинета.
- Очень хочу! - с детской непосредственностью ответил мальчик. Один из мужчин достал из фанерного шкафа полотенце, в которое были завернуты кусочки лепешки и белые мучнистые конфеты-парварда. На нагретую чугунную плиту печки он поставил большой медный чайник, и вскоре уже мальчик уплетал куски лепешки, запивая их чаем - эта еда была для Февзи, уже давно питавшегося одними только распаренными зернами кукурузы, роскошным обедом.
...Мальчика взяли сторожем в контору, отправив домой непроворного старика-узбека, выполнявшего до того обязанности сторожа и дневного служки.
Еды было вдосталь. Раза два-три в неделю совхозное начальство затевало плов. Штатным шеф-поваром выступал всегда один и тот же человек - шофер одного из заместителей директора совхоза. Иногда кто-нибудь из главных начальников мог сказать штатному шеф-повару:
- Бор, ойнаб кель! Иди, погуляй! - и сам брал в руки кевгир - большую шумовку из кованного железа. Сам бросал в раскаленное масло небольшую очищенную луковицу, вытаскивал ее после того, как она зарумянится - масло, значит, уже прогрето. После этого насыпал в казан тонко нарезанный лук и помешивал кевгиром, пока лук не приобретал золотистый цвет. Так как масло сильно нагрето, лук очень скоро доходит до требуемого состояния, и тогда сразу в раскаленное масло опускают куски мяса, заранее хорошо промытые и очищенные от пленки и жил. Когда мясо несколько прожаривается, к нему засыпают нарезанную лапшой морковь. Лук, морковь и мясо заранее готовят двое или трое помощников - из работников низшего ранга. Когда морковь становится мягкой - "умирает", как называют это узбеки, - в казан наливают воду и некоторое время кипятят. Еще до воды в поджариваемое с морковью и луком мясо добавляют специи - кара-зиру, барбарис, красный перец и та аппетитная смесь, которая образуется в казане, называется "зырвак". За это время уже хорошо промыт рис - до чистой сливной воды, чтобы не оставалось рисового крахмала. Рис засыпают в казан и резко уменьшают жар в очаге. Сколько налить воды, когда убрать жар из под казана - в знании этого заключено мастерство Готовящего плов. И вот над кипящими водами в казане то там, то здесь появляются островки суши. Наконец, вода уходит, рисовая площадка оказывается вся покрытой маленькими действующими вулканами, которые брызгаются мелкими каплями смеси воды и масла, пыхтят, выдыхая ароматы, дразнящие ноздри заядлых любителей плова. Эти любители и ценители прерывают беседу и то один, то другой медленно подходят к казану, и без слов с минуту созерцают поверхность казана, как свидетели деяний Создателя созерцали, наверное, поверхность созревающей земной тверди. Сам же Мастер Плова с кевгиром в руках подравнивает рыжий от масла и моркови рис с краев, пробует с кованной поверхности сок, чтобы определить, достаточно ли вложено соли и перца, протыкает, наконец, рисовую гладь кевгиром, и на поверхности тверди, восставшей из глубин недавно бурлящей жидкости, возникают глубокие расщелины, в которых теперь только и можно увидеть вскипающий сок, который постепенно исчезает, внедряясь в медленно разбухающие зерна риса. При этом Мастер уже знает о своем успехе, он уже триумфатор, о чем свидетельствуют и ароматы, вырывающиеся из недр расщелин, и золотистый цвет чудного творения, возникшего в казане из соединения простого риса, обычного мяса, обыденной моркови и хлопкового масла, схожего в непрокаленном состоянии по вкусу с касторкой - кошмаром моего детства. Если возбужденные запахами созерцатели чудесного превращения и говорят между собой о нем, о плове, вспоминая события, связанные с этой альфой и омегой бытия мирных узбеков, то сам мастер больше молчит или же бросает реплики, касающиеся чего угодно, но никак не относящиеся к тому, над чем он вдохновенно священнодействует с кованным кевгиром в руках. Я так и не узнал, то ли упоминание о плове для Мастера в эти минуты его жизни являются табу, то ли это обычная скромность художника, готового вскоре представить свой труд на суд требовательных ценителей.
И вот в известный только самому Мастеру момент он собирает кевгиром рис в горку, быстро выгребает все горячие угли из под казана и накрывает его крышкой. Накрывает плотно, иногда даже щели в большой дощатой крышке приходится обкладывать мокрыми платками, чтобы Дух плова не улетал под небеса, чтобы полностью пропитались им рисовые зерна.
И вот когда плов готов, о чем Мастер узнает по тайным приметам, известным только членам цеха Умеющих Готовить Настоящий Плов, он бросает на крышку казана полотенце, которое все это время лежало у него на плече и которым он обтирал пот со лба, и громко обращается к шеф-повару, который после своего отстранения от котла ошивался где-то в сторонке, вполголоса дублируя распоряжения Того, Который держит в руках кевгир, и не осмеливался оказаться вблизи очага, на котором готовиться плов, дабы Мастер не заподозрил его в наставнических поползновениях. Так вот Мастер бросает на крышку казана полотенце, рядом кладет кевгир и громко обращается к штатному шеф-повару:
- Иди, займись своим пловом!
Он с подчеркнутой усталостью садится за стол, ему также с подчеркнутой поспешностью почтительно протягивают пиалу с чаем, а беседа при этом по содержанию далека от плова, ожиданием которого-то и заняты на самом деле помыслы всех присутствующих.
И вот на середину стола (или расстеленной на помосте скатерти) шеф-повар ставит большое блюдо, на котором горой наложен рассыпчатый ароматнейший и аппетитнейший плов - шедевр азиатской кухни. Вот теперь страждущие этого шедевра дают волю своему красноречию, воздается хвала представшему перед ними плову и его вдохновенному создателю. И в этой хвале нет лести и лицемерия - плов великолепен! И самому Мастеру теперь, когда высокую оценку его творению дали другие, не возбраняется похвастаться своим умением, вспомнить другие случаи, когда приготовленный им плов был так же великолепен, а, может быть, и еще лучше. И тут, обычно, кто-то из соучастников трапезы обращается безадресно к кому-то из тех, кто не имеет права восседать за дастурханом номер один без особого приглашения, которое вероятней всего не последует:
- Эй! Вымой-ка пиалы и подай сюда!
Этот, до того нам неведомый соучастник происходящего, достает откуда-то бутылку водки, зубами отдирает мягкую крышку и наливает в немедленно поданные пиалы огненную воду. Первую пиалу подносят старшему по служебному положению или почетному гостю, если таковой имеется. Тот в свою очередь передает эту первую пиалу Мастеру, приготовившему сегодняшний плов. Тосты здесь не приняты, ибо Пророк вообще не поощряет выпивающих. Пьют водку без возгласов, чинно. И пьют ее один раз, перед тем, как наполнить свои желудки пловом, ибо известно, что ежели принимать водку в процессе еды, то залитый сверху огненной водой вареный рис комкуется, цементируется и человек очень даже может не дожить до утра следующего дня. Но эта огненная вода имеет обычай дарить расторможенность, развязывать языки. И возникает за столом шумная беседа, содержанием которой, по крайней мере, в первые полчаса, является плов - кто, где, когда, с кем ел за последние десять лет такой же прекрасный плов, какой довелось есть сегодня.
Младшие по служебному положению и те, кто в самом низу иерархической лестницы - сторожа, уборщики, случайные посетители, где-то в другой комнате начинают есть плов только после того, как на дастурхан номер один будет подано второе блюдо с пловом. Казан обычно большой и плова хватает на всех.
Отъелся на плове и бедный сирота. Но каждый раз, наблюдая застолье толстопузых, довольных жизнью совхозных начальников, он вспоминал, как опустившись на корточки за бараком Мурат-эмдже разбивал камнем замотанные в тряпку зерна кукурузы и слезы катились по его изможденному землистому лицу. Февзи знал, что эту картину он не забудет никогда. И он не хотел ее забывать.
Днем он выполнял разные поручения начальства. Делал он все быстро, весело, он был рад тому, что он нужен, что конторские люди говорят о нем с доброй улыбкой. Он мог и печь растопить, и сапоги почистить, и верхом на лошади доскакать куда прикажут. Вечером, когда все работники конторы расходились по домам, он накормив двух прирученных им больших, но не злых собак, укладывался спать на тахте в кабинете директора совхоза. Нередко ночью раздавался телефонный звонок из райкома или из райисполкома, тогда Февзи отвечал, что начальство, мол, только что вышло, что оно сейчас же перезвонит - и стрелой мчался в дом директора или парторга, которым почему-то не догадались поставить параллельные телефонные аппараты.
Весной, когда земля подсохла, Февзи пошел на могилу матери и Мурата-эмдже. Он увидел, что уголок земли, где были похоронены его мама и его односельчане, распахан, от могильных холмиков не осталось и следа. Мальчик заплакал и вспомнил, как Мурат-эмдже наставлял его копать глубокие могилы, чтобы покойники не были потревожены, если земля будет распахана. И Февзи копал глубокие могилы. Сейчас он сел на вывороченную плугом землю, под которой покоилась его мама, и слезы лились из его глаз, но он плакал молча, чтобы не потревожить своих мертвецов. Он поклялся себе, что никогда не забудет эту страшную зиму, что детям и внукам передаст ненависть к тем безымянным злодеям, которые весной сорок четвертого года вдруг лишили людей их отчей земли, вывезли на мучительную смерть в чужие края.
В начале мая узнал Февзи, что закончилась война. В совхозе созвали людей на митинг. Облаченный в праздничный шелковый халат один из работников конторы бил в бубен, девушки и парни танцевали прелестные узбекские танцы. Можно было слышать, как в некоторых соседних дворах в голос плачут женщины, которые уже не дождутся возвращения своих мужей или сыновей...
После окончания митинга Февзи подошел к парторгу и спросил:
- Теперь нас отвезут домой?
- Куда отвезут? - не понял парторг.
- Домой отвезут, в Крым? - нетерпеливо повторил Февзи.
- Может быть, - чуть подумав ответил парторг, - может быть, теперь отвезут.
Кто их знает, думал парторг, война закончилась, может и отвезут теперь татар в их Крым. Только, думал про себя парторг, вагонов на обратный путь надо будет раза в два меньше. Сколько их здесь поумирало...
И еще раз, уже осенью, когда начал созревать хлопок, пришел Февзи на место, где он похоронил маму и других близких людей. Он нашел на кусте, выросшем в изголовье материнской могилы, раскрывшуюся коробочку хлопка и вытащив из нее пять нежных долек взял их с собой на память. Он покидал эту землю, и, наверное, навсегда.
Февзи пока еще не говорил о своем решении своим конторским начальникам. Как-то раз зазвал его в свою хибару земляк, немолодой мужчина из одного из горных сел, соседних с его родным селом.
- Февзи, ты что, хочешь навсегда остаться здесь слугой на побегушках? Сын моей сестры в Чирчике поступил учеником в ФЗУ, будет трактористом. И тебе бы надо специальность получить.
- Бекир-ага, узнайте, как в этот Чирчирчик добраться! Я очень хочу на тракториста учиться!
- Не обязательно тебе в Чирчик ехать, и здесь поближе найдется училище.
Бекир подумал немного и добавил:
- Ладно, я сестре напишу, пусть узнает, когда там принимают учащихся. В Чирчике будет тебе к кому иногда зайти.
Через месяц пришел ответ из Чирчика. Принимали в ФЗУ в сентябре. Экзаменов не было, но нужно было иметь хотя бы четырехлетнее школьное образование и достигнуть возраста в четырнадцать лет. Правда, писала сестра, из местного населения очень мало подростков, умеющих хотя бы сносно читать и писать. Поэтому более образованных крымских татар берут без документа об окончании четвертого класса.
Февзи еще только исполнилось двенадцать лет, и он не выглядел старше. Это было проблемой, но Бекир-ага посоветовал ему все же решиться и уехать из совхоза.
- Сытая холуйская жизнь засосет тебя, и через год-два ты не захочешь учиться, - предостерег он мальчика.
Но Февзи уговаривать идти на неизведанное не было нужды. Его деятельная натура требовала перемен, он и сам начал тяготиться своим положением, когда каждый конторский работник помыкал им целый день. Грубы с ним не были, но обращение "Эй, бола! Бор..." - "Эй, малый! Иди..." его уже стало коробить. Он был благодарен парторгу и другим начальникам за доброе к себе отношение (только директор совхоза был высокомерен и никого из служащих низшего уровня не замечал), за то, что приютили его и накормили, но теперь, когда он был сыт, у него появились потребности высшего плана. Он жаждал свободы, ему опостылела его хоть и не голодная, но проходящая в узких рамках жизнь. Просыпаясь утром он уже знал, как пройдет день, кого он увидит днем, кто что скажет, кто как ответит, куда его пошлют... Мальчик жаждал новых людей, новых событий, новых мест. Он хотел верить, что мир не без добрых людей и в неизвестных ему обстоятельствах люди ему помогут, почему бы не помочь, ежели поживиться с него нечем...
Он предполагал, что когда он объявит о своем уходе, то у него могут быть трудности, и весьма серьезные - ведь он был поднадзорным, хотя спецкомендатура ставила на учет только с шестнадцати лет. Могли просто не пустить, а то и сдать в колонию для несовершеннолетних. Поэтому, подсчитав свой небольшой капитал, который он накопил, сдавая в магазин пустые бутылки, он сложил в мешок свой гардероб, о котором позаботился заранее, выпрашивая у работников конторы старые вещи, и отнес все дяде Бекиру. В конце следующего дня он зашел к парторгу и по-узбекски (Февзи довольно хорошо выучил за эти месяцы язык) искренне поблагодарил его за приют, за доброе отношение.
- Я решил поступать в ФЗУ и в ближайшие дни уеду из совхоза, - заключил он.
Парторг очень удивился.
- Разве тебе у нас плохо? Кто-нибудь тебя обижает? Скажи мне, я задам ему трепку!
- Нет, парторг-ака (дядя парторг), никто меня не обижает. Учиться на тракториста я хочу.
- Ну, подожди, ты еще мал. Годика через два пошлем тебя учиться на шофера или на тракториста, вернешься в совхоз и будешь у нас работать.
Парторг был искренен. Он был, вообще-то, из тех, кому в рот пальца не клади. В карьере своей шел по головам, ради денег мог уничтожить любого конкурента. Но мальчик не был из тех, кто мог когда бы то ни было стать на его пути, он его жалел и с удовольствием помогал ему выжить. Однако, лишиться проворного служки не входило в его расчеты, и поэтому погладив его по голове он ласково сказал:
- В свое время, в свое время. Я сам позабочусь о твоей судьбе.
Сам же решил, что сообщит в районную спецкомендатуру о настроении мальчика, пусть приедут и постращают его.
Февзи в спину уходящего парторга несколько раз повторил с искренним чувством:
- Рахмат сизга! Рахмат сизга! (Спасибо вам!) - он знал, что больше они не встретятся.
Вечером, попрощавшись с Бекир-ага, который подробно рассказал ему, как выбраться на шоссе, где его подберет какая-нибудь проезжающая машина, Февзи огородами, огородами покинул совхозный поселок.
Часа через два он оказался на обочине широкой асфальтированной дороги - это было шоссе Ташкент - Самарканд. Уже стемнело, редкие проезжающие грузовые машины ослепляли мальчика светом своих фар и не останавливались. Февзи ощущал необычайный душевный подъем. Впервые он чувствовал себя хозяином своей судьбы, впервые выходил на пространство большой жизни, находя в себе силы преодолеть все преграды. Он присел на обломок бетонного столбика и наблюдал, как из-за поворота сначала появлялся светящийся туман, слышался звук мотора, потом вдруг на шоссе вырывался сноп света и машина, обдав бензиновой гарью и пылью, быстро проносилась мимо. Августовские ночи в Узбекистане бывают теплыми, Февзи уже собирался прикорнуть где-нибудь в сторонке до утра, когда вдруг проезжавшая полуторка выхватила светом своих фар сидящего на обочине мальчика и остановилась.
- Эй, пацан! - шофер высунулся из окна кабины. - Ты чего тут сидишь?
- Дяденька, довезите! - вскочил на ноги Февзи.
- Куда довезти? - шофер распахнул дверцу кабины. - Ладно, давай садись, там разберемся.
Шофер в кабине был один и Февзи удобно разместился на сидении справа.
- Ну, куда ты едешь? - спросил шофер, когда машина набрала скорость.
Февзи поведал, что ему надо добраться до города Чирчирчика.
- Как, как? - засмеялся шофер. - Ну, ты юморист! Не "чир-чир-чирик", а город Чирчик, парень. Запомни, а то завезет тебя кто-нибудь в "чир-чир-чирик". Чего тебе в Чирчике-то надо, родственники там, что ли?
- Да, родственники. Я хочу на тракториста учиться.
- Зачем тебе на тракториста, - смеялся водитель. - Давай на шофера, будешь вот так по ночам ездить. Хорошая работа! А ты что это, на узбечонка не похож, а говоришь с акцентом?
- Татарин я, из Крыма, - и Февзи рассказал про поезд, про смерть матери, про Мурата-эмдже, как он их всех похоронил, как с прошлой зимы проработал в совхозе, и решил, что пора думать о будущем.
- Теперь уже от голода не умру, - закончил он.
Шофер молча слушал бесстрастный рассказ мальчика, который и о смерти близких ему людей говорил, будто бы кинофильм пересказывал. "Как все у него в душе перегорело!" - с горечью подумал шофер. А вслух сказал.
- Я все понял. Доедем сейчас до Солдатского, это здесь такой поселок, там у моего шурина переночуем, а завтра я тебя отвезу в Чирчик. Ты давай, поспи, еще не долго ехать.
Февзи не спал, а привалившись к спинке сидения впитывал новые ощущения. Ожидания его оправдывались, и завтрашний день обещал новые события.
А шофер, мужик лет тридцати, вспоминал, как примерно таким же подростком он оказался здесь в Азии. Правда, отец и мать были с ним, но был каждый из них гол как сокол, - имелись только руки, привыкшие к крестьянскому труду. Выслали их сюда с Рязанщины, высадили на голом берегу большой мутной реки, Сырдарьей называется. Первый год прожили они в камышовых шалашах. Ловили рыбу, которой были полны плавни и заливчики, коптили ее и продавали в большом городе. Завели пчелиные семьи, торговали медом. Для своих нужд разводили свиней, завели и овец, которыми тоже торговали. И по прошествии пяти-шести лет выстроился на правобережье великой азиатской реки поселок из аккуратных домиков, слепленных, правда, из сырого саманного кирпича, но аккуратно побеленных известкой, с двухскатными крышами, крытыми железом. Рядом с каждым домом стояли баньки, рубленные из местных дерев. А на лавочках у крылечек сидели постаревшие деды в фуражечках с твердыми черными козырьками.
Грузовик затормозил у одного из таких домов, и шофер растолкал уснувшего все же пацана. Постучали в темное окно. Во дворе залаяла собака, послышался скрип двери и шарканье тяжелых сапог.
- Кто? - спросил недобро мужской голос.
- Это я, Николай, открывай, - ответил шофер.
Слышно было, как Николай отодвигает засов. Калитка отворилась, и шофер обменялся с хозяином рукопожатием.
- Я с гостем, найдется где переночевать?
- Давно не заезжал, как дома? - хозяин уже шаркал к сеням.
- Все хорошо, Зинка велела привет передать.
Они вошли в дом. Сонная немногословная хозяйка быстренько собрала на стол, хозяин поставил на стол бутылку с мутной жидкостью. Февзи с удовольствием выпил кружку молока, а мужики приняли по стопарику, и закусив огурчиком да пирожком, отправились спать. Февзи было в диковинку видеть кровати за белыми занавесками, широкие лавки под окнами, большую печь посреди комнаты, куда-то за трубу которой забралась спать хозяйка, постелив мальчику на одной из лавок.
Рано утром, наскоро перекусив, путники поехали дальше. Через час въехали в большой город. Февзи никогда не видел такого количества домов стоящих вдоль всей улицы, некоторые из них были в два-три этажа.
- Это Ташкент, - пояснил мальчику шофер, - Ты был когда-нибудь в Ташкенте?
- Нет, никогда. Я вообще такого большого города никогда не видел!
- Да, Ташкент очень большой город! - подтвердил шофер, который повидал на своем веку такие города, как Самарканд, Андижан, Фергана. В сравнении с этими городами столичный Ташкент, действительно, был большим.
Нигде не останавливаясь, грузовик за час проехал город насквозь. Появились по обе стороны дороги дымящие трубы заводов, и вскоре путники выехали из города. И тут Февзи увидел вздымающиеся вдали горы и не удержался от восторженного крика.
- Горы! Какие высокие горы!
- Твой Чирчик прямо под этими горами и расположен. Еще насмотришься! - ответил шофер, довольный произведенным на мальчика впечатлением, будто бы он сам воздвиг эти величественные горы. Чаткальский хребет Тянь-Шаня не относится к высокогорному району, но вид его весьма внушителен.
По мере приближения к Чирчику горы охватывали дорогу с двух сторон. Справа тянулся вдоль всей дороги Коржантау, впереди все большую часть неба охватывал Большой Чимган. Стало прохладней, и Февзи уловил во вкусе врывающегося в окно кабины ветра что-то знакомое.
- Горы... - вполголоса опять произнес мальчик, и шофер не понял, почему это вдруг его юный попутчик стал грустным и молчаливым.
Проехали мимо какого-то большого завода, из труб которого шел цветной дым.
- Химический комбинат, - пояснил шофер. - Сегодня ветер с гор и относит эту дрянь в сторону. Ну, тебе куда?
Февзи наизусть затвердил адрес сестры Бекира и он назвал улицу и дом. Раза два шофер справился у прохожих и вскоре остановил машину пред длинным заводским бараком.
- Все, приехали!
Февзи по-мужски долго тряс руку шоферу, который оказался таким добрым к нему.
_ Ладно, давай иди! Я как-нибудь заеду, узнаю. Как твою тетку-то зовут? Мафузе? Ну и имя! Ладно, будь здоров!
Шофер уехал.
Февзи нащупал в кармане записку от Бекир-ага и пошагал к бараку.
...Мафузе вошла в комнату, притворив за собой дверь.
- Товарищ комендант, дай справку моему племяннику для поступления в ФЗУ. Все на меня свалилось, на мою несчастную голову! Мать его умерла, отец на фронте, я сама без мужа. Не знаю, как своих двух детей прокормить. Племянник уже большой, пусть в ФЗУ живет.
- Ну, что ж, хорошо. Пусть идет учиться. Давай документы, - говоря это комендант предполагал, что документов не окажется. - Эй, пацан, заходи сюда! - крикнул он в коридор.
Февзи зашел и, поздоровавшись, скромно стал у дверей.
- Ну, давай документы, чего тянешь.
- Какие документы, товарищ комендант? Нас выселяли, когда на собрание в клуб пригласили. Никто домой зайти не мог, ничего не взяли. Документы! Какие документы?
Да, и такое бывало, комендант уже это знал. Во избежание бунта приглашали все население деревни на "общее собрание, где будут списки на оказание помощи составлять". А из клуба под дулами автоматов сажали орущую толпу в кузова машин. А если дать две-три автоматные очереди в воздух, то ор затихал и все как овечки сидели. Машины отъезжали, а если в домах оставались малые дети или больные старики, то их потом собирали в другие машины. Эти сборные машины потом могли быть загружены в другие эшелоны и оставшиеся без присмотра малыши и старики, если выживали в пути, то очень скоро умирали на поселении. Комендант много ужасных сведений получил от своих поднадзорных.
- Ну, ладно. Тогда порядок такой. Находишь двух свидетелей, которые подтверждают имя твоего племянника и год его рождения. После этого я дам тебе справку. Найдешь свидетелей?
- Вай, моего племянника Февзи вся деревня знает! Кто его не знает? Только, товарищ начальник, опять приходить надо, опять тебя беспокоить будем. Давай, сразу напиши справку! Все знают моего племянника!
- Мне, уважаемая, отчитываться за вас всех надо. Придут меня проверять, а справка выдана без документов, а? Так что, давай, приводи свидетелей.
- Хорошо, - вскочила с места Мафузе, - есть свидетели!
Она выбежала в коридор, где в ожидании приема по каким-то своим делам сидело несколько татар. Мафузе быстренько на татарском языке объяснила ситуацию, и сейчас же двое мужчин, затвердив наскоро имя, фамилию и год рождения Февзи, зашли к коменданту, и своими подписями подтвердили истинность сведений о претенденте на документ. Год рождения Мафузе специально сдвинула назад, потому что тринадцатилетнего могли в ФЗУ не принять. Конечно, комендант понимал, что это за "свидетели", но если все дела с этими переселенцами делать по строгим предписаниям, то никаких дел и не будет - у многих деревенских жителей документов вообще никогда не было, а многие не смогли ничего из дому своего взять.
Вышли женщина и мальчик из комендатуры очень довольные провернутым делом. На руках у Февзи была справка с печатью, и теперь дорога на обучение специальности шофера была ему открыта.
Глава 24
Где-то в конце шестидесятых годов, в "эпоху Брежнева", появилась эта песня-шляггер: "С чего начинается Родина? Со стука вагонных колес...". Для меня и для многих моих ровесников Родина, действительно, началась со стука вагонных колес. До того жили мы в своих городах и деревнях, не вдаваясь глубоко в заботы взрослых. Малые дети, мы самоидентифицировались уже в годы войны. Мы не придавали значения тому, что Колька русский, а я татарин, дружили и дрались независимо от принадлежности к той или иной национальности. Только здесь, в тесноте заколоченных вагонов, пришло к нам, детишкам, национальное самосознание.
- Почему у нас все отняли и везут куда-то? - спрашивал я у отца.
- Потому, что советская власть решила отправить нас в ссылку, - отвечал отец.
- А почему Колька остался, мне с ним было бы веселей, - хныкал я, - почему Кольку не отправили в ссылку?
- Потому, что Колька русский, а ты крымский татарин, - отвечал отец.
Так пришло ко мне понимание того, что я крымский татарин и только по этой причине меня ночью выгнали из дома, не позволили взять любимые книжки и игрушки, погрузили в вагоны для скота. А Колька остался у себя дома, ему хорошо, как и прежде, он спит, как когда-то я, в кровати, потому что он русский.
А я крымский татарин, мне голодно, мне страшно, меня куда-то везут в этом ужасном движущемся ящике, где плачут взрослые люди, где умирают старики и больные, и обернутые в белое полотно трупы лежат посереди вагона - места у стен удобны для живых.
Где мои игрушки и книги, где моя всякая одежда, где посуда, из которой я ел и пил? Где все то, что было недавно моим? А у Кольки все свое осталось, а может, он и мое оставленное прихватил, потому что он остался жить в том дворе, где жил и я, потому что он русский.
Вот так, господа-политологи, формируется национальный менталитет в России.
Летом семьдесят пятого года я ехал в маршрутном автобусе из Крымской астрофизической обсерватории в Бахчисарай. В салоне автобуса были расклеены плакаты, призывающие беречься от гриппа. Одна часть плакатов была на русском языке, другая - на украинском. Пьяный мужик вдруг начал ругаться во весь голос.
- Везде говорят, что Крым русский, чего же плакаты на украинском развесили? Сорвать их надо, к такой их матери! Крым - русская земля! Не надо нам здесь хохлов!
Тут другой пассажир, по-видимому, украинец, подал свой голос.
- Чего кричишь? Крым - это украинская земля! И не выступай, шовинист вонючий!
Перепалка разрасталась. Вмешались женщины, одни визжали "Убирайтесь к себе в Хохляндию!", другие столь же пронзительно орали "Кацапы проклятые, все под себя гребут! Наш Крым, украинский!"
Впереди меня сидел какой-то мужчина, по виду простой работяга, русоволосый и голубоглазый. Он, посмеиваясь, вполголоса вставил свою реплику:
- Чего это из-за чужого имущества ругаетесь? Крым татарский, а не русский и не украинский.
Орущие то ли не услышали, то ли сочли за благо не услышать эту бесспорную истину, и высокий патриотический "спор славян между собою" перешел, как водится, на личности. Хорошо, что автобус подошел к остановке, где большая часть пассажиров сошла, а вместе с ними и наиболее агрессивные патриоты. Насмешливый мужчина ехал дальше. Не думаю, что он распознал во мне татарина, вернее всего он определил во мне приезжего из столицы. И уже обращаясь непосредственно ко мне стал говорить.
- Татар выслали, а теперь ругаются из-за их земли. А за что их выслали? Вот, смотрите, мы проезжаем через татарский Бадрак, а там дальше будет русский Бадрак. Все полицейские при немцах и в той, и в другой деревне были из русского Бадрака, а выслали за сотрудничество с немцами почему-то татар.
Мне, конечно, было чрезвычайно приятно слышать такие речи, но я был в то же самое время и очень удивлен. Я внимательно оглядел словоохотливого пассажира - уж не татарин ли? Да нет, ни по виду, ни по говору никак на татарина не походит. Просто здравомыслящий, нормальный русский человек. Я как мог бесстрастно спросил его, возвращаются ли татары теперь в Крым, на что он ответил, что они вроде стали приезжать, да власти не стали их прописывать, стали отнимать купленные дома, и многие вынуждены были вернуться назад, в чужую для них Азию.
Ей богу, и сегодня еще я удивляюсь этой встрече.
А в Бахчисарае опять же маленькое, но приятное для сердца бедного крымского татарина событие. Я поднялся по крутой улочке повыше и остановился, оглядывая расположившийся внизу тесный лабиринт старых татарских дворов. Простояв так минут пять в глубокой грусти (каждый татарин грустит, когда видит свои села и города во власти чужаков), я вдруг заметил, что на заборе сидит и глядит на меня полненький мальчишка лет десяти. Растерявшись от неожиданности, я улыбнулся ему и произнес:
- Какие на твоем дереве крупные персики!
На что он ответил мне.
- Это еще не крупные. Дед мой говорит, что при татарах здесь вот такие персики были! - и он показал руками нечто больше подходящее по размерам на средней величины арбуз.
Если сегодня жительница крымского приморского города вещает по российскому телевидению, что ей все равно, будет ли Крым русским, украинским или белорусским - главное, чтобы оставался славянским, то это движение ее души можно понять: она боится, что ей придется отдавать татарский дом татарской семье, десять поколений которой проживали в этом крепком доме из крымского известняка. Точно так же человек, проживающий в коммунальной квартире и захвативший комнату арестованного соседа, не хочет возвращения этого соседа из ГУЛАГа.
Другой допущенный на всероссийское телевидение субъект, с дрожью в голосе заявляет, что не собирается уезжать из Крыма, потому что здесь похоронен его дед-полковник, получивший этот татарский дом за боевую доблесть на фронте. Да не уезжайте, живите в наших старых домах! Мы научились строить дома намного лучшие, чем те, которые так вам нравятся, и мы привыкли жить рядом с добрыми соседями славянами. Но не делайте вид, что забыли о том, что у татар здесь похоронены неисчислимые поколения!
Многое трудно понять человеку с нормальной нравственностью в поведении его современников, клеветавших, писавших доносы, мечтавших отнять чужую землю и чужой дом.
Скажите мне, как можно заявлять свое право на жилье, полученное от властей в награду за действительную воинскую доблесть и не задуматься при этом о том, что же случилось с теми людьми, которые построили этот дом на своей земле для себя?
Невозможно понять человеку с нормальной нравственностью, каким это образом какой-нибудь гестаповец или некий чекист после полных трудов дней и ночей возвращается домой и ласково обнимает жену и детей, как он проявляет заботу о своих родителях. Неужто эти мучители и садисты какие-то особенные люди, монстры с врожденным сродством к издевательствам над людьми? Наверное, бывали случаи, когда работник репрессивных органов, гордившийся до того своей службой "на переднем крае борьбы за благо человечества", кем бы это благо не определялось, - фюрером или любимым вождем всех народов, - вдруг столкнувшись с необходимостью проводить физические или моральные пытки арестантов, уходил из этих органов или хотя бы пытался уйти, подвергая риску себя и своих близких. Но могло происходить и так, что человек без врожденных, казалось бы, садистских наклонностей, не предполагавший, что на работе, требующей "держать руки в чистоте", придется бить, резать, расстреливать, морально издеваться, со временем, по мере выполнения должностной инструкции, и бьет беременных женщин, и режет связанных мужчин, и расстреливает, и подвергает издевательствам ученых или писателей, которые составляют гордость всего человечества. Как и почему так трансформируется человеческая душа?
В одних и тех же условиях одни ведут себя бесчеловечно, другие сохраняют свою нравственность. Моего приятеля сбил на городской улице проезжающий на «мерседесе» немецкий офицер. Не так уж важно, что мальчишка сам был виноват, ибо неосторожно перебегал улицу. Однако можно было ожидать, что мужчина за рулем проявит присущую человеку озабоченность судьбой покалеченного, по всей вероятности, ребенка. Однако офицер умчался, не затормозив. Но другой офицер вермахта отвез мальчика в военный госпиталь и вылечил его. Неужели же уже при рождении человека предопределено, быть ли ему в раю или в аду?
Невозможно понять нормальному человеку, как можно приютить у себя беглеца с целью выдать его преследователям. В Сибири дома селян имели задние окошка, в которые хозяева выставляли кусок хлеба, сало и крынку молока для путников, не имеющих желания быть обнаруженными. Почему же при "самом гуманном строе" этот обычай исчез?
У исповедующих ислам народов гостя, кем бы тот ни был, положено приютить и защитить. И такой обычай был не только у последователей ислама. Вспоминаю рассказ одного армянина, несколько лет содержавшего кофейню на пляже отдыхавших в Гаграх писателей, - его должны помнить многие, он потом готовил кофе в московском писательском Доме, - вспоминаю его красочный рассказ о событиях четырнадцатого года, когда турки убивали армян, а армяне турок. Отец моего армянина спрятал у себя в доме соседа-турка. Когда все же по доносу к нему ворвались жаждущие крови соплеменники, он вывел турка в ущелье через потайной ход в старом колодце. Но соплеменники, встретив возвращающегося хозяина, стали избивать его и к тому же вывели во двор его жену и детей. Турок не успел уйти далеко в горы и видел это. Он был вооружен и вернулся, чтобы защитить своего спасителя. Это ему удалось, и он увел армянина с семьей в турецкий анклав. Вместе они налаживали жизнь, вместе потом уехали в Абхазию.
- В сороковых годах отец не смог защитить своего турецкого друга, когда всех турок выселяли ночью куда-то за Урал, - говорил мой друг-армянин. – Умирая, отец велел мне искать Мустафу, но никаких сведений о нем я ни от кого не смог получить.
Невозможно понять нормальному человеку, как можно возмутиться этим повествованием и назвать отца рассказчика предателем, но я сам видел такого самоуверенного субъекта, моего современника. Что это за время, в котором нам довелось быть? Кто внес такие коррективы в мораль?
Невозможно понять движения души молодой русской учительницы, попавшей по распределению в северный поселок, когда она наказала своего ученика, давшего напиться воды из колодца проводимым этапом по поселку зекам. Господь простит ее, потому что она покаянно рассказывала о своем грехе спустя лет двадцать после комсомольской юности. Но ведь было такое в ее жизни. Кто внушил девушке ненависть к обездоленным?
И я присягаю на всех священных книгах человечества, что не из сердца человека, не из его головы проистекают эти непостижимые поступки. Рев, вой, шипенье казенного, свирепого патриотизма, по выражению Александра Герцена, заглушает всяческое человеческое чувство и превращает слабые души в постыдный рупор, в преступный инструмент авантюристов-державников.
Нынче стало обычным для некоторых людей, знающих о жизни по опыту, полученному не далее границ Садового кольца в городе Москве, стало обычным с насмешкой говорить о "так называемой дружбе народов в Советском Союзе". Да нет, милые вы мои, чрезмерно увлекшиеся критикой всего, что было прежде, дружба народов была, и была она в пределах, очерченных невмешательством советской власти. Спросите об этом у жителей сел и городов национальных "окраин" бывшего СССР. Вам расскажут, как люди дружили, соединялись в браке, дрались и защищались, не различая национальностей. Каждый знал сам про себя, что он армянин, узбек, грузин, украинец, татарин, а какой национальности его лучший друг или злейший враг - это было совершенно не важно. Но когда обеспокоенная такой истинной дружбой народов власть использовала свои испытанные пропагандистские меры, то это, к сожалению, часто срабатывало. А властям истинная дружба народов была совершенно не нужна, она боялась единения людей перед лицом деспотического режима.
Но были у советской власти и "первые ученики", бескорыстные "патриоты" державных идей. Это они называли узбеков в Узбекистане "зверями", эстонцев в Эстонии "гансами", обставляли города национальных республик провокационными лозунгами типа "Слава великому русскому народу". Для этих холуев понятие "дружба народов" было разменной монетой и трактовалось как требование, чтобы на кремлевских коммунистических концертах девушки и юноши в своих национальных костюмах танцевали под "барыню.
Философа Иммануила Канта поражали две вещи: звездное небо над головой и нравственный закон в душе человека. Второе обстоятельство некоторые люди, предоставляющие чрезмерные права эмоциям в ущерб анализу, порой ставят под сомнение. Но нравственности в людях действительно больше, чем безнравственности. Если вынести за скобки маньяков и безусловных мерзавцев, таких, как, например, Нерон, Иван Грозный, Лысенко, авторов войн от Второй мировой до чеченской, которые, безусловно, вне нормы, то человечество во все эпохи исповедует приоритет добра, сочувствия, взаимопомощи. Не много можно привести примеров злодеяний, совершаемых без наущения властей (которые в этом случае как раз среди тех, которые вынесены за скобки), без мнимого или действительного ощущения надвигающейся опасности, без, наконец, чувства отчаяния, когда близким тебе людям грозит гибель от голода или от болезни. Иными словами, приказ командира, страх и голод - вот причины, заставляющие человека совершить преступление перед совестью, перед Богом.
Вектор нравственности и доброты, должно быть, являлся определяющим в природе человека, но еще в начале времен цельная картина была разбита на осколки, как рисунок, изображенный на листе картона, может быть разрезан на множество мелких фрагментов - подобие модной забавы "Puzzle". Нам, ли смертным, ведать, зачем это было сделано. Возможно, во имя Движения, ибо в Совершенном не может быть движений. И вот - сколько человеческих существ, столько и фрагментов. Великая догадка в одной голове, не соединившись с ее продолжением в другой, остается бессодержательным обрывком. Соединение происходит или при непосредственном общении современников, или даже через века - через великие книги. И история человечества представляется как настойчивая страсть создать из множества разрозненных осколков изначальную гармоничную структуру.
Создав причину Движения, Бог должен был задать направление, ибо движение немыслимо без направления. Но направив Движение в сторону зла можно придти только к разрушению - это плохая игра. Задав же Исходным направление к Добру, Бог, чтобы игра была долгой, разложил Вектор по всем существующим в пространстве-времени направлениям, чтобы была борьба, чтобы были ошибки и необходимость их исправлять. Векторы-фрагменты сталкиваются, складываются, обращаются в ту или иную сторону, распадаются, но, многократно меняя ориентацию, все же упорно приближаются к Исходному. Игра Всевышнего, разумеется, должна быть сложнее шахмат, а ведь и шахматы весьма многосложны. Однако, любая игра приходит к концу. Гений Создателя рассредоточился во времени и в пространстве. В конце концов, все знание, полученное человечеством, станет равным знанию, заложенному Богом в мироздание. И тогда замкнется кольцо Времени, и воссоединятся прошлое, настоящее и будущее. Можно скинуть фигурки в ящик до поры, когда появиться Желание возобновить другую игру.
А пока человечество изнемогает в попытках собрать из хаоса мнений, оценок, заблуждений и прозрений Изначальную Картину. Иные, с шорами на глазах и на сердце, полагают, что из хаоса можно выйти чеканным шагом в едином строю - это механистически мыслящие, опасные безумцы. Единением душ, а не дивизиями воинов, воссоздается Начало.
Религии мира по-своему пытаются воссоединить души, но...
" С десяток или два - единственных религий, Все сплошь ведущих в рай - и сплошь вводящих в грех..."- так писал Бодлер. Религии создаются людьми в меру понимания ими пророчеств. Какие пределы достигнуты религиями, чтобы воплотились в действительность заветы пророков, излагавших заповеди? Чисты ли всегда помыслами старейшины мировых религий, всегда ли они откликаются на мольбы обездоленных, всегда ли выступают против злоупотреблений политических вождей своих стран?
Но роль религий велика, и она будет возрастать по мере осуществления экуменических идей. Еще одна великая идея Всевышнего, имеющая целью усложнить Игру - дать направление разным религиям, которые, конечно же, вопреки непреклонности некоторых людей, должны со временем слиться в одну, ибо Бог един. Джонатан Свифт однажды с горечью заметил, что "мы религиозны настолько, чтобы возненавидеть друг друга, но недостаточно, чтобы возлюбить ближнего". Мне привелось испытать глубокое волнение, когда в Стамбуле я увидел триединый храм: иудейская синагога, христианская церковь и исламская мечеть прославляли Всевышнего в едином трехдольном здании. Хочу верить, что этот храм - прообраз того будущего, которое предшествует полному отсутствию разделяющих стен между верующими в Создателя.
Нравственное единение в Начальном Векторе - это не единение на митингах, осуществляется оно не на парадах под едиными знаменами, оно выражается не в партийных скандированиях или раскачиваниях с пивными кружками в руках. Оно, в частности, в том, когда все знают, что обижать маленьких нехорошо, что убивать за форму носа совсем уж плохо, что радоваться тому, что тебе достанется дом и хозяйство выселенного в Сибирь соседа грешно, что ксенофобия есть пережиток каменного века. Нелегок путь от "Rulle", от "uberalles", от "сплотила навеки" до единого человечества, живущего в отдельных квартирах.
Нравственное воссоединение совершится в свое назначенное время. Вопреки вульгарным мнениям, каждый новый век нравственно совершенствует человечество. Мыслимо ли было ожидать извинений от монгольских ханов или от вождей крестоносцев за совершенные ими разорения? А в двадцатом веке две нации уже повинились за преступления против человечности, хотя третья, тоже очень греховная, уже не успела всемирно покаяться, а век уже прошел. Может, в новом тысячелетии?
Культура и наиболее действенная ее ипостась - литература! Здесь эффективнее всего действует Время. Но как сложны пространственные связи! В той части населенной земли, где литература отказывалась от всемирного блага, добытого ценой слезы ребенка, во все века кровь детей и взрослых лилась ручьями. Разрушали не только чужое, но и свое. Однако, все больше чужое. Тому множество свидетельств. Например, Александр Грибоедов, посетивший Крым в июне 1825 года и пробывший на полуострове по сентябрь, пишет после посещения Феодосии и Старого Крыма в своем письме Бегичеву от 12-го сентября, пораженный мародерством российских властей: "...явились мы, всеобщие наследники, и с нами дух разрушения. Ни одного здания не уцелело, ни одного участка древнего города не взрытого, не перекопанного".
А о том, каким прекрасным городом был Солхат - Старый Крым, есть запись в "Истории государства Российского" самого Карамзина, который делиться впечатлением от посещения этого старинного города и сообщает о заслуживающих удивления путешественников прекрасных дворцах, мечетях, медресе, караван-сараях. И везде мрамор, бирюза, золото. Всадник едва может на хорошем коне, пишет Карамзин, объехать в половину дня все улицы этого великого и пространного города. Нынче нет и следов от тех великолепных строений, о которых рассказывал великий российский историк.
Куда все исчезло, ведь камень не дерево, мраморные плиты не могли сгореть? А все в Петербург увезли, дворцы знаменитые из мрамора наших крымских дворцов и школ выстроены. О том и архивные документы сообщают...
Александр Грибоедов с горечью завершает свое письмо: " Что ж. Сами указываем будущим народам, которые после нас придут, когда исчезнет русское племя, как им поступать с бренными остатками нашего бытия...".
Господи, прими молитву раба твоего, чье государство уничтожила Россия, чьи города испоганила, разрушила до фундаментов дворцы и храмы, школы и караван-сараи, чьи кладбища сравняла с землей, а камни надгробные вывезла в свои столицы для строительства своих дворцов! Господи, не приведи к разрушению российских дворцов и храмов, кладбищ ее, не допусти осквернения созданного руками человека, созданного трудом многих поколений! Сохрани во всей их красоте древние города сей земли, ибо нет греха на строителях их кроме греха легковерия!
Мы же для восстановления своих зданий добудем новый мрамор, новую бирюзу, новое - лучшее! - золото.
Глава 25
Год прожили Тимофей Иванович и Антонина Васильевна вместе со своей тетушкой Валентиной Степановной в приволжском поселке. Валентина Степановна, то есть Хатидже-оджапче, непрестанно думала о своих дочерях, не знала, живы ли они, сумеет ли она их найти. Своим названным родственникам разговорами о своем самом главном она старалась не докучать, но именно в ее сдержанности ощущалась та безмерная боль, которую женщина испытывает. Временами сам хозяин начинал разговор о путях поиска девочек. Прежде всего надо было узнать, в какой из традиционных регионов насильственного выселения отправлены крымские татары. Решено было, что Антонина Васильевна поедет в Крым, в Симферополь и разузнает, не получали русские соседи высланных татар писем от своих бывших друзей и знакомых. Ехать по этому делу самой Хатидже было нельзя, разъезжать с расспросами о репрессированных татарах в эту пору мужчине, пусть и не молодому, также было небезопасно, тем более, что имел он не вполне надежное положение. Женщина же, да закутанная в платки, да с торбой за плечами была типична для тех лет и не привлекала внимания своими разговорами о пропавших родственниках или друзьях. Через какое-то время на огурцах, которыми "тетя Валя" торговала в городе, были заработаны необходимые деньги, и Антонина Васильевна отправилась в путь.
Вернулась она через три дня и поездка оказалась полезной. Перво-наперво отправилась Антонина Васильевна в Симферополе в дом, где проживала до отъезда в деревню бабушка с внуком Дияном, и который они, заперев двери, оставили на попечение соседей. Соседи узнали тетю Тину, но утешить ее вестью о бабушке с внуком не могли - писем от них не получали. В доме, где когда-то нашли приют супруги из Мелитополя, поселили какого-то однорукого капитана с семьей. Бывший офицер безбожно пил, лупасил уцелевшей рукой замученную жену и двух дочерей, и называл всех соседей по двору не иначе, как предателями, пособниками немецких оккупантов. Жена его тоже проходила по двору ни с кем не здороваясь. Жила эта семья до войны где-то в казармах на земле Белоруссии, и в обмен на потерянную на войне руку капитану дали жилье в Крыму. Но он считал себя обделенным, потому как на его семью из четырех человек дали "татарскую развалюху". Надо сказать, что соседи боялись капитана, боялись его угроз "всех вместе с татарами выслать" - люди думали, что они и впрямь все виноваты перед советской властью за то, что жили два с половиной года в оккупации, "при немцах".
- Капитан распродал все бабушкины книги, - шепотом говорили они Антонине Васильевне. - На самогон променивал.
Горько было Антонине Васильевне все это слышать, но еще горше было думать, что если нет от бабушки писем, то лихо приходиться старушке, да и живы ли они...
Соседи смогли помочь только сообщением, что другие получают письма от татар, что все письма приходят из Узбекистана. Антонина Васильевна пошла в тот район, откуда выселили Хатидже с дочками, и порасспросив жителей нескольких дворов пришла к однозначному выводу, что всех татар выслали в Узбекистан. Огорчало то обстоятельство, что письма шли из разных областей этой азиатской республики - то ли развезли эшелоны в разные места, то ли люди потом успели разъехаться. Настойчивой женщине хотелось точнее узнать, из каких мест отправлены были письма, но оказалось, что все получатели писем, опасаясь обвинений со стороны властей в поддерживании связей с врагами советской Родины, уничтожили конверты с адресами. Только и удалось записать Антонине Васильевне несколько названий городов далекого и незнакомого Узбекистана, запомнившиеся адресатам, да и за точность этих кое-как запомнившихся названий никто не отвечал. Во всяком случае, было ясно, что дочери Хатидже попали не на Урал и не в Сибирь, а в Среднюю Азию.
От имени Антонины Васильевны в НКВД Узбекистана Тимофей Иванович написал запрос о местонахождении высланных из Крыма девочек - далее сообщались имена, фамилия, прежнее местожительство. Мотивировалась просьба тем, что "это дочери моей подруги детства". В пришедшем через два месяца ответе в двух строчках сообщалось, что сведений о переселении в Узбекистан населения из какого-либо региона не имеется - подпись неразборчива.
Тимофей Иванович написал письмо в Ташкент своему двоюродному брату, который в двадцатых годах бежал из Самарской губернии в Узбекистан. Брат работал на тракторном заводе и в ответном письме сообщил, что у них на заводе работают крымские татары. Если будут подробные сведения о девочках, - где они жили, откуда их выслали, то можно будет начать поиски. Это был хороший шанс, и в Ташкент тотчас же было сообщены имена девочек, имена их родителей и других родственников, а также полученная в Симферополе информация о предполагаемом названии мест, где могли оказаться ехавшие в их эшелоне люди.
Между тем наступила осень. Обитатели маленького домика на окраине города собрали урожай картошки и лука, тыква в этот год поспела хорошая, крупная. На зиму еды должно было хватить, да еще двух кабанчиков взялись откармливать на продажу. Хатидже купила шерсть, напряла нить и стала вязать носки - тоже на продажу. Весной, по всей видимости, придется ехать в Узбекистан.
Брат, который принял близко к сердцу несчастье потерявшей детей женщины, вскоре сообщил названия городов, где предположительно могли находиться девочки. Среди этих городов был и Коканд, но были и Бегават, и Андижан, и Наманган... Крымчане, работавшие на тракторном заводе, предпринимали отчаянные усилия, но следы девочек отыскать не удавалось. Была сочинена легенда, что поиски ведут русские родственники оставшихся сиротами девочек. На имя Тимофея Ивановича пришли письма от двух-трех старых знакомых Хатидже, в том числе и от тех, кто был в том самом эшелоне. Но никому не было известно местонахождение ее дочерей. Одна из корреспонденток сообщала, что девочек взяла к себе женщина по имени Селиме. По этому имени пробовали отыскать девочек те, кто оказался причастен к поискам. Но никто из ехавших в том эшелоне не знал, что Селиме уехала на шахты в Майли-сай, поэтому ее исчезновение вместе с детьми заставляло думать о самом худшем...
Не имея представления о реальном масштабе трагедии своих земляков, Хатидже даже несколько успокоилась. Такое всеобщее участие в поисках ее дочерей внушало ей надежды, что их не могут не найти. Она ждала конца зимних непогод.
В самом конце апреля, когда огород был вскопан и засажен, Хатидже вместе с Тимофеем Ивановичем собрались в поездку. Отварили картошки, завернули в полотенце две буханки ржаного хлеба, да еще прихватили торбочку сухарей - кто знает, как там в Узбекистане будет. С небольшими котомками за плечами отправились путники через степь к железнодорожному полустанку, Тимофей Иванович решил не привлекать внимания к себе и к Хатидже на городском вокзале, где шныряли милицейские и чекистские шпики.
За трое суток в переполненном общем вагоне доехали до Ташкента. Тесный и шумный трамвай довез их до поворота под мост, откуда надо было добираться пешком. Город поразил их многолюдностью, разнообразной публикой, среди которой узбеки встречались редко - все больше убого одетые, говорящие по-русски жители.
Брат Тимофея Ивановича имел небольшой и приземистый, но свой домик в конце улочки, отходящей от большой дороги, по которой в обе стороны катили, поднимая клубы пыли, грузовики, груженные по большей части разнообразными строительными материалами. Накормив гостей хорошим украинским борщом, который хозяйка сварила на костном бульоне, Михал Михалыч, так звали кузена, отправился за татарином Исмаилом, с которым вместе работал. Все делалось с соблюдением конспирации, ибо, если повезет, предполагалось похитить и тайно от НКВД увезти двух татарских девочек - спецпереселенок. Хатидже здесь выступала под именем тети Вали, якобы жены погибшего на войне родного дяди девочек. Исмаил рассказал, что поиски дочерей Хатидже сильно затруднены тем, что татары здесь не имеют права свободно перемещаться даже в пределах города. Есть строго очерченные кварталы, выходить за пределы которых запрещено - по граничным улицам ходят шпики, среди которых, к великому стыду, есть и крымские татары, и перешедшего на противоположный тротуар ожидает суровое наказание, вплоть до многолетнего срока заключения. Тимофей Иванович и Хатидже не хотели верить сказанному, но Михал Михалыч подтвердил и назвал даже парня из крымских татар, семья которого снимала для жилья землянку в соседнем дворе, и которого отправили за прогулку в центр Ташкента в лагеря, куда-то в Голодную степь, на рытье канала.
Здесь услышала Хатидже о массовых смертях своих земляков летом и осенью прошлого года.
- В зиму вошли уже только крепкие, умирали этой зимой меньше, - рассказывал Исмаил, и поспешно добавил: - Но умирали главным образом старики и дети, малые дети...
Много продумавшая всего Хатидже не предполагала, что действительность оказалась страшнее ее самых пессимистичных измышлений. Массовая гибель народа, тюремное заключение за переход на другую сторону улицы - это не умещалось в голове. В такой ситуации исчезала надежда на то, что она увидит своих несчастных дочерей...
- Эй, эй, эй! Мы зачем сюда приехали, чтобы слезы лить, что ли? Возьми себя в руки, мы должны искать твоих девочек! - встряхнул свою спутницу Тимофей Иванович.
Недотепа Исмаил тут сказал новость, с которой ему и следовало начинать разговор:
- Тут на днях один из наших встретил на местном базаре земляка, переехавшего сюда из Киргизии к родственникам, из поселка, кажется, Майли-сай. Говорит, там женщина у них рассказывала, как две девочки в их вагоне остались сиротами, мать их задавило поездом где-то в пути. И такое бывало. Так что живым не надо терять надежды.
Хатидже молча глядела на Исмаила, а Тимофей Иванович, понимая, что совпадения возможны, но маловероятны, и что молва со временем искажает содержание любого события, с холодным спокойствием произнес:
- Давай сюда этого приезжего, он мне нужен сейчас же.
- Найдем, найдем, - успокаивающе произнес Исмаил. - Сейчас, дайте подумать.
Прокрутив в мыслях цепочку знакомств Исмаил воскликнул:
- Все! Я знаю, где его найти! Можно хоть сейчас идти!
- Идем! - вскочила Хатидже.
Но Тимофей Иванович, еще там у себя дома продумавший план всей операции, категорически возразил:
- Наш приезд разглашать не надо. Тем более, что вы сами рассказываете о шпиках, следящих за каждым шагом татар. Дело может кончиться тем, что нас схватят и сурово накажут. Представляете, чем это может кончиться? Поэтому о нашем приезде никто кроме здесь сидящих не должен знать. Сейчас к этому приезжему из Майли-сая пойдем мы вдвоем с Исмаилом и спокойно, как бы просто из любопытства порасспросим. А повод, по которому мы зайдем к ним мы с Исмаилом придумаем по дороге.
Хатидже очень хотелось возразить, но она заставила работать свой ум, а не чувства, разумность решений Тимофея Ивановича она давно признала.
Когда вернувшийся Тимофей Иванович поведал, что имя женщины, рассказывавшей о судьбе двух девочек Селиме, бедная Хатидже закатила глаза. Когда ее отпоили валерьянкой, то радостный Тимофей Иванович сообщил, что поезд на Майли-сай уходит нынче же ночью и что он оставляет Хатидже на попечение Михал Михалыча и его жены, а сам незамедлительно отправляется в путь. Хатидже не возражала, а все соображала, что по словам Селиме девочки "остались сиротами". Значит - остались!
Время после отъезда Тимофея Ивановича шло неимоверно медленно. Но бедной матери надо было смириться и ждать, ждать. Назавтра пришел Исмаил, пригласил к себе.
- Посторонних не будет, только одна старая женщина, добравшаяся до здешних своих родственников пешком из Бухары, - говорил Исмаил. – Жена моя решила устроить для нее «кош кельды». Ну, будут еще ее родственники.
Исмаил хотел, чтобы Хатидже, целый год не видевшая земляков, побыла со своими, послушала их рассказы. Но Михал Михалыч стал возражать, опасаясь доносчиков. Последнее слово было за самой Хатидже:
- Назовусь гостьей с другой ташкентской улицы, идем! – и хозяин не стал удерживать ее.
По дороге Исмаил посоветовал назваться работницей с корундового завода, где тоже было много крымских татар.
- А от расспросов я вас, Хатидже-абла, огражу, скажу, что мы собрались послушать бабушку из Бухары, а не вас, - сказал Исмаил.
Еле сдерживалась Хатидже, чтобы не расплакаться, когда услышала родную речь, когда стали женщины помогать ей снять одежду, обнимать ее. Бабушка-путешественница уже сидела за низким круглым столиком, на котором дымились узбекские пиалы с кофе из жареного ячменя.
О многом поведала бабушка бедного Диянчика, но о смерти внука только упомянула под сочувственные вздохи присутствующих:
- Алланы рахметинде олсун, заваллы эвляд! Пусть будет милостив Аллах к душе бедного ребенка!
Подали еду – макарне, домашнего изготовления макароны, с измельченными орехами и с топленым маслом, затем пили чай по-узбекски, без сахара.
- Иншаалла, когда вернемся в Крым, будем угощать гостей чебуреками, - не преминула заметить хозяйка, как бы извиняясь, - Иншалла! Если будет милость Аллаха!
Бабушка Анифе одолела путь в тысячу километров, - где протопала пешком, где проехала на попутных машинах, а где и в тамбуре товарного вагона. Прошла она через древние земли Маверранахра, была в городе великого Тимур-ленка, занесло ее в Ферганскую долину, а уж оттуда, сделав порядочный крюк, попала она к родственникам в Ташкент. Почти во всех регионах, где пытались выжить крымчане, она встречала знакомых – ученых, поэтов, артистов, учителей, виноградарей. Там, где несчастные переселенцы обрели сносное существование, ее просили остаться. Но она решила пройти по всем местам, куда были заброшены татары, везде слушала рассказы о пережитом, страшные рассказы, похожие один на другой, как одна беда похожа на другую, и в то же время различающиеся, как различаются друг от друга люди. Все откладывалось в ее крепкой памяти, чтобы когда-нибудь оказаться изреченным в упорядоченных словах.
Одно из повествований бабушки ввергло присутствующих в суеверный страх:
- В пещерах над Бахчисараем с давних времен обосновался старый Эвлия Хаджи, забытый всеми еще в николаевские времена. Десятилетия сменялись десятилетиями, пришли большевики, согнали людей в колхозы, замелькали в небе самолеты, пришли германцы, чтобы вскоре исчезнуть – все видел и обо всем знал Эвлия, ибо был дан ему от Аллаха дар всеведения. Когда выслали народ, восплакал Эвлия, но была ему весть с небес, что минуют черные дни, и восстановят сыны Крыма свою жизнь на родном Полуострове. Ему же велено было оставаться в своей пещере и, когда призовут его на небеса, свидетельствовать перед лицом Аллаха о деяниях людей.
И стало ведомо Эвлия, что гибнут здесь в Крыму сыны его народа. То были мужчины, офицеры и солдаты, вопреки запрету властей приехавшие после демобилизации с фронтов на Родину. Этих воинов, четыре года сражавшихся с фашистскими полчищами, крымское НКВД отлавливало и расстреливало в оврагах Красного Совхоза. Не дано было старому Эвлия спасти их, но читал он по каждому заупокойную молитву:
- Кульхуваллаху эхад Аллахус самед …
Однажды ночью пробудился Эвлия и вышел под звездное небо. Глянул наверх и обмер, многовидевший. Летели по небу мертвецы, кто в саване, а кто и без, летели, немые ночные журавли, высоко, под самыми облаками, но были они хорошо видны в свете восходящей луны. И зазвучал в голове у святого Хаджи голос:
- Умершие в изгнанье сыны и дочери Крыма, прободав пласты чужой земли, собираются в черные станы и летят ночами туда, где находятся их родовые кладбища. Ибо умерли они на чужбине, и не осталось никого рядом, кто прочел бы над их могилой «Кульхуваллаху». Не надо тебе видеть мертвые лица, прилетевших на Родину, земля крымская примет тела в свои тайные лона. Но имена их запоминай. Пока не прочтешь по каждому из погибших заупокойную молитву, не успокоятся души их.
Немедленно начал читать Эвлия Хаджи священные строки из Куран-и-Керима, но летели по ночному небу тысячи и тысячи мертвецов, не успевал святой отшельник отдать возложенный на него долг мертвым своим сородичам. Поэтому бродили неприкаянные души по земле, с которой изгнали их и послали на мучительную смерть в далекую Азию. Бродили, невидимые для глаза людского, слышимые только чуткими кошками. Но если приводилось живому человеку наступить на след неприкаянного духа, посетившего ночью отчий дом, то заболевал человек, - то ли саркома точила кость, то ли в печени поселялся червь. За такие страшные деяния по закону мертвых спросу нет…
И читал, читал «Кульхуваллаху» Эвлия Хаджи, но список ниспосланных ему имен не сокращался.
Когда бабушка закончила свой страшный рассказ. Надолго воцарилось молчание. Потом Хатидже произнесла:
- Аллуху векбер! Дед мой рассказывал, что когда шло крымское войско на войну наказывать предателей или помогать соседям, то везли вслед за боевыми отрядами обозы с солью. Этой солью засыпали тела убитых воинов и так доставляли их назад, чтобы предать родной крымской земле. Таков наш древний обычай.
И опять все надолго замолчали, думая каждый о своем.
Тимофей Иванович вернулся уже на третий день к вечеру. Хатидже увидела его в окно идущего по двору молча, но улыбка во все лицо и радостно блестевшие глаза были более чем красноречивы.
- Девочки живы и здоровы, они в колхозе под Кокандом! - сообщил он, едва переступив порог.
Хатидже встала, сделала было шаг навстречу и потеряла сознание, так что Тимофей Иванович едва успел схватить падающую женщину.
... В темные зимние вечера Исмат регулярно встречал Айше у тропинки, когда она шла с работы домой. Молодой человек и девушка очень подружились, несмотря на разный жизненный опыт и разное воспитание они находили общие темы для разговоров. Исмат, прошедший армейский опыт, достаточно хорошо говорил по-русски, он красочно мог рассказывать о двух годах войны, об отступлении, о зиме, проведенной в окопах, о наступлении наших войск, о своем ранении, о госпитале. Оказалось, что молодой узбек имеет две медали, полученные за храбрость и смекалку в боевых действиях. И когда он по просьбе Айше пересказывал военные эпизоды, в которых пришлось участвовать, девушка ощущала странную гордость за своего нового друга. Они так много времени проводили вместе, что Сафие начала ревновать и как-то сказала сестре, уж не собирается ли та выходить замуж за Исмата.
- Не знаю, не думала об этом, - несколько помолчав ответила Айше, и добавила: - Во всяком случае, нам надо найти маму.
То, что Исмат любит девушку не было никакого сомнения. Айше же, для которой ежедневное общение с молодым мужчиной стало привычной потребностью, боялась думать о своих чувствах и отгоняла эти мысли, оправдывая сама себя тем, что главная их с сестрой цель - найти маму.
Байбоча тоже не на шутку влюбился. Внешне он стал даже спокойней, но внутри его жгли две страсти: желание иметь девушку подчиненной себе и ненависть к Исмату, в котором он видел счастливого соперника. Он стал приезжать в кишлак каждый "базарный день", как принято было называть воскресенье, в надежде издали увидеть предмет своих вожделений. Отец понял состояние сына и был бы рад иметь Айше невесткой, но понимал старый раис, что его балбесу завоевать сердце девушки будет нелегко. И уже подумывал председатель, не знающий, впрочем, о нападении сыночка на девушку, как привлечь ее к своему дому. Арсенал мероприятий, могущих оказаться весьма действенными, был не мал. Нужно было пригласить Айше с сестрой в гости, велеть своим домашним привечать девочек, непременно и младшую, лаской и маленькими гостинцами. Можно было устроить встречу с "вдруг приехавшим из города" непутевым сыном, предварительно научив его правильному поведению с гостьей - никакого напора, больше общаться с младшей сестренкой, стараться понравиться девочке. Конечно, намного проще было бы женить сына традиционным способом на узбекской девушке, когда договор заключают отцы, а лицо жены муж видит впервые уже после свадьбы. Но наблюдая в течение нескольких месяцев умную и воспитанную девушку, хоть и других, но мусульманских кровей, раис желал влить новую свежую струю в традиционный строй и быт своей семьи.
Однажды увидев Исмата, встречающего Айше, возвращающуюся из конторы домой, раис понял, что шансов у его балбеса практически нет никаких.
...Зима в тот год пришла поздно, но была морозная, выпало много снега. Исмат по просьбе Айше привез из Коканда печку в виде жестяного ящика с дверцей, которую общими силами установили в комнате девочек, не привыкших сидеть в холодные дни под одеялами. Такая же печка была в колхозной конторе, и топили ее гуза-паей и дровами. С удивлением наблюдали девочки зимний быт народа, с которым им привелось жить. В морозные дни и мужчины, и женщины, и дети перебегали по протоптанным в глубоком снегу тропинкам из дома в дом в резиновых калошах на босу ногу, а иногда бежали по снегу и вовсе босиком. В то же время Айше не слышала разговоров о простудных заболеваниях. Пробежавшись босиком по морозцу аборигены запрыгивали под одеяло, накинутое на столик, под которым стояла жаровня с пышущими жаром углями, и вся остуда исчезала без последствий. На обычную бязевую одежду здесь зимой одевали стеганные ватные халаты-чапаны, причем по фасону женские и мужские чапаны отличались в основном формой ворота - мужские чапаны просто запахивались и ворот у них был открыт. У зажиточных людей чапаны были из цветной в полоску ткани, большинство же носило обычные, из черной или серой бязи. Интересно, что мужчины часто носили ватные чапаны и в летнюю жару, что только профанам казалось абсурдным - под надетым на голый торс ватным чапаном сохранялась известная постоянная температура тела, в то время, как температура воздуха переходила за сорокаградусную отметку.
Уже в марте зазеленела травка, набухли почки на деревьях и вскоре зацвели, до появления листочков, абрикосовые деревья. Это была совершенно очаровательная пора, когда огромные, с темной бугристой корой деревья урюка оказались окутанными бело-розовыми душистыми облаками, в которых роились проснувшиеся пчелы и шмели. Чуть позже появились красно-фиолетовые цветы на тоже безлистных ветках персиковых деревьев, которые в отличие от урючин никогда не вырастают большими, сохраняя девическую стройность стана и лебяжью гибкость ветвей до самой своей гибели - ничто не вечно... Затем зацвели, предварительно одевшись ярко-зеленой листвой, яблони, тоже порой огромные, зацвела вишня. Но когда покрылись невзрачными мелкими желтыми цветами белесые ветки джиды, из породы маслин, все весенние запахи оказались подавленными пряным и в то же время нежным их ароматом, который кружил голову и будил необычайные мысли и чувства...
Тихим вечером Айше и Исмат сидели на скамейке перед домиком, которую соорудил молодой хозяин по просьбе девушки. Под чувственное воркование горлиц, перемежающееся с гулкими гуканиями удодов, молодой мужчина читал подруге стихи Бабура и Навои:
Если стану воздыхать я по подруге несравненной, Ясный день от дыма вздохов станет полночи темней. Но исчезнет тьма густая, о Бабур, когда в газелях С солнцем лик ее сравнишь ты, с месяцем дугу бровей.Когда же соловей стал выводить свои несравненные трели, заставив замолчать всех других птиц, Исмат признался в любви, и просил Айше стать его женой. Он нежно взял руку девушки и поднес ее к губам, не осмеливаясь целовать. Горячее дыхание молодого мужчины растекалось по ее руке, неизвестные прежде чувства испытывала она, ощущая свою руку, небольшую часть своего тела, в его сильных пальцах, нежно касающихся ее запястья. Ей захотелось, чтобы он обнял ее, сжал в своих объятиях всю ее - никогда не знала она таких чувств. Но ей было ведомо, как должна вести себя порядочная девушка в таких обстоятельствах, и она овладела собой. Не отнимая руки, она, однако, чуть отстранилась:
- Исмат-джан, милый! Никогда я не чувствовала себя такой защищенной, как теперь, когда ты рядом. Я знаю, что могу полюбить тебя, но не сейчас. Я должна найти маму - это сейчас моя главная цель в жизни. Сейчас я не принадлежу себе и не могу сказать тебе "да", но и не говорю "нет". Ты, конечно же, должен меня понять.
Исмат догадывался, что в любом ответе девушки будет упоминание о ее маме, потерянной в приволжских степях, он понимал, что эта проблема занимает сейчас все помыслы, все жизненные планы его возлюбленной и ее сестры. И он надеялся, что девочки найдут свою маму, и после этого, может быть, Айше оценит его преданность.
- Почитай еще стихи, - попросила девушка, осторожно высвободив свою руку. Айше хорошо понимала усложненный слог восточных поэтов, потому что язык их был очень близок к ее родному языку, ближе, чем разговорный язык сегодняшних узбеков.
Нет сердца у меня в груди: пока я ждал тебя, Все тело бренное мое опустошил огонь. Ты глянула - и был твой взор потоком жгучих стрел, Меня, как связку камышей, дотла спалил огонь.- читал наизусть стихи Навои молодой художник Исмат.
...Когда Хатидже пришла в себя, она увидела своих новых друзей, окруживших ее с радостными лицами. Хозяйка заставила ее выпить опять же валерьянки, и все оживленно заговорили о том, что все хорошо, что хорошо кончается.
- Когда едем, сегодня или завтра? Когда туда поезд идет? - вопрошала Хатидже.
Тимофей Иванович дал бедной женщине немного придти в себя и тогда уж начал разговор.
- Хатидже, найти твоих девочек - это даже не половина дела. Главное - вывезти их отсюда. Ты свободный человек, они же находятся под надзором, они ссыльные. Мы хотим, - Тимофей Иванович невольно снизил голос до шепота, - мы хотим тайно их увезти, освободить их. Чтобы добиться успеха нам нужно быть осторожными, быть постоянно начеку, не терять самообладания. Поэтому в колхоз поеду я один. По дороге придумаю, под каким предлогом я заявлюсь к ним. И вот еще что... Когда я их найду, я не стану заезжать в Ташкент... Слушай меня и не возражай! Я дам сюда телеграмму, ну, например, такую: "С мамой все в порядке, выезжаем." Получив телеграмму ты в тот же день уезжай с соблюдением всех предосторожностей. Встретимся, Бог даст, дома.
Хатидже понимала, что Тимофей Иванович как всегда прав и ей надо с ним согласиться. Но у нее появился страх, что замышленное дело не осуществится, что дочерей могут забрать в тюрьму или увезти в наказание куда-нибудь в Сибирь, и ей так и не доведется встретиться с ними. Но она постеснялась вслух говорить об этих своих страхах и смирилась.
Тимофей Иванович же думал о том, что нельзя терять ни дня. Селиме, конечно же, догадалась, что замыслил человек, приехавший узнать о судьбе дочерей Хатидже. Она хоть и обещала никому не рассказывать об их встрече, но женщины не умеют долго сохранять тайну. " Что знает женщина, то знает....". Поэтому он решил завтра же незамедлительно отправиться за девочками, а там - как получиться...
Утром прибежала соседка с криком:
- Война закончилась!
Все шло к тому, что немцы капитулируют. После захвата нашими войсками Берлина это был вопрос нескольких дней. И все же переданное по радио сообщение о подписании акта капитуляции и окончании войны люди слушали и слушали много раз. Это был долгожданный день.
Сын Михал Михалыча стоял со своим полком в Венгрии и теперь родители имели надежду, что Ваня их скоро вернется домой. Конечно же, уехать девятого мая Тимофей Иванович не смог. Заходили знакомые и мало знакомые люди, пили вино, самогон и все другое, что пьется на радостях.
Женщины танцевали парами фокстроты и вальсы прямо на пыльных улицах под столбами с радиорепродукторами. Всю ночь по улицам рабочего городка ходили обнявшись и распевая дождавшиеся заветного дня люди. Всю ночь рыдали в подушки вдовы, получившие похоронку на мужей, и матери, потерявшие на войне сыновей...
На следующий день Тимофей Иванович сел на поезд, идущий Коканд. В кармане он держал фотокарточку Айше, снятую, правда, еще до войны. Но Хатидже заверила его, что дочка мало изменились, что по этой фотографии ее легко будет опознать. Кроме того, этот фотоснимок был предметом, который удостоверял, так сказать, полномочия Тимофея Ивановича.
Всю дорогу он обдумывал, как появиться в узбекском колхозе русскому мужику, чтобы не привлечь особого внимания. Наконец, решил, что надо взять в руки пару удочек и явиться в колхоз под видом рыболова, ищущего где поудить.
Был вечер, когда бывший политзаключенный, замысливший увести двух спецпереселенок из под надзора властей, ступил на землю мирного, ни о чем не подозревающего города Коканда. Надо было где-то переночевать. Михал Михалыч советовал ему зайти в чайхану, заказать чайник зеленого чая и продремать там до утра. Но осторожный Тимофей Иванович предполагал, что на приезжего человека обратит внимание кто-нибудь из тех, кто негласно наблюдает за жителями и за приезжими. Надо было искать надежного ночлега. Но здесь, в отличие от рабочего городка в Ташкенте, все население было узбекским, а наш злоумышленник не знал ни языка аборигенов, ни их обычаев. Он шагал по узким пыльным улочкам и услышал за забором русскую речь. Заглянув через щель в калитке, он увидел белобрысого парня, что-то собирающего на огородных грядках. Тимофей Иванович толкнул оказавшуюся незапертой дверь и вошел. Парень поднял голову и с недоумением воззрился на вошедшего. Залаяла собака, и во двор вышел мужчина тех же лет, что и Тимофей Иванович, такой же круглоголовый и лысый.
- Земляк, пусти переночевать, я из России приехал, - сразу же выложил вошедший свою просьбу.
Мужчина оглядел его быстрым взглядом и, чуток помолчав, сказал:
- Заходи.
Тимофей Иванович с облегчением рассмеялся, протянув руку хозяину представился. Тот тоже назвал себя и поинтересовался, откуда гость родом. Узнав, удовлетворенно улыбнулся:
- Сосед, значит. Я из Белгорода, вот уже десять лет, как в Узбекистане обитаю. Ты, давай, проходи. Ополоснись, сейчас вечерять будем.
За столом, на котором, естественно, появилась бутылка самогона, гость поведал, что приехал в такой-то колхоз, откуда он год назад получил письмо от эвакуировавшейся из Украины сестры, после чего от нее ни слуха.
- Должен я узнать, что с ней, так? То ли там и живет, то ли уехала. Вот и война закончилась.
Тут выпили по первой, за победу...
Утром сын хозяина подробно рассказал Тимофею Ивановичу как дойти до нужного ему кишлака.
- Я те места хорошо знаю, там отличная рыбалка в озерах, - добавил парень.
Тимофею Ивановичу упоминание о рыбалке было очень кстати:
- Дай, парень, мне свои удочки, я там порыбалю немного, - попросил он.
После завтрака зашли в сарай за удочками, и Тимофей Иванович увидел висевшую на стене косу. Сразу же у него возникла новая идея:
- Ох, с косой бы мне туда пойти, ведь к озерам в нужном месте, поди, не подойдешь...
- Да возьмите, там и впрямь все осокой заросло.
Оставив свою котомку добродушным хозяевам, наш злоумышленник отправился на задуманное дело. Коса ему была нужна вот для чего: в поезде он оказался свидетелем разговора двух мужиков, которые говорили о хорошем заработке, который можно получить, подряжаясь в колхозах на косьбу, сами узбеки не охотно этим занимаются, им бы серпами своими нарезать бы травки для личных коров. Вот и вынуждены председатели нанимать косарей на стороне. Тимофей Иванович надумал зайти с косой в колхозную контору и прогуляться по кишлаку уже, якобы, обозревая, где и как выросла трава. А буде не встретит он тех, кого выкрасть собрался, то вечером попросить, чтобы на ночевку препроводили его в дом, где есть жители, говорящие по-русски. А там уж, если умело повести разговор, можно узнать, где живут девочки. Ну и хитер же был дядя Тима!
За известные два часа добрался он до живописного кишлака. Направился прямо в правление колхоза и войдя в контору сразу же узнал в сидящей за столом сероглазой красивой девушке старшенькую дочку Хатидже. Завел, как и решил, разговор о покосе, сказал, что напарник его завтра утречком будет. Девицы, работающие в конторе, велели дождаться кого-нибудь из начальства, а сами собрались уходить на обеденный перерыв. Разговорчивый косарь увязался за Айше, которая недовольно отвечала на его какие-то надуманные вопросы. Когда рядом никого не оказалось, уже у той самой тропы, на которую девушка не хотела вступать с этим навязчивым дядькой с огромной косой на плечах, вдруг этот дядька изменив интонацию произнес негромко:
- Айше, я с приветом от твоей мамы Хатидже.
Девушке показалось, что она ослышалась, и удивленно глядя на косаря, спокойно спросила:
- Что вы сказали?
- Я за вами пришел и за вашей сестрой Сафие. Только спокойно, возьмите себя в руки. Привет вам от вашей мамы Хатидже.
У девушки потемнело в глазах, мир вокруг зашатался. Тимофей Иванович увидел ее состояние и негромко, но твердо приказал:
- Айше, спокойно, возьми себя в руки, Нельзя привлекать к себе внимания. Вот так, иди, я за тобой.
Айше казалось, что это один из ее снов, но очень четкий и продуманно-умный. Она повернулась и пошла по тропе. Когда они оказались за стеной уже успевших вымахать в человеческий рост трав, Тимофей Иванович остановил девушку.
- Доченька, ты молодец. Оставайся спокойной. Мама искала вас и нашла. Ты же этого ожидала, не так ли? Всякому несчастью приходит конец. Теперь я вас должен отсюда тихо и без шума увезти. Поэтому соблюдай осторожность и также осторожно сообщи об этом сестре.
- Мама! - сдавленным шепотом произнесла девушка. - Где она? Что с ней?
- С ней все хорошо, даже отлично. Теперь надо вас к ней вывезти, - и увидев нетерпеливый жест девушки, добавил: - В России она, в безопасности. Вас ждет.
Айше не в силах сдержать чувств бросилась на шею посланца доброй вести и зарыдала.
- Ну, тихо, тихо девочка, - Тимофей Иванович успокаивающе гладил ее по плечу. - Теперь сообщи об этом сестренке, только поосторожней, нельзя разглашать наш уход.
Айше вытерла слезы и улыбнулась.
- Как вас зовут?
- Для тебя я дядя Тима.
- Дядя Тима, дорогой! Спасибо вам!
- Да, да, конечно. Но только благодарить меня будешь потом, когда мы выберемся из Узбекистана. Где вы живете? Там посторонних людей нет?
- Ничего, что-нибудь придумаем. Пойдемте. - Девушка уже полностью овладела собой.
Они вошли во двор, где под навесом на широком деревянном помосте сидели хозяйка и Сафие.
- Салам алейкум! Вот я гостя привела! Проходите, дядя Тима!
Тимофей Иванович тоже произнес "Селям алейкум", что у него прозвучала по крымскотатарскому, как он привык.
Айше сразу же пояснила:
- Я написала письмо маминым старым друзьям и они решили помочь нам в поисках ее, - не поперхнувшись начала врать Айше. Она сказала это по-русски, а потом повторила по-узбекски. Тимофей Иванович подумал: "Ну, девушка не промах, молодец! Смотри ты, как повернула!" - он и сам бы не придумал лучшего.
Айше продолжала:
- Холида-хан, можно дядя Тима дня два поживет с нами? Надо некоторые вопросы обсудить.
- Вай! Конечно, гостем дорогим будет! - всполошилась хозяйка и побежала ставить чайник на очаг. Айше обменялась взглядом с Тимофеем Ивановичем: первый этап прошел хорошо.
Пока приготовили дастурхан с небогатой едой, - чай, лепешки, мед в пиале, - Сафие допрашивала гостя, что ему известно, каков план дальнейших действий. Тимофей Иванович складно врал к вящему удовольствию Айше.
Чуть позже, отойдя с девушкой вглубь двора, Тимофей Иванович похвалил ее за правильные действия, и объявил, что уходить надо сегодня же ночью, не привлекая внимания к появлению в кишлаке чужого человека. Более того, в связи с всеобщими торжествами по поводу окончания войны бдительность милиции и чека должна быть притуплена, и в поездах и прочем транспорте проверка может оказаться не слишком строгой. Надо незаметно собирать вещички, если они есть, и быть наготове.
- Кто еще есть в доме из хозяев? - спросил главный организатор побега.
- Сын хозяйки. Он хороший друг, ему можно все рассказать, он поможет, - с неожиданной горячностью ответила девушка, и Тимофею Ивановичу показалось, что он кое-что понял об этом хорошем друге.
Айше вскоре ушла в контору, а дядя Тима остался в доме, походил по огороду, поглядел на пристройки и остался доволен ухоженностью хозяйства. Особенно восхитили его прекрасные рисунки на стенах жилища, которые свидетельствовали о твердой уверенной руке художника и о его огромном воображении и вкусе. Так и застал неожиданного гостя разглядывающим волшебной красоты птиц и сказочные цветы на белых стенах своей комнаты Исмат-джан, вернувшийся под вечер с работы.
- Здравствуйте, вы кто? - спросил несколько озадаченно хозяин.
- Здравствуйте! Я друг покойного отца девочек, приехал на один день. Айше мне написала письмо. Надо искать их маму Хатидже. Девочки должны мне все рассказать, я ведь до войны еще уехал из Крыма. - Тимофей Иванович исподволь рассмотрел рослого и сильного молодого мужчину и остался им доволен. К тому же тот очень прилично говорил по-русски.
У Исмат-джана екнуло сердце в предчувствии разлуки, но он радушно улыбнулся и протянул руку для рукопожатия. Гость не был внешне похож на татарина. Он был круглолиц, с небольшим носом. О цвете волос нельзя было ничего сказать, так как дядя Тима был почти полностью лыс, но вот глаза были светлые. Впрочем, у Айше глаза тоже были светлые, серо-зеленые.
- Они днем и ночью только об этом и думают, бедные девочки! - Исмат произнес это по-узбекски, проверяя, знает ли дядя девочек тюркский язык.
Тимофей Иванович сразу понял, что его проверяют. Может быть, он понял не более двух-трех слов, но смысл сказанного уяснил и ответил:
- Эбет, эбет! - что означала по-татарски "конечно, конечно!" и этот возглас согласия с собеседникам часто повторяла и бабушка Дияна, и Хатидже. Это же слово часто употребляли Айше и ее сестренка, поэтому оно было знакомо и Исмату. Не желая подвергаться дальнейшим проверкам, Тимофей Иванович добавил:
- Я русский. Мы жили с отцом девочек по соседству и очень дружили, Я был дружен и с их мамой Хатидже, - этим "признанием" он снял у Исмата все подозрения.
Когда мужчины уже сидели на помосте, поджав под себя ноги, и беседовали, пришла Айше. Бросив быстрый взгляд на собеседников, она увидела, что контакт и взаимопонимание достигнуты, но по спокойствию Исмата догадалась, что об истинной цели появления нежданного гостя он не знает.
Когда закончился незамысловатый ужин, и мужчины прошли по тропинке в сад, Айше, выбрав момент, подошла к Исмату.
- Исмат! Мама нашла нас! Дядя Тима приехал, чтобы увести нас к ней. Сегодня ночью. Ты поможешь!
Девушка не могла в темноте увидеть, как побледнело лицо ее друга. Но она поняла глубину испытанного им внезапно шока по его упавшему голосу, по отрывочной словам.
- Айше... Я помогу... Откуда он... Куда...
Девушка, не обращая внимания на стоящего невдалеке Тимофея Ивановича, бросилась к молодому мужчине и обняла его. Близко глядя в его глаза, она торопливым шепотом стала говорить.
- Исмат, дорогой! Я не хочу с тобой разлучаться! Я тебе напишу, и ты приедешь! Ведь ты приедешь, правда?
Эти мгновения были самыми счастливыми в жизни молодого мужчины. Он помнил об этих секундах, когда любимая девушка была в его объятиях, когда она говорила ему пылкие слова, если и не о любви, то полные искреннего чувства, он помнил эти мгновения все те минуты, все дни и месяцы, которые были у него впереди. Он помнил об этой краткой близости всегда и везде, чем бы он не был занят. И пережитое им в эти недолгие мгновения давало ему в последующем считать, что он был счастлив в этой жизни...
Тимофей Иванович был растроган сценой, свидетелем которой он стал. Он отошел вглубь сада, оставляя молодых людей наедине. Но Айше уже оторвалась от молодого мужчины и громким шепотом произнесла:
- Надо спешить! Надо собирать вещи! Дядя Тима, Исмат нам поможет незаметно выйти из села!
Тимофей Иванович приблизился.
- Исмат, это побег. Если нас поймают трудно предсказать, что ждет девочек.
- Я все понял, - произнес уже овладевший собой Исмат - Я провожу вас до города.
И вслед за девушкой направился к дому.
Тетушка Холида только тихо охнула и присела, когда сын поведал ей, что нынче Айше с сестрой собирают вещи и тайно уходят. Старая женщина ничего не понимала в положении высланных на спецпоселение крымчан и решила, что тайный побег связан с кознями председательского сынка. Когда первый испуг прошел, она пошла приготовить какой-нибудь еды на дорогу беглецам.
- Дядя Тима, - подошел Исмат к Тимофею Ивановичу, - давайте оденем девочек как узбечек.
- Очень хорошая мысль! - засмеялся тот. - А найдется во что?
- Да, конечно, - Исмат пошел к тетушке Холида.
- Мама, Найди для Айше и Сафие подходящие для дороги платья. И еще надо завить Сафие волосы в сорок косичек.
Тетушка Холида засуетилась и из глубин одного из стоящих в нишах комнаты сундучков, обитых цветными жестяными пластинками, образующими геометрический узор, появились новое платье из узбекского цветного шелка для Айше. Из другого сундучка было извлечено платье из белой бязи, попроще - для Сафие.
Айше стала, было, отказываться от щедрого подарка, но мужчины убедили ее в необходимости преобразиться в узбечку. Для полной маскировки Айше накинула еще на голову цветной узбекский платок, а младшая девочка надела на голову с сорока косичками цветную узбекскую тюбетейку. Да еще надели девочки длинные штанишки, зауживающиеся ниже колен, - тоже из сундучков, в одном из которых хранила тетушка Холида приданое для будущей невестки, а в другом - аккуратно сохраненную одежонку своей подростковой поры.
Часа через два все было готово и можно было отправляться в путь. В мае месяце ночи короткие, и если выйти по темну, то к рассвету можно было уже быть в городе Коканде.
Тетушка Холида тихо плакала, обнимая девочек, одну из которых она надеялась назвать своей невесткой.
- Еще увидимся, увидимся! - шептала Айше доброй женщине и сама верила, что впереди их ждет счастливая встреча.
Путники вышли на задворки кишлака, на старую дорогу. Высокие травы были в обильной росе, необычайно громко распевали соловьи. Прилетающие от раскинутых справа от дороги хлопковых полей ветерки, еще не остывшие от дневного зноя, разгоняли прохладу, идущую от покидаемого навсегда села. Позади оставался неординарный кусок жизни, в котором было много горького, но были и свои радости и открытия, были мгновения, которые будут помниться всегда...
Через некоторое время путники вышли на грунтовую дорогу. Теперь путь пролегал посреди подступивших с двух сторон хлопковых плантаций. Хлопчатник, который к середине лета вырастает до кустов почти метровой высоты, сейчас имел жалкий вид: зажатые комьями серой сухой земли поникшие ростки двух-трех сантиметрового роста непонятно как выдюживали под жгучим дневным солнцем, восхода которого, казалось, они ожидали со страхом. Но вот перед путниками вместо дороги простерлась огромная, метров на двадцать, лужа и не обойти ее ни слева, ни справа - это шел полив хлопкового поля и вода, промыв рыхлый земляной валик, хлынула на дорогу. А поля под поливом уже не производили того прежнего жалкого впечатления, напившиеся воды ростки хлопчатника здесь весело зеленели на вершине потемневших от влаги грядок. Скоро не останется ни клочка не политого поля, о чем позаботятся бригадиры и мираб - хозяин воды.
Путники сняли обувь и прошли затопленный участок, закатав брюки и подоткнув подолы платьев. Выбравшись на сухую дорогу повеселевшими, они бодро зашагали дальше.
Вот показались первые постройки городской окраины. Солнце поднялось над горизонтом, и лучи его уже слепили глаза. Было около шести часов. Возле городского парка путники увидели чайхану. Чайханщик уже разжег огонь в большом самоваре, и заночевавшие в чайхане посетители отряхивались от остатков сна, ополаскивая холодной водой из арыка лицо и плечи.
- Подождите меня здесь, - сказал Тимофей Иванович. - Я зайду за своей котомкой и занесу косу, а потом пойду на железнодорожный вокзал покупать билеты. Исмат, ты с девочками подойдешь к восьми часам к зданию почты на улице, ведущей к вокзалу. Вот, Айше, возьми мои часы. Смотрите, не опоздайте. Я приду с билетами, а ты к тому времени попрощайся с девочками. Ты возьмешь у меня билеты и посадишь девочек в поезд. Ко мне не подходите, и вообще меня не замечайте. Ну да, еще успеем поговорить.
Тимофей Иванович ушел. Времени еще было достаточно, и Исмат велел чайханщику принести чайник чаю и лепешки. Дочь чайханщика только что принесла корзину со свежеиспеченными нанами, аромат которых дразнил аппетит.
- Исмат-джан, я буду писать тебе на почту "до востребования".
- Да, это верно. Пиши в город Коканд, адрес почты посмотрим, когда подойдем к ней.
- Исмат-джан, спасибо тебе за все. Мы с сестренкой сегодня безмерно счастливы и только расставание с тобой и с твоей мамой огорчает нас.
При этих словах Сафие бросилась на шею Исмату и заплакала. Исмат смущенно огляделся вокруг. Айше сама была готова плакать на плече у молодого мужчины, но то, что разрешено маленькой девочке зазорно для взрослой девушки.
- Я буду подписывать письма..., ну, например, Гульчехра. Запомнил?
- Запомнил, Гульчехра-хан. Ну, ешьте, пейте чай. Эй, чайханщик! Принеси парварды!
Чайханщик принес в керамической тарелочке белые, будто обсыпанные мукой, конфеты. Беглецы с удовольствием занялись утренней трапезой.
Когда подошло время, путники направились к месту встречи. Вскоре пришел Тимофей Иванович с билетами.
- Поезд уходит ровно в половине девятого, подойдите к вагону минут за пять до отправления. Меня будто бы не знаете. Попрощайтесь здесь, у вагона не привлекайте к себе внимания. Исмат, спасибо тебе! - мужчины обменялись рукопожатием. - Вы обо всем договорились? Как будете переписываться? Ну, хорошо.
...Сержант милиции товарищ Сидоров всегда мечтал о подвиге - поймать какого-нибудь безоружного диверсанта, империалистического агента, скрывающегося под женской одеждой, или, на худой конец, татарина или чеченца, убегающего к себе в Крым или на Кавказ. Этим же утром к его славной мечте о подвиге присовокупилась злость на всех людей из-за выпавшей на его долю бессонной ночи на дежурстве, в то время, как его кореши пьют самогон в эти праздничные дни. Но скоро его должны были сменить, и это был последний поезд, который он провожал. Наверное, из-за повсеместного веселья по поводу окончания войны пассажиров было мало. Рядом с хищно оглядывающим перрон сержантом в вагон влезали две молодые узбечки, их провожал молодой мужчина. Сидоров внимательно следил за ними. Вот дикари! Провожает парень красивых девушек и не обнимет, не поцелует. А старшая девушка и впрямь красавица. Сидорову захотелось придраться к парню, но тут он заметил стоявшего на перроне мужчину, который то и дело поглядывал на вокзальные часы, беспокойно оглядывался по сторонам, и при этом явно пытался скрыть свою нервозность. Сержант медленной походкой подобрался к мужчине и с неприкрытой угрозой произнес:
- А ну-ка, предъявите документы!
Мужчина взглянул на милиционера, на его лице беспокойство сменилось вдруг светлой радостью, как будто бы он всю жизнь жаждал этой встречи со служителем закона.
- Документы? Сейчас! Сейчас достану документы, товарищ сержант! - от былой озабоченности не осталось и следа, подозреваемый гражданин расплылся в улыбке и начал развязывать узел заплечного мешка.
- Сейчас, товарищ сержант, сейчас! Документы в порядке, да только где они?
Сержант товарищ Сидоров терпеливо ждал.
- Да здесь он, паспорт! Я же его приготовил! – мужчина, искоса взглянув на вокзальные часы, хлопнул себя по грудному карману и достал паспорт. Милиционер взял документ в руки, прочитал фамилию, посмотрел на прописку и с разочарованным видом вернул его владельцу.
- Чего же в вагон не садишься? - произнес он недовольно.
- Да вот дружка старого жду, обещал проводить меня. Вместе в школе учились. С перепою, наверное, не проснулся еще.
В это время раздался удар вокзального колокола. Сейчас дежурный по станции свистнет в свой свисток, паровоз ответит длинным гудком и вагоны, дернувшись, станут медленно набирать скорость.
- Прощайте, товарищ сержант! - радостно крикнул Тимофей Иванович и побежал к высокой вагонной лесенке. Сержант, конечно, не заметил, как мужчина обменялся со стоящим у вагона молодым узбеком многозначительным ободряющим взглядом.
Тимофей Иванович прошел в вагон и сел на свое место напротив двух девочек узбечек. Вагон был общий. Такие вагоны обычно бывают заполнены суетливыми и шумными пассажирами, которые ругаются из-за мест на верхних полках, загромождают своими тюками, корзинами, ведрами пространство между сидениями. Нынче же вагон был заполнен только наполовину, и можно было забраться на верхнюю полку, предназначенную в этого типа вагонов для багажа. Это Тимофей Иванович и сделал, в то время, как девочки прикорнули на нижней полке, предназначенной для сидения трех человек. До возможного заполнения вагона на следующих остановках можно было полежать и даже, может быть, вздремнуть. Для полного спокойствия оснований не было. Когда Тимофей Иванович вместе с Хатидже добирались в Ташкент, то дважды по вагонам проходили с проверкой документов милиционеры в сопровождении человека в штатском. Но Тимофей Иванович рассчитывал на благополучный исход. Лично у него документы были в порядке, а с двух девочек из узбекского колхоза какой был спрос? Колхозникам паспортов не давали, а девочкам нужно было доехать до казахского города Актюбинска, где жила их сестра, так чего же с них взять? Билеты им осторожнейший Тимофей Иванович взял до Актюбинска, а там и докупить можно. В общих вагонах набивалось до восьмидесяти человек, и проводник вагона не знал своих пассажиров в лицо, тем более что на каждой станции часть их сходила и на смену ей появлялись другие. Так что и выходить в Актюбинске не было необходимости, просто предъявить проводнику новые билеты. А за Актюбинском уже кончалась зона спецпоселений, там уже проверки документов были не так часты.
Надо сказать, что очень опасался Тимофей Иванович, что в одном вагоне с ними окажется и Хатидже. В этом случае, конечно, не удалось бы предотвратить взрыв эмоций нашедших друг друга по истечении года матери и детей. К счастью, среди пассажиров, вошедших в вагон на железнодорожной станции Ташкента, Хатидже не было.
Билет у Хатидже был в соседний вагон...
Как только поезд отошел от станции, в вагоне появились двое милиционеров и один в штатском. С Тимофеем Ивановичем все было в порядке, а когда милиционер спросил документы у сидящих напротив узбечек, то старшая протянула ему проездной билет.
- Паспорт давай, - как-то безнадежно произнес милиционер, взглянув на билеты до Актюбинска.
- Вай! Кандай башбут? Какой башбут? - певуче произнесла старшая, а младшая вообще молчала, закутав половину лица в платок, из под которого выбивались мелкие масляно блестевшие косички. Она, Сафие, плохо знала узбекский язык.
- Ладно, иди дальше, - подтолкнул милиционера тот, что в штатском, и проверяющие прошли в следующее купе.
...А в соседнем вагоне Хатидже предъявила работникам НКВД свой паспорт на имя Валентины Степановны, и тоже никаких проблем не возникло...
На остановках поезда по пути следования Тимофей Иванович покупал у торговок для себя и для девушек-узбечек вареную картошку с солеными огурцами, соседи по купе бегали с эмалированным чайником за кипятком, который обычно всегда щедро лился из кранов на больших станциях. Спутники, которые подсели в купе к беглецам, ехали до самого Куйбышева, так что все обосновались уютно, время протекало в разговорах о жизни. Спутники жалели двух девушек, отправившихся в далекую поездку без надежного сопровождающего - время было неспокойное. Удивлялись тому, что девочки хорошо, хотя и со странным и очень сильным акцентом, говорили по-русски, угощали их прихваченной с собой домашней снедью.
В Актюбинске Тимофей Иванович прикупил два билета до Куйбышева. Но когда поезд приближался к предшествующей станции Кинель, Тимофей Иванович шепнул девочкам, чтобы готовились к высадке. Когда в Кинели, узловой приволжской станции, мужчина и две узбечки вдруг взяв вещи пошли к выходу, попрощавшись на чистом русском языке безо всякого акцента, соседи по купе были удивлены. Но чего не бывает в пути со случайными попутчиками...
Тимофей Иванович обоснованно опасался, что на подходе к Куйбышеву, бывшей Самаре, большому промышленному городу, где в войну находились правительственные учреждения страны, могут быть серьезные проверки документов. Здешние места были ему знакомы, и он знал, как на попутных машинах добраться до своего городка.
... А Хатидже поезд увез дальше, оставив на перроне Кинели двух ее девочек. Сойдя на железнодорожном разъезде вблизи городка, она почти по тому же пути, как и год назад, пошла к дому, приютившему ее. Но сейчас был полдень, солнце стояло высоко в безоблачном небе и женщина знала, куда она держит путь, и в сердце была крепкая надежда.
Антонина Васильевна трудилась на огородных грядках и, разогнув спину, заметила приближавшуюся Хатидже. Одну только Хатидже... И обомлела тетя Тина от ужаса. Хатидже, увидев замершую женщину, заулыбалась, замахала руками.
- Все хорошо! Они едут вслед за мной! Тимофей Иванович дал телеграмму! - но сама она все еще была в страхе, поскольку дочек своих пока так и не видела.
День тянулся бесконечно долго. Хотя женщины предполагали, что Тимофей Иванович с девочками прибудет никак не раньше, чем следующим днем, они все же то и дело, отрываясь от дел, вглядывались в степь.
Приближался вечер, и умывшись после огородных работ, женщины вошли в дом. Почистив картошку, Хатидже вынесла кожуру во двор. Глянув в степь, она увидела, как со стороны приблизившегося к горизонту солнца прямо по высокой траве, по красным макам бегут к ней, побросав свои вещи, ее девочки...
Глава 26
В конце августа ученикам фабрично-заводского училища было велено всем собраться. Новопоступивших привели в общежитие, дали под расписку по ватному матрацу и по ватной подушке, и еще по старому замызганному одеялу. О простынях и наволочках не было и речи, да никто из подростков и не помышлял о таких предметах роскоши. Разместили их в комнатах человек по десять-двенадцать в каждой. В комнатах стояли железные кровати с поломанными пружинами, возле каждой кровати стояла деревянная тумбочка, тоже каждая в плачевном состоянии. Комендант общежития показал, где находятся швабры, тряпки, лопаты и ребята стали проводить уборку в своих комнатах и в помещениях общего пользования на своих этажах. Обучающиеся второго года помыкали новичками, сами старались сачкануть, подгоняли непроворных новичков тумаками. Когда длинный худой парень с лицом туберкулезника поддал ногой под зад Февзи, тот с размаху двинул обидчика в ухо так, что длинный отлетел к противоположной стене. Подростки с интересом глядели на спокойно стоящего Февзи, а друзья длинного отвели однообразно ругающегося неудачника в туалет смывать сопли. Понятно, что к Февзи больше ни у кого претензий не было, а тот худой парень до поры до времени не возникал, но в среде подростков такие обиды не забываются и расплату нужно было считать только отложенной.
На следующий день велели всем приходить с утра на соседний завод, где ребят сперва накормили каким никаким завтраком, дали талоны на обед и поздравили с принятием в кандидаты в рабочие. С этого дня все стали жить в общежитии, ходили на завод заниматься уборкой и получали трехразовое питание. Если завтрак и ужин были весьма убогие, то обед был неплохим по тем временам: давали большую тарелку постного крупяного супа или борща, вареные макароны или опять же крупяную кашу, а на десерт был компот или кисель. Многим несчастным подросткам из новичков, пришедшим в ФЗУ из голодающих семей, эта кормежка казалась сказочно роскошной, а возможность получить "дп", то есть дополнительную порцию супа или каши, представлялась как великое благодеяние советской власти, незаслуженно предоставляемое им, до сих пор никому не нужным, кроме своих замученных матерей.
В комнате, в которой поселился Февзи, все учащиеся были первогодки. Некоторые из них прибыли из детских домов, где их более или менее кормили и одевали, у них был опыт проживания в ребяческом коллективе, вернее - опыт выживания. Эти сразу присвоили себе право верховодить, подчинили себе ребят, пришедших из семей. Национальный состав был пестрым, но преобладали "русскоязычные". Февзи, который своим дерзким отпором попытке воздействовать на него силой, стал известным во всем общежитии человеком, не подвергался давлению организовавшейся группы. Ему дали прозвище "биток" - в отличие от подавляющего большинства своих новых товарищей он пришел сюда из сытой жизни, выделялся среди изможденных подростков крепостью тела и уверенностью в себе. В один из первых вечеров детдомовские на неведомо какие деньги достали самогон и устроили пьянку, пригласив на нее из посторонних только одного Февзи. Тот с удивлением отказался: никогда он не видел пьющих водку подростков, считая это дело весьма предосудительным даже в среде взрослых мужчин. Отказ оскорбил пацанов, и после того, как в головах у них зашумело, они стали поносить сидящего неподалеку на своей койке Февзи. Он какое-то время терпел, но когда разошедшиеся парни стали, все более распаляясь, употреблять самые грязные выражения, мерзко хохоча при этом, Февзи рывком подскочив к захмелевшим хулиганам схватил двух оказавшихся поближе за волосы и так столкнул их головы, что оба рухнули на пол потеряв сознание. Подняв над головой стоявшую рядом тумбочку, Февзи заорал:
- А ну хватит! Головы разобью!
Угроза показалась шпане убедительной, тем более, что рядом с Февзи встали еще двое парней. Заметно отрезвевшие хулиганы вдруг перестав гоготать и ругаться занялись своими лежащими на полу товарищами, что-то приговаривая вполголоса и стараясь не встречаться взглядом со стоящими плечом к плечу парнями. Оказавшиеся в нокауте очнулись, и вся разудалая еще недавно компания молчаливой гурьбой отправилась в зализывать раны.
Несомненно, что побежденные мечтали отомстить, им только нужно было найти подходящий момент и место. Они навели контакт с длинным второкурсником, и нашли понимание. Но за эти дни Февзи познакомился с живущим в одной из соседних комнат Аметом, учащимся второго года, чей авторитет выходил далеко за стены общежития. Амет, высланный из села, соседнего с родным селом Февзи, и оставшийся круглым сиротой еще летом сорок четвертого, попал в детский дом, где приобрел начальный криминальный опыт. Он признал в успевшем прославиться Февзи своего земляка и первым его вопросом был:
- Тебя тут не обижают?
Февзи уклончиво пробурчал, что, мол, желающих обидеть, наверное, много, но хвастать своими победами не стал. Амет, который был года на два старше, ухмыльнулся и пожал подростку руку.
- Если что, только шепни, я их припугну...
О встрече этой сразу же стало известно всему училищу, и замышляющим месть пришлось отказаться от своих намерений, ибо конфликт с Аметом выходил за границы ребячьих потасовок.
Пришел сентябрь, но никаких занятий в училище не начиналось. Будущие трактористы и шофера этим обстоятельством нисколько не были огорчены. У них была крыша над головой, их кормили, а в их обязанности входило каждое утро приходить вместе с рабочими на завод и выполнять что прикажут, - обычно это была уборка цехов и территории или разгрузка машин и железнодорожных вагонов. Учащиеся второго года объяснили первокурсникам, что вскоре всех отправят "на хлопок", то есть на сбор хлопка, а примерно через два месяца, когда хлопковая кампания закончится, тогда и начнутся учебные занятия.
Занятия начались, действительно, только в середине ноября. Два с лишним месяца ребята собирали хлопок в ближайших колхозах. Для здоровья несчастных мальчишек это была благодатная пора. Целый день они были на воздухе, колхоз кормил получше заводской столовой. Кроме того, мальчишки рвали по ночам виноград на колхозных плантациях, на баштанах добывали арбузы и дыни, на огородах выкапывали сладкую морковку. Вернулись в город поздоровевшими и нарастившими мясо на своих тощих телесах. Но в городе, в общежитии, опять начались пьянки, только малая часть будущих гегемонов воздерживалась от самогона или от сомнительных портвейнов.
Домашних заданий в училище не задавали - их никто бы не делал. До шести часов вечера можно было возиться в мастерских, копаясь в двигателях внутреннего сгорания или помогая кому-нибудь из мастеров, подрядившихся за дополнительную плату отремонтировать то машину, то трактор какому-либо предприятию. Мастера благосклонно относились к ученикам, которые оставались в мастерских после обязательных занятий, но надо признаться, что таких учеников было очень немного. Большинство кандидатов в самый передовой класс трудящихся спешили после занятий поваляться на своих неопрятных постелях, "покемарить сто минут", чтобы потом, раздобыв какого-нибудь горячительного напитка или щепотку анаши, кайфовать в компании с себе подобными до поздней ночи. Самые невыносимые часы для Февзи наступали тогда, когда на соседних койках пьяная компания бессмысленно трепалась, орала непристойные песни. В общежитии на первом этаже жил с женой и с малым ребенком так называемый "воспитатель", но он сам был под хмельком весь божий день. И только если на каком-нибудь этаже затевалась драка, жена воспитателя бежала через дорогу в отделение милиции. Милиционеры жестоко расправлялись с подростками, а воспитатель среди затянутых в драку ребят выискивал кого-то, кто был ему неприятен, и объявлял его зачинщиком драки. И таковой немедленно изгонялся из общежития, а, следовательно, и из училища. Это счастливое обстоятельство, что отделение милиции располагалось в непосредственной близости от общежития, было причиной того, что сие общежитие было самым спокойным в городе.
Февзи не завел себе приятелей, не примкнул к какой-нибудь ребячьей компании. Иногда он заходил к тетушке Мафузе или еще к кому-то из своих земляков, но чаще всего он не снимая спецовки работал в мастерской, пока последний работник не покидал ее. Мастера привыкли к молчаливому парнишке и однажды в субботу, когда по заведенному порядку в конце рабочего дня все садились за деревянный стол и доставали кто огурчик, кто луковицу, кто кусочек сала, окликнули возящегося у трактора Февзи.
- Эй, парень! Февзи! Поди сюда! Давай, садись...
Из замасленной сумки мастер Василий уже извлек большую бутылку с мутноватой жидкостью, а другой мужик достал из железного стенного шкафчика полдюжины стаканов и поставил их на стол. Василий, заглянул в каждый стакан, дунул в некоторые, выметая, надо думать, соринку и неодобрительно оглянулся на немолодого токаря Соломона, который единственный из мастеров не присоединялся к трапезе и нарушал завываниями своего станка субботнюю тишину цеха.
- Соломон, может сегодня-то выпьешь с нами? Вот и малец сейчас приобщаться будет.
Соломон повернул голову, неодобрительно взглянул на Февзи, и опять склонился над станком. Потом вдруг остановил станок, полуобернулся к сидящим за столом и произнес спокойным голосом:
- Ты знаешь, что Соломон никогда водку не пьет. И молодому человеку я тоже не советую привыкать к такому безобразию.
Токарь достал из ящика большую тряпку и стал протирать ею свой станок, не удостаивая больше своим вниманием собравшееся за столом общество. Проходя мимо веселой компании, он укоризненно покачал головой, глядя на Февзи, и скрылся за дверью, ведущей в душевую.
- Да ну его! - махнул рукой один из рабочих. - Давай, Вася, наливай.
Василий коротко хохотнул и ровно разлил самогон по стаканам. Сидящих за столом было вместе с Февзи семеро, а стаканов было шесть. Но Василий протянул первый стакан, налитый до середины, парню и наставительно произнес:
- Ну, давай. За твое присоединение к рабочему классу.
- К гегемону, - перебил его другой.
- Да, за присоединение к гегемону революции - так кажется? Ты парень старательный, из тебя хороший работник будет. Давай, будь здоров! Ну, до дна!
Февзи про себя решил, что надо когда-то попробовать этого зелья, которое так привлекательно для большинства окружающих его людей. Он сначала чуть пригубил из стакана и напиток показался ему отвратительным. Он сморщился и поставил, было, стакан на стол, но внимательно следящие за ним мужики дружно загалдели.
- Не, не! Так не пойдет!
- Ее не нюхать надо, а быстро глотать!
- Нос зажми и пей!
- Да не надо ничего зажимать! Опрокинь ее в горло и все!
Оказавшись объектом такого доброжелательного внимания, Февзи не мог поставить стакан на стол и с позором удалиться. Он запрокинул голову и не поперхнувшись влил жидкость прямо в горло. Вокруг зааплодировали. Один из мужиков протягивал парню кусок хлеба с салом, другой посыпанную солью картофелину. Но Василий, оттолкнув их, сунул в руку слегка ошалевшего Февзи огурец.
- На! Это лучшая закуска!
Февзи откусил пол-огурца и проникновенно его разжевывал. Внимание мужиков уже отключилось от дебютанта, они теперь сосредоточенно разглядывали свои стаканы, пока Василий наполнял опорожненную парнишкой емкость для себя.
- Ну, будем здоровы! - мужики дружно чокнулись гранеными стаканами, и на какое-то время установилась тишина.
Приятная теплота разливалась в груди Февзи. Немного кружилась голова и в какой-то момент глаза застил белый туман. Но Февзи встряхнулся, оглянул застолье и почему-то захихикал.
- Ишь ты! Пробирает парнишку! - то ли с одобрением, то ли с жалостью произнес один из мужиков.
За столом набирал обороты оживленный, но беспредметный общий разговор. Василий опять разлил самогон, и все опять выпили за здоровье всех и каждого. Февзи был несколько озадачен тем, что ему не налили, и вообще не обращают на него внимания. Наконец, Василий заметил обиженное выражение на лице парнишки и поднял бутылку.
- Налить еще?
Февзи молчал, слегка покачиваясь. Другой рабочий тронул Василия по плечу:
- Хватит с него на сегодня.
Василий внимательно посмотрел на Февзи и поставил бутылку на стол. Но минутки через две, не произнеся ни слова, налил в стакан мутного напитка и придвинул его к Февзи. Потом налил жидкость в другой стакан и коснулся им первого стакана.
- Давай, добавь.
Февзи опрокинул этот стакан в себя так же бодро, как и первый.
- Ну, ты далеко пойдешь! - недобро засмеялся Василий. - Закусывай!
Февзи взял оставшийся на столе кусок хлеба и четверть луковицы и зажевал свой второй стакан. Стало совсем хорошо, захотелось поговорить с этими славными мужиками о чем-нибудь сокровенном. Но почему-то исходили из него несвязные слова, перемежаемые дурацким хихиканьем.
- Готов малец, - проговорил один из рабочих.
Февзи, пытаясь что-то объяснить, поднялся с сиденья и, пошатнувшись, чуть не упал.
- Эге, да ты совсем окосел! - Василий поддержал парня.
- Зря ты его напоил, - с укором проговорил другой, - Уложи его на скамью у стенки.
Василий отволок парня к широкой скамье и уложил, бросив ему под голову старую телогрейку. Февзи что-то бормотал, пытался подняться и завалился лицом к стене.
Соломон тем временем вышел из душевой и увидел лежащего на скамье парня. Он подошел к нему и проверил, не облевался ли тот. Потом растолкал парня:
- Эй, напился таки? - и обернулся к застолью: - Взрослые люди, напоили и бросили молодого человека.
Но отмечающим конец рабочей недели уже было не до окружающего их человечества...
Соломон заставил парня сесть.
- Ну, как? Ходить можешь?
- Пойдем, - с пьяной готовностью встал на нетвердые ноги Февзи.
- Пойдем-то пойдем, но как ты дойдешь...
Соломон вывел шатающегося парня на улицу и довел до торчащего из земли крана. Пустив воду он вынул из сумки стеклянную банку и наполнив ее велел парню пить.
- Пей еще! Что значит не могу? Ты слушай Соломона, Соломон через все в своей жизни прошел. Вот эту банку ты тоже должен выпить.
- Зачем? - слабо сопротивлялся Февзи.
- Выпей... Хочешь избавиться от выпитой водки? Пей... Так. Теперь сунь пальцы в глотку, поглубже.
Февзи понял, чего от него хочет Соломон, и выполнил его указания. Опорожнив желудок, парень действительно почувствовал, что ему полегчало в желудке, стало проясняться и в голове.
- Теперь иди домой и выпей горячего чаю, - поучал Соломон. - Пойдем.
Он довел Февзи до дверей общежития.
- Иди к себе в комнату и пусть никто не догадается, что ты был недавно в стельку пьян.
Февзи посмотрел в глаза старому еврею. Захотелось сказать ему что-нибудь очень хорошее, но он сказал только одно слово:
- Спасибо...
Соломон все понял и удовлетворенно улыбнулся:
- Иди, сынок. И больше не пей эту гадость.
Февзи поднялся в свою комнату и стараясь, чтобы соседи по комнате не заметили его состояния взял свою большую кружку, засыпал в нее чаю и пошел на кухню за кипятком. Потом он сидел на своей койке и с удовольствием пил сладкий горячий чай и давал себе обещания никогда впредь не потреблять водки...
Февзи испытывал ежедневные муки из-за невозможности заполнить свои вечера хоть каким-нибудь делом. Находиться в комнате, в углу которой галдели пьяные соседи, было невыносимо. Парень бродил вокруг дома, но и эти бесцельные "прогулки" доводили до исступления. Как-то раз он увидел, что кругами вокруг здания впереди него ходит еще кто-то. Февзи догнал его и узнал в нем Олега из соседней группы. Мальчики несколько дней гуляли вместе, и однажды Олег предложил пойти и записаться в вечернюю школу. Олег эвакуировался с мамой из Ленинграда, отец без вести пропал на фронте. В сорок четвертом году зимой маму его зарезали ночью на улице, когда она, задержавшись на работе, шла домой в одиннадцатом часу. Жили они до этого в общежитии завода, где мама работала в бухгалтерии, и после случившейся трагедии мальчику некуда было деваться. Он бросил школу и поступил в ФЗУ.
- Как это в школу? Я же ничего не знаю, я же все забыл - опешил Февзи, который когда-то закончил два класса.
- А в школу идут, чтобы получать знания, которых не имеют, - резонно возразил Олег, закончивший год назад шесть классов и всегда учившийся на «отлично». - Поступим вместе в седьмой класс, я буду тебе помогать.
- В седьмой! - ужаснулся Февзи. - Мне в третий класс поступать надо, но я и этого боюсь.
- Да брось ты! Здесь никто ничего не знает. Я говорил с семиклассниками, они не знают даже таблицы умножения.
- И я не знаю, не помню, - упавшим голосом произнес Февзи.
- На это надо два дня, - засмеялся Олег. - Послушай моего совета, будем вместе учиться.
- Я и русский язык плохо знаю, - понуро признавался Февзи. - Я никакой книги уже несколько лет в руки не брал.
- Ты знаешь, как разговаривают здешние семиклассники? - воскликнул Олег. - А насчет книг тоже не бойся, я люблю читать и у меня есть кое-какие книги.
В тот же вечер Олег дал Февзи книгу, в которой были всякие занимательные рассказы и стихи, и называлась эта книжка "В помощь агитатору". Несмотря на такое политическое наименование, книжка была составлена любящим и понимающим литературу человеком, в нее входили отрывки из русской и даже мировой классики, якобы содержащие революционные идеи. Какая революционная идея могла содержаться в прелестном стихотворении Гейне " Горные вершины спят во тьме ночной"? А, оказывается, измученный отсутствием социализма путник мечтает об избавлении от жизненных тягот: "Подожди немного, отдохнешь и ты"... Что касается лермонтовского " Белеет парус одинокий", то это, оказывается, прямой призыв к свержению самодержавия: "А он, мятежный, ищет бури..." Такие вот комментарии были к великолепным образцам мировой классики.
Февзи взял книжку и вернулся к себе в комнату. Ежевечерняя пьянка уже завершилась, и все спали, даже не раздевшись, на своих койках. Скоро комендант вырубит во всем общежитии электричество, но покуда Февзи раскрыл книжку где-то посередине и начал читать. К своему огорчению он не постигал смысла читаемого, многие слова были ему незнакомы. Даже те предложения, в которых, казалось бы, каждое слово в отдельности он знал, в целом несли непонятный парню смысл.
На следующий день грустный Февзи подошел с книжкой к Олегу.
- Ну вот, ничего я не понимаю. Посмотри: " У комбрига мах ядреный, тяжелей свинчатки. Развернулся и с размаху хлобысть по сопатке". Только три слова я знаю: тяжелей, развернулся, с размаху. Что такое комбриг, мах, ядреный?
- Да-а! - рассмеялся озадаченно Олег. - Что, даже слова "хлобысть" не знаешь? Это же обыденное русское слово.
- Я из татарской деревни, по-русски говорил только с учительницей.
- Ну, для такого случая ты даже очень хорошо говоришь по-русски. С акцентом, правда. Видно, способный парень. Ладно, не горюй, Все равно нам по вечерам делать нечего, я буду тебе читать и объяснять. А в школу все равно запишемся, в седьмой класс. Я уже узнал, через неделю занятия начинаются.
А Февзи вспомнил вдруг свою деревню, маму, маленького братишку. Вспомнил домик учительницы, ее хромого сына, который вырезал из веток орешника певучие дудочки и научил этому умению и Февзи...
В общежитии была так называемая комната для "самоподготовки", которая была всегда заперта, чтобы учащиеся не превратили ее в филиал питейного заведения. Олег выпросил у воспитателя ключи, и каждый вечер ребята запирались в этой комнате. Олег читал и пояснял непонятные слова. Писал Февзи очень плохо, медленно. Поэтому смысл неизвестных ему слов он запоминал по памяти.
С понедельника мальчики стали посещать вечернюю школу для рабочей молодежи - так она именовалась официально. Учителя в школе были неплохие, в основном эвакуировавшиеся в военное время из России. Основной контингент учеников состоял из насильно записанных в школу молодых рабочих, которые по возрасту должны были окончить школу лет пять назад. Посещаемость была плохая, успеваемость еще хуже. Из класса в класс переводили без фактических знаний, руководству ближайших заводов надо было рапортовать в райком партии, что такое-то количество представителей рабочего класса охвачено учебой. Учителя, которые днем преподавали в более нормальной дневной школе, были деморализованы ситуацией, когда они не могли требовать у обучающихся молодых гегемонов выполнения домашних заданий. И когда в вечерней школе встречались действительно желающие получить знания ученики, то это было для большинства учителей приятным событием. Для этого ученика они готовились к уроку, этому ученику объясняли тему, ему отвечали на вопросы. Другие учащиеся относились к таким "отличникам" без злобы, им нечего было делить с ними, устремленными к знанию. У "отличника" можно было списать домашнее задание для умиротворения совсем уж расстроенного учителя, получить решение задачки на контрольной или тайком, как им казалось, передать ему тетрадь с диктантом для проверки прежде, чем отдать ее учителю. Педагоги молча поощряли такую помощь, ибо, так или иначе, всех обучающихся гегемонов надо было переводить в следующий класс.
Оказавшись учеником сразу седьмого класса, Февзи растерялся. Но Олег на примере великовозрастных одноклассников показал оробевшему пареньку, что знания этих "законных" семиклассников не превышают его знаний. Каждый вечер ребята усердно занимались и до уроков, и после уроков. Через несколько недель Февзи уже знал таблицу умножения, понял, что "а плюс бэ" это другое "це", величина которого зависит от того, чему равны "а" и "бэ". Труднее оказалось с геометрией. Пересказать содержание и пояснить смысл теорем Февзи научился, а вот с доказательством их никак справиться не мог. Олег расстраивался, клял себя за отсутствие педагогического таланта, но на самом деле был этот юноша прирожденным педагогом. Но есть вещи, которые наскоком не возьмешь. Добиться от получившего только лишь двухлетнее образования Февзи умения доказывать теоремы оказалось неразрешимой проблемой. Однако в классе, в котором ученики не могли даже сформулировать теорему, Февзи, который мог начертить чертеж и объяснить смысл, заложенный в формулировке, мог считаться математиком высокого уровня...
Не очень продвигались дела с грамотностью. Из-за занятий математикой оставалось мало времени на чтение книг. Во время зимних каникул, в дни, когда учитель математики заболевал, ребята могли совместно читать, разбираться в смысле прочитанного и запоминать незнакомые слова и понятия. Для совершенствования в русском языке ждали летних каникул.
В начале июня закончились занятия в ФЗУ и в вечерней школе. Учащихся ФЗУ послали на практику в ближайшие колхозы и совхозы. Обязательная практика заканчивалась в шесть часов вечера, и все остальное время Олег и Февзи читали, читали, читали. Олег заставлял Февзи заучивать наизусть стихотворения, и даже целые абзацы из прозы. Кончились те несколько книжек, которые имел Олег, а достать другие было негде. Тогда Олег предложил своему товарищу письменно описывать события минувшего учебного года. Достали какую-то бумагу, карандаши, что было, вообще-то, нелегкой проблемой. И после окончания работ ребята пристраивались каждый в каком-то своем уголке и писали свои сочинения. Потом сходились и, заходясь от хохота, читали воспоминания о прошедших днях. После этого начинался серьезный разбор написанного. Олег заставлял своего товарища многократно переписывать ошибки, которых было довольно много поначалу.
К концу лета, которое двое сирот провели в колхозе на различного рода работах, за что имели трехразовую кормежку, Февзи уже декламировал стихи Пушкина и Лермонтова, акцент у него почти пропал. Впереди их ожидала пара недель в общежитии, а потом опять не менее двух месяцев в колхозе на уборке хлопка. Занятия в вечерней школе, таким образом, должны были начаться примерно через три месяца, а до того все вечера были в распоряжении подростков, увлекшихся чтением книг. Благо, что в городе Чирчике была библиотека, которую если и нельзя было назвать хорошей, но русская классика в ней была представлена достаточно полно.
Бывают люди, которым однажды повезло встретиться с умным и знающим человеком, который становиться для них мудрым наставником, кому удается изменить казалось бы уже предназначенный судьбой жизненный путь. Для Февзи таким человеком стал его друг, который был на два года старше его, такой же, как и он сирота. Олег был из образованной городской, даже столичной, семьи. Еще ребенком, до войны, он был своей мамой приобщен к высшим достижениям человеческой культуры, - конечно, в образцах, доступных мальчику до двенадцати лет. Он успел узнать ленинградские музеи, ходил в оперу, на театральные спектакли. Последние ужасные три года, эвакуация, гибель мамы - все это не привело к потере интереса к истинным человеческим ценностям. Напротив! Извлекая из памяти все в мельчайших подробностях эпизоды довоенной счастливой жизни, Олег спасался от отчаяния. Но при этом погружался в умозрительный мир, окружающая его не очень привлекательная действительность порой ощущалась им как сон, а реальностью начинала казаться жизнь в воспоминаниях. Он представлял себя сегодняшнего посещающим ленинградский Эрмитаж, ходил с мамой и папой в гости, обедал за покрытым скатертью и сервированным столом. Мальчик не понимал опасности, грозящей его рассудку на этом пути: его подсознание оберегало ум от страшных картин недавних лет, но могло завести в лабиринт выдуманной жизни. Подсознание ребенка защищалось: иметь любящих родителей, дом, добрых родственников, друзей, относительный достаток - и все потерять! Видеть смерть мамы, последними словами которой были "Олег, помни отца! ", не иметь реальной надежды на то, что жив отец, от которого письма перестали приходить еще в начале сорок второго. О том, что все оставшиеся в Ленинграде родственники умерли в первую блокадную зиму, они с мамой узнали незадолго до ее гибели. Мальчик старался не думать о том, что он остался один, он предпочитал держать в подсознании мысль, что все его близкие где-то живут, просто у каждого свой путь в жизни. Он их вызывал в своей памяти как живых, переживал события, которые когда-то были... Встреча с умным и пытливым Февзи дала ему стимул к возобновлению активной жизни, а возложенная им на себя роль наставника порождала чувство ответственности, и тоже содействовала переходу от жизни в вымышленном мире к новой реальности.
Пришла весна. Олег и Февзи были вполне довольны жизнью. У Олега было основание гордиться тем, что его друг, едва закончивший в деревенской школе два класса, под его руководством вполне успешно заканчивал восьмой класс. Февзи порой не верил тому, что учителя даже не подозревают о пробелах в его образовании, считая его хорошим, вторым после Олега, учеником. Так как с трудности с геометрией преодолеть не удалось, Февзи увлекся гуманитарными дисциплинами. Он увлеченно штудировал историю, но отдавал предпочтение литературе. На шедевры мировой классики у мальчиков не было времени, что же касается русской литературы двадцатого века, то они с упоением заучивали стихи великих поэтов, перечитывали Гоголя и Тургенева и даже громоздкого Гончарова, благо, что в библиотеке русская литература была представлена неплохо (если, конечно, не искать на книжных полках Достоевского).
И великое счастье пришло к Олегу - в начале мая, как раз во вторую годовщину Победы, объявился его отец. Попав в немецкий плен, он, оказывается, бежал из лагеря и сумел пробраться к югославским партизанам. Не сразу после окончания войны удалось боевому офицеру вернуться в Ленинград, Но когда, пройдя все проверочные комиссии, он оказался на родине, то немедленно начал поиски своей семьи, что оказалось нелегким делом. Он был поражен известием о гибели жены, но был счастлив возможностью обнять повзрослевшего сына...
Отец хотел сразу же увести сына в родной город, но возникла проблема: как быть со школьными экзаменами? Удалось договориться с педагогическим советом, что Олег будет сдавать экзамены сейчас же. Однако, на это требовалось, при всей подготовленности Олега и благосклонном к нему отношении учителей, не менее недели.
Февзи был рад за друга. И у него появилась надежда, что его отец тоже жив и со временем найдет сына...
Перспектива скорой разлуки огорчала мальчиков. Особенно обездоленным чувствовал себя Февзи. Хотелось хотя бы оставшиеся дни чаще общаться с Олегом, но тот, недосыпая ночами, повторял пройденный за год материал и почти каждый день сдавал экзамен по какому-нибудь предмету. К тому же отец Олега неприязненно отнесся к Февзи.
- Что это за друг у тебя? Из местных?
- Папа, это Февзи! Способнейший парень оказался! Он из Крыма, спецпереселенец, у него все родственники умерли. Папа его тоже на фронте, вестей от него нет.
Офицер ничего не слышал о крымских татарах, но слово "спецпереселенец" вызвало у него недобрые ассоциации. Он навел справки и понял, что его сын подружился с представителем неблагонадежной нации. Благочестивый коммунист был опечален такой неразборчивостью родного сына, но успокаивало его то обстоятельство, что еще несколько дней и это шокирующее знакомство прекратиться навсегда. Тем не менее, он решил в воспитательных целях поговорить с дорогим сыночком о том, что выбирать себе приятелей надо с умом.
- Мы живем в сложное время, Олег. В стране много враждебно относящихся к советской власти людей. Целые народы оказались народами-вредителями. Они несут наказание, но не думаю, что это наказание их исправит - напротив, они еще больше озлобятся. С этими людьми нам общаться нельзя, это враги.
- Февзи враг? - воскликнул ошеломленный Олег.
- Ну, может быть, пока еще и нет, но... Вот когда нам партия и советская власть скажут, что крымские татары прощены, тогда можно будет подумать. А сейчас - ты совершил большую ошибку, подружившись со спецпереселенцем. Кстати, и в Ленинграде не следует якшаться с кем попало, - совсем рядом стояли немцы и немало людей им удалось завербовать...
- Февзи не враг! - все остальное из сказанного отцом прошло мимо внимания Олега. - Как ты можешь! Мы с ним дружим два года, он настоящий человек, настоящий друг!
Добрый отец, настоящий советский патриот, быстро оценил ситуацию. Нет смысла перед предстоящим скоро отъездом переубеждать сына, а что касается дальнейших приятельских связей, то они будут под строгим контролем.
- Ну, ну! Я же не против этого твоего, - как там его? Да, Февзи. Наверное, он хороший парень. Я говорю, что вообще вокруг нас очень много не вполне советских людей... Ладно. Ты, давай, сынок, занимайся!
...Прощаясь, мальчики по взрослому обменялись рукопожатием и, улыбаясь, пожелали друг другу удачи, а им хотелось обняться и заплакать. Олег обещал сразу же по прибытии в Ленинград написать другу письмо и сообщить свой адрес.
- Ты сможешь подзаработать денег и приехать к нам. Правда, папа?
Папа криво улыбнулся, а про себя подумал: "Ну, нет, приятель, надеюсь, что я тебя больше никогда не увижу".
О, судьбы, судьбы человеческие!..
Февзи чувствовал себя осиротевшим в очередной раз. Расставание с Олегом он переживал также тяжело, как и кончину матери, когда, казалось, жизнь прервалась, и не понятно было, с кем быть на этой земле, как теперь просыпаться по утрам и засыпать ночью. Так же были оборваны все связи со знакомыми с детства людьми, с родной деревней, с ее говором, с ее обычаями, когда умер Мурат-эмдже. И вот рвутся связи дружеские, даже более, чем дружеские - братские. Вместе было пережито много трудностей, но и много радостных открытий мальчики сделали вместе, вместе читали книги, вместе познавали мир - ведь были неразлучны почти три года!
Февзи удивлял преподавателей ФЗУ своей старательностью. Он до самого конца рабочего дня копался в двигателях, помогал мастерам ремонтировать машины. В отличие от большей части своих учителей, постигших тайны работы двигателей внутреннего сгорания многолетней практикой, Февзи скрупулезно штудировал учебники и часто теперь в случаях, когда мастер становился в тупик перед каким-нибудь капризом механизма, Февзи предлагал решение, которое оказывалось правильным. Не всем это нравилось, но когда пришел срок распределения выпускников по предприятиям области, то по единогласному решению Февзи был оставлен в мастерских училища. Его такое решение устраивало по многим причинам, и первая из них - остаться в вечерней школе, где учителя стали для одинокого мальчика близкими людьми.
Итак, Февзи теперь был не ученик, а помощник мастера, получал какую ни есть зарплату. Жить он перешел в общежитие рабочих, находящееся на первом этаже того же здания, попросился в комнату, где жили пожилые и непьющие мастера, - такие тоже бывают!
Добросовестно выполняя школьные задания по всем дисциплинам, юноша все больше увлекался литературой. Учительница-словесница Ольга Васильевна, небольшого роста привлекательная молодая шатенка всегда с доброй улыбкой на полных губах, тоже с увлечением поддерживала стремление Февзи больше прочитать, лучше усвоить язык. Она составила для него список книг для систематического и последовательного освоения мировой и русской классики, начиная от Гомера и "Слова о полку Игореве". Молодая учительница недавно окончила педагогический институт в Ташкенте и была по распределению послана в Чирчик. Вместе со своей коллегой, учительницей биологии Зинаидой Николаевной, высокой блондинкой с отвислыми щеками, направленной сюда после окончания какого-то областного педагогического института, она жила в комнатке, предоставленной им как молодым специалистам, и каждую субботу ездила к родителям в Ташкент, чтобы утром в понедельник быть опять в школе. Так как вечера в городке занять было нечем, она стала работать и в вечерней школе. Работа с Олегом и Февзи стала для нее наградой за ее вынужденную разлуку с родным домом, с ташкентскими друзьями. Даже в дневной школе, где она числилась главным словесником, не было учеников, с которыми можно было получать радость от преподавания. Теперь, когда Олег уехал, оставался этот странный татарин Февзи, который писал сочинения, достойные лучших учеников столичных школ. Ольга Васильевна часто приглашала Февзи попить чаю вместе с ней и Зинаидой Николаевной. Молодые женщины удивлялись наивной невоспитанности юноши, которая могла быть терпима только в соединении с его скромностью и послушностью. Педагоги решили воспитывать в юноше умение говорить и слушать, культурно есть за столом и подавать женщине пальто, - короче говоря, научить его общению с цивилизованными людьми. Причем если Ольга Васильевна делала это из самых добрых побуждений, то ее коллега принимала в этом участие только из скуки и, главное, всячески подчеркивала это обстоятельство. Сначала натура Февзи, сформировавшаяся в узбекском колхозе и пообтершаяся в общежитии ФЗУ, воспротивилась, было, но разум взял верх, и парень сумел убедить себя, что он, честно говоря, деревенский дикарь, научившийся читать хорошие книги и видеть в этих книгах описание жизни каких-то других, не здешних людей. Оказалось, что манеры, описываемые в книгах, существуют и считаются обязательными, - не верить своей учительнице у него не было оснований.
Прошел один год, заканчивался и второй год с той поры, когда мальчики расстались. Если бы сейчас довелось бы Февзи и Олегу встретиться, то молодой ленинградец был бы поражен происшедшими в его друге изменениями. Между мальчиками наладилась регулярная переписка, и не реже одного раза в месяц Февзи получал из далекого Ленинграда письма, в которых его друг рассказывал о жизни в северной столице. Февзи приносил письма от Олега учительницам, и они вздыхали, читая о ленинградских музеях и других культурных достопримечательностях города на Неве.
Первая трещина в гармоничных отношениях педагога и ученика появилась при следующих обстоятельствах. Ольга Васильевна предложила Февзи участвовать в проводимом ею в дневной школе конкурсе на лучшее сочинение по "Слову о полку Игореве". Февзи внимательно проштудировал произведение и начал свое сочинение с того, что задумал однажды князь Игорь добыть себе славы и напал на половцев, потоптал их, захватил девушек половецких, "помчал их по полю", и еще награбил много золота и других драгоценностей. Решили тогда половцы отомстить Игорю и на другой день разбили войско русское и взяли в плен самого князя... Вопреки обязательному в советской педагогике утверждению, что русские воины несли всегда народам мира освобождение и счастье, Февзи как-то очень уж выпукло описал, как русский агрессор был наказан за издевательства и грабеж - все, между прочим, в согласии с текстом первоисточника. Конечно, расстановка акцентов была не случайна. Февзи распознал в половцах предков своего народа, и обидно ему стало, что комментарии к "Слову" представляют князя-грабителя положительным героем, а жертв его унижают. А Ольга Васильевна была искренне возмущена такого рода оценкой тех давних событий, хотя не показала своего возмущения самому Февзи, а кратко сказала, что он неправильно понял это великое произведение. Вечером того же дня она с горячностью говорила Зинаиде Николаевне, что, мол, как волка не корми, он все в лес смотрит.
- А я тебе всегда говорила, - спокойно ответила та, презрительно скривив маленький ротик, - что ты идеализируешь этого татарчонка. Тем более, что это крымский татарин. А ты забыла, что все они предатели...
На уроках Ольга Васильевна была все также внимательна к своему ученику - для педагога, также как и для врача, все должны быть равны. Но приглашений на чай юноша перестал получать, чем был огорчен и не знал, чем он провинился перед любимой учительницей.
Глава 27
...Распространено мнение, что все миллионы жертв сталинских репрессий были невиновные. Полноте! Так уж бездумно превращать народы Советского Союза в стадо безропотных глупых овечек! Перед Богом, перед совестью, перед порабощенными людьми эти жертвы террора были невинны. Но перед так называемой советской властью, перед коммунистической партией, перед Сталиным и окружавшими его нелюдями многие, - хотелось бы, чтобы большинство! - были виновны. Был виновен Николай Гумилев, вошедший в организацию, целью которой была борьба против большевиков. Был виновен Анатолий Жигулин, будучи еще школьником решивший бороться против тиранической власти. Был виновен и отец Камилла, не сломленный предыдущим тюремным заключением, затем ссылкой, лишением гражданских прав, гласным надзором политической полиции.
Итак, где-то на этажах Лубянки в отделе по борьбе с интеллигенцией, в подотделе по борьбе с интеллигенцией нерусских народов, в крымско-татарском секторе принято было решение повторно лишить свободы этого непокорного и слишком много знающего крымского татарина. Шел 1949 год, когда брали повторно тех, кто был выпущен незадолго до того. Конечно, в том году брали и новичков, но плюс к тому брали ветеранов тюрем и лагерей, тех, кому довелось живыми выйти на свободу после первого ареста. Тоталитарно-репрессивные режимы отличаются своим ханжеством и лицемерием, их функционеры распинаются в своей приверженности к законности и правам человека. "Я другой такой страны не знаю, где так вольно дышит человек" - любимая песня миллионов в те десятилетия, когда по ночным улицам одна за другой разъезжали "черные вороны" - арестантские машины. Все их видели и все слышали стуки по ночам в двери соседей, если пока еще не в свои. Но скажи этим, покуда еще не угодившим под колесо Джагернаута, то бишь под колесо Джугашвили, обывателям, что в любимой ими песне те самые слова не совсем соответствуют действительности, то они с негодованием вам ответили бы, что "каждому свое", что врагам народа вообще нельзя разрешать дышать нашим социалистическим воздухом. Так вот, наряду с тем, что людей брали в домах, на службе, на улицах, в селах без всяких объяснений, а потом без суда и следствия или расстреливали, или посылали на Колыму, все же в некоторых случаях людям предъявляли обвинения, и в основу ставили какой-нибудь бытовой факт, - а как же, у нас ни за что не арестовывают! А если уж арестовали, то человек, безусловно, виновен. Так и говорили: у нас без вины не арестовывают. А каждого приличного человека в этой стране можно было вполне обоснованно обвинить в нелюбви к тоталитарной и преступной власти и арестовать.
Именно о приличных людях речь. Срастались с советской властью только люди морально неполноценные или очень уж темные.
Что конкретно инкриминировалось татарскому интеллигенту? Что считалось антисоветской агитацией?
Отец, оказывается, в 1937 году "в дни выборов в Верховный Совет СССР высказал сомнение в демократичности выборов и говорил, что кандидаты не избираются народом, а назначаются высшими партийными и советскими организациями".
На допросе следователь спросил профессора Афуз-заде:
- Каково было ваше отношение к решению партии и правительства о переходе письменности крымских татар с латинского алфавита на русский?
- Я расцениваю перевод письменности крымских татар и других тюркских народов с латинского алфавита на кириллицу как осуществление политики русификации народов СССР, – так ответил литературовед и историк.
Кроме того, в 1939 году подписание договора о ненападении между СССР и Германией отец расценивал как уступку советского правительства правительству Гитлера. Ну и так далее.
И еще в одном злостном преступлении был изобличен профессор Афуз-заде: "После административного выселения крымских татар с территории Крыма не поняв (!!!) этих принятых Партией и Правительством мер, истолковывая все (!!!) в антисоветском духе подсудимый встал на путь активной контрреволюционной деятельности".
Не понял, значит. Неправильно истолковал! Нужны ли тут какие-либо комментарии?
А Камилл по глупости своей говорил, что отец ни в чем не виновен.... Когда назавтра после ареста отца он пошел в школу, где все уже знали о случившемся, он говорил, что папа его арестован безо всякой вины. Кучкаров, учитель узбекского языка, тотчас сообщил об этих высказываниях в НКГБ. Маму Камилла вызвал начальник районного управления госбезопасности полковник Шаахмедов и кричал на стоящую перед ним женщину, что он ее арестует, а старшего сына отправит в колонию для малолетних преступников.
- Учителя школы возмущены антисоветскими разговорами вашего сына. Ваш муж враг народа, и учителя школы требуют оградить их от вас и вашего сына.
- Какие учителя, кто требует? - только и смогла ответить на угрозы начальника карательных органов конечно же напуганная, но сохраняющая достоинства мама.
Начальник воспринял эти слова бедной женщины, произнесенные в состоянии близком к бредовому, за действительный вопрос.
- Все учителя, советские патриоты. Особенно возмущен инвалид войны учитель Кучкаров, который требует выгнать вашего сына из школы! Мы его выгоним и отправим в колонию, а младшего сына отправим в приют! - распалялся полковник перед женщиной, лишившейся накануне мужа.
- В вашей власти делать все, что вам захочется, - так же тихо ответила мама, но вдруг не выдержала и, захлебнувшись рыданиями, выбежала из кабинета. Полковник не стал ее задерживать, а только прокричал во след:
- Прикажите вашему сыну придержать язык и поменьше болтать! - оказывается, в его цели не входило арестовывать членов семьи врага народа, а только надо было припугнуть.
Камилл и тогда, и в последующие годы всегда гордился своей мамой, которая даже не рассказала ему об угрозах чекиста, а только сказала, что папа его самый чистый и справедливый человек, а те, кто скажут о нем плохое, не заслуживают того, чтобы с ними разговаривать.
- Сейчас разные люди будут говорить о папе разные гадости. Это люди не достойные нашего внимания.
На самом деле никто кроме этого Кучкарова не проявлял к Камиллу демонстративной неприязни. Были люди, соблюдавшие осторожность в общении с семьей репрессированного, но эти люди, не заслуживающие порицания, просто робкие люди. Такие на улице, проходя мимо мамы не останавливаясь, тихо спрашивали:
- Есть вести от мужа?
- Нет! - так же кратко отвечала мама.
Что касается узбеков, которые жили по соседству или с которыми по работе общалась мама, то они подходили к маме и успокаивали:
- Хафа болманг, Домулла кайтыб келади. (Не расстраивайтесь, Домулла вернется).
Все соседи, в том числе и убежавшие от раскулачивания из пензенских краев русские Зобнины, приходили в последующие после ареста отца дни к маме и вели успокаивающие разговоры.
В подробностях Камиллу запомнился день ареста отца.
Четвертого октября на базаре он увидел двух офицеров, капитана и лейтенанта, которые веселились, играя в "чье яйцо окажется крепче" - один зажимает яйцо в руке, так, что только макушка его остается снаружи, другой же бьет по этой макушке острым концом своего яйца. На прилавке перед офицерами уже лежало не меньше дюжины разбитых яиц, и Камилл еще подумал, что денег, видно, у офицеров много... Других мыслей у него не появилось.
Часу в шестом он увидел, как вдоль ряда домов, в конце которого находился наш домик, идут те два офицера, между ними его папа, а позади председатель сельсовета, хорошая знакомая их семьи. Соседи, которые в этот теплый вечер занимались делами или просто отдыхали перед своим жилищем, потрясенно смотрели на отца, спокойно шествующего между двумя чекистами. Семенившая за ними председатель сельсовета была бледна, старалась не глядеть по сторонам, как бы боясь, что ее сочтут причастной к насилию, творимому над всеми уважаемым Домуллой. В том, что отца арестовали не ночью, не тишком на работе, а прилюдно, в тот час дня, когда максимальное число жителей районного центра могли видеть этот акт, была какая-то чекистская задумка. Наверное, хотели показать людям, что, мол, все под органами безопасности ходите...
После небрежно проведенного обыска в доме (просмотрели только бумаги и книжки, включая школьные учебники, только на одной из полок) отца увели, сказав, что можно принести ему еду. Отец сперва поцеловал маму, которая в голос заплакала, на что гебист, как обычно, сказал, что не надо волноваться, что через несколько дней "ваш муж будет дома" - это они говорят во избежание женских истерик. Потом папа попрощался с Камиллом:
- Айды, оглум, анайга ве кардашынга мукайт бол. (Ну, сынок, заботься о маме и братишке).
Камилл обнял папу и не мог разжать свои объятия. Такое родное отцовское тело, его неровное дыхание, - он уже был однажды лишен этого на многие годы, он уже ходил плакать к взорванным симферопольским подвалам ГПУ... Сейчас он думал, что последний раз ощущает отцовское тепло, у него были дурные предчувствия, которые оказались, к счастью, ложными.
Энкаведешники стали с издевкой торопить.
- Ну, все, кончайте этот спектакль! Выходите!
Папа взял на руки своего малыша, трехлетнего сынишку, прижал к себе и поцеловав отдал его маме.
Когда осиротевшая семья стояла у дома и смотрела вослед уводимому отцу, малыш вдруг заплакал. Мама зажала ему ладонью рот и затащила в дом, чтобы папа не слышал плача своего маленького ребеночка, который был испуган странным уходом отца...
Дома не оказалось мяса, и Камилл рванул на базар. Но был уже седьмой час, и все лавки закрылись. Он зигзагом побежал по улице, забегая в дома узбеков с просьбой продать, если есть, мяса. Но в эти дни ни в одном из ближайших домов не резали барашка. Он бежал дальше и готов был обежать ближайшие колхозы, и только потеря времени беспокоила его. Не может такого быть, убеждал он себя, чтобы нигде не зарезали барашка или бычка. Опасаться, что ему откажут в доме, где есть свежее мясо, не приходилось, ибо узбеки люди чуткие, и если парнишка бегает по дворам в поисках чего-то, то значит кому-то это очень нужно, а в таком случае отказать втройне грешно. Могли, конечно, запросить повышенную цену, но это не было проблемой.
Забежав в один из дворов, Камилл вдруг увидел на помосте своего давнего недруга нанвоя Хамида, который попивал с домочадцами свой вечерний чай. Не надеясь на положительный результат, мальчик все же произнес свою просьбу. Хамид неподвижным взглядом уставился на него. Камилл повернулся, было, к воротам, но громкий голос Хамида-ака остановил его.
- Тохтагин! Погоди! Погоди, говорю! Что случилось?
- Отца арестовали. Дома нет мяса, чтобы приготовить отцу еду нужно мясо.
Хамид-ака спустив с помоста босую ногу, шарил ею в поисках башмака.
- Подожди! - он что-то сказал своим домочадцам и поспешно вслед за мальчиком вышел на улицу.
- У Карима-кузнеца сегодня должны были резать овцу. Если еще не зарезали, побежим в колхоз, там Собир-ходжа еще утром бычка заколол.
Хамид бежал по улице даже быстрее Камилла, ибо понимал, что мало достать мясо, его еще надо успеть приготовить.
К дому кузнеца Карима они добежали быстро. Барашек уже был освежеван и подгоняемый Хамидом хозяин без задержки отрезал требуемое количество свежей баранины.
- Ну, беги! У тебя ноги молодые, - подтолкнул мальчика Хамид-ака и тот быстро, как только мог, помчался домой. У ворот дома нанвоя Хамида его дочка дожидалась Камилла с парой свежих лепешек...
Мама встретила Камилла очень нервно, попрекнула, что из-за него потеряно столько времени. Ему было обидно, но он ни слова не сказал. Уже стемнело, когда заполнив стеклянную банку жареной бараниной и прихватив лепешки они все втроем побежали к длинному одноэтажному дому МГБ. На стук дежурный открыл дверь и без лишних разговоров принял у них передачу. Они остались ждать каких-нибудь вестей. Минут через десять тот же дежурный открыл дверь и сказал, что еду отцу передали.
- Его повезут на машине примерно через час. Можете подождать у ворот.
Женщина и дети стремглав бросились к воротам, до которых ходу было всего две минуты. Камилл ходил под глухими окнами здания, в напрасной надежде что-нибудь увидеть или услышать. Время шло незаметно, потому что все помыслы были о том, что там происходит с отцом, удастся ли его увидеть. Братик Камилла, обычно такой шустрый, был сосредоточен и молча возился с какими-то подобранными веточками. Прошел не час, а часа два. Наверное, гостеприимный начальник районного НКГБ угощал дорогих гостей, один из которых, лейтенант Юлдашев, приехал из республиканского управления НКГБ, из самого Ташкента - такой редкий по нынешним временам в Чинабадском захолустье гость!
Вдруг за высокими непроницаемыми воротами раздался шум двигателя машины, ворота отворились, и в кузове выехавшей полуторки они увидели сидящего между двух вооруженных винтовками солдат отца. Женщина и мальчики закричали и замахали ему руками. В темноте они не видели его лица, но увиденные ими его очертания, узнанные по светлой рубашке и по белой летней кепке на голове, принесли им какое-то облегчение.
Не знаю, увидел ли трехлетний малыш что-нибудь в темноте, но он, бедненький, радостно кричал:
- Бабай, бабай! Папа, папа!
Отца конвой увозил в подвалы ташкентского и московского ГПУ, а потом его ждали колючая проволока и вышки ГУЛАГа.
В той стороне, куда умчалась машина с арестантом и куда еще долго смотрела осиротевшая семья, сгущался мрак, все в себя втягивающий и ничего не отдающий.
…Кроется в складках мироздания особая темнота, которая чернеет мрачной круговертью даже на абсолютно черном фоне.
Глава 28
Была весна, был месяц май, день восемнадцатый. Тот самый день, когда солдаты ворвались в его родное село, взяли всех в полон, ограбили, помчали женщин, детей, стариков по полям, по пустыням, высадили в Голодной степи, где все умерли от голода и болезней. Всю ночь бродил Февзи по пустынным улицам Чирчика, вспоминал маму, братика, Мурата-эмдже и всех тех, кого он похоронил в ту зиму. И сложилось у него грустное стихотворение:
Ты прислушайся к ночи весенней, Когда ветер шумит меж ветвей. Слышишь стоны татарских женщин, Стариков и невинных детей? Почему нас из Крыма изгнали? Мы там жили в своих домах. Там рождались мы, там умирали, А теперь на чужбине наш прах. Кто вернет мою маму и брата, Кто вернет нам Отчизну и жизнь? Долго ль всем нам мечтать о возврате В край, который зовем мы родным?Самому Февзи стихотворение очень понравилось. После нескольких дней колебаний он решил показать его Ольге Васильевне.
Ольга Васильевна с нетерпением ждала окончания учебного года. У нее кончался срок обязательной отработки по распределению, и она сможет, наконец, навсегда покинуть этот опостылевший ей городок и начать полноценную жизнь в Ташкенте, который не Ленинград, конечно, но тоже какая ни есть, а все-таки столица, - с театрами, с музеями. И, главное, там ее родители и друзья. Она оставляла здесь свое неуютное жилье, безобразно оснащенную школу, малоинтересных коллег, серых в основной своей массе учеников, среди которых вспомнить добрым словом можно будет двух-трех. Интересный парнишка был, например, этот татарчонок, талантливый. Может вот из него только и вырастет яркая личность. Если, конечно, сможет пробиться со своим неудачным национальным статусом. Говорят, каждый крымский татарин раз в неделю должен отмечаться в милиции - как из такого положения выбиться в люди?
Не раз в неделю, а раз в месяц должен был отмечаться каждый достигший шестнадцати лет крымский татарин, но не в милиции, а в спецкомендатуре при органах госбезопасности. Февзи по записи о нем в этой самой комендатуре исполнилось шестнадцать в прошлом году, когда он заканчивал девятый класс, и тогда же он начал посещать в назначенный день месяца коменданта-чекиста, который проставлял галочку в списках поднадзорных. Там, в комендатуре, он встречался со своими земляками, высланными из разных частей Крыма, и шел к кому-нибудь в гости. К тому времени люди уже как-то наладили свой быт, кто лучше, кто хуже. В любом случае для обитавшего в общежитии парня этот день был желанен, он ждал его с нетерпением, как-то не задумываясь, что в этот день зримо нарушаются его гражданские права, оскорбляется его человеческое достоинство. Конечно, он посещал семью Мафузе, своей названной тетки, но в комендантский день он встречался с новыми людьми, получал новый импульс гнева и ненависти к властям. Один бывший фронтовик дал ему адрес учреждения, помогающего в розыске людей, и Февзи написал письмо с просьбой сообщить сведения о своем пропащем на войне отце. Прошел год, но ответа на свой запрос парень не получал.
А теперь предстояли экзамены в школе на аттестат зрелости - в том году Февзи был чуть ли не единственным из крымских татар, оканчивающим в городке десятый класс. По этому поводу его старшие товарищи из числа завсегдатаев спецкомендатуры решили устроить торжество и уже собирали деньги на подарок.
В тот солнечный майский день, когда в школах отмечается праздник "последнего звонка", Февзи, смущаясь, показал свое грустное стихотворение любимой учительнице Ольге Васильевне. Прочитав стихотворные строчки, Ольга Васильевна странно замолчала. Потом, не похвалив и не покритиковав, бесцветным голосом произнесла:
- Я прочту его дома, завтра утром верну.
- Не надо, Ольга Васильевна, оставьте у себя! Я помню наизусть!
Но учительница с непроницаемым неулыбчивым лицом отвернулась от своего ученика и пошла прочь.
Февзи был озадачен странным поведением учительницы, но успокаивая себя решил, что та поражена его способностями и хочет оценить его произведение в спокойной обстановке.
День был, действительно, прекрасен. Буйно цвели фруктовые деревья, воздух был напитан ароматом поздно зацветающей в предгорьях сирени. Сквозь еще не успевший запылиться лессовой пылью воздух отчетливо виделся Чаткальский хребет, вершины которого белели шапками снегов, и в косо падающих лучах солнца рельефно просматривались ущелья и ледники. Февзи вспомнил, как однажды они вдвоем с Олегом добрались до подножия гор, бродили по алым от огромных горных тюльпанов склонам, в ложбинах которых еще не стаяли снежники. Ребята восхищались многоцветьем весенних горных полян, дивились высоким, выше человеческого роста, эремурусам - горным лилиям, отыскивали большие как лопухи листья ревеня, который здесь называют "кислицей", выкапывали остро пахнущие головки горного чеснока. И сейчас парень бросил бы все и отправился бы в горы, если бы рядом был друг. Но никого с ним нет, он одинок, и от этого чувства не спасают ни встречи с добрыми крымчанами, для которых он всегда желанный гость, ни по родственному к нему относящаяся семья Мафузе-апте, ни общение с товарищами по работе.
Как не убеждал себя Февзи, что надо засесть за учебники, - на носу выпускные экзамены! - но настроение было не рабочее. Чего обычно с ним не бывало, он без дела и без каких-то определенных мыслей в голове бродил среди дня по улицам городка. Сегодня в честь последнего школьного звонка его отпустили с работы и парень, может быть впервые, наслаждался непривычным бездельем. Со временем охватившее его чувство легкости улетучилось, и жгучее ощущение одиночества сжало сердце.
Идти в опостылевшую комнату в общежитии не было желания. Для посещения кого-нибудь из знакомых татар было еще рано - в три часа пополудни в гости ходить не принято. И он шел по крутым улочкам, застроенным низкими домиками, окруженными небольшими садиками. На булыжной дороге, круто спускавшейся к реке Чирчик, он увидел идущую ему навстречу Асият, девушку-балкарку, с которой он познакомился тоже в спецкомендатуре. В другой день он прошел бы мимо, поздоровавшись, но сейчас сердце его учащенно забилось, и по мере приближения к девушке у него созрела решимость остановить ее и заговорить, - благо, что в уроки, преподанные ему когда-то благосклонными молодыми учительницами, входило и умение привлечь внимание малознакомых представительниц противоположного пола.
Асият была удивлена вежливым и ненавязчивым обращением к ней парня, с которым они до этого только издали здоровались. У спецпереселенцев, будь то крымчане, калмыки или кавказцы, всегда могла найтись общая тема для разговора. Ну, хотя бы, о том, сколько денег они получили за "проданную немцам родину", или о том, какие новости поступают из оставленных советской власти бесплатно городов и деревень на земле предков. Но на этот раз молодой человек обратился к девушке с непривычной для нее простотой:
- Какой прекрасный день и как мне приятно встретить в этот день тебя, Асият!
- Ну да уж! - жеманно ответила Асият, сама при этом почувствовав несовпадение стиля.
- Давай погуляем вместе! Ты не против? - парень улыбался открыто и приветливо.
Согласно местному этикету девушка должна была ответить что-то вроде "Прямо тебе!" - в смысле "Ишь ты, разбежался!". Но в каждом человеке, даже получившем неправильное воспитание, в его подсознании скрыты не оскорбительные и добрые формы общения, которые и легли в основу того, что называют хорошим воспитанием. И отстранив стереотипы, возникшие, собственно говоря, в качестве неких оборонительных реакций, человек может удивить окружающих его дикарей естественностью поведения, увлекая за собой толпы неофитов.
Подсознание оказалось сильнее сознания и девушка, весело засмеявшись, протянула парню руку.
- Давай погуляем!
Молодые люди, держась за руки, побежали вниз к реке.
Совсем недавно выше по течению реки была построена плотина, направляющая воды в канал, проходящий вдоль склона горы над городом. Вода реки Чирчик, до этого уходящая в мутную Сыр-Дарью, теперь направлялась в Ташкентский оазис, использовалась для орошения хлопковых плантаций. Поэтому, несмотря на весеннюю пору, ложе реки оголилось крупной галькой, и лишь по самому стрежню протекал небольшой поток, который человек мог пройти всего лишь углубившись по пояс. Крикливые чайки что-то находили, видно, в больших и малых озерцах-останцах, и были недовольны вторжением людей на их охотничьи угодья. Немного постояв у воды, молодые люди повернули назад. Они шли не торопясь, - у девушки, которая работала санитаркой в больнице, был тоже свободный от работы день. Великолепная панорама гор не могла не привлечь их внимания, и Февзи рассказал, как они вдвоем с Олегом добрались до них, как лазали по склонам, спускались в сырые ущелья. Асият загорелась желанием увидеть все своими глазами, и молодые люди решили, что в ближайший свободный день совершат прогулку в горы. Девушка захотела, чтобы с ними пошел ее младший братишка, и Февзи не возражал.
Солнце приблизилось к закату, когда юноша и девушка расстались, договорившись встретиться через несколько дней и окончательно назначить время похода в горы. Февзи в приподнятом настроении отправился в гости в всегда приветливо его встречающую семью Мустафы из Алушты.
Начинались выпускные экзамены, и оказалось не так просто выбрать день для задуманного мероприятия. В конце концов, договорились, что отправятся в поход на следующий день после первого экзамена. К тому времени число желающих побывать в горах увеличилось на несколько человек, и кто-то предложил раздобыть палатки и отправиться с ночевкой. Это предложение было с энтузиазмом принято.
День первого экзамена в десятых классах был един по всей стране. В этот день все выпускники писали сочинение. Темы сочинений были одинаковы по всему огромному Советскому Союзу и в запечатанных конвертах рассылались по всем областям и районам, где были русскоязычные школы (а они были везде). В присутствии комиссии из работников Управления народного образования и представителей партийных организаций конверты с темами открывались за полчаса до начала экзаменов. За разглашение тем сочинений до того, как о них сообщали уже сидящим за партами десятиклассникам, грозили нешуточные кары. Но почти везде, за исключением какой-нибудь глухомани, ученики уже знали, какие темы сочинений им будут объявлены. Дело в том, что страна имела протяженность в девять часовых поясов. И когда в каком-нибудь городе на Камчатке темы сочинений учитель-словесник уже выводил мелом на доске, то в Москве еще было только одиннадцать часов вечера. Было достаточное число семей, откуда могли позвонить из Москвы или из Ташкента на Камчатку или чуть позже во Владивосток, чтобы узнать название литературных тем. Полученная информация мгновенно распространялась по всему братству "Утром Мы пишем Сочинение", и остаться в неведении о названиях завтрашних тем мог быть только тот, кто не хочет этого знать. Такие люди могли быть, но только как исключение.
Февзи не был исключением. За несколько часов до начала письменного экзамена он уже знал, что будет писать на тему "Образ лишнего человека по произведениям Пушкина и Лермонтова". Времени было достаточно для того, чтобы подобрать и запомнить подходящие цитаты из "Евгения Онегина" и "Героя нашего времени". Прокрутив в памяти план сочинения, Февзи без трепета сел за парту. Одним из первых закончив писать, он еще успел проверить и убрать грамматические ошибки в сочинениях нескольких своих одноклассников, которые зря дрожали, ибо в вечерней школе было принято всем ученикам ставить не меньше тройки, так что те ошибки, которые им исправил Февзи, с таким же успехом исправили бы проверяющие их писания педагоги.
Изголодавшийся за почти пятичасовое сидение за партой, Февзи вышел на залитую солнцем улицу опустошенный, но счастливый. Назавтра предстоял поход в горы, и надо было отварить картошки и яиц. Он повернул, было, в сторону рынка, но вдруг перед ним возник комендант из спецкомендатуры.
- Ну что, написал сочинение? - лейтенант улыбался. - Ага!
- Написал. Ух, проголодался! Пойду куплю чего-нибудь поесть! - парню сейчас даже физиономия этого чекиста не могла испортить настроение.
- Поесть? Зайди-ка на минутку в комендатуру.
- В комендатуру? - Февзи был озадачен. - Зачем?
- Да я тебя долго не задержу. А по дороге и магазин есть, зайдешь и купишь себе еды, - комендант широко улыбался.
В комендатуре Февзи ждали двое незнакомых в форме НКВД, которые сказали, что он сейчас поедет с ними в Ташкент. На столе он увидел стопку своих тетрадей, - чекисты уже побывали в общежитии и опустошили его тумбочку. Еще не вполне осознавая, что это арест, Февзи был обеспокоен тем, что может сорваться завтрашняя поездка. Он рванулся к открытой двери:
- Я должен предупредить!
Но наперерез ему профессиональным рывком бросился один из приезжих:
- Куда, падла!
Получив сильный удар по челюсти, Февзи упал, и тотчас же ему заломили руки и надели наручники. После чего, раза два долбанув по пояснице ногами, его забросили в кузов грузовика, и накрыли брезентом. Машина, заурчав, тотчас тронулась с места, и часа два Февзи под вонючим брезентом приходил в себя.
Высадили его из машины в тесном дворе, над которым возвышались трех или четырех этажные здания. Больше не били. По полумраку подземного коридора повели, поддерживая справа и слева, и затолкали в одиночную камеру. На допрос его вызвали только через три дня.
- Ну, что милок? Много людей завербовал? - ехидно улыбался в лицо Февзи следователь.
Февзи до этого первого допроса имел достаточно времени, чтобы сориентироваться в случившемся. Он понял, что начнут обвинять в каких-то преступлениях, связанных с его национальной принадлежностью. Была у него и мысль, что обвинят его в бегстве из Голодной степи, но прошло столько лет... Вряд ли... Значит, его разговоры на работе о тяжкой доле высланных из Крыма татар...
И это тоже было в обвинении. Но главное - антисоветская агитация, распространение листовок, вербовка членов антисоветской организации в школе. Февзи был ошарашен масштабами своих замыслов! И дело, по-видимому, не ограничивалось только замыслами и агитацией, а и много было сделано реального для свержения советской власти, - именно признания в этом требовал от него старший лейтенант Шейн. Еще бы чуть промедлили органы, - и каюк советской власти, с такими трудностями обосновавшейся на евроазиатских просторах...
Февзи уже проживал не в прежней одиночке, а в камере, где кроме него было еще три опасных контрреволюционера. И когда парень рассказал, что он просто ничего не отвечает на вопросы следователя, потому что боится, что тот затянет его в этот мир фантастических обвинений, один из сокамерников посоветовал потребовать документального подтверждения хотя бы одного из обвинений.
- Будь уверен, у них на тебя что-то есть. Из предъявленного факта или документа узнаешь, кто на тебя накапал.
На допрос вызывали то днем, то ночью, могли вновь вызвать к следователю уже через пять минут после возвращения в камеру, - не понять было, чем руководствовались хитроумные чекисты. На очередном ночном допросе Февзи сказал Шейну, что наговорить всяких обвинений можно много.
- Но дайте хоть какое-нибудь документальное обоснование того, что вы мне лепите!
Старший лейтенант широко улыбнулся, будто он только и ждал все эти дни от своего подопечного такой просьбы. Выдвинув ящик стола, он достал оттуда листок из тетради в клеточку, и издали показал его парню.
- А вот! Почерк свой узнаешь?
- Откуда это у вас? - воскликнул пораженный Февзи. Он узнал листок с стихотворением, который он отдал Ольге Васильевне. Ужасная догадка пронзила его мозг - эти гады устроили обыск у несчастной его учительницы!
- Хе-хе! - Шейн был очень доволен произведенным эффектом. Последнее время допросы проходили так скучно! Парень уже ничему не удивлялся, даже перестал смеяться над предположениями вроде того, что он замышлял препятствовать победоносному шествию китайской революции.
- Хе-хе! У нас еще и не такие доказательства имеются! Возьми листок бумаги, пиши чистосердечное признание!
- Откуда у вас мои стихи? - Февзи думал только о том, как он навредил своей учительнице.
- Твоя учительница Ольга Васильевна, настоящий советский патриот. Она раскрыла нам твои зловещие замыслы. Пиши, кого еще ты пытался привлечь в свою организацию?
- Вы врете! Не могла Ольга Васильевна дать вам мои стихи!
- Не могла? Могла, еще как могла! Вот ее письмо в органы.
Следователь достал другой листок и Февзи прочел: " Получив из рук ученика десятого класса Февзи листок с написанным, по его утверждению, им самим стихотворением антисоветского содержания, я долго размышляла и решила, как гражданка СССР, довести происшедшее до сведения органов МГБ. Февзи уже не в первый раз..."
Такого оборота событий молодой человек никак не ожидал. Это был удар, который разрушил и без того непрочные стены того мира, который он создавал на протяжении последних четырех лет. Опустив голову на руки, Февзи плакал, и столько горечи было в этом негромком плаче здорового парня, что следователь Шейн впервые без своей ехидной улыбки, а даже сочувственно, глядел на подследственного. Дав Февзи успокоиться, Шейн нажал кнопку, вызывая конвой, и произнес, обращаясь к молодому человеку:
- Вот так, мой милый! Такова жизнь...
Олег уже два месяца не получал ответа на свои письма, адресованные в Чирчик. Наконец, пришел конверт, надписанный корявым почерком. В краткой записке бывший сосед Февзи по комнате в общежитии сообщал, что Февзи арестовали два месяца тому назад и что он здесь больше не живет. Когда отец узнал об этом, он сказал:
- Ну, вот видишь? А ты говорил, что хороший, мол, парень. Это тебе наука, будь впредь разборчивее в выборе знакомств.
Олег ничего не знал о ситуации в стране, не ведал о событиях тридцать седьмого, о заполненных тюрьмах и лагерях, о расстрелах. Он был огорчен и озадачен, не хотелось верить в виновность Февзи, в то, что его друг оказался замешанным в каком-то неблаговидном поступке. Но с другой стороны, если этот арест был ошибочен, то все же за прошедшие два месяца уже разобрались бы и выпустили бы...
...В Омской пересылке стало плохо одному заключенному, худому старику, обросшему седыми космами. Он задыхался, и не в силах произносить слова, тряс поднятой рукой, в которой был зажат кусок свежего белого хлеба, который недавно был роздан зекам. Молодой парень, оказавшийся рядом, наклонился к старику. Тот стал совать ему хлеб, и можно было разобрать, как из его груди вырывалось с хрипом:
- Воды... Пить...
В камере не было титана с водой, ее выдавали, как и баланду, раз в день. Февзи, а это был он, взял из рук несчастного старика хлеб и приподнявшись громко крикнул на всю камеру, в которой накопилось с полста заключенных.
- Эй, тут человеку плохо! Кто даст воды за пайку хлеба?
Вихляющей походкой подошел хилый урка.
- Воды? Дай посмотреть, что за хлеб.
- Вали отсюда! Эй, ну кто поможет старику?
Из угла раздался голос:
- Поди сюда. Хлеб захвати.
Сунув краюшку под рубаху, Февзи подошел на зов. Грузный зек неопределенного возраста восседал, по-восточному сложив ноги, на нижних нарах, - видно, ветеран ГУЛАГа. Он отлил в железную кружку воды из фляжки.
- Давай хлеб. Кружку верни.
Февзи подошел к больному и понял, что тот не в состоянии даже самостоятельно поднести кружку к губам. Он приподнял старику голову и положил ее на свое колено. Придерживая за затылок, он дал выпить ему пару глотков. Старик долгим взглядом смотрел на Февзи и наконец произнес:
- Спасибо, сынок...
Это были его последние слова. Через минуту старик глубоко вздохнул, и голова его запрокинулась набок. Воздух медленно выходил из его легких, чтобы уже никогда больше не вернуться в них. Февзи еще минут пять придерживал у себя на коленях голову умершего и потом, прочитав над ним одну из молитв, которым научил его Мурат-эмдже, осторожно опустил ее на доски нар.
- Он умер, - произнес тихо Февзи, и бородатый зек, сидевший рядом с ним, взглянув на усопшего, пошел к дверям, чтобы сообщить вертухаю за дверьми о смерти заключенного.
Так никогда и не узнал Февзи, что умерший на его руках заключенный был отцом его друга Олега. Унизительные избиения, моральные издевательства превратили сорокалетнего, уверенного в себе мужчину в больного старика. Букет выдвинутых против него обвинений разрастался по мере хода следствия, потому что гордый своим боевым прошлым офицер не шел ни на какие компромиссы и не соглашался ни с одним из инкриминируемых ему преступлений…
Когда умершего вынесли, бородатый сосед обратился к Февзи:
- Ты, парень, разговариваешь со знакомым мне акцентом. Ты не из крымских татар?
- Да! – обрадовано воскликнул юноша, давно мечтавший встретиться в застенке с земляками. – А вы?
- Меним адым Афуз-заде (Меня зовут Афуз-заде), - и два татарских контрреволюционера обнялись.
- Видно, ты не раз встречался со смертью близких, - не столько с вопросительной интонацией, сколько утвердительно произнес профессор-арестант, на что Февзи молча кивнул головой.
Вскоре оба крымских татарина, молодой и не очень, были отправлены этапом на Урал, где велось строительство города нефтяников. Там их ждала встреча с большим коллективом земляков, арестованных и осужденных «за неправильное понимание факта административного выселения крымских татар с территории Крыма и истолкование его в антисоветском духе». А некоторые из крымчан, встречавшие профессора Афуз-заде и юношу Февзи на нефтяных полях, были совсем уж чудовищами: они, страшно сказать, «после принятых Партией и Правительством мер по выселению крымских татар возненавидели советский строй, ВКП(б) и Вождя народов». Во как! Нет, чтобы еще сильнее возлюбить!
Нити людских судеб ветер времени разносит в разные стороны, порой соединяет их, они переплетаются, рвутся, завязываются в узлы…
... Когда внезапно арестовали отца, Олег был на вечерних лабораторных занятиях. Еще только две недели, как он получил студенческий билет, и отец его с гордостью говорил коллегам по одному из городских управлений, что сын его отныне студент Технологического института. Отца взяли, когда он пришел вечером домой и готовил ужин, ожидая прихода сына. Вернувшийся домой Олег нашел дверь квартиры запечатанной, а сосед по лестничной площадке, который был привлечен во время ареста в качестве понятого, приотворив свою дверь, скупо сообщил, что в квартиру входить молодой человек не имеет права, а завтра утром надо быть ему здесь в девять часов. И захлопнул дверь.
Ошеломленный Олег долго просидел на каменной лестнице у своей опечатанной квартиры, раздумывая над случившимся и выискивая причины ареста отца, которого он с гордостью - и не без основания! - всегда считал героем войны. Потом решительно встал и отправился к дальнему родственнику, живущему на Петроградской стороне. Утром в назначенный час он был у дверей своей квартиры. С опозданием пришли двое гебистов, в понятые был приглашен все тот же сосед, и начался обыск. Олегу вопросов не задавали, обыск производился чисто формально, так что если в квартире были бы спрятаны какие-нибудь обличающие материалы, то вряд ли их нашли бы. Гебисты знали, что арестованный ими человек был из списка тех, кто в войну оказался в немецком плену, бежал из-за колючей проволоки и продолжал войну с фашистами, но уже в рядах зарубежного сопротивления - у таких людей не могло быть дома ничего такого, что обвинение могло использовать против них.
Олег был уверен, что его выселят из квартиры, но на его вопрос, что ему дальше делать, офицер-чекист ответил:
- Продолжайте учиться.
И все. Гебисты ушли и оставили его одного. Только перед уходом сказали, что сведения об арестованном отце он сможет получить у дежурного по областному управлению МГБ, в хорошо известном большинству ленинградцев "Большом доме".
Ни на завтра, ни в последующие недели и месяцы никаких сведений об отце Олег получить не мог. Наученный дальними родственниками парень собрал в мешочек передачу для отца, - кое-что из теплой одежды, папиросы, сухари. Однажды передачу у него взяли, выдали даже расписку. Но о том, где находиться отец, был ли уже суд, жив ли он, наконец, - ничего сыну не сообщили.
Продолжать учебу Олег не мог хотя бы уже по той причине, что все дни он проводил под стенами Большого дома или, как это делала вся их компания, состоящая главным образом из женщин, желающих получить информацию об арестованном муже или сыне, осаждал неприступные двери "Крестов", знаменитой питерской тюрьмы. Кроме того, надо было зарабатывать на жизнь, и парень пошел работать механиком на одно из городских автопредприятий. Необъяснимый арест друга в далеком Узбекистане, арест бесспорно не виновного ни в чем отца, - соединяя воедино эти трагические события, Олег мог бы прийти к некоторым выводам, однако много переживший, но мало знающий о реалиях жизни страны он находился в горьком недоумении. Он замкнулся в себе, ни с кем не заводил дружбы, тем более ни с кем не говорил о том, что было выше его понимания, что стало болью его души.
Глава 29
Еще весной, между главным делом тех дней, Тимофей Иванович обговорил со своим братом возможность приобретения в окрестностях узбекской столицы Ташкента небольшого домика с садом. Михал Михалыч нашел такой домик неподалеку от себя, и цена была небольшая. Дядя Тима не стал медлить и решил ехать с женой немедленно. Не зря занимался он коммерцией в годы оккупации, - на заработанные неустойчивые деньги купил немного золотых червонцев, которых сейчас хватит как раз на домик в Ташкенте. Удалось и нынешнюю хижину продать. А Хатидже, которая теперь была Валентиной Степановной, пора было возвращаться туда, где она прописана - в Мелитополь. Возвращалась она туда с двумя девочками, "которые прибились к ней в годы войны", - так надо было говорить всем, кто стал бы проявлять излишнее любопытство. Все решилось за несколько дней, женщины поплакали в объятиях у друг друга и - одни на запад, другие на восток.
Дом в Мелитополе был в запустении, и как обычно бывает со зданиями, которые остаются на длительное время без человека, несколько одряхлел. Три женщины за несколько дней, - где топором и молотком, где кистью и тряпкой, - привели жилище в приличное состояние. В доме под черепичной крышей было четыре комнаты, во дворе находилась летняя кухня. Двор был огражден крепким штакетником, который еще много лет будет надежно служить. Имелась в достатке посуды, были матрацы и постельные принадлежности. Все это новые хозяйки проветрили, починили, выстирали, - даже запас хозяйственного мыла, такого дефицитного в эти годы, был в мелитопольском доме.
Надо было пристраивать девочек на учебу - столько лет оказалось пропущено! Но самой неотложной стала проблема - найти родственников Сони-Сафие. Хатидже не хотела расставаться с девочкой, ставшей ей за эти трудные годы родной, не проявляла особого желания покидать свою новую семью и девочка. Но Хатидже не считала себя вправе воспользоваться привязанностью несчастной сироты. И хоть немало проплакала втайне, но заставила Сонечку написать письмо по ее домашнему адресу, а также по адресам городских родственников. Вскоре пришел ответ: сестра отца написала, что она счастлива, узнать, что ее племянница жива, благодарит женщину, которая приютила девочку и что приедет за ней, как только появиться возможность. Но в этом деле был деликатный момент: приехав за девочкой, ее тетя немедленно узнала бы Хатидже, с которой была знакома. Последствия могли оказаться самыми непредсказуемыми, ибо было известно, что муж этой самой тети работал до войны в НКВД. И тогда решили, что Соня поедет в Крым сама, и там будет рассказывать, что спасала ее все эти годы добрая Валентина Степановна - никак не крымская татарка Хатидже! Девочка была уже достаточно взрослая, многое поняла в жизни сама, побыв спецпереселенкой, поэтому сомнений в том, что она не проговорится, не было. Разлука сроднившихся людей, - вот в чем заключалась проблема.
Соня приехала в родной город, пришла в свою отчую квартиру. Именно в принадлежащей ее семье роскошной квартире жила теперь семья ее тети Муси, так милостиво пожелавшей принять сироту в свои объятия. Конечно, квартира была в военные годы разграблена, но стены четырехкомнатной квартиры остались целыми и не потеряли своей привлекательности. И ценности.
Соня прожила в своей старой квартире тоскливый месяц, когда однажды в ее комнату вошла тетя:
- Соня, сядь. Ты уже большая девочка, ты должна владеть собой. То, что я тебе сейчас сообщу, я узнала еще до твоего возвращения. Это очень печальное известие. Твой папа, а мой старший брат, погиб смертью храбрых в сорок четвертом году. Крепись, Соня!
Девочка, привыкшая к потерям, до сего дня ждала, что вернется папа, который почему-то задержался в армии - "по причине, что в госпиталях много раненных", так говорили ей тетя и другие знакомые люди, когда она спрашивала об отце. Взрослым все было уже известно, но они щадили Соню, ожидали какого-то подходящего момента, для того, чтобы сообщить ей эту трагическую весть. Ведь после возвращения домой девочка часто вспоминала отца, она надеялась, что они будут в их довоенном доме жить вместе, сохраняя память о маме. Теперь Соня узнала, что у нее нет ни мамы, ни папы... Еще один надлом в ее покуда недолгой жизни...
Соня не плакала на людях, она беззвучно глотала слезы ночью. Она вспоминала жесткое, не допускающее непослушания, лицо мамы в тот последний миг, навсегда запечатленный в ее памяти. Она вспоминала, как провожали на фронт папу. Прощались дома, - папа запретил жене и дочери приходить на вокзал. Он улыбался своей доброй улыбкой, успокаивал маму, говоря, что война долго не продолжится, за пару месяцев немцев отгонят назад...
Девочке было неуютно жить в этом, пусть и родительском, но чужом теперь доме. Ей не о чем было говорить с родственниками, не было ни пережитых вместе трудностей, ни общих воспоминаний. Кроме того, при всей предупредительности отношения к ней тети, она не могла не чувствовать, что ее появление в доме стало в тягость семье папиной сестры, что все здесь ориентировано на родную дочь, ее маленькую кузину. Наверное, это было нормально, но Соню это обижало. В семье мамы Хатидже она не чувствовала себя сиротой, может быть потому, что была там младшенькой. Как бы то ни было, теперь, когда мечта о жизни в родном доме с родным папой умерла, каждый день проживания здесь был для девочки мукой. Она собиралась сказать тете, что хочет уехать к "Валентине Степановне", но события опередили ее намерения. Муж тети, офицер МГБ, получил назначение в советскую оккупационную зону Германии и должен был ехать туда с семьей. И однажды утром тетя объявила Соне, что она с мужем и дочерью должна ехать на несколько лет в Германию.
- Сонечка, это же заграница, и туда пускают только после тщательной проверки всех членов семьи. У дяди Гриши в документах записана только одна дочь, и хотя ты нам как родная, органы не дадут разрешения на твой выезд с нами.
Соня слушала, прямо сказать, с удовлетворением эти изъяснения, но молчала, ожидая, какое решение уже принято ее родственниками. Тетя же, в ушах которой еще звучал зловещий шепот мужа: «Она же, твоя Соня, была в оккупации! Ты гарантируешь, что ее не завербовали?», по-своему расценила молчание девочки и с жаром продолжала:
- Сонечка, это же органы государственной безопасности, там все очень строго. А у тебя нет даже свидетельства о рождении! Так что доказать, что ты моя племянница невозможно.
Что же последует дальше, думала Соня. Сама она уже знала, что будет делать, ее собственное решение созрело задолго до этого разговора.
- Я оформлю на тебя документы, в этом поможет дядя Гриша. И пока мы будем заграницей, ты поживешь в детском доме. Это очень хороший детский дом.
Соня молчала, и в голосе тети Муси появились железные нотки.
- Квартиру мы вынуждены оформить на дядю Гришу, он человек авторитетный и ему это сделают. Естественно, ты будешь прописана в квартире, не беспокойся.
Все то, что было связано с квартирой, было самым болезненным вопросом для тети Муси и ее мужа с тех пор, как племянница вдруг объявилась живой и здоровой. Они считали, что и Соня озабочена этим вопросом, и в том, что она ни разу не упоминала об этом, супруги видели тайную недоброжелательность девочки. И в теперешнем молчании племянницы тетя Муся заподозрила сопротивление именно по квартирному вопросу. На самом же деле Соня в своей детской наивности не придавала этой проблеме никакого значения, она даже не подозревала, что такая проблема существует. И только сейчас, когда тетя акцентировала на этой теме особое внимание, девочка задумалась: а кому, собственно говоря, принадлежит эта квартира, квартира ее родителей и ее самой? Но мысль эта промелькнула и пропала, в разговоре был упомянут более важный для девочки вопрос. Еще мама Хатидже не раз говорила, что для девочек существует проблема документов - у Сафие их нет, а у Айше документы крымской татарки, что может вызвать у работников милиции вопрос, а почему это урожденная крымская татарка вдруг на свободе?
- Хорошо, тетя Муся, - к удивлению уже начинающей, было, сердиться тети вдруг спокойно сказала Соня. - Только поскорее оформите на меня все нужные документы.
- Все документы дядя Гриша сделает, Сонечка! Это ему не трудно! И сам отнесет их директору детского дома.
- Да нет, не надо это делать ему. Я не маленькая и директор детского дома должен увидеть, что я достаточно самостоятельная. Документы я должна отнести сама.
- Мы с тобой вместе пойдем в детский дом! - тетя Муся была счастлива, что так хорошо все обошлось. - Что касается твоей прописки, то она будет сохранена, ты не сомневайся! Ты не потеряешь права на жилплощадь, твои квадратные метры всегда останутся твоими!
"Дались ей эти квадратные метры!" - подумала Соня. Ее замысел был прост: получить документы и уехать к маме Хатидже.
Через три дня дядя Гриша принес дубликат свидетельства о рождении, справку о гибели мамы, справку о гибели папы. И что-то там еще, что нужно было отнести в детдом. Соня взяла все бумаженции себе, тетя Муся сказала, что завтра же утром они пойдут в детдом...
Утром Соня вышла из своей комнаты одетая в дорогу и с вещевой сумкой в руке.
- Ты что это так оделась? - тетя Муся была очень удивлена.
- Тетя Муся, - начала Соня, - я решила уехать назад к Валентине Степановне. Мне там будет лучше, чем в детском доме, вы так не считаете?
- Нет, подожди! Как это? Надо узнать у дяди Гриши, можно ли так поступить.
- Почему же нельзя, тетя Муся? Ваше мнение значения не имеет, я поступаю так, как хочу.
- А как же квартира? Нет, надо посоветоваться с Гришей...
- Знаете что, тетя Муся? - Соня стояла перед растерявшейся женщиной, длинноногая, стройная девушка-подросток, ее черные как маслины глаза смотрели с неумолимой решительностью. - Если хотите жить в нашей квартире - живите. Но если будете вмешиваться в мою жизнь и пытаться принимать решения за меня, то я изменю свое отношение к этому вопросу. Понятно?
Тетя Муся изумленно смотрела на племянницу и не находила, что сказать.
- Ну, тетя Муся, прощайте! Спасибо за все, что вы и дядя Гриша для меня сделали. Счастливого вам пути в Германию.
Соня обняла тетю и расцеловала ее в обе щеки. Та же только растерянно повторяла:
- Как же это, Сонечка? Как же это?
Соне хотелось ответить ей, что вот, мол, так - не хочу по вашему велению жить в детдоме, уж не остаться ли мне в моей собственной квартире? Но она ничего этого не сказала, прошла в соседнюю комнату и попрощалась с маленькой кузиной, с единственным человеком из этой семьи, с кем ей было жаль расставаться.
На завтрашний день Соня уже была в Мелитополе в своей теперь родной семье...
Айше успела до войны закончить шесть классов и при немцах закончила седьмой класс. Но советская власть не признавала учебу в школе оккупационного режима, и поэтому образование восемнадцатилетней Айше официально признавалось только как шестилетнее. Для поступления в техникум нужно было окончить семилетку, так что взрослая девушка должна была ходить в школу еще один год.
Хатидже переживала за дочь, обдумывала разные пути решения проблемы, и остановилась, наконец, на надежном, как ей казалось, варианте. У нее была старая подруга, проживавшая еще до войны в Казани и тоже работавшая в школе. Хатидже написала ей письмо и попросила, не вдаваясь в подробности, помочь ее дочери сдать экзамены за семилетку экстерном. Галия Измайловна, так звали казанскую подругу, ответила, что готова помочь и пусть девушка приезжает. Айше немедленно выехала в Казань, с месяц позанималась под руководством тети Галии, и пока Сафие имела свои, так сказать, "крымские каникулы", Айше уже сдала экстерн и успела получить документ о среднем образовании. Когда Хатидже и Сафие получили письмо с сообщением, что Айше поступает в техникум легкой промышленности в пригороде Казани, то чувство радости за определившуюся в жизни девушку соединилось с чувством потери - теперь им предстояло жить вдвоем, без своей веселой красавицы...
Айше легко сдала вступительные экзамены, и теперь она была студенткой. Ей предоставили место в общежитии, которое находилось рядом с учебным зданием техникума. В комнате их было четверо девушек – две белокурые псковитяночки из села, одна черноглазая татарочка из недалекого от Казани районного центра, и сама Айше. Девочки жили дружно, в комнате у них было всегда опрятно и уютно. После занятий они торопились домой, вечерами иногда ходили всей компанией в клуб на киносеанс. Каждую субботу в клубе были танцы, но наши первокурсницы посетив их однажды больше на это не отваживались. Техникум их был почти полностью женский, зато в округе находился номерной завод, работающие на котором парни считали студенток техникума принадлежащими им. Наверное, предыдущие наборы в женский техникум давали основание для такого собственнического отношения, но новое пополнение последних двух-трех лет отвергало грубость и беспардонность молодых рабочих с "оборонки", предпочитало девичьи посиделки общению с пьяными матерящимися парнями. Те были озабочены сокращением контингента непритязательных подруг и по вечерам осаждали общежитие техникума. К счастью, вход посторонним в общежитие был запрещен, и на охране этого запрета сидели непреклонные стражи в лице сорокалетних дев, которые в случаях особо наглого поведения обуреваемых приливами гормонов парней вызывали по телефону милицию. Однако каждой девушке не раз приводилось отбиваться от лап ухажеров при выходах на киносеансы или в других случаях, когда приходилось оказаться на улице в часы, когда темпераментные соседи с завода были свободны от рабочей смены или от похмельного сна.
Айше все время вспоминала предупредительную ненавязчивость Исмата. Она написала ему письмо и вскоре получила ответ. Письмо, хотя и написанное очень неправильным русским языком, было полно светлой радостью за Айше, вступившую в новый, более значительный, этап своей жизни. Ни в чем не упрекая, ничего не требуя Исмат как бы между строк напоминал о своей любви, о былой благосклонности девушки. Когда Айше уставала от занятий, когда на душе становилось тяжко от одиночества или от порции очередного хамства, она доставала это доброе письмо от далекого друга. И читая его она то счастливо смеялась, то плакала - в зависимости от настроения. Конечно, она написала ему опять, не давая никаких обещаний, не строя никаких планов на будущее. Но Исмат понял из этого ее письма, что она сохранило о нем светлое воспоминание, что он ей нужен. Из опасения задеть ее девичью гордость и из-за страха спугнуть судьбу он старался не показать в своем ответном послании, что ее чувства раскрылись в письме, старался проявить сдержанность. Но теперь ни у девушки, ни у молодого человека не оставалось сомнений в истинности их взаимного влечения.
И однажды Айше не получила ответа на свое очередное послание. Прошел месяц, прошел второй - писем из Узбекистана не было. Не зная, должна ли она считать себя оскорбленной или есть основания для беспокойства за судьбу Исмата, девушка написала короткую недоуменную записку. Прошел месяц - ответа не было. Айше написала вновь, и опять прошел месяц - никакого ответа. Тогда отвергая все обговоренные предосторожности, девушка написала письмо в колхозную контору, своей приятельнице Гульчехре. Написала на узбекском языке и адрес обратный указала "до востребования" на имя одной из однокурсниц. Ответ пришел через пару недель, и Гульчехра сообщала в нем, что Исмат отправлен на Фархад-строй, откуда мало кто возвращается...
...Ночью около двенадцати секретарь райкома, дремлющий на кушетке в своем кабинете, получил телефонограмму о необходимости срочной отправки на строительство Фархадской ГЭС двадцати человеческих сил. Об исполнении доложить не позднее девяти часов утра местного времени.
Секретарь райкома позвонил сперва председателю райисполкома, который тоже обязан был бодрствовать на рабочем месте, затем домой начальнику районного отдела МГБ. Дело было привычное, и механизм запуска мероприятий был отлажен. Все указанные личности немедленно собрались в райкомовском кабинете, достали секретные блокноты и без разногласий определили, какие сельсоветы должны на этот раз послать людей на великую народную стройку. Немедленно связались по телефону с выбранными сельсоветами. Не обошлось без ругани и угроз, потому что только в двух из пяти сельсоветов в конторе оказался кто-то из ответственных работников, в других же испуганным сторожам велено было - анагни скей! - немедленно, хоть из-под земли, вытащить в контору кого-нибудь из начальства. На появившегося сельсоветовского функционера сперва обрушивалась лавина угроз, причем, несмотря на сжатые сроки, отпущенные высшим начальством на выполнение задания, к трубке прикладывался каждый из находившихся в кабинете руководителей разных ветвей районной власти. Слушая ругань и угрозы, сельсоветовский функционер прикидывал, сколько нужно будет дать каждому из грозных собеседников, чтобы в последующем не часто напоминали о нынешнем проступке.
- Хоп, ходжаин! Хоп! Болади! Хоп! (Хорошо, хозяин! Хорошо! Будет сделано! Хорошо!) - только и вставлял сельсоветовский чин. Поняв, наконец, по какому делу его вытащили из постели, он сообщил районному руководству, руководствуясь при этом личными антипатиями, названия колхозов и фамилии председателей, которым этой ночью предстоит выделить то или иное количество человеко-сил.
В то же время по указанию районного руководства спешно мобилизовали несколько грузовиков, в которые посадили злых от недосыпу милиционеров, и грузовики эти, мигая фарами, шумно направились по означенным маршрутам. После этого и секретарь райкома, и председатель райисполкома, и полковник МГБ могли отправляться по домам - все должно было теперь идти по накатанной колее.
Тем временем грузовик с милиционерами прибыл в колхоз, председатель которого из-за отсутствия телефона узнал о мероприятии от разбудившего его офицера милиции. Тотчас разослали людей из ближних домов по всему селению, созывая все взрослое население на "общее собрание всех членов колхоза". Рассвет еще не наступил, ночь была безлунная. Люди, обалдевшие от сна и от страха, шли на площадь к правлению спотыкаясь в темноте, моля Аллаха, чтобы не их схватила нынче за горло страшная рука советской власти. Но Аллах, как известно, не каждой молитве внемлет. Кого же неизъяснимый в своих деяниях Всемилостивейший не спасет от грозной власти коммунистов в эту ночь?
- Всем нам известно, какие усилия совершает наша родная советская власть, наша родная коммунистическая партия, чтобы народ лучше жил, чтобы росли здоровыми и счастливыми наши дети. Подавляющее большинство членов нашего колхоза отвечает на неустанную заботу партии и правительства честным трудом…, - такими заученными фразами начал свою речь председатель колхоза, который перебрав в мыслях всех, кто стал ему неугоден за последний период, уже выбрал тех, кто будет нынче принесен в жертву Дракону Системы.
- Но есть среди нас и такие, - продолжал раис, - чье безобразное отношение к труду вызывает законное возмущение членов колхоза. Эти люди не только мешают нам строить светлое будущее, но и отрицательно действуют на некоторые слабые натуры, которые готовы подражать этим врагам колхозного строя.
Этот тезис позволял избежать обсуждения справедливости наказания, которое будет предложено сейчас.
- Наш долг спасти от дурного влияния наших односельчан! - голос председателя зазвучал подобно голосу диктору радио. - Такие люди, как Джура Джураев и Исмат Исматов, не заслуживают высокого звания члена нашего колхоза, и я предлагаю исключить их из нашего коллектива! Кто за мое предложение пусть поднимет руку.
Пламя разожженного на площади костра осветило десятка полтора поднятых рук, остальных пригнанных на площадь людей скрывала темнота. Но советская власть приучала соблюдать процедуру.
- Кто против?
Не было поднято ни одной руки.
- Кто воздержался?
Ни одной поднятой руки.
- Единогласно! Так и запиши, товарищ секретарь.
На деревянном ящике, поставленном в освещаемом пламенем костра круге, секретарь правления вел протокол ночного общего собрания членов коллективного хозяйства.
- Таким образом, Джураев и Исматов исключены из колхоза. Слово имеет уполномоченный районного управления внутренних дел товарищ Шахмарданов.
- Товарищи! - начал свое выступление энкаведешник. - Наше общество - самое гуманное общество в мире. Вы сейчас своей волей исключили из вашего замечательного коллектива двух своих односельчан. Да, вы имели право на такое суровое решение. Но, уважаемые колхозники, эти люди наши граждане, наши товарищи! И пусть они оскорбили нас своим недостойным отношением к труду, мы не имеем права отвернуться от них, оставить их на произвол судьбы. Я предлагаю вам поверить в возможность исправления этих людей. И если вы найдете возможным рекомендовать их как делегатов от вашего колхоза на великую народную стройку Фархадской ГЭС, то я от имени районного руководства обещаю немедленно организовать их поездку на Фархад-строй, где они, я надеюсь, будут честно трудиться и не посрамят вашего доверия.
- Очень хорошее предложение! - теперь речь держал опять раис. - Кто настолько обижен на Джура-джана и Исмат-джана, что выскажет им недоверие как нашим представителям на великой стройке?
Раис сделал паузу не более трех секунд.
- Нет таких! Тогда пожелаем этим нашим товарищам ударного труда на Фархад-строе, а когда они вернутся в кишлак, то мы подумаем, и, может быть, зачислим их опять в колхоз. Все, товарищи!
Пока начальники все это говорили, колхозные сексоты указали работникам органов на тех мужчин, чью судьбу сейчас так запросто переломили. Энкаведешники встали за спинами этих несчастных, и как только председатель сказал свое последнее слово, дюжий милиционер зло прошептал Исмату:
- Давай, топай в свой дом собирать вещички. И тихо! Времени тебе отпущено десять минут.
Ошарашенный происшедшим, Исмат загнанно огляделся. Самым разумным решением показался ему в создавшейся ситуации побег. Но как бы читая его мысли, два милиционера крепко схватили его сзади за локти.
- Ну, шагай! Где твой дом? И без всяких там шуточек!
Исмат не торопясь повернулся в сторону камышовых зарослей и раздумчиво пошел было к ним, поддерживаемый двумя ангелами-хранителями. Но тут один из колхозных холуев, прислуживающий при конторе, подбежал к ним.
- Сюда идите, сюда! Идите за мной, я покажу, где он живет...
Холида-хан умерла в ту же зиму, и ее похоронили сердобольные соседи. Славный чистый домик Исмат-джана колхозный председатель велел использовать под склад, с дрянной улыбочкой сказав при этом:
- А если Исмат-бек вернется, мы ему заплатим за аренду помещения.
Исмат в ту же осень заразился в тесном и сыром бараке чахоткой. К весне в исхудавшем и бледном, харкающем кровью туберкулезнике нельзя было узнать прежнего, здорового и красивого мужчину. Больных среди рабочих было множество. Их никак не лечили, потому что руководство стройки боялось показывать в своей отчетности такое огромное количество чахоточных. Этих несчастных сгоняли в отдельные бараки, кормили их в последнюю очередь, потому что из-за своего слабосилия они не могли выполнять в полном объеме дневного задания. По причине той же их слабосильности охрана, сформированная в основном из людей, прошедших школу ГУЛАГа, потешалась над "доходягами", издевалась над ними, избивала и унижала. Остальная же масса рабочих, пока еще здоровая, поощряла эти издевательства, потому что туберкулезников не любила и считала их опасными соседями.
Светлым майским днем, нагрузив дополна тачку своего напарника цвета поджаренной муки землей, Исмат вытер платком лоб, окинул взглядом окоем котлована, поднял лопату и, собрав все свои теперь небольшие силы, с размаху рассек череп стоящему рядом особо ненавистному охраннику. Первая же пуля попала ему в середину лба, но он успел вспомнить тот миг, когда держал в объятиях свою любимую девушку. И успел подумать, как счастлив был он в этой жизни.
Глава 30
Голубые мустанги каждый вечер спускались на скрытые за горным кряжем лужайки, чтобы утром подняться за скалы, нависшие над Алупкой. Сине-прозрачные в сумерках, прозрачно-голубые в лучах низкого утреннего Солнца, они почти беззвучно мчались, едва приминая траву, - будто ветер оставил свой след.
- Тесно им становится в горах Крыма, - хмуро говорил Старый Лесник, проживающий в хижине за горой Ай-Петри…
КОНЕЦ ПЕРВОЙ ЧАСТИ
Примечания
1
Когда мы покидали Крым Остались казаны полные едой.... (обратно)2
Проклятие злодеям! Прощай, Родина! Прощай, земля предков! Прощай, прекрасный Крым!
(обратно)3
да будет милость Аллаха ее душе
(обратно)4
Я татарин, Крым моя родина!
(обратно)5
Что это твориться, учительница? Что задумали эти каины?
(обратно)6
Что я могу знать, дорогая! Над нами Аллах, пусть минуют нас худшие из бед!
(обратно)7
Наверное, нас везут в “Красный совхоз”?
(обратно)8
Не болтай всякую чушь при детях! Или на Урал, или в Сибирь. Если бы в “Красный совхоз”, то не разрешили бы брать вещи.
(обратно)9
На судьбу свою пеняй, если не удалось тебе взять из дому вещички. Какое тебе дело до чужих вещей?
(обратно)10
Что случилось, детка?
(обратно)11
Не выходи, детка!
(обратно)12
В одни времена все это было, в другие времена все позабылось. В мраморном дворце падишаха....
(обратно)13
Ой, мамочка!
(обратно)14
Ой, деточки! Что этот мужчина говорит? Кажется, что-то дают. Сходите к мечети, поглядите!
(обратно)15
Эй, люди! Набросимся все на этих злодеев! Хоть женская сила невелика, но нас много! Если и перестреляют нас всех, то умрем на родной земле. Ну, женщины, давайте растерзаем врагов!
(обратно)16
мужики
(обратно)17
Слава Аллаху! Что бы мы делали, если бы нас завезли в горы Урала?
(обратно)18
Живой раб божий как-нибудь выкрутиться.
(обратно)19
“Старокрымская хайтарма -танец”
(обратно)20
Аллах, Аллах! Огради дитя от болезни и разных напастей! Господи, боже мой! Если не уберегу ребенка, что скажу его матери и отцу!
(обратно)21
вид простокваши
(обратно)22
Мамочка! А ведь отстала эта женщина!
(обратно)23
если не очень озаботит
(обратно)24
на узбекском дастурхане всегда несколько чайников
(обратно)25
Это не твое дело
(обратно)26
дядя парторг
(обратно)27
Спасибо вам!
(обратно)28
Не расстраивайтесь, Домулла вернется.
(обратно)29
Ну, сынок, заботься о маме и братишке.
(обратно)30
Меня зовут Афуз-заде.
(обратно)31
Хорошо, хозяин! Хорошо! Будет сделано! Хорошо!
(обратно)




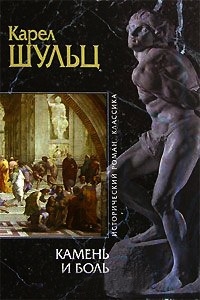
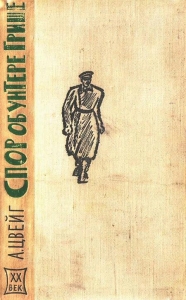

Комментарии к книге «Нити судеб человеческих. Часть 1. Голубые мустанги», Айдын Шем
Всего 0 комментариев