Виктор Московкин ТУГОВА ГОРА Историческая повесть
Пролог. Брат на брата
1
Тревожно, гнетуще было на исходе метельного февраля в большом княжеском доме; казалось, сам воздух был пропитан неутешной скорбью — в душной, с низкими потолками опочивальне, утопая в подушках, сгорал от лихорадки великий князь Владимиро-Суздальской земли боголюбивый Константин, старший сын Всеволода Большое Гнездо, внук Юрия Долгорукого.
В сенях и переходах с утра в смятении толкались владимирские бояре — никто уже не верил в выздоровление, — пытливо приглядывались друг к другу, злословили, гадали, кто займет великокняжеский стол, к кому теперь прибиваться: к сыну ли больного князя — десятилетнему несмышленышу Васильку, или к брату князя — суздальскому Юрию Всеволодовичу, до этого уже занимавшему княжеский стол во Владимире и потерявшему его в междоусобных распрях. Дело великое: ошибешься — не только достатка, можешь лишиться и головы!
Константин Всеволодович недомогал с осени. Сначала приступы лихорадки случались слабые и не больше раза в неделю; так прошла зима, а сейчас слег совсем: жестокий озноб, при котором мутилось сознание, и наступавшее Затем облегчение чередовались каждые пять-шесть часов. Он так ослаб, что не только вставать не мог — с трудом поднимал голову.
В горячечном состоянии князь видел сны, где явь перемешивалась с вымыслом; правда, ему казалось, что и вымышленное когда-то было с ним, но только он не помнил — когда? Короткими, пугаными обрывками проходило перед ним все его недолгое княжение, мелькали лица, и он не мог вспомнить — живы ли они, привидевшиеся ему люди. Или уже расстались с этим непостоянным миром. Мучило и то, что прожитая собственная жизнь представлялась ему сплошной чередой ошибок, и тогда он страстно молил: «Помилуй мя, господи! Прости мои прегрешения!»
Замкнутая в своем горе княгиня Анна Мстиславна почти не отходила от ложа больного, беспрерывно промокала платом его потный лоб, слезы непроизвольно скатывались с ее лица, а когда она слышала его часто повторяемые страстные молитвы о грехе, страдальчески думала: «Ненаглядный мой, единственное твое прегрешение — это доброе сердце твое!» Даже в забытьи он не отпускал ее руку; он казался ей слабым мальчиком, несправедливо обиженным, и от этого ей было еще более горестно.
Княгиня была старше годами. Восемнадцатилетней выдали ее за десятилетнего отрока — так великий князь Всеволод Большое Гнездо, устроитель русской земли, распавшейся на многие мелкие уделы, скреплял клятвенную дружбу со смоленским владетельным князем Давыдом, попросив для сына племянницу его. Отныне Давыд признавал старейшинство великого князя владимирского и обязан был во всем помогать ему. Никого этот брак не удивил, кроме разве самой княжны; первое время нередко всплакивала, с удивлением и болью за себя замечая ребячьи шалости «суженого»; и теперь еще, несмотря на то, что у них уже было трое сыновей, она не отучилась обращаться с ним матерински-покровительственно. Сейчас ей было сорок.
Анна Мстиславна с жалостью вглядывалась в измученное болезнью, но все еще красивое лицо мужа, поправляла волнистые рыже-русые волосы, разметанные по подушке, и горечь неотступно давила ей грудь. Ее, как и бояр, тревожили перемены, которые должны произойти с уходом из жизни князя. Анна Мстиславна хорошо знала вспыльчивый и неправый характер деверя, суздальского князя Юрия Всеволодовича, и боялась за своих детей.
В бреду князь стонал, говорил несвязно, но в минуты, когда лихорадка отступала, голова его была ясна, он мог выслушивать, что ему говорили, делал распоряжения. Но до последнего дня так и оставалось неясным — кому быть на престоле; Константин Всеволодович медлил, может, оттого, что еще не до конца сознавал, каким плохим, безнадежным было его здоровье.
На улице разгулявшаяся метель хлестала в окна снежной крупой, в спальной комнате было сумеречно и потому горели свечи, их слабые огни беспомощно трепетали, будто опасались, что метель вот-вот доберется до них и загасит.
Непогода еще больше угнетала княгиню, она со страхом присматривалась к этим трепещущий огонькам, ей казалось, что в них заключена жизнь мужа, — погаснут они, и жизнь кончится. Ей так хотелось по-бабьи завыть от подступавшей тоски: «На кого ты нас покидаешь, на кого оставляешь нас, сиротинушек!» Впрочем, когда на короткие минуты она уходила на свою половину к детям, она так и делала: ревела в подушку приглушенно, безутешно:
— Как мы жить без тебя станем, сокол ясный! Не ко времени распорядился собой, солнышко наше красное!
Низкая входная дверь, висевшая на кожаных петлях, зашуршала, открываясь, звук заставил княгиню вздрогнуть, но она тотчас успокоилась, — в палату тихо входили старый лекарь грек Феогност и ростовский воевода Александр Попович, моложавый и статный, всегда с чуть грустным взглядом карих глаз. У воеводы пылало исстеганное ветром лицо, в мягкой бороде блестели капельки растаявшего снега — он прискакал из Ростова и пришел к князю сразу с дороги.
Анна Мстиславна ласково улыбнулась осторожно подошедшему о поклоном Поповичу, мысленно перекрестилась: «Вот и хорошо, что приехал, поспешил к моему горю!» Воевода был близким человеком Константина Всеволодовича, добрым наставником княжичей — Василька и Севы, меньшенький Володенька был еще очень мал и находился на попечении нянек.
Пока была не закрыта дверь, из сеней в палату доносился многоголосый шум — там переругивались бояре. Он был так густ, этот шум, что, видимо, его уловил и слух князя, начавшего приходить в себя, веки больного дрогнули, он весь напрягся.
— Матвей… Дедкович? — внятно произнес Константин. — Зачем? Не хочу!.. Гоните его!., — Лицо князя исказилось от гнева.
Александр Попович понимающе взглянул на лекаря.
— Бредит. Боярин Матвей Дедкович… да о нем уж и память стерлась. — Он тяжко вздохнул, добавил тихо, с болью: — Ох, беда наша лихая, беда нежданная! Бояре уже сейчас перегрызлись, что будет после, одному богу известно… Коршуны! Прикажи, княгиня-матушка, дворец от них очистить, нельзя им давать своевольничать, душу воротит от…
Воевода не договорил, обомлел: князь смотрел на него зорко, осмысленно и вроде даже улыбался.
— От чего, воевода, твою душу воротит? — спросил Константин спокойно, хотя и слабым голосом. — Кому не дашь своевольничать? — Князь помолчал, собираясь с силами, и продолжал: — На кого осерчал, Александрушка? Расскажи… Твои речи мне любы, то ты знаешь… Рассказывай! — Его, кажется, забавляла растерянность Поповича, уже явно усмехнулся — Эк, гляжу, как тебя перепугал! А я еще не с того света с тобой разговоры веду, ты не боись…
— Помилуй, князь милостивый, не говори ты такого! Иль я ходил когда к тебе с хитростью, с умыслом злым? — Поповичу показалось, что князь упрекает его в чем-то. — Молвишь ты для меня обидное, уверять вином не стану, но знаешь ли ты, княже, как утешил меня сейчас? Воспрял-то я, господи! Многие лета тебе на радость нам!
У Александра Поповича на глазах были слезы, князь видел их и верил — искренние. Да и мог ли он сомневаться в этом человеке— всегда был верным другом в ратных делах, умным в советах, самое дорогое — сынов своих — доверил: обучает воинским потехам. Но знал Константин Всеволодович и то, что на уме у воеводы, и не мог убедить себя согласиться с ним…
— А перепугаться, то правда, я перепугался, — продолжал Попович. — Гонцы спешные матушки-княгини, чаю, с дороги, с устатку, может, лишнее сказали… Бояр тут осатанелых целый сонм… Да и вошел, увидел тебя… боярина Матвея Дедковича ты вспомнил — подивился: к чему бы?..
Князь удивленно повел взглядом на воеводу, но справился с собой, не стал выспрашивать, что говорил о Дедковиче, кости которого уже давно гниют на берегах невзрачной Липицы близ Юрьева-Польского. Сказал только:
— Бояр ты, в самом деле, проводи-ка, нечего им тут… Только помягче с ними, не усердствуй. Да и приходи, ждать буду, лихоманка меня как будто отпустила… Я пока с княгиней перемолвлюсь…
Но вперед решительно выступил лекарь Феогност, до этого колдовавший у стола со склянками.
— Потом, Константин Всеволодович, после, — непреклонно возразил он. — Ослабевшему телу надобен покой. Я должен лечить…
— Лечить! — Князь брезгливо передернулся. — У меня от твоих горьких и вонючих зелий все нутро выгорело.
Грек сделал вид, будто ничего не слышал, подошел с подносом, на котором стояли склянки с жидкостью.
2
Нелегким сложилось княжение Всеволода Юрьевича, оставшегося в русской истории под именем Всеволода Большое Гнездо, собирателя разрозненных удельных княжеств под одной сильной властью.
После смерти отца, Юрия Долгорукого, Северо-Восточной Русью стал править его старший сын Андрей Юрьевич, прозванный впоследствии Боголюбским. С младшими своими братьями — Михалкой и Всеволодом — он поступил просто: отправил в изгнание «в заморские края», справедливо посчитав, что — будут вдали, меньше станет возможности у бояр строить козни за его спиной. Так-то надежнее, когда нет рядом наследников княжеского стола, не будут грозить: «Поведешь-де себя круто, другого князя призовем!»
Но на склоне лет, сжалившись над братьями, он разрешил им вернуться в отчий дом. Он как будто предчувствовал, что его княжению приходит конец.
Не успели еще Михалка и Всеволод, много повидавшие в чужих странах, и не без пользы, обжиться на родной земле, с великим князем Андреем Юрьевичем случилось несчастье: бояре Кучковичи, близкие родственники по жене, затеяли заговор и жестоко расправились с ним в его пригородном дворце, в Боголюбове.
Во Владимиро-Суздальской земле началась смута. Завладевший великокняжеским столом средний Юрьевич — Михалка, — вынужден был уступить его ставленнику ростовских бояр князю Ярополку, а когда вскоре возвратился, согнал Ярополка, внезапно, не болев, умер…
И тогда на княжеский стол вступил Всеволод, молодой и, как оказалось, сильный князь.
Прежде всего он отомстил боярам Кучковичам за убийство брата Андрея, убийство жестокое и, казалось бы, бессмысленное. Он им придумал лютую казнь: все участники заговора вместе с вдовой княгиней Улитой были зашиты в ивовые коробья и утоплены в озере с затхлой водой. Летописец поведал: «…и быша яко гной земны тако си окоянные Кучковичи, и погибе память их с шумом».
Всеволод Юрьевич дознался больше: Кучковичи были выходцами из ростовских земель, их вотчина находилась в сельце. Андреевском, откуда брат и взял себе жену Улиту; они были связаны с ростовскими боярами, которые давно хотели восстановить свое былое величие. Как же, издревле была Ростово-Суздальская Русь, как так случилось, что появилась Владимиро-Суздальская? Суздаль и тут на втором месте, ладно, но почему вместо Ростова стал самозванный Владимир? Убив владимирского князя, ростовские бояре готовились призвать послушного себе и снова сделать свой город стольным. И тогда потечет полагающаяся с удельных княжеств дань, обогатится город, расцветут торговля и ремесла.
Ростовские бояре так и сделали. Уж коли не вышло с Ярополком, повернули на другого. Еще не утвердившийся прочно молодой Всеволод узнал, что они призвали из Новгорода князя Мстислава Ростиславовича и тот идет на Владимир в великой силе, намереваясь лишить его княжения. Всеволод собрал рать и вышел навстречу. «Всеволод же поиде противу Мстиславу. И много послаще к нему о миру, — сообщал летописец, сочувствуя молодому князю. — Он же [Мстислав] не хоте мира, слушающе ростовцев, и бишася у Липиц, у Юрьева на поле».
Так впервые недоброй памяти междоусобица помянула реку Липицу.
Ратное счастье в битве осталось за Всеволодовой дружиной: Мстислав бежал, а «ростовцев всех повязаша».
Ратники еще не возвратились к домам — новое известие: рязанский князь Глеб сжег Москву и теперь подступал к Владимиру; в союзники взял половцев; безжалостно грабят, жгут, уводят людей в полон.
Воины Всеволода Юрьевича обрушились на насильников. Отогнали! Был схвачен главный виновник разбоя рязанский князь Глеб. Простые владимирцы вытащили его из княжеского острога-поруба, куда он был посажен, и в ярости своей ослепили.
Вороньем слетались враги с разных сторон. Возмущало русских людей — ремесленников и землепашцев, — что князья в свои разорительные походы зовут еще и иноземцев, которые толпами гонят пленных русичей в чужие страны.
Снова лавина половцев. Только идут на сей раз с князьями киевским, черниговским, новгородцами. С берегов Камы и Волги делают опустошительные набеги булгары. Молодой князь Всеволод с дружиной и пешцами из простых людей мужественно обороняет землю.
Постепенно его начинают побаиваться— силу набрал: в относительной независимости от стольного Владимира только далекая южная Волынь; не покорствуют ещё новгородцы, отстаивая вечевые права и свободы, но и они уже не решаются призывать к себе князя — он у них только как военачальник, для обороны границ, в делах управления не участвует, — и они не решаются звать князя без ведома Всеволода Юрьевича: Новгород хлебом не богат, торговые пути идут через Владимир, поневоле задумаешься, поневоле смиришься.
— Долгие руки были у батюшки, городки новые рубил в лесных дебрях… И то: срубил городок на речке Москве — Москвой и нарёк город сей; оно так, славы искал: тоже на речке срубил новый городок, так назвал Переяславлем, а речку Трубежем, всё как в южном древнем Переяславле — славу, мол, мы переяли. Так городки-то се были вокруг Владимира. А сынок его Всеволод ишь как расщеперился! Длань свою простер на все пределы русские. Вона как мы, глядите! Гордыня обуяла!
Это о нем так поговаривали, и было тут больше восхищения, нежели ненависти и зависти.
В годы затишья обустраивали и крепили города, возводили каменные храмы, искусные мастера украшали их чудной лепкой и фресками. Белокаменной сказкой разросся на высоком берегу Клязьмы стольный Владимир.
В один из дней Всеволод Юрьевич собрал вместе сынов своих, их у князя много, недаром прозвище ему — Всеволод Большое Гнездо. Сыновья подрастают на диво: старшие, Константин и Юрий, под надзором умудренных в воинском деле воевод уже участвуют в ратных битвах. Они еще отроки, но отец женит их, старается теснее связать удельные княжества родственными узами, хотя знает, как непрочны бывают эти узы — Константина обвенчал со смоленской княжной, Юрия — с киевской, и сам, овдовев, взял дочь витебского князя. Ему скоро стукнет шестьдесят, три с лишним десятка лет из них он — великий князь. Жизнь была сложной, беспокойной, временами его одолевает усталость.
— Живете в княжом дому с оглядкой на меня: батюшка-де голова всему, все решит, все сделает, зачем втягиваться в дела многотрудные? — с такими словами обратился он к княжичам. — Пора вам расправить крылья, не все оставаться птенцами, пора взлететь и соколами. Поедете в земли, какие и вам назначил. Устраивайте свои города и веси, высоким разумом вершите правый суд. А правому бог помощник.
Старшему, Константину, велением князя был дан Ростов и к нему Ярославль, Углич и все заволжские земли до Кубенского озера; Ярославу достался Переяславль; Святослав поехал княжить в Новгород, гордую боярскую республику. Плотный увалень княжич Юрий обидчиво скривил губы.
— Что же, батюшка, для меня и города не осталось?
Всеволод Юрьевич отшутился:
— Какие лютые у меня сыны. Не могу же я здесь без никого остаться?
— Как без никого? — вспылил княжич. — А Володька? А Ванька?
— Им еще с мамками на женской половине быть. Малы! И не спорь!
Князь не стал скрывать своего раздражения, вызванного непослушанием сына, сказал резко. Юрий торопливо смахнул пухлым кулаком внезапно выступившие стыдные слезы, в злом отчаянии убежал из палаты. Он чувствовал себя незаслуженно обделенным, не мог понять, почему отец поступил с ним так сурово. Мелюзга Ярослав и Святослав уже князья, а он старше и по-прежнему княжич, — обидно! У самолюбивого княжича к более удачливым братьям росла глухая неприязнь.
3
Отец не торопил с отъездом, но Константин сам не хотел задерживаться, хотя невыносимо грустно было расставаться с городом, где родился и вырос, с его великолепием белокаменных соборов, с заклязьминскими лесами, где с братьями гоняли зверя.
В Ростове он бывал, но зимой, — заснеженный по уши Ростов не произвел на него впечатления, показался тихим и сонным.
Обоз выглядел громоздким, далеко растянулся, ехало много дворовых людей, везли всяческую кладь, — все это собрала княгиня Анна Мстиславна, которая впервые готовилась стать матерью и пугалась незнакомых мест, незнакомых людей и, боже упаси, вдруг что-то понадобится из обихода, а в чужом Ростове не достанешь. Ко всему, она была хозяйственна и бережлива. Константин посмеивался, глядя на ее сборы, — ровно на чужбину подалась, — но не вмешивался. Себе он взял только необходимое на первое время, и самой ценной его кладью был сундук с книгами — к книгам он пристрастился с детства, они доставляли ему много радости.
Перед отъездом отец наставлял его:
— Рад ты или не рад — ехать в Ростов тебе, хотя и думал подержать тебя пока при себе: суть великокняжеских дел не в одних ратных походах, много и другой докуки. Приохотить хотел ко всем делам. Но и в других землях княжеская рука должна быть, за всем отсюда не уследишь. Потому выбрал тебе Ростов. Юрия туда не пошлешь, горяч не в меру, тяжело ему было бы. Да и тебе, Константин, нелегко будет. Много воевал я с ростовскими боярами, посбил спесь, а до конца их гордыню не смял. Боярская кость там замшелая, темная, будут шептать на меня, будут стараться поссорить. Надеюсь на твою разумность.
Князь положил руку на плечо Константина, слегка сжал плечо сильными пальцами. Продолжал:
— Советчиками там тебе будут мой наместник Яков Резанич, он мне предан, и епископ Пахомий, муж ученый и осторожный на решения. Не забывай испрашивать его, когда что задумаешь. Одно меня заботит — доброта, доверчивость твоя излишняя. Обликом вроде в меня, а вот уж характер — от кого ты его взял? В роду у нас таких и не было. И дед твой Долгорукий, и прадед Мономах, да и меня знаешь, — с врагами суровы были, к сподвижникам справедливы. Будь тверд, Константин. Придет время — на тебя падет тяжкий крест, будешь в ответе за всю землю. Укрепляй ее, не давай раздирать на куски, всегда помни: сила Руси — в единстве. Ну, с богом!
Уходил от отца взволнованным, обещал исполнить его наказ. Сердечно простился с братьями Ярославом и Святославом, которые тоже собирались в свои уделы, а при прощании с Юрием вышла какая-то неловкость.
— Обживусь — приезжай гостить. Там, говорят, по речкам бобровые гоны завидные.
Хотел обнять брата, а тот уклонился, сказал с криво! ухмылкой:
— Нет уж, приеду — так хозяином.
Константин донельзя удивился, не понял — чем обидел? Когда? Неужто так переживает, что отец оставил его при себе? Да он бы с радостью поменялся местами, с отцом рядом мудрости набираешься, а там еще неизвестно, каких шишек нахлопочешь на свою голову. Самое-то время, пока молод, погулять да попировать всласть. Молодость уйдет, тут уж останутся одни заботы — навластвуешься, успеешь.
— Прощай, коли так, — сухо сказал Константин. — Не знаю, чем вызвал твою досаду.
4
Уделом своим князь Константин остался доволен и не скрывал этого. Лесные угодья, богатые зверем, и птицей, и медом, богатые рыбные ловы по многочисленным полноводным рекам и в озере Неро. В дороге, пока ехал, все представлял будущее пристанище скучным и серым, как тогда зимой видел, и вдруг открылась просторная водная гладь озера и по его низкому берегу сияющие на солнце купола церквей, тесовые крыши добротных изб. Стояла ранняя осень, воздух был прозрачен и свеж, чисто золотились березы, еще не сбросившие лист. Стаи уток черными точками пролетали над водой, выше тянули гуси, их крики сладкой печалью отзывались в груди. Пернатые готовились к отлету в теплые края.
У князя Константина Всеволодовича отлегло от сердца. Ростов был куда меньше Владимира, но по-своему красив, внушителен. Городские постройки надежно защищались с одной стороны озером, с другой — вытянутым полукругом, довольно высоким земляным валом со рвом, заполненным водой.
— А хорошо ведь? — оживленно спросил он Анну Мстиславну, с которой ехал в одном возке.
— Да, — протянула она. И вдруг поправилась: — Еще не знаю.
Константин Всеволодович радостно засмеялся, обнял ее, сказал нежно:
— Ты — как пуганый воробышек, даже не смеешь признаться, что тебе нравится.
«Пуганый воробышек», в двадцать девять лет собравшийся первый раз родить, застенчиво улыбнулся.
— Ты доволен, отчего мне жаловаться?
В деревянном просторном тереме разместились с удобством, хотя Константин Всеволодович сразу же решил, что будет строить белокаменный, строгой красоты дворец, который напоминал бы отцовский княжеский дом в стольном Владимире. Потом начались первые знакомства.
Князь с удивлением и еще с неведомым для себя лестным довольством встретил у входа в терем епископа Пахомия. Это было не по обычаю: князь первым должен был навестить духовного отца.
— Прости, владыка, видит бог, только что собрался к тебе.
Старенький, чистенький Пахомий ласково посматривал младенческими голубыми глазами.
— С благополучным прибытием, князь, и ты, княгинюшка! — сказал он неожиданно сочным, густым басом. — Благодарение богу, вижу вас в добром здравии!
— Спасибо, владыка, на теплом слове, — принимая благословение старца, ответил князь Константин. — Батюшка мой много сказывал о тебе, мудростью восхищен, ученостью знатной. Не откажи и мне в твоем внимании. Сказывал батюшка, дюже много книг собрал ты, позволишь ли пользоваться?
— Батюшке твоему, светлому князю Всеволоду Юрьевичу, премного обязан, преувеличивает он мои скромные познания. А от тебя, Константин Всеволодович, был рад услышать, что желание имеешь приохотиться к книжной мудрости. Все, все покажу, и книги, и моих писцов, кои перекладывают греческие сочинения на наш язык.
Расстались довольные друг другом.
Доверенный великого князя Всеволода Юрьевича боярин Яков Резанич пришел не один — был с ним высокий и плотный русоволосый богатырь с легкой, упругой походкой, одет ладно, хоть и просто, только и бросались в глаза широкий кожаный пояс с серебряными пластинами да слева на перевязи тяжелый меч в нарядных сафьяновых, с серебряной же отделкой, ножнах. Яков Резанич выглядел рядом с ним коротышкой, был длиннорук, вроде как бы скособочен, но привлекало сухое строгое лицо, обрамленное темной бородой с просединами, притягивали внимание живые, искрящиеся умом глаза. Резанич сказал после взаимных приветствий:
— Не прогневайся, княже, пришел со товарищем. Александром Поповичем кличут. Что о нем сказать — воин, воевода ростовской дружины. А дальше как посмотришь: люб — приблизь, и я обрадуюсь, нет — твоя воля.
Попович внимательно смотрел на князя, во взгляде была скромность и достоинство уважающего себя человека. Константину Всеволодовичу воин пришелся по душе.
— Добрые воины мне надобны, — коротко сказал князь, — а такие молодцы тем паче. Спасибо тебе, Резанич. Но сам-то он что молчит? Согласен ли?
— Рад тебе служить, князь. — Попович поклонился и больше не проронил ни слова, был, видимо, на речи не очень щедр. И это Понравилось Константину Всеволодовичу.
— Город, чаю, хочешь посмотреть? — спросил Резанич. — Приказывай, князь, мы твои слуги.
— Город посмотрим, — улыбнулся Константин Всеволодович, — пока же зову вас на добрую чарку. Княгиня моя рада будет гостям.
Уже на второй день Константин Всеволодович отправился осматривать подвластные города: Ярославль, Мологу, Белоозеро, Углич. С десятком дружинников его сопровождал воевода Александр Попович.
5
Все больше прикипал князь к выделенному отцом уделу. Край был щедро богат, земля плодородна. На ростовский торг собирались купцы с разных мест: поднимались с Волги — по Которосли и озеру Неро — иноземные, нередко можно было встретить торговых людей из Владимира и Суздаля, но основная торговля шла с Новгородом, который в огромных количествах покупал хлеб, лен, кожи, мед, соль, хмель и многое другое, что поставляли оборотистые ростовские купцы. Торг с Новгородом начинался, когда устанавливался санный путь, а до этого купцы забирались в самые отдаленные боярские вотчины, в самые лесные дебри, где скупали все, что производилось землепашцами смердами, Скотоводами, бортниками, охотниками.
Бойкая торговля шла изделиями ремесленников. Во время поездок по городам князь не без приятного удивления узнал, что заволжские земли славятся мастерами чеканки по серебру, изготовлению сусального золота, идущего на покрытие куполов соборных храмов: в Ярославле, в посадах, десятками стояли кузницы, где ковалось от топора до тонкой работы кольчужной рубахи. В самом Ростове делали осиновую плитку — чешуйчатое серебристое покрытие из нее было на многих церквах и шатровых крышах над крылечками боярских хором. Как ему объяснили, плитки эти выдерживают и дожди, и лютый мороз, долго не гниют. Яков Резанич сводил князя на подворье Власа Демидова, мастер изготовлял изразцы, покрытые цветной эмалью, с узором удивительной красоты.
Осмотревшись, Константин Всеволодович занялся строительными делами. В Ярославле, возле Успенского Собора, на самом мысу, образованном слиянием Волги и Которосли, начали строить деревянный княжеский дворец; чуть выше по течению Которосли, на берегу за Медведицким оврагом, по настоянию епископа Пахомия был заложен монастырь с каменной церковью Спаса. Пахомий намеревался открыть здесь училище духовных лиц.
Полным ходом шло строительство княжеского дворца в Ростове. Тут же на подворье был заложен храм Бориса и Глеба. Несколько лет назад рухнул обветшалый каменный собор Успенья Богородицы. На том месте воздвигался новый.
Теперь князя постоянно окружали зодчие, камнерезных дел мастера, объясняли свои замыслы, иные приносили вылепленные из белой глины модели будущих строений. Сначала входили к князю с опаской: каков-то норов у него, не угодишь, так и в порубе насидишься, но скоро стало ясно: Константин Всеволодович советуется, умеет слушать, а если что и поправит, то разумно.
Мастера были сплошь из простых людей. Бояре, о которых Константин Всеволодович и думать забыл, начали роптать все громче и громче: да что же это за князь, ежели он высоких людей ни во что не ставит? Не зовет для советов? Иль уж мы ничего умного подсказать не можем? Слава богу, не первый год Ростов-батюшка стоит, и раньше строились. Кто решал? Да мы же всё и решали. Посмотрим-посмотрим да и турнем обратно во Владимир.
Совсем вылетело из головы молодого князя предостережение отца, что-де сильна боярская кость в Ростове.
Пахомий несколько раз осторожно намекал, что, мол, не лишне собрать бояр на совет, нельзя пренебрегать ими Константин Всеволодович недоуменно спрашивал:
— Да о чем толковать-то с ними? Слава богу, ратных дел не предвидится. Пусть себе пируют да рвут в застолье друг дружке бороды.
— Вот и собрать бы застолье, — подсказывал владыка. — Слабы люди на лесть, это их успокоит.
— Ладно, отец духовный, подумаю.
И опять забыл за делами, что пообещал.
Так бы все и продолжалось, но однажды Александр Попович притащил за шиворот тщедушного человека, обросшего, грязного. Поводит дикими глазами, бесноватый не бесноватый, не поймешь.
— Послушай, княже, что глаголет пес смердящий. На паперти народ полошил. — Воевода тряхнул мужика, у того голова дернулась, мало что не отлетела. — Ну!
Мужик закатил глаза и завыл:
— Увы! Увы граду Ростову, а паче же людем его, отъяси от них власть им принадлежащую! Возложиша великую нужду на град!..
— Хватит! — оборвал князь, он стал бледен от гнева. — Чего кликушествуешь? Ты кто?
— Толикого дерзновения над Ростовом еще не соделаше никто! — продолжал выть мужик, не слушая вопросов.
Александр Попович опять тряхнул его. Мужик затих, видно, перехватило горло.
— Позволь, княже, попытаю, кто да что? Сдается мне, не от дурости его крики, кто-то должен за ним стоять.
Константин Всеволодович брезгливо поморщился:
— Уведи!
Не прошло и часу, снова появился воевода, с ним Яков Резанич. У обоих озабоченные лица.
— Как знал, Константин Всеволодович, — сообщил воевода. — Боярина Никиты Голени человек. Не от себя выл, по наущению.
Вот теперь Константин Всеволодович вспомнил наставление отца: «Посбил спесь, а до конца их гордыню не смял. Боярская кость там замшелая, темная…»
Как в корень смотрел батюшка, вот уж и княжескую власть принялись хулить. Жарко стало в груди, но спросил внешне спокойно:
— Кто тот боярин?
— Родовитый боярин, — стал пояснять Яков Резанич. — Вотчина Голени дюже богата, многолюдна. Хоромы же его в Ростове. Вели, княже, сыск учинить.
Константин Всеволодович задумался. Он понимал, что бояре решили испытать его, решили посмотреть, как он поведет себя. Если оставить все без внимания, могут вообразить, что испугался их, станут наседать сильнее; учинить сыск— озлобятся. Смел все же тот боярин Голеня.
— Говоришь, родовитый боярин?
— Да, княже.
— Не надо сыска. Ничего не произошло.
— Напрасно, князь, — упрекнул Резанич. — Возьмут силу, потом не сладишь с ними. Самое время проявить власть, поймут крепкую руку и поутихнут. Батюшка твой поступал иначе. Никому не позволял против себя пойти.
— Батюшка — великий князь. У него силы поболе моей.
— Константин Всеволодович! Батюшка при Андрее Юрьевиче Боголюбском княжил в Ростове.
«Да, да, забыл, ведь говорил, что до того, как стать великим князем, кое-то время был в Ростове. Родовитый боярин… Видать, чувствует силу, коли решился бросить вызов, смелый Голеня. И начинать с самого корня не хотелось бы, оттолкнешь тех, кто не против меня».
— За боярином Голеней посмотреть не мешает: кто ходит к нему, о чем беседы ведут. — Говорил твердо, но в глаза не смотрел. — Мужику надобно внушить: дерзким словам мы не вняли, забыли.
— Воля твоя, Константин Всеволодович, — покорно подчинился Яков Резанич.
Ушли, разочаровавшись в князе, уверенные, что Константин Всеволодович поступил неразумно, Они-то лучше знали своих бояр.
6
Константин Всеволодович прислушивался к шуму на крыльце терема, в сенях шла какая-то возня. Он разом вскочил из-за стола, за которым писал, рванул со стены меч. В конце опочивальни пробивался сумеречный вечерний свет.
«Так вот, наверно, было в Боголюбове, когда бояре Кучковичи ворвались в опочивальню к дяде Андрею Юрьевичу, — быстро пронеслось в воспаленной голове. — Но у него даже меч заранее выкрали… Меня им легко не взять».
Князь пожалел, что после случая с дворовым человеком боярина Никиты Голени и своей слабости — вскоре сам понял: не такое решение надо было принимать — расправиться с супротивником без жалости, — после того случая отдалил от себя Александра Поповича: презрение увидел в глазах воеводы, взыграла спесивая княжеская кровь, не стерпел, отдалил. А тот смирился, старался не попадаться на глаза. Как бы он сейчас был нужен!
Когда князь не тронул Никиту Голеню, ждавшего худа, бояре и впрямь посчитали его слабовольным и податливым, потирали от удовольствия руки, горделиво разглаживали пышные бороды: «Вот такой князь нам и нужон!» Да только просчитаетесь, сказал себе Константин Всеволодович, когда до него дошли слухи о торжестве бояр. Жаль вот, что не мог перебороть себя, не признался Якову Резаничу и воеводе, что правы они были.
За дверью спальничий отрок Василий — где ему справиться одному? Константин Всеволодович напряженно ждал.
Но вот дверь распахнулась. Вбежал с заполошным криком раскрасневшийся суховатый человек — лукавый владимирский боярин Матвей Дедкович; его Константин Всеволодович сразу признал. Упало сердце от тревожного предчувствия: неужто с батюшкой что случилось? За боярином теснились лучшие местные мужи — глаза безумно горят, дерут в крике рты:
— Князь! Час настал! Спеши во Владимир. Батюшка на тебя в гневе, не дай бог, передаст стол меньшому Юрию! — вопил задышливым голосом боярин.
Дедкович в то же время косился на обнаженный меч, конец которого упирался в половицу. Лицо князя было бесстрастно, только темнел, яростнее становился взгляд.
— Князь! Не дай свершиться заговору! — закричали бояре от двери.
— Поспешай, милостивец, возьми великий стол!
— Всегда наперед Ростов-то ставили! Владимир пригород есть наш. Наши смерды в нем живут, и холопи, и камнесечцы, и древодели. Все наше!
Тяжелый меч опустился с глухим стуком на столешницу.
— Как вы смеете! Белены объелись? Я не волен решать за великого князя. Ты послан от него? — спросил он Дедковича, который медленно отступал к двери. — Говори!
— Конечно, князь. Я только из Владимира.
— Почему же не пришел ко мне один? Ты к кому послан?
— К тебе послан. Да разве от них укроешься, — боярин сокрушенно развел руками. Тяжелый, ненавидящий взгляд Константина Всеволодовича пугал его.
— Не юли, боярин! Зачем устроил переполох?
— Видит бог! — Дедкович мелко перекрестился, не спуская глаз с меча в руках князя. — Нет у меня ничего за собой. Клянусь, князь!
Ни одному слову его не поверил Константин Всеволодович, но и догадаться не мог, для чего Матвей Дедкович растревожил ростовских бояр, зовет к мятежу. Припомнилось, что никогда Матвей не был приближенным отца. Тогда почему он здесь? Не по своей ли воле? Да разве прочтешь в глазах лукавого боярина, с чем и для чего он прибыл.
— Вот что, бояре, — обратился он к местным мужам, — осатанелыми псами ворвались вы в княжеский терем, подобало бы посадить вас в поруб, чтобы охладили вы свои горячие лбы. Так, помнится, и делал мой батюшка Всеволод Юрьевич, когда был у вас князем. Так буду впредь делать и я. Не услышь я сегодня ваших криков корыстных, поехал бы во Владимир. А сейчас повторяю: не волен решать за великого князя. Что он порешит, так и будет. Идите!
Смущенные резкостью молодого князя, бояре стали расходиться. Злобно шипели на Никиту Голеню:
— Говорил, податлив-де князюшка, в рукавицу зажмем, все станет делать по нашей воле. Как бы не так! Не зря поминал свирепого своего батюшку, волчонок волком хочет стать.
— Не с таким подходом надо было к нему, — отбивался Голеня. — Ума-то мало было в криках наших: «Ростов-де наперед стоял, владимирцы холопи наши». Криками-то такими его и напугали. С испугу он это!
А Константина Всеволодовича ждала встревоженная Анна Мстиславна, в глазах немой вопрос.
— Посланный от батюшки из Владимира. Зовет к себе, — объяснил князь.
— Отчего же такой шум? И ты кричал, гневался?
— Да странный какой-то посланный. Бояр переполошил…
— Надо ехать?
— А вот завтра поговорю с ним с глазу на глаз…
Утром он велел позвать боярина Дедковича. Ему сказали, что он уже отбыл обратно во Владимир,
7
— Дозволь говорить, князь?
— Говори.
Гонец, молодой дружинник, откашлялся, стал чеканить:
— Константин, князь ростовский, велик грех переступать заповедь отца своего. Дошло, что преуспеваешь в непослушании своем. Повелеваю прибыть ко мне, не медля ни часу.
Сказав это, посланец низко поклонился. В словах великого князя Всеволода Юрьевича, переданных через него, слышалась откровенная угроза. Как на грех, в палате оказалась Анна Мстиславна. Ее глухой стон вывел из оцепенения Константина Всеволодовича. Досадливо махнув гонцу рукой, чтобы уходил, князь бережно поддержал обессилевшую Анну Мстиславну.
— Не надо так пугаться, перестань, — уговаривал он, сердясь на себя, что позволил посланцу отца говорить при ней. — Нет у меня вины перед батюшкой.
— Да как же! Гневны слова его. Боюсь за тебя!
— Ну вот еще… С чего взяла? Иди к детям.
— Наговор на тебя, не иначе, — не унималась Анна Мстиславна. — Чует мое сердце — злой наговор. И не поехал ты по его первому зову, огневил…
— Честность мою признает батюшка. Он справедлив…
Быстры кони. Не отдыхая, не останавливаясь, князь мчался во Владимир на повторный, сердитый зов отца. Взял с собой воеводу Поповича и двух дружинников. В пути пересаживались на запасных коней, которых прихватили с собой.
Майское солнце жаркое, лесной воздух густой, запашистый. Дорога подсохла после весенней ростепели, но еще не стала пыльной. В иное время дышалось бы легко, радость была на сердце, а сейчас не отпускала тревога, lie представлял, чем вызван гнев отца, догадывался только — начало его связано с внезапным появлением зимой в Ростове боярина Матвея Дедковича, Константин Всеволодович по какому-то упрямству не поехал тогда. А зря…
На княжьем дворе Константин Всеволодович бросил поводья подбежавшему конюху, поднялся уже на ступеньки крыльца, но задержался, увидел брата Юрия. Стоял тот возле белого жеребца, любовно оглаживал его, приговарил что-то. «Получил, видимо, от кого-то в подарок», — подумал Константин Всеволодович, вспоминая, что не было среди княжеских коней такого красавца.
Юрий тоже заметил его, передал коня стоявшему рядом дружиннику.
С того раза, как неловко простились они перед отъездом Константина Всеволодовича в Ростов, будто легла меж ними невидимая преграда. И сейчас — не обнялись, обрадовавшись встрече, не улыбнулись приветливо.
— Явился все же? Только мог не спешить, все одно поздно.
Юрий был в алом княжеском плаще, в мягких сафьяновых сапожках, прошитых по голенищу золотой строчкой, без шапки — длинные светлые волосы ложились на плечи. Был он чуть не на голову ниже Константина Всеволодовича, но гораздо плотнее. Сильными коротковатыми ногами твердо ступал по выложенному плитняком двору.
— Неведомо что говоришь, брат. Отчего поздно-то?
— То от батюшки узнаешь, — уклонился Юрий.
— Гонец сказывал: плох батюшка. Как он?
— Почти не выходит из терема. Увидишь…
Пошли вместе.
Великий князь Всеволод Юрьевич сидел в кресле с высокой прямой спинкой. Кресло было придвинуто к открытому окну, за которым слабо шелестели листвой недавно распустившиеся деревья. Солнечный свет, бьющий сквозь ветви, ложился на изможденное лицо.
У Константина Всеволодовича сжалось сердце от боли: никак не ожидал, что так перевернет отца, — когда он последний раз был во Владимире, постаревший отец был бодр, весел. Сейчас особенно бросалась в глаза мертвенная желтизна на запавших висках.
Константин Всеволодович припал к ногам князя, едва удерживая себя от рыданий, плечи его вздрагивали.
Как ни гневен был князь на старшего сына, он не мог не отметить искреннего порыва, проявления любви к себе, хмурый взгляд, с каким он встретил появление в палате Константина Всеволодовича, заметно потеплел, на суровом, замкнутом лице появилась смягченная улыбка.
— Встань! — Всеволод Юрьевич легонько толкнул в плечо сына.
Константин Всеволодович поднялся и отошел к лавке, сел рядом с Юрием. Отец в упор, молчаливо разглядывал его. Он уже прогнал минутную слабость и опять был тверд и подозрителен.
— Константин, князь ростовский, — сухо начал он, — в свое время повелевал быть тебе во Владимире, слал боярина Матвея Дедковича. Ты пренебрег моим велением, не приехал. Подобает ли дерзить великому князю, отмахиваться от его слов?
Константин Всеволодович резко вскочил, щеки его запылали:
— Отец! — крикнул он с негодованием. — Кого ты прислал? Слышал бы ты, какие речи вел твой посыльный боярин! Спеши, мол, не то отдаст батюшка великое княжение меньшому брату твоему Юрию. Час твой настал. Какой час? Твоя воля, батюшка, — как ни решишь, подчинюсь. Но лезть на рожон, лезть в драку? Он же звал пойти на тебя, бояр переполошил. Оттого и не поехал, рассудил: не годится княжичу идти на отца, на великого князя.
— Так, по-твоему, — вмешался Юрий, — не кричали бояре, чтобы ты в смуте захватил батюшкин стол? Ростов-де всегда наперед был, владимирцы наши холопи? Владимир подчиним Ростову, сделаем Ростов стольным градом Северо-Восточной Руси? Не так разве?
— Кричали такое бояре, было, — согласился Константин Всеволодович. — Но что с того? Те же бояре рты запечатали, когда я прикрикнул на них. Выгнал я их, батюшка, из своего терема.
Юрий недоверчиво засмеялся.
— И ты веришь, отец? Рты запечатали… Непохоже! — Глаза у него стали злыми. — Сил было у тебя маловато, потому решил пока выждать. Теперь у тебя по городу темные людишки шатаются, плачутся об обидах, отца твоего, великого князя, порочат, к великой смуте зовут! Милостивый же князь Константин только что дары им не шлет за это, любо ему!
— За глаза про кого худа не говорят! — У Константина Всеволодовича от облыжных обвинений дрожал голос. — Знаю, кем эта лжа грязная придумана. Выслушай меня, отец, повели привести боярина Дедковича.
— Оседлали тебя ростовские бояре, под их дуду пляшешь, — не унимался Юрий.
Давняя неутихшая ненависть была у Всеволода Юрьевича к кичливым ростовским боярам, что в несбыточных мечтах видели свой город, подобным Новгороду, хотели слабого князя и самим ведать всеми делами. Что им земля русская, крепкая, единая? Своя вотчина, вот она, ближе! Знал Юрий эту затаенную ненависть отцовскую и хотел растравить его, вызвать необузданный гнев. Поглядывал на него с надеждой, ждал. Всеволод Юрьевич сидел, полуприкрыв глаза, лицо казалось безжизненным.
— Что же ты, батюшка, молчишь? — не выдержав, обидчиво спросил Юрий.
— Да, да… — Князь выпрямился, зорко оглядел сыновей. Пока Константин был вдали, верил всему, что о нем доносили, гневался, но вот он перед ним, пылает возмущением, — нет в нем притворства, и князь чувствует к нему нежную отцовскую любовь, хотя еще и не хочет признаться, что поддался наговорам лукавых людей. — Скажи там, — сухо приказал Юрию. — Пусть кликнут сюда боярина Матвея.
— Батюшка! — Юрий смущенно развел руками, лицо стало покрываться пятнами. — Батюшка! Велел ты снарядить с княжичем Владимиром умудренного человека, помочь княжичу освоиться на новом месте. Я и послал с ним боярина Матвея. В Юрьеве он сейчас.
После такого объяснения брата смутная догадка мелькнула у Константина Всеволодовича, а потом уже стала уверенностью: по братниной указке раздразнил ростовских бояр Матвей Дедкович, устроил шумство, чтобы потом опорочить его перед отцом. И как обдуманно Юрий устроил: «Узнал, что меня ждет разгневанный отец, поверивший недоброй молве, побоялся, что могу уличить боярина во лжи, всплывет правда, — немедля отправил того с глаз долой».
— Напрасно поторопился, сын, отослать боярина, — хмуро сказал Всеволод Юрьевич. — Нешто иного дядьки для княжича не нашлось? — Князь быстро вскинул взгляд на Константина, тот напряженно опирался ладонями в края лавки, на которой сидел, будто готовился к прыжку, лицо было недоброе. — Напрасно поторопился. Пошлешь за боярином в Юрьев. Хочу еще раз выслушать его.
— Хотел, батюшка, взять я боярина Матвея в железа и отправить к тебе, — глухо проговорил Константин. — Но он, как уж, ускользнул, сбежал той же ночью.
— Не забывай, брат, чей боярин Матвей, — с угрозой заметил Юрий. — В железа заковать! Привез бы ты в железах ростовского боярина Никиту Голеню. Нужнее был бы он батюшке.
— Ложь ходит рядом с тобой! — не выдержал Константин Всеволодович.
— Перестаньте! — Всеволод Юрьевич поднялся с кресла— все еще высокий, прямой, как и в былые времена; взор его был грозен. — Стыдно мне за вас, княжичи! О чем вы думаете? Что терзаете друг друга? Вы дети одного отца, одной матери. Имейте в себе любовь меж собою. А будете жить в распрях — погибнете сами и потеряете землю дедов и отцов своих. Того ли вы хотите?
Семейный раздор угнетал старого князя, тревогой обволакивало душу предчувствие, что после его смерти все его труды, все заботы пойдут прахом, не удержать сыновьям землю в единстве: передерутся. Вот уже и сейчас нет согласия между старшими детьми.
Всеволод Юрьевич снова почувствовал себя обессилевшим, вернулся в кресло, руки его, положенные на подлокотники, мелко дрожали. Уже более спокойно продолжал, обращаясь к Константину Всеволодовичу:
— Осерчал на тебя, не скрываю. Не только боярин Матвей, есть и другие доверенные люди, о каждом шаге твоем передают. Ладно, что ты устраиваешь города, но ты забываешь о власти, даденной тебе, упустил ее… — Заметил, что Константин недоуменно пожал плечами, прикрикнул;— Не спорь! Не знаешь, что делается возле тебя, являешь ненужную мягкость. Князь — твердь в своем уделе, во все вникать должен… И уже порешил я отдать владимирский стол твоему брату Юрию. Но не объявлено еще сие. Сейчас думаю по-другому, не годится нарушать родовое право: старший сын должен наследовать отцу. И потому остаешься ты во Владимире великим князем. Юрий пойдет в твой удел, в Ростов. Есть у него желание справиться с непокорством бояр, нынче показал это.
Константин был поражен решением князя.
— Отец! — с волнением заговорил он. — Могу ли надеяться, что я ослышался? Ах, отец! Не ты ли всегда повторял, уверен был: только единством жива будет Русь, иного выхода у нее нету. А сам делишь землю на два равных княжества. Ростовский удел обширен и богат. При тебе я мог быть в нем князем, потому как знал: я в полной твоей воле. А что будет после?..
— Что ты хочешь? — раздражаясь и подозрительно оглядывая старшего сына, спросил Всеволод Юрьевич.
— Хочу, чтобы был один великий князь. Я буду им, или Юрий, или кто другой из братьев, но один, как ты сейчас. Оставь в Ростове доверенного боярина, пусть им будет нынешний Яков Резанич. Дай братьям по городу, каждому по достоинству, но не дели княжество на два равных удела, способных противустоять друг другу.
— Вот, батюшка, — скромно вставил Юрий, — ему всё, другие братья пусть бедствуют. Вот что он хочет! Ему и Владимир, и богатый Ростов. Жаден старший братец. Одно только непонятно, отчего он Ростов приравнивает к стольному Владимиру? Не зря, пожалуй, слухи-то идут, что хочет Ростов столицей сделать. Полюбился он ему… Вот они, боярские-то наущения, где всплывают.
— О другом моя речь, как не поймешь? — укорил брата Константин Всеволодович. — Но и не скрываю, полюбился Ростов мне, и беды в том нету. И уж если батюшка решил создать новое ростовское княжество со многими городами и землями, то лучше там мне и быть.
Говорил и надеялся, что отец поймет пагубность своего решения.
Всеволод Юрьевич устало качнулся в кресле, недовольно сказал:
— Дерзок ты, Константин, отца учишь!.. Идите, затомился я с вами. Последнее слово скажу позднее.
«Не станет же рушить то, чему посвятил долгую, неспокойную свою жизнь, — уходя от отца, раздумывал Константин Всеволодович, — не станет дробить землю».
К вечеру великий князь собрал к себе в палату ближних бояр. Ослабевший, задыхающийся, жаловался на непослушание старшего сына и объявил, что наследует великое владимирское княжество его второй сын Юрий. За Константином Всеволодовичем оставался Ростов с городами и заволжскими землями.
Многие любили Константина Всеволодовича за прямоту и мягкость, сочувствовали ему, но не посмели противоречить старому князю, — присягнули Юрию. Наиболее дальновидные понимали, что нарушение родового права усилит раздор между братьями, трудно будет старшему смириться, ходить под рукой меньшого брата.
Горделиво выходил из отцовских покоев новый великий князь Северо-Восточной Руси — Юрий Всеволодович. Оттиснул старшего брата в сторонку от бояр, сказал весело, не заботясь, что прислушиваются к нему:
— Ехал, поди, надеялся: переменит батюшка свое первое решение, тебя поставит великим князем. Ан не вышло! Погоди, братец, я еще и Ростов-то у тебя отберу. Поедешь на прокормленье в маленький городишко, какого мне хотел.
— Не спеши карать, всякое может быть, — угрюмо ответил Константин Всеволодович. — Недозрелый умок — что вешний ледок, от дождя и от солнца тает.
— Посмотрим, — с загадочной улыбкой сказал Юрий Всеволодович.
«О господи, что-то будет!» — вздыхая, крестились бояре.
8
Запыленные всадники на княжеском подворье спешились с усталых коней. Юный воин в нарядной одежде спросил подбежавшего конюха:
— Что князь Константин Всеволодович, здоров?
— Благодарение господу, в полном здравии!
— Доложи, брат его Святослав челом бьет.
Конюх услужливо бросился к терему, но тут же и остановился: князь увидел из окна всадников и вышел сам. Прищурившись, оглядывал прибывших.
— Рад видеть тебя, князь Константин! — Святослав поклонился, лицо его стало покрываться румянцем: смутила холодность Константина Всеволодовича.
— Здравствуй! — сдержанно отозвался Константин Всеволодович; пытался догадаться, с чем пожаловал к нему Святослав из Новгорода. — Заходи гостем!
Посторонился, пропустил младшего вперед себя. А когда остались одни, Святослав стал горько жаловаться на несправедливость Юрия Всеволодовича и переславского князя Ярослава, которые выгнали его из Новгорода. Боярское вече признало новгородским князем Ярослава.
— Так, — раздумчиво говорил Константин Всеволодович, угощая проголодавшегося брата. — Выходит, Юрий прежде на тебя замахнулся, согнал с княжения. Что же новгородцы не отстояли, подчинились безропотно? Али досадил им чем?
— Что им, новгородцам… И ничем не досаждал, а Ярослава, не моргнув, призвали. Им ведь, чем чаще князья меняются, тем сильнее они сами, не хотят твердой княжеской руки.
Два соседних княжества — владимирское и ростовское. Первое время после смерти старого князя кто-то прибивался к Юрию Всеволодовичу, кто-то шел к ростовскому князю Константину Всеволодовичу. Но то были бояре и служилые люди, воины. Ничего не было в этом удивительного. Другое дело взять под свое покровительство изгнанника из княжеского рода. Юрию Всеволодовичу явно не понравится, затаит обиду, подозрение. Но и в беде оставлять Святослава грешно.
— Оставайся. Забав себе найдешь. Скучать не станешь.
— Спасибо, брат, — скромно поблагодарил Святослав. Не того он ждал, думал, даст ему Константин Всеволодович какой-нибудь из своих городов, вроде Углича или Белоозера, — но не выпрашивать же!
Не успелось забыться волнение, вызванное внезапным появлением Святослава, — новое негаданное событие: с жалкой кучкой бояр и воинов прискакал из Юрьева-Польского младший брат Владимир.
— Под твою защиту, брат, не гони! Невмоготу больше оставаться под тяжелой рукой Юрия.
Приезд братьев ничего хорошего не сулил.
С отцом Пахомием Константин Всеволодович поехал на восточный берег озера Неро в сельцо Угожи. По дороге епископ много рассказывал про это село. Угожане занимались торговлей, рыбной ловлей, огородничеством. Еще при деде Константина Всеволодовича, Юрии Долгоруком, в Угожах было открыто училище, в котором помимо грамоты учеников знакомили с ведением торговых дел. Все это очень заинтересовало князя.
Село и в самом деле произвело на Константина Всеволодовича хорошее впечатление: дома добротные, людей много, живут богато. Впоследствии он не раз приедет сюда и даже поставит терем неподалеку от села. В эту поездку его встречал купеческий старейшина Михей Русин. Купец вел обширный торг с иноземцами, его корабли с товарами ходили в водах греческих. Как раз он только что вернулся из далекого путешествия.
Купеческий караван проходил через Владимир, и Константин Всеволодович, выспрашивая о разном, услышал и о Юрии Всеволодовиче: «Опечалился великий князь, узнав, что братья ушли в Ростов», — передал Михей.
Юрий Всеволодович появился под городом внезапно. Ростовские воины вышли навстречу. Сошлись на берегах неглубокой реки Ишны.
Князья выехали вперед войск. Юрий Всеволодович гарцевал на белом жеребце, был в блестящем стальном шлеме, в кольчуге, плотно сидел в седле.
— Князь Юрий! Зачем пожаловал в ростовскую землю? — Константину Всеволодовичу сказали, что по пути Юрий не зорил деревенек, и потому в голосе его не было гнева, только настороженность.
Оглянувшись на дружину, Юрий Всеволодович подбоченился:
— Не подобает тебе допрашивать меня. Я великий князь Владимиро-Суздальской Руси. Али ты со своими боярами считаешь, что мы, владимирцы, — ваши холопи?
Хвастливость его была невыносима.
— Брат Юрий, не вводи в грех, — сдержанно увещевал Константин Всеволодович. — Не поднимай меча, возвращайся к себе домой.
— Ты мне не указчик! Я волен решать, где мне быть и что делать!
Ростовские воины зароптали, теснее сдвинулась к берегу дружина Юрия Всеволодовича. Казалось, вот-вот ринутся навстречу друг другу, сомкнутся в жаркой схватке.
Но не хватило решимости ни у той, ни у другой стороны. Князья покричали, тем и кончилось. Юрий Всеволодович видел, что ростовская дружина не слабее владимирской, а из города еще подходили пешцы из посадских людей.
Рядили мир. Святослав и Владимир уехали с великим князем: первому был дан в княженье Юрьев-Польский, Владимир отправился княжить в подвластный Юрию Переяславль-Южный.
Мир миром, а Юрий Всеволодович не оставил намерения схватиться со старшим братом. Поняв, что малой дружиной ростовцев не одолеть, собрал сильное войско.
Константин Всеволодович был в Ярославле, когда узнал о новом походе великого князя: с горечью понял: «Для брата мирный уряд — ничто». В этот раз Юрий Всеволодович шел, как по чужой земле: жег селения, захватывал пленных.
В Ярославле с князем находился воевода Александр Попович, при нем была отборная сотня воинов: намеревались спуститься вниз по Волге, дабы потрепать мордовских князьков, разбойничьи шайки которых добирались до заволжских селений, грабили их.
Князь приказал воеводе возвращаться в Ростов, сам с небольшим отрядом ринулся к Костроме — городу Юрия Всеволодовича.
При появлении его отряда костромичи, как это не раз делали, убежали со своим скарбом в лес, благо лес подступал к самым стенам города. Кострому Константин Всеволодович, не особо терзаясь, пограбил и сжег — в отместку за вероломство великого князя владимирского; все — как по пословице: князья дерутся — с холопов шапки летят.
Ростовцы не пустили Юрия Всеволодовича в город, встретили его войско на подступах к нему, на реке Саре. Завязалась жаркая схватка. Не подоспей со своей дружиной воевода Попович — не миновать бы ростовцам поражения. Но свежие силы, прибывшие к ним, решили исход сражения, войско Юрия Всеволодовича было рассеяно.
Первый поход Юрия Всеволодовича на Ростов объясняли тем, что Константин Всеволодович укрыл у себя беглецов, князей Святослава и Владимира, не передал их великому князю. Для второго набега не было никакого повода. Правда, выиграй Юрий Всеволодович битву — нашли бы ему оправдание. Вернулся же он во Владимир с позором. Стали роптать бояре, у которых в горячую страду князь забрал в войско земледельцев из вотчин, недовольна была неудачливостью князя и дружина. О скором новом походе на старшего брата не могло быть и речи, волей-неволей Юрию Всеволодовичу пришлось смириться.
Все ждали: теперь наступит долгое затишье. Но когда установился санный путь — горячая пора торговли, — с Новгорода не пришли купцы. Князь Ярослав повздорил с новгородцами и у Торжка перекрыл торговый путь. Новгородцы отправили на переговоры с ним самых уважаемых людей. Ярослав посмеялся над посланными мужами и всех засадил в поруб.
Рискнули пробиться в Новгород ростовские купцы. Ярослав перехватил первые обозы, другие в страхе великом повернули назад.
Ростовские купцы и бояре пришли к Константину Всеволодовичу.
— Отговори брата, образумь. Ты старший в роду.
Князь отправил к Ярославу боярина Якова Резанича со словами:
«Брат, не твори зло, придет беда!»
Яков Резанич вернулся с ответом:
«Почему мне слушаться тебя? Владей своим уделом!»
Тем временем новгородцы призвали к себе воинственного торопецкого князя Мстислава Удатного, будущего участника битвы с татарами на Калке, одного из немногих, кто с честью вышел из той битвы.
Мстислав Удатный обещал вступиться за честь Господина Великого Новгорода и на том целовал крест.
В союзники он взял псковского и смоленского князей. Объединенное войско направилось к Твери, где, по слухам, пребывал князь Ярослав и плененные им новгородские бояре Но в Твери его не оказалось. Тогда повернули к Переяславлю. Не дойдя до города, узнали: Ярослав со своими силами ушел во Владимир к Юрию Всеволодовичу, оба готовятся дать бой.
Мстислав Удатный с новгородцами прислали в Ростов гонца: просили присоединиться к ним. Константин Всеволодович собрал бояр. Все в один голос заявили: выступать; несправедливость, допущенная старым князем Всеволодом Юрьевичем, должна быть исправлена: Константин Всеволодович пусть займет великокняжеский стол.
Константин Всеволодович против такого решения возражать не стал. Неприязнь к брату пересилила все доводы рассудка.
Пятьсот ростовских воинов присоединились к войску Мстислава Удатного.
Летописец отметил:
«Оле страшно… братье! Поидошя сынове на отцы, а отцы на дети, брат на брата, рабы на господу, а господа на рабы».
Войско Юрия и Ярослава было огромно. Помимо опытных воинов оно состояло из пешцов — посадских людей и смердов. У Мстислава Удатного людей было много меньше..
Сошлись обе стороны на реке Липице, близ Юрьева-Польского. Мстислав и Константин Всеволодович все еще пытались не допустить кровопролития, слали гонцов:
«Отпусти мужей новгородских и новоторжских, — предлагали Ярославу, — а с нами возьми мир, а крови не проливай».
«Мира не хочу, мужи ваши у меня. Пришли издалека, так куда уж вам уходить», — глумился Ярослав.
И опять слали сотника:
«Юрий и Ярослав, мы пришли не кровь проливать — не дай бог сотворить такое! Договоримся, ведь мы же родичи. Дадим старейшинство Константину, а вам вся суздальская земля».
Князья отвечали:
«Брату Константину говорим: пересиль нас — вся земля твоя будет».
Князья были уверены в победе, предостережения осторожных не задевали их, льстивые нашептывания принимали благосклонно.
— Да когда ж такое было, — говорил ближний боярин Матвей Дедкович, — чтобы пришедшие в нашу землю чужаки уходили безнаказанно? Ни при дедах, ни при отцах такого не было. А потом, сколько их и сколько нас, — седлами закидаем.
— Так оно и есть, боярин, — важничал Юрий Всеволодович. — Твоя правда, не устоять им противу нас.
— Воины Мстислава Удатного умелы, дерутся зло, — осторожно говорили умудренные опытом воеводы. — Легко ли будет сладить с ними!
— Сказывают, перед битвой они спешиваются с коней, разуваются…
— Неужто разуваются? Зачем?
— Чтоб легче бегать, чтоб не догнали…
— То новгородцы идут так, — поправили рассказчика. — Дерутся новгородцы пешими, иной раз и обувку сбросят, чтоб увертливее быть.
— Что с того! — упрямо гнул свое боярин Матвей. — Аль наши вои слабее? Задавим силой, многолюдством.
В шатре у князя Юрия Всеволодовича начался пир.
— Добро само пришло вам в руки, — внушал он воеводам. — Все вам будет: и кони, и оружие, а кто человека возьмет живого, сам будет убит. С князьями после решим, как быть.
Вина и крепкий мед туманили голову. Юрий Всеволодович, не дожидаясь исхода битвы, заново кроил уделы:
— Мне, брат Ярослав, владимирская земля и ростовская, а тебе Новгород с Переяславлем, а брату нашему Святославу Смоленск…
Утром вступили в битву передовые сотни. День был ветреный, промозглый, перевалило за середину апреля, а в оврагах еще лежал снег.
Дрались неохотно, не было злости друг к другу. А и какая злость, когда то и дело встречается знакомое лицо: бывало, в одном строю бились с булгарами да половцами, изгоняя их с родной земли. Сейчас-то почему друг на друга? По чьей прихоти?
Еще более лениво сходились пешцы, переругивались, разъяряя себя, но рогатины в ход не пускали. Им-то — ремесленникам да землепашцам — эта битва и вовсе была ни к чему.
Так прошел день. Результат его обескуражил Юрия Всеволодовича. Скучным ходил Ярослав. Воеводы старались не попадаться им на глаза. Не было нигде видно и речистого боярина Матвея Дедковича.
Утром следующего дня воины Мстислава и Константина Всеволодовича: новгородцы, смольняне, псковичи — свернули лагерь и покинули поле битвы. Двигались к Владимиру. Воеводы рассудили: город оборонять некому, взять его легко. Пусть после Юрий Всеволодович вертится возле своей столицы.
Впереди шли отборные сотни, за ними пешцы; чтобы не отстать от всадников, бежали рысцой, без строя. В стане князей ликовали:
— Устрашились! Бегут!
— В самом деле, господи, — не сдюжили! Догоняй! Уйдет добыча!
Нет большего искушения — броситься вдогонку убегающему войску. Нестройной толпой, иной и кольчугу не успел надеть, шлем где-то потерял, побежали; одна мысль владела всеми — настигнуть отступающих, смять.
И тогда передовые сотни повернули коней. Описав полукруг, охватили беспорядочно набегавших ратников. Первые стоны, первая кровь. И уже появилась ярость… И раз, и два прошел сквозь полки князей Мстислав Удатный со своими дружинниками, и там, где он шел, земля была красна от крови, леденили душу стоны умирающих.
Ростовский воевода Александр Попович пробивался к шатру великого князя. Подвернувшегося под руку, рвущегося из толчеи боярина Матвея Дедковича сбил с коня тяжелым мечом. Княжеский шатер воевода нашел пустым…
Загнав трех коней, в одной сорочке прискакал великий князь Юрий Всеволодович во Владимир, бросил клич:
— Укрепляйте город! Обороняйте город!
Хмуро встретили владимирцы князя. Легко сказать: «Укрепляйте город! Обороняйте город!» А когда его укреплять, коли вот-вот нагрянут следом воины ростовского князя? А кто будет оборонять, коли все войско осталось у Юрьева-Польского? Недобро оглядывали владимирцы Юрия Всеволодовича: «Голову потерял от страха… И это великий князь! С таким князем только беспокойство вечное и разор».
Те, что имели родственников в войске великого князя и надеялись на добычу, не скрывали своей обозленности:
— И отца, и дядю его помним, никогда не бывало такого позора. Уж ни на что не годен, не совался бы…
Стыдные минуты переживал Юрий Всеволодович, стоя перед собравшейся толпой. И не выдержал, попросил:
— Не выдавайте меня Константину. Утром уйду из города.
— Пошто выдавать! Разве можно! — успокоили его. — Миритесь и деритесь сами…
К вечеру с поля битвы стали прибывать первые воины, рассказывали, как все было; взбудоражили город. Спешно снарядили подводы, отправили к Юрьеву-Польскому за ранеными. Ждали подхода ростовского князя, именитые бояре и духовные лица готовились к встрече.
Еще до подхода Константина Всеволодовича запылал чьей-то рукой подожженный княжеский дворец. И хоть охотников тушить пожар набежало много и потушили быстро, но вызволенный из огня вместе с семейством Юрий Всеволодович не увидел сочувствия к себе. Его уже никто не считал великим князем.
Тем временем улицы оживились, к воротам побежали люди: приближалось войско ростовского князя. Юрию Всеволодовичу предстояло последнее, самое жестокое унижение.
С непокрытой головой вышел он навстречу старшему брату. Все припомнилось ему: и как задирал брата, обещая войти в Ростов хозяином; как мстительно мечтал дать брату захудалый городишко на прокормление; оба своих неудачных похода к Ростову. И теперь вот эта злосчастная битва на Липице… Юрий Всеволодович не знал еще, что в брошенном шатре нашел воевода Попович свиток, по которому закреплялись заново перекроенные им уделы: владимирская и ростовская земли — великому князю, Новгород и Переяславль — Ярославу, Смоленск — Святославу…
За воротами Юрий Всеволодович встал на одно колено, приложил ладонь к груди, с трудом поднял затуманенный взгляд.
Константин Всеволодович спешился, остановился в двух шагах. И ростовская дружина, и владимирские бояре не подходили близко, предоставив им возможность разговаривать наедине.
— Прости, брат, прошу милости! — Юрий Всеволодович говорил хрипло, сорванным голосом.
— Встань! Не гоже князю в пыли порты полоскать.
— Брат, не лишай жизни… Молю!
Юрий Всеволодович заглядывал старшему брату в лицо, не удивился бы, увидев торжествующую усмешку. Усмешки не было. Лицо Константина Всеволодовича было сурово, губы плотно сжаты. Помолчав, он спросил:
— Ответь, что ты хотел для меня? С братьями Ярославом и Святославом? — Он выхватил из-за пояса свиток, протянул побледневшему Юрию.
— Брат, хмельны мы были, похвалялись глупо…
— Все же? Когда б твоя взяла, твой верх?
Юрий Всеволодович беспомощно улыбнулся.
— Ростов, конечно, взял бы у тебя. Но не думай худа, нашелся бы для тебя город. Хмельны мы были, прости…
— Вот и я не знаю, куда тебя послать, — сказал Константин Всеволодович. — Владимирский стол я беру по родовому праву. Ростов с землями тебе не отдам. Поедешь на Волгу в Радилов-городок.
— Спасибо, брат! — Юрий Всеволодович ждал худшего и был рад, что так обошлось, хотя Городец на Волге, как его еще называли, был мал и беден.
Впоследствии он вымолит себе Суздаль, но до того, как переберется на новое место, натерпится бед от набегов булгар, натерпится и нужды.
Шесть веков спустя нашли на Липице доспехи Ярослава Всеволодовича. Тот тоже в страхе, полуодетый, примчался в родовую вотчину Переяславль, закрылся в городе, намереваясь выдержать осаду. От бессилия и неудачи в напавшем на него бешенстве бессмысленно расправился он с пленными новгородцами, чем вызвал неудовольствие и бояр своих и дружины. Когда следом подошел к Переяславлю Мстислав Удатный, тесть Ярослава, пришлось распахнуть перед ним ворота. С поникшей головой просил Ярослав прощения.
— Из-за тебя сотворилось много зла, — ответствовал князь, отнял у Ярослава свою дочь, а его жену, и несколько лет не внимал его мольбам отпустить жену к мужу. Вернувшись же, в первый год родила она ему сына Александра, будущего князя Александра Невского.
Из всех междоусобных княжеских распрей битва на Липице была самой страшной, самой кровавой. «Не 10 бо убито, ни 100, но тысяща тысящами», — сообщает летописец.
В непрекращающихся княжеских стычках обескровела Северо-Восточная Русь. А воинская сила была нужна: с востока уже надвигались на русские земли полчища неведомого народа, названного потом татарами.
9
Великий князь владимирский Константин Всеволодович умирал. Он знал, что наступает прощание с жизнью, и был кроток и просветлен. Утром лекарь Феогност дал ему возбуждающий травяной настой, ему стало лучше. Потом исхудавшие до прозрачности пальцы его стали судорожно перебирать края меховой полости, которой он был укрыт. Заметив это, Анна Мстиславна сжала лицо ладонями, глухо застонала. В опочивальне находились епископ Кирилл и воевода Попович. Епископ уже причастил и исповедал умирающего.
— Что ты? — откликнулся князь на стон княгини, он нашел в себе сил улыбнуться. Но тут же лицо его исказилось, он забеспокоился, — Брат… Брат Юрий?
— Да здесь он, здесь. Сейчас позовут.
— Позови… Всех позови…
Воевода Попович сидел насупившись, хмурый.
— Князь, — с настойчивостью в голосе сказал он. — Князь Константин Всеволодович, передай княжение сыну Васильку. Буду ему оберегой! Решись, князь, все мы того хотим.
Больной долго молчал, словно обдумывал сказанное, хотя все у него было давно решено.
— Нет… Тебе верю, Александр, будешь оберегать сына. Верю… Брат не успокоится, пойдет на вас… Опять смута…
В опочивальню стали входить бояре, вошел и Юрий Всеволодович, огрузший в последнее время, отяжелевший, с набрякшими веками, с плотно сжатым ртом. Скромно отступил в сторону.
— Подойди! — позвал Константин Всеволодович. И когда тот приблизился, продолжал отвердевшим голосом: — Тебе завещано наследовать княжество. Слышите, бояре?
— Слышим! Слышим! — закивали бояре. — Слышим, милостивец!
Воевода Попович тяжело дышал, был бледен. Понимал, что оставаться под тяжелой рукой Юрия Всеволодовича он не сможет, князь никогда не забудет старые обиды.
Константин Всеволодович продолжал:
— Старшему сыну Васильку даю Ростов, Всеволоду — Ярославль, меньшому моему — Углич. Клянись, князь, что не нарушишь моего слова.
— Как перед богом! — Юрий Всеволодович перекрестился. — Клянусь, брат, помнить твое слово. Целую крест…
— Слышите, бояре?
— Слышим! Слышим!
…В Северо-Восточной Руси появились два новых княжества: угличское и ярославское. Шел 6726 год, или 1218, что одинаково.
Глава первая. Ярославль
Красив град Ярославль, что стоит по-над Волгой, на торговом пути.
С обрывистого мыса — Стрелки — видны на многие версты низменные ровные места, нескончаемые лесные дали. Сосняки на песках, глухой ельник с родниковыми ручьями; Которосль разрезает правый берег Волги, за Которослью тоже леса вперемежку с топкими болотами. Только сам город будто выпрыгнул на крутой волжский берег, выпрыгнул, чтобы обозреть окружавшие его дебри.
Идут ли купеческие струги с низовьев Волги, спускаются ли сверху — причаливают у зеленого мыса. Под знойным летним небом за полосой береговых лип блестят островерхие крыши боярских хором, добротных свежесрубленных купеческих изб, высятся маковки больших и малых церквей— чаше деревянных. Дальше к Которосли, за Медведицким оврагом, в ремесленных слободах дома поплоше, поприземистее, встречаются горелые пустыри — память о Батыевом нашествии. Два десятка лет назад навалились на Русь несметным числом татаро-монгольские полчища. Рушили города, беспощадно вырезали население, молодых и здоровых угоняли в свои степные кочевья. Плач и стон пронесся над землей.
Ярославские воины ушли на зов великого князя владимирского, Юрия Всеволодовича, на реку Ситъ и там в неравной битве сложили головы. Татары сровняли с землей городские защитные стены, засыпали оборонительные рвы. Градчане, кто сумел укрыться, сбежали в леса, и когда-то шумный торговый Ярославль омертвел…
Но ушли в ненасытной жадности захвата новых земель басурмане, возвратились из лесов беглецы, постепенно, в одиночку и группами, добирались с Сити избежавшие злой участи израненные воины.
Неистребима жизнь — понемногу строились, обживались.
1
В 6765 году, а по-нынешнему исчислению, от рождества Христова, 1257-м, начало лета выдалось на редкость сухое. Вода в реках быстро спадала, и это торопило торговых людей. К пристани причаливали суда, пришедшие сверху и снизу Волги: разгружали привозной товар, укладывали в трюмы — местный. Особенная спешка была у купцов, которым предстояло еще подняться по Которосли до Ростова Великого.
Жаркое июньское утро…
С жадным криком носились над водой чайки, схватывая с поверхности все, что казалось съедобным. Густо пахло смолой и сырой тиной. От бepeгa вверх по склону тянулись к торговой площади подводы. На телегах зерно и кожи, мед в липовых кадках, меха, льняное масло, про-сольная рыба и живая, в мокрых корзинах со льдом. Иногда проходили возки с товарами купцов из дальних мест — у тех ценные узорчатые ткани, тонкое сукно, серебряные и металлические изделия, женские украшения. Среди простых домотканых рубах мелькали в толпе яркие бархатные кафтаны. Кого только не было на берегу в этот воскресный торговый день! Купцы всех достоинств, воины из охраны, без которой не отваживались пускаться в дальний путь торговые люди, плотники-мастера, тут же на ходу чинившие потрепанные суда, нищие, просто любопытные. Бывалому человеку потолкаться на шумливом берегу в диковинку, не то что сопливому малому — Фильке.
Филька, долговязый подросток с тонкой шеей, веснушчатый, с взлохмаченными волосами, — приемный сын старшины кузнечного ряда Дементия Ширяя, — стоял, открыв в изумлении рот, глазел на причаленные струги, людскую круговерть возле них, дивился богатым товарам. Не часто приходилось бывать на Волге: спозарань до темки торчали в кузнице; это сегодня тятька Дементий отпустил по случаю. Прибежал вместе с дружком своим Васькой Звягой, тоже сыном слободского кузнеца. Все на свете забыл отрок— даже Ваську проглядел, куда-то тот подевался, — само собой приходили мысли: «Эх-ма! На струге бы да куда подальше, чай, там города не хуже нашего. Посмотреть бы, что ль… Наняться по хорошей цене в работники к купцу, а после заявиться домой: смотри, тятька, вот серебряные гривны, а вот товары — сами в купцы вышли. Бросай свою копченую кузню, торговать едем — прибытку больше. Небось зарадуется!»
Веснушчатое круглое лицо само собой растягивается в счастливой улыбке. Поискал взглядом Ваську — а чего, Ваську тоже можно с собой взять, с дружком веселее, — и вдруг опомнился, засомневался: «Не, не согласится тятька, зачем ему купцом, когда в городе он и так всем люб, и живет неплохо: по праздникам щи с говядиной на столе. К нему в кузню князь Константин запросто приходит».
С низу Волги поднималась еще ладья. Шесть весел торопливо, но без разнобоя, врезались в сверкающую на солнце речную гладь, стремительно гнали судно вперед.
— Ишь, наверстывают, — посмеивались на берегу, любуясь быстрым ходом ладьи. — Убежит торг-то от них.
— Весело идут.
— Ребята, а ведь у них что-то случилось. Смотрите!
— И верно! С чего бы ему орать?
На палубе ладьи стоял худой, опаленный солнцем купец, потрясал руками и орал что-то. Видели, что лицо его гневно. И это насторожило людей, притихли.
2
— Други! Люди добрые! — расслышали на берегу, когда ладья подошла ближе. — Доколе терпеть! Сказано: торговому гостю путь чист, без рубежей, А смотрите, что делают с нашим братом.
Только тут все заметили пластом лежавшего на палубе человека. Купец подхватил его под мышки, поднял на ноги. Вид человека был страшен, глаза бессмысленно блуждали, под распахнутым кафтаном виднелась окровавленная повязка.
Размахивая свободной рукой — второй поддерживал ослабевшего человека, — купец возмущенно выкрикивал:
— Вот как заповедь русская — не чинить купцам помех— блюдется у нас. Битый!.. Ограбленный!.. Нашел я его на берегу. Товаров при нем никаких, а ладья изрублена, на мелководье затонула. И сидит с ним на бережку молодец, красавец, целехонек. Кто его знает, кто он? Говорит, товарищ купца, помочник. Ночью будто налетела на них ватага. Да… Связал я того молодца на всякий случай, потому как все побиты, а он целехонек. Вон он, у меня в трюме. Эй, тащите его сюды! — приказал купец своим гребцам.
Из трюма выволокли дюжего парня со скрученными за спиной руками. Лицо скуластое, широкое, губы толстые. Парень глуповато оглядел толпу и, подняв к солнышку глаза, громко чихнул. Расплылся вдруг в улыбке, — наверно, оттого, что не ко времени чих напал.
— Ишь, щерится! — крикнули из толпы. — Рожа-то какая! Наверняка с шатучими татями был.
— С такого станется! Чисто разбойник!
— Вестимо станется! Как увидел его, в смущение вошел: не разбойник ли? — торопливо заговорил купец, обрадовавшись поддержке. — Ну-ка, милок, говори честному народу: ты ли навел татей, отчего тебе милость от них?
Парень захлопал глазами: слова купца рассердили его.
— Ин, как тя распирает, — обидно сказал он. — Послушать подольше, так не иначе — тать, разбойник, А я увернулся, меня и не заметили. Я, когда отошел от страха, — стал он объяснять толпе, — подполз: Костька и Кудряш порублены, а Семен Миколаич еще живой, дышит. Перевязал его. Костьку и Кудряша, конечно, схоронил и ждал: может, кто появится на подмогу. А этот налетел, ничего не спросил… Татары нас побили, — выдохнул парень.
Толпа глухо заволновалась: темные слова сказал парень. Много всего от татар натерпелись, но такого лиха — купца без нитки оставить, да еще и порубить, — давно уже не было. Их баскаки дань собирают, тут уж никуда не денешься, их власть, но чтоб такое?..
— От них, супостатов, чего ждать, — неуверенно донеслось из толпы. — Они могут.
— Сумнительно что-то, браты…
Связанный парень, обиженный недоверием, сердито выкрикнул:
— А вот вы Семена Миколаича спросите! Опомнится он — скажет.
— Монах меня мечом полоснул, — слабым голосом сказал вдруг очнувшийся раненый купец. Ноги у него были как ватные, хозяин ладьи продолжал поддерживать его, — Чернец в рясе… Темно было, а разглядел…
Гул прошел по всему берегу, притиснулись ближе.
— Господи, пресвятая богородица, да что же это такое? — послышались сомневающиеся голоса. — Один — татары, другой — чернец. Подозрительно все это.
— А я так скажу! — вылетел наперед мужичок в войлочном колпаке, суетливый. — Тащи их, други, к князю. Пусть судит.
— Давай к князю, — поддержали его. — Пусть на княжом дворе разберутся.
— То так! Князь Константин молод, а разберется. Он рассудит!
Раненого купца с бережением положили на телегу. Связанный парень шел сбоку под неусыпным надзором хозяина прибывшей ладьи: его пленник, ему и сторожить его, и к князю доставить. Толпа любопытных повалила за подводой.
— Филька! Ну где ты? — раздался суматошный голос Васьки Звяги. — Бежим на княжий двор, не то не успеем.
Филька сорвался с места. Побежали вперед толпы, пыля дорогу босыми ногами.
3
— «В лето 6724 (1216) заложи Костянтин церковь святого Спаса на Ярославле дворе камену и монастырь ту устрой».
Афонасий оторвался от пергамента и пытливо взглянул на молодого князя — внемлет ли?
Константин, опираясь локтями на столешницу, рассеянно смотрел в единственное оконце с мелкими цветными стеклышками в свинцовой раме. В келье игумена было сумрачно и прохладно. Лениво подумал: «Чего Афонасию вздумалось напоминать об устроении монастыря?»
Игумен вздохнул и продолжал:
— «Лета 6732 (1224) свещена бысть церковь святого Спаса в Ярославля, еже заложи Костянтин, великий князь, а сверши сю сын его Всеволод».
Константин уже с любопытством взглянул на игумена, но лицо того, обрамленное пегой холеной бородой, было бесстрастно, непроницаемо. «Неспроста старец затеял скучное чтение, плетет какую-то хитроумную нить. Потерплю еще, пусть скажет яснее». Однако упоминание об отце — Всеволоде Константиновиче— ущемило грудь. Сколько раз представлял его со слов матери — самому где помнить: родился, когда отец уже погиб на Сити вместе с дружиной. Со слов матери выходило: высокого ума был человек, ученый, мягок одинаково с боярином и простым дружинником, совсем и не воин. А боярин Третьяк Борисович не устает повторять: могутен был князь, грозен. Еще юношей вниз по Волге на мордву ходил, бесстрашным воином показал себя. Кто из них прав?
— Родитель твой Всеволод Костянтинович, благоверный и пречестный, любовью жаловал Спасский монастырь, пекся об устройстве его, отписывал деревеньки с пожнями на прокормление чернецам, — монотонно говорил игумен. — Хиреет монастырь…
Константин чуть заметно улыбнулся. Вот зачем Афонасию потребовалось ворошить старые свитки. Вельми жаден духовный отец. Деревенек у монастыря достаточно, рыбные ловли имеют на Которосли. Монахи осатанели без дела, по все дни бражничают, а он — «хиреет монастырь». Сказал неопределенно игумену:
— Дед и отец мой не скупились на добрые дела. Дай бог, пойдет так и дале…
Недовольство мелькнуло на лице игумена.
— Хорошо бы «дале»… Пока, вижу, больше благоволишь, княже, лесным язычникам. Им, отщепенцам веры христовой, твоя ласка.
Князь рассердился. Юношеское лицо с чуть пробившейся светлой бородой запылало гневом.
— Ты меня не кори! — одернул монаха. — Те люди — добрые рудокопы. Исправно платят подати. Там обучаются воины, копится оружие. И негоже, святой отец, вслух поминать о том, что тебе доверено в великой тайне.
Игумена словно не затронул гнев Константина, сказал скучно:
— Я, княже, говорю не при людях. Только тебе. Твоя тайна, доверенная мне, при мне и останется.
— Хорошо, что так, — остывая, сказал Константин. — Ладно, не будем ссориться, — что хотел ты, говори яснее?
— От устья Которосли по Волге бросовые земли. Весьма пригодились бы…
— Там же болото, — удивился князь. — Деревеньки ни одной нету.
Константин силился понять, чем понравилась игумену пустошь, куда в сырую погоду зверь ногой не ступит, не то что человек.
— Холопов можно сселить из других мест, вот и деревенька…
За дверью затопали, потом вошел рослый дружинник: на красивом, умном лице почтительность. Поклонился в пояс и застыл в ожидании.
— Ты что, Данила? — спросил князь.
— Прости, отче, — воин опять поклонился в сторону игумена. — И ты, княже, прости, беспокою… Третьяк Борисович послал до тебя. Велел сказать: тати купца посекли, привезли того купца чуть живого. С ним работник, народ орет, что он навел татей. Просят суда твоего.
Константин нахмурился, давно уже не было слышно о разбойничьих шайках, спросил сурово:
— Где было злодейство?
— Будто на Волге, неподалеку от малых соляных варниц. Так говорят…
— Ладно, иди. Сейчас буду.
Константин поднялся, статный, широкоплечий. С укором посмотрел на игумена.
— Шел к тебе, духовный отец, чаял: прочтешь из хроник о великих битвах, кои Русь вела с иноземцами, а ты все свернул к корысти своей. Ин будь по-твоему, отец Афонасий, отдаю пустошь монастырю.
— Пошто унижаешь, княже Константине, — обидчиво сказал игумен, впрочем не сумев скрыть на лице мелькнувшего довольства. — Битв было много, о каких ты хотел знать?
Константин, как младший, обязан был относиться с любовью к своему духовному отцу, обязан был, но не мог, — звал тот к покорству. Спросил с горячностью и болью:
— В чем сила татарская? Воины русские храбры, умелы, а поганый ордынец топчет нашу землю. Отчего так?
— Готов ли ты слушать меня? — Зоркие глаза старца впились в молодого князя, словно впервые видели его.
— Да, отче…
— Тогда слушай, что записано о брате деда твоего — князе Юрье.
Афонасий стал бережно листать страницы, холеным ногтем ткнул в нужное место, стал читать:
— «И послаши же князи рязанские ко князю Юрию володимерскому, прося у него себе помочи или самому пойти. Князе же Юрьи сам не иде, не послуша князей рязанских мольбы, но хоте сам по себе сотворить брань».
Игумен на мгновенье задумался, глубокими тенями легли складки сжатого рта. Сказал строго:
— Терпи, княже, коли вынудил говорить.
— Неправды не хочу, — быстро ответил Константин.
— Вот что речет песнопевец славный, сказавший Слово о полку Игореве:
Рекоста бо брат брату: «Се мое, а то мое же». И начаши князи про малое «се великое» молвити, а сами на себя крамолу ковати. А погании со всех стран прихождаху победами на землю русскую…— Великий князь Юрий не послал помощи Рязани, — продолжал игумен, — а слышал: навалилась на Русь тяжкая сила неведомого народа. Думал: пусть побьют Рязань, сильнее я стану в княжеских ссорах.
И опять молчал игумен, будто не решил еще — все ли говорить молодому князю.
— Дальше-то что? Что дальше? — нетерпеливо спросил Константин.
— Князь Юрий неправдами домогался великокняжеского престола, идя на старшего своего брата, а твоего деда Константина Всеволодовича, — продолжал игумен. — Да дело не в том: распри княжеские охватили все земли русские. Но на вторгшиеся полки иноземцев княжеские дружины собирались воедино. Дядя твой великий князь Александр Ярославич, рекомый в народе Невским, бросал общий клич и побеждал: вел славные битвы со свеями, бил нещадно немцев на Чудском озере, литва в страхе забыла, как подступать к рубежам русским.
Игумен отечески обласкал взглядом Константина — тот старался ничего не пропустить из сказанного, застыл, слушая.
— Спрашиваешь, Константине, в чем сила татарская? Сила их в многолюдстве, в общности, шли они скопом, а не порознь… Князь Юрий не токмо отказал в слезной мольбе другому — полки свои распылил по малым городам, сынов не пожалел, славных воевод своих, отсылая оборонять малые города. Свой стольный град Владимир оставил на растерзание, уехав спешно в сицкие леса. Печальную память оставил по себе великий князь Юрий Всеволодович.
— Но, отче, — возразил Константин, — не бежал же в страхе великий князь, хотел новую силу собрать на Сити и пойти на татар.
— Хотел. Но не успел. Дозоров добрых у него даже не было. Взяли его татары врасплох. Погубил русское воинство.
Афонасий искоса взглянул на молодого князя. Тот поглаживал подбородок с едва пробившимся светлым волосом, покусывал губу — взгляд хмур, сосредоточен: не отрок — зрелый муж сидел перед ним,
4
Константин легким упругим шагом поднялся по ступенькам высокого крыльца, украшенного резными перильцами. Мельком отметил, что за распахнутыми воротами грудятся посадские люди, — на княжеский двор их не пускали.
В просторных сенях встретил княгиню Марину Олеговну. Княгиня шла с внучкой Марьюшкой — собрались в сад под тенистые деревья на берег Волги. Княгиня тяжело несла грузное тело. Увидев сына, заохала:
— И как тебе все сидится за книгами? Третьяк Борисович говорит: ушел с утра к отцу Афонасию. А уж знаю, чем вы там с отцом Афонасием занимаетесь. Отдохнул бы…
— Не угадала, маменька, — засмеялся Константин. — Отец Афонасий о пустоши беспокоился, что за Которослыо; уговорил меня отдать монахам эту пустошь.
— Все равно отдохнул бы. Жара такая, головушка плавится. Нельзя же все время надсажать себя заботами.
Марина Олеговна никогда не понимала его, о делах он с ней старался не говорить, но она мать…
— Ничего, маменька.
Константин ласково погладил шелковистые волосы Марьюшки. Ее мать, княгиня Ксения, не баловала девочку вниманием — уже два месяца была в Ростове на богомолье, ни одной весточки о себе не прислала. А бабушка души в отроковице не чаяла — всё с внучкой. Константин, глядя на зардевшееся личико девочки, подумал: «Славная растет девчушка. Не пришлось брату порадоваться на нее».
Брату его Василию было десять лет, когда погиб отец и нужно было принять княжение над разоренной землей, Василий не по возрасту оказался разумен: слушал наставления старого боярина Третьяка Борисовича, собирал народ, рассеянный татарами, призревал вдов и сирот ратников, павших на берегах Сити. Тяжкое то было время. «Всем он суд правый правил, Богатых и сильных не боялся, нищих и убогих не гнушался».
Предстояло ехать в Орду к великому хану Батыю, чтобы получить из его рук ярлык на княжение.
Длинен, утомителен путь до Орды, горькие чувства пришлось испытать, унижаясь. Все переборол мальчик-князь и добился ханской грамоты на княжение в Ярославском уделе.
Но княжил недолго. Был во Владимире, — стольном граде, у великого князя Андрея Ярославича, брата Невского, там заболел тяжко и скончался. Александр Ярославич, который любил молодого князя, горевал, провожал гроб с телом племянника в Ярославль. «Олександра князь плакался много», — заметил летописец.
Старый боярин Третьяк Борисович ожидал Константина в горнице. Умные, глубоко запавшие глаза его были невеселы. Косой солнечный луч из узкого окна падал на сгорбленную спину. Какие думы одолевали старого боярина? Может, вспоминая ушедшие дни, видел себя воином, когда молодая кровь играла в жилах, звенел меч в отчаянных битвах с врагами, может, видел порубленного в схватке побратима своего князя Олега Святославовича Курского, кому дал обет: заботиться о его малолетней дочери Марине. Во время княжеской распри привез он тогда Марину в родовую вотчину Гвоздево, что в пятнадцати верстах от Ростова. Оберегал, холил, а потом выдал ее за ярославского князя Всеволода Константиновича. К тому времени закончилась распря, затеянная великим князем владимирским Юрием Всеволодовичем, было всеобщее примирение. Но так прикипела душа к воспитаннице, что сам пошел на службу к ярославскому князю, стал ближним боярином, первым советчиком. Здесь и состарился. Теперь вот оберегает младшенького сына Марины Олеговны — князя Константина. Разумен, ничего не скажешь, но и своенравен, вспыльчив и непоседливости великой: нет той степенности, какая у князя должна быть. Молоденек еще, сначала решит, после подумает, и то не всегда, не. любит пересматривать свои решения. Намедни засадил в поруб боярина Лазуту и держит там; пусть, дескать, опомнится, охолонет от жадности своей. А дело самое обычное: прибрал Лазута за долги деревеньку у сродственницы своей вдовы Матрены. Кто их там разберет, небось в самом деле муж Матрены остался должен боярину. Суд беспристрастный, спору нет, учинить следует, но держать боярина в порубе негоже, пересуды идут. Родовитый муж Тимофей Андреев просил за Лазуту: нехорошо, мол, позорить высоких людей, зазорно. Куда там! Князь Константин, не дослушав, отмахнулся: пусть сидит до сроку, собьет спесь. А когда срок? Послал будто тиуна чинить дознание. А когда он учинит?
Тяжелые думы тяготили старого боярина: «Своенравен, непоседлив князюшка. Может, по молодости?»
Вот и сейчас: не вошел — стремительно ворвался в палату, ворот рубахи на петельки не застегнут, волосы взъерошены, — и сразу нетерпеливо:
— Где купец?
— Будь здоров, княже, — мягко укорил Третьяк Борисович. — Виделись ли сегодня, запамятовал?
— Будь здоров, боярин-батюшка. — Константин блеснул зубами в улыбке, сел рядом на широкую лавку, покрытую мягким ковром. — Что сумрачен с утра? Али обидели тебя чем?
— Обид нет, чему мне обижаться, — слукавил Третьяк Борисович: на деле очень уж хотелось большей почтительности от молодого князя. Вздохнул: «Почтительность, она приходит с годами, когда всего перевидаешь». Поднял на Константина не по-старчески зоркие глаза: — О купце твоя забота, внучек? Похвально… Ну так поспрашивал я того купца. Олуха, работника его, тоже поспрошал. Несусвет какой-то в речах.
— Что же они говорят, боярин-батюшка? — заинтересовался Константин. — В чем несусвет?
— Темное дело… Работнику больше поверил. В нижней избе они. Сам попытайся дознаться.
Пошли в нижнюю избу — подклет. В углу на лавке увидел Константин лежавшего человека — белое, без кровинки, лицо, глаза, воспаленные лихорадкой. Человек дернулся, пытаясь встать, но только застонал.
— Лежи, — остановил его Константин. Подвинул легкое креслице поближе, сел. Третьяк Борисович опустился на лавку — из-за грузности своей побаивался креслиц.
— Прости, княже господине, что видишь меня таким, — слабо сказал купец. — Не чаял…
— Рассказывай.
— Да что же… — Купец с трудом, напрягаясь, все же сел, привалился спиной к стене. — Ростовский я. Почитай, все меня в Ростове Великом знают. Семен Кудимов… Шел с низу Волги от булгар, вез узорчатые ткани да так, по мелочи… Торопился по малой воде добраться домой. Притомились, заночевали, не дойдя Ярославля. На берегу ночевали — беда наша. Гадали, утречком по холодку войдем в Которосль, а там уж и дом рядом. Да и случилась такая напасть… Монах, княже, был среди них, он меня полоснул…
Князь даже рот приоткрыл, удивившись.
— У тебя в голове помутилось, лихоманка от боли, — сказал с сочувствием Константин. — Видано ли это, чтобы чернец с шатучими татями заодно?
— Верь, княже, черная ряса на ем. Хотя и темно было, разглядел.
Константин с сомнением покачал головой, взглянул на боярина.
— И мне так говорил, — сказал Третьяк Борисович.
— Работник где твой? Хочу от него услышать. Эй, кто там?
В двери показался княжеский ближний дружинник Данила Белозерец.
— Где его работник?
— В порубе я его держу, потому как говорили: пособник он татям.
— Веди его.
В низкую дверь избы вошел подталкиваемый дружинником работник купца, грохнулся на колени. Князь подозрительно и долго разглядывал его. Что-то ему показалось знакомое в облике парня.
— Что скажешь ты? Как все было?
По лицу парня было заметно, что он не испытывал никакого страха, больше того, смотрел на князя со скрытым любопытством.
— То же самое скажу, что говорил боярину. Татары на нас наткнулись, с ними познались.
Совсем удивился Константин.
— Откуда там быть татарам?
— Это мне неведомо, но их, поганых, я хорошо разглядел.
— А чернеца в рясе ты видел? — Константин стал подозревать: ему вспомнился монах, прихвостень татарский, много бед творивший простому люду. Да только откуда он мог появиться, давно уж в городе о нем ни слуху ни духу?
— Так видел чернеца?
— Не видел, княже.
— Как же вы ночью спали без охраны? Как рябцы, голову под крыло?
— Утомились сильно. Да и не очень сторожились. На ум не приходило, что такое может случиться: город-то, почитай, рядом.
— Как ты-то уцелел?
— В канавку свалился, меня не заметили. Темновато было.
— Темновато было, — передразнил князь. — И это ты так берег своего купца! Знаешь, что тебе, холоп, за это следует?
Парень понурил голову, вздохнул глубоко и обреченно.
— Прости, княже, спужался очень. Изумление в голове было.
— Может, в изумлении ты и татар видел? За татарами, что живут в Ахматовой слободе, никогда такого разбоя не замечалось. Так откуда же под городом быть татарам?
— Нет, княже, то были татары, — твердо сказал парень.
— Давно он у тебя в работниках? — спросил Константин купца.
— Какое, — махнул тот рукой. — Весельщиков-гребцов недоставало, а он подвернулся, детина крепкий, вот и взял.
Константин все пристальней присматривался к парню, доверия к нему не было. Сказал строго:
— Подозревают, что ты навел татей. Так, купец?
— Сказал я, он у меня человек случайный, — равнодушно отозвался тот.
Парень обидчиво дернулся вперед, губы его дрожали.
— Не бери греха на душу, Семен Миколаич! Я ли тебе не работник? За что губишь?
— Сдается, видел я тебя, — раздумчиво сказал Константин. — Где? Напомни!
Парень замялся, сказал неуверенно:
— Может, видел… В кузницу к Дементию ты заходил, княже. Я у Дементия молотобойцем был.
— Эн, Данила, — нетерпеливо крикнул князь, — пошли кого по-быстрому за кузнецом!
Дементия привели прямо из кузни, только что я успел ополоснуть лицо да сменить рубаху. Поясно поклонился поочередно князю и боярину Третьяку Борисовичу. Потом заметил парня и недоуменно уставился на него.
— Чаю, знаком он тебе? — уловив его взгляд, спросил Константин.
— Как же, Еремейка это, — спокойно подтвердил кузнец. — Брал парня на выучку, хотел, чтобы из него добрый мастер вышел. Но не пригоден оказался. Нет у него желания к нашему делу кузнецкому. Слышал, он к купцу в подручные нанялся.
— В разбое его винят, — объяснил князь.
Кузнец недоверчиво посмотрел на Константина, потом опять на парня, в задумчивости мял смоляную бороду.
— Не молчи, Дементий, — поторопил Константин.
— Непохоже, Константин Всеволодович. Парень незадачный, то верно. Простоват он для разбоя. Непохоже.
— Ладно, Дементий. Ты пока не уходи, словом перемолвиться хочу. — Князь повернулся к купцу, сказал веско: — Тебе, купец ростовский Семен Кудимов, поможем, в убытке большом не будешь. Но и ты не таи обиды на нас — много разного люду по Волге шастает. Кто знает, кто тебя грабил? Может, и пришлые, не нашего краю тати. Да и говорите вы чудно: один — чернец, другой — татары. Не оставим в беде, — повторил князь. — Эй, Данила Белозерец! — окликнул он дружинника. — Устрой его в хорошую избу, лекаря приставь. И тут же, не мешкая, отбери добрых воинов, пусть едут на берег близ соляных варниц, пусть спрашивают всех, кого встретят. А этого, — князь указал на парня, — держи в порубе, покуда купец не встанет на ноги. Купцу решать с ним по справедливости.
Константин пошел к двери, кивнув Дементию, чтобы тот следовал за ним. Сидевший на лавке и задремавший было боярин Третьяк Борисович, услышав слово «поруб», спохватился: «Опять не решил Константин Всеволодович, до какого срока будет держать в заточении боярина Юрка Лазуту». Старчески покряхтывая, поднялся и, опираясь на посох, пошел догонять князя.
А в сенях Константин коротко спрашивал Дементия:
— Всё ли ты сделал?
— Всё, Константин Всеволодович, добрый припас справил кузнечный ряд. Есть и кольчужки, и мечи, шеломы, мелочь там какая… Завтра поутру отправлюсь.
— Добро, — повеселел Константин. — Воину справный доспех — первое дело. Верю, Дементий, близится время, когда как один поднимутся русские полки, освободят землю от басурманов. Великий князь Александр Ярославич Невский не зря возами шлет в Орду серебро и злато, выкупая из плена русских людей. Копит силу великий князь до нужного часа.
— Княже, — сказал подошедший к ним Третьяк Борисович. Боярин дышал трудно, задыхался от жары и усталости. — Доколе, князь, будешь держать боярина Лазуту в порубе?
— А вот сейчас!.. — Глаза князя гневно сверкнули. — Повели, боярин-батюшка, бирючам кликнуть мое слово. Принародно суд чинить станем.
Не догадывался старый боярин, что в своей вотчине Юрок Лазута поносил князя срамными словами: «Нам-де такой князь не гож, вот-де скоро сгоним его с удела, будет у нас княгиня Ксения, жена праведная и справедливая; она уж не окружит себя худыми людишками, с боярами совет держать станет». Об этом поведал вернувшийся из лазутинской вотчины княжеский тиун. И вспыльчивый Константин решил расправиться с хулителем в открытом суде, при народе.
— Воля твоя, но… — Третьяк Борисович, взглянув на рассерженного князя, только развел руками, понял: как сказал, так будет.
5
Широкий княжеский двор был полон людей, а с улиц еще наплывали толпы. Шутка ли, князь Константин объявил, что сам будет судить боярина за лихоимство. Говорили: хоть боярин захудалый, а лютости неимоверной.
Собирались высокие гости, по случаю жары простоволосые, но в нарядных одеждах, важно выставляли холеные бороды, старались пробиться вперед, ближе к резному крыльцу княжеского терема; больше было посадского люда, обитателей ремесленных слобод: медников, кожевников, кузнецов. Те тоже старались быть ближе к терему, чтобы все видеть и слышать…
Как получилось — непонятно, только оказался Филька, приемыш кузнеца Дементия, затертым в задних рядах, — Ваську опять потерял. До слез обидно! Пришлось напрячь все силы. И все бы хорошо, вьюном проскальзывал к заветному месту, и осталось-то немного, но на беду ткнулся в спину здорового лохматого дядьки: стоит, как каменный столб, с места не сдвинешь, с боку не обойдешь.
— Куда прешь?! — сердито прикрикнул на него дядька, отпихивая локтем.
— Застил весь белый свет, — огрызнулся отрок. — Чай, тоже хочу смотреть.
Филька сам ожесточенно заработал локтями, но куда там — не та сила.
— Пропусти же! Ты уже все видел. Большой ты.
— Ан-тя! — удивился лохматый. — Не тебе ли говорят: куда прешь? Большой… А тебе лет-то сколько?
— Четырнадцать уже, — шмыгнув носом, на котором светились росяные капельки пота, поведал отрок — год прибавил, знай, мол, наших: сопли рукавом вытирать умеем.
— Так прешь-то куда? — весело повторил дядька — такой непонятливый попался. — Четырнадцать! Еще все увидишь, какие у тебя годы. За свою жизнь успеешь увидеть.
Малый догадался, что смеется над ним дядька — потешно ему. Но Фильке не до потехи, буркнул сердито:
— Вот и пру, чтобы успеть увидеть.
— Ишь ты! — сраженный таким доводом, лохматый радостно оглядел парня черными бесовскими глазами. — Чей ты такой говорун?
— Посторонись, к тятьке иду.
В толпе прислушиваются к их разговору, посмеиваются:
— Кто твой тятька? Уж не воевода ли Третьяк Борисович?
— Не, не он, — отказался отрок. — Тятька у меня кузнец Дементий.
— Так ты Дементия приемыш! — заулыбался лохматый. Сразу таким добрым стал, уступчивым. — Ну иди, иди к своему тятьке. К такому тятьке как не пойти. Видел его у крыльца.
Филька выбрался наконец из-за спин в самый первый ряд, чуть не на глаза князю Константину. Покосился направо, налево — оторопь взяла: с одной стороны — в малиновой рубахе, в портах из тонкого сукна, вправленных в мягкие сапожки, на мясистых пальцах перстни — известный всем родовитый боярин Тимофей Андреев; с другой — старик с постным лицом, с седыми прямыми волосами, блестящими, смазанными чем-то жирным, тоже в богатой одежде, борода у него закрывает тощую грудь — местный купец Петр Буйло. А рядом с ним вовсе удивительный человек: рубаха снежной белизны с кружевами на рукавах и вокруг шеи, зеленые узкие штаны до колен, серые чулки и башмаки с пряжками, пряжки ослепляют на солнцу, серебряные. Вытянутое лицо его сладко расплылось, но глаза прищуренные, хитрые — торговый гость из немецкой земли Яков Марселис.
В иное время несдобровать бы Фильке, за волосья оттаскали бы, откинули — не по чину втерся к лучшим людям. Но нынче никому не до него, все смотрят на княжье крыльцо, слушают.
Князь Константин держится рукой за раскрашенное витое перильце. Шелковая синяя рубаха с расстегнутым воротом перехвачена широким тканым поясом. Ветерок колышет рубаху на груди, и она переливается радужным огнем. Князь старается держаться строго, супит брови, но у него это плохо получается: загорелое лицо его, с еле заметной бородкой, открытое, светлое, кажется, скажи ему сейчас какую-нибудь шутку — и он расхохочется.
По-иному настроен старый боярин Третьяк Борисович— хмур и суров, к этому так просто не подступишься. Тяжелыми темными руками он тоже опирается на перильце, и думается, что оно сейчас рассыплется и рухнет вниз.
Боярин в самом деле недоволен придуманной затеей — вершить суд при толпе. «Как еще неразумен Константин Всеволодович! Прост вельми, гордости княжеской не имеет. Не строгий княжий суд — потеху людишкам устроил, И то хоть дружинников в полном облачении согласился поставить. А и того не хотел».
По обе стороны крыльца стояли воины — сверкали на солнце широкие наконечники копий, у каждого на перевязи меч в добрых ножнах, с отделкой. Невелика у князя дружина, но все молодец к молодцу, каждый — двух стоит.
Воины огораживали просторную, выложенную плоским камнем площадку. Посередке ее стоял на коленях лицом к князю сутулый, чуть не горбатый, человек. Редкие потные волосы прилипли к желтоватому черепу, отвислые щеки трясутся. Одет он был в длиннополый кафтан с узкими рукавами. Боярин Юрок Лазута.
Когда Филька пробился к крыльцу, княжеский тиун уже огласил, в чем обвиняется боярин: воспользовавшись-де тем, что владелец сельца Борушки Козьма Лазута помре, сродственник его, Лазута же Юрок, неправдою оттягал оное сельцо с кабальными мужиками у вдовы Козьмы Лазуты — Матрены.
Теперь тиун выкликал послухов-свидетелей. Побаиваясь, те выходили на площадку, кланялись поясно. Боялись не зря, бывало не раз, когда послуха объявляли доносчиком, а доносчику, как известно, первый кнут. Да и дело-то необычное: не простого мужика судят принародно — боярина.
Каждому, кого вызывали, князь Константин задавал вопрос:
— Рассказывай. Так ли было?
— Так, государь наш, так. — И опять послух делал низкий боязливый поклон, после чего старался поскорее затеряться в толпе.
Но были и посмелее, словоохотливее:
— Сродственница ему Матрена, и он ту Матрену ободрал как липку. Не токмо сельцо, а и домашнее богачество ее приглянулось, к своим рукам прибрать хотел. Он Матрену-то в порубе держал, в еде отказывал, таскал за волосья при всем народе и бил топками и пинками. Зверел аки волк.
Слушая, князь Константин сдвигал к переносице брови, недобро поглядывал на боярина. А тот тянул к нему руки, ждал сочувствия. Князь отыскал взглядом старую женщину, закутанную черным платком по самые глаза.
— Ты-то что скажешь, Матрена? Так ли было?
Женщина подалась вперед, но, словно чего испугавшись, опять застыла, только шевелила бескровными губами.
Князь нетерпеливо пристукнул кулаком по крашеному перильцу.
— Что ты молчишь? Так ли было?
— Вестимо так, государь. — Женщина затравленно посмотрела на сгорбленного боярина, потом быстро на князя. Робея, стала рассказывать: — Как мой муж Козьма помре, с того времени стал разбойничать. Хоромина моя и та стала ему нужна, справность вся… Заобыклая злоба у него, у аспида. Ждала себе смерти.
— Так что же ты молчала? Раньше зачем не жаловалась?
— Закаялась я правду искать, — тихо сказала женщина. — Худа боялась.
— Какого еще худа, кроме этого! — удивленно воскликнул князь. Непонимающе развел руками: —Не пойму тебя, боярыня.
— Боюсь, государь, худа, — дрожа телом, подтвердила свои слова Матрена. — Не стало нигде правды.
— Вот заладила! — Князь Константин досадливо поморщился. Пригляделся к притихшему народу и вдруг гневно выкрикнул: — Без понятия речешь, Матрена! Была у нас правда и будет!
Толпа качнулась, зашевелилась. Послышались крики:
— Любо, княже! Не перевелась правда! Стоит Русь на правде и стоять будет!
Князь Константин, сам того не замечая, расправил плечи, успел незаметно ткнуть в мягкий бок боярина Третьяка Борисовича: гляди, мол, старая редька, как народ откликается на добрые слова, и не говори вдругорядь, что судить принародно — один хай будет. Но боярин не поднял и головы, только охнул слабо: жесткий кулак у молодого князя.
— Была и будет, — повторил Константин. — А тебе, — наливаясь бешеным гневом, обратился он к помертвевшему боярину Лазуте, — за жадность неуемную, за лютость такой приговор будет… — Кивнул тиуну, подобострастно ловившему каждое его слово, досказал — Дать ему захудалую клячу, какая найдется, одеть в рубище и выставить на посмех честному люду на торгу. Пусть красуется! Деревеньку Матрене возвратить. — И снова метнул гневный взгляд на Лазуту, который все еще с мольбой тянул к нему руки. — Поместье твое отписываю княжескому владению. Отныне ты не боярин. Не быть тебе в довольстве.
— Ох! Ох! — только и простонал Третьяк Борисович: и откуда что берется у этого вьюноши.
А по площади прокатилось громом:
— Любо, княже! Любо!
Понравилось: молод князь, а судит по справедливости, как добрый, мудрый муж.
Но не все кричали — больше посадские, голытьба. Человек в рубахе с кружевами и со сладкой улыбкой на лице, иноземный гость Яков Марселис, что стоял неподалеку от Фильки, сказал седобородому постному купцу Петру Буйле, своему соседу:
— Какое странное наказание, не правда ли, мой названый брат Петр? Я ничего подобного еще не знал.
— Странное? — вскинулся старик, сверкая глазами, — Этак скоро с любого рубаху снимать станет. Негоже при народишке позорить боярина. Э, да что там, любезный господин Марселис…
Купец не договорил, махнул в досаде рукой. Эта рука задела Фильку по макушке. Обнаглев от справедливого княжеского решения и еще от того, что его тятька так свободно может говорить с князем Константином (Филька только что видел, как Дементий заговорил с князем, спустившимся с крыльца), — обнаглев, Филька заорал на купца:
— Размахался! Больно смелый! А видал, что с вами бывает?
Больше-то не это рассердило — совсем не больно, вскользь, попало по макушке, — слова постного купца не понравились.
Лицо белобородого стало покрываться красными пятнами; уже намеренно потянулся стукнуть отрока по загривку. Малый вовремя увернулся и не стал больше испытывать судьбу, юркнул в толпу.
— Вот оно к чему, княжеское-то шутовство, приводит, любезный Марселис, — раздраженно сказал купец. — Молодёнек наш княжич, понять не может, чью руку держать надо… Захудалый боярин Лазута, невелико у него поместье, потому и в тяжбу вступил с Матреной. Князю бы и помочь ему, а он — вишь как… Старший-то братец его Василий, царство ему небесное, умом высок был. Он такого посмешища не допустил бы, нет… Аль неправда, боярин Тимофей Андреев?
Тучный боярин с перстнями на пальцах развел руками и ничего не сказал. Хоть и вступался перед князем за Лазуту и решение княжеское неприятно удивило его, по почел за лучшее промолчать, только подумал неприязненно: «Встрянь с тобой в разговор, Петр Буйло, при случае первый же побежишь с доносом».
Филька ничего этого уже не слышал. Он прямо-таки разрывался на части: узнать хотелось, о чем говорил тятька с князем, и боялся прозевать невиданное зрелище. Ничего, потом решил он, у тятьки можно расспросить обо всем дома, а пропустить то, что будет на торгу, никак невозможно.
Княжеская челядь в это время волоком потащила бывшего боярина со двора — сажать на клячу.
6
На подворье Дементия Ширяя душно, пахнет углем и железом. Недавно опустившееся солнце, не отдохнув, уже спешит подняться; поднимается в мареве, тусклое и большое. Пыльная, безросная трава вокруг кузин жухнет, клонится к земле. Как обессилевший путник жаждет напиться, так трава ждет не дождется ливня-проливня.
Кузня стоит на высоком берегу Которосли, в опасной близости к обрыву. Весной, в половодье, берег подмывается, осыпь подползает к бревенчатым стенам, кажется, вот-вот завалится все строение, но летом зола и мусор снова наращивают его. Так каждый год.
Кузня Дементия ничем не отличается от других, раскинувшихся по Которосли: приземистая, почерневшая, крытая дерном. Внутри немудрящий горн, прилажены меха, рыльцем направленные на огонь; на толстом дубовом пне, темном от въевшейся окалины, — наковальня; у двери деревянная кадушка с водой. Инструмент кузнец держит на подставке перед небольшим оконцем, затянутым бычьим пузырем.
Нынче Дементий поднялся рано. Не для спешной работы встал — собрался в дальнюю дорогу. В полотняной длинной рубахе, обтягивающей широкую грудь и плечи, он стоит на краю обрыва. Черная борода с просединами, густые, стриженные под кружок волосы старят кузнеца, на самом деле ему еще нет сорока. Он смотрит за реку на синеющий лес: давно уже заметил над лесом пыльное облачко, оно придвигается все ближе и ближе. Вид облачка волновал Дементия, и он все с возрастающей тревогой следил за ним.
Смутно было что-то на душе, грыз душу горький осадок, а вот до причины своего такого состояния так и не доискался. Может, из-за вчерашнего разговора с кольчужником Степаном Звягой? Хотя и не обижали его в оплате, заявил Звяга, что не даст своего товара лесным людям, они-де и так укрыты, бояться им нечего. Иноземным купцам кольчуги сбывает — прибыльнее, а того не понимает, что кольчуги его могут и к врагам попасть…
Позади Дементия топтался и зевал громко, со всхлипом Филька. Светлые волосы у парня всклокочены, лицо в саже — уже успел измазаться с утра.
Просил вчера Дементия, чтобы взял в поездку, тот наотрез отказал: нельзя без никого оставлять подворье, не ровен час, заглянут лихие люди. Брать-то, конечно особо нечего, но все-таки. Филька не обиделся, сообразил не потому не хочет брать, что боится лихих людей, — везет он воинский припас, тайно изготовленный кузнецам, всей слободы. Не каждому позволено быть там, куда он едет. Недаром тихо шептались вчера с князем Константином возле крыльца.
Филька с удивлением поглядывал на тятьку: торопился ведь, а сам на реку не наглядится. Вон и запряженная в телегу лошадь, что стоит под навесом, мотает головой и тоже вроде недоумевает, почему медлит хозяин. На телеге горой навалены пустые корзины из-под угля: чтобы каждому было понятно, куда кузнец собрался. Воинский припас уложен под корзинами, на самом дне телеги, в рогожи завернут.
Пыльное облако, заворожившее Дементия, уже приблизилось к краю леса. Еще минута — и вдруг на чистое место вымахнули конники. Лисьи остроконечные шапки, долгополые халаты на всадниках, из-за спин высовываются луки. Сидят пригнувшись, высокие стремена поднимают колени чуть не к подбородку.
Дементий схватился за грудь, охнул:
— Басурмане припожаловали!
Сзади татарского отряда, чуть приотстав, смешно трясся на крупной вислозадой лошади тоже крупный всадник, в черной рясе, в низкой камилавке, — по посадке сразу видно: не воин.
— И, никак, поганец Мина с ними, — признал кузнец, вглядываясь.
Всадники подскакали по луговине к реке. Наплавной мост был не разведен. Кони с опаской ступили на колеблющийся мост, поставленный чуть наискосок течению, чтобы напор воды не сбивал бревна; вот уже передние проскакали по мосту, стали выбираться на крутой городской берег.
Отряд большой, не меньше сотни всадников. Дементий перекрестился: смутные времена, не знаешь, что будет наперед, хорошо — задержался, не попал встречь татарам, иначе могла быть беда.
Татары поскакали в Ахматову слободу, за речку Нетечу, которая лениво вьется в лугах за посадами, пока не попадает в Которосль.
Когда пронеслись по улице, оставили за собой запах кислой овчины и вонючего пота. Ой, как знаком Дементию этот едкий запах еще со дней плена! Три года с трудом выносил его, сам насквозь пропитался, даже после побега все принюхивался к себе, все чудилось…
Было о чем раздуматься кузнецу. С какой стати пришел в город большой отряд кочевников? Добро бы посол какой, но нет — отряд воинский. И монах-отступник Мина с ними. Неспроста это. Давно он не был, да и не видеть бы его: злее злого татарина тот Мина.
Он появился в городе в рясе чернеца. Вздыхал, охал: «Дань, поборы — куда деться?» А и верно тяжело: в княжескую казну — плати, дань татарам — отдай, церкви — дай. Боярам, купцам еще ничего, у них мошна тугая, а простому люду как выкручиваться? «Верно, отче, — соглашались с ним, — срок платежа подходит, на ум ничего нейдет, не знаешь, что делать». — «Помогу уж немного, — говорил Мина, — есть у меня небольшой запасец. Когда справишься, отдашь, ну, деньгу-другую накинешь при отдаче. — И совал листок с пометкой, когда и сколько брал. — Распишись да помалкивай, что тебе от сердца, по любви помог».
И брали, благодарили — выручил, отче. Кто не умел расписываться — не беда: Мина своей рукой запишет. Брали по извечной вере человека: будут же лучшие времена, возвращу с лихвой…
Мина и к Дементию приходил. Но Дементий — мастер, копить не копил, но и нужды не испытывал. Ко всему Мина свой нос совал, куда не полагается, все допытывался, что кузнец кует. Татары подозрительны: узнают, что в кузнице оружие готовится, да если еще мастер отменный, — запросто в Орду угодишь. Мечи и другой воинский припас изготовляли тайно. На виду: подковы, гвозди, замки, тележные оси — все, что нужно для мирной жизни.
От любопытства Мины рассвирепел Дементий, не очень вежливо выпроводил его из кузни. Увидел кузнец, как недобро блеснули глаза монаха, еще больше уверился в его неискренности.
Мина после этого пропал — ровно настолько, как до Орды добраться и обратно. И вдруг внезапно объявился в татарской слободе толмачом, подручным баскака. Ходил по должникам: «За тобой должок». — «Отче, не губи, потерпи немного, не справен я сейчас». Бросались в ноги, ничего не помогало. Татары выволакивали из изб должников всё, что казалось ценным, не стеснялись сдирать с женщин их головные украшения. Не оказывалось ценного — забирали парней и девок. Русские рабы на рынках Востока ценятся.
Не плач — вой шел по городу. Тогда выяснилось: за широкой, сутулой спиной Мины стоял цепкий, увертливый сборщик дани — баскак Ахмат. Его деньги Мина отдавал в рост доверчивым людям.
Игумен Спасского монастыря Афонасий, муж достойный, справедливый, резко спросил отщепенца монаха: подобает ли так поступать христианину?
— Хуже басурманина ты!
— А я и есть басурманин, — подло ответил Мина. — Променял веру христианскую на веру басурманскую и не жалею, святой отец. Ты со своей верой зовешь люд к смирению. Накатилась татарская волна, ты кричать начал: «То от грехов наших! Смиряйтесь!» Легко тебе было кричать, когда Батый сказал: «Не надо трогать русского бога». Ты-то ничем не пострадал. И отныне спроса твоего, поп Афонасий, я не приемлю. Мусульманская вера не зовет к смирению. И это мне нравится…
Горькие воспоминания мучили Дементия, накатывались тяжестью. Неспроста монах-отступник прибыл с татарами, неспроста…
Но не время рассуждать: теперь татары после долгой дороги завалятся спать. Самое время ехать.
— На торг-то не шастай, — наказал он Фильке. — И от дому не уходи. Лучше плескайся в речке. Завтра буду дома.
— Что ж, боярина на драной кляче посмотреть нельзя? — На измазанном сажей лице малого скользнула ухмылка. Но тут же пропала: не рассердился бы тятька, что-то хмур сегодня.
— Не каждый день сидит на кляче боярин, — строго сказал Дементий. — Получил позора, и хватит.
Он вывел лошадь с подворья и осторожно стал спускаться с кручи к наплавному мосту. От края моста к столбу-вертушке был натянут канат. По ночам и когда надо было пропустить ладью, канат разматывали — одним концом мост отходил от берега, давая проход судну. Возле столба стояла дощатая будка с квадратным оконцем. Из будки вылез сторож, лицо заросло, видны были нос и глаза. Никто и не помнил, когда появился здесь этот дед, без него и не представляли моста.
— Здорово, Овсеюшка, — приветливо поздоровался кузнец.
— А, поехал за углем? — отозвался тот, — Ну, с богом!
— Спасибо, Овсеюшка, — Проезжая, Дементий шутливо попенял: — Что же ты мост не развел, татар пропустил?
— Как не пропустишь, — буркнул сторож, — Стара моя голова, да пока пусть торчит на своем месте.
Дементий выбрался на противоположный, отлогий берег и направился сначала по суздальской дороге, затем свернул в сторону.
Ветки густого орешника и бузины цеплялись за корзины, норовили хлестнуть по лицу, но Дементий привычно, уверенно вел лошадь сквозь чащу. Сейчас будет еле заметная лесная дорога.
В лесу парно, воздух густо пропитан разогретой сосновой смолой, редкая птаха подавала голос, вспугнутая лопнувшим сучком под копытами лошади.
Неба над головой почти не видно — так густо сплелись ветви деревьев. Тишина… Дремотно… Постепенно дорога совсем пропала, дальше на телеге было уже не проехать.
Кузнец выпряг лошадь. Из-под корзин достал завернутым в рогожи груз — два продолговатых тюка. Тут наконечники копий, стрел, тяжелые мечи. «Лесные люди» изготовят клееные гибкие стрелы, выточат древки копий.
Стянутые широкими ремнями тюки Дементий навьючил на лошадь, пошел впереди нее, придерживая за уздечку. Телегу с корзинами он оставил в лесу.
Ошибся кузнец, будто татары наедятся и отдыхать станут. Едва за мостом заглох стук колес его телеги, а сторож моста Овсеюшка убрался в свою будку, по городу с посвистом и визгом стали носиться всадники. Стегали зазевавшихся плетьми, на разгоряченных коней из подворотен злобно лаяли собаки, пыль, поднятая копытами, застлала улицы. Татары останавливались у слободских изб, и оттуда несся плач женщин, крики детей, сдержанная ругань мужчин. Мужчины, защищая родные очаги, домочадцев, падали под ударами татарских сабель. Вскоре стало ясно: татары заглядывают в каждый двор, переписывают людей, их пожитки, — отныне они будут брать дань с каждого двора, с каждого человека, и требуют от всего и всех десятую часть.
Отряд конников мурзы Бурытая грабил лавки купцов на торговой площади.
Мурза, плотный, широколицый, с кривыми ногами в мягких сапогах без каблуков, с носками, загнутыми вверх, щурился, прикрывая узкие глаза, говорил купцам:
— Одна десятая! Кони, вещи, люди!
Но татарские воины хватали все, что попадет под руку, — где уж там считать десятую часть, — рассовывали в седельные сумы ковры, ткани, посуду. Купцы аж кровью обливались — жалко было своего товара, вздыхали, надеясь, что татары похватают только то, что на виду, не доберутся до тайников.
У каменного амбара немца Якова Марселиса вышла задержка. Купец пытался втолковать мурзе:
— Я торговый гость. Ваш правитель не обижает торговых людей. У меня охранная грамота…
То ли Бурытай не понимал, что перед ним не русич, имеющий охранную грамоту, то ли не захотел понять, воины по его знаку ринулись к тюкам шелков и парчи.
Яков Марселис не стерпел, закричал на Бурытая:
— Ты — разбойник! Хан Берке в Орде давал грамоту. В самой Золотой Орде давал!
— Ха! — оскалился мурза, цокнул языком от удовольствия, видя злую растерянность купца. — К нему, Берке, и иди. Мы слуги верховного правителя. Иди в Сарай, в Золотую Орду, жалуйся. Наш каан-император Менгу в Карокоруме. Далеко и высоко Карокорум от Золотой Орды.
Бурытай хлестнул плетью растерявшегося купца, ускакал. За ним кинулись его конники, придерживая седельные сумы с награбленным товаром.
Марселис, пылая от гнева и обиды, метнулся к местным купцам.
— Как это считать? Я получил грамоту из рук важного хана… Как это понять, Петр, мой названый брат?
Белобородый купец Петр Буйло мрачно пояснил:
— Дерутся они… Менгу — император, каан по ихнему, под ним вся империя, в числе том и Золотая Орда. Золотая Орда — это улус, княжество удельное по-нашему. Но сильное княжество. Там Бату-хан и брат его Берке. Не хотят они, чтобы Сарай, город их главный, подчинялся Карокоруму, где сидит император Менгу. А этот мурза от Менгу… Дерутся они там, а с нас, как с худой овцы, две шкуры рвут.
Марселис поплелся к своему амбару, прикидывая убытки. Из-за угла снова выскочили всадники. Подумал безнадежно: «Опять грабители, мало им…» Но это оказался молодой князь Константин со своими ближними дружинниками. Князь осадил всхрапывающего коня, наклонился к Марселису.
— Мурза был?
К всадникам подошли и другие купцы.
— Был, чтоб ему пропасть… — Говорили сбивчиво. — Доколе, князь, измываться над купцами будут? В пути грабят, на торжище тоже ухорону нет, а ведь есть законы — и наши и татарские — не трогать торговых гостей!.. Только что был мурза. Небось к Ахматовой слободе подался.
По лицу князя пробежала нервная судорога — обидно и верно говорят купцы: нет для них ухорона. Крикнул бешено:
— Данила! За мной!
Развернули коней, ускакали.
— Ох, не кончится нынешний день добром, — качали головами купцы. — Князь горяч, быть драке…
Филька честно сторожил оставленное на его попечение хозяйство и не особенно испугался, когда во двор въехали два татарина и монах Мина. Монах — рослый, крепкий, с бычьей шеей. Он тяжело слез с коня, рявкнул на Фильку:
— Где отец, сказывай?
Филька смотрел на него без особого любопытства, сказал лениво:
— А уехал тятька, ждать тебя не наказывал. За углем уехал, поди. Так я думаю. Корзины взял.
Мина больно хлестнул отрока плеткой.
— Корзины!.. Го! Говори, куда уехал?
«Растерзай меня, убей — буду я тебе говорить, жди», — подумал Филька. Вслух сказал:
— Гляди, пожалуюсь тятьке, он те голову-то оторвет вместе с камилавкой поганой.
— Ах ты! — взъярился монах. Но вдруг успокоился, даже ухмыльнулся. — И без тебя знаю, куда поехал. Пошлем вдогонку, тут будет, на аркане притащим.
Косолапо пошел в кузню. В глазах злоба.
«Неужели прознал монах, куда тятька уехал?» — Вот теперь Фильке стало боязно.
В кузне ничего интересного для себя Мина не нашел. Сказал что-то татарам на их языке. Те спрыгнули с коней и ринулись в избу. Полетели оттуда в дверь старые шубейки, дерюги, на которых спали, деревянные ведра.
Дементий с Филькой — бобыли, добра не копили, жили безбедно — и ладно.
Вдруг раздался восторженный вой: татарин, раскорячась, тащил из подклета бочонок со ставленым медом. Этого Филька уж никак не мог стерпеть.
— Лихоимцы! Последнее тащите!
Мина оттолкнул его, спросил татар: всё ли они обыскали. Те зло оскалились, залопотали по-своему — видно, ждали большей добычи в избе кузнеца.
Монах полез на свою вислозадую лошадь, указал на Фильку:
— Десятый отрок!
Филька не успел что-либо понять, как волосяной аркан захлестнул шею. Рванулся в сторону, петля сдавила горло, помутнело в глазах, Монах стегнул его плеткой, зло обронил:
— Не рвись, поганец!
— Сам поганец! — полузадушенно прохрипел Филька.
По всем улицам в Ахматову слободу конные татары тащили на арканах пленников.
Через ворота Фильку вогнали в большой двор, со всех сторон огороженный высокими бревнами, заостренными сверху. Татарин сиял аркан и сильно толкнул в спину. Отрок влетел в какую-то загородку, с размаху пробороздил носом по черной, истоптанной земле. Густо пахло конским навозом. Понял, что бросили его в загон для лошадей, Филька испуганно приподнял голову: татарские кони злые, затопчут… Но коней не было. Сидели и лежали на голой земле люди, были и женщины с малыми ребятами.
Старик с темным морщинистым лицом и сивой редкой бородкой подошел к нему, помог подняться. Отер подолом своей рубахи лицо Фильке, сказал:
— Пойдем-ка со мной, внучек.
Повел его в угол? к забору. Там лежал человек с опухшим, окровавленным лицом, в рваной рубахе. По буйным волосам Филька признал в нем лохматого дядьку, который вчера на княжеском дворе спрашивал, посмеиваясь: «Куда прешь?» — «Ох, ты! Как его… Не до смеха теперь ему».
Какая-то тетка отирала тряпицей запекшуюся кровь с лица лохматого, Увидев Фильку, которого старик усадил рядом к забору, она вздохнула сочувственно:
— Горькая твоя головушка. Как же тебя угораздило попасть сюда? Сердце у них волчье — ребенка… — Покачала головой, жалея, потом повернулась к старику. — Давай твои травы, авось полегчает.
— Сейчас, Авдотьюшка, сейчас, — заторопился старик, доставая из-за пояса портов кожаный мешочек с растертыми в порошок травами. — Вот присыпли, сразу подсохнет.
Когда боль на шее от аркана и непонятная, злая обида начали утихать, Филька спросил старика:
— Дедуня, что такое — десятый отрок!
— Эх, любый, — стал объяснять старик, — по ордынскому уставу ты стал десятым пленником. Налетели басурмане, переписывают кажный двор, людей поголовно. Берут десятую часть всего. Вот хоть ты, что с тебя взять, — мал ты, а дань плати. Нет рухляди — людей берут. Вот ты и оказался десятым отроком.
Филька понял смутно — мудрено объяснил дед, — но допытываться не стал.
— Жадность их неодолимая заставляет хватать людей, — вмешалась тетка Авдотья. — Хватают, продают купцам. Нет горше — попасть в неволю к поганым.
Только тут Филька начал осознавать весь ужас своего положения. Как подумал, что ждет его, — бросило в холодный пот: не свободным работником купца, как мечтал вчера, попадет он на чужую сторонушку — с колодкой на шее поведут его по пыльным дорогам. Никогда не видеть больше тятьки Дементия, кузни на крутом берегу Которосли. Сжалось сердце: нелегко, оказывается, расставаться с родным, привычным. Никак не укладывалось в голове, что все так будет, — все существо противилось неизбежному. Сказал упрямо — не кому-то, для себя:
— А я убегу. Вон тятька в ордынском полоне был — убёг. И я убегу.
— Верно, парень. — Лохматый дядька разлепил опухшие губы, лицо скривилось: то ли боль проняла, то ли попытался улыбнуться. — Верно загадал, рабом быть — куда уж… непривычны мы…
— Очнулся! — ахнула тетка Авдотья. — Вот и ладно.
Старик, вытирая слезящиеся глаза, пробормотал:
— Дай-то бог, дай-то бог…
И неизвестно, к чему сказаны были эти слова: Фильку ли укреплял в желании бежать, или радовался, что лохматый станет жить.
В слободе в это время поднялась какая-то суматоха: в разных местах кричали, слышался конский топот. В щели загона было видно, как десятка два конных татар повалили к распахнутым воротам. Сзади трясся на вислозадой лошади монах-переветник Мина.
Отряд поскакал к Которосли, к наплавному мосту.
Глава вторая. Лесные люди
1
Только к вечеру добрался Дементий до места. Шел таясь, хотя трудно было встретить в этой лесной глухомани человека. Самые опасные две версты — узкая тропа среди болота — удалось пройти засветло. И это его порадовало, можно было теперь немного отдохнуть.
У ручья со стылой ключевой водой он напился, присел на моховую кочку. Думал, что влечет его в лесное урочище не только дело, порученное князем, ждал: испытает радость от встречи с Евпраксией Васильковной. Боялся признаться, но куда от себя денешься, — любил тайно, безответно, никогда ничем не выдавая своих чувств. А как иначе — не юноша восторженный, и она не девица, сын у нее жених…
В сумерках с холмистой поляны увидел над лесом жидкие дымки: дышали плавильные печи-домницы. Место это — затерянное, окруженное болотами, — старались обходить. Рассказывали незнающие: это-де ядовитые болота дымят, лешие себе еду готовят. Слухи надежно оберегали лесное урочище от любопытных. И все-таки Дементий подумал: перестали осторожничать лешаки, того гляди, татар привадят.
По узкой тропе он вышел к озеру. Солнце, увеличенное до огромного шара, ушло за лес. На травянистых береговых склонах сгущался туман. Со стороны противоположного, высокого берега озера поднимались бревенчатые стены с башнями, за ними выглядывали крыши построек. Левее городища вспыхивали костры. Их пляшущий огонь высвечивал большую поляну с огромным деревянным идолом, множеством разбросанных шалашей.
Это было древнее селище. Коренные люди его поклонялись своим богам.
Спасаясь от татар, пробирался сюда народ, пополнял население. И селище постепенно превратилось в ремесленный посад: появились углежоги, добытчики болотной руды и плавильщики, копейщики и лучники. Были также охотники, бортники, промышлявшие лесным медом, землепашцы. Мало кто знал о существовании селища; ходили слухи, что есть где-то лесные люди, живут своими законами и до сих пор поклоняются идолу. Надежно охраняли «лешаков» окружающие болота.
Раз в году, в пору созревания хлебов, в селище издревле устраивался праздник. Еще накануне пробирались лесными запутанными тропами, плыли на ладьях с той стороны озера немногие званые гости; на поляне, неподалеку от идола, ставили легкие шалаши, зажигали костры.
Сейчас, когда темнота сгустилась, люди у шалашей чаще стали оборачиваться в сторону деревянного божества — с некоторой опаской и любопытством ждали начала древнего языческого обряда. Грубо отесанный лик, освещенный огнем, казался гневным, и смотреть на него было жутковато. Отверстия рта, носа и глаз чернели провалами.
Сзади идола, в полусотне шагов, стояла приземистая бревенчатая изба с узкими, как бойницы, окнами, с крепкой дубовой дверью. Толстенные бревна, из которых была сложена изба, расщелялись от давности, обросли мхом. Это было жилище языческого волхва Кичи, вход в него запрещался кому бы то ни было.
Дементий бывал здесь не раз в пору ежегодных праздников и знал, что сейчас, с наступлением темноты, волхв — его звали жрецом — готовится к исполнению обряда. Ведя в поводу лошадь, он обошел стороной шалаши — не хотел привлекать к себе внимания. Сторож у ворот, пристально оглядев его и лошадь с поклажей, поздоровался.
— Все благополучно? — спросил он.
— Спасибо, Омеля. Все удачно. Найду ли кого?
— Опоздал ты маленько, все там… — Сторож показал в сторону костров. — Иди и ты, не сумлевайся: сгружу и о коне позабочусь.
2
Кичи, ссохшийся, сгорбленный старик, давно уже потерявший счет своим годам, стоял у узкого окна, сурово наблюдал, как угасает день, выискивал в жизни природы одному ему известные тайные знаки.
Треск горящих сучьев и несмолкаемый говор, доносившийся с поляны, отвлекали его. Чаще, чем бы того хотел, он задерживал взгляд на шалаше, возле которого в окружении седобородых старцев — толкователей обрядов — сидела крупная женщина в сарафане, скупо украшенном бисерной вышивкой. Свет костра падал на ее покрытое румянами лицо.
Многие ещё помнили неугомонного и удачливого Лариона Дикуна, дружинника ярославского князя Всеволода. Спасая от лютости татарской, укрыл он жену с малолетним сыном в глухих лесах. Места благодатные, богатые озерной рыбой и зверем; сам хотел найти тут пристанище— горше горького видеть по городам и селам бесчинства басурманские. Но не судьба — сгинул безвестно: видно, настигла длинная татарская стрела или погиб от меча тевтонского.
Было это уже после великого побоища на Сити, когда пало русское войско со своими военачальниками — князьями владимирским, ярославским, ростовским. Говорили, что видели потом Лариона Дикуна в полках славного князя Александра Невского, но сам он о себе не заявлял. У костра сидела жена его Евпраксия Васильковна, женщина достойная, взятая Ларионом из обедневшего княжеского рода.
Утром Кичи, умеющий предсказывать судьбу по внутренностям воробья, указал ей на желтое пятно — знак грядущих неприятностей. Старцы не могли угадать, от кого будут исходить указанные неприятности. Евпраксия Васильковна выглядела хмуро, не празднично. Да и старцы сидели в тягостном раздумье.
Там же, у шалаша, опираясь плечом о стойку входа, скучал высокий юноша в длинной рубахе, расшитой по вороту и подолу цветными узорами и перехваченной кожаным ремешком, — Василько, сын Евпраксии Васильковны. Он следил за тем, что делается на поляне, иногда подолгу смотрел в одну точку. Кичи напряженно вглядывался, пока не понял, что занимает юношу: с толстой светлой косой, перекинутой на грудь, горделиво стояла статная девушка, юная и свежая, как утренний лесной цветок. Кичи не признал в ней жительницу посада. Это была гостья. Почувствовав непонятное беспокойство, он недовольно отвернулся. Взгляд опять упал на Василька. Высокий и гибкий в стане; ноги, обутые в мягкие, искусно выделанные сапожки, нетерпеливо переступают — скучно ему среди стариков, не может стоять на месте. Только в нынешнем году он достиг полнолетья и впервые попал на обрядовый праздник.
Кичи глубоко вздохнул, отошел от окна. В очаге слабо тлели угли. Он достал из-под лавки сплетенную из прутьев и обмазанную глиной широкую плошку, спрыснул ее водой.
Потом нагреб в плошку углей, прихватил корзину с душистыми травами, пропитанными смолой, откинул крышку в полу.
Из просторного подполья к деревянному идолу вел подземный ход. Кичи шел согнувшись, освещая путь тлеющими углями и стараясь не задевать осклизлых, заплесневелых стен.
Подземный ход кончался площадкой, достаточной для того, чтобы выпрямиться в полный рост. Прямо над головой поднимался выдолбленный изнутри дубовый ствол. Это и был сам идол. Сквозь пустые глазницы деревянного истукана исходил сумрачный свет летней ночи.
Кичи стал взбираться по приставленной внутри ствола лесенке. На самом верху, на уровне плеч идола, была сделана полка, куда жрец поставил корзину и плошку с углями. Перевел дух и прислушался. С поляны доносился все тот же негромкий говор истомленных ожиданием людей.
Жрец взял из корзины пучок травы и бросил на угли. Из плошки в отверстия глаз, носа, рта деревянного истукана стал выбиваться пахучий густой дым.
На поляне сразу наступила напряженная тишина. С благоговением и страхом люди смотрели на ожившего идола. Завывая и размахивая руками, к подножию его двинулись старцы.
Кичи еще бросил травы и стал произносить заклинания. Измененный пустотой дерева голос жреца глухо гудел.
Он обращался к великому и справедливому богу, от воли которого зависит все живое. Он просил у него снисхождения к людям. Они не забывали, что земля — их первородная матерь, и поклонялись ей. Они помнили, что вода — это глаза матери-земли, и чтили воду. Они знали, что растения — это волосы матери-земли, и берегли их, не вырывали, а только косили, подстригали ее волосы. Так будь снисходителен к ним, Великий Дающий Жизнь!
Сообразуясь со своими наблюдениями над природой, жрец старался показать стоявшим внизу людям, что почитаемое ими божество не сердится на них. В ином случае Кичи поднял бы плошку на уровень глаз идола и раздул угли. Летящие искры из провалов глаз, ноздрей и рта деревянного истукана означали бы гнев. Весь год до следующего праздника люди стали бы жить ожиданием беды.
Кичи прервал заклинания и стал слушать, как его поняли старцы. По одобрительному, возбужденному гулу, доносившемуся с поляны, он решил, что старцы — толкователи обрядов — не ошиблись и объясняют людям все, как надо. Но жрец продолжал стоять на неудобной лестнице, он ждал главного.
Наконец старческий голос у подножия идола с надеждой и тревогой спросил:
— Доволен ли ты?
На этот раз Кичи бросил на угли большую охапку смолистой травы. Дым не успевал выходить из отверстий, жрецу стало трудно дышать; он судорожно вцепился в перекладину лестницы, боясь ослабнуть и свалиться вниз.
По обильному дыму, окутавшему голову идола, по его молчанию люди на поляне поняли, что божество милостиво к ним. Бог плодородия дает надежду жить в мире и сытости.
3
Радостное возбуждение охватило людей. Ярче запылали костры, на которых варилась обильная пища. Пожилые удобнее усаживались у шалашей, готовясь пировать всю ночь, молодые уходили на край поляны, чтобы начать игры.
Василько все еще топтался у шалаша, не смея покинуть мать до того, как она сядет пировать со старцами. И она, и наголодавшиеся толкователи обрядов нетерпеливо косились на темневшее жилище жреца, ждали. А у других костров пир был в разгаре: ходили по рукам чаши с густым крепким медом, в котлах дымилось мясо.
На краю поляны молодежь затеяла играть обрядовую песню «Похороны князя». Делились на три партии, выбирали князя и княгиню. Василько с завистью смотрел на них.
Но вот возле своего жилища показался закутанный в холщовую накидку Кичи. Из темноты тут же выступил старый воин Перей, приставленный оберегать жреца, подхватил под руку. Василько, дрожа от нетерпения, воскликнул:
— Жрец ждет почестей. Я приведу жреца!
Услышав его торопливые слова, — и жрец, и воин еле передвигали ноги, — старцы встрепенулись, закивали, затрясли бородами.
— Как рыбу со дна озера, он поймал мою мысль, — не скрывая гордости, сказала Евпраксия Васильковна, — Сынок, окажи почесть волхву.
Подгоняемый желанием скорее очутиться среди сверстников, парень со всех ног бросился навстречу Кичи.
От усталости и свежего воздуха жреца пошатывало, он запинался. Василько и старый воин Перей почти на руках донесли его до шалаша, усадили на мягкую подстилку.
— Он был доволен, — сказали старцы вместо приветствия.
— Великий Дающий Жизнь милостив, — слабым голосом ответил Кичи. Он проследил взглядом за Васильком, который побежал к парням, состязавшимся в прыжках через костер, и опять почувствовал неясное ему беспокойство.
Старый Перей подал чашу Евпраксии Васильковые. Почтительно склонив голову, она передала ее жрецу. Кичи обтер губы подолом накидки, сделал маленький глоток и возвратил ей. Пир начался. Старцы с жадностью выхватывали из котла куски мяса, запивали хмельным медовым напитком.
Кичи почти не притрагивался к еде, смотрел тусклыми глазами, что делается на поляне. Его не покидало смутное беспокойство. Он опять отыскал взглядом Василька, стоявшего теперь в толпе юношей, которые изображали в обрядовой песне слуг. Жрец с неудовольствием отметил, что честь быть княгиней оказана русокосой гостье и что Василько не спускает с нее восхищенных глаз. Будущее юноши заботило Кичи, жрец хотел передать ему всю власть и мудрость общения с природой. В голове тупо ворочалось: «К чему здесь эта пришлая девушка?»
Одни девушки накрыли легкой тканью «княгиню», отвели ее в сторону и усадили. Другие девушки обряжали «князя» — ребенка лет пяти. Ему на голову надели венок из цветов, набрали в траве цепких веселых светлячков и насажали на его одежду. Эта княжеская сторона и начала игру — обратилась к юношам со словами:
Слуги вы, наши слуги, Слуги молодые! Сходите во город, Скажите княгине: Князь-ат разнемогся.Юноши выслушали княжескую сторону, поклонялись в пояс и повернулись к княгине, дружно забасили:
Княгиня ты, наша княгиня. Княгиня молодая! Поди к нам во город: Князь-ат разнемогся.Но девушки, окружившие княгиню, насмешливо пропели:
Слуги вы, наши слуги, Слуги молодые! Вам веры не имеем, К вам в город нейдем.Вся игра и была в том, что княгиня со своими девушками никак не могла поверить, будто князь разнемогся, отказывалась идти к нему в город. И вот уж слуги говорят:
Скажите княгине: Князя-то хоронить хотят.Спохватилась княгиня, всплескивает руками.
После девушки отправились на ржаное поле — «хоронить князя». Юноши шли за ними — каждый старался не выпускать из виду свою избранницу.
На краю поля князя заставили ходить по кругу. Потом мальчик собрал примятые колоски, стал раздавать девушкам. Получив свой колосок, каждая отбегала в сторону, таилась, — кто бы не подглядел, как она выбирает зерна. Если зерен окажется много, да еще четное число, — славный жених ждет девушку.
4
Девушка с любопытством разглядывала Василька. Он был красив, строен, гибок. Глаза излучали восторг.
— Пойдем, — властно позвал он.
По лицу девушки скользнула гордая усмешка.
— Куда зовет меня молодой повелитель?
Парень вспыхнул от насмешки, но упрямо сказал:
— В ночь праздника расцветает папоротник. Кто увидит его цветок, тому будет много счастья. Я покажу тебе, где растет папоротник.
Раздвигая ветви руками, он шагнул в чащу леса. Девушка, колеблясь, осторожно пошла следом. В лесу было тихо и сыро.
— В эту ночь люди купаются в лесной росе, — сказал Василько, он дождался, когда она подойдет, взял за руку. — Роса исцеляет хворых и дает силу здоровым. Так говорит Кичи.
— Это тот старик, у которого темный взгляд?
— У жреца Кичи ясный взгляд, — возразил Василько. — Мудрость чтят…
— Когда он смотрел на меня, его взгляд был темен, — сказала девушка.
В лесу развиднелось — стало много берез. Отяжелевшая от ночной сырости густая трава опутывала ноги.
На опушке, заросшей высоким папоротником, Василько остановился. На поляну опускался туман — сыро, неуютно, боязно. Девушка беспокойно оглядывалась. Она слышала таинственные шорохи, которые пугали ее; она сама жила в таком же лесу и к нему привыкла, просто все сегодня было для нее необычно. Василько ласково дотронулся рукой до ее щеки. Девушка вздрогнула и отстранилась, во взгляде было смятение.
— Я не вижу ни одного цветка, — тихо сказала она.
— Надо смотреть долго.
— Не вижу, — упрямо повторила она.
Василько удивленно спросил:
— Разве, где ты живешь, нет леса? Ты откуда?
Она зябко повела плечами.
— Я из-за озера. Там такой же лес, но этот меня почему-то пугает. Мы живем с дедушкой.
— У нас будет огонь, — успокоил Василько. — Станет веселее, и ты согреешься.
Он оглядывался, выискивая в рассеивающейся темноте сухое дерево. Потом опять взял ее за руку и повел к месту, которое показалось ему удобным для костра.
Треск сучьев впереди заставил его мгновенно насторожиться. И в то же время темная громада зверя поднялась на их пути. Встревоженный, сердитый рев медведя пронесся по опушке.
Парень шагнул к стоявшему на задних лапах зверю.
— Великий бог будет недоволен тобой! — громко крикнул он, предостерегая зверя от нападения. — Сегодня бог милостив к людям. Иди спроси, мы только оттуда.
Более грозный рев заставил Василька вздрогнуть. Он резко оттолкнул от себя девушку и выхватил из-за голенища нож.
— Зачем ты не предупредил нас раньше? Кто знал, что это твои владения? Мы нашли бы другую поляну. А теперь иди, я встречу тебя.
Зверь еще раз коротко рявкнул, повернулся и медленно затрусил прочь, хрустко ломая сучья. С каждым скачком он обиженно рыкал.
— Хозяин леса устыдился, — торжествующе сказал Василько оцепеневшей от страха девушке. Он снова провел рукой по ее холодной щеке. На этот раз она не отстранилась.
— Ты мне еще не сказала, как тебя зовут?
Она усмехнулась, приходя в себя. Этот диковатый, смелый парень ей нравился.
— Повелитель лесных зверей опомнился, — сказала она. — Почему ты не спросил об этом раньше? Тебя я знаю. А меня зовут Россавой. Дедушка зовет Росинкой.
— И я буду звать тебя Росинкой? Но откуда ты меня знаешь?
— Твоя мать Евпраксия Васильковна приходила к дедушке. Это она пригласила меня на праздник.
— Ага, — неопределенно сказал он. Он надрал бересты, у старой ели наломал нижних сухих веток. Веселый огонек, пока еще слабый, осветил их лица.
— В твоем колоске было много зерен?
— В моем колоске не было зерен. Когда я брала его, подул ветер, и они рассыпались.
Юноша с тревогой посмотрел на нее.
— Может, ты не заметила?
— Я не видела ни одного зернышка.
— Это плохая примета, — огорченно сказал Василько.
5
Голубая ночь. Крупные звезды в высоком небе. Назойливо гудят комары, да скрипит дергач в высокой траве у озера. Люди у шалашей притомились, многие спят на подстилках из еловых веток, другие негромко разговаривают. Насытившиеся старцы уронили головы на грудь, посапывают. Евпраксия Васильковна рассеянно смотрит на огонь. Рядом с ней бодрствует Кичи.
— Сын должен быть в послушании…
Женщина прислушалась, насторожилась. Но старец жует вялыми губами и ничего не объясняет.
— Ты недоволен моим сыном?
— Я видел его с девушкой. — В голосе Кичи чувствуется явная тревога. — Кто она?
Старый Перей с трудом поднял голову, уставился на жреца.
Василько ушел с гостьей из-за озера, — пояснил он. — Ладья, на которой она приплыла, быстра, как птица, легка, как ветер. Я знаю, кто она, их жилье у Гнилой протоки.
Кичи взволнованно заерзал на мягкой подстилке. Дряблые щеки его гневно дернулись.
— Кругом мор, обиды обильные… Воинство поганое рыщет, того гляди, наскочит сюда. Время ли гостей принимать. Закрыть все тропы, таиться. Всё порушат, когда придут, всё… Зачем пришел ярославский кузнец?
— Привечаем тех, кого знаем, кто нужен, — сердито сказала Евпраксия Васильковна. — И то уж скрылись, отгородились от людских горестей. Словно и не русичи.
— Ладно, кузнец… Девка зачем нужна? — не унимался Кичи.
— Внучку бортника Савелия пригласила я. Пусть побудет на празднике.
— Вот, вот, — сварливо буркнул Кичи.
Евпраксия Васильковна промолчала. Когда-то и она хотела жить тихо, покойно, когда укрылась здесь с малым дитем. Но ушли те думы вскоре — невозможно жить прячась.
— Ты смотрел мою судьбу, — переменила она разговор. — Почему не сказал, откуда будет беда?
Тусклые, мелкие глаза Кичи совсем прикрылись. Произнес тихо:
— Беда будет исходить от тебя. Так показывают тайные знаки…
— Ты мудр и много знаешь, — побледнев, сказала Евпраксия Васильковна. — Но сейчас небо замутило тебе разум.
— Небо сегодня чистое. — Кичи склонил голову, прислушался к своим словам: не говорит ли в нем раздражение.
— Кругом много звезд, — добавил он.
Кряхтя, поднялся, поманил старого воина. Когда отошли от шалаша, Перей склонил ухо к шепчущим губам старца.
— Та… девка, отроковица, пусть возвращается, откуда пришла. — Кичи вспомнил восторженный блеск глаз Василька, забеспокоился больше, торопливо договорил — Пусть не мешкая… Ты скажешь ей об этом.
— Но, господине, — растерялся старый воин, — в праздник мы привечаем всех, жданных и заблудших. Девушка из-за озера — наша гостья.
— Ты убьешь ее, если она не послушает.
Перей отшатнулся. Мертвенная бледность на морщинистом лице жреца напугала его больше, чем сами слова.
— Так надо, — закончил Кичи.
Старый воин нерешительно шагнул в темноту.
К шалашу, мягко ступая в кожаных постолах, подошел Дементий, поклонился Евпраксии Васильковне.
— Садись, Дементий, — ласково сказала она, указывая место подле себя. — Где задержался, что вижу тебя так поздно? Или лихо какое случилось в пути?
— Не хотел до времени докучать тебе, голубушка Евпраксия Васильковна, сидел у другого костра.
— Пошто обижаешь меня, Дементий? Разве ты не желанный гость? Память не изменяет мне, что ты был добрым другом моего Лариона. Мой дом — твой дом.
— Негоже так говорить, Евпраксия Васильковна. Не держу в себе ничего такого. Старцы твои смутили меня, боялся не в лад сказать.
— Знаю твою нелюбовь к старцам, сама труд великий беру на себя, сдерживаясь. Испей меду и скажи здоровье княгини Марины Олеговны. Крепка ли она?
— Крепка и светла лицом.
— Здоров ли князь Константин Всеволодович?
— Здоров, да только все дни в заботе.
— Али все с монахами книжную цифирь просматривает? В чем забота?
Добрые внимательные глаза кузнеца посуровели. Осторожно отставил пустую чашку, сказал глухо:
— Другие заботы тяготят. Молод, нетерпелив, легко ли сносить обиды. Сегодня поутру еще большой оружный отряд прибыл. Басурманин поживу ищет: богат град Ярославль торговлей и ремеслами, ой, как богат!
Бледность разлилась по щекам женщины.
— Недобрые вести сообщаешь, Дементий. Неужели снова свистеть татарским арканам?
— Дюже недобрые.
— Ты с припасом прибыл?
— Как же иначе! Оружие, чаю, сгодится всегда.
— На днях кладовые смотрела. Полны кладовые. Хороший запас… Скажи, Дементий, бронник Степан чем гневен на нас? Иль мала плата, кою даем за кольчуги? Посланный от нас вернулся ни с чем.
Что-то долго Дементий возился с костром, поправлял сучья. Евпраксия Васильковна наблюдала: лицо воротит, хмурится.
— Горько передавать такое… Сказал Степан: «Зачем лесным людям кольчуги?. Кроты — в землю прячутся, они — в чаще своей уберегутся. Воинская справа другим более надобна». — Добавил со скрытым недовольством: — И ведет торг с купцами. А кому попадет его товар — своим или ворогам, — то никому неведомо.
С озера тянуло сыростью. Прошелестела крыльями невидимая птица — ночная разбойница сова. Тихо, покойно кругом. Близится рассвет, и звезды начинают бледнеть.
— Несправедливо поступает Степан, — задумчиво сказала Евпраксия Васильковна. — Молодцы наши не изнывают от безделья, опытные воины учат их, дни проводят в хлопотах. Когда вот только боевой клич пронесется! Великий князь Александр Ярославич много осторожен, призыв его— копить силу — разумен, да и терпеть бесчинства уже невозможно. — Взглянула вдруг на Дементия пристально: — Или ты тоже думаешь, как Степан: в чаще отсиживаться станем? Что-то ты хмур сегодня?
— Я слово князю Константину дал: копить воинский припас. Да и не думаю так, голубушка Евпраксия Васильковна, иначе зачем бы я был здесь?
6
К утру появился ветер, разогнал туман и запеленал тучами небо. В рассеивающемся сумраке стали отчетливо видны деревья. Серый пепел потухшего костра залетал на одежду Василька. Вместе с ветром, гулко тревожащим ветви деревьев, девушке чудились другие шорохи. Оглянувшись, она замерла от ужаса: в нескольких, шагах стоял в мокрой одежде седобородый старец. Ничего не было страшного в его облике, больше того, заметив ее испуг, он отступил за деревья, растаял, будто его и не было. А девушка долго не могла унять дрожь. Потом она решила, что старец привиделся ей. Она опять всмотрелась в сторону и опять увидела его: старец прятался за елью. Видны были только лицо его и рука, которой он указывал в сторону озера. Затем ветви сомкнулись.
Что-то похожее вспомнилось ей… Девочка в легком сарафанчике бежит по отлогому берегу Волги. Волны ласкают босые ноги, на песке остаются узкие следы, которые тут же заполняются водой. Она бежит к избушке. Там, на пороге, стоит высокий костистый человек с буйной гривой волос. На нем полотняная рубаха, порты и свежие лапти. Он щурится от солнечного света. «Дедуня, дедуня! — кричит она и бросается ему на шею. — Что ты мне из лесу принес?» — «Поклон Росинке лесовик прислал».
Деревянная чашка по края налита медом с запахами всех цветов. «Какой из себя лесовик?» — с любопытством спрашивает она, и дед, бортник, рассказывает: «Он, Росинушка, небольшой, весь заросший — до глаз, но добрый. Озорничает, конечно, как не поозорничать. Другой раз заведет в такую чащобу, что не знаешь, как и выбраться».
Ласковая рука деда гладит ее по волосам, голос деда неторопливый:
«Их много, разных озорников. Вот в избе под печкой живет домовой, он ничего себе, справный, да уж больно обидчивый и капризный, рассердить его ничего не стоит. Хозяева, как идут жить в другую избу, зовут домового: «Батюшка домовой, пожалуйте к нам на новое поместье». Есть еще полевой, брат домового. Шла однажды полем баба и слышит голос: «Тетка, пожалей меня, я умираю». — «А кто ты сам-то будешь?» — спрашивает она. «Полевой я. Поди домой, скажи домовому, что его брат полевой умер». Тетка, еле переведя дух, прибежала, рассказывает. Вдруг окно в избе само собой распахнулось. Это домовой полетел прощаться с братом полевым». — «Страшно как, дедуня!» — «А ничего страшного, Росинушка, нету. Они вреда особого никому не делают». — «А ты лесовика видел?»— «Как не видать, видел. Я ему медка другой раз оставлю в чашке на пеньке, он и довольный».
Позже, после смерти матери, стала она с дедом жить в лесу, хотела и боялась увидать лесовика. Одно осталось в памяти: он добрый и заросший до глаз волосом.
Уж не лесовик ли показался ей? И почему он повел рукой в сторону озера? Велел уходить?
Она посмотрела на Василька. Во сне он был спокоен. Откинула светлую прядь со лба, долго вглядывалась. Первый раз она видела сверстника, и он волновал ее.
Россава уходила, мягко ступая по траве, желала и боялась пробуждения парня. Перед тем как зайти в чащу, оглянулась. Привстав на колено, Василько с тревогой наблюдал за ней. Потом резко вскрикнул, догадался, что она уходит.
— Мне пора, — сказала Россава, подавленная его испугом.
— Останься! Праздник еще только начался, — сказал он с мольбой.
— Я должна уйти, — проговорила она; дрожала не столько от утреннего холода, сколько от страха и какого-то тяжелого предчувствия.
Василько взял ее за руку, вел, оберегая от веток.
Вышли из леса и увидели озеро, серое от волн. Ветер раскачивал прибрежные деревья. Лес стонал. Громадный деревянный идол на возвышении мрачно смотрел в их сторону пустыми глазницами. На поляне догорали костры, взметывались искры с пеплом. Утомившиеся люди спали.
— Великий бог добр к нам, — успокаивая девушку, сказал Василько: он видел, что Россава с содроганием смотрит на страшного истукана. — Великий бог не будет обижать гостью. Он знает, как я люблю ее. Он станет охранять нас.
Девушка с сомнением покачала головой.
— Прощай, — твердо сказала она. — Лесной призрак указал мне путь. Он не хотел меня пугать, но он сказал: вернись домой, так будет лучше.
Василько с недоумением смотрел на нее, не понимал, о чем она говорит.
— Праздник еще только начался! — снова сказал он. — Сегодня будет состязание в стрельбе из лука. Я выиграю, вот увидишь. Зачем тебе уезжать домой? Смотри, озеро не хочет, чтобы ты возвращалась. Волны говорят: останься. Пойдем к моей матери. Она тоже будет любить тебя.
— Темные или добрые силы не хотят, чтобы я осталась здесь. — Не оглядываясь, Россава побежала к озеру.
— Останься! — в отчаянии крикнул Василько.
Девушка уже сталкивала лодку. И в тот миг, когда лодка закачалась на воде, он прыгнул в нее. На лице Россавы отразилось смятение.
— Поеду с тобой, — сказал Василько.
…Слезящиеся тусклые глаза старика заметили лодку, когда она была в нескольких саженях от берега. Пронзительный, гортанный крик языческого жреца всполошил поляну. Люди вскакивали, оглядывались: «Что? Где? Какая беда?»
Из шалаша вышла Евпраксия Васильковна. С удивлением оглядела сгорбленную фигуру старца, стоявшего неподвижно возле своего жилища.
— Волхва Кичи посещают дурные сны, — недовольно сказала она.
Кичи неотрывно смотрел на мелькавшую в волнах темную точку. Евпраксия Васильковна проследила за его взглядом.
— Гостья из-за озера похитила у тебя сына, — сказал жрец. — Пошли рыбаков вернуть лодку и накажи гостью.
— Только-то, — улыбнулась Евпраксия Васильковна. — Пока неизвестно, кто кого похитил. Сын вернется.
Но Василько не вернулся ни в этот день, ни на следующий.
Озеро было темным от дымящихся волн. Вдали оно сливалось с низким свинцовым небом. Временами проносился шквальный ветер, глухо ворчал гром. Потом начался резкий косой дождь. Тучи неслись друг на друга, смешивались. Яростно сверкали молнии, их изломанные косыми углами стрелы ослепляли, казалось, что вот какая-то из них поразит суденышко.
Лодка трудно подчинялась веслам, ее все больше сносило к болотистому берегу. Мешал ветер, стало заметно сильное течение. Василько с беспокойством оглядывался: на болоте были только зеленые мхи, ни одного деревца.
— Там Гнилая протока, — встревоженно сказала девушка. — Вода уходит в землю. Нас затащит под берег.
Он и сам понимал, что, если не вырваться из стремнины, лодку затащит — и тогда гибель. А лодка скрипела, стонали весла, крупный пот, смешанный с дождевой водой, катился со лба юноши, жилы на руках вздулись. Вдруг Россава приподнялась, приложила ладони к губам, — пронзительный крик разнесся над водой. Она напряженно вглядывалась в берег левее протоки. Еще раз тонко и протяжно подала сигнал. Седобородый костлявый старик вывернулся из-за деревьев, увидел суденышко. На какое-то мгновенье он скрылся, потом появился уже с длинным шестом; опираясь на него, споро побежал к берегу.
С неимоверным трудом Василько все же отвернул лодку от Гнилой протоки, течение заметно стало тише, оглянувшись, чтобы посмотреть, к какому месту приткнуть лодку, он застыл в изумлении: на холмистом берегу, совсем рядом, сдерживая мятущихся коней, крутились всадники в лохматых остроконечных шапках, в длинных одеждах. Грузный человек в черной рясе что-то истошно кричал, показывая в сторону старика с шестом.
— Росинка, что это? Кто они? — Василько никогда не видел татар, кроме любопытства, ничего не испытывал.
С берега змеей метнулась тонкая волосяная веревка, захлестнула плечи. От резкого рывка юношу едва не выкинуло из лодки. Старик с шестом, выкрикивая проклятья, бежал к ним. Несколько стрел полетело в его сторону, и ему пришлось укрываться за деревьями.
Два всадника, не стерпев, поскакали к старику, но кони тут же провалились и скрылись вместе с людьми в трясине.
Глава третья. Замятня
1
Взволнованный Дементий стоял у порога, спрашивал соседа:
— Степан, что здесь произошло? Не ведаешь ли, где мой Филька?
— Ты?.. Вернулся?..
От Дементия не укрылся испуг в глазах Степана. Сидел он за столом, ел ржаной пирог с рыбой, запивал из ковша брагой. Праздник себе устроил сосед: на плечах новая рубаха с подпояской — в такой в кузню не пойдешь; лицо распаренное, волосы еще влажные — вроде бы неурочное время выбрал для бани. Напротив, раскинув костлявые локти, сидел за столом Филькин сверстник — Васька, — тоже с отцом ходил в баню. Парень ерзал, хотел что-то сказать, но суровый взгляд отца удерживал. И это отметил Дементий.
— Чему ты удивляешься — «вернулся»? — Дементий продолжал стоять у порога: сосед не пригласил пройти, присесть. — Или слух какой был?
— Спрашиваешь… Я чаю, не было тебя, если не знаешь, что тут произошло. — Степан постепенно приходил в себя, говорил ровным голосом, только босые ноги беспокойно передвигались под столом.
— Верно, не было меня.
Дементий только что вернулся. Дождь, оказывается, и в городе был знатный: всюду лужи, омытые от пыли деревья весело зеленели, даже прокопченные избы казались свежее. Но удивило кузнеца: раньше в разгар дня на улицах сновал народ, звонко перестукивали молотки в кузнях. Сейчас слободка как притаилась. Почувствовав неладное, кузнец заспешил на свое подворье. Все порушено, все перевернуто. Позвал Фильку, хотя и понимал: будь он здесь, давно бы на грохот колес выбежал. Спустился в подклет (там тоже черт ногу сломит), заглянул в кузню. Парня нигде не было. Вот и пришел к соседу, спрашивал. Испуг в глазах Степана насторожил: «С чего бы это он? Плохое случилось с парнишкой, боится напрямик сказать?» Взгляд у соседа увертливый, будто вину за собой знает. Непонятный, темный человек Степан: со своими посадскими дружбу не водит, к купцам ластится, любому кольчужку сделанную сбудет — давали бы злато.
Дементий холодно переспросил:
— Так что же тут было? В избе все перевернуто, мальчишки нет…
— Увели его ордынцы за твои долги. Так сказали… Ищи в Ахматовой слободе. Многих должников увели туда, а кто противился — на месте порубали. Не приведи господь, что тут было…
— Какие долги? — Кузнец не мог прийти в себя от изумления. — Не бывал я в долгах: ни у князя, ни у церкви, тем более у татар, знаю, как они долги взыскивают.
— Меня не касаемо, — равнодушно отозвался Степан, — был ты в долгу или не был.
— Но хоть Филька-то мой жив?
— Будто жив. Васька вон видел: вели твоего приемыша на веревке. Монах Мина был с ордынцами-численниками. Ищи монаха.
Упоминание о себе Васька принял за разрешение говорить. Да и то: почти все происходило на его глазах, а отец сурово зыркает, не дает словечка вставить. Зачастил бойко:
— Он, как узнал от тятьки, что ты к лешакам подался, сразу бросился к тебе в избу…
— Болтай, негодник! — Степан хлобыстнул сына по лбу громоздким деревянным ковшом. Васька взревел, кинулся из-за стола и мимо Дементия — на улицу. Оттуда послышалось визгливое:
— Заповадился драться! У-у!..
— Очумел он, не слушай, — успокаиваясь, сказал Степан. — Монах и сам знал, куда ты поехал, переспрашивал только — правда это аль нет? Так сказал я ему: мне то неведомо, и дорогу к лесным людям я не знаю.
Неизменившимся голосом, подавляя нахлынувшую ярость, Дементий сказал:
— Будь так, сосед. Живи с миром. Спасибо, хоть указал, где искать парня.
2
Ахматовой слободой местное население называло укрепленный острог, где жили татарские сборщики дани. Назвали ее по имени главного сборщика Ахмата, который и строил слободу. Находилась она сразу за городскими посадами. Непролазный тын из толстых бревен, врытых в землю и заостренных, огораживал ее. При нужде в такой крепости и осаду можно выдержать. Но кто мог угрожать слободе — к ней и подходить-то. близко боялись. Потому только со стороны города в воротах стоял караульный, и то не всегда. А с восхода солнца, с другой стороны, тоже были ворота, назывались они конюшенными. Отсюда выгоняли лошадей на луговое пастбище, обильное высокой мягкой травой. Пастбище и определило выбор места для строительства острога, не хотел Ахмат сидеть в душном городе посреди кривых улочек. Внутри слободы в углу был устроен загон — к бревенчатому тыну приладили две стены из плотно уложенных жердей, сажени полторы высотой. Летом лошади под присмотром пастухов всю ночь паслись на лугу. В пустой сейчас этот загон посадили полоняников.
…Дементий постучал в запертые ворота. Почти сразу вышел караульный с коротким копьем — молодой, безусый. Жизнь, видно, еще ничем не омрачала его — что-то беззаботно мурлыкал про себя. Дементий, научившийся в неволе чужому языку, объяснил, что ищет сына. Караульный залоснился широким желтым лицом, продолговатые щелки глаз совсем прикрылись.
— Откуда по-нашему знаешь? В Орде бывал?
— Бывал, чтоб ей пусто было.
Ждал: рассердится, но караульный будто пуще обрадовался, скулы стали заметнее.
— Сидит твой Филька. Наверно, сидит. Сам хочешь сесть?
— Ты зубы-то не скаль, — обозлился кузнец. И опять, как и раньше, пришло на ум: «Как они в такую жару ходят в лисьей шапке, волосы, поди, повылезли». — Вызови нечестивого Мину.
— Ай, хорошо нет! — Караульный укоризненно покачал головой. — Сердитый, бачка. Вызову. Бакшиш давай.
— Попался бы ты мне в другом месте, дал бы тебе «бакшиш», — пробормотал кузнец. Но ругаться с караульным не было никакого резона, сказал уступчиво:
— Нету у меня ничего, всё ваши пограбили. Выручу сына— найду тебе бакшиш, за мной не станет. Кликни монаха.
— Нельзя. Мурза Бурытай совет с Миной держит. Послом к Косте-князю пойдет Мина. Нельзя вызывать.
Заметив невольное движение Дементия, резко наклонил копье, с угрожающим видом разглядывал стоявшего перед ним крупного, бородатого человека. Но, видно, что-то шевельнулось в сердце, согласился:
— Ладно так, зову Мину. — О бакшише снова заикнуться поостерегся.
Караульный гортанно крикнул. На зов вышел страшного вида воин: багровый шрам пролег по его щеке, перекосил рот, исковерканное лицо казалось свирепым. «Если молодой так долго ломался, с этим чертом вообще не столкуешься», — безнадежно подумал Дементий.
— Что кричишь, Улейбой? — спросил воин у караульного.
«Ишь ты, — враждебно подумал Дементий, — какое светлое имечко досталось супостату: Улейбой — Ясные Очи по-русскому».
Кузнец опередил караульного, сказал:
— Пусть выйдет монах, говорить с ним буду.
Воин согласно кивнул и скрылся в воротах.
«Пойми их, — удивился Дементий. — С виду свиреп, а вон как обернулось». Спросил караульного:
— Значит, Улейбой — Ясные Очи? Красивые имена придумывают у вас. Почему тебя так назвали?
В узких коричневых глазах караульного мелькнул веселый огонь.
— Родился — луна в глаза смотрит, звезды, как белые жуки, светят. Все видно в глазах. Ночью родился. Понимаешь?
— Вона как, — усмехнулся кузнец. — А русских много загубил? Вы ведь нас неверными собаками считаете. Не так ли, Ясные Очи?
Губы караульного сжались, взгляд помрачнел.
— Зачем говоришь плохие слова? Табуны у мурзы пас — спасибо, в поход взял — спасибо, в карауле стою — спасибо. Что еще? Больше ничего.
«Кажется, зря обидел парня, — пожалел Дементий. — В Орде беднякам тоже не сладко. Будто сам не видел!»
— Ты, Улейбой, не сердись, — сказал как можно мягче. — Не знал, что ты у мурзы в пастухах. А то известно, что у пастухов своих табунов нету. Коня и воинский доспех, чай, тоже мурза взаймы дал?
— Дал, — коротко буркнул караульный, повернувшись к воротам, за которыми слышались тяжелые, шаркающие шаги, — Вот Мина, говори, — недовольно добавил он, увидев в воротах монаха.
Мина, сутуло шагавший до этого со смиренно сцепленными руками на животе, завидя кузнеца, разом вскинул голову, распрямил покатые плечи, грозен — не подступись. Да и в самом деле могутный мужик: росту хорошего, плотен, ему ли было поститься и говеть по монастырям? На звероподобном, заросшем волосом лице одна надменность. Спросил, как пролаял:
— Зачем пожаловал?
«Вон как, поганец, осмелел за татарскими спинами».
— Соседи сказали, ты был в моем доме. За какие долги полонил парня?
— Забыл? — взъярился монах. — Пришел к тебе — шатаешься. Сынка твоего взял на откуп. Внесешь с лихвой — бери своего парня.
— Ты что городишь? Какие долги выдумал? — Дементий с трудом удерживал себя, чтобы не наброситься на ненавистника. — Не гневи, освободи мальчишку. — Помедлив, закончил с яростью: — Худо будет тебе, Мина, подумай, ты меня знаешь!
— Не грози, — издевательски сказал Мина. — Не грози, кузнец. Одно мое слово — сам будешь в полону. А то — что и хуже… Ты где был? Куда ездил? А? Я не только в твою избу заходил, я и в погоне за тобой был! Распутал я твои следы. Не удалось тебя догнать, ну что ж. Парня и девку на озере взяли. Попытаем немного парня и девку — узнаем, кому ты мечи переправляешь, с кем замятню готовишь.
По мере того как говорил Мина, темная горячая пелена застилала глаза Дементию. Что часть сделанного оружия переправляется в лесное урочище, слободские кузнецы знали, но переправлял и привозил взамен выплавленное железо только он, старшина ряда Дементий. Как могли без проводника выследить его? Бронник Степан подсказал Мине, куда он поехал, но где ему знать лесные тропы, да и, как выяснилось, Степан не отлучался из дома, в. поимке не участвовал. Мало вероятно, что татары нашли лесное поселение. Схватили кого-то из тех, кто возвращался с праздника?
Все эти вопросы терзали Дементия, и он не находил на них ответа. Сказал с трудом Мине:
— О чем ты говоришь, не ведаю. А парня отпусти, добром прошу.
Будь Мина внимательнее, понял бы, отчего так переменился в лице всегда такой сдержанный кузнец. Но он в торжестве своем заметил только, что кузнец глубоко потрясен потерей сына. Мина вдоволь насладился унижением человека: пришел, просит, скрывает свою просьбу угрозами, но Мина знает цену этим угрозам, — вон за ним целая слобода, более сотни вооруженных конников, попробуй угрози ему. Но знал еще монах, что люди, доведенные до отчаяния, способны на безрассудные поступки. Настороженно приглядываясь к кузнецу, отметил: «Ну, бешеный, такой ударом кулака свалит замертво; караульный с копьем не успеет и пошевельнуться». Потому почел за лучшее не дразнить дальше кузнеца.
— Отпустить твоего сына не могу, не в моей власти. Да и был я в твоей избе как переводчик, и гнался за тобой, потому как caм приневолен. Проси мурзу Бурытая. Его пленник.
«Вольно тебе было приневоливаться, — размышлял о Мине кузнец, возвращаясь из Ахматовой слободы, — к мурзе его не пустили. Выругался; — Пес! Ненасытный пес! Предательством счастья себе ищет». — И понимал, что ругается от бессилия, что не знает, на что решиться. Если подняться всем городским посадам, возможно ли… И подумать страшно пойти на татар.
На своем подворье увидел бортника Савелия. Старик был измучен — стежками через болотца пробежал все длинные версты до Ярославля. Дементий не сразу и узнал его: лицом черен, глаза запавшие; Савелий сидел на чурбачке возле избы, уронив на грудь дремучую бороду У его ног лежала большая рыжая собака; зарычала на кузнеца, шерсть на загривке вздыбилась.
— Молчи, Полкан! — прикрикнул старик, заметив подходившего Дементия.
Рассказывая, Савелий торопился, не стыдился слез: внучку Россаву и сына Евпраксии Васильковны ордынцы захватили в полон. С Полканом бежали по следу и вот пришли; не иначе запрятали пленников в Ахматову слободу.
— Лучше бы самому сгинуть, — горько заключил Савелий.
Выходит, не соврал Мина, что захватили в лесу парня и девку. Только не предполагал Дементий, что ими окажутся красавица внучка Савелия и сын Евпраксии Васильковны. «Это что же, татары прошли до селения, разграбили его?» Холодом обдало спину Дементия, на ослабевших ногах опустился на корточки рядом со стариком.
— Возле моего жилья было, — снова стал говорить Савелий. — Буря нагрянула, не услышал я внучкин зов, а уж когда спохватился, было поздно — они, как черти, вертелись на конях у озера. Попытался, неумелый, заманивать их к Гнилой протоке — двое только и потопли, остальных шайтан ихний упас…
Дементию стало легче: жилье Савелия у Гнилой протоки, не там, где урочище, — на другом берегу. Но все же спросил:
— Так дошли они до селения, заметили?
— Нет, бог сберег — не прознали. Берегом им было не пройти, все бы в болото провалились. Да и заметались они, когда на их глазах двое в трясину ухнули.
Савелий с надеждой смотрел на кузнеца, надеялся на его помощь. Но чем мог утешить Дементий старика, когда сам очутился в такой же беде?
— Нет у нас с тобой сил вызволить пленников. Остается одно: идти к молодому князю, его защиты просить.
3
Филька жался к старику, узнал — зовут дедушкой Микитой. Дивился, приглядываясь к нему: говорили — в Орду тащат молодых да здоровых, а дедушка Микита высохший, как завялый стручок, и лицо — что печеное яблоко, коричневое, в глубоких частых морщинах, на голове вместо волос легкий пушок, борода и та повылезла. Куда такого в Орду? Слышал, ой как далеко до нее!.. Полгода пешим идти надо. Спросил, не в силах превозмочь любопытства:
— Дедуня, тебя-то зачем сюда?
— Я, родимый, один как перст, корысть с меня невелика, а вот взяли. Узнали, нечистые духи. — знахарь я, врачеватель, а по-ихнему, значит, колдун. Травы знаю от всех недугов. Посмотри-ка… — Дед загнул подол рубахи и показал сумку — висела на тесемке через плечо; в сумке берестяные туески, мешочки. — От каждой хвори травка своя.
Сподобит господь бог быть вместе — обучу тебя знахарству. Нет приятнее добра — помогать хворым и сирым.
«Нет уж, — решил Филька, — сказал сбегу — и сбегу». Но хвалиться раньше времени — беду накличешь, ничего из задуманного не исполнится. Потому промолчал, привалился спиной к бревенчатой стене. От нагретых солнцем бревен спине было горячо, воздух от земли, смешанной с канским навозом, стоял густой, свербило в носу.
Решив, что бежать надо не мешкая, может даже нынешней ночью, а не ждать, когда тебя поведут в Орду с веревкой на шее или с деревянной колодкой, Филька начал обследовать загон. Наружные стены были очень высоки; пожалуй, если приставить две длинные жердины, по ним можно вскарабкаться до верха и там спрыгнуть. Высоковато прыгать, ну да, коль нужда заставит, чего не сделаешь.
Он пробрался к внутренней загородке; жерди были уложены одна на другую меж столбов и перевиты ивовыми прутьями. Вытаскивать придется верхние жердины; добраться до них можно, есть за что зацепиться. А вот как снять, чтобы не услышали сторожевые?.. Филька нашел щель и стал смотреть, что делается на татарском дворе.
По всему двору были расставлены юрты — войлок серый, истрепанный ветром и солнцем. Штук двадцать юрт, и только в середине одна отличается от всех — белая, нарядная, с красными причудливыми узорами по верху. «Ихний хан тут живет», — догадался Филька.
Вдруг замер от напряжения, кровь бросилась к голове; увидел своего обидчика монаха Мину.
Мина подошел к белой юрте и нырнул в откинутый полог— никто его не остановил.
«Ничего, — мстительно шептал Филька, думая о Мине, — вот тятька вернется, он тебя заставит на карачках ползать».
Когда Филька подсел снова к деду Миките, лохматый дядька, лежавший тут же, пошевелился, спросил его:
— Что ты там углядел?
Лицо его, в кровоподтеках все, было страшно, но приоткрытые щелки глаз блестели внимательно и даже весело. «Не унывает человек, хотя и избитый».
— Не узнаешь, друже, — смотришь, как на пугало огородное? — спросил он замешкавшегося Фильку. — Трудно узнать мастера Екимку Дробыша, помяли его крепко.
Лохматый с помощью дедушки Микиты сел, прислонился к стене.
— Это они меня, когда скрутили. А до того и я по их рожам погулял.
— Как же они тебя, сердешный, не убили? — сочувственно спросил дед Микита.
— Посчитали, что такая радость от них еще не уйдет, — беззаботно ответил Еким. — Так что ты там углядел? — снова спросил Фильку.
— Дяденька, — зашептал парень, — смотри, какие длинные жерди уложены в загородку. Если выдернуть две, можно приставить к бревнам и вылезти. Только жерди связаны прутьями, тяжело будет взять их.
Мастер долго смотрел на верх загородки, покосился на бревенчатую стену; так же тихо сказал:
— В темноте угомонится орда, тогда посмотрим… Как это тебя тятька Дементий не отстоял?
— Не было его… — Филька отвернулся, чтобы не увидели выступивших слез. — А то бы отстоял.
— Знамо дело, — согласился Еким. — Потерпи до темки.
Медленно, нудно надвигались летние сумерки. Солнце село, а белесая мгла еще долго не отступала перед ночью. Было нестерпимо душно. По ту сторону стены ходили кони, слышно было, как похрустывали травой. Когда стали проглядываться первые звезды, в ворота загородки вошли караульные. Их было трое. Они пристально и недружелюбно разглядывали сморенных дневным зноем, забывшихся в тяжелом сне-дурмане пленников, будто решали: не опутать ли всех одной цепью и тоже идти спать.
— Не так-то они просты, — разочарованно сказал Еким. — Стерегутся, аспиды. — Он помахал рукой, стараясь привлечь внимание караульных. — Эй, тонкоглазые! Воды принесли бы! Напиться.
Караульные посмотрели на него, но ничего не изменилось в их лицах.
— Воды дали бы! — повторил Еким, показывая на рот.
Один из караульных, очевидно старший, сказал что-то своим товарищам и ушел. Оставшиеся двое — пожилой, с редкими, скобкой, усами, косичками, перекинутыми за уши, и молодой — ни усов, ни бороды у него не было — постелили войлочную кошму, уселись на нее. Потом пожилой достал кости, стали играть.
— Даже ухом не повели, обормоты, — проворчал Еким. — Для них пленники хуже скота.
Но он ошибся: в загон вошли два обросших, в затрепанных рубахах человека — не иначе рабы, — принесли широкое деревянное ведро с водой, с ковшом. Пожилой караульный указал им, чтобы они выставили ведро на середину загона. Вошедшие сделали, как он сказал, и ушли.
Вода была теплая и затхлая.
— Вот черти, сидят у реки, а лопают дрянь, — напившись, выругался Еким. — Привыкли в степи пить из мутных луж.
Караульные, не обращая внимания на пленников, подходивших к ведру, продолжали играть. Филька принес напиться дедушке Миките, который, кажется, так ослабел, что не мог подняться. «Не всю же ночь караульные будут играть, и им спать захочется. Тогда навалиться на обоих. Или лучше — вон копья прислонили к стене, — подкрасться и заколоть». Филька, что подумал, то и сказал Екиму.
— Нет, друже, это не выход, — возразил тот. — Мы-то, может, и убежим, а за тех двоих они всех остальных перережут. Дорого обойдется наша свобода.
К утру потянуло свежим ветром, загрохотал гром, пока еще отдаленный. Яркие вспышки распарывали небо. Надвигалась гроза.
Ливень хлынул резкий, обильный. Проснувшийся дед Микита крестился, бормотал удовлетворенно:
— Хлебушку на радость! Дай-то бог, дождался-таки хлебушек водицы. — Дед потряс Фильку, посоветовал: — Сними рубаху, холодно будет потом в мокром-то. Сомни ее под живот, сухая останется.
Караульные накрылись кошмой. Из-под нее посверкивали их настороженные глаза.
4
После грозы небо снова очистилось, заголубело. Взошло солнце, одарив все вокруг теплым светом. Но нерадостным было наступившее утро для пленников, ничего оно не изменило в их горькой судьбе; оставалось только гадать — долго ли им быть в вонючем загоне? Когда погонят на злую чужбину?
С восходом солнца караульные ушли, и опять томительно потянулось время.
Ближе к полдню в лагере началось оживление — вернулся отряд конников, уехавший накануне. И вернулся с новыми пленными.
Дюжие воины после короткой глухой возни втолкнули в загон юношу и девушку. Юноша придерживал девушку, иначе бы она упала, казалось, она была без сознания; на бледном нежном лице ее были видны свежие царапины; светлая золотистая коса бессильно повисла на груди. Придерживая девушку, юноша озирался, готовый броситься на любого, кто посмеет приблизиться к ним.
— Какую красу загубили! — ахнула тетка Авдотья, — Ну, ну, не сверкай глазами! Не обижу суженую твою, — сказала она, подходя к ним и обнимая девушку, — Чего стоять-то тут, пойдемте в тенек, все ей будет легче.
Она решительно увлекла их на сухое место у стены, посадила девушку; юноша оцепенело опустился рядом.
— Испужался, родимый, — сочувственно вздохнула тетка Авдотья. — Беда-то какая! Но и то ладно — жив. Стоял-то за нее, по всему видать, крепко: вся рубаха располосована. Сходи-ка к ведру, водица там, кажется, еще осталась.
Филька зачарованно смотрел на юношу: вышитая шелком по воротнику и подолу рубаха, порванная на плечах, открывала мускулистое загорелое тело. Юноша казался гибким и сильным; у него были длинные волнистые волосы цвета спелого льна; обут он был в сапожки мягкой кожи, разрисованные узорами (как только татары не сняли такие красивые сапожки!)
Между тем тетка Авдотья, напоив девушку и расспросив ее, подошла к дедушке Миките, озабоченно стала шептаться с ним. Дед вроде не понимал, что от него требуется, грустно покачал головой.
— Откуда они будут? — спросил Еким. — Обличьем какие-то особенные. Словно бы издалека, не нашего краю.
— Голубка-то с дедушкой давно уж в лесу живут. Россавой, или Росинкой, звать ее, — откликнулась тетка Авдотья. — А тот ее дружок. Не поняла я, чудно больно: будто бы из слободы он какой-то лесной, что у озера. Баба там правит, так вот он сынок той правительницы, вроде княжича. И имечко у него княжеское — Василько. Татары все крутились у озера, пес знает, что искали, а наткнулись на них. — Тетка Авдотья повернулась к деду Миките, спросила сердито: — Придумал ли что, старый пень? Ведь избезобразят девку, надругаются — совесть нас замучит.
— Попробовать можно, — скромно ответил дед Микита. — Что не попробовать.
Он покорно пошел к девушке вслед за теткой Авдотьей. Еким сумрачно взглянул на Фильку.
Тятьки-то дома не было — в лес уехал?
— В лес. Нагрузил воз пустых корзин и… — Филька замялся.
— И еще что-то?
— И еще.
— Так я и подумал. Лесную слободу ордынцы искали, пустил их кто-то по следу твоего тятьки. Теперь они из него все жилы вытянут, станут добиваться…
— Из кого… жилы? — похолодел Филька.
— Да из парня из этого, из Василька. Знаю я, где живет дедушка Росинки, знаком с ним. И о правительнице Евпраксии Васильковне слышать приходилось. Их слобода на другой стороне озера, туда добраться надумаешься. Куда им найти, ордынцам! А слышать о ней слышали. Будут у парня дознаваться, где потайные тропы. Беды не оберешься…
Еким что-то придумывал, потом решительно направился к тому месту, где дед Микита и Авдотья склонились над девушкой. Дед Микита какой-то грязноватой мазью натирал девушке руки, шею; на нежной коже оставались темные пятна. Василько с тревогой наблюдал за стариком.
— Здоров будь! — приветствовал Еким юношу.
— Великий бог милостив! — отозвался Василько.
Лохматый Еким хмыкнул — удивился ответу на приветствие.
— Знаешь, куда ты попал?
— Теперь знаю, — сказал юноша. — Я ведь первый раз вижу татар…
— Далеко же вы упрятались, коли первый раз видишь. — Еким сердито и в то же время с любопытством присматривался к парню. — Только может оказаться: далекое станет близким. Не допытывались у тебя ордынцы, как пробраться в урочище?
— Нет, — растерянно ответил Василько. — И зачем?
— То-то и оно — зачем? Разграбят ваши жилища, если доберутся до них, людей переловят, сделают рабами. Под пыткой заставят тебя указать тропы.
Василько чуть помедлил, красивое лицо его оставалось спокойным. Вдруг он вытянул из-за голенища сапога широкий нож, показал Екиму.
— У меня есть чем защищаться.
Еким с грустью смотрел на него; защищаться-то он будет, в том никакого сомнения нету, парень не из робких, но больно было представить, что сильный, ловкий юноша бесславно погибнет от ордынской сабли. Это он, Еким, защищая свой дом, мог безоглядно броситься на обидчиков, — пожил на свете, повидал всего, а у этого жизнь только в самом начале.
— Нет, не то, — поморщился мастер, отбрасывая саму мысль такой защиты. — Надо что-то придумать, что говорить тебе, как обвести татарских допросчиков. Околесину какую-нибудь нести надо поначалу. А там видно будет.
Василько с недоумением уставился на него.
— Какую околесину?
Он с тревогой перевел взгляд на Росинку, которая с помощью деда Микиты и тетки Авдотьи медленно приходила в себя.
— Ее тоже будут пытать? — спросил угрюмо.
— Едва ли, — ответил Еким. — Ей-то можно говорить все, как есть. Пусть и говорит, что живет с дедом в лесу у озера. И больше ничего не знает. Не будут, — повторил он, успокаивая Василька. — Да дед Микита, чаю, не зря старался. А вот что тебе отвечать, давай подумаем.
5
В загородку вошли давешние ночные караульщики — пожилой, морщинистый, с косичками за ушами (монгол), и молодой, безусый, веселый Улейбой. Караульные оглядели зашевелившихся с их приходом пленников.
Пожилой монгол, не видя ту, за кем пришел, нетерпеливо крикнул:
— Девка! Девка давай! К Бурытаю в юрту давай.
— Пронеси, господи! — перекрестилась тетка Авдотья.
Караульные заметили Росинку, которая беспомощно жалась к Авдотье; нежные щеки ее были бледны, казалось, она вот-вот снова лишится чувств.
Воины приближались, испытующе приглядывались к девушке. Первым заметил неладное пожилой: споткнулся, глаза пугливо расширились.
— Куда! Куда! — замахала на них тетка Авдотья. — Аль не видите?
Как вкопанный, остановился и молодой, замер от ужаса. Монгол свистяще спросил женщину:
— Черная смерть, а?
Ответа не требовалось — увидел скорбно поджатый рот Авдотьи, понял, что не обманулся: к полонянке пристала черная смерть — чума, вон вся изошла пятнами. «Ай, шайтан!» — пробормотал он посиневшими от страха губами.
Воин круто рванулся назад к выходу. Молодой поспешил за ним. За стеной загородки послышались их всполошенные крики.
— Кажется, и ладно, — зашептала Авдотья, подбадривая Россаву. — Ты, голубка, не пужайся, авось обойдется.
— Страшно мне, тетенька.
— Ничего, ничего, — поглаживая ее по волосам, говорила старая женщина. — Так-то, сморенной, и лучше. Крепись.
В воротах показался Мина, входить в загон не стал; вытянул шею, разглядывая девушку, сидящих рядом Авдотью и деда Микиту, — все еще надеялся, что караульные подняли напрасный переполох. Из-за его спины выглядывал тучный, кривоногий мурза Бурытай. Ничего так не пугало, как известие о черной смерти, от которой не было никакого спасения.
Взгляд монаха столкнулся с тусклыми, по-детски добрыми глазами деда Микиты; словно вспомнив что. он обратился к старику:
— Говори, колдун, неужто чума пристала?
Дед Микита пожал плечами, сказал:
— Да что, мой господине, сам видишь— смертные пятна. Стало быть, так…
— Когда поймали, не было у нее пятен.
— Эх, сердешный, — печально отвечал дед Микита, — может, и не было видно, а как обмерла, сморилась, хворь-то наружу полезла.
Монах судорожно сглотнул, липкий страх стал закрадываться в душу: что с того, что он не прикасался к девке; неумолимая эта болезнь — летучая, а по возвращении с озера его лошадь скакала рядом. Мина вытер рукавом вспотевший лоб.
— Ты уверен, колдун, что это черная смерть?
В вопросе его дед Микита услышал что-то угрожающее для девушки. «Не вздумали бы извести ее, лишить жизни», — встревожился он. Так часто делают с заболевшим чумой человеком, и это считается справедливым: надеются этим не дать распространиться болезни.
Он видел, что монах не спускает с него глаз, сказал, как можно спокойнее:
— Откуда вы ее взяли?
— С лешачьего болота привезли, — ответил Мина. — Знаешь такое?
— Вона что! — протянул дед Микита. — Как не знать, наслышан. — Старик подался вперед, сообщил, как будто доверяясь только ему, монаху; — Тогда не совсем уверен, мой господине. Как сказал ты, что с болота, подумалось мне другое. Есть еще болезнь, схожая с виду, называется болотной трясучкой. Все может быть. Попользую ее травками, посмотрим. Доверься мне, родимый.
Бурытай теребил монаха за рукав рясы — не все понял, что говорил дед Микита, — спрашивал настороженно:
— Что старик сказал? Что с девкой?
Последние слова деда несколько успокоили Мину: может, и нет чумы. Объяснил встревоженному Бурытаю.
— Колдун лечить будет. Говорит: не помрет девка — тогда не чума, а болотная трясучка, хворь лешачья. Такой в вашей степи не бывает. Подождать надо.
Мурза, не спуская замаслившихся глаз с девушки, сожалеюще зацокал:
— Ай, хороша девка! Ай, беда! Скажи колдуну, пусть быстро лечит. — И опять повторял — Ай, хороша уруска!
Монах угрюмо покосился на него: «Во как разобрало старого сквернеца. Не о деле думает, а…» Но тут же опомнился — подозрительный Бурытай мог по лицу прочесть, о чем подумаешь. Спросил почтительно:
— Прикажешь парня вести в юрту? Там спрашивать будешь?
Все еще сладко жмурившийся мурза встрепенулся, расщелил глаза.
— Ай, шайтан! Что говоришь? — набросился он на Мину. — Оглупел, поп! Черная смерть— сказал. Сгубить меня хочешь? Смотри! С ним говори ты. Здесь!
— Будь по-твоему, — покорно согласился Мина. — Эй! — обратился он к юноше. — Говори, кто ты? Откуда в лодке плыл? Где, с кем живешь?
Мастер Еким, сидевший рядом с Васильком, подтолкнул его, не поворачиваясь, тихо шепнул:
— Смелее, друже, режь им полным голосом, как было уговорено меж нами.
Василько встал, поклонился: пусть враг, но разговаривал с ним человек старше его — как же без уважения?
— Откуда ты, отрок, поведай нам? — уже мягче повторил свой вопрос Мина, которому понравилась покорность юноши.
— Повинуюсь, государь. — Василько опять отвесил глубокий поясной поклон.
Но благодушие Мины — если только у него могло быть благодушие — вскоре исчезло с лица. Василько говорил, а глаза монаха наливались бешенством. Но пока он сдерживал себя, молчал.
— Передается в нашем роду от отца к сыну — брать себе невест в чужой стороне, в лесном краю, — говорил Василько. — Спросишь, государь: пошто так? Позволь, скажу. Случилось это еще давно… Прадед мой — родитель моего деда — закладывал в свое время новые хоромы. Срубил он первые венцы из крепкого дуба, а тут вдруг нагрянула страшная буря, ветрище — деревья вырывало, с ног валило, венцы тоже разметало. Прадед говорил: толстенные деревья дубовые, как пушинки, летели. Пошел прадед собрать бревна, да только не даются они, а сам он почувствовал — тянет его неведомая сила все дальше и дальше, в самую глушь лесную. И ничем эту силу не перемочь. Подивился он такому случаю и подчинился. Долго ли шел, того сам не ведал, вдруг увидел на поляне высокий терем, а в нем была заточена злыми людьми прекрасная княжна. Освободил ее мой славный прадед, стала она ему женой. С тех пор заповедал своим детям, и внукам, и правнукам: как придет пора невесту искать, идти надо в лесную сторону. Теперь мне пора настала…
— А где отецкий дом? Отколь шел-то? Не у озера ли, где мы тебя поймали?
— Нет, государь. Подворье нашего батюшки на Устье-реке, — обстоятельно продолжал рассказывать Василько: он хоть и чувствовал грозные нотки в голосе монаха, но решил договорить до конца, как и советовал Еким. — Слыхал ли ты, государь, о скудости княжеских домов, про кои говорят: «У семи князей один воин?» Вот один из таких княжичей перед тобой. Ничего-то у нас нет, остался только прадедовский завет…
Василько заметил тяжелый взгляд монаха, смешался и уже торопливо договорил:
— Сон вещий видел я: будто на берегу лесного озера живет княжна. Пошел я, долго шел и вот встретил, и вы меня встретили. Больше мне нечего сказать, государь.
— Конь твой где? — отрывисто спросил Мина.
— Какой конь, государь? Я сказал: у семи князей один воин…
— Так в узорных мягких сапожках по лесам и болтался? А? Что-то, отрок, легко шел. — И закончил с угрозой: — Врать вздумал?
Бурытай вглядывался в лицо растерявшегося юноши, смотрел на Мину; услышав про сапоги, подумал: «Почему не содрали? — но тут же осекся, вспомнил о черной смерти — Ладно, что не содрали».
— Несет какую-то околесицу, глупость, — раздраженно сказал Мина.
Услышав второй раз за этот день новое для него слово, Василько с удовольствием подтвердил:
— Все так, государь.
— Ты что, издеваешься надо мной? — взревел монах.
— Напрасно гневаешься, государь, — рассудительно заметил Василько. — Наш жрец Кичи учит: за худым пойдешь, то и найдешь. Нельзя издеваться над человеком.
Еким закрыл лицо руками: «И куда парня понесло! Жрец Кичи… Испортит, все испортит».
— Блажной какой-то или очень ловкий, — пояснил Мина мурзе.
— В плети! — посоветовал мурза. — Врет! Все врет! Где лесной улус, пусть говорит.
Монах метнул быстрый, испуганный взгляд на Бурытая — неужто заставит войти в загон?
«В плети! — подумал. — Небось сам не пойдешь, и мне от чумы сдыхать не хочется». Снова посмотрел на девушку: смертные пятна четко проступали на ее теле, сама не шевельнется, глаза прикрыты.
Бурытай, видно, тоже понял, что никто не решится приблизиться к пленникам, отмеченным черной смертью. Помотал крупной головой: «Ай, Костя-князь, своих людей прячет в лесу. А зачем прячет? Хочет дани мало платить? Сдеру дань за всех вдвое. А то самого сюда посажу». Мурза ухмыльнулся от пришедшей мысли, повеселел.
— Иди к Косте-князю, — приказал Мине. — Сейчас иди. Зови!
Мине облегчение: пронесло. Хоть бы и верный пес, только мурза — не моргнет — верного пса на смерть отправит.
Уходя, монах остановился, пригрозил юноше:
— Ужо погоди, ты у меня все скажешь.
Караульные заперли калитку, даже бревном подперли.
Еким мигнул Фильке:
— Теперь они сюда ни шагу.
Филька понял его: в эту ночь быть побегу.
6
Трое всадников, процокав копытами по мосту через Медведицкий овраг, подскакали к воротам княжеского дворца: два воина-ордынца сопровождали монаха Мину.
— Посланный от мурзы Бурытая! — крикнул монах.
Стража недоверчиво оглядела его, но задержать не посмела.
Во дворе всадники спешились у коновязи, направились к крыльцу. Там, на первых ступеньках, рослый, белозубый дружинник Данила Белозерец встал на их пути: Данила и подумать не мог, чтобы жалкий прислужник ордынцев Мина ступил в княжеские покои.
Но монах чувствовал за собой силу, сказал нагло:
— Э, посторонись. Говорить с князем Константином будем. Моего господина слово ему.
— Волк степной твой господин, — ответил дружинник. — Убирайся подобру-поздорову. — И слегка подтолкнул Мину.
Воины, сопровождавшие монаха, — один меченный шрамом через всю щеку, другой — монгол с жидкими косичками, заброшенными за уши, — ощерились, готовые проткнуть копьем дерзнувшего остановить их. Да ведь и Данила не без оружия, положил руку на рукоять тяжелого меча, кликнул подмогу. Прибывшие оказались в кольце.
Шум привлек проходившего по двору игумена Афонасия; старец сумрачно уставился на монаха. С гневом спросил:
— Как посмел, пес смердящий, быть здесь?
— Успокойся, поп, — остановил его Мина, — не по своей охоте прибыл. Послан баскаком Бурытаем к князю Константину. В гости в слободу зовет его мурза Бурытай.
— Не подобает хозяину своего дома идти в гости к приехавшему, да еще получать приглашение через такого посла. Ты пошто позоришь одежду?
— Привычно мне в ней, — глумливо ответил Мина, оглаживая ладонями рясу.
Ничего более не сказав, Афонасий стал подниматься по крутым ступеням крыльца. Уязвленный нелестным приемом, Мина воскликнул:
— Прикажешь передать твои слова, как слова князя? Не много ли берешь на себя, поп? Так ли еще скажет князь?
— Так и скажет, — не оборачиваясь, отрезал Афонасий.
— То ладно, — согласился Мина с усмешкой. — Ждите тогда самого мурзу. Только советовал бы не гневить его.
Посланцы баскака вскочили на коней и ускакали.
Спустя некоторое время воротная стража позвала Данилу Белозерца.
— До тебя, — сказал сторож, указывая на исхудалого, бледного и взволнованного человека.
— А! — радушно приветствовал дружинник. — Оклемался, ростовский купец Семен Кудимов?
— Оклемался, друже Данило, к дому было собрался… Скажи мне, чернец тут с татарами-вершниками был. Кто он?
— Э! — отмахнулся Данила. — Стоит тебе о всякой погани допрос чинить. Мина это, прихвостень ордынский.
— Ведом, Данила, мне этот человек… — Купец задыхался от волнения. — Ведь это он меня саблей хлестнул. Признал я его по звероподобной роже.
Добродушие исчезло с лица дружинника, недоверчиво вглядывался в затуманенные лихорадкой глаза купца.
— Не ошибся, Миколаич?
— Хотел ошибиться — не могу.
— Не уходи, доложу князю, — торопливо сказал Данила.
В просторной горнице княжеского дворца собрались ближние князя. Сидели на широких лавках вдоль стен, выжидающе смотрели на князя. Лица у всех напряженные: что говорить — не за пиршественным столом, не для легкой беседы были тут, — предстояло по чести встретить татарского баскака Бурытая. Предполагали: много плохого сулил его приезд, но то, что произошло, ошеломило, — грабеж, убийства ни в чем не повинных людей, десятки пленников: посадские люди глухо ворчат, того гляди, быть замятие.
— Что ж, бояре, лаской приветим грабителя? — сдержанно спросил князь Константин. Внешне спокойный, сосредоточенный, он стоял позади кресла, опустив ладони на высокую спинку.
Тяжело дышал Третьяк Борисович, шевеля дряблыми пальцами на тучном чреве; задумался Афонасий, сурово сдвинув седые брови; бок о бок с ним княгиня Марина вздыхала глубоко и жалостливо.
— Да как встречать? Слезами исходи, а подчиняйся, — вымолвил Третьяк Борисович. — Нельзя иначе, Беда будет.
Княгиня Марина поддержала его:
— Ох, Костенька, да бог с ним. Отдари ты его чем-нибудь, и пусть убирается. Не навлекай на себя гнева ордынского.
Виновато потупившись, вошел в палату Данила Белозерец, стоял, выжидая.
— Ну что там еще? — недовольно спросил Константин.
— Прости, княже, меня, надоеду. Кузнец Дементий с бортником Савелием домогаются тебя. Подождать бы им, но день нынче такой — новость за новостью. Что прикажешь сказать?
— Зови.
Настороженно смотрел на вошедших князь: что еще неожиданного принесет их приход? Оба, как вошли, грохнулись на колени у порога.
— Встаньте, — приказал Константин. — Что за докука привела вас? Чего просите?
Заговорил Савелий:
— Виниться пришел, княже господине, к твоей милости… Думал спастись в лесу — повинен. Но нет спасения и в лесу от злых сыроядцев. Вызволи внучку у ордынцев, — как собака, буду тебе предан. Наслышан о тебе много доброго…
Константин нехорошим взглядом смотрел на старика, спросил неласково:
— Беглый смерд? От какого боярина убег?
— Нет, княже господине, вольный я, посадский. Хотел скрыться от людских бед, внучку оберегал, в том повинен. Да вот…
Савелий ждал от кузнеца заступничества, подтверждения своих слов.
— Знаешь его? — спросил князь Дементия. — Что за человек?
— Да, государь. — Дементий живо окинул взглядом присутствующих, замялся: все ли можно говорить при них.
— Говори. — Константин понял его. — Рассказывай.
И когда кузнец коротко поведал о рыскавшем в лесу татарском отряде, тревожно встрепенулся князь, ждал, вот сейчас услышит худшее, что могло быть: татары нашли лесное урочище, пограбили его.
— Нет, княже, — поняв его тревогу, сказал Дементий, — На парня и девушку они наткнулись случаем. Болото дальше супостатов не пустило; двое из них потопли, другие в страхе великом кинулись прочь… Княже, — нерешительно закончил кузнец, — и себе жду помочи…
— О чем просишь, говори.
— Сынка в мое отсутствие Мина полонил, в Ахматовой слободке держит.
При упоминании о монахе князь брезгливо подернул плечом. Дементию сказал:
— Тебя в обиду не дам. Обещаю. И ты, старик, не кручинься, вызволим твою внучку. А теперь идите да кликните Данилу.
Дружинник появился тотчас.
— Звал, княже?
— Звал. Приготовь для мурзы в саду ковер, подушки и что там… сам знаешь. В саду, на воле, принимать буду почетного гостя.
— Прикажешь подарки подобрать?
— Обойдется. Делай, как сказано.
— Княже, работника ростовского купца выпустил я из поруба. Вины за ним нет.
— Ладно, знаю, что нет. — И когда дружинник вышел, Константин обратился к ближним: — Разбоя мурзе простить нельзя, унижаться не стану.
— Ох, Костенька, — испуганно простонала княгиня Марина. — Поберегся бы, один ты у меня остался.
— Поберегусь, маменька.
Сказал со злом. Третьяк Борисович укоризненно покачал головой: «Горяч, не в меру горяч молодой князь. Быть беде великой».
7
Мурза ругался и не находил облегчения — все раздражало:
— Плохой день, совсем плохой. Ай, шайтан! — Горячего белого красавца коня и то осаживал злым окриком.
Два десятка отборных воинов ехали за ним на приличествующем расстоянии; монах Мина, напротив, норовил быть вровень, считал: вдруг появится необходимость в нем — он тут как тут. Мина трясся в седле, как плохо привязанный куль. Мурза презрительна косился на него, сопел. «Огреть плеткой — забудет трястись, а? Вперед не полезет». Пока сдерживался: язык урусов труден, Мина — толмач, переводчик. Но дерзость его невыносима чванливому Бурытаю. Даже ему, немытому, был противен едкий запах, исходящий от потного тела монаха. «А может, огреть?»
Говорил Мина: «Большой лесной улус утаивает князь, бобра, куницу возами возьмем, мед, кожи. Богатым станешь, Бурытай». Слушал монаха — веселилось сердце. Ай, шайтан! Взяли! Никакого улуса не видели. Взяли девку хворую да молодого лесного князя не в своем уме. Лучших нукеров русский леший в болото взял. Вот что получили! Совсем плохой день.
Солнце уже перевалило на вторую половину, когда перебрались вброд через вздувшуюся после дождя мутную Нетечу. Пошли ремесленные посады. С высоты седла Мурза оглядывал избы, сложенные из толстых бревен, деревянные церквушки с колоколами в проемах звонниц. А дальше, на отлогой возвышенности по-над Волгой, — уже высокие, светлые терема, изукрашенные резьбой, о причудливо вскинутыми вверх тесовыми крышами. За плотными заборами в просторных дворах Раскинулись хозяйственные постройки.
Давно ли смерчем пронеслись по этим местам непобедимые орды Бату-хана, оставив после себя горклые пожарища. И вот снова русичи отстроились, поднялись из пепла. Большой город, крепкий. Ну, Бурытай не повторит ошибки своего предшественника, согнанного сборщика дани Ахмата. Слаб был Ахмат, мало брал дани, потому с бесчестьем был отозван в Каракорум к хану Менгу, и только чудо спасет его от смерти «без крови» — удавят воловьей жилой.
Мурза осанисто сидел на коне. Был он одет в голубой стеганый халат, перехваченный широким поясом с драгоценными камнями; на голове — такого же голубого цвета бархатный колпак с меховой опушкой; ноги в мягких козловых сапожках с загнутыми носками удобно покоились в серебряных стременах; с левой стороны, на бедре, висел короткий меч в богатых сверкающих ножнах. Принаряжены были и следовавшие за ним воины.
Редкие жители, завидев всадников, шарахались в стороны, спешили укрыться. Всегда снующие любопытные мальчишки и те куда-то подевались. Мурза ухмыльнулся: «Вот как вчера нагнал страху на горожан». Но это еще он только так, для острастки, вот обживется — приучит к покорности.
Но за оврагом, когда проехали по мосту, у княжеского дворца, Бурытая встретила толпа, сразу настороженно затихшая. Люди провожали ордынцев затаенно злыми глазами. Такая встреча мурзе пришлась не по душе. Он остановил взгляд на чернобородом крепком мужике, тот смотрел в ответ смело, знакомо. Мурза даже коня придержал: «Неужто кузнец Дементий, непослушный раб, пропавший бесследно?»
И был и не был уверен Бурытай, надо бы позвать, удостовериться, но решил, что займется этим после: никуда кузнец от него не денется. Скользнул взглядом поверх головы кузнеца, будто не узнавая.
Дементий тоже с трудом узнал в обрюзгшем всаднике кичливого ордынского вельможу Бурытая. «Так вот к кому попал мой Филька!» — содрогнулся кузнец, припоминая бессмысленную жестокость своего бывшего хозяина, а сам все следил за мурзой — и лучше бы тому не видеть его взгляда.
Когда на княжеском дворе Бурытаю помогли спешиться и он увидел стоявшего в тени деревьев князя Константина, его бояр, а сзади вооруженных дружинников, какое-то недоброе предчувствие шевельнулось в груди старого мурзы. Он властно вытянул палец к земле, хотел крикнуть: «На колени!» — но случилось невероятное: крепкие руки князя внезапно подхватили его под бока, насильно, но вежливо усадили на приготовленные подушки.
— Садись, хан, — звучным голосом сказал Константин. — Отдыхай. — А сам тут же, откинув полу шелкового плаща, опустился в низкое креслице напротив.
Желтое, морщинистое лицо мурзы налилось кровью, глаза выпучились. От душившего гнева и унижения он открывал рот, в горле у него булькало, и он долго не мог что-либо сказать.
Князь не справлялся о здоровье, как полагалось при встрече знатного гостя, не говорил ничего другого, но смотрел с приветливостью. И ждал!
Наконец мурза пришел в себя, изрек вставшему возле него монаху Мине:
— Скажи ему, зачем народ собрал возле своего дома? Почто здесь дружинники? Или Костя-князь не знает, как принимать господина?
— Не трудись прибегать к помощи переводчика, достойный мурза, — остановил его Константин. — Мы можем объясняться на твоем языке.
Мурза затрясся от злости, прикрикнул:
— Учить меня вздумал! А?!
— Не сердись, хан, — мягко сказал Константин. — Все в твоей воле: говори через толмача твоего.
— То-то, — надменно сказал Бурытай; ему нравилось: князь называл его ханом.
«Вот же, старый бурдюк, переводчика захотел, — усмехался князь. — Мне же лучше делаешь — даешь время обдумать ответы».
Монах перевел все слово в слово. Константин отвечал ровным голосом, почтительно:
— Тебя удивил собравшийся народ. Русские люди любознательны, а со вчерашнего дня ты заставил много говорить о себе. Вот и собрались. Что ты усмотрел в этом плохого?
Мурза промолчал: придраться было не к чему, хотя толпа, косые взгляды людей ему не понравились.
— Разве достойно принимать такого гостя без торжественности? — продолжал Константин. — Или ты хотел вести беседу с глазу на глаз, без бояр, без почетного караула? Тогда прикажи.
И опять мурза не знал, к чему придраться. Он стрельнул вороватым взглядом по сторонам: что намеревается Костя-князь преподнести ему? Какие подарки? Но не было намека на то, что ему приготовлены дары.
— Я не вижу… Разве всегда так встречаешь гостей? — Мурза не мог скрыть своего разочарования.
Третьяк Борисович научил «внучка» скрывать свои мысли в разговоре. Константин чуть заметно ухмыльнулся, не забыв прикрыть ладонью рот. Ордынцы падки на подарки, на лесть.
— Я не понял: о чем ты? Достойнейший мурза, я приготовил тебе подарок. Не знаю, будешь ли доволен.
Бурытай еще раз любопытным взглядом обвел княжеских слуг — никто не держал никаких даров, не было на расстеленном ковре ни питья, ни яств, — неизвестно, чем хочет поклониться ему князь. Может, все это будет после беседы. У каждого русского князя свои причуды. Мурза приготовился ждать.
— Мне ваш город нравится, — уже добрее сказал Бурытай. — Здесь жить буду. Счетников своих пошлю в Ростов, Углич, Белозерск, Мологу — сам здесь останусь.
«Считает: честь окажет своим присутствием. Нет, лучше уж от тебя подалее».
Трудно сдерживаться молодому князю, хоть и давал обещание матери и Третьяку Борисовичу ничем не вызывать гнев баскака. А перед глазами — вчерашний разбой в посадах и на торгу, полоненные люди. Разве снесешь молчаливо такое?
— Лестно слышать, достопочтенный мурза. — Константин вглядывался в лоснящееся медью лицо Бурытая — не было в нем ничего, кроме тупого самодовольства. Добавил сурово — Но не потому ли, что жить здесь собрался, ты, мурза, ворвался в город, как грозный завоеватель?
Бурытай откинулся на подушках, спросил с удивлением:
— Дерзишь мне? А?
— Смею ли дерзить важному послу! — с угрюмой насмешливостью ответил князь. — Всего-то хотел узнать, что толкнуло тебя на вчерашние подвиги? Подобает ли вести себя так баскаку? Зачем на себя злость в людях копишь?
Мурза долго сидел с закрытыми глазами, только рука его, теребившая за ухом жидкую косичку, выдавала волнение. Внезапно он наклонился ближе к князю, прохрипел с угрозой:
— Ты непокорен, я знаю. Много больших городов русских, много князей русских. Уйдет ханская грамота на княжение другому, смотри. Что будешь делать? А? То-то! Поступай, как великий князь Александр Невский. Знаешь, что сделал Александр? Он брата своего не жалел, когда тот устроил — как это по-вашему?.. — замятню. Вот как поступай.
— Ведомо ли тебе, мурза, что Андрей Ярославич вынужден был устроить замятню, ополчиться на сборщиков дани? Бессмысленная лютость ордынская вынудила его. Что ему оставалось делать? Так-то и ты, хан, посол царский, станешь править, — одному богу известно, что может случиться…
Это уже было предупреждение. Мина не постеснялся усилить княжеские слова, когда передавал их Бурытаю. Не скрывая подлой радости, ждал знака мурзы, по которому воины бросятся на дерзкого князя. «Не сносить тебе головы, неразумный вьюноша, — злорадно подумал он, — Будет тебе сейчас замятня».
И мурза вскинулся, опять заклохтал горлом, потянулся к рукояти сабли. Телохранители, стоявшие сзади него, сдвинулись теснее.
Но и в стане князя произошло движение. Словно невзначай, звякнула кольчуга на Даниле Белозерце. Боярин Третьяк Борисович, склонившись, умоляюще шептал князю Константину:
— Не лезь ты на рожон, внучек, бог с ним, нехристем, проймешь его разе…
Князь нетерпеливо отмахнулся от него:
— Вот так-то, боясь всего, и стонем под игом ордынцев.
Бурытай мог подать знак, и началась бы резня, но это была бы схватка на равных, и неизвестно, чем бы она кончилась, кто бы еще одолел. Такого он допустить не мог.
— Волю властелина оспариваешь? Право победителя? — напыщенно спросил он. — Как осмелился сказать такое, оскорбить ханского баскака?
— Но в вашем законе — «Ясе» Чингисхана, — гневно возразил Константин, — нет того, чтобы дозволялось грабить купцов. За что ты, мурза, ограбил иноземца Марселиса, других торговцев?
Князь на мгновение обернулся и, встретившись взглядом с дружинником Данилой Белозерцем, кивнул ему. Тог слегка поклонился, быстро пошел к воротам.
— За что ты, мурза, похватал людей и запер их в слободе? — продолжал обвинять князь. — Хочешь, чтобы народ по лесам разбежался? Ты собираешься жить в городе. С кого дань брать станешь?
— Сам укрываешь в лесах людей! — взвизгнул Бурытай; его трясло от бешенства. — Большой улус в лесу. Кругом болото? А? Где тот улус?
— О каком лесном улусе говоришь? Если тебе о нем известно, почему не пошел туда?
— Пошел! Болото!.. Воины утопли!.. Нужен проводник. Давай проводника.
— Лес лесом, а бес бесом. Это у нас поговорка такая, мурза. И еще: не положа, не ищут. Что же ты от меня хочешь? Если кто сказал тебе о лесном поселении, пусть он и ведет тебя туда. Загадками говоришь, мурза.
— Загадки! Почему ты не знаешь, кузнец твой Степан знает? А?
Мина поперхнулся, стараясь остановить не в меру распалившегося Бурытая, даже слегка толкнул его в спину. Тот разъяренно обернулся. Но князь, будто ничего не замечая, не дожидаясь перевода, уже сказал:
— Вот ты и пошли вперед этого кузнеца Степана, приведет тебя на место — его счастье, попадет к лешему на ужин, утопнет, как твои воины, — туда ему и дорога, судьба такая.
Но мурза уже не слушал князя, внимание его привлекли приближающиеся от ворот люди.
Чернобородый Дементий, его беглый раб, и еще молодой губастый парень придерживали под руки истощенного, слабого человека. Позади них шел рослый дружинник. Мелькнувшая было догадка, что князь решил ему возвратить беглого раба, быстро отпала.
«Что же такое придумал Костя-князь?» — недоумевал Бурытай.
Звучный голос Константина заставил его прислушаться.
— Скажи, хан, — спрашивал Константин. — Когда бы человек вашего племени перебежал на сторону чужеземцев, а после стал губить ваших сородичей, как с ним поступило бы ваше племя?
Мина вскинул подозрительный взгляд на князя, но перевел точно.
— Хо! — засмеялся Бурытай. — Когда тебя кусает злая муха, станешь ли ты веселиться, глядя на нее?
Между тем, шедшие от ворот приблизились и остановились неподалеку от князя. Истощенный человек с ненавистью уставился на монаха, и тот, побледнев и забыв, что теперь исповедует другую веру, торопливо закрестился по-христиански, с ужасом шепча про себя; «Свят… Свят… Пресвятая богородица, — наваждение!..»
Но то было не «наваждение» — ростовский торговый гость, как вставший из земли мертвец, предстал перед ним. Неробкий по натуре Мина ощутил внезапный холод в спине.
— Он это, княже справедливый! — выдохнул с яростью купец. — Он, душегубец!
Мина наклонился к уху Бурытая, взволнованно зашептал, указывая на купца; прикрыв глаза, тот внимательно слушал, ни один мускул не дрогнул на застывшем лице.
— Зачем ты позвал этих людей? — спросил Бурытай князя после раздумья. — Один из них — мой раб, вон… черный Дементий. — Мурза вдруг хитро усмехнулся. — Догадываюсь… Ты хочешь вернуть мне беглого раба? Ты достойно поступаешь, князь Константин.
Его слова были полной неожиданностью для князя; еще не веря сказанному, он недоуменно посмотрел на кузнеца.
— Правду он молвит, княже господине, — Сумрачно проговорил Дементий. — Был я рабом у этого мурзы, да ушел от него, сам добыл свободу. Но где сосна взросла, там она и красна. Не быть вдругорядь мне рабом.
Узкие глаза Бурытая заблестели, стали злыми.
— Как! Будешь противиться своему господину? — воскликнул он. — Свяжите его.
Последнее относилось к воинам. Кто-то из них уже доставал волосяной аркан.
Константин гневно поднялся, предостерегающе поднял руку.
— Не торопись, мурза. Спору нет, беглый раб остается в воле хозяина. Только посуди: какая тебе выгода иметь непокорного раба? Ты получишь за него богатый выкуп. Но прежде выслушай вот этого человека, тогда узнаешь, зачем я позвал его. Говори, ростовский купец.
— Что ж, княже справедливый, вот он, лихоимец, разбойная рожа, стоит возле татарского воеводы. Его меча испробовать пришлось, его ватага растащила мои товары.
Внимание всех переключилось на Мину. Чувствуя откровенно враждебные взгляды, он невольно придвинулся к Бурытаю — только мурза мог спасти его от ненависти окружавших людей.
— О чем говорит? А? — брезгливо спросил мурза, указывая пальцем на купца.
— Врет он! — исступленно выкрикнул Мина. — Нет у него свидетелей. Все он врет!
— Гром господень убьет тебя! — возмущенно проговорил купец. — Свидетелей нет, то правда, порубали вы моих работников, вот только я да глупый Еремейка остались. Да и вы, думаю, для ночной татьбы свидетелей не берете. Какие тебе еще свидетели, когда я отсюда твое поганое дыхание чувствую!
Волнение купца все росло, он оглядывал людей, призывая их на помощь.
— Это что же, княже, — растерянно обратился он к Константину, — выходит, я лгун, наговорил на него. Креста на нем нет.
— Креста на нем нет, ростовский купец Семен Миколаич, ты не ошибся, — подтвердил князь. — Променял он крест христианский на веру басурманскую.
И князь требовательно повернулся к Бурытаю. Сказал по-татарски:
— Не смею думать, мурза, что ты был при разбое и смертоубийстве, но вот толмач твой покушался на жизнь человека. Сей тать надсадил многим. Ты сказал, если злая муха кусает, нельзя веселясь глядеть на нее. Вели вернуть товары ростовскому купцу, монаха же выдай для людского праведного суда. Это будет справедливо.
Бурытай оторопело смотрел на него, потом резво вскочил, отшвырнул ногой подушки, на которых сидел, весь ощетинился.
— Как смеешь приказывать? С колодкой на шее пойдешь в Орду. Аль не слышал, что бывает за оскорбление баскака?
— Осторожнее, мурза, — опять остановил его Константин, — не бросайся в гневе поспешными словами.
Князь жестом указал на распахнутые ворота; на площади виднелась густая толпа; у многих в руках были тяжелые посохи-дубины.
«Откуда взялись посохи? — обескураженно подумал Бурытай. — Когда ехал сюда, ничего не было в руках у них. Или не заметил? А?»
Бурытай вытащил из-за пояса плетку, нетерпеливо взмахнул ею. Ему тут же подвели коня; с удивительной для его возраста ловкостью он влетел в седло. Телохранители тесным кольцом окружили его. Тогда рванулся к своей лошади и Мина, о котором мурза в гневе просто забыл.
Весь отряд поскакал за ворота.
— Ну, берегись, Костя-князь! — Мурза обернулся, пригрозил плетью.
Князь некоторое время смотрел ему вслед и вдруг, откинув голову, звонко рассмеялся.
— Погодь-ка, Семен Миколаевич, — сказал губастый Еремейка, доселе поддерживавший купца, и отпустил его локоть.
— Прости и меня, — проговорил Дементий, державший под руку купца с другой стороны.
Оставив купца, оба бросились за ворота, где, яростно нахлестывая коней, отряд Бурытая врезался в толпу.
— Что ж, Данила, — сказал князь дружиннику, — помогайте ордынцам убраться во здравии.
Данила Белозерец блеснул белыми зубами, сказал лукаво:
— Надо помочь, княже, а то людишки наши распалятся да еще прибьют кого из них. Беды не оберешься.
И дружинники устремились к воротам.
Татарский отряд оказался стиснутым обозленными, разгоряченными людьми. Вчера, защищая своих близких, свои дома, только одиночки вступали в схватку с татарами, тут уже была толпа, сплоченная в одном устремлении. Во всадников летели камни, на них обрушивались дубины. Уже не с плетками — с обнаженными саблями воины крутились на храпящих лошадях. Княжеские дружинники уговаривали не делать зла ордынцам, но как-то так получилось, что там, где они оказывались, очередной визжащий татарин вылетал из седла.
Монаха Мину оттерли в сторону, плотно окружили. И тогда он бешено оскалился, откинул полу рясы и выхватил висевший на поясе тяжелый меч. Это было неожиданно, и люди смущенно отступили. Под рясой на монахе была еще кольчужная рубаха.
С тех пор как стал изгоем, поступил на службу в Орду, Мина видел от людей неодолимое отвращение к себе и потому в отместку еще больше зверел, старался пакостить бывшим единоверцам при каждом удобном случае. Заросший волосом, грузный, сейчас он был страшен; казалось, не человек — огромный зверь вступил в схватку.
В это время послышался голос губастого парня, работника ростовского купца, — Еремейки.
— Ну-кася, — добродушно говорил он, раздвигая людей и пробираясь к монаху. — Дайте, братцы, рассчитаться за Семена Миколаича.
Еремейке услужливо подсунули увесистую дубину. Помахивая ею, не остерегаясь, он пошел на Мину. Дерево и металл с сухим треском столкнулись в воздухе. От страшного удара меч вылетел у Мины, шлепнулся за спиной.
Десяток рук сразу же вцепилось в монаха, стащили с лошади. Но и на земле, с безоружным, нелегко было справиться с ним. Расшвыряв нападавших, он нагнулся, сбычившись, отыскивая очередную жертву.
— Погодь, братцы, отойдите-ка, не то зашибу в горячке.
Еремейка сцепился с монахом врукопашную, оба сопели, старались приспособиться половчее.
— Попомнишь Семена Миколаича, ростовского купца, — хрипло говорил парень.
Монах боролся молча. Наконец Еремейке удалось стиснуть шею противника мертвой хваткой. Мина рухнул.
На земле его и добили.
— Будешь помнить Костьку и Кудряша, — тяжело дыша, заключил Еремейка.
Едва ли половина татарского отряда вырвалась из толпы. Сам мурза намного опередил своих воинов — добрый конь нес его к Ахматовой слободе, а он, вне себя от злости, все стегал и стегал его.
— Други! — пронеслось по площади. — Поспешай в слободу! Изгоним сыроядцев из города!
— В слободу! — подхватили десятки голосов. — Освободим полоняников. Не оставим в неволе сестер и братьев!
Толпа с ревом покатилась к посадам.
На площади остались убитые и зашибленные в схватке. Спустя немного времени пришли сторожа, сложили тела на телегу. Постояли у истерзанного громоздкого тела монаха, потом подняли его и потащили к обрывистому берегу Которосли.
— Собакам на съедение, — пробормотал один из них. — Сойдет.
— Для продажной псины — кол из осины, — заключил второй старой поговоркой.
8
— Посмотри, что там такое, — сказал мастер Еким Фильке.
Гул нарастал волнами, как перекатный гром, сначала далекий, слабый, потом все ближе явственней. Истомившиеся пленники настороженно прислушивались; еще не сразу стало понятно, что надвигается рев бегущей толпы.
Филька прильнул к щели в загородке и оттуда прокричал испуганно:
— Ой, что творится! Ихний главный татарин брызгается слюной, колотит своих плеткой. Конь под ним весь в мыле. Другие бегают, лопочут что-то. Ворота запирают…
В запертые ворота уже грохали чем-то тяжелым: ворота сотрясались, трещали. Татарские воины грудились перед ними, перебегали с места на место, приседая, натягивая луки. Их суетливые движения выдавали смятение и неуверенность: пеший степняк не привычен к бою, а лошадей в слободе почти не оказалось — весь табун был на выпасе.
Под стенами снаружи теперь хорошо разбирались отдельные голоса:
— Ни лестниц, ни веревки, как тут перелезешь?
— Взбирайся на спину.
— Эй, кто поздоровее, вставай под низ.
Над бревнами забора появлялись потные, взлохмаченныв головы, и тут же, пораженные татарскими стрелами, люди со стоном или намертво срывались вниз.
— Это что же выходит… — растерянно произнес Еким; он и Василько тоже подошли к загородке, Еким огляделся и сразу все понял. — Спрятались, как мыши. Нас вызволить хотят — неужто не поможем? Вымай, парень, нож, обрезай опояску.
Василько торопливо принялся срезать ивовые прутья, стягивающие жердины; Еким потянул верхнюю — выдрал, потянул еще, но засомневался, бросил.
— Тяжеловаты для вас будут, — объяснил он.
На самом деле Еким боялся нарушать загородку: пленников могли закидать стрелами.
Вдруг раздался ужасный грохот, за ним вопль, Рухнули главные ворота. Разъяренная толпа ввалилась в слободу, докатилась до юрт, расставленных во дворе, разметала их.
Татары, огрызаясь, отступали к спасительным теперь дня них конюшенным воротам, за которыми пасся их табун. Но и здесь они наткнулись на препятствие. Еким ударом тяжелой жерди смял калитку, закрывавшую загон, и с яростью накинулся на спины отступающих. Жердь его со свистом резала воздух, и, если достигала цели, слышался глухой звук. Татары в ужасе кидались в стороны, лезли на бревенчатый забор, визжали, когда их стаскивали за ноги.
И все же кто-то добрался до конюшенных ворот, сбросил засов. Воины, оставшиеся в живых, хлынули в пролом на луговину, прекрасно понимая, что конь — это спасение.
Василько слишком поздно увидел несшегося на него обезумевшего, с искореженным от шрама лицом, пожилого татарина. В поднятой руке сверкала сабля. Только сноровка человека, выросшего в лесу и привыкшего к разного рода внезапностям, помогла ему увернуться от удара; нож его скользнул по телу татарина…
В толпе мелькнуло чернобородое лицо Дементия; он прорывался к загону, где находились пленники.
— Тятька! — бросился к нему Филька.
— Жив! — Дементий облегченно вздохнул. — Берегись, сынок! Не лезь, не то задавят.
Дементий вдруг кинулся к Екиму, который занес жердину над онемевшим от ужаса татарином. И уже готово было опуститься не знающее пощады оружие на голову несчастного, когда кузнец перехватил руку.
Опухшее от побоев лицо, злые глаза — страшен был мастер Еким, да и не признал в горячке, кто помешал ему, рванулся, оттолкнул кузнеца.
— Остановись, друже, — ласково уговаривал мужика Дементий. — Не путай мурзу с пастухом его. Не губи кроткую душу.
— Кроткую! — взревел Еким. — Не знал я среди них кротких.
Но все же остывал понемногу, с любопытством смотрел на скуластое лицо молодого татарина, которого пощадил кузнец.
Отходчиво русское сердце, на зло забывчиво — спас Дементий Улейбоя.
— Это тебе мой бакшиш, пастух Улейбой — Ясные Очи, — говорил он. — Обещал я его тебе, коль придется вызволить сына. А теперь скрывайся. На лугу еще много пасется коней. Тебе, ханскому пастуху, не надо подсказывать, какого выбрать коня, чтобы нес он быстрее ветра.
Глаза молодого воина набухли слезами. Ловил руку кузнеца, хотел поцеловать ее. Дементий сердито оттолкнул татарина, проворчал с укоризной:
— Беги, беги, парень, да старайся больше не приходить на Русь. Вдругорядь спасения не будет.
Возвращаясь к конюшенному загону, заметил Дементий сына Евпраксии Васильковны. Стоял Василько, понурив голову, бледный, без кровинки в лице. У ног его, скрючившись, лежал татарин; приоткрытый глаз на изувеченном шрамом лице будто следил, как высокие белые облака бегут в синеве неба.
— Ну полно, полно тебе кручиниться, — сразу все поняв, попробовал утешить потрясенного парня Дементий. — Не ты его, он бы тебя прирезал. Да и с радостью… Чего уж так терзаться…
Глава четвертая. По зову веча
1
Раскидали в праведном гневе Ахматову слободу, выкинули татар из города; лишили злой жизни не менее злою смертью отступника Мину, — и с удивлением огляделись: в тяжком страхе перед сыроядцами всласть хлеба своего изъесть не могли, а тут, впервые за два десятка лет, — ни одного ордынца. Ходи и дыши свободно. Что там — дыши, песни пой. И был сгоряча восторг от сознания своей силы.
Но осторожные говорили, предупреждая:
— Скорый поспех — людям на смех. Нашуметь-то нашумели и думаете, дело с концом? Нет, татары еще никому обид не прощали.
Храбрые и легкие духом отмахивались:
— Куда им! Не сунутся! От безоружных бежали…
— Падет на нас гнев ордынский, — остужали их. — Не придется ли опять от своих домов в леса уходить?
Многие стали задумываться: «А и вправду, что дальше?»
Внезапно грянул вечевой колокол…
Сперва даже не поняли, не поверили — забылся его звон, а молодые, двадцатилетние, вообще никогда его не слышали.
Призывно гудел набат над городом, звал на площадь, что над Медведицким оврагом.
Шли посадские, шли торговые люди; с сомнением собирались именитые бояре.
Последние рассуждали:
— Дело-то нешуточное — оно понятно. Эко, осмелиться поднять руку на ордынцев! Колокол ко времени… А вот что на вече посадские кричать станут — еще неизвестно. Им-то — ни терять, ни наживать. Кричи что хочешь. Не лучше ли было боярским советом склонить князя пойти в Орду с повинной? Повинную голову меч не сечет. А уж если… Просить к себе чужого князя не придется: подрастает дочь покойного Василия Всеволодовича. С боярской да материнской подсказкой полегоньку и станет править княжеством. И княгиня Ксения, мать сей отроковицы, благоволит боярам, не по сердцу ей своенравный и беспокойный Константин. Да и то: совет боярский отринул, жмет именитых горожан поборами в пользу татар, кои мог бы перенести на простых людишек; всё сам, всё своей головой. А всего-то — петушок драчливый…
Уже час на площади колышется толпа. Раскололись крики:
— Повинись, князь! От тебя пошла замятня. Не обрекай город на разорение. — Это из купеческих да боярских.
— Стой, княже господине, на правде! Не терзай себе душу. Все станем за тебя! — Многочисленный ремесленный люд ревет над площадью.
— Опомнись! — увещевают. — Андрей Ярославич, князь владимирский, исполнился на татар. А что вышло? Придут поганые в великом множестве. Как с малым войском выйдешь на такую силу?
— С малым, да сколоченным из добровольцев, — гордо несется в ответ. — Сила достаточная, чтобы биться. Стой, князь, на своем!
Константин — на сбитом наскоро для внезапного вече помосте, окружили его дружинники. Алый княжеский плащ— корзно, застегнутый на правом плече серебряной пряжкой, слегка колыхался от взволнованного дыхания, играли на шлеме с золотой насечкой яркие, слепящие блики. Все поняли значение его походной воинской одежды: одних это радовало, других пугало.
Лицо князя было спокойно и сурово, только меж бровей пролегла морщинка да глаза вдруг вспыхивали гневом: душа восставала против робких, запуганных татарским игом.
Он еще не проронил ни слова, вбирал в себя всю разноголосицу, которая доносилась до его слуха. Но вот насторожился: расталкивая людей, лез на возвышение купец Петр Буйло. Знал Константин: купец не столько от себя скажет — передаст помыслы бояр, приверженцев княгини Ксении.
— Князь наш молодой, в речах не сдержан, гордости у него много, а силы нет. — Так начал Буйло; растопыривал руки, как бы показывая, что сил у князя ровно столько, как вот в этих пустых руках. — Не он ли неуместными винительными речами обозлил мурзу, что тот, как с цепи сорвавшись, бросился с плеткой на людей? Не он ли наущал своих дружинников, чтобы те помогали взбунтовавшимся посадским избивать татар? Нет, так править нельзя, с таким князем и до беды недалеко. Да что — недалеко, она уже пришла, беда-то!..
Купец говорил, и волнение на площади нарастало. От Третьяка Борисовича Константин слышал: на вече каждый волен говорить, что вздумается, на то оно и вече — народное собрание, и, когда решил созвать его, готовился к речам дерзким и неприятным для себя. Но тут уж было слишком: его княжение ни во что не ставилось, его попросту сгоняли с княжества. Он ни на минуту не забывал, что эти противные слова бросал не записной крикун Петр Буйло, — говорили его языком недруги. Взгляд князя выхватил из толпы скромно стоявшего тучного боярина Тимофея Андреева. Ласково щурился боярин, выставляя бороду к солнышку; этот на помост не полезет, о тихой беседе шепчет кому-то, тот скажет всем. А когда и проговорит что вслух при народе, то на слова мягок; хитер, как лис. После княжеского суда пригрел разжалованного боярина Юрка Лазуту. Добро бы ради сострадания к ближнему, но не таков Тимофей Андреев, чтобы кому-нибудь сострадать. Выходит, поимел какую-то цель, рассчитывал: понадобится потом Лазута.
И, подумав о тайной цели боярина, князь вдруг все понял. Утром ему доносили, что вернувшаяся из Ростова — гостила в Горицком монастыре, — вдова брата Василия княгиня Ксения принимала в своих покоях боярина Тимофея Андреева. Стало быть, о нем, князе Константине, и говорили. Княгиня Ксения — властная, гордая, ей кажется, что в княжеском доме она на положении черницы; ей самой видится княжение. А бояре льстят ей, подогревают горячую кровь.
Еще больше уверился в своих догадках, когда снова вслушался в речь купца.
— Как тут не вспомнить Василия Всеволодовича, царство ему небесное, — взывал купец к собравшимся. — Сколь раз в Орду на поклон ходил, а и ходил, коли нужда звала; помыслить не мог восставать супротив татарской власти, которая дана нам за грехи наши. Андрей Ярославин, в бытность свою великим князем владимирским, вон какую рать собрал, да где было тягаться с несметными полчищами хана Неврюя. Залилась земля людской кровицей, горькой золой покрылись опустошенные селения. А у него, у князя Константина, две сотни конных дружинников, да, может, с полтыщи пешцов соберет. С кем он мыслит идти на татар, как оборонит город? Остается одно — вымаливать в Орде прощение, даже ценой собственной головы. Так что меняй, княже господине, воинскую одежу на одеяние послушника и иди!
Ревом возмущения откликнулось вече на слова купца, десятки рук потянулись к нему. И разорвали бы оскорбителя, если бы властным движением руки не остановил князь гневный порыв людей.
Но еще не утихали злые выкрики:
— Не сам ли жаловался на грабеж мурзы, тут вон как заговорил!
— А что смотреть на подголосника боярского. Браты, тащим его в Волгу.
— В Медведицкий овраг, псам на съедение!
И снова поднял руку князь, зовя к спокойствию. Сказал, приказывая:
— Не трожьте его!
Любили молодого князя простые люди, многие почитали за радость слышать его голос, повиноваться ему. И народ стих: в конце концов, в купце ли дело, не для того собрались…
А Петр Буйло, насмерть перепуганный злыми криками, продолжал оставаться на помосте, не решаясь спуститься вниз. Помог ему решиться на это Данила Белозерец: слегка подтолкнул, столкнул с помоста.
И случилось неожиданное: люди шарахнулись от купца, оставив вокруг него свободное пространство. Купец затравленно огляделся, шагнул на одеревеневших, сразу ставших непослушными, ногах и опять остался один. С ним как будто играли: куда бы ни бросался Петр Буйло, пытаясь затеряться, не быть на виду, теснота людская мгновенно сжималась. Купец хотел было приткнуться к боярину Тимофею Андрееву, тот, страшась прослыть сообщником, отпрянул в сторону, как от чумного. Так, спотыкаясь, шел купец с вечевой площади, а потом кинулся бежать. Хуже лютой казни было людское отчуждение.
Вече слушало князя Константина.
— Братья ярославцы! В трудное время обращаюсь к вам…
Константин говорил проникновенно, не напрягаясь: в установившейся тишине он был слышен всем.
— Богатело и множилось людьми Ярославское княжество, доставшееся отцу моему от его родителя великого князя Константина Всеволодовича, сына славного устроителя земли русской Всеволода Большое Гнездо. Бог призвал моего отца к себе. Не уронил отец чести своей, пал в ратном бою в Сицкой битве, как подобает воину. Брат мой Василий Всеволодович принял княжение над разоренной Батыем землей и не ронял чести, а, умирая, меня поручил вам. Хотите ли вы по-прежнему иметь меня князем и готовы ли выступить за правое дело? Не скрою — тяжкая доля ждет нас. Или приговорите, как советовали мне здесь: сменить одежду воина на смиренное одеяние послушника и идти на коленях вымаливать прощение? Не торопитесь с ответом. Как решите, так я и исполню.
«Имею ли я право покушаться на судьбы этих людей? — задавал себе вопрос князь Константин и отвечал — Имею! Князья наши зорили друг друга, гнали русских воинов брат на брата. Так было при дедах Константине, Юрии, Ярославе Всеволодовичах, так было до них. А я на врага иноземного иду, так пристало ли мне сомневаться? — И с еще большей убежденностью повторил — Имею право!»
Наглость ордынцев, распоряжавшихся на Руси, как у себя дома, притеснение и грабительство, чинимые ими, пробудили гнев русского человека. Не было семьи, которая не испытывала бы невыносимую горечь порабощения: у иных убиты родители, у других братья, сестры, дети мучаются в рабском плену. Жизнь стала не в радость. Можно было бы еще мириться с данью, наложенной татарами, но их отряды и два десятка лет спустя являются на русскую землю необузданными грабителями, не щадят ни малого, ни старого. Простые люди устали терпеть бесчинства, они рвались в битву.
По площади прокатился мощный гул:
— Все выступим! Станем грудью! Веди, князь!
На помост взошел чернобородый кузнец Дементий Ширяй.
— Дозволь, княже, слово молвить… Бей поганых и не терзай себя попусту, не думай, что ты слаб. Не дождешься победы, коль не будешь сейчас ее готовить. Брось клич! За нами встанут другие. Сбросим ненавистное бремя. А мы тебе, княже, воины. Вот наш приговор. Так ли я говорю, люди?
— Истинно так! Веди, князь!
— Другого я не ждал от вас, — с благодарностью поклонился Константин народу, — Исполняю ваш приговор.
— Любо, княже! — дружно взревело вече.
2
Лет за двести с лишком до описываемых событий владетель ростовской земли князь Ярослав Мудрый в сыром, болотистом овраге, что когда-то соединял воды Волги и Которосли, встретил матерую медведицу и побил ее, а потом поднялся из оврага на кручу и застыл, пораженный красотой и удобством здешних мест.
По берегам Волги, куда ни кинь взгляд, простирались зеленые, солнцем не просвечиваемые леса. На склонах в густой траве оглушали стрекотом кузнечики, лениво перепархивали сморенные зноем птицы. Миром и покоем веяло кругом.
И тогда решил князь основать здесь крепость для защиты Ростовской земли от докучавших набегами с низу Волги мордовских и булгарских племен.
В честь схватки князя с медведицей овраг назвали Медведицким.
Волга, Которосль и пересекающий их Медведицкий овраг отделили треугольник земли площадью в восемьсот сажен. Тут и решено было срубить новый город — Рубленым стал зваться он. До татарского прихода был Рубленый город обнесен мощной стеной с боевыми башнями по углам.
Место было выбрано, удачно — на торговом пути: купеческие караваны поднимались по Которосли к Ростову, шли Волгой в Тверское княжество, в северные и западные земли, — начали сюда стекаться мастеровые люди, подолгу гащивали булгарские, хивинские, а там и немецкие и голландские купцы, ставили свои амбары для товаров. Настроили теремов на высоком красивом берегу Волги именитые бояре. Тесно стало в Рубленом городе.
Тогда за Медведицким оврагом между Волгой и Которослью, протекавшими несколько верст почти ровными линиями вблизи друг друга, появились первые посады с узкими кривыми улочками. Для безопасности жители посадов оградили себя земляным валом — Земляным городом стало зваться новое поселение. Для удобства сношений между поселениями через Медведицкий овраг перекинули мост. И Рубленый и Земляной город получили общее название в честь владетельного князя — Ярославль, город торговый, город процветающий.
Княжеский дворец стоял на самом мысу, где в Волгу вливается Которосль, — на Стрелке. Узкие и продолговатые, с цветными стеклами оконницы были прорублены на все четыре стороны. К Волге выходило просторное крытое гульбище, в теплые дни — любимое место отдыха обитателей дворца.
Вот и сегодня тут было оживленно. Старая княгиня Марина Олеговна и ее внучка Марьюшка, забавляясь, наряжали гостью — Россаву. Заставили надеть голубой летник с просторными кисейными рукавами, на ноги удачно пришлись прошитые серебряными нитями узконосые башмачки. Алую ленту вплела Марьюшка в тугую Россавину косу. Никогда такой нарядной не бывала Росинка: все на ней складно, все ей идет — юная, чистая, с мягким румянцем смущения на нежных, с ямочками щеках.
Красота девушки радовала старую княгиню, она искренне любовалась ею, хотя у самой чуть печально было лицо: не себя ли видела в молодости на свадебном пиру рядом с еще по-юношески угловатым, нетерпеливым Всеволодом.
Нежданной была та свадьба.
Великий князь Юрий владимирский с племянниками своими — ростовским Васильком и ярославским Всеволодом— шел войной на князя курского Олега Святославича и черниговского Михаила Всеволодовича, Собирались князья в междоусобной распре проливать братскую кровь, а закончилась неначавшаяся битва по воле митрополита всея Руси Кирилла двумя свадьбами: Марину, дочь Олега курского, обручили со Всеволодом ярославским, Марию, дочь черниговского князя Михаила, — с ростовским Васильком.
Общее связывало ныне вдовствующих княгинь. Как нашли в Шеренском лесу тело замученного татарами Василька Константиновича, Мария Михайловна удалилась в монастырь, нарекли ее в монашестве Евпраксией. А вот тело Всеволода Константиновича ярославского так и не отыскали на месте сицкой битвы — слишком много было павших русских воинов; покоятся они в насыпных курганах по берегам Сити, и его косточки где-то среди них.
Марине Олеговне тоже отойти бы от мирских дел, дожить в молитвах остатние дни, но малы были сыновьи Василий и Константин; особенно первому была она необходима; легло на его детские плечи разоренное княжество; не решилась оставить сыновей без материнского мудрого присмотра. Теперь вот Марьюшка души в ней не чает, не отходит ни на шаг; мать свою не то что не любит— побаивается ее. Неласкова княгиня Ксения с родным дитятей. Почитай, два месяца гостила в Ростове, л сердце не дрогнуло. Прибыла, и опять холодом веет or нее, будто в наказание ей Марьюшка.
Есть что вспомнить старой княгине, есть о чем погрустить. Вот у внучки Марьюшки еще нет никаких воспоминаний, с радостью встречает утро, с радостью засыпает, ожидая нового светлого дня. Только и ее судьба окажется несладкой. Пройдет совсем немного времени — и на ее долю падут горести; выдадут ее еще подростком за нелюбимого Федора Ростиславовича, князя можайского, прозванного в миру за непутевый и беспокойный нрав Черным.
Будет Федор Черный подолгу пропадать в Орде, помогая хану усмирять непокорные народы, женится второй раз при живой жене на ханской дочке, и в одно время подойдет он со своей разноплеменной дружиной к Ярославлю, чтобы занять престол, и не пустят его в город княгиня Ксения с боярами…
Марьюшка ни на шаг не отходила от гостьи, ласкалась к ней. Детские глазенки светились восторгом.
— Росинка, примерь теперь эти подвески. Они тебе будут хороши. — Подала ушные подвески — серьги со сверкающими камешками — бриллиантами.
— Не возьму, княжна, не надо, — слабо отбивалась Россава. — Тебе самой они к лицу.
— Какая ты непослушная! — рассердилась Марьюшка, топнула маленькой ножкой в атласной мягкой туфельке. — Ты посмотри, как они переливаются на свету! — Совала серебряное зеркальце девушке и тут же: — Как. это ты в лесу живешь? Небось боязно?
— Привыкла, — улыбалась Россава. — С дедушкой не боязно. И собака у нас большая, сторожит. Нет… вовсе не боязно.
Россава покорно отвечала на все вопросы княжны, не хотела огорчить неосторожным словом.
— Теперь у нас будешь жить, — уверенно заявила Марьюшка, — Ведь так, бабушка?
— Пускай живет, — по-доброму улыбнувшись, сказала Марина Олеговна. — Но почему ты не спросила, согласна ли Росинка быть с тобою, надоедой?
— Спасибо за милость, — с легким поклоном поблагодарила Россава. — Княжна мне очень по душе. Она такая славная.
Марьюшка счастливо засмеялась: похвала девушки обрадовала ее; запрыгала на одной ножке… и вдруг разом притихла, как-то сжалась вся: в дверях стремительно появилась княгиня Ксения, мать ее.
Княгиня Ксения была худа, узкоплеча и потому казалась выше своего среднего роста. Раннее вдовство (девятнадцати лет не была, когда нежданно-негаданно скончался муж Василий Всеволодович) — наложило свой жесткий отпечаток на ее характер: часто была раздражительна, несправедлива, могла целыми днями оставаться наедине с собой — ни словом не перемолвится ни с кем, ни улыбки не появится на когда-то красивом, теперь уже поблекшем лице. Побаивались княгини, портилось настроение в ее присутствии: ни себе в радость, ни людям во грех.
Была она на этот раз взволнована, пятнами выступил на лице горячечный румянец. Резко повернулась к свекрови:
— Умом покосился наш князюшка, как больше скажешь…
— Что так? — всколыхнулась в испуге старая княгиня. — О чем молвишь ты?
— Рада бы не молвить такого… Да вот сама спроси боярина. — Кивнула на вошедшего Третьяка Борисовича. Тот подтолкнул вперед себя сына Евпраксии Васильковны — Василька.
Василько, как глянул на нарядную Россаву, — застыл на месте, побледнел от волнения: «Да полно, уж Росинка ли это?» И Третьяк Борисович с любопытством присмотрелся к девушке, покачал седой головой: «И наделит же господь неземной красотой плоть человеческую!»
— Что сделалось с князем? — обеспокоенно допытывалась Марина Олеговна. — Объясни, боярин!
— Эко, как перепугали тебя, матушка. — Третьяк Борисович глянул с укором на княгиню Ксению. — Ничего покуда страшного не случилось, — ровным голосом продолжал он, — Видишь ли княгинюшка, сговорилось вече не поддаваться, ежели посягнут поганые на город.
— И этого не мало, — холодно вставила княгиня Ксения.-Быть городу в пепле и прахе, иначе не мыслю.
— Что решено, того не минешь, княгиня, — с тем же спокойствием ответил боярин. — Думать надо, как подготовиться да и встретить супостатов. Нешто мы уж совсем слабы?
— Где же сам-то, князь Константин? — тревожно спросила Марина Олеговна, которая, кажется, не совсем еще осознала грядущую беду.
Князь Константин в это время, стоя у всхода в крыльцо, отдавал распоряжения ближнему дружиннику Даниле Белозерцу.
— Смотри, чтобы не застигли врасплох. По всей суздальской дороге пусти дозоры.
— Сей миг отправлю, княже.
— Отбери десяток лучших воев, вели собраться наскоро и быть готовыми. Едем в Ростов.
— Есть ли нужда в заводных конех, княже? — озабоченно спросил дружинник, стараясь отгадать, чем вызвана эта поспешная поездка.
— Не надо заводных. В Ростове сменим.
— Как? — не скрыл удивления Данила. — И далее станет путь?
— Там будет ведомо, — рассеянно ответил князь.
Данила не стал больше допытываться о подробностях, хотя тревожное недоумение нарастало в его лице: «К чему сей неурочный отъезд князя, как отнесутся к нему горожане, приговорившие на вече обнажить меч против ордынцев?» Но он был исполнителен и малоохотлив на слова, за что больше всех дружинников жаловал его князь.
Константин между тем сосредоточенно думал, потом, словно сам себя проверяя, проговорил:
— Только не обманемся ли мы, не пойдут ли они Волгой?
К Ярославлю шли многие пути, и Данила понял, что беспокоило князя: не нагрянули бы татары с низа от Костромы, левым берегом, — путь самый удобный; но тогда им не миновать переправы через Волгу — вряд ли они решатся на это: город надежно защищен с реки высоким обрывистым берегом, татарская конница окажется скованной, сверху ее закидают стрелами; пойдут если правым берегом, все едино им придется свернуть на суздальскую дорогу, как и в прошлый раз, когда отряд Бурытая напал на купеческое судно, — не станут они пробираться неудобными, топкими тропами, да и здесь им не миновать переправы в устье Которосли; оставался вероятным правый берег от Рыбной слободы, от Углича. Но в тех краях у татар нет сильных отрядов.
— Нет вероятнее суздальской дороги, — уверенно заключил дружинник.
— И я так думаю, — согласился князь.
Скор Данила на ногу, только что стоял рядом — и нет его, поспешил выполнять наказ. А Константин задержался, увидев проходившего по двору ростовского купца Семена Кудимова. Кланялся земно купец, подходя к крыльцу: выдали ему из княжеских кладовых доброго товару — тканей узорчатых иноземных, связки мехов собольих и куньих. Благодарил купец князя за щедрость.
— Расторгуешься — возвратишь сполна, — охладил его радость Константин. — Не разбойная ватага, татары грабили тебя. Ухорону от них пока у нас нет.
Кольнуло купеческое сердце, отдалось болью; надеялся— товар дан безвозвратно, сам удивлялся непонятной щедрости князя, теперь ругнул себя: «И поделом огорошил князюшка. Ума на час лишишься — век дураком прослывешь. С чего бы ему благодетелем быть?»
— Вестимо, княже, как не возвратить, — вздохнул купец; честно смотрел в глаза князю, стараясь не выдать происшедшей в себе перемены; будто к сердцу, к груди прикладывал с благодарностью руку, а сам нащупывал чудом оставшийся при нем тяжелый кожаный мешочек.
— До самой ростовской земли стоят сторожи, — сказал князь. — Так что езжай безбоязненно.
— Благодарствую, княже. Только я уж водой поплыву, сподручнее будет.
— Ну ин дело твое. Отправляйся водой. Смотри только, не наткнись на татарские разъезды. Сопровождать тебя некому, да и второй раз помогать никто не станет.
Не ожидал Константин встретить в княжеских покоях неизвестных людей, еще больше не хотел видеть нелюбимую, чуждую княгиню Ксению. Сумрачный, шагнул через порог. С княгиней бы ему, Мариной Олеговной, поделиться наедине тревогою своею, сомнениями. Знал: не будет ему от нее разумных советов, но успокоится он от ласковых материнских слов, воспрянет душою и утвердится в своем решении, почувствует себя, как никогда, сильным. Так всегда бывало.
Когда узнал, что незнакомые юноша и девушка — жители лесного урочища, вызволенные из татарского плена, помягчел. Сынок Евпраксии Васильковны не спускает глаз с красавицы, не особо таится — видно, что без ума от нее. И сам, приглядевшись к Россаве, внезапно почувствовал странное волнение — брала свое молодая кровь. Но тут же рассердился на себя, свою слабость: «Об этом ли думать ныне!» Ко всему, княгиня Ксения встретила враждебным возгласом:
— Гордыня ум застила, братец? Что дальше-то будет, подумал ли?
— Не свои слова речешь, — еле сдерживаясь, чтобы не накричать, ответил Константин. — Довольно наслышан такого на вече.
— Как знать. — На узком лице Ксении застыла напряженная улыбка. — Может, слова-то и есть самые мои.
— Тогда скажу, — вспылил Константин. — Не мешалась бы ты в дела, кои тебя не касаемы.
Вот и взбродила ссора в княжеском дворце, обычная, рядовая, какая бывает в избах простых людинов.
— Будет! — Марина Олеговна гневливо посмотрела на сноху: «Какая благодать была без нее, господи!» — Будет тебе! Прикажи-ка лучше накрывать на столы, проголодалась я, да и гостей истомили.
По издревле сложившемуся обычаю слова матери-вдовы — закон для детей, никто не волен нарушить его. Не осмелилась и Ксения проявить непокорство.
Старая княгиня тяжело поднялась, собираясь уходить. Сказала внучке:
— Зови, Марьюшка, с собой Василька и Росинку.
— Э, нет, — живо возразил Третьяк Борисович. — Красавицу, княгинюшка, держи на своей верхней половине, а молодцу не пристало в женских светелках обитаться. Ему воином быть. Внучек, — обратился он к мрачно нахмурившемуся Константину, — покуда не зовут нас к трапезе, взгляни-ка на этого вьюношу. Порадовал он меня своим умением.
Увел мудрый наставник от греха князя, знал: пресеченная ссора могла вновь вспыхнуть.
На подворье Третьяк Борисович кликнул челядинца, велел принести лук и стрелы. И, когда тот доставил, вручил Васильку, одобрительно подмигнул. Парень зарделся от смущения и гордости: как же, при князе хотят испытать его умение обращаться с боевым оружием.
— Куда прикажешь послать стрелу, боярин?
— А вот… — Третьяк Борисович подтолкнул расторопного челядинца. Тот, сообразив, что от него требуется, помчался к вековой липе — шагов триста, если не больше, было до нее; взобрался по гладкому стволу до первых сучьев, там укрепил свой войлочный колпак.
Опытный лучник на двести-триста шагов мог делать в минуту шесть выстрелов; с изумлением смотрел Константин, как летели стрелы, чуть не догоняя одна другую, и все тесно гвоздили мужицкую шапчонку. Живым веером трепетало оперение десятка стрел, воткнувшихся в мякоть древесины.
Ласково светило солнышко, ныряя в белых кучевых облаках, светлело лицо князя. Спросил обрадованно:
— Где ты научился метать стрелы?
— В лесу живем, охотимся, — скромно сказал Василько. — Есть у нас охотники — стреляют и лучше меня.
Внизу над сверкающей водной гладью белыми комочками взмывали чайки. Князь загорелся:
— А птицу отсюда подсечь можешь?
Василько мельком взглянул на реку, прикинул расстояние.
— Могу, господин, но, прости, — не буду. Грех без надобности губить божью тварь.
— Вон ты какой! — Юноша все больше нравился Константину. — А мечом управляешься? На коня садился?
— Умею и это, — с достоинством ответил Василько. Но тут же опомнился: не сочли бы за похвальбу. — На коне сижу хуже, нет в лесу простора для всадника…
— То поправимо, — остановил его князь. — Беру тебя в дружину. Как, боярин?
— Добрый будет дружинник, — одобрил Третьяк Борисович.
— Дюже добрый, — вставил подошедший и видевший все Данила Белозерец.
Князь ждал, что юноша станет благодарить его за оказанную высокую честь состоять в дружине, но тот молчал, потупясь, переступал с ноги на ногу.
— Ты, кажется, и не рад? — неприятно удивился Константин. — Говори почему? Не таись.
— Рад я, господин, но матушка моя не знает, где я. Отпусти увидеть матушку.
— Сам хочу побывать в вашем лесном селении. Доведешь ли до урочища?
Василько смешался, покачал головой.
— Сомневаюсь, господин. Когда тянули меня татары на аркане, мало что видел, пот застилал глаза. А допрежь до города не хаживал.
— Ништо, — успокоил князь, — кузнец Дементий знает путь к вам. Данила, — обернулся он к дружиннику, — предупреди кузнеца: с нами поедет. Пошли за ним не мешкая. И Василька беру. Справь им коней, оружье.
— Вот что, боярин-батюшка, — озабоченно продолжал Константин, когда остались вдвоем с Третьяком Борисовичем. — Хочу братьев своих поднять на ордынцев. Обмолвилась Ксения: Глеб белозерский вернулся из ханской ставки, гостит у Бориса. Как раз обоих застану.
— Это что ж! — поразился Третьяк Борисович. — У ж не хочешь ли, чтобы я не сопровождал тебя? И думать не моги, не пущу одного. Я за тебя перед княгиней в ответе. Да и в Ростове знакомцы из бояр у меня найдутся, словечко замолвить к случаю можно, оно, глядишь, поддержка перед князьями.
— Пустое, — отмахнулся Константин. — Братья решат — бояре супротив не станут. А ты здесь нужен. Ну, как быстро сколотится татарва? Ты, боярин-батюшка, воев собирай, готовь их к делу, то тебе сподручнее. Маменька не заметит моего отъезда. А если спросит — на охоте я, завтрашним днем обернусь.
— Езжай, коли так, задумал ты верно, внучек, — согласился Третьяк Борисович, но не было в его словах уверенности. Долю свою человек выбирает сам, Константин выбрал свою, но едва ли поддержат его двоюродные братья. Княгиня Ксения не только о том обмолвилась, что Глеб гостит в Ростове, — привез он из ханской ставки степнячку, женой нарек, не зря перед тем супружницу свою Агафью в монастырь упрятал. Иные князья пируют, топят горе в вине, ссорятся, бесчинствуют, не зная, чем заняться, как жить под ярмом иноземным; иные подкупом да низкопоклонством, женясь и братаясь с погаными, вырывают друг у друга ханские ярлыки на княжение. Глеб с юности своей угодлив; презрев славное имя родителя, по словам игумена Афонасия: «брашна своя и питья нещадно требующим подавая», — тоже выбрал свою долю..
— Пытайся, внучек, дело доброе, — повторил Третьяк Борисович, — ну а я гонцов в подвластные тебе городки пошлю, бояр потрясу, найдутся по вотчинам охочие люди; мологских да сицких кликну, — они-то ой какие злые на татар. И то: дети павших воинов. С божьей помощью и отобьемся: назад, князь, шагу нет.
— Душа горит сразиться с погаными, — горячо сказал Константин. — Коли выстоим, другие подымутся. Людей от разора избавим.
Недолгой была их беседа, но всё решили; оба думали одно и то же.
3
Добрая слава у Екима Дробыша. Бороздят речные воды сработанные им легкие, увертливые суденышки — лодии и беспалубные челны, иные и в море выходят — не подводят торговых людей и там. Жить бы ему в почете и большом достатке, да только берет мастер инструмент, когда сходит на него божья благодать, название которой — вдохновенье. В другое время нет краше для него забавы, как сидеть за столом с полной чарой, слушать бывальщины заезжих людей, — а такие к нему наведываются часто: починить ли судно, новое ли приобрести.
И еще радость в доме Екима — белолицая, статная Надзора, лада, нравом незлобивая и покорная. Берег мастер свою радость, и в тот день, когда въехали на его подворье два татарина да монах Мина, ввязался Еким в драку: не стерпел, увидев, как схватил татарин жену; отшвырнул его, крикнул: «Беги, Надзорушка, скрывайся!» И быть бы ему в своем доме порубленным саблями, но всполошился Мина, зная цену мастеру, остановил освирепевших татар. Зато втроем изукрасили они Екима знатно, полумертвого кинули в конский загон Ахматовой слободы.
Двор у Екима завален бревнами и досками, под навесом белеет ребрами остов начатого челна. Воздух насыщен духовитым запахом сосновой смолы.
Сюда, к мастеру, привел ростовского купца Семена Кудимова простоватый, неповоротливый Еремейка.
— Энто вот Семен Миколаич, — представил купца Еремейка. — Торговать судно пришел. Чай, есть у тебя какое?
— Будь здрав, Семен Миколаич, — добродушно поздоровался Еким. Ухмыльнулся, приметив, с каким испугом разглядывал купец его синюшное лицо.
— Стало быть, товар надо переправить, — объяснил купец. — А лодия моя затонула. Такая оказия.
— Слышал о твоей оказии, никому другому но пожелаю быть на твоем месте. Есть у меня суденышко, спущено на воду, на Которосли. Только чем платить-то будешь, купец? До нитки ограблен ты.
Семен Кудимов усмехнулся плутовато: хранился у него на тесемке под рубахой заветный кожаный мешочек.
Когда полоснул его саблей по груди монах Мина, оборвалась тесемка, но не выпал потайной клад на землю, застрял у пояса штанов. Грабители в спешке не догадались ощупать купца, святые духи охранили от беды. Как очнулся купец и почувствовал приятную тяжесть мешочка на животе, помолился благодарно: слава богу, не совсем разорен, есть на что купить товар, снова подняться на ноги. А если молодой безоглядчивый князь Константин велел выдать ему добра из своих кладовых и он не отказался от того, что само в руки идет, в том большого греха Семен Кудимов не видел. Как же без хитрости торговому человеку! Без расчета жить — себя погубить.
— Сговоримся коли — найду чем платить, наскребу, — сказал он мастеру.
На берегу сговаривались. Судно купцу приглянулось: вроде бы внешне и неказисто, и невелико, но сделано прочно, по всему видать, не осадистое, легким станет на ходу. Посреди челна мачта. Поставил ветрило — и в путь, купец.
Мастер много не запрашивал: понимал, в каком трудном положении оказался торговый гость, сочувствовал. Доволен был Семен Кудимов запросом, но не удержался (ох, она, душа купеческая!) от горестного вздоха; догадывался: простосердечный Еким устыдится того вздоха. И как в руку глядел; сам себе показался мастер нелюдем, татем лесным.
— Ладно, купец, — сказал, — сколь дашь, по-божески…
За половинную цену сторговал Семен Кудимов добротный челн. Обрадованно прикрикнул на Еремейку:
— Живо садись, гони лодию к мосту, там грузиться станем.
Еремейка слова его пропустил мимо ушей, стоял пнем, скреб пятерней в затылке.
— Это ты как? Это почто? — рассердился Семен Кудимов. — Что тебе сказано! Отгоняй, нонче же тронемся.
— Не, Семен Миколаич, послужил я тебе — и будя, — ответил парень. — Отказываюсь быть при тебе. Коли нужно, гони судно сам. Ты вить рвения мово не замечал. A пошто еще князю оговорил: нечестный я?.. Будя!..
— Ну брось, брось. — Купец ласково положил ладонь на крепкое плечо Еремейки. — Кто старое помянет, тому глаз вон. Старые-то счеты к чему сводить? Садись, Еремеюшка, в лодию, поспешать надо. Не ровен час, навалятся татары, так мы по воде-то уж уплывем далеконько. Они по суше от Суждаля двинутся, а мы по воде, сторонкой. Так-то!
— Не, — решительно отказался Еремейка, — к дяденьке Дементию иду, у него ишшо послужить хочу.
И зашагал вверх по обрывистому берегу, оставил растерявшегося купца возле приобретенной им задешево посудины.
Эх, купец, купец, хоть и горько пришлось, не надо было сомневаться в глупом и услужливом парне. Где сыскать теперь охочего до дела помощника, каким был Еремейка? Но и кто знал, что такой увалень— да и обидчив. Беда, купец!
— Постой-ка, малый, — окликнул мастер, нагоняя Еремейку. — К кузнецу Дементию, стало быть, подался?
— К кому же, как не к нему.
— Ну ин пойдем вместе. И у меня к нему забота есть.
4
Невесело гостилось бортнику Савелию у кузнеца. Внучку только мельком и видел, когда ворвался вместе со всеми к пленникам в татарскую слободу. Не успели прибыть в дом кузнеца, ополоснуть разгоряченные лица, появился молодой дружинник — посыльный старой княгини, — запыхавшийся.
— Ты, что ль, Савелий, бортник, будешь? — спросил.
— Я так… — растерялся старик.
— Ищи тебя. Весь город обежал, хорошо — подсказали люди: у Дементия. Внучка твоя где?
— Здесь внучка. — Савелий метнул испуганный взгляд и а спальный полог в избе. — Да пошто она тебе понадобилась?
Весело и требовательно ответил Топорок:
— Княгиня Марина Олеговна велит звать ее.
Совсем растерялся старый бортник.
— Пошто? Какая вина за ней?
— Того не ведаю. Велено сыскать и доставить.
— Ишь, беда-то. Не одета она, как ей во дворец, — высказал последнюю надежду Савелий.
— Велено привести — и все. Хочет княгиня взглянуть на нее, страдалицу.
— Иди, внученька, — со слезами сказал старик. — Храни тебя бог.
Тронутая нелегкой судьбой девушки, пожелала сердобольная княгиня Марина Олеговна, чтобы привели к ней Россаву. Глядишь, радоваться бы должен, если останется Росинка в княжеском дворце — честь-то немалая! — да и не весь же ей век коротать с дедом в лесу: может статься, понравится княгине, выдаст ее за кого-нибудь из дружинников, будет жить припеваючи. А как ни думай, радости нет: оторвали от сердца кровиночку, ради которой на свете жил.
Дементий — в кожаном, опаленном до желтизны переднике, волосы, чтоб не спадали, стянуты ремешком — расковывал стальную полосу. Савелий бил молотом, куда указывал ручником кузнец; постепенно вырисовывалось из брызжущей искрами огненной полосы лезвие обоюдоострого меча.
Рядом старался Филька. Хоть и пот лил с чумазого, с конопушками, лица, с усердием налегал на рычаг меха, раздувал яркое пламя в горне. Не зря старался отрок, обещал тятька выковать ему по силам настоящий меч — за взрослого стал считать, как побывал Филька в татарском остроге.
А у раскрытых дверей в тени лежал надежный страж серый Полкан. Он и встретил ворчанием подошедших людей.
— Здоровы будете! — приветствовал Еким. — Бог на помощь.
— Спасибо, лодийный мастер. И ты здрав будь, — откликнулся Дементий. Отбросив потемневшую заготовку меча на кучу железа в углу, вышел из кузницы. Вдруг увидел за спиной мастера парня, спросил неласково:
— А ты пошто, непутевый?
— Дык пришел, — растерянно начал Еремейка.
— Вижу, что пришел, — усмехнулся кузнец. — Только как понять — зачем пришел? Купеческие караваны я, чай, не снаряжаю, помощники мне не надобны.
— Оружие мне какое-нито. Уважь, дяденька Дементий.
— Опять купца охранять пойдешь?
— Рассчитался он со своим купцом на моих глазах, — вступился Еким за парня.
Еремейка был донельзя рад поддержке мастера, перешел к деловому разговору:
— Дык как?.. Грамоту писать станем?
— Какую еще грамоту? — удивился кузнец.
— А к тому, как на время я к тебе, чтоб потом не обижался. Ишь ты, у князя-то с обидой какой говорил. Что говорил-то, вспомни.
Кузнец усмехнулся словам парня, взгляд его потеплел.
— Дурак ты, Еремейка, — ласково попрекнул он. — Таким и на тот свет отойдешь. Ну и оставайся таким, как без таких — невесело. Нешто я не знаю, что не удержишь тебя, ежели нету тяги к нашему кузнецкому делу. Гнать бы тебя в шею с подворья, да полюбилось мне, как ты с монахом-переветником Миной управился. За это тебе людской поклон. Но сговор мой такой будет: меч скуешь сам по своей руке. А отделка и закалка — это за мной. Знаю, не попусту он тебе.
— Не, — помялся парень.
— Уговор мой не по душе? Чего упрямишься?
— Несподручен я к мечу. Что-нибудь потяжельше.
— Рогатину?
— Можно рогатину, да… Молот, коим по наковальне, сподручнее…
— Понял тебя, Еремейка, — пряча улыбку, сказал кузнец. — Будет тебе боевой топор на длинной рукояти, с петлей ременной, чтоб не вырвался у тебя из рук. Чаю, не посрамишь кузнецкий ряд. Круши им врагов без жалости.
— И я, Дементий, к тебе за тем же шел, — сказал Еким, доселе с удовольствием слушавший их разговор. — Но мне не молот, а меч справь. Не гони, и мне на правое дело он нужен.
— Обожди, сейчас я, — сказал Дементий, направляясь в кузницу.
Он очистил угол от наваленного железного хлама, под которым оказался вход в подпол. Вынул оттуда завернутый в промасленную тряпицу тяжелый клинок; сталь его блестела. Подал мастеру.
— Эй, друже Дементий, — обрадовался Еким, любуясь клинком, — где пропасть с таким славным мечом, сам разить врагов будет, токмо дай ему волю. Удружил ты мне, за это что хошь проси.
— Просить я у тебя ничего не стану, — недовольно ответил кузнец. — Не на торгу мы с тобой. Меч для себя делал, и ладно, коли он тебе по нраву. А плата — пусти его в работу по головам поганых, — нет для меня лучшей платы.
— Не серчай, друже Дементий, не к месту обмолвился.
Дементий, не дослушав его, посожалел:
— Беда, гости дорогие, попотчевать вас нечем. Был остатний бочонок ставленого меду, и тот унесли татарские сборщики.
— Не тужи, Дементий, то поправимо, — радуясь случаю отблагодарить кузнеца, сказал Еким. — В моем доме найдется и добрый мед и брага. А у Надзоры сыщутся яства немного хуже, чем у князя. Вот и погуляем.
Не ко времени, видать, упомянул Еким князя, не пришлось им погулять.
В воротах появился княжеский отрок, ведя в поводу гнедого коня под седлом. Передал поводья кузнецу и сказал: велено быть на княжом подворье немедля.
— Коня береги, — наказал он. — Лучшего из конюшни велел выбрать Константин Всеволодович. Зовут его Верн.
Опечалилось лицо Екима, да что сделаешь, не иначе для важного дела зовет Дементия князь.
Любовно оглаживая Верна, настороженно косившегося на него выпуклым влажным глазом — незнакомым был запах горелого железа, исходивший от нового хозяина, — Дементий сказал Екиму:
— Толку-то в твоей кручине, мастер. В иной раз погуляем. И Надзоре передай — отведаю ее пирогов и солений. Пусть ждет. А сейчас, вишь, не ко времени.
— Что ж, добрый гость хозяину всегда приятен. В любое время мой дом для тебя открыт. Езжай. А мы с Савелием и Еремейкой чару за тебя подымем.
5
Исполняя наказ князя, Данила Белозерец послал дозоры-сторожи по суздальскому большаку вплоть до развилки, где вправо отходит торная дорога на Ростов Великий. В случае тревоги, пойдет весть от одного гонца к другому. Донесший ее останется на месте товарища, а тот на свежем коне помчится до следующей сторожи. Быстро передастся молва о приближающейся опасности.
В первой, ближней от города, стороже был оставлен молодой дружинник Топорок, воин справный: и плечи достаточно широки, и грудь заметно растягивает кольчужную рубаху, да и лицом вышел — смуглый от загара, в глазах, цвета голубой сини, ум и строгость, хотя придирчивый взгляд и мог бы подметить, что еще не вошел он в полную мужскую силу.
Топорок, привязав коня к дереву, слушал тишину.
Удивительно и непривычно стоять на дороге, которую стискивает с обеих сторон вековой лес. Она только кажущаяся— лесная тишина, она наполнена разнородными звуками, шорохами.
У Топорка чуткое ухо. Взлетел ли рябец — прежде чем воин скосил на него взгляд — ухо уловило шелест крыльев. Вон там сзади раздался мягкий стук — то упала на устланную рыжей хвоей землю кочерыжка еловой шишки: белка полакомилась и сбросила ее.
Солнце перевалило на вторую половину, влажный лесной воздух насыщен запахами смолы, гниющих листьев, грибов.
Иногда Топорок приникал к земле, вслушиваясь, не долетает ли конский топот от соседней сторожи, чтобы к появлению гонца быть готовым нести весть дальше.
А лес продолжал жить своей обычной жизнью. Пестрой тетерке понадобилось провести свой выводок через дорогу. Цыплята еще не поднялись на крыло и цепочкой семенили за сердито квохчущей мамашей. Вдруг в стороне треснул сучок — птицы поспешили укрыться в еловом подросте. Через какой-то промежуток опять слабо треснул сучок. Топорку знакомы повадки лесных обитателей: по лесу шел лось, которому ничего сейчас не грозило, но по врожденной осторожности после каждого шага он останавливался и слушал. Вот когда зверь бывает потревожен, то несется напролом — звон стоит в лесу.
Рука дружинника сама потянулась за спину, чтобы снять лук, наложить каленую стрелу. Только на мгновенье допустил он слабость и устыдился этого. Ругнув себя в душе, Топорок опять замер: воин победил охотника. Тяжкое преступление — отвлечься от дела, к которому приставлен; тем более непростительно молодому воину, каким был Семка Топорок, столь высоко вознесенный сейчас противу прежней своей жизни.
В владетельном селе Высокове, где стоял летний княжеский терем, еще до прошлого года пас скот отрок Семка «Семка-пастушок», «Семка-пастух» — так бы и зваться ему до скончания века, да в счастливый для него день переменилась судьба.
Неведомая и внезапная хворь напала на княжну Марьюшку. Вечером еще была весела, утром встала бледной, а к полудню начался горячечный бред. Константин Всеволодович с немногими дружинниками, что были приставлены для охраны княжеского терема, еще затемно отъехал на охоту по зверю. Дома осталась княгиня Марина Олеговна с сенными девушками и старой нянькой Еремеевной. Раненой птицей металась по покоям старая княгиня, бестолково носились по затемненным переходам терема перепуганные, растерявшиеся челядинцы.
После спада полуденной жары Семка-пастушок собрался выгонять стадо, проходил неподалеку от княжеских покоев. Тут на него и налетела старая нянька, Старуха оценивающим оком повела на парня да и приказала строго:
— Немедля несись в город к боярину Третьяку Борисовичу. Скажешь: для княжны нужен лекарь Микитка. Хватай любую лошадь и скачи.
Семка не помнил, как вывел коня из княжеской конюшни, как взлетел на него птицей, заколотил босыми пяткам по лоснящимся бокам жеребца. Не слышал и причитаний няньки.
— Что же ты, непутевый, на неоседланном-то поскакал! Не равно свалишься, коня упустишь! — всполошен-но кричала вдогонку старуха. — Кого послала, родимые, пропала моя головушка…
Откуда ей было знать, что Семке сподручнее было на неоседланном коне скакать — седло он в глаза видел, а сидеть не приходилось.
Двадцать верст до города пролетел одним махом, добрый попался конь, даже не запотел.
Обратно сопровождал возок, в котором ехали тучный Третьяк Борисович и дед Микита — ведун.
Ничего опасного лекарь не нашел, успокоил княгиню, сказав:
— Зря тревожишься, княгинюшка. Нешто много погуляла княжна на солнышке, головку запекла. К завтрему пройдет.
Дед напоил больную травяным отваром, и княжна уснула.
Вернувшись с охоты, Константин Всеволодович велел кликнуть Семку — нянька Еремеевна не пожалела для него добрых слов.
— Ведь как сорвался… Кричу ему: «Коня-то оседлай!» Куда там! И какой ловкай!..
С трепетом предстал Семка перед князем, не зная, что его ждет; подумал сначала: дорогого коня без спросу взял, загубил в бешеной скачке. Но нет, совсем не сердито смотрел на парня князь Константин. Рядом грудились дружинники, перекидывались шутками — молодые, веселые, еще разгоряченные охотой. Не раз потом вспоминал Семка эти минуты: что и говорить, хорошо же выглядел он в своем отрепье среди нарядных, удалых воинов.
— Приглянулся тебе конь? — с улыбкой спросил князь.
Нет, не для наказания позвали его. Семка смело взглянул в глаза Константину Всеволодовичу.
— Кому не приглянется! Такой конь!.. Он аж над землей летит. — На лице отрока сияло такое восхищение, что все засмеялись.
— Дарю тебе Разгара. Заслужил.
Семка еще не до конца сообразил, какое счастье выпало ему, когда из толпы дружинников выдвинулся рослый воин, одетый наряднее всех, белоголовый, с курчавой бородкой, — позднее узнал, что был это Данила Белозерец.
— Пошто ему, княже, такой конь? — явно неодобрительно проговорил он. — Его в соху не впряжешь. Сгинет без толку Разгар.
Князь засомневался — слова Данилы были верными. Но не любил Константин переиначивать сказанное.
— Пускай ладу свою катает, ежели для сохи непригоден Разгар. Есть у тебя любимая?
Семка расплылся в улыбке — рот до ушей, а сказать ничего не смог: была у него лада, да только видел он ее, когда княжеское семейство перебиралось на летнее время в Высоково, — сенная девушка Марины Олеговны — Настаска. И всего-то перекинулся с нею несколькими словами, а в сердце осела накрепко. Недаром и норовил без надобности появляться возле княжеского терема, надеясь хоть мельком увидеть девушку.
И опять смеялись дружинники над смутившимся парнем.
Данила сказал Константину Всеволодовичу:
— Уж если, княже, беспременно желаешь наградить его конем, то сделай и второе: возьми его в дружину. А уж я за ним присмотрю…
Одно удовольствие вспоминать Топорку тот свой первый счастливый день…
Солнце уже падало за лес, навевал прохладный ветерок, добавляя к шорохам лесных обитателей говор верхних ветвей деревьев.
Все было так спокойно, жизнь была так радостна, что не верилось в предстоящую битву, в то, что, может, уже скачет татарская конница и вскоре окрестности огласятся звоном мечей, стоном умирающих, плачем женщин, останутся на месте селений горклые пепелища.
Занесут кривую татарскую саблю и над головой То-порка. Молодой воин сжал рукоять меча, мускулы лица отвердели, и взгляд стал суров. Нет, не будет ордынцам легкой победы, Топорок сумеет постоять за себя, за отчий кров.
Нелегко давалась ему воинская выучка: не один шрам от тупого меча остался на плечах — Данила, обучавший его, был безжалостен; не одну горькую минуту пережил он из-за злых окриков строгого наставника. Но потом все чаще Данила, сам воин отменный, стал одобрять его: сравнялся Топорок выучкой и ловкостью со многими дружинниками.
Данилу Белозерца Топорок почитал за отца.
Тогда первый раз в жизни Семка-пастушок сел на коня в боевое седло и принял сраму. И от кого бы? От своего коня.
Это сейчас Разгар не шевельнется, приучен, косит умным глазом на хозяина. В луга бы ему теперь, на сочную траву, но раз хозяин здесь стоит замерев — и Разгар стоит; только уж когда злой паут доймет, хлестнет хвостом по мучителю и снова недвижим.
Топорок с конем на равных, он с ним беседует, делится сокровенным и не сомневается, что конь прекрасно его понимает, чаще одобряет, в чем-то не соглашается; зря говорят, животина только и есть что откликнется на ласку, как бы не так: конь может и рассердиться на хозяина и под настроение поозорничать над ним.
…Впервые неумелыми руками накладывал Семка-пастушок седло на упругую конскую спину. Когда затягивал подпруги, не заметил, как Разгар глубоко вдохнул в себя воздух, расширились его бока.
Семка вместе со всеми поехал к реке напоить коня. Зайдя в воду, Разгар, перед тем как пить, с шумом выдохнул, подпруги разом ослабли, седло мгновенно съехало под брюхо, а Семка оказался в реке. Не глубоко было, но и то наглотался воды, пока высвобождался из стремян. Ох, и потешались над ним дружинники! Но что больше всего поразило Семку; Разгар мотал головой, и в его глазах тоже был смех.
— Топором ушел на дно наш Семка, — гоготали дружинники.
— Что ржете? — прикрикнул на них Данила Белозерец. — Будто сами сразу стали, во всем умелыми.
Дружинники притихли, вспоминая; почитай, за каждым были оплошности в долгом и нелегком воинском учении. Не смеялись больше над Семкой, но прозвище — Топорок — прилипло.
А Данила, улучив время, когда остались наедине, допросил с пристрастием;
— Неужто плавать не можешь?
— Где мне было научиться плавать. Нешто в Высокове есть что, окромя пруда с лягушками.
— Какой же из тебя воин! На первой переправе утопнешь с конем вместе.
Семка стоял красный от стыда; ничего не возразишь, прав Данила.
— Учись! Через неделю чтоб переплывал Которосль, через две — Волгу. Проверю сам. Не освоишь — опять пойдешь к коровам в стадо.
И эту науку освоил Топорок: плавал он теперь без устали, мог долго сидеть под водой, высунув камышинку для дыхания.
Разгар вдруг тихо заржал: он первый услышал приближающийся топот коней и предупредил хозяина.
Топорок приник ухом к дороге — земля слабо отдавала толчками; шум шел со стороны города, не от соседней сторожи.
Воин отвязал коня и вспрыгнул в седло. Шагов пятьсот в обе стороны дорога просматривалась четко, дальше, сужаясь, пропадала, скрытая деревьями. Топорок настороженно всматривался, хотя и знал, что со сторону города, кроме своих, ждать было некого. И только когда десятка три всадников вырвались на чистое место, он отступил на обочину. Впереди скакали Данила Белозерец и Константин Всеволодович; алый княжеский плащ пламенел в закатном солнце.
Данила ни о чем его не спрашивал; и так понятно дозорный спокоен, ничего не произошло. Сдерживая коня, он обернулся и приказал;
— Дрок и Осой, останьтесь. Ты, Топорок, с нами.
Два дружинника спешились, им теперь быть в стороже. Отряд не мешкая поскакал дальше.
6
Миновали еще сторожу. И там Данила оставил двух дружинников. А дальше, за Заячьим холмом, ближе к Яму, наткнулись на завал. Громадные ели на высоте сажени были искусно подрублены и упали вершинами на дорогу в сторону Суздаля. Завал шел и по бокам дороги, но как далеко — не просматривалось из-за плотных зарослей.
Из укрытия высыпали вооруженные мужики, почтительно склонились перед князем. Константин, досадуя на непредвиденную задержку, недовольно разглядывал их.
— Что тут у вас происходит? Кто старшой?
Вперед выступил высокий, жилистый старик, вислые длинные усы и седая борода падали ему на грудь. Был он в чистой холщовой рубахе, новых лаптях; держал рогатину с древком толщиной в руку.
— Многих тебе лет, княже Константин Всеволодович, — приветствовал он, с достоинством поклонившись князю; в голосе его слышалось добросердечие и некоторая покровительственность, какая бывает у людей, много поживших, когда они обращаются к молодым по возрасту. — Старшой буду я, Окоренком зовусь. Не обессудь, княже, верхом тебе не пробраться. Повели воинам сойти с коней, проведу через засеку пешими.
— Нешто татар хотите сдержать засекой? — спросил князь с улыбкой; ему понравились опрятность старика, и его свободный разговор. — Засека-то зачем вам?
— Где уж сдержать, — степенно и тоже улыбаясь, ответил старик. — Само собой, заслонились, подержим немного нечестивых, пока семьи в лесу не ухоронятся. Вон тут за лесом, через овражек, сельцо наше.
Константин спешился, за ним последовали остальные. По узкой, еле заметной тропе Окоренок вел в поводу княжеского коня. Князь внимательно приглядывался — конному тут ходу не было: низко свисали толстые лапы елей, тропа петляла, надо было смотреть под ноги, чтобы не споткнуться о выступавшие корни неохватных деревьев.
— Чье же это сельцо?
— Твое, княже господине, — охотно откликнулся Окоренок. — Намедни еще было боярское, боярина Юрка Лазуты. А тут появился твой тиун, сказал: отписал ты сельцо себе. Здоровья тебе на многие лета, Константин Всеволодович, обрадовал ты нас. Намаялись мы с боярином, дыхнуть не давал.
— Что ж, теперь считаете — побора не будет? Чему обрадовались? — усмехнулся князь.
— Куда деться от побора, нешто мы не понимаем, — ответствовал мужик. — Да только суди сам: невыгодно тебе в немощи нас держать. Что возьмешь со слабого, нищего? Вот, к примеру, конь; ему на выпас, подкормиться хочется, а ты, допустим, гоняешь его без роздыху. Далеко ли на нем ускачешь, на таком-то? Боярин не понимал этого. Прости, княже, за грубое слово, давил он нас, как давят льняное семя; людишки наши, на земле-то своей сидя, с голоду мерли. Зачем все это?
— Неразумно это, — согласился князь.
— Вот о чем и говорю, — обрадовался мужик поддержке, — а он, боярин-то наш Лазута…
— Но ты-то, вижу, не очень пострадал от боярина, — резко прервал Константин: независимый тон мужика-говоруна стал раздражать его. — Глянь-ко, и телом крепок, и чисто одет. Что так жалобишься?
— Дак, княже господине, нешто я за себя толкую, — обиделся мужик, — А что меня касаемо, то нашего рода кость такая, недаром Окоренком прозываюсь. — Длинной своей рогатиной старик раздвинул ветви, и показался свет. — Прошли засеку, княже, — проговорил он.
По одному выбрались в чистое место; после лесной глухомани при виде голубого неба вздохнулось легче.
Окоренок, передавая повод князю, вдруг озабоченно сказал:
— А боярыня, по всему видать, не успеет. Нет, не успеет…
Константин удивленно смотрел на него, не понимая, о чем он.
— Боярыня Матрена велела известить, когда поедешь, — пояснил Окоренок. — Поклониться хлебом-солью хотела за твой справедливый суд. Сельцо-то ее рядом с нашим. Побежали за ней. Ан нет, теперь не успеет…
— Откуда ей знать, что я поеду? — Резко обернулся к Даниле Белозерцу, упрекнул — Тебя просили отобрать в сторожи дельных, ты кого послал?
— Отбирал, княже…
— Не серчай, государь, — вмешался Окоренок. — Дозоры твои появились на дороге. Как было не подумать— для чего они? И опять: проехать ли им? Так же через засеку продирались.
— Сними их со сторожи и отправь домой, — не слушая старика, сказал князь Белозерцу. — После решим, что с ними делать. Сколько их там?
— Трое. Люди надежные…
— Оно и видно — надежные, — презрительно отозвался Константин. — Не удивлюсь, коли молва до Суздаля прокатилась и конники Бурытая встречь попадутся.
Константин Всеволодович уже был на коне, когда из леса высыпали люди; два рослых парня волокли под руки запыхавшуюся боярыню Матрену, сзади, обливаясь потом, мужики тащили глиняные корчаги, корзины со снедью.
— Ах ти, голова моя непутевая, да что же я наделала — князюшку ждать заставила! — еще издали запричитала Матрена. — Уж ты не гневись, батюшка-князь, сойди с конька своего, уважь старуху. Не побрезгай медком моим, пирогом закуси.
Боярыня утерла рукавом летника раскрасневшееся лицо и продолжала с надеждой:
— А может, в домишко мой пожалуешь? Отдохнешь с устатку? Сделай такую милость!
Вся эта сцена — и замлевшая от бега боярыня, и ее наивное предположение, будто он оттого задержался, что ждал ее, и мужики со своей кладью, что посматривали на него с любопытством и испугом, — позабавила Константина, лицо его подобрело.
— Спасибо на добром слове, Матрена, — ласково сказал он — в гости мне недосуг, а меда твоего испробую.
Мужики мгновенно наполнили янтарной влагой, резной деревянный ковш, боярыня поднесла с поклоном…
— Ну-тко, испей, батюшка. Господи, дождалась я радостного часа! Уважил князюшка старуху.
Константин, отдавая ей опорожненный ковш, заметил с легкой усмешкой:
— Какая же ты старуха, Матрена! Глянь, лицо разгорелось, как у девки на выданье. Скоро управимся с делами, сватов к тебе зашлем.
Да и в самом деле, не узнать было в теперешней ту изможденную и запуганную Матрену в темном платке, что стояла у княжеского крыльца, — расправились морщины, в глазах живой блеск, пополнела станом.
— И полно смеяться-то, какие уж сваты, — застыдилась боярыня княжеских слов. — Вот для тебя ладушку, пожалуй, и не сыскать — не найдешь, чтоб умом и красотой сравнялась.
— Не льсти, Матрена, — засмеялся князь. И вдруг изменился в лице, пригрезилось— вот будто стоит перед ним, — увидел бортниковскую внучку Россаву, ее глаза, синие, как глубь неба. Вроде тогда и не до нее было — больше занимала ссора с княгиней Ксенией, — а запомнилась, осталась в сердце. Отыскал взглядом Василька: мужики угощали дружинников крепким, ставленым медом, и он стоял сзади с кузнецом Дементием, терпеливо ждал, когда ковш дойдет до него. Лесной диковатый Василек был под стать красавице Россаве.
Третьяк Борисович с матерью Мариной Олеговной давно подступаются к нему, ищут невесту, а он до сих пор со смехом отмахивается — не до этого. А сердце-то, оказывается, отзывчиво на женскую красоту; просто не встречал никого доселе, оттого и глухо оно было. Ну да всему свое время.
— Что ж, прощай, Матрена, спасибо за хлеб-соль.
— Дай тебе бог здоровья, батюшка, — сердечно ответила женщина, осеняя его крестом.
И уже тронул коня, но вдруг остановился, с лукавой усмешинкой спросил:
— А что, Матрена, есть правда на земле?
— Есть, есть правда. Прости, глупую, не с большого ума сморозила…
— А на тебя небось тоже жалобятся? Эй, мужики, строга ваша боярыня? Справедлива ли?
— Бог миловал, князь! Добрая наша боярыня! — вразнобой откликнулись Матренины мужики. — У нас по справедливости. Мы за нашу боярыню, как один!
— Вижу, вижу, — посмеиваясь, сказал Константин. — Крепкие у тебя, Матрена, защитники.
— Кликни, князь, на нечестивых, все к тебе придем! Не забывай нас! — закричали ему осмелевшие мужики. — Найдутся у нас и рогатины и топоры!
— Это мне по сердцу, — поблагодарил Константин. — Кликну! Готовьтесь!
И снова скакали, оставляя с правой руки Которосль.
У развилки за Ямом — дорога двоилась на Ростов и Суздаль — последняя сторожа. Дальше шли ростовские земли. Здесь Данила неласково отправил обратно в город незадачливых, не сдержанных на язык троих дозорных, оставил других с наказом, чтобы — чуть что — один скакал за князем в Ростов, остальные по цепочке передали бы весть в город боярину Третьяку Борисовичу.
В низинах уже стал сгущаться туман, когда увидели каменные стены Белогостицкого монастыря.
В этом месте две реки — Устье и Векса — сливались, образуя уже другую реку — Которосль. Потому будто так ее назвали, что недоумевали, Устье или Вёкса дальше течет: котора река-то, спрашивали. Котора — Которосль, так и закрепилось.
Перед монастырем через Вексу был перекинут мост. Мыт — сбор за проезд — принадлежал монахам. Вот и сейчас, завидев всадников, путаясь в длинной рясе, торопился к мосту монашек. Но, признав князя, отступил в сторону.
Константин придержал коня, сказал приветливо:
— Благослови, отец. Все ли у вас ладно?
— С божьей помощью тихо у нас, — ответил монах. — А вот что у вас сотворилось, то нам ведомо.
— Откуда, отец?
— Прискакал намедни ордынец. От него.
— Мурза?
— Нет, княже, простой воин. К настоятелю его отвели, тот допытал да к князь-Борису отправил.
— Поклон мой передай настоятелю. Скажи, винюсь, что не могу нынче повидать его. Выходит, князь Борис в городе?
— Поезжай, Константин Всеволодович, застанешь. Гонец, что отправлял ордынца, сказал: в городе.
7
Вторую неделю хмельной пир у Бориса Васильковича, князя ростовского: вернулся из ставки хана меньшой брат Глеб. Приехал не один — с молодой женой, степнячкой Хорошавкой. В Успенском соборе торжественно окрестили степнячку, нарекли Феодорой, и был пир по этому случаю. Потом по христианскому обычаю справили свадьбу — шумную, с обильным питием и яствами, не замечали ни ночей, ни рассветов. А последние три дня забавлялись в Зверинцах.
Еще дед Константин Всеволодович держал в этом селе диких зверей. В просторных загонах разгуливали лоси, сидели на цепях медведи, в клетках — волки, рыси.
Во время междоусобной распри брат деда, Юрий, в мстительной злобе истребил зверинец. Борис Василькович восстановил его. Меньшой Глеб тешился, пуская стрелы в свободно пасущихся и привыкших к людям лосей, шел с мечом к прикованному медведю, хвастаясь ловкостью удара.
Не по душе Борису Васильковичу была братнина разорительная забава, ну да ведь гость, родная кровь опять-таки, наскучался в степи, пусть порезвится. Зверей охотники еще отловят, пополнят зверинец.
Сейчас сидели за вечерней трапезой. Хмельной Глеб с растрепанными потными волосами, уронив руки на столешницу и едва поднимая непослушную голову, пытался тянуть какую-то заунывную, почти без слов, степняцкую песню. Хорошавка-Феодора, в причудливом головном уборе, в шелковом, китайского узора халате, шароварах, сидевшая поодаль от стола в кресле, фыркала в маленький кулачок, лукаво посматривала на мужа. Тоненькая, скуластая, с приплюснутым носиком и узкими, как стрелки, глазами, — чем она приглянулась брату? Только и есть, что ханская дочь. Отец ее, хан Сартак, сын недавно умершего Батыя, кочует в крымских землях. Оберегая себя от поборов ненасытных баскаков, Глеб взял в жены ханскую дочь. Того только не понимает, что нынешний великий хан Золотой Орды — Берке — не очень ласков к племяннику Сартаку. А у них, у ордынцев, спор решается просто: сильный снимает голову слабому. Так что надолго ли, братец, твоя оберёга?
Сам Борис Василькович к застолью равнодушен: отдавал дань гостеприимству. От деда Константина Всеволодовича воспринял он трепетную любовь к книгам; не было большей радости, как перебирать пожелтевшие, плотной бумаги страницы, вчитываться в строки, напоенные мудростью.
Борису Васильковичу было двадцать шесть лет — старший из братьев; коренаст, светлые волнистые волосы спадали на плечи, зоркие голубые глаза, высокий лоб, хорошая, ясная речь, — бояре, присутствуя на большом совете, нет-нет да и перешепнутся: «Как есть батюшка Василько Константинович, и здрав, и ликом вылитый».
Семь лет было Борису, когда после сицкой битвы привезли из Шеренского леса схваченного в плен и замученного Батыем отца. Монгольский владыка, восхитившись храбростью русского витязя, предлагал почести, какими пользовались знатнейшие из восточных мурз; гордо презрел ростовский князь лестную милость победителя и был умерщвлен и вошел навсегда в легенду.
Борис Василькович, ничем не выдавая своих чувств, все эти дни приглядывался к брату; в одном только оправдывал: молод еще, не устоялся, окрутили его в Орде. Мать Мария Михайловна, которая с первых дней вдовства приняла монашеский сан, не скрыла своего негодования: известие о возвращении сына встретила сухо, на Хорошавку и не посмотрела, заперлась в монастыре, к себе не допускает. Легко ли ей, лишившейся сначала супруга, а потом и отца — всего-то несколько лет прошло, как тот же Батый, уже в самой Орде, на глазах Бориса Васильковича, тогда еще пятнадцатилетнего отрока, зверски замучил его деда — Михаила Всеволодовича, князя Черниговского. Много стараний приложила Мария Михайловна, чтобы осталась память по убиенным: вот только что построила церковь, установила церковное почитание, сейчас составляется сказание «Об убиении Михаила Черниговского в Орде». А младшенький презрел и отца, и деда, — святую ее память о близких презрел.
Вот такие думы обуревали Бориса Васильковича, когда услышал он цокот копыт и людские голоса под окнами терема. Вбежавший отрок оповестил: приехал ярославский князь с малой дружиной. И почти тут же порывисто вошел Константин, прижмурился, ослепленный ярким светом.
Борис Василькович с приветливой улыбкой вышел навстречу, крепко троекратно поцеловались.
— Рад! Рад видеть тебя, Костя. Садись к столу. Как раз ко времени поспел. Сейчас княгинюшку свою кликну.
Глеб, приподняв тяжелые веки, тоже поздоровался — оторваться от лавки не смог. Константин на какое-то мгновенье растерялся, решая, обняться с ним по-братски или нет, ограничился кивком головы.
Сбоку женщина с нерусским лицом, в высоком головном уборе, напряженно и с нескрываемым любопытством разглядывала его. Догадавшись, кто это, Константин отвесил ей поклон.
— Гость, буди… карош, тоненько сказала она. — Сиди! — И уверенно указала маленькой ручкой на стол.
Константин, с изумлением уставился на нее: удивлялся и необычности ее одежды, и словам, которые она произнесла с трудом.
«Как хозяйка в своем доме: «Сиди!» Ну и Глеб, вот так царевну-повелительницу отхватил. Ай, Глеб!»
Константин глянул на Бориса Васильковича. Тот смущенно отвел глаза. «Стыдится за брата, что ли?»
Вошла Мария Ярославна, супруга Бориса Васильковича, расцвела улыбкой.?
— Вот уж кого не чаяла видеть, — певуче сказала она, целуя Константина в щеку. — Что так припозднился? От вас до Ростова путь невелик.
— Прости, княгиня, что потревожил в столь позднее время.
— Полно, полно, я еще и не думала ложиться, сорванцов своих не могу угомонить.
— Здоровы ли они?
— Да уж как здоровы, — засмеялась княгиня. — Младшенький, Костенька, тезка твой, только недавно научился говорить. Так ведь как прорвало: лепечет и лепечет, никакого сладу с ним нет. А старший, Митенька, и того лучше: набегается за день, навидится всего, наслушается — уснуть не может. Когда-то все у него перегорит.
Константин с удовольствием приглядывался к Марии Ярославне. Как и прежде, подвижная, хотя и пополнела с тех пор, когда видел ее, всегда-то она в настроении, веселая, легка на разговор, от ее голоса, приветливого лица исходило тепло.
— Взглянул бы на них, да где уж, поздно… — Константин развел руками, извиняясь перед ней. — Рад, что дома у вас всё ладом, все здоровы. Очень рад за тебя, княгиня.
— Завтра глянешь на моих сорванцов. И спасибо на добром слове, у нас в самом деле все ладно, господь хранит. — И уже измененным, строгим голосом продолжала: — Вот у самого у тебя, Костя, хорошего мало, не всё ладом. — Заметив, как насторожился Константин, со смехом проговорила — Аль испугался? Такой-то добрый молодец!
— К чему ты, княгиня?
— Спрашивает — к чему? — веселилась Мария Ярославна. — Ты нас, женок, не бойся, мы ласковые. — И вдруг требовательно, почти сердито: — Доколе один куковать будешь? Невдомек тебе, что ты не перед собой— ты перед родом в ответе. Род продолжать кто будет? Аль нынче невесты на Руси перевелись? Что медлишь? Аль, может, как Глеб, тоже в Орду за невестой собираешься?
Константин покраснел, опасливо покосился на монголку. Та, с появлением княгини, сидела с застывшим лицом, прикрыв и без того узкие глаза; сейчас или не поняла сказанного, или не расслышала.
Зато услышал Глеб, хотя, по-видимому, не уловил издевки в последних словах Марии Ярославны.
— Пусть едет, — хрипло сказал он. — Езжай, Костя, слово доброе за тебя замолвлю. У меня родичи нынче — у, какие!.. Чингисханова кровь. Моего слова теперь большие мурзы слушаются. Так-нет, Хоро… Феодора?
— Так, Леб, так, — по-кукольному закивала монголка, и головной убор ее с высокой стальной спицей и тонкими сверкающими бляшками зазвенел, как бубен.
Константин и Мария Ярославна понимающе переглянулись. Константин не хотел ссориться с Глебом, хотя покровительственный тон брата покоробил его. Борис Василькович, боясь — княгиня может сказать что и похлеще, знал ее простодушную прямоту в разговоре, — боясь обозлить Глеба, поспешил нарушить наступившее молчание.
— Экая хозяйка, — с ласковым укором обратился он к княгине. — Человек с дороги, а она его беседой мучает. Лучше бы чару гостю налила.
— И то верно, — спохватилась Мария Ярославна. — Садись-ка, Костенька, к столу, угощайся. Печеного в тесте окуня с нашего озера испробуй, пирогами не побрезгуй. Матушке твоей, чай, не до того, всё с внучкой, а от княгини Ксеньюшки разносолов не дождешься. Намедни гостила…
— Да будет тебе, — ворчливо остановил Борис Василькович, с ласковым укором оглядывая свою княгиню. — Разговорилась на ночь глядя. Дня ей не хватает.
— Так я с радости, что вот его вижу, — сказала княгиня, веселыми глазами посматривая на Константина. — Ладно, больше не буду.
Константин был рад видеть братьев и особенно Марию Ярославну, к которой относился с трепетным обожанием. Но он не раз ловил на себе короткие, испытующие взгляды Бориса Васильковича, а в глазах его была тревога. «Знает, догадался, с чем я к нему прибыл». Константин понял, что ждать в помощь ростовскую рать нечего, не пойдет на риск Борис Василькович.
И уже совсем утвердился в своем предположении, услышав, что сказал Глеб. Тот, выпив ковш меду и на миг отрезвев, осмысленно уставился на Бориса Васильковича, произнес слова, которые от него трудно даже было ожидать:
— Отбери у него лестницу, старший брат, он же тебе люб, горько будет после — лиши человека подняться выше возможного.
— О чем ты говоришь? Какая лестница? Хмелен, Глеб? — Мария Ярославна недоуменно посмотрела на мужа. Борис Василькович пожал плечами, словно и впрямь не разгадал смысл сказанного, но в то же время бросил колючий взгляд на меньшого брата, приказывая замолчать.
— Да полно тебе! — взорвался Глеб, уже не управляя собой; глаза его зло сузились, казалось, бросится сейчас с кулаками на старшего. — Вот-де татарам запродался, а теперь мучается угрызениями совести, оттого все дни бражничает. Так ведь думаете? — выкрикивал он. — Нет, не мучаюсь, потому как знаю: иначе нельзя жить. Живой о живом печется, а плетью обуха не перешибешь. Вижу, куда пошло… Я не спуста сказал: важные мурзы меня теперь слушают, — сбавив тон, напомнил он Константину. — Решишь смириться — скажешь, уладим миром. А он, безумец, на беркута с голыми руками кинуться захотел.
— Да что это такое! О чем он говорит? — всполошенно спрашивала бледная как полотно Мария Ярославна, переводя взгляд с одного на другого.
— Ты и впрямь хмелен, — не отвечая ей, сердито сказал Борис Василькович брату. — Гостю пора на покой, устал. Да и нам тоже.
8
Кое-как успокоив княгиню, упирая на то, что Глеб говорил во хмелю сам не ведая что, Борис Василькович уединился с Константином в небольшой спаленке. Здесь были вдоль стен широкие лавки, устланные медвежьими шкурами, стол, заваленный книгами, кресло с высокой спинкой и никаких украшений. Многие часы проводил за книгами Борис Василькович, когда припозднился, тут же и спал.
Трудный был у них разговор.
— Я ведь не по своей охоте, не по молодечеству затеял все это, хотя у самого сердце пламенем горит, когда вижу, как безнаказанно мордуют наших людей, — горячо и обидчиво говорил Константин. — Ведь что они творили в Ярославле: хватали всех, кто только приглянется, кидали в конский загон. Купца вашего, ростовского, растерзали перед городом. Стыдно людям в глаза смотреть. Князь оберегать своих людей должон, а он под татарскую дудку пляшет. А и пляшем, кабы я один…
Борис Василькович слушал, не перебивая. У себя в Ростове он нашел, как ладить с баскаком и его подручными: бочонок меду, несколько ценных шкурок в определенные дни — и татарский вельможа тих, не безобразничает. Приручил, как зверя, сдерживает подачками. Правда, и характер у того покладистый. Но Борис Василькович тоже не глухой, не слепой — видит и слышит, как стонет русская земля под татарином. Внимал он юному князю сочувственно, но чтоб решиться на большее…
— После Батыя, — продолжал Константин, — смута идет по всей Орде. Преемник его Берке сцепился с Хулагой, ханом иранских земель. Того гляди, глотку друг другу перервут. Тому же Берке хан Сартак, сын Батыя, поперек горла. Да и Менгу, их великий каракорумский царь, сидит непрочно, зубы точит на Берке за бесчинства того и в то же время побаивается этого золотоордынца. Нет у них согласья, не смогут они войско большое на нашу землю послать. Самое время пришло. Чего еще выжидать? Чего страшиться?
Борис Василькович, услышав последние слова, грустно улыбнулся.
— Когда отца твоего в тяжкой схватке на Сити порубили, где ты был?
— Почему спрашиваешь? — вспыхнул Константин.
— В чреве матери ты был. А мне довелось встречать своего, когда из Шеренского леса епископ Кирилл, изрубленного, его привез. До этого мы с матушкой и Глебом в лесу хоронились, выжидали, пока не уйдут татары из Ростова. Увидел я родителя своего — все поднялось внутри, поклялся отомстить, хотя и был тогда семилетним ребенком. Плакал от ярости, не понимал, как таких витязей могли одолеть неведомые прежде люди… Позднее, пятнадцатилетним отроком, с дедом Михайлом поехал в Орду утверждаться на княжение. Вот тогда и увидел, что за сила навалилась на нашу землю, — весь Восток, вся Азия. Войско их — тьма-тьмущая. Как было одолеть их, да еще при нашей княжеской розни? Говоришь: «чего страшиться?» Деду Михаилу Всеволодовичу в Орде дали понять, что живым его оттуда не выпустят: не забыл Батый, как князь Михайла, будучи тогда в Киеве, не польстился на уговоры и не открыл ворота, биться стал. Ведали уже тогда о вероломстве татар — некоторые города сдавались без боя, а резню татары чинили ту же… И это только предлог, будто убили деда за то, что не согласился по их обычаю пройти между двух костров, не захотел поклониться ихнему богу. Я тогда еще не знал, какая участь уготована Михаилу Всеволодовичу, плакал, умолял: «Да пройди ты через это их чистилище». У них заведено было: чтобы пройти в шатер к Батыю, надо через огонь проследовать, считают, что огонь очищает души, убивает злые мысли… И все наши бояре, кто был там, просили деда смириться. Но дед осерчал, сорвал с себя плащ, швырнул нам в ноги со словами: «Возьмите славу света этого, к которой вы стремитесь». Потом велел сказать Батыю: «Раз бог предал нас и наши волости за грехи наши в твои руки, тебе и кланяемся и честь приносим тебе. А богам твоим кланяться не намерен».
Уже много лет прошло, а Борис Василькович закрывает глаза и видит, как все происходило, все до мельчайших подробностей: гордый и гневный лик деда, его слова, помнит его ближнего боярина Федора, который решил разделить злую участь своего господина.
— При мне убивали его… Есть у них казнь для своих— казнь без крови. Это или душат тетивой от лука, или укладывают на землю лицом вниз, наступают коленом на спину, а после резким рывком за шею ломают хребет. Деда казнили тоже без крови, но не так: убили кулаками под сердце. Боярина Федора прельщали: «Получишь все княжество, откажись от своего князя», — не согласился. И его убили. Говорю: много наших бояр было при этом; видя такую расправу — устрашились. И я устрашился и тогда же понял: на силу надо силу. Батый, когда позвал меня, сказал о деде: «Великий муж был» А я подумал: «А что дало его геройство? Уважение людей, бессмертную славу?» И это важно: доблесть рождает доблестных. Но одиночными подвигами их не возьмешь. Сила нужна на их силу. Великий князь Александр Ярославич лучше всех это понял: шлет в Орду караваны с золотом и мехами, беря взамен русских пленных. Татары жадны, он этим пользуется и копит силу. А ты еще не видал силы ихней. Мурзу Бурытая с сотней воинов ваши посадские разметали, и ты встрепенулся, как молодой петушок. А Бурытый— песчинка на берегу в их войске.
Борис Василькович умолк, откинулся на спинку кресла. Лицо его покрылось горячечным румянцем. Константин удрученно молчал. Жизненный опыт двадцатишестилетнего князя, сидевшего перед ним, подавлял его, он чувствовал себя беспомощным, не зная того, что опыт часто соприкасается с излишней осторожностью.
— Глеб назвал тебя безумцем, — между тем продолжал Борис Василькович. — Он в чем-то прав. Но я тебя не хулю. Но подумай: Глеб не пустозвон, своей женитьбой он приобрел влияние в Орде, и он может все уладить миром. Ведь даже ордынец, что к нам прибег, с возмущением говорил о бесчинствах Бурытая. Пускай Глеб вмешается.
— Нет, не могу, — решительно отказался Константин. — Решение было принято на вече. А тебя я не осуждаю…
Борис Василькович давно спал, как человек, исполнивший свой долг и умиротворенный этим, а Константин ворочался в тяжелой дремоте; видения были обрывочные, безо всякой связи: вот столкнулся с княгиней Ксенией, желчно усмехавшейся ему в лицо, — он что-то гневное кричал ей в ответ; вдруг вместо Бориса оказался в Орде — пятнадцатилетним отроком, умолял красивого седобородого старца Михаила Черниговского пройти сквозь огонь и заплакал, когда тот гордо отбросил алый княжеский плащ: «Возьмите славу земную!» А потом уже был в своем дворце на высоком берегу Волги, но все еще никак не мог успокоиться. Над ним, рыдающим взахлеб, склонилась матушка, он доверчиво приник к ее груди, но на месте матушки оказалась внучка бортника Савелия, и он вскрикнул от растерянности.
Этот внутренний вскрик окончательно разогнал его неглубокий сон.
Чуть брезжил рассвет. Стараясь не разбудить Бориса Васильковича, Константин тихо оделся и вышел на крыльцо.
Его дружинники спали на открытом воздухе на охапках сена — отказались от предложенной им душной гридницы.
В конюшне, ворота которой были распахнуты, стояли двое — кузнец Дементий и молодой татарин в засаленном халате, очевидно, из свиты Глебовой жены, решил Константин.
Дементий, заметив князя, поклонился и кивнул на татарина.
— Знакомца встретил, княже.
— Со времен плена знакомец? — без интереса спросил князь.
— Да нет, — усмехнулся кузнец, — из Бурытаева воинства. Как громили слободу, так я его спас от оглобли мастера Екима. Вот прискакал сюда. Рассказывает: мурза подался во Владимир к Александру Ярославичу Невскому, жаловаться подался — обидели его ярославцы.
— Пусть жалуется. Этот-то чего отбился от Бурытая?
Кузнец почесал в затылке.
— Видишь ли, княже, был я у них в плену, насмотрелся — и там разные люди. Это пастух, взял его мурза в поход, сначала радовался: честь все-таки. Но не по праву ему служить у мурзы, не хочет к нему больше. Может, взять его к нам, я бы его к кузнечному делу приспособил. Вон какой крепкий парень. Пойдешь, Улейбой? — спросил Дементий молча слушавшего татарина. Тот робко посмотрел на князя и кивнул.
— Дело твое. Только не до этого сейчас. Где Данила?
— Здесь я, княже. — Данила, стоявший поодаль, подскочил к князю.
— Вели седлать. Отправляемся в Переяславль. Здесь больше делать нечего.
По пристальному и дрогнувшему взгляду дружинника Константин определил: Данила понял, что ростовский князь отказал в помощи.
— Княже…
— Ну что тебе?
— Вчера мы потолковали с ростовскими воинами — придут они к нам, обрадовались, что наконец-то смогут посчитаться с погаными. Как же теперь?
— Зачем ты это сделал? — рассердился князь. — Воины те — не сами по себе, они — княжеские.
— Винюсь.
— Ох, Данила! Самовольничаешь много.
— Винюсь, князь, — снова повторил Данила, но глаза его блестели задорным весельем.
Глава пятая. У великого князя
1
Два всадника молодцевато вымахнули на высокий берег, застыли в изумлении. Перед ними расстилалось Плещеево озеро. Над голубой чашей садилось солнце. Левее, в долине, был сам город, с разбросанными кривыми улочками, с куполами церквей. Прикрываясь рукой от слепивших солнечных бликов, один из всадников восхищенно воскликнул:
— Кудря, глянь, красота-то какая! Тут, пожалуй, воды поболее, чем во всей нашей Волге.
На спокойной воде, отливавшей золотом, лениво плавали чайки, а под самым берегом, под обрывом, причалив лодку-долбенку, дюжие мужики возились с сетью. Все они были в нательных рубахах, подвернутых штанах, босиком; подшучивая друг над другом, они старательно тянули за веревки, сужали распоры большого бредня, Поплавки мотни трепыхались — сеть. шла с рыбой.
— Эй, рыбаки! — закричал всадник. — А скажите-тка, князь Александр Ярославич в городе на своем подворье али здесь в терему на Ярилиной горке?
— А ты кто. такой, что нашего князя спрашиваешь? — откликнулись из-под берега.
— Ярославский я, — весело ответил всадник. — Топорком прозываюсь.
— Топорком? Вона какое у тебя прозвище-то. Александр Ярославич зачем тебе?
— Не мне. Нашему князю Константину Всеволодовичу. Дело есть до него.
Всадник стоял на самом обрыве, горячил коня.
— Где же сам-то, князь Константин? — спросили его.
— А мы впереди. Сейчас и он прибудет.
— Ну вот прибудет, тогда и говорить станем.
И опять старательно тянули рыбаки за веревки.
— А вы кто такие? — не мог уняться всадник, обиженный невниманием. — Больно разговорчивы!
— Мы-то! Мы — княжеские дружинники.
— Хо! — подбоченился Топорок. — А видать, плохо вас кормит князь, что себе пропитание добываете. Вот наш князь щедрой.
— Позавидуешь вам, — хохотнули под берегом. — У нас не так: каждый своим хлебом разживается. Вот и ты, уж коли прибыл да ухи хочешь, слезай-ка с коня, подмогни.
— Это можно, это мне в охотку. — Топорок соскочил с коня, передал поводья товарищу.
— Меч отцепи, мешать станет.
— И то дело, — легко согласился Топорок, отдавая меч Кудре.
Топорок заскользил по песчаной крутизне к воде. Один из рыбаков с озорными глазами вдруг сказал, обращаясь к загорелому человеку со всклокоченной небольшой бородкой, — капельки воды искрились в бороде у того:
— Что, княже господине, не устроить ли ему купель? Больно сноровистый. Дерзок!
— Давай, — засмеялся тот в ответ.
— Но, но, не балуй!..
Топорок отпрянул, но мужики уже подхватили его, раскачали и швырнули в воду.
— Утопнет, никак… Нет, глянь-ка…
Топорок вынырнул, зло оглядываясь, размашисто доплыл к берегу, но в сторону от рыбаков.
— Дьяволы, вы мне за все ответите! — Отплевываясь, он стал выбираться на берег. Потом сел, начал выливать воду из сапог.
— Как, Олександра Ярославич, еще разок купчем? — спросил рыбак с озорными глазами. — Вишь, не остыл еще.
Топорок так и схватился за голову: «Олександра Ярославич! Неужто и князь с ими? Ну, попал!..»
— Княже господине! — выкрикнул он с испугом, разглядывая человека со светлой бородой. — Прости неумного!
— Не серчай, воин, — сказал Невский. — Вели своему товарищу встретить Константина. Жду его в тереме… Гринька! — крикнул он потом стоявшему поодаль отроку. — Проводи Топорка, дай ему переодеться.
Накинув на плечи халат, Александр Ярославич стал подниматься по склону. Топорок растерянно смотрел ему вслед.
— Как же ты нашего князя не углядел? — насмешливо спросил его рыбак с озорным взглядом.
— Углядишь тут, когда вы все одинакие, — сердито буркнул дружинник.
2
Александр Ярославич Невский, великий князь Владимиро-Суздальской Руси, летнее время проводил в Переславле, в вотчине своего отца. Будучи как-то в добром расположении духа хан Батый вручил Александру тарханную— охранную — грамоту, по которой никто из татар не смел вторгаться в его волости. Цены не было такой грамоте! Без догляда ханских лазутчиков здесь устраивались воинские потехи: дружинники учились владеть оружием, — сюда под княжескую опеку стекалось население: пахари, ремесленники, — край процветал. Но во время неудачного восстания Андрея Ярославича, меньшого брата (Невский был тогда в ставке хана Сартака, кочевавшего в донских степях), — татаро-монгольское воинство полководца Неврюя ослушалось запрета своего повелителя: переяславский княжеский дворец был разграблен и сожжен.
Александр Ярославич поставил временный летний терем на берегу Плещеева озера, на Ярилиной горе, полюбил его и все теплые месяцы проводил в нем. Сюда приезжали по своим делам и со своими спорами удельные князья, отсюда в разные города шли распоряжения, частым гостем был здесь митрополит всея Руси Кирилл, муж большого ума, великий рачитель своей земли.
Константина ярославского, своего племянника, Александр Ярославич встречал с высоким почетом. Стоял на крыльце островерхого, легкого, изукрашенного искусной резьбой терема, в кафтане с отложным, алого бархата воротником. Из-под распахнутого плаща, отороченного куньим мехом, виднелся широкий серебряный пояс. Были нарядно одеты и его ближние дружинники, стоявшие по обе стороны князя, в том числе (к удивлению Топорка) рыбак с озорными глазами, оказавшийся лихим дружинником, сотником Драгомилом. Это были боевые соратники, участвовавшие во всех походах: и на задиристых литовцев, и заносчивых шведов, и на злонамеренных немецких рыцарей.
Невский ласково поднял молодого князя, преклонившего перед ступенями крыльца колено.
— Что привело тебя, князь Константин, какая забота? — Невский положил ладони на плечи юноши, пытливо заглянул в глаза.
— Поклон тебе, великий князь Александр Ярославич. Со своей бедой и за советом приехал ныне…
— Добро… — Видно, промелькнуло что-то в ответном взгляде Константина, отчего понял: не при всех разговор должен быть. — Добро, — сказал Ярославич. — Но после скажешь. Не годится сразу за дело, когда гость с дороги.
Вечером, после трапезы, сидя у костра на раскладном легком стуле (Александр Ярославич любил так проводить вечерние часы перед сном), — он расспрашивал Константина. В кружке сидели и доверенные дружинники.
Во время рассказа не проронил ни слова, но по сурово сдвинутым бровям, угрюмой складке на лбу можно было заметить, что известие о замятие в Ярославле сильно встревожило его. Давно ли неуемный, слишком вспыльчивый братец Андрей навлек беду. То же будет и теперь: нахлынет татарва, мстя за избиение баскаческого отряда. Новый разор городов, что так бережно поднимал из руин; вновь по дорогам в Орду потянутся русские пленники. А он не щадит ни бояр, ни смердов, даже с духовенства берет налоги, — все для того, чтобы вырвать пленных, гибнущих в татарских стойбищах. Нет, он понимает лучше, чем кто-либо, что борьба с иноземцами неизбежна, гнев народный не сдержишь, но нужно время, чтобы окрепла Русь. Строить крепкую Русь надо! Воинов растить, чтобы твердо в руке меч держали!
— Клич твой, великий князь, — и поднимутся люди. Невмоготу терпеть басурманское насилие.
С ласковым сожалением посмотрел умудренный полководец на молодого князя.
«Ты славный юноша, — думал он. — Ты родился после Батыева нашествия, еще не видел бед от татар. Тебе грабеж мурзы Бурытая в диковинку. Что ж, выросло новое поколение, которое не ведает страха. Но мало вас… Нет, не раздастся клич, сильно ханское войско, не одолеть его».
Но заметил: старые боевые товарищи сочувственно внимают неопытному Константину.
Как укор, как напоминание о днях молодости, прозвучал голос доверенного дружинника Драгомила:
— Эх, княже! Вспомни, как отроком шел в поход на литовцев, отбивал награбленное добро и людей наших; вспомни, как били свеев на Неве с малой дружиной.
С благодарностью преклонял перед тобой колени народ русский. Видел в тебе защитника…
— Молчи! — осердился Ярославич. — Разорения земли хотите, земли, с таким трудом поднявшейся из пепла? А разорение будет, ежели выступим.
Было долгое молчание после его слов. Слишком велика была вера в Александра Невского, чтобы вот так просто возразить ему, усомниться в его решении. Константин спросил:
— Запрещаешь ли нам защищать город?
— Не могу запретить. Разве ты не знаешь княжеский уряд: каждый в своей вотчине волен. Иное дело, — будет зов великого князя, — ты должен выступить по зову, так деды и прадеды делали, хотя не все нынче так делают… Дерзай, но скорблю: погибель ждет вас.
— Чему быть, того не миновать, — жестко ответил ярославский князь.
3
Гора с горой не сходятся, человек с человеком…
— Михей! Неужто ты? — Дементий радостно протянул руки навстречу знакомцу.
— Свят! Свят! Кого вижу! Не пригрезилось ли?
— Нет, Михей, не пригрезилось.
— А я тебя считал сгинувшим. Вот оно как… Ты же с воеводой Дорожем в передней части был. Он тогда прискакал к Юрию Всеволодовичу на Сить в малой дружине, сказал: «Князь! Уже обошли нас татары, а рать моя погибла».
— Суждено мне было остаться в живых.
Обнялись, похлопали по плечам давние знакомцы; светлели лицом.
— Ну, рассказывай…
— Ты рассказывай…
В темной ночи стрелял искрами костер, искры поднимались к высокому звездному небу. В большом котле поспевало варево из знаменитой переславской ряпушки. Теснее сдвинулись молодые воины вокруг старых, нежданно обретших друг друга товарищей.
— Тьма-тьмущая их была… Сшиблись мы, — рассказывал Дементий, — и быть бы мне порубленным, как многие мои други, но заверещал что-то по-своему их предводитель, оплели мне руки арканом, навалились… А потом Орда… Не признался я, что кузнец, пастухом был. Два года, Михей, у этого мурзы Бурытая рабствовал. Врагу не пожелаю… Только раз случилась у них заваруха, сцепился мой мурза с соседом из-за пастбища. В это время от них я и ушел: словил в степи двух коней и так, о двуконь, и скакал… Сразу-то не хватились меня, не до того им было…
— А мы тогда пробились… Немного нас осталось, до сотни, но все при конях, с оружьем. И решили: уж коли в большой битве не одолели татар, будем нежданными наскоками избивать их. Много их тогда расползлось по нашей земле, считали, что не осталось у русичей сил, не особо береглись. Нападали мы на мелкие отряды, отбивали пленных. Правда, и нелегко было, зимой особо, — ни корма коням, ни теплого ночлега людям. Все в лесах обитались, дичать стали. А тут столкнула нас судьба с княжеским сотником Драгомилом, вон с тем, что с Ярославичем разговоры ведет; собирал он рать на защиту Новгорода от немецких рыделей, нас с собой прихватил… С тех пор в дружине Александра Ярославича.
Отблески огня освещали суровые лица; заново переживали воины выпавшие на их долю испытания. Топорок, уже обсушившийся, потянулся к Михею.
— Расскажи, дяденька, как вы с татарами бились? Страшные они в бою?
— Воины они справные, что греха таить, — задумчиво отозвался Михей. — И в лучном бою непревзойденные — стрелы у них летят дюже метко, — и саблей владеют хорошо — сабля у них кривая, покороче нашего меча. В бою визжат, что поросята, будто чуют — смертушка близко. Спервоначалу, когда несется на тебя воющая и визжащая такая лавина, то и страх подступает, а уж распалишься— все тебе нипочем. И если увидят они, что их не боятся, — не выдерживают, заворачивают коней. И еще у них порядок такой: ежели все завернут, то и ладно, со всех спроса нет, а кто один убежит с поля боя, то не токмо ему, но и всему десятку, в коем он состоит, — головы рубят. Дюже лютые… Но поняли мы: бить татар можно. Одна беда — мало нас было…
— Как же мало? — недоверчиво протянул Топорок. — Такая Русь большая?
— Потому и мало, что всяк из князей по себе хотел биться, сладу меж собой не имели. А татарин, он скопом наваливается, по очередке побеждая наши рати.
— Вот что я тебя спрошу, Михей. — Дементий дотронулся до плеча воина. — Ларион тогда пропал, не ведаешь ли, куда делся?
— Ты о Дикуне, что ль?
— О нем, Михей.
— Да… Ну, давай уху пробовать. Рыба, в своей воде сваренная, очень вкусна бывает. Садись, Топорок, поближе, ты, чай, тоже к ловле этой ряпушки причастен.
— Чего смеешься, дяденька Михей, — обиженно проговорил Топорок. — Обманули вы меня, так и рады.
— Ништо. Как без шуток жить! А ты больно ловко дерзил, как тебя не поучить было. Ложка-то есть?
— Как не быть ложке. — Топорок достал из-за голенища ложку, окрашенную в отваре ольховой коры, с резным черенком.
— Ишь, какая красивая, — похвалил Михей, приглядываясь к черенку, вырезанному в виде птичьей головы.
— Сам из липки резал, — не удержался от хвастовства Топорок. — Подарить, что ли, дяденька Михей.
— Береги. Воину, что и меч, ложка необходима.
— Так что с Ларионом? — вновь напомнил Дементий.
— Плохо случилось с Ларионом, не доглядели, — сумрачно сказал Михей. — Посадник с боярами продали Псков немцам, это как раз перед битвой на Чудском озере было. Князь наш Ярославич, разъяренный, ворвался в город, рыделей немецких из кремля вышиб, а изменников бояр велел повесить. Так и сделали, вот с главным изменником Твердилой Иванковичем — оплошка вышла; сбежал он. Послал нас князь в погоню за ним в сторону Изборска — туда посадник-то с остатками немцев ударился. Там мы и нарвались на засаду. Ларион-то дозорным впереди скакал, сбила его каленая стрела…
Василько, сидевший рядом с Дементием и напряженно слушавший воина, внезапно судорожно вздохнул, поднялся и поспешно шагнул от костра в темноту.
— Чего это он? — Михей проследил взглядом за юношей.
— Сынок он Лариона, — коротко пояснил Дементий.
— Вот оно что! — удивился воин. — Говорил Ларион, что где-то в лесах жена у него с дитем хоронится… Поискал я тогда, поспрашивал людей — где там! Лесов-то! Прячущихся-то по Руси!
Так вот на берегу Плещеева озера узнал Василько о своем пропавшем отце.
— Да ведь и где уверенным быть, что жива твоя матушка Евпраксия Васильковна, — говорил Михей, когда юноша, справившись с подступившими слезами, снопа вернулся к костру. — А так — и теперь искал бы. Сынище-то какой вырос, господи благослови! Дай тебе судьбу счастливее отцовской,
4
Солнце еще не взошло, густой туман, отрываясь от воды, плыл над озером, а на Ярилиной горе, среди хозяйственных построек, уже было людно: дружинники чистили коней, вели их на водопой, сами купались в парной с ночи воде; суетливо пробегали работники поварни. Каждый находил себе дело. Люди были приучены вставать с рассветом, зная, что к этому времени Александр Ярославич уже на ногах. Было чему удивляться ярославцам: протирали кулаками заспанные глаза, но тоже шли к озеру; поеживаясь от сырости, недоверчиво пробовали босыми ногами воду.
Александр Ярославич, в наброшенном на плечи легком кафтане с серебряными нитями по вороту, сидел за за столом, заваленным книгами, просматривал сообщения, которые доставляли ему тайные гонцы, — все ему передавали, и он знал, что делается не только в Орде, но и на Западе, кишевшем крестоносными рыцарями у самых границ русской земли.
Александр Ярославич отбросил грамоту из стольного Владимира. Вот опять готов обоз для Орды. Сколько же добра переправлено в ханскую ставку! Как в прорву! Одно только утешает, что ни один меч, ни одна кольчужная рубаха, выкованные русскими умельцами, не бывали на возах среди клади. Берег, собирал оружие, надеясь, что еще при жизни своей доведется обрушиться со всем гневом на ордынцев.
Задумавшись, Александр Ярославич не замечал, что на столе, в поставце, чадила свеча, хотя в узкие оконца его палаты лился утренний свет. Не заметил он и вошедшего светловолосого отрока, который встал робко, чуть сзади, но так, чтобы князь мог видеть его. И только когда отрок снял щипчиками нагар со свечи, спросил:
— Что тебе, Гринька?
— Княже господине, там дружинники. Просят или допустить их, или выйти к ним. Говорят: дело важное.
Поднявшись с кресла, князь с наслаждением потянулся. Гринька ловко подхватил сползший с его плеч кафтан; встав на цыпочки, попытался снова накинуть, Ярославич отстранил его.
— Не надо. Уже обогрело, не озябну…
Так и вышли на крыльцо: князь Невский в белоснежной сорочке, сзади Гринька, неся кафтан на вытянутых руках.
Внизу, у крыльца, на вытоптанной пожелтевшей траве, стояли толпой дружинники. Он спустился к ним. И сразу же воины окружили своего князя, заговорили наперебой:
— Отпусти, княже, с ярославцами.
— Меч ржой покрылся, а тут есть где ему очиститься.
— Долго ли будем под ярмом? Уже нету никакого терпения!
Александр Ярославич молчал…
Кстати, или некстати вспомнилось… Глупостью монастырских служек был заточен в подвале человек, знающий письмена. Велел привести его, а потом читал, что им было написано; одно место поразило пронзительной болью. Монах-летописец стенал: «Никогда не было и не будет такой скорби, как во время их господства. Будут под ярмом их люди, и скот, и птицы; спросят они себе дани у мертвецов, как у живых; не помилуют нищего и убогого, обесчестят всякого старика». А разве самого не гложут иногда сомнения? Копить силу, растить воинов, но когда:то и начинать надо. Прав ли, удерживая людей от выступления? Ведь заметил же вчера, как всколыхнулись воины, слушая юного Константина. Не сам ли юношей бросался на шведов?
А дружинники ждали. Опять кто-то из них молодым, срывающимся голосом выкрикнул:
— Вели, княже, бить тревогу. Все ляжем!
— То-то — «ляжем»! — усмехнулся горячности парня; вскинул голову, сказал сурово: — Русь жила и будет жить людьми своими. Научись врага бить и самому сохраниться. А то — «ляжем».
Выискал взглядом сотника Драгомила. Тот стоял смущенный, опустив голову. И ему не по душе слова князя.
— А где князь Константин? — спросил, обращаясь именно к нему.
И тот вяло ответил, так и не посмотрев в глаза Ярославичу:
— Седлают коней. Ехать собрались.
Александра Ярославича неприятно кольнуло: «Обиделся, решил ускакать, не дожидаясь утренней трапезы».
— Гринька, попроси сюда князя Константина.
Пасмурное лицо Константина, когда он появился перед ним, ничуть его не тронуло. Так же сурово произнес:
— Добровольцев бери, а общего клича не будет. В пути набирай смельчаков. Так сказал.
В глазах юного князя вспыхнула радость — не ожидал такого решения. Молча низко поклонился. Но Невский уже повернулся к дружинникам.
— Против народного гнева не пойду, — загремел он. — И право, невмоготу видеть, как страдают наши люди от бесчинств баскаческих. Но выступать не время. Идите, охотники, без моего имени.
К нему шагнул рослый усач, спросил, робея:
— Можно ли, княже, мне идти в Ярославль? За отца, на Сити погибшего, за старших братьев, за поруганную сестру Алену, что в полону.
— Иди, Навля, отпускаю.
— И меня, княже…
— Меня тоже…
Выдвинулся Драгомил, стоял насупившись, расставив крепкие ноги, — экий богатырь!
— Отпусти, княже. Сын идет дружка моего — старого Лариона. Оберегой ему буду.
— Что ж, всю дружину распущу, а кто меня оборонять станет?
Князь любовно и горько смотрел на возбужденных воинов. Сам повел бы дружину — он-то, что же, не такой же человек, что ли, — но знал: не пришло его время; его опыт, ум в другом деле нужны, — за всю русскую землю он в ответе.
Пройдет каких-то пять лет, золотоордынский хан Берке потерпит сокрушительное поражение от своего родственника, персидского хана Хулагу, и Берке пришлет требовательное: «Дай воинов!» Пойдут тогда по городам тайные грамоты Александра Невского: «Пора настала!» Восстанут сразу Владимир на Клязьме, Суздаль, Переяславль, Ростов, Великий Устюг, Ярославль. Русские люди в праведном гневе размечут татарские отряды. Правда, и после этого восстания еще надолго останется Русь под татарским игом, но уже не будет баскаков — Невский обговорит в Орде право самим князьям собирать дань с населения, — и никогда уже ордынские властители больше не осмелятся требовать к себе русских воинов для участия в их захватнических походах.
5
Дружинники собирались к отъезду, брали необходимое в переметные сумы, проверяли оружие, прощались с товарищами, оставшимися при князе. В это время с дороги к терему вывернула крытая колымага, упряженная четверней с выносом. На передней сидел верхом отрок в черной монашеской рясе, остром войлочном колпаке, погонял прутом лошадь. Крупные кони резво шли рысью, возок мерно раскачивался.
— Владыка! — пронеслось среди дружинников.
Сбегались к крыльцу, чтобы успеть под благословение митрополита всея Руси Кирилла.
Возок остановился. Отрок, соскочив с лошади, подбежал к дверце, помогая выйти рослому худощавому человеку в клобуке с белоснежным верхом и простой дорожной мантии, которую украшала висевшая на цепочке иконка с вправленными по краям ее драгоценными камнями — панагия.
Осеняя крестом опустившихся на колени воинов, Кирилл прошел к крыльцу, легко, по-молодому, стал подниматься по ступенькам. Он был уже не молод, черная когда-то борода теперь серебрилась, кустились седые брови, но во всех его движеньях чувствовалась неиссякшая мужская сила.
Навстречу из покоев спешил к нему оповещенный о приезде митрополита князь Александр Ярославич.
— Будь здрав, владыка! — обрадованно приветствовал Невский. — Какому святому молиться, что на радость послал тебя к нам?
— Ладно, ладно, — ворчливо сказал Кирилл, крестя и троекратно, по обычаю, целуя его. — Где он у тебя, воитель славный? Давай его на расправу.
Не сразу понял Ярославич, о ком спрашивает владыка, замешкался, а Кирилл уже увидел в полутьме сеней Константина. Молодой князь стоял у стены, не смея приблизиться.
Стремительно шагнув, митрополит обнял юношу, потом оттолкнул, всмотрелся в лицо.
— Все ведомо о тебе, прослышан… Чай, ждешь от меня поповских увещаний: живи, мол, в смирении, терпи за грехи наши. Нет, князь, не будет от меня таких слов. Не слушай тех, кто сыроядцами навек запуган.
— Благодаря тебя, владыка, — страстно выговорил Константин. — Великое счастье слышать тебя, снял ты сомнения с моей души.
— Но, но! Так уж… — Кирилл и сам засмущался. Глава русской церкви, он давно привык к восторженному поклонению, но тут услышал голос исстрадавшегося сердца, и это тронуло его. Ласково пожал локоть Константина, сказал, обращаясь к Ярославичу:
— С Ростова всю ночь в пути. Это о чем-нибудь говорит тебе, сынок?
— Отец духовный, — Александр Ярославич развел руками. — Ты ворвался, яко молния, где мне было слово вставить? Прошу к трапезе. Изведай яств наших.
В столовой палате сидели на лавках, устланных мягкими шкурами, — от пододвинутого кресла с высокой спинкой митрополит отмахнулся. Александр Ярославич с лукавой, затаенной улыбкой приглядывался к владыке: Кирилл был сегодня необычно оживлен.
С напускной опаской князь предложил:
— Вина выпьешь, святой отец?
— Почему бы и нет? — легко откликнулся митрополит. — Великий грешник Эпикур глаголет: «Не отвергай малого дара: ибо возникнет недоверие в большем». Но… — погрозил он Невскому пальцем. — Твой заточный летописец, коего ты из монастырского погреба вырвал, молвил так: «Испытай себя больше, нежели ближних, тем и себе пользу принесешь и ближним».
Александр Ярославич развеселился, продолжил:
— Владыка, сей летописец еще сказал так: «Кому Переяславль, а мне Гореславль, кому Боголюбово, а мне горе лютое».
— Не омочив языка в уме, много напортишь в слове. Но пощадим себя и чад своих.
— Принимаю упрек, владыка, и потому первый осушаю чару. Твое здоровье, святой отец.
За общим столом еда вкусней — владыка ел с аппетитом здорового человека. Насытившись, пристально глянул в глаза князю, повел разговор серьезно:
— Задумал я свод летописный создать, чтобы великая туга наша объяснена была и чтоб знали после нас люди: не только о горших бедах думаем. То верно: в тяжкой силе лег на нас гнев господень; многие себе только добытка желают, ищут, как бы обидеть кого, ненависть плодят друг к другу, подличают. Но есть же и мужи, что идут на любые жертвы ради народа своего; будто не ведаем, как новое поколение встает, страха не знающее… Сего мужа, летописца, прошу у тебя для дела: учен он и забавен. Писанию о том, что замыслил, будет полезен человек тот.
Заметив, что Александр Ярославич собирается что-то возразить, упредил его:
— Молчи, князь, знаю, что говорю. Был в Ростове у игуменьи Евпраксии, сиречь княгини Марии Михайловны, показала список, составленный ею, — об убиении батюшки ее князя Михаила Черниговского с боярином Феодором в Орде. Благолепно, украсно описано! Вот и отец монах пусть потрудится на славу. В лукавую душу не войдет премудрость, он не лукав, чую это по его писанию.
— И что сегодня за день! — вскричал Невский; чарки с вином подпрыгнули на столешнице, на которую он с силой опустил ладони. Впрочем, в голосе его слышался смех. — Владыка, будь по-твоему, но это уже походит на татьбу: ты отбираешь летописца, а он, — указал на скромно молчавшего Константина, — уводит у меня воинов.
Глаза митрополита потеплели после его слов, но сказал сдержанно, прилично высокому сану:
— Так и думал, Александр Ярославич, не отринешь племянника, подобно Борису ростовскому. Порадовал… Нет у Бориса отцовской доблести, — робок, напуган. А Глеб белозерский, любимец твой… — Впился строгим оком в князя. — Благоразумия Глеба не приемлю. Не было от меня ему благословения. Матушка его, игуменья Евпраксия, поняла мой гнев, одобрила. Он, вишь ты, самостоятельно решил познать Орду, распростерся перед ханами ниц, отроковицу с собой привез… Хороша отроковица, греха не беру хаять ее, но не от сердца их союз. Какая еще встреча ждет его в своей отчине, Белозерске? Не удивлюсь, если погонят дрекольем. — Посмотрел ласково на Константина, с чувством доброго расположения поведал — Мне больше по душе сумасбродство этого юноши. Горе стране, где мужи не мстят за оскорбленных.
— Ты строг к Глебу, владыка, — возразил Ярославич. — Не хочешь понять и Бориса. Легко задирать попусту врага.
— Кто говорит — попусту? — всколыхнулся Кирилл. — Разве не рассказывал он тебе, как у них было? Любому терпению есть предел. И я чту князя, вставшего заодно со своими людьми. Знаю твои мысли, о чем ты думаешь; свалить Орду сейчас не по силам…
Невский нахмурился.
— Владыка, что ты мои мысли знаешь, в том нет секрета, я их и не скрывал от тебя. Не об этом говорю: что произошло, то произошло, избитых воинов вельможе Бурытаю не вернешь, монаха-переветника не воскресишь. Вот что думается: из баскаческих отрядов по городам они рать большую не соберут. На это уповаю, потому и дружинникам своим разрешил идти к Ярославлю. Отобьются! А ну, как орда придет из степей?
— Не придет, — уверенно сказал Кирилл.
Александр Ярославич вопросительно поглядел на него: митрополит что-то недоговаривал.
— Не придет, — повторил Кирилл. — Тебе, князь, видно, не донесли еще… Не до этого им теперь, потому как Беркай придушил сына Батыя Сартака заодно с его вельможами. Смута в их стане великая.
Весть, которую сейчас сообщил митрополит, не обрадовала Александра Ярославича, хотя и понимал, что всякая распря в стане врага на пользу Руси. Слабовольный, рыхлый телом Сартак при жизни отца имел огромное влияние в Орде, с ним всегда можно было договориться. К тому же он принял христианство, к православным русским не питал такой злобы, как его фанатичный дядя Берке, магометанин по вероисповеданию.
Александр Ярославич вспомнил полутемную юрту, сидящего истуканом Берке, разряженного, как кукла; неподвижное желтое большое лицо, косички запрятаны за оба уха, в одном ухе, оттягивающее мочку, золотое кольцо с драгоценным камнем. Шелковый кафтан, золотой пояс на коже и красные башмаки — все это, казалось, было напялено на каменное изваяние, даже дыхания не было заметно в этом человеке. И только временами из-под сомкнутых век кинжальным огнем сверкал злобный взгляд.
— Беркай забирает власть всего поволжского улуса и тем злобит их каракорумского императора Менгу, — продолжал между тем Кирилл. — А счетники на Русь посланы от Менгу. Не станет Беркай вступаться за его людей, назло не станет. И тут самое время подлить масла в огонь: сборщики-де не столько ханскую казну обогащают, сколько себя, да и то, что для хана соберут, — отправляют в Каракорум, Беркаю ничего не достается; своей волей творят неправый суд, гневят беспричинно народ, ничтожат ханскую власть.
— Насколько понимаю, владыка советует ехать в Орду к Берке? — сказал Невский.
— Ехать, князь, не минешь. Но пока лучше выждать, как там закончится у них смута. Оттого и мыслю: коли уж так вышло, пощипать татар не грешно. Мужество поддержать в людях! Пусть поймут твердо: не вечно над землей русской быть игу, не перевелись еще молодцы на Руси.
Беседовали два умудренных мужа, расходились во мнении в частностях, но путь видели один — исподволь готовить народ к освобождению земли от иноземцев. Еще в дороге, узнав о замятне ярославцев, митрополит воскликнул, удивляясь: «Отчего так легко, дерзко поднялись люди на татар? Да потому, что живет воля в народе, как ни пригнетают ее».
Константин жадно слушал их беседу, был благодарен Кириллу за то, что тот укрепляет его в принятом решении.
— А ну ответствуй, каких таких лешаков-язычников хоронишь ты в лесу?
Константин не ждал такого вопроса от митрополита, растерялся.
— Владыка, откуда тебе известно о сем?
— Узнал. Игумен Афонасий поведал. И не коси глазом. Вот он, — указал на Александра Ярославича, — не считает нужным ничего таить от меня, а ты скрыть хочешь? Нужно ли так?
— Как можно скрыть? — Стыдливый румянец выступил на щеках молодого князя. «А Афонасий-то каков? Ничто в себе не удержит». — Никогда не заходил разговор об этом, владыка.
— Так пошто укрываешь отщепенцев веры христовой? Волхование поощряешь?
— Владыка! — Константин выпрямился, заговорил с достоинством: — Владыка, они — русские люди. Охотники, рудокопы, лучники. Готовят воинский припас для нужного дела. Дань платят исправно…
Митрополит усмехнулся в лукавом прищуре. Он знал, что в этом залесском краю язычество — совсем не редкость, и относился к тому терпимо. Услышав от игумена Афонасия о тайном лесном поселении, подивился сметливости молодого князя, еще больше проникся к нему отеческим доверием. Спрашивал сейчас не с упреком, хотел больше узнать о «лешаках», заинтересовавших его.
— Что своим богам молятся, поклоняются деревянному идолу, то мне говорили, — с обидчивостью продолжал Константин.
Слишком неравное положение занимали они: глава церкви и удельный князь. Константин и помыслить не мог, что любуется им Кирилл, нарочно поддразнивает.
— Владыка, сам я там не был, вся связь у меня с ними через доверенного человека. Ты можешь спросить: в моем отряде есть юный воин, он оттуда, из леса. И доверенного человека взял с собой — на обратном пути хотел заехать в урочище. Позвать ли?
Александр Ярославич с любопытством следил за их разговором. Сам создавал такие тайные поселения, куда не было догляду татарским лазутчикам, ставил туда воеводами постаревших, преданных дружинников, и они учили молодежь воинскому искусству, а внешне эти поселения выглядели обычными деревнями, населенными землепашцами. Значит, Константин преуспел и в этом, крепкая хватка угадывается в нем, а ведь молоденек…
— Вели, пусть придут, — сказал митрополит Константину. — Не велика птица — синица, но крайне любопытно взглянуть. Матерый волхв будто всему у них — приговор. Да где его достать? Зови, кто есть?
Готовые в дорогу, недоумевающие, зачем понадобились владыке, пришли кузнец Дементий, с суровым, темным от въевшейся угольной пыли лицом, и гибкий, порывистый Василько. Разом отвесили низкие поклоны, дотянувшись рукой до пола; застыли, робея устремленного на них внимательного взгляда митрополита.
Какое-то время длилось молчание. Кирилл с нескрываемым удовлетворением разглядывал юношу: крепок станом, открыт лицом, диковатые глаза смелы, полны любопытства.
— Скажи-ка, как звать тебя, добрый молодец? Ты язычник?
— Я крещен. У меня христианское имя, — смущенный неожиданным вопросом ответил Василько.
— Вот как! А я слышал, все вы там поклоняетесь деревянному идолу, жжете огни. Чтишь истукана?
— Наш бог милостив, — уклончиво ответил Василько. — Он помогает людям.
— Ну, ну… — Кириллу стало ясно, что у юноши представление о вере самое приблизительное.
— Дозволь, владыка, объясню, — вмешался Дементий. — Идол у них в самом деле есть. И поклоняются они ему, просят хорошего урожая, удачной охоты. И костры жгут. Раз в году вроде праздника это у них бывает…
— Ты помолчи, — оборвал Кирилл. — Его спрашиваю. Ты кто таков, чтобы заблудших в вере под защиту брать?
— Владыка, живу я среди верующих, был и у язычников и знаю: ко всем беды одинаково пристают.
— В геенне огненной будут гореть.
Словно бес вселился в Дементия, упрямо лез в разговор:
— Никто не возвращался и не рассказывал о небесном царстве, никто не знает о геенне огненной.
Кирилл мог бы и прикрикнуть, и властно стукнуть кулаком по столу, но не стал спорить с упрямцем. Кузнец был неинтересен ему — видел таких за долгую жизнь. «Погрязший в грехе, в нем и пребудет».
А вот на Василька посмотрел с сожалением, сказал ворчливо:
— Выживший из ума идолослужитель обманывает вас, волшебствует над умерщвленными птицами — божьими тварями, пророчит беды, глад и мор, будто сие от него зависит, а не от творца небесного, вы же, незрячие, всему верите.
— Жрец Кичи — мудрый человек, — не согласился Василько, поняв, о ком говорит митрополит, и вспыхнув румянцем. — Он умеет угадывать, что ждет людей, он предсказатель и врачеватель. Я верю жрецу.
С таким убеждением было это сказано, что Кирилл вновь обласкал взглядом юношу, привлекала его наивная искренность.
— Сын мой, — мягко сказал митрополит. — Похвально, что ты берешь в защиту старших. Пусть будет так, переубеждать тебя не собираюсь, мало времени у нас для этого. — Повернулся к Константину, весело оглядел его. — Князь, узнаю ярославцев — задиристое племя, упрямы, спорят даже в заблуждении своем. Чаю, не легко тебе с ними, прямодушными. Бог вам на помощь, благословляю на ратное дело. Паче всего хочу, чтобы выстояли вы с честью.
И когда Константин, бледный от волнения, припал к руке владыки, а потом вышел со своими дружинниками, Кирилл раздумчиво сказал Александру Ярославичу:
— Люди какие! Мы, обжегшись когда-то, ненавидим и боимся, а им и страх нипочем.
6
Татарского вельможу Бурытая душил гнев, в углах рта, как у загнанного коня, скапливалась пена. Аллах отвернулся от него. Мог ли думать, отправляясь из степей, что его отборный отряд разгонят безоружные мужики. Сгорая от стыда, злясь на всё и вся, нахлестывал коня, гнал его по лесной дороге. Жалкие остатки его воинства следовали сзади, никто не решался попасть на глаза свирепому мурзе. Направлялись к стольному граду Владимиру на Клязьме. Неотступно вертелись слова, которые он скажет: «Князь Александр, сам накажи дерзких». Так он скажет русскому великому князю. А потом… Потом он подпалит город со всех сторон, разрушит и сбросит в реку дворец молодого Кости-князя. Всех вырежет! Только так…
Но гложет червь сомнения старого мурзу. Там, во Владимире, ему придется бесславно припасть к ногам верховного баскака Китаты, мурза подчинен ему. И. это предстоящее унижение отравляло еще горше. «Чем, как объяснить постыдное бегство? Аллах, покровитель сильных, почему невзлюбил меня? Далеко ли падет еще твой гнев?»
Впереди дорога оказалась занятой; понурая лошаденка тащила на волокуше бревна, концы бревен царапали землю. Два мужика, в длинных серых рубахах, босые, вышагивали пообочь волокуши. Увидев бешено скачущих всадников, мужики рванули в лес. Воины на ходу по привычке— убегают! — пустили вслед им стрелы. Мурза зло выругался — только сейчас заметил полные колчаны стрел у своих воинов: «Трусливые шакалы! Где были их стрелы, когда разъяренные мужики громили слободу?»
И опять жег стыд, когда вспоминал, как вырвался из слободы, бросился с конем в Которосль, а потом, мокрый и грязный, пробивался по черной жиже через кустарник к дороге, — откуда было знать, что напротив слободы на другой стороне реки было хлюпающее болото. Вырвавшиеся вслед за ним воины постепенно стягивались к нему, но опасливо держались поодаль: мурза был в ярости, попади под его горячую руку — можешь лишиться головы.
Поравнявшись с мужицкой лошаденкой, Бурытай огрел ее плетью; заморенная животина рванулась из последних сил и упала; жалобное ржание разнеслось по лесу, заставило мурзу оглянуться. Воины, опустив глаза, осторожно объезжали упавшую лошадь. Совсем озверел мурза: нельзя измываться над конем, будь он хоть самым распоследним. По их угрюмым молчаливым лицам Бурытай угадал, как они сейчас о нем подумали. Помнят заповеди Повелителя Вселенной — Чингисхана. У него вдруг закралось сомнение: ушедший первым с поля боя да будет наказан — так гласит закон. Не он ли первый бросил слободу? Пожалуй, надо быть к ним мягче, не то разнесут повсюду, что он, мурза, кинул своих воинов в беде. Попридержал коня, старался смотреть приветливо. Дальше уже скакали вместе.
Но окончательно отвернулся аллах от мурзы!
Во Владимир въехали уставшие, на едва плетущихся конях. Никак не думал Бурытай, что здесь, на подворье главного баскака русской земли хана Китаты, его ждет новый удар.
Во Владимире хан жил в деревянной просторной избе, но внутри стены, пол, потолок были сплошь покрыты коврами.
Бурытай увидел Китату, восседавшего на подушках. Рядом с ним на таких же подушках, но ниже хана, сидели два человека в халатах, в шапках. Все пили кумыс, который подливал им в чашки полуобнаженый темнокожий слуга.
Высокое положение царева посла требовало, чтобы вошедший распростерся перед ним, что Бурытай и сделал.
Падая на ковер, он успел с радостью отметить, что один из гостей Китаты был его дальним родичем и приближенным хана Сартака. Правда, встретившись взглядом с мурзой Тутаром, так звали родича, он не заметил ответной радости — глаза Тутара были холодны и непроницаемы. Но это не обескуражило Бурытая: не подобает степенному, уважаемому себя человеку, подобно слезливой женщине, выказывать свои чувства.
— Да пребудешь ты в долгой радости! — приветствовал мурза главного баскака.
Он ждал, что Китата поднимет его, — ничего такого не произошло, Мурза поднял голову — его обжег колючий взгляд главного баскака, который даже не пошевельнулся. Почти не раскрывая рта, Китата процедил:
— С чем прибыл?
Обида захлестнула мурзу, и, наверно, она была заметна на его пыльном лице. «Кичливый ишак, забыл законы гостеприимства!» Бурытай скосил глаза на родича — тот был по-прежнему безучастен. «Может, уже известно, с каким позором я прибыл сюда?» Эта мысль обожгла мурзу: сам он мог объяснить, сгладить случившееся: воины князя Константина коварно напали на слободу; мало людей — не было возможности выстоять. Совсем иное могут наплести недруги. Но он скакал без передышки. Кто мог опередить его?
— Садись. — Китата посчитал, что достаточно помучил мурзу, сбил спесь. Он кивнул слуге, и тот быстро, взял новую чашку, нацедил кумысу, подал. — Садись отдыхай, — уже приветливее добавил он. — Рассказывай. Видно, путь твой был долгим и спешным. Что привело тебя сюда в этот печальный для нас час?
Мурза вопросительно перевел взгляд с одного на другого— ответа не получил. Но баскак сказал: «Печальный час…»
— Рассказывай, — опять сказал Китата.
И тогда мурза, с достоинством, стараясь ничем не выдать давящий душу стыд, стал рассказывать о заранее подготовленном ярославским князем Константином восстании, красочно передал, как коварством заманил его князь в гости и мурза не был убит только благодаря смелости своих нукеров и собственному самообладанию.
Тут Бурытай заметил, что Китата быстро переглянулся со своими гостями, но, словно спохватившись, тотчас потянулся к чашке с кумысом. Бурытай принял мелькнувший взгляд за сочувствие к себе. И, уже не сдерживаясь, закричал:
— Приехал! Скажи свое слово великому князю владимирскому Александеру: пусть сам накажет дерзких! У него есть воины, есть оружие, есть воины и у Кости-князя. Пусть поцапаются. А?
Китата не торопился с ответом, маленькими глотками тянул кумыс. Потом сказал:
— Это ты хорошо задумал. Пусть неверные омочат землю своей кровью, пусть бьют друг друга.
— Только так! — воскликнул Бурытай. — А мне дай воинов. Пойду по следам Александера. Пеплом покрою их землю. Ударами стрел и мечей устрашу врагов. Вся добыча, все пленные — твои.
Мурза повеселел, гордо поднял голову; жмурясь от удовольствия, представлял, как будет пылать богатый город, стояли в ушах стоны умирающих, крики о пощаде. «Дворец Кости-князя сброшу в реку, — опять вспомнил он уже решенное. — Вместе со всеми, кто в нем будет! Жаль, у Кости-князя нет княгини, можно было забрать к себе в юрту. — И вдруг высветилось: конский загон в слободе, русокосая девушка в истерзанном платье. — Возьму ту девку. Ай, хороша уруска!» С трудом избавляясь от блаженного состояния, в котором был, сказал:
— Наши владения там, где землю хоть раз топтали копыта монгольских коней. Пусть трепещут от страха покоренные. Кто противится — уничтожай, не жалей ни взрослого, ни малого. Только так! Забываем! Забыли заповеди Повелителя Вселенной Чингиса.
Мурза вдруг понял: не надо было говорить этого — Китата мог посчитать его слова за упрек. С опаской покосился на главного баскака — у того брови ползли вверх. «Ах, аллах!..»
— Старая собака на пустое дерево лает, — презрительно сказал баскак. Как плетью хлестнул, обжег взглядом. — Ты лучше всех знаешь заповеди Чингиса?
«Достойные слова в устах презренного становятся пустыми. Шелудивый пес! Бежал, не чуя ног от страха, — поучать вздумал!»
Китата согласен: Бату-хан проявил непонятную слабость, надо было вырезать русских под корень, как делал его великий дед Чингис-хан со всеми непокорными народами; уничтожить всех, вплоть до детей, доросших до тележной чеки. Разъезжая по городам, баскак хорошо видел: оживает Русь, оправляется от потрясения после Батыева похода, хитрый князь Александр копит войско. Самое время — подрезать ему крылья, не то он постарается вырваться из когтей степного беркута.
Но перед Китатой сидели мурзы — вестники черных дел хана Берке. Не прекращается смута в Орде: хан Берке покусился на жизнь Сартака, наследника Батыя и владетеля поволжского улуса. А ее, смуту, только и ждут князья русские: она ослабляет Орду.
Снова глянул на Бурытая из-под прищуренных век. «Это он хорошо придумал: послать князя Александра на расправу с восставшим городом. А откажется… Новый хан, Берке, будет недоволен, он не терпит князя Александра, не задумываясь, передаст ярлык на великое княжение более послушному. Тогда порядок в русских землях будет наводить татарское войско. Надо устрашать, обессиливать непокорливых».
— Ты хотел видеть князя Александра, хотел все сказать ему?
Бурытай закивал.
— Ты потерял голову, слишком спешил. Почто не узнал, где князь Александр?
Мурза растерянно заморгал. «Где быть великому князю, если не в своем стольном городе?»
— В Переяславле князь, туда поезжай. Сам! — В то же время подумал: «Этот старый ишак своей глупой самодовольностью непременно разозлит князя, заставит пойти наперекор».
Китата отвернулся, дав понять, что все сказано; о воинах, которых просил мурза, не упомянул. Бурытай сник. Пятясь, вышел из деревянной юрты.
Мурза валился с ног от усталости, обмяк от унижения. «Аллах, покровитель сильных, отвернулся…»
Он лежал в наспех раскинутой воинами юрте, когда кто-то тронул его за плечо. Бурытай обозленно обернулся и тут же вскочил — перед ним стоял суровый, непроницаемый родич Тутар.
— Любимый брат мой, сверкающий всеми достоинствами души и ума! — надрывно воскликнул Бурытай. — Объясни, что происходит? Я припал к ногам царева посла, я все сказал. Разве была в моих словах ложь?
— Ты все так говорил, — спокойно ответил Тутар, опускаясь на подушки. — Ты не ведаешь всего. Тебе известно: после великого воителя Бату-хана по родовому закону верховной палаткой Золотой Орды стал править его сын Сартак, но не знаешь, что великий хан Сартак, да будет ему вечное блаженство, ныне переселился из этой непостоянной обители в стоянку неизбежную. Так хотел Берке, дядя его. Ты удивлен, увидев меня у Китаты? Я не стал ждать участи хана Сартака и обманом отправленных из этой жизни в объятия аллаха его верных багатуров. Я скакал сюда с черной вестью. Я рассчитал: великий каан всех монголов — благословенный Менгу возьмет меня под свое покровительство и защитит от зла, что сеет теперь хан Берке, который далек от пути скромности и мягкости. Вот почему я оказался в юрте Китаты.
Бурытай слушал родича, приоткрыв рот, на его желтом испуганном лице проступил пот. Он попал к Китате не вовремя: когда тот был озабочен смутой в Орде, можно ли было рассчитывать на благосклонный прием, да еще не к месту призывать к резне русских?
— Но ты знай, — все так же медленно и спокойно продолжал Тутар. — Мои сотни не потрепаны, они в донских степях. Багатур Тильбуга идет с ними сюда. Я предупредил об этом царева посла. Он доволен моим решением. Разогревай раздор среди князей, требуй от князя Александра наказания твоим обидчикам. Я хорошо знаю его повадки, он станет хитро увиливать. И тогда мои воины обрушатся на ослушников. Ты будешь отомщен, мы возьмем хорошую добычу,
7
Топорок поглядывал по сторонам, выискивая, где можно было бы остановиться, себе и коню дать отдых. Дорога шла лесом. Час назад при открытом солнышке прокатил из тучи быстрый, косой дождь (наверняка, к близкому ненастью), но сейчас от него и следа не осталось, небо опять высокое и голубое, все обсохло. Воздух прозрачен, а душистый запах цветущих трав был густ до одури.
Справа, среди деревьев, мелькнул просвет, Топорок свернул туда. Он выехал на полянку. Тут и вправду можно было уютно расположиться: в конце полянки протекал чистый ручей; но главное — с дороги не видно: своя земля, а беречься не грех. Возле ручья мягкая, как шелк, трава; конь, напившись, потянулся к ней; и Топорок, ополоснув лицо и тоже напившись, с наслаждением растянулся на этом мягком травяном ковре. Только сейчас заметил, что лес в этих местах светлее — много дубков и кленов, не то что непролазные дебри, чернолесье, к которым привык дома.
Топорок радовался нежданному поручению, гордился: обласкали его князь Константин и Данила Белозерец. При выезде из Переяславля они отозвали его и долго говорили, что он должен сделать: он должен скакать во Владимир, узнать, там ли удравший из Ярославля татарский вельможа Бурытай, и если там, то что тот собирается предпринять. Назвали ему верных людей, у которых можно остановиться и на кого опереться.
Конь щиплет траву. День погожий, приятно обвевает ветерок, Топорок лежит и мечтает. А о чем может мечтать добрый молодец, оставивший за спиной восемнадцать весен? Какие бы ни были дела — дела-то приделываются, забываешь сделанное, принимаешься за другое, а вот она, зазноба, если она есть у тебя, все время в памяти, в сердце, она не забывается. Мечтает он о Настасье, своей суженой. Настаска тоже тянется к нему и плачет (вот глупая!), когда он куда-нибудь уезжает. «Вот бы узнала, куда и зачем сейчас еду, — обмерла бы со страху».
Топорок решил вздремнуть часок — все-таки полсуток не слезал с коня, — а потом ехать. К тому времени и жара поспадет. Но верный и чуткий Разгар вдруг поднял голову и тихо заржал.
Воин припал ухом к земле и тут же вскочил: и он услышал топот многих коней, еще далекий. Он отвел коня чуть далее в лес, похлопал по шее, велел ложиться. Разгар беззвучно повиновался.
Пробравшись вперед, так, чтобы видна была дорога, Топорок застыл.
То, что он увидел, ошеломило его. Большой отряд татарских конников шел в сторону Переяславля. Уверенная осанка бывалых воинов, богатая одежда, щиты, копья, луки, саадаки, полные стрел, передний всадник держит над головой татарское знамя — раскрашенное древко с развевающимся конским хвостом; но что было самое непостижимое для Топорка — вслед за знаменосцем, скакал с, надутым от важности лицом Бурытай, тот самый Бурытай, которого он должен был найти и узнать, что тот намерен предпринять. Привычным взглядом Топорок отметил, что в отряде было не менее двух сотен всадников.
Если бы не удаляющийся конский топот, Топорок подумал бы, что все это ему привиделось. Бесславно удиравший от разгневанной толпы с остатками своей сотни татарский вельможа вдруг, как в сказке, предстал перед ним опять с воинами. Да какими! Впервые Топорок подсознательно ощутил неистощимую силу тех, кто нагло топчет его землю.
Что-то надо было делать. Первое, о чем он подумал: скакать к Константину Всеволодовичу. А потом понял, что это не решение. «Нет, я обязан, должен узнать о намерениях Бурытая».
И, уже не раздумывая, он погнался за татарским отрядом.
Ему не составило особого труда догнать отряд: татары хоть и ходко шли, но без горячечной спешки. В одном месте, у мелкой каменистой речушки, они даже сделали небольшой привал. Топорок следовал осторожно, часто останавливал коня, прислушивался. Он уже твердо был уверен, что Бурытай направляется в Переяславль к великому князю Александру Ярославичу Невскому, и у него даже мелькнула мысль — обогнать и прийти первым, предупредить. Но отказался: с мурзой мог ехать проводник, который знает неведомые ему, Топорку, тропы, и, минуя Переяславль, проводник поведет отряд на Ростов и далее на Ярославль.
А Бурытай и в самом деле особо не спешил. Аллах стал милостивее к нему. Осадив неудачливого воителя за напыщенные и не к месту сказанные речи, царев посол Китата, правда не без просьб родственника Тутара, решил дать Бурытаю две сотни отборных воинов из своей свиты. Сказалось тут и то: Бурытай ехал к великому князю, Китата не мог допустить, чтобы русские вдоволь посмеялись, увидев татарского военачальника в таком истерзанном виде, с кучкой таких же истерзанных нукеров, — пострадала бы честь тех, кто владеет ныне половиной Вселенной.
Бурытай ехал в самом радужном настроении, раздувался от спеси.
Княжеский летний терем на Ярилиной горе был далеко виден. Разглядывая его, мурза засомневался. Как было бы внушительно хорошим наметом подскакать к крыльцу всем отрядом. Но не примут ли русские их стремительный подход за внезапное нападение и не встретят ли стрелами? У князя Александра наверняка людей больше. Отряд с горы, конечно, уже заметили, успеют подготовиться.
Разумнее было бы оставить воинов на расстоянии чуть дальше полета стрелы, а самому с двумя сотниками ехать к князю. Или послать вестника с предупреждением о приезде. Но гордость Бурытая протестовала: он не просить приехал — требовать!
С ясностью представив, как он будет разговаривать с князем, мурза распалился, ожег плетью коня. Все его воинство, поднимая дорожную пыль, ринулось следом за ним.
Княжеский терем стремительно нарастал. Сейчас навстречу взметнется рой смертоносных стрел, какая-то из них выбьет его из седла. Бурытай внутренне сжался…
Перед самым крыльцом терема он с трудом осадил коня, подняв его на дыбы. Лицо его выражало растерянное недоумение. Непостижимо, но княжеский двор был пуст. Только на крыльце стоял белоголовый мальчишка, с любопытством смотрел на прибывших; не было в его глазах ни страха, ни удивления — одно любопытство.
Бурытай пришел в ярость. «Ишачье племя! Всех давно пора вырезать. Корня живого не оставить. Только так! Ведут себя как победители, будто не данники. Как встречают!»
Брызгая слюной, заорал на отрока:
— Что стоишь? В ноги! Где Александр? Князь где?
Мальчишка не стал падать в ноги, а поклонился низко.
— Туточки Александр Ярославич. Сейчас позову.
Но Бурытай уже соскочил с коня, рванулся вверх по крылечным ступенькам. Навстречу ему из покоев шел сам князь Александр Ярославич.
— Что шумишь, багатур? — В голосе князя было участие. — Что случилось-то? Аль обидел тебя кто?
— Как встречаешь царева посла? — Бурытай еще не мог подавить в себе крика, хотя вид князя, его спокойствие произвели на него впечатление. — Совсем загордился?
Александр Ярославич смиренно развел руками.
— Прости, багатур, не знаю, как звать-величать тебя. Ты не предупредил о своем приезде, вот нехорошо и вышло.
Смиренность его усыпила мурзу, не заметил, как наливаются гневом глаза князя.
— Не предупредил! — чванливо выкрикнул Бурытай. — Зачем предупреждать? Каждый час жди, всегда жди! Только так!
— Ай, багатур! — Голос Ярославича стал звенеть. — А еще называешь себя царёвым послом. Рвешься в терем, как был, в пыли, с плетью, наглый. Себя позоришь перед своими воинами, меня хочешь позорить. Неужто перевелись достойные послы у царей ордынских? — Князь укоризненно покачал головой. — Смотри, твои воины притомились в дороге, да и ты еле на ногах держишься, хоть и орешь. Остынь и потрапезуй со мной за столом, и поговорим мирненько, как у нас делается, у людей русских. Чаю, у вас не по-другому, или уже всё в Орде наперекосяк пошло? Ты даже не сказал: кто ты и с чем приехал. Криком да и чем другим, багатур, меня не возьмешь.
И, отхлестав таким образом мурзу, изобразил на лице радушие хлебосольного хозяина.
— Воинам скажи, сейчас о них позаботятся. А ты со мной иди. Где хочешь пировать? — Князь показал на терем. — Там? Или на берегу стол раскинуть?
Мурза морщил лоб, надо было что-то крикнуть, осадить князя, но не находил слов: все правильно, говорил князь, с уважением. Он посмотрел на зеркальную гладь озера — ширь его успокаивала. Буркнул, не глядя на Ярославича:
— Там… шатер…
Александр Ярославич с первых минут догадался, кто перед ним. От спешного гонца из Владимира он знал, что бежавший из Ярославля побитый мурза был у Китаты я что Китата что-то затевает.
Люди Невского еще издалека заметили приближение татарского отряда, доложили ему. Он приказал не болтаться без нужды на подворье. Послал только Гриньку встать на крыльце.
Оставалось загадкой, зачем прибыл этот спесивый вельможа со своими двумя сотнями воинов. Князь смотрел на Бурытая и думал: «Этот дурак хоть кого выведет из терпения. Недаром так обозлил ярославцев».
— Будь по-твоему, — согласно кивнул князь. — Желание гостя — закон. — Обернулся к мальчику. — Гринька, распорядись, чтобы раскинули шатер, тот, что для знатных гостей.
Последние слова Бурытаю понравились, не смог скрыть довольной улыбки.
Сидели в шатре на мягких подушках. Александр Ярославич, правда, не умел сидеть по-азиатски, просто согнул колени, обхватил их руками. Дверной полог был откинут, чтобы подувало ветерком с озера. Шелковый верх шатра переливался красками: выглянет солнышко из-за облака — золотистой кажется крыша, светлее становится в шатре; нет солнышка — приятный сумрак освещает пирующих.
— Прости, багатур Бурытай, кумыса у меня нет, — добродушно говорил князь. — Не умеют у нас доить кобыл, да и непривычны наши кобылы к этому, непонятливы — лягаются. Угощу тебя отменным вином. Но, может, вера твоя запрещает пить вино? — вдруг спохватился он.
— Ничего, — важно сказал Бурытай. — Я в походе. В походе ничего не запрещается.
Александр Ярославич понимающе кивнул. «Это мы знаем, ничего вам не запрещается».
И вино казалось светло-золотистым, когда Гринька из кувшина наливал его в серебряные кубки.
Мурзе понравился кубок, затейливая резьба на нем, поцокал языком и вопрошающе взглянул на князя.
— Возьми себе на память, — угадал Александр Ярославич его желание. — Еще не бывал в Переяславле?
Глаза мурзы хищно блеснули, губы тронуло подобие улыбки.
— Еще не бывал. — Усмехнулся уже явственнее. — Может, придется, а?
— Милости просим, — так же с улыбкой ответил Ярославич. — Встретим и проводим.
Мурза чарок не считал, покачиваясь, нагло поглядывал на князя. Гринька не оставлял его кубок пустым, и вскоре желтое, высушенное солнцем и ветрами, лицо гостя обмякло, глаза совсем скрылись за веками, Александр Ярославич ожидал, что он сейчас повалится и уснет. Но у мурзы на миг появился проблеск в сознании: вспомнил, зачем приехал сюда. Расправил плечи, что ему далось нелегко, раздулся от важности. Ткнул грязным пальцем в сторону князя, тот невольно качнулся назад, но ничем не выдал брезгливости.
— Будешь бить их сам! Не щади. Только так!
— Кого бить — не щадить, багатур Бурытай? — Александру Ярославичу полегчало, теперь он знал, зачем здесь этот надутый индюк.
— Так ты еще не знаешь? — Мурза попытался подняться на ноги, но не сумел. Но взгляд у него стал осмысленным. — Костя-князь руку поднял. На кого? Велик аллах! Нукеров моих прогнал из слободы, многих побил. Коварный Костя-князь! Толмача Мину велел убить, двух нукеров в лесном болоте ваш шайтан-лешак взял. Мало, а? Ты пойдешь и накажешь его. Подави смуту сам. Дворец Кости-князя — в реку. Самого — в плети! Только так!
Говорил твердо, и Александр Ярославич начал подумывать: не притворялся ли он до этого пьяным? Но невозможно: быку такую порцию — с ног сшибет. Вот она, звериная ненависть, — трезвого пьянит, пьяному проясняет голову. Пинком бы его с кручи в озеро, а приходится терпеть, да и чувствовалось: не все еще высказал мурза.
— Не вижу никакой смуты, — спокойно стал объяснять ему князь. — Что побили ваших, выгнали из слободы, так творили много злого, всякое терпение иссякло. Твой толмач Мина злобностью своей много досаждал людям, народ своим судом расправился с ним. Разве вы не караете изменников? А двое нукеров утопли — так наши леса для чужеземцев коварны, неосторожны они были. Так что с Кости-князя спросу нет. А вот с тебя, багатур Бурытай, есть спрос. Ты за что немецкого купца ограбил? Знал ведь, что у него пайцза от Берке. Зачем, как лесной тать, напал на ростовского купца, изранил его?
Бурытай долго молчал, сопел. Уверенность князя сбивала с толку. Упомянул еще про пайцзу Берке, который стал великим ханом Золотой Орды. Угрюмо спросил князя:
— Так ты не пойдешь на Костю-князя?
— Не собираюсь. Наказывать правых в угоду злонамеренным никогда не стану.
— Ты еще пожалеешь, князь, — с угрозой сказал Бурытай. — Не пойдешь ты — мы пойдем. И тогда никому не будет пощады. Велико татарское войско.
— Знаю. — Александр Ярославич раздумывал, что таится за угрозой мурзы; не пойдет же он на ярославского князя с двумя сотнями воинов. Китата — вот, наверно, в чем дело. Спросил незаинтересованно — Китата пойдет со своей тысячью?
— Не только Китата. Подходит войско в три, пять раз больше. И ты пожалеешь, не наказал ослушавшихся рабов.
Выигрывая время для ответа, Александр Ярославич поднес кубок к губам, вино показалось пресным. «Откуда они ждут войско? Наделал ты бед, Костя-князь. Погибнуть с честью, но без толку — велика ли заслуга? Но что-то надо сказать, этот бурдюк кумысный ждет. Видно, не уйдешь от поездки в Орду, да и надо, за ярлыком на великое княжение к новому хану ехать не минешь. Откуда они ждут войско?..»
Князь согнал с лица задумчивость, как можно приветливее взглянул на мурзу.
— Днями я еду в Золотую Орду к великому и благословенному хану Берке. Передавать ли ему поклон от тебя? — Потом хитро сощурился, договорил: — Или хочешь, чтобы я рассказал ему, какие подвиги ты совершил здесь?
Бурытай насторожился: что все это значит?
— Говори, — помедлив, согласился он, но Ярославич заметил, как потускнел его голос. — Рассказывай, но я по повелению Менгу здесь. Его милость распростерлась надо мной. Я царев посол.
— Но твое кочевье в Золотой Орде, в улусе великого хана Берке. Не так ли?
«О, аллах!»
— Так. Мое стойбище в улусе великого хана Берке, да пусть жизнь его будет длинна и прекрасна.
«Вот так-то!» — подумал Ярославич, видя, как сник Бурытай. У них там за одно неосторожное слово рубят головы. «Может, — со слабой надеждой подумал Александр Ярославич, — эта маленькая ответная угроза образумит его и он оставит в покое ярославского князя? И все-таки — откуда они ждут войско?»
Оставаться дольше Бурытай отказался, прихватил серебряный кубок и ушел из шатра, бормоча про себя: «Аллах, просвети меня, я совсем запутался. Огради меня от гнева хана Берке. Не дай поверить князю Александру, что я презрел пайцзу хана».
Глядя вслед ему, князь Александр опять подумал: «Может, все и обойдется, отступятся от Константина Всеволодовича?»
У крыльца его ждал дружинник, помявшись, робко попросил разрешения говорить. Князь кивнул.
— Прости, Александр Ярославич, за докуку. Здесь у нас воин ярославского князя. Поручено ему было узнать, где Бурытай и что тот намеревается делать. А теперь он в сумлении…
— И ждет, хочет узнать, не поведал ли мне Бурытай свои мысли? — резко оборвал князь. — Пусть делает, что ему сказано своим князем. Не подобает мне вмешиваться в дела других. Надо будет послать весть князю — свои гонцы есть.
— Молодой он еще, — попытался вступиться за Топорка дружинник.
— Все они там молодые, безоглядчивые. Экие витязи!
Ах, Александр Ярославич, одно оправдание твоей иронии, что с возрастом забываются собственные молодые годы.
8
Больше всего не хотелось Константину встречи с Борисом Васильковичем и Глебом. А как минешь ее, если надо ехать через Ростов; не проскачешь же мимо окон терема ростовских князей — смертельную обиду затаят братья. И Мария Ярославна не поймет.
Из задумчивости вывел его Данила Белозерец, ехавший вровень.
— А что, княже, заберем в Ростове охочих ратников?
— Опять ты за свое, — упрекнул князь.
— Почему — за свое? Князь Александр Ярославич сказал тебе — бери по дороге смельчаков. Так и надо брать. Они почему охотно откликнулись, ростовцы? Что им наш город! Они с татарами драться хотят. Вон, смотри, было нас два десятка, а теперь больше сотни, если еще в Ростове возьмем, так мы в таком числе хоть сейчас в битву.
— Храбр, — усмехнулся Константин. — Ты лучше сказал бы, как разминуться с ростовским князем. Не хочется мне видеть его.
— Вот что тебя заботит! То, княже, просто: объедем озеро с правой стороны, через Рыбное, и — на нашу дорогу.
У Константина как гора с плеч. Но все-таки недоверчиво спросил:
— А ты ездил здесь?
Данила улыбнулся, показав белые зубы.
— Не ты ли, князь, посылал меня гонцом в разные города? Дороженьку эту я знаю, она еще прямее, если в город не надо заезжать.
Когда объезжали озеро, невольно присматривались к Ростову. Издалека он выглядел еще величавее. Многочисленные главы церквей, обшитые осиновой плашкой, серебрились на солнце. Все они расположены были вдоль озера, в одну нитку. Можно было отыскать взором островерхую крышу княжеского терема. Тесно сгруженные боярские дома тоже выглядели внушительно. Переяславцы, не бывавшие здесь, восхищенно переговаривались:
— Да, оно и есть — Ростов-батюшка. Лучше не скажешь.
Данила сказал не напрасно, что дорога прямее, — скоро они уже наткнулись на первую сторожу, оставленную на развилке. Наскучавшиеся воины с радостью присоединились к отряду — надобность в этой стороже отпала.
До мужицкой засеки шли ходко. Мужики, видно, ни на час не оставляли ее без охраны — высыпали из-за деревьев. Впереди опять с огромной рогатиной старик Окоренок.
— Будь здрав, княже!
— И тебе долгих лет, — сказал князь, спешившись Улыбнулся: — Татары не налетали?
— Слава богу, тихо, — серьезно ответил старик.
Переход по лесной тропе занял много времени. Когда опять все были на конях, князь спросил старика:
— Так что, ваши ратники следом за нами пойдут?
— Мы так смекаем, князь. Коли навалятся, мы тут их по перворазу употчуем и тебе весточку дадим. А потом уж прибудем.
Константин удивленно посмотрел на него.
— Да как же вы пешие против конников? Они вперед вас прибудут.
— Они по дороге, да и сторожиться после этой засеки станут, а мы побежим своими тропами. Небось не обгонят.
— Ну, не знаю, — не поверил его объяснению князь. — Впрочем, дело ваше. Но вот что выполни не мешкая. Подбери артель и сегодня же направь ко мне. Такие же засека будем делать. А есть ли у нас в городе умельцы, того не знаю.
Константин в эту поездку обдумывал, где лучше встретить татар; И все больше склонялся к мысли, что битва должна быть в лесном месте, где-нибудь перед городом. Город без защитных стен — открытое место. Которосль для врага — не преграда.
Окоренок поклонился князю, сказал:
— Спасибо за честь, княже. Немедля соберу мужиков, отправимся следом за вами.
— Много не надо, только умельцев. Кому делать, найдутся; показать, как делать, надо. А то ты свою засеку обезлюдишь, кто татар встречать станет.
— Сделаю, княже, как велишь.
Константин тронул поводья, намереваясь ехать. К нему приблизился кузнец Дементий, вполголоса сказал:
— Князь, если ты не отдумал в урочище, то здесь, неподалеку, нам сворачивать.
— Что ж, будем сворачивать. Кого возьмем с собой?
— Сынка Евпраксии Васильковны да другов Лариона, муже ее, — сотника Драгомила и Михея, дружинника.
— Добро. Данила, поведешь отряд в город, там передашь Третьяку Борисовичу, пусть устраивает на кормление. Да, вот что, — внимательно оглядел Белозерца, дружески хлопнул по плечу. — Останемся живы — владей деревенькой Лазуты. Дарю за службу. Заводи семью, хватит боярских девок обхаживать.
— Я, княже, после тебя самого…
— Что, никакой другой дороги больше нету? — спросил князь, с трудом вытаскивая ноги из глубокого мха. Коней вели в поводу.
— Свободна дорога до озера от города, по которой татары наехали. Оттуда в челнах доберешься до урочища. А мы идем с другой стороны.
Дементий шел впереди, нащупывая тропу, по краям расстилалось болото с вонючими газами.
— Давайте отдохнем, — пересиливая гордость, попросил Константин.
— Сейчас повыше выберемся, вон где сосенки сгрудились, там отдохнем.
Под сосенками оказалось сухо — песчаный островок. Константин в изнеможении повалился на спину. Позавидовал. Васильку, тот даже не сел, стоял, всматриваясь куда-то вдаль, свеж, будто и не шел вместе со всеми.
— Как твоя мать живет в этих лешачьих местах?
— У нас, у озера, красиво, — коротко ответил юноша.
Михей, стеснявшийся до этого князя, — впервые был рядом с ним, — сейчас вдруг обратился к нему:
— Я, Константин Всеволодович, слышал про такие места от гусляра. Знатно он. сказывал.
— И что же он сказывал?
— А вот, если не собьюсь, слушай:
Шумели леса непроходные… Посередине озера великого Выступала, стояла великан-гора, А на той горе, на самом верху, Облаками окутанный город был, И жила-была в том городе, В богатых хоромах Рогнеда-вдова. А управляла она своим городом Ровно десять лет…— Вот тут я, Константин Всеволодович, позабыл.
— Ничего, вспоминай еще, что слышал.
— А как есть про Евпраксию Васильковну, — заметил Дементий.
Михей продолжал:
То не ветер завыл поздней осенью, Не волны у скал разгулялися, То сам царь водяной зычным голосом Созывает русалок на сходьбище: — Эй. вы, дети мои, дети озера, Не забудьте, как только луна взойдет, Собирайтесь, расскажите мне: Сколько глупых людей заманили к нам…— На ночь тебя послушать — страхом душа обольется, — сказал Константин. — А у вас на озере есть русалки? — повернулся он к Васильку. Почему-то ему хотелось дразнить этого красивого юношу.
— Жрец Кичи никогда про них не говорил. Я не видел.
— Ваш жрец, видно, занятный человек, все время упоминаешь о нем.
— Жрец Кичи — мудрый человек.
— Доведется — увидишь этого старца, — пряча усмешку, сказал Дементий.
— Сколько еще осталось?
— За один переход одолеем. Надо подниматься, боюсь затемняет, тогда худо станет.
— И верно, пошли, — впервые подал голос Драгомил. Был он широколоб, курчавая с просединами борода красиво обрамляла лицо.
Солнце еще не село, когда вышли к озеру. Озаренный закатом идол сурово смотрел на них пустыми глазницами. Дементий скосился на спутников, угадывая, какое впечатление произвел на них деревянный истукан. Переславцы — Михей и Драгомил — замерли, полуоткрыв рты, разглядывали исполинского идола с удивлением и некоторым испугом. Константин, много наслышанный о «лешаках», внешне ничем не выдал своих чувств, спросил только Василька:
— Он изрыгает дым, и вы узнаете, какая судьба ждет вас?
Василько, беззвучно возносивший хвалу божеству за благополучное возвращение, молча кивнул.
— Дьявольщина какая-то!
Ворота городища были открыты. Караульный Омеля очумело уставился на Василька, потом уже перевел взгляд на остальных и вдруг заплакал. Крупные слезы скатывались по старческим щекам.
— Что с тобой, Омелюшка? — участливо спросил Дементий, пораженный неожиданным поведением старика.
— А! — Караульный махнул рукой, затем напустился на Василька: — Несись, неслух, скорей к матушке. В могилу ее чуть не свел.
И когда тот убежал, поведал:
— Мы его уже похоронили. Все озеро крючьями взбаламутили, искали. А он вон к вам прибился. К вам-то он как попал?
— Татары увели.
— Татары! — изумился старик. — Не пугай меня, Дементьюшка, какие тут татары?
Константин осматривался. Повсюду приземистые, из толстых бревен, с плоскими дерновыми крышами, избы; узкие, как бойницы, окна; каждая изба — крепость. К частоколу, окружавшему городище, была подсыпана земля, и изнутри он казался невысоким, в рост человека. Над частоколом нависал деревянный козырек с дерновым покрытием. Все было сделано для удобства боя. «Лешаки», видать, не только молятся идолу, но и думают о защите от врага.
Жилье Евпраксии Васильковны было таким же приземистым, разделялось на две половины. В первом, большом помещении, с полом из оструганных плах, по стенам располагались лавки, в углах — светильники, — здесь собирались на совет старейшины городища; в чистой горнице — она принимала гостей.
— Думали, утонули они с Росинкой, видела, как садились в лодку, а тут буря налетела, — рассказывала она, не совсем еще успокоившись после встречи с сыном. — Пришли к Савелию, бортнику, — там никого, не знали, на что подумать. Иди к жрецу, — сказала она сыну, — Неможется ему, все тебя в бреду поминает.
У входа в жилище Кичи сидел на бревешке Перей, дремал. Копье было прислонено к стене. Никто не думал угрожать жрецу, просто исполнялся ритуал, заведенный неведомо кем и неведомо когда.
Василько растолкал старца. Слезящимися глазами Перей смотрел на юношу, как на выходца с того света. Потом сообразил, что перед ним не тень — живой человек, мелко закивал, поднялся.
— Зовет, по все дни зовет. — С этими словами он скрылся в жилище.
Кичи лежал на лавке, на мягких овчинах. Глубокие морщины изрезали высохшее лицо старца, безжизненный тусклый взгляд запавших глаз был неподвижен. Но когда Василько встал у изголовья, жрец заметил его, зашевелил бескровными губами. Юноша понял, что старец просит поднять его. Он бережно поднял легкое, сухое тело. Слабым движением Кичи показал на глиняную плошку, стоявшую на лавке рядом с изголовьем. В ней была густая зеленоватая жидкость. Василько поднес плошку ему ко рту. Старец сделал несколько небольших глотков.
Василько с изумлением смотрел, как постепенно наливается румянцем лицо жреца, живым, заинтересованным становится взгляд. Да и голос старца окреп, когда он заговорил:
— Предки настойчиво зовут меня к себе. Час пришел, и я готов. Но они не простят; я оставляю святилище, лишенное высшего духа. Мое несчастье — я долго не посвящал тебя, кому это было предназначено, в великие тайны природы, в тайну нашего божества. Ждал, когда ты войдешь в зрелую силу. Я просчитался. Теперь, вижу, поздно. И все-таки хочу передать хотя бы внешние приметы. Если так будет угодно великому, он доверит тебе и большее. Нагреби горячих углей из очага вон в ту плошку, возьми корзину с травами.
Когда Василько все выполнил, жрец приказал:
— Откинь эту крышку.
Из подземелья пахнуло затхлой сыростью.
— Иди вперед. Раздуй угли. Свети.
Подземным переходом прошли до площадки, поднялись по лесенке внутри выдолбленного ствола. Здесь Кичи велел поставить плошку и бросить в нее смолистой травы. Густой дым повалил из отверстий рта, глаз и носа истукана.
— Здесь я вещаю волю бога, — сказал жрец.
Василько был потрясен. Каким все казалось таинственным и страшным оттуда, с поляны, и как просто все объяснилось.
Уже в жилище Кичи бледный, подавленный Василько глухо сказал;
— Я чту твою мудрость, учитель. Но я не знал за тобой хитрости. Ты обманывал людей.
Жрец нисколько не смутился, тускло сказал:
— Когда-то тут не было никакого городища, кроме убежища волхвов, в котором ты сейчас находишься. Люди округи приходили сюда молиться своим богам, поминали предков. Городище отстроили позднее те, кто бежал в леса от татарского бедствия. С тех пор все перевернулось, вера перемешалась. Но обряды продолжались. Так хотели и пришлые люди. Природа подчас жестока. Люди ищут защиты от бед, обращаются к богам, которых выдумывают.
— Я чту твою мудрость, жрец, — снова повторил Василько.
Мать и гостей он нашел на площадке для воинских потех…
Князь Константин обходил строй воинов лесного урочища, прекрасно вооруженных луками, мечами, копьями, многие были в кольчужных рубахах, стальных шлемах.
Константин слегка ударял кого-нибудь по плечу, говорил:
— Ты!
Воин выступал из строя, вынимал из колчана пять стрел. С молниеносной быстротой стрелы неслись в деревянный щит, укрепленный на частоколе.
Князь не скрывал восхищения — стрелы ложились плотно.
Когда люди увидели дым, внезапно окутавший истукана, это произвело на них ошеломляющее впечатление. Божество заговорило в неурочное время.
— Знамение! — перешептывались они. — Великий бог что-то хочет сказать. Пусть придут старцы — толкователи обрядов.
Давняя привычка требовала, чтобы появились старцы и объяснили поведение их божества.
Евпраксия Васильковна, сама не менее удивленная необычным явлением, нашла в себе силы найти нужные слова:
— Не надо старцев. Все без них ясно. Великий бог благословляет воинов на битву. Он заговорил ко времени.
Князь Константин отупело смотрел на ожившего идола: дьявольщина, о которой он обмолвился подходя к озеру, сбылась. «Удивительные люди, эти лешаки», — только и подумал он.
А Евпраксия Васильковна, увидев подходившего сына, гордо обратилась к Константину.
— Князь, испытай его!
— Не требуется, — улыбнулся Константин Всеволодович. — Он уже показывал свое умение. Справные у тебя воины, княгиня. Ждем вас не мешкая.
Евпраксия Васильковна зарделась, она уже и забыла, когда к ней так обращались.
Глава шестая. Холм под городом
1
И уже неслась молва: в Ярославле дерзнули подняться на смертный бой с татарами. Идут-де на помощь им ратники со всех концов, сила собирается великая, спешите. И шли, шли из селений с низу Волги, с мологских северных земель, сицкие, прозоровские. Не Ярославль защищать шли — не могли терпеть глумления, обид смертных, шли посчитаться с ненавистным врагом.
Белозерцу только успевай принимать воинов. Иной в добротной воинской справе, иной дедовскую веревочную рубаху напялил, меч иззубренный достал, иной и вовсе только с засапожным ножом.
Таких отсылали в кузнечный ряд, где не утихали дымы над кузницами, стоял перезвон молотов по наковальням.
Словно сбросил с себя тяжесть лет Третьяк Борисович, придирчиво оглядывал ратников, обучал и сердился, когда видел в учении неумех, — делал из пахарей воинов.
— Что есть воин? — вопрошал старый боярин. — Он должен уметь все: биться в конном и пешем строю. У него при себе копье, а то и два, да короткое копьешко-суица впридачу, чтобы метнуть при случае; меч, лук со стрелами, боевой топор; одет он в панцирь, шлем с пристегнутой бармицей для защиты шеи и затылка, щит — это все необходимо. А у вас нет ни того, ни другого. Как выстоите?..
— Как ведется бой? — продолжал он поучать ратников. — Сначала лучники осыпают врага тучей стрел, пробуют его стойкость, после, прижав копья к бедру, сольются плотно и сшибаются с противником, хотят опрокинуть рать, смять и довершить битву мечом в рукопашной схватке. Вам в такой схватке не устоять.
— Боярин, ярость наша заменит умение. Наша ярость для татар грознее меча.
— Откуда ты такой?
— Сицкий, с Сити. Семен Квашня. Вот наши мужики.
— Не хочу тебе сраму, сицкий воевода, но в твоих словах мало правды, мало разумения. Была ярость в сицкой битве, а полегло русское воинство. Враг знал, как мы бьемся, и искал, как нас перехитрить. Татарский прием — развернуть конницу, ударить справа и слева, охватить противника со всех сторон. Теперь мы знаем, как они бьются, и тоже хотим их перехитрить. На это уповаю.
Непохожей на обычные дни стала жизнь Константина Всеволодовича. Он отвечал теперь за людей, свято поверивших ему, обязан был вселить в них уверенность в успехе правого дела, в победе, пусть ценой многих жизней, своей собственной. Так требует совесть. Принимал сам каждый прибывший отряд, расспрашивал, велел выдавать из запасов оружие.
Три сотни лучников привела Евпраксия Васильковна из лесного урочища. Охотники, бортники, рудокопы — крепкие, малоохочие на слова люди. И сама Евпраксия Васильковна в одежде воина. Константин не скрывал восхищения, оглядывая отряд.
— Княгиня, воины твои встанут в Спасском монастыре, тебя прошу от имени матушки пожаловать во дворец.
Следом прибыл Окоренок с десятком мужиков, умеющих ставить засеки.
— Ко времени, мужики, — обрадовался их прибытию Константин. — С тобой, Окоренок, к вечеру осмотрим место, где будете строить завалы. Пока подбирай нужных тебе людей.
Низкорослый человек встал на пути князя и повалился в ноги.
— Ты что? — смутился Константин. — О чем просишь?
— Свет ты наш, Константин Всеволодович, челом тебе бью за доброту твою, за то, что не гнушаешься простым людом, — заговорил упавший.
Константин стоял, нахмурясь, ничего не понимал.
— Говори, — приказал он. — Что у тебя ко мне?
— Ты, Константин Всеволодович, был у нас с братом своим князем Васильем. Ты еще махоньким княжичем был, все сокрушался жизнью нашей. Моему Федюньке плащ свой кинул, чтобы не мерз мальчонка.
Невольно напомнил мужик, как с братом Василием ездили по селам. Земля еще не оправилась от Батыева нашествия, видели опухших от голода людей, детишек а раздутыми животами, запавшие глаза женщин. И встретился тогда в разоренной деревне мальчонка; в рваной рубахе, босой, стоял он в осенней холодной грязи, с восхищением смотрел на него, И он в каком-то неосознанном порыве бросил мальчонке свой плащ. Почему поступил так? Жалость пробудилась? Может быть. Восхищение польстило — тоже может быть.
Когда отъехали, брат Василий отчитал его. Василий помогал исподволь, раздавал из скудных запасов зерно, следил, чтобы боярские старосты и княжеские тиуны соблюдали порядок, не прижимали простых людей.
— Жив ли твой Федюнька? — стыдясь того своего поступка и не особо заинтересованно спросил Константин.
— Князь милостивый, он бредит тобой. И привел я его сюда. Будет он тебе хорошим воином. Прикажешь показать его тебе?
— Ну покажи.
— Давай, Федор, покажись князю, — строго приказал мужик.
Из нестройной толпы выдвинулся юноша в свободной домотканой рубахе, в лаптях. Не то остановило внимание Константина, что выпукла была его грудь, широки плечи и мускулиста шея, — взгляд умного человека поразил, внимательный, без обычной мужицкой забитости.
— И что же, носил ты мой плащ? — спросил князь первое попавшееся на ум.
— Где носить! — улыбнулся юноша. — Как уехали вы со старшим братом, тиун отобрал. Сказал: «Пошутил князь, а ты, смерд, поверил».
— И ты поверил, что я пошутил?
— Нет, Константин Всеволодович, я тебе поверил, глазам твоим поверил.
— Спасибо тебе! — Константин на мгновенье смешался, неуверенно спросил: — Хочешь в дружину?
«Некогда воинскому делу учить, а он, наверно, на коня не садился», — подумалось ему.
— Дозволь в битве рядом с тобой быть, — горячо попросил юноша. — Лучшей радости для меня не надо.
— Добро. Спросишь Данилу Белозерца, выдаст воинскую справу.
В келье игумена тишь, с воли не доносится ни звука. И сам Афонасий будто из другого мира.
— О чем скорблю. После того как полонили нас татарове, не попал ты в хронику среди оставшихся в живых князей русских.
Константин фыркнул, так позабавили слова игумена.
— А что же ты, отец Афонасий, не спросил у моей матушки. Сказала бы тебе, что ждет меня, и внес бы в хронику. Я начинаю сомневаться в твоей мудрости, святой отец.
— Ты можешь смеяться над старым. Но ты, князь, — рюрикович, и о тебе должна быть память.
— Какая забота! Я есть, и этим все сказано.
— Хроника нужна не нам, а людям, что будут после нас.
— Ладно, — отмахнулся Константин. — Мне рассуждения твои непонятны. Зная тебя, угадываю, что за ними скрываешь что-то другое, главное.
Игумен согласно кивнул.
— Угадываешь, князь. Кого ты повелел разместить в святом месте? Уж не язычников ли?
— Вон ты о чем! — Лицо Константина запылало гневом. Горящим взглядом ожег Афонасия, проговорил зло, с презрением: — Люди на смерть пришли, как мужики из деревень, что, вон, заполонили город. Перед смертью все равны! А тебе не дают покою лесные отшельники, десятину ты с них не берешь в пользу церкви. Так знай, с них я беру вдвое — за себя и за церковь. И нечего тебе было жалобиться митрополиту Кириллу. Кто тебя толкнул на жалобу?
— Спросил он — ответил. — Робкий, неустойчивый по натуре своей, игумен пытался оправдаться, гнев князя испугал его.
— Повелел я разместить в монастыре три сотни воинов, — жестко продолжал Константин. — Но это еще не все. Буду присылать других.
— Непомерную тяжесть, княже, накладываешь на монастырь.
— Отец Афонасий, люди, может, завтра падут на поле брани, а ты о своих запасах печешься. Не думай, что, если татары войдут в город, оставят тебя в покое. Повеленье Батыя не трогать русских попов — для нынешних ордынцев пустое слово. Камня на камне не оставят, сам не убережешься. А ты о запасах монастырских. И вот что! — Константин опять посуровел. — Смерды из монастырских деревень, кои захотят пойти в битву, — не чини им помех. Проверю!
— Князь, церковь тебе опора, — напомнил игумен.
— Знаю! Но не станет она опорой, если пойдет против воли людской.
2
— Я, внучек, тоже склоняюсь — встретить супостатов на подходе, в лесах. В лесу-то и рать нашу не сочтут, Будь у нас воинов побольше — честь бы и слава выйти в чистое поле.
— Приметил я, батюшка-боярин, место — лучшего не найдешь. Холм под городом на суздальской дороге. Лесом да болотами закрыт этот холм. Там и надо встретить ворогов.
— Надобно посмотреть…
Гудели натруженные за день ноги, тяжесть была во всем теле, но Третьяк Борисович старался выглядеть бодрым. В такое время не должно показывать старческую немощь. Сам-то он ничего уже не ждал от жизни, прожил со достойно — сомневался и беспокоился за судьбу воспитанника. Но когда молодой князь появился с дружинниками Александра Ярославина, когда в городе в великом множестве объявились поселяне с жаждой схватиться с Ордой, вдруг поверил: может, это и есть зачин? А что, если и вправду поднимется на Руси люд, сбросит ненавистное иго? Негоже ему, старому воину, быть в стороне.
— Надобно все посмотреть на месте, — повторил боярин.
Выехали к вечеру. С собой взяли переславского сотника Драгомила, Евпраксию Васильковну и умельца строить лесные завалы Окоренка…
Кони вымахнули на поросший густым лесом холм. Сзади остался город, видимый как на ладони, с каменными постройками Спасского монастыря на берегу Которосли, ремесленными слободами, Рубленым городом с золотившимися в закатном солнце главами Успенского собора; удивляла Волга: в безветрии и при солнце — она была покрыта ребрышками волн. Глядя на нее и чувствуя себя нездоровым, Третьяк Борисович сказал:
— Быть ненастью.
— Вот, батюшка-боярин, — не обратив внимания на замечание старика, стал объяснять Константин, — я тут все осмотрел. Впереди у нас дорога на Суздаль. Левее — овраг. За ним — непролазное болото. Татары тут не пойдут, завязнут. — Князь повернулся к Окоренку. — Ставь невысокую засеку, она нужна только затем, чтобы от стрел хорониться. Сечи тут не может быть.
Старый боярин одобрительно кивнул; разумные сказаны слова.
Поскакали дальше.
— Справа опять болото, — продолжал рассказывать о своем замысле Константин, — но с кустами, с островками. Татарская конница вскачь тут не помчится, но конь пройти может, пусть не скоком, но пройдет. Не дай бог, мы будем отбиваться, а они обойдут нас и ударят сбоку, к городу подойдут. Какая уж там битва, когда услышим плач матерей своих, сестер.
Оглядывая видные с холма дали, каждый невольно подумал, сколько воинов встанет на защиту города и сколько выставят войск татарские военачальники, которые привыкли побеждать многолюдством.
— Я решил… — Константин оглянулся на боярина: тот был безучастен, и это его смущало. — Решил, боярин-батюшка, так: у Евпраксии Васильковны отменные лучники, сам видел. Пусть они укроются по всему болоту в кустах, в закрадках, как охотники на утицу.
— Зрелому уму подсказки не надобны, — обронил Третьяк Борисович.
Это была похвала опытного воеводы, и Константин не скрыл на лице горделивого довольства.
— Вы хотите, — улыбнулась Евпраксия Васильковна, — чтобы и я со своими воинами пряталась в кусте-закрадке? Я подчиняюсь, князь, но для меня надежней меч, чем лук с калеными стрелами.
Ей, в молодости бросавшейся в битву вместе с супругом своим, показалось стыдным сидеть в кусту и ждать, пока на тебя наткнется татарский всадник.
— Прости, княгиня, не в обиду будь сказано. — Константин стеснялся этой необычной женщины. — Твоим лучникам не понадобится воевода, потому как каждый из них станет сам себе воеводой, будет сражаться в одиночку, стрелами встречать врага. Окоренок! — крикнул он. — Здесь, справа холма, поставить плотные засеки. Мало ли что может быть: прорвутся — встретим топорами, рогатинами.
— Твой приказ, князь. — Старик поклонился.
— На засеках поставим через одного лучников, чтобы оберегали мужиков от стрел татарских.
— Разумно, князь, — опять коротко вымолвил Третьяк Борисович.
Вмешался сотник Драгомил, все время до этого молчаливо слушавший:
— Если князь хочет и на дороге сделать засеку, то что останется воинам? Как они померяются силами, покажут удаль? Засеки нужны, чтобы с боков нас не смяли. Дорога для сечи должна быть открытой. В ином случае мы простоим, сдержим татар — они придумают, как обойти нас.
Константин посмотрел на боярина, тот, догадавшись, о чем он подумал, кивнул.
— Дорогу мы оставим открытой. Здесь встанут самые опытные воины.
В тот же вечер…
Незнамо откуда пришли тучи. Загрохотало. Хлынул проливень.
Третьяк Борисович, задыхаясь до этого от какой-то душевной тяжести, вдруг ожил, сказал Константину:
— Внучек! Больше всего хочу, чтобы ты жил. Мало ныне стало настоящих князей.
— Зачем ты меня, боярин-батюшка, ранее времени хоронишь? Видел, сколько людей пришло пострадать за волю? Я среди них.
— Знаю, вижу! Но к тебе не пришел ростовский князь со своей дружиной, не пришли другие. Сомнения меня гложут.
— Пустое! — Константин старался быть веселым. — С тобой мне, боярин, ничего не страшно.
В тот же вечер…
— Князь, ты забыл, кто поднимал княжество из руин, устраивал его. Не брат ли твой, Василий Всеволодович?
— Княгиня Ксения! Я чту своего брата, и я уверен: он поступил бы так же, как я сейчас.
— Не верю этому. Ты готовишь разорение города, устроенного не тобой. Все говорят: ты зарвался, не слушаешь никого.
— Княгиня Ксения, я не живу в верхних женских покоях и не знаю, что говорят там обо мне.
— Значит, все будет нарушено, повержено? Город будет разграблен?
Константин вспылил:
— Что вы все о городе! Да разве за наш город пришли люди биться? Свободы они хотят, понятно ли тебе, княгиня?
— Мне все понятно.
В тот же вечер…
Никого не принимали так искренне, так любовно, как Константина. Он поднял в эти дни руку на ворога, ему верили… Люди гордились им. Но с любовью одних выплескивалась ненависть супротивников.
Хлестал дождь. В кромешной тьме пробирались к боярину Тимофею Андрееву на сход. В гостиной палате было душно и полутемно — свечей много не зажигали. В углу, в одежде черницы, с закутанным по глаза лицом, сидела княгиня Ксения. Бояре сопели в теплых одеждах.
— Безумец! Не понимает, что татарская власть за грехи наши дана нам навечно. Надо уметь с ними жить. Разве не так, бояре?
— Истинно! Сказать прямо: дадим богатые дары, не оскудели еще наши вотчины, найдется, что дать. Пусть поймут: мы супротив князя.
Разъяренные, потные, орали:
— Коли зайдет речь о том: убили, мол, воинов татарских, так кто убивал-то! Та же голь, которая ведет к разграблению нашего добра. Ворвутся злые — никого не пощадят! Голь перекатная убивала, пусть и возьмут взамен за своих хоть в десятеро, хоть в сто больше. Своих холопов прибавим.
— Пошлем им такую грамоту с человеком: он объяснит, скажет, где ударить по взбесившимся. Пусть только город не грабят, а дары дадим великие, не обедняем.
Так говорил Тимофей Андреев и все косился в угол, где сидела княгиня Ксения, безмолвная, тихая.
— Мать-княгиня, одобрения твоего хотим слышать. Молви!
— Говорите, бояре.
— Вот что мы надумали, мать-княгиня. Есть у нас верный человек — Юрок Лазута. Обозлен он и оскорблен князем. Ему пойти с грамотой нашей.
Лазута нервно поежился: «Где опаснее, там я, Юрок. Небось сам, старый боров, не пойдешь, в стороне останешься, если что…»
Расходились поздно. Не у всех было хорошо на душе. Но что скажешь — свое добро берегли, и Ксения тут, наверняка ей быть великой княгиней; со свету сживет— не согласись только.
В тот же вечер…
В раскрытое оконце Константин смотрел на затихающий дождь. Было хорошо, покойно на сердце: он все предусмотрел, обдумал, воинство у него собралось внушительное, только уж разве тьма-тьмущая навалится — тогда не выстоять. Но верил он, что неоткуда им взять большой рати. «Не так-то легко будет справиться с нами».
Шорох легких шагов заставил его обернуться. Увидел девушку. Она с испугом глянула на него, хотела поспешно уйти.
— А, это ты? — заговорил он. — Тебя зовут Росинкой? Красивое имя. Подожди, не убегай. Побудь со мной.
Константин шагнул к ней, робко дотронулся до ее руки и почувствовал, будто ожог прошел по телу. Ему стало неловко за это неосознанное прикосновение к ней, лицо запылало стыдом; переминался и не знал, как дальше быть. Ругнул себя; «Вот дурень, с девушкой даже поговорить не умею». Он, не знавший любви, не подозревал, что зародившееся с первой встречи чувство к ней было заметно по его глазам, по всему его поведению, но она, более чуткая, как каждая женщина, все поняла, ей стало тревожно.
— Князь, умоляю, — со страхом прошептала она. — Пойду я.
— Мой боярин вещает: последняя ночь у меня. Тебе меня не жалко?
— Князь, что ты говоришь! Жить тебе до тех лет, до каких дожил твой боярин.
— Почему ты меня пугаешься? — одним движением он вдруг поднял ее на руки.
— Бог не простит мне. Князь, умоляю…
3
Утром из Владимира прискакал молодой дружинник Топорок. На княжеском дворе соскочил с потного коня, всполошенно гаркнул:
— Идут!
— Где идут? Сколько?
— Сотен шесть-семь, если не поболе. Главный — тот самый мурза. Впереди идет — ну, которого мы из города выгнали, — Бурытай. Китаты, баскака, войска. Еще ждать надо, еще подойдут. Готовьтесь!
— Ты мне бабьи крики не разводи! — Данила Белозерец, только что вернувшийся с холма, где осматривал, как располагаются ратники, строятся засеки, сунул под нос гонца кулак. — Сатана! Опомнись и рассказывай. — Потащил ошалевшего Топорка к князю, приговаривая: — На язык пошлин нет, что хочет, то и лопочет. Накостылять бы тебе при всех. От кого гонцом послан, тому и рассказывать надобно. Учу, учу тебя, олуха, никакой пользы.
— Дык ведь не скрываясь они идут, — шмыгая, оправдывался Топорок. — Деревни, что по дороге попадаются, палят. Дымы кругом.
— Вот прогоним татарву, опять тебя в стадо отправлю коров пасти. Насколько опередил-то их?
— Они особо не торопятся, в деревнях застревают. Может, к вечеру подойдут, может завтрашним утром.
— Ладно, посиди здесь, в сенях. Позову.
У князя Данила застал кузнеца Дементия. Сидел тут и боярин Третьяк Борисович.
Кузнец пришел в княжеские покои с кожаной сумкой, высыпал на лавку странной формы железные шипы.
— Князь, вот подбрось любой из них, один заостренный шип всегда будет сверху.
— Что это? — удивился Константин. — Забав тебе недостает?
Но Третьяк Борисович к изделиям кузнеца отнесся серьезно:
— С давних пор известны такие поделки. Помогают, особенно когда хочешь оторваться от погони. Под копыта лошадей бросают их.
— Лошадей калечат? — неодобрительно заметил князь.
— Себя спасают.
— Нам-то зачем? Куда убегать собрались?
В это время и зашел Данила.
— Ты видел такие штуки? — указал ему князь на шипы.
— Видеть не видел, а слыхал про них. «Чесноком» называются. Разбойнички ими частенько пользуются, когда удирают с добычей. Чтоб не догнали. И для засад подходят. Могут пригодиться, княже.
— Ну, не знаю.
— Константин Всеволодович, гонец из Владимира прибыл. Уже идут. И много. Подробностей еще не спрашивал.
Позвали Топорка.
— Я не мог сосчитать — отрядами они идут. Но прикинул: сотен шесть-семь будет.
— Щедро расстарались. — Князь презрительно усмехнулся. — Надеются, в городе для всех найдется пожива.
— Само собой. Но не только затем идут: строптивых наказать хотят, — спокойно заметил Третьяк Борисович.
— Княже, я еще не все сказал, — продолжал Топорок. — Верные люди, к коим меня послали, велели передать тебе… К владимирскому баскаку прибежали вельможи убитого хана Сартака искать защиты от нового хана Берке. За ними идет войско. Один из вельмож — родич мурзе Бурытаю и обещал ему помощь. Большое ли у них войско — узнать не удалось.
— Это что же, на каждого нашего воина три-четыре ихних? — Князь с сомнением посмотрел на Третьяка Борисовича.
— А что ты, Константин Всеволодович, хотел? Того и надо было ожидать, — ответил боярин. — Потому мы и думаем, как лишить их преимущества в числе, потому и засеки делаем. Не терзайся, князь, даст бог отобьемся, — со слабой улыбкой договорил он. Повернулся к Дементию — Сколько у тебя этих разбойничьих поковок наберется?
— Наберется, боярин, весь кузнечный ряд старался.
— Ну ин ладно, — удовлетворенно кивнул Третьяк Борисович, — собирай со всего ряда, да, не мешкая, несите на холм. Мелькнула тут у меня одна затея… Как там войска встали? — спросил Данилу.
— Всех расставил.
— Собирайся, князь, еще раз посмотрим, уточним кое-что.
Данила пошел распорядиться, чтобы князю и боярину подавали коней. Шедшему рядом Топорку он сказал:
— Отдохнешь с дороги — да тоже не задерживайся.
Увидел, в глазах парня мелькнула безудержная радость, подумал: «Чему-то, дурень, обрадовался».
Невдомек было, что Топорок рвался увидеть свою Настаску.
Окоренковские мужики дело свое знали. Мощный завал из вековых елей и сосен был устроен по обе стороны холма. Да и как уронены деревья: ощетинились толстыми сучьями с той стороны, где врагу быть; с этой — стой в полный рост, сучья подрублены, ничто не мешает пустить прицельно стрелу, ткнуть рогатиной.
Осмотрев засеки, боярин оживился, похвалил мужиков.
На краю холма между засеками было шагов двадцать, дальше дорога полого спускалась в долину, за которой опять начиналась возвышенность. У конца засек и с той и с другой стороны стояли неохватной толщины сосны. Не надо было особо задумываться, чтобы понять — Окоренок их пощадил с какой-то целью.
— Ну, так что же ты удумал? — спросил князь с улыбкой.
— Потерпи, князь, не гоже мне говорить за вашего воеводу.
Третьяк Борисович между тем пристально разглядывал уходящую вдаль дорогу, стиснутую лесом. У него уже созрела мысль, как начать битву, чтобы ошеломить нападающих внезапностью; теперь он терпеливо ждал, что скажет Окоренок: даже случайно оброненное слово может натолкнуть на более удачное решение.
Наконец подскакали Драгомил и Белозерец. Соскочили с коней, Драгомил поклонился, попросил прощения, что заставил ждать.
— Дед все уже, видимо, рассказал вам?
— Да ничего он не рассказывал! — вспылил Константин Всеволодович, уже потерявший терпение.
— Дед предлагает подрубить эти две сосны…
— И загородить ими дорогу, — раздраженно досказал князь. — Не ты ли говорил, что дорога должна быть открытой? Воинам простор нужен?
— Зачем ты так, внучек? — не удержался от упрека Третьяк Борисович. — Ты не дал ему досказать. Говори, сотник. Константин Всеволодович раздражен не в меру, но не из-за тебя.
Константин Всеволодович только покосился на него: сегодня все с ним так разговаривают, будто он уже и не князь.
— Мы выманим на холм врагов ровно столько, сколько у нас хватит сил, чтобы стиснуть их и изрубить. Дед по знаку повалит деревья — закроет путь другим. Татары пойдут валом, дорога за холмом будет забита ими. Двести лучников из-за засек — это сила, они могут заставить ближние ряды повернуть коней, сбить весь их строй, А дальше уж как бог даст.
Третьяк Борисович лукаво взглянул на князя, тот стоял насупившись, но уже оттаивал.
4
Татарские первые сотни появились к вечеру, остановились на возвышенности, более безлесной, чем холм. Вскоре в их лагере загорелись костры. Стало ясно — битва начнется с утра, готовятся насытиться.
Данила выставил дозор, наказав Топорку шагах в пятистах залечь на обочине дороги, — знал о чутком ухе молодого дружинника; у краев засек поставил сторожевых, потом пошел к лучникам, с которыми так и не удалось переговорить за верь день.
Ратники пришли с болота поздно, отогревались у костра.
— Все сделано, как надо, не тревожь себя, боярин. Мы им вешки поставили, указали, где ехать, а то утопнут, сердешные, раньше своей смерти, как те двое у озера нашего.
— Но вдруг обнаружите себя до времени? — высказал он то, что больше всего беспокоило его.
— Не будет этого, укрытья у нас сделаны, а случится — пусть хоть конь по спине пройдет, писка не раздастся.
В лагере было тихо, горело всего несколько костров, и это тоже предусмотрено было: незачем неприятелю знать, сколько здесь защитников.
У костра дружинников Данила задержался, послушал, улыбаясь.
— У деда нашего князя, его тоже звали Константином Всеволодовичем, был воин-богатырь, по прозвищу Александр Попович, и были у него други — Тимоня Золотой Пояс и еще семьдесят три таких же богатыря. — Данила узнал голос: рассказывал переяславец Михей. — Константин-от Всеволодович в семье был старшим сыном, ему бы батюшка и должен великое княжество дать, а он распорядился по-своему, отдал княжение второму, Юрию. Ну, Юрий, тот всех задирал, неспокойный был. Пошел он войной на старшего брата, Константина-то, раза три подходил к Ростову, и всё ему ростовцы нос утирали. Обидно ему, а того не знает, что в Ростове такие богатыри живут, о которых только в сказках рассказывают, Тогда нашел он себе в помощники еще князей и вызвал дедушку-то нашего князя на битву к Липице-реке, это недалеко от Юрьева-на-Полье. Страшная была битва, много народу полегло.
— Как же, помнится. Дюже страшная.
Данила насторожился: что за чушь, битва-то сорок лет назад была.
— А ты был там, дедушка, что ли?
— Был, сынок, пришлось. Верно Михеюшка рассказывает: князю-то Юрью у Ростова нос утирали, а у Юрьева-на-Полье в кровь расквасили.
— А богатырей-то этих видел?
— Не буду врать. Не довелось.
«Да ведь это Окоренок», — только сейчас догадался Данила.
— Что ж, Михей, с богатырями-то дальше сталось?
— А с татарами они ушли биться, там, на реке Калке, и полегли. Князь-то Константин к тому времени скончался, не захотели они Юрию служить и ушли к киевскому князю в дружину. А на Калке так вышло. Вместо того чтобы всем в битву пойти, князья наши переругались. Богатыри-то вышли, бились, да что они могли сделать, вон они, татары-то, каким скопищем наваливаются.
У костра, где сидели ратники из посадских, рассказывали что-то веселое, смех гремел оттуда. Даниле был приятен этот смех: люди не томились ожиданием битвы.
Но, когда он подошел, присел, сразу все смолкло.
— Что ж вы замолчали-то? Иль не ко двору пришелся?
— Зря сердишься, воевода, — сказал кузнец Дементий. — Говорим мы всякое, у кого складнее да умнее, и нам веселее. Вот ждем: кто следующий.
— Говорите, и я послушаю. — Данила вдруг заметил рядом с кузнецом двух отроков, удивился: — А это что за ратоборцы? Откуда они?
— Мой это да соседский, — объяснил Дементий. — Поутру домой отправим.
— Не отправляй, тятька, — захныкал Филька. — Мы с Васькой хоть что-то будем делать. Сам же меч ковал мне.
— Вишь, воевода не дозволяет. Говорит, непорядок это. А какое же войско, ежели в нем непорядок?
— Все равно останусь. Прогонишь, а я останусь.
— Пусть, — смягчился Данила. — Рассветать станет, пошлешь их дозорными. Справа верстах в двух, на холме, сосновый бор. Заберетесь на дерево и затаитесь, если увидите— татары к вам направляются, — мигом сюда. Но чтоб быть незаметными. — Данила втайне надеялся, что татары не рискнут идти в обход холма болотом.
— Спасибочки, дяденька Данила, — обрадовался Филька.
— Вот так воин! — Данила всплеснул руками. — Я его дозорным назначаю, а он — спасибо, дяденька.
Ратники добродушно засмеялись. И Филька понял, что шутит воевода, улыбнулся. Скованность, которая появилась у людей с приходом воеводы, пропала.
Данилу отозвали: в дозоре что-то случилось. У края засеки его ждал дружинник, посланный вместе с Топорком. Они тихо лежали. Услышали, что по дороге от татар едут на конях. Топорок уловил не наш разговор. Он пустил стрелу — кто-то вскрикнул, всадники ускакали. И пока все тихо.
Перед рассветом Данила с сотней воинов вышел за засеку. Тихо, со всеми предосторожностями, рассредоточились в лесу по обе стороны дороги. Так же бесшумно ушли в болото, густо окутанное туманом, лучники лесного урочища.
Татары раскинули юрту на высоком открытом месте, вход в нее был повернут в сторону холма, где засели русские. У Тутара сидели Бурытай и молодой военачальник Тильбуга, когда вернулись воины, посланные в дозор. Старший десятка, согнувшись, вошел в юрту и смиренно припал лбом к ковру, устилавшему пол. В руках он держал стрелу.
— Мы не могли обойти холм. Мы натыкались на болото, кони наши вязли. Но мы слышали звяканье оружия, голоса людей. Тогда мы стали тихо красться по дороге, но неверные были в засаде, и вот эта стрела попала в твоего храброго нукера Тули.
— Тули убит?
— Да, господин. Да проклянет аллах многократно того, кто убил его!
— Иди.
Бурытай сказал:
— В дружине Кости-князя две с половиной — три сотни воинов. Мы возьмем холм одним ударом.
— Но у него есть воины в других городах, — возразил Тутар. — Какие у него города?
— Молог, Рыбна… — Бурытай наморщил лоб, припоминая.
— Не трудись, — насмешливо произнес Тутар. — Княжество Кости-князя многолюдно. Ты забыл это.
— Толпа…
— Эта толпа владеет оружием. Она разметала твою сотню. Ты и это забыл.
— Жажда мщения съедает мою душу! Силою и властью своей прикажи мне быть в голове войска.
— Нет! Злые духи преследуют тебя. Подумай, что происходило с тобой в последнее время. Ты бежал из города, как ягненок, преследуемый волчицей. Не мог разжечь вражду между великим князем Александером и Костей-князем, и теперь князь Александер на пути в ставку хана Берке. Ты шел беспечно, и мужики лесного селения зарезали, как баранов, сорок лучших воинов из сотен, которые доверил тебе царев посол Китата. Передовые сотни поведет багатур Тильбуга.
Едва стало светать, запели трубы. Сотня за сотней потекли в ложбину и стали по дороге подниматься к холму.
Тутар стоял у юрты, все видел. Ага, вот наконец показались и русские, выбираются из леса. О, аллах! Их же горстка против лавины. Вот сшиблись. Ну, конечно, выстоять ли. Пятятся. Повернули, бегут. Так и должно быть. Но что это? Кони передних татарских всадников стали падать. Почему кони? Русским удается оторваться от преследования. Но татарские конники гонятся за ними. Влетели на холм. Текут и текут, не встречая сопротивления. О, аллах милосердный! Что же это? Два громадных дерева валятся наперехлест на дорогу, подминая всадников. Оставшиеся плотной массой на дороге воины заметались, на них давят задние. Русские бьют стрелами. Очень много воинов падает с седел. Все смешалось…
У Тутара похолодели кончики пальцев, он понял: Тильбуга попал в ловушку.
Тильбуга рвался в схватку. Он среди первых столкнулся с русскими. Молодые безусые лица ожесточены. Жаль, негде развернуться, смяли бы их, мигнуть не успели. Что ж, у Кости-князя достойная дружина, доспехи на всех подогнаны, дерутся умело. Особенно заметен вон тот, в блестящем стальном шлеме, щерит белые зубы. Не сам ли Костя-князь? Тильбуга стал пробиваться к нему, а тот, будто заметив это и испугавшись, что-то крикнул. И вдруг все повернули. Не уйдете!
Тильбуга пустил коня. Сейчас его воины настигнут русских, и начнется резня. Заметил мельком — посыпалось что-то с крупов лошадей убегающего противника. Но еще и подумать не успел, что это могло быть, как споткнулся его конь. Тильбуга высвободился из стремян, спрыгнул на землю. Острая боль пронзила ногу. Вытащил — железный предмет с длинными шипами. И сзади и с боков падают кони, воины перелетают через их головы.
— Живьем кожу сдирать буду! Только дорваться.
Нукер подал повод другого коня, Тильбуга вскочил в седло — впереди уже лились в узкий дорожный проход обогнавшие его воины. Когда он тоже влетел на холм, оставив за собой узкий проход, понял неладное: и справа и слева без движения стояли конные русские воины. Трудно было сдержать бег коня: сзади напирали свои.
Никто не слышал его команды повернуть назад. Грохот, визг, стоны заставили обернуться — два громадных дерева рухнули, закрыв выход.
Ряды русских конных дрогнули, рванулись вперед, сталь клинков заблестела над их головами; как муравьи, облепили попавшее в засаду войско пешие ратники с длинными копьями. Тильбуга зажмурился: это конец. Но оцепенение длилось мгновенье. Он приподнялся на стременах, с мужеством отчаяния крикнул:
— Монголы! Во славу аллаха!
5
Когда деревья упали, татары оказались в западне, Третьяк Борисович с облегчением вздохнул, взволнованно сказал князю:
— Начало, внучек, положено. Мы их не звали! С богом!
Константин ринулся в схватку. Оберегая его, с боков придвинулись свирепый с виду рослый усач, переславский дружинник Навля, пеший ратник Федюнька, в кольчужной рубахе, в шлеме, он орудовал длинной рогатиной. Вскоре к ним пробился и Данила.
То, что происходило, нельзя было назвать битвой: сжатые со всех сторон татарские конники в тесноте не могли действовать копьями, рискуя задеть своих, больше того, кто находился в середине, вынужден был дожидаться своей очереди сразиться, ряды их таяли с каждой минутой. Обреченные, с визгом бросались они на русских и падали под ударами мечей, боевых топоров, вылетали из седел, пронзенные рогатинами. Стоны раненых, испуганное ржание лошадей, рвущихся из давки, звон скрещивающихся стальных клинков — все сливалось в единый невероятный гам, которого никогда не испытывал мирный, поросший лесом и цветущими травами холм под городом.
Опускается на головы врагов меч мастера Екима, деловито и спокойно, как в кузне, работает клинком кузнец Дементий. Он на гнедом Верне, подаренном ему князем. Лихо бьется степенная в жизни Евпраксия Васильковна.
Кузнец зорко смотрит, охраняет ее, бросается на подмогу, когда видит, что ей угрожает опасность.
Тяжелый топор Еремейки крушит все, что встречается, что попадает под удар: железо ли, податливое ли человеческое тело. Забыл Еремейка, что ушел от купца, с каждым ударом приговаривает:
— Это тебе за Семена Миколаича! Это тебе за Костьку и Кудряша!
В ужасе закрылся татарин щитом. Где там! Топор пробил и щит и татарина свалил замертво. Застрял щит на топоре, снять некогда. Рядом оскаленное, хохочущее лицо Екима.
— Еремейка, да что у тебя за оружье? Сними шатер с топора-то! Дождя, што ли, он боится? Так нету дождя-то! — Потом орет: — Святое на небе! — и снова бросается в гущу.
Сильный молодой татарин ожесточенно рубится, визжит. Не уберег кузнец Евпраксию Васильковну от кривой сабли, упал с ее головы шлем, развились длинные волосы по плечам, затянутым кольчугой. Понял татарин, что бился с женщиной, в ужасе завопил: «О, шайтан!» — замешкался, и это спасло ее от неминуемого второго удара. Дементий подхватил ослабевшее тело Евпраксии Васильковны, прикрыл щитом ее незащищенную голову. Пришел на помощь вездесущий мастер Еким. Бросился на татарина с ревом:
— Погодь, я с тобой разделаюсь.
То ли тот еще не оправился от потрясения, то ли Еким оказался ловчее — опустился карающий меч на багатура Тильбугу, свалил его с коня. А Дементий положил на траву Евпраксию Васильковну, женщину, которая так и не узнала о его горестной любви к ней, сам омертвел, не слышит ни стонов раненых, ни торжествующих криков победителей.
Фильке и Ваське Звяге с высокой раскидистой сосны далеко все видно. Когда татары длинной колышущейся волной пошли к холму, обледенело от ужаса сердце. Сколько их! Тьма-тьмущая! Идут и идут, и конца-края им нет.
Не слышно им шума боя, но всем своим состоянием чувствуют: бьются наши, истекают кровью. Но вот что-то застопорились татары. Вокруг далекой юрты бегает человек, потрясает руками. Ругается! А отроки от радости чуть не прыгают, и попрыгали бы — будь они на земле, не на сучке неудобном. Не выдержал Филька, незнаком он с воинским порядком; умри, не оставляй поста своего.
— Васьк, ты посиди, а я сбегаю, узнаю, что там.
Ваське и самому знать невтерпеж.
— Иди, только недолго.
— Я мигом.
Филька скатился с сосны, побежал. Васька смотрел ему вслед, завидовал. Эх, помчался бы он сильнее ветра! Но что сделаешь, Филька над ним старший. И кажется ему, что бежит его дружок слишком медленно, тут и совсем остановился. Увидел Васька, как подошел к Фильке человек в богатого покроя кафтане, с белой жидкой бородкой — старик.
А Филька еще издали заметил этого человека, шел тот крадучись, оглядывался, нервничал. С чего бы это? С удивлением признал он в человеке Юрка Лазуту, бывшего боярина.
— Куда это? — с подозрением спросил старика. — Там татары…
— Домой, отрок, пробираюсь, в вотчину свою. Боярин я.
— Врешь ты! Да и не боярин ты вовсе. Князь отписал у тебя вотчину и из бояр выгнал. Сам все слышал. Я тебя и на драной кляче видел.
— Да нешто ты и видел и слышал? — изумился Лазута. — Чей же ты, как к князю во двор попал?
— Мой тятька — кузнец Дементий, — гордо сказал Филька.
— Вот как! Знаю такого, как не знать. — Голос бывшего боярина был сладким до приторности, глаза суетливо ощупывали отрока. Все это было подозрительно. Да и откуда ему знать о кузнеце — тятька дружбу с боярами не водит.
Вдруг боярин охнул, нагнулся, протянул руку к сапогу.
— Чего ты? — удивился Филька.
— А вот чего! — длинный засапожный нож поразил в грудь доверчивого отрока.
Помутилось у Фильки в глазах, оранжевыми кругами завертелись сосны, упал на землю. Васька зажал руками рот, чтобы не взреветь, не выдать себя. А потом, когда старик, убивший его дружка, прошел под деревом и свернул к татарскому стану, соскочил он, помчался к своим. Истошно голосил на бегу:
— Убили!..
Лазута понял, что это последняя застава перед неприятелем, и пошел дальше, уже не таясь. И впрямь вскоре встретил передовой дозор татар.
— Зачем бродишь? — по-русски спросил молодой татарин. Улейбой.
— Голубчик, — обрадовался Лазута, — веди меня к вашему хану. Страху натерпелся, пока добирался до вас. Слава богу, только мальчишку встретил, так прирезал.
— Какого мальчишку?
— Что тебе до него! Ты же наших людишек не знаешь. Назвался сыном кузнеца Дементия. Есть у нас такой, все при князьке нашем, будь они неладны.
Лицо Улейбоя помрачнело. Вспомнилась Ахматова слобода, день, когда стоял часовым, и чернобородый кузней с просьбой вызвать монаха; потом тот кузнец спас его от неминуемой смерти, встречался с ним в Ростове. И мальчишку помнил в загоне…
Коротким взмахом он полоснул саблей Лазуту.
— За что ты его? — спросил подошедший другой дозорный, десятник.
— А-а! — махнул Улейбой. — Лазутчик.
— Почему не вел? Почему сам?
— Противным показался…
Десятник что-то заподозрил, но ничего не сказал. Ему приглянулся кафтан убитого. Нагнулся, оборвал застежки. Из-за пазухи убитого вывалился свернутый трубочкой свиток. Десятник повертел его, велел Улейбою следовать за собой.
Бурытаю передали список. Тот велел привести толмача. Когда переводчик прибежал, сказал ему.
— Читай!
— «Милостивый господин! Боярский совет города всеми силами старался не допустить смуты. Виновен в том наш нынешний князь, коего за князя мы не признаем, у нас есть княгиня, истинная, справедливая. Владычество ваше дано нам за грехи, о том знаем и покоряемся. Нами приготовлены богатые дары, дадим и еще добра и холопей, только пощадите город, дома наши. Проводник выведет к месту, откуда холм не защищен, и вы легко овладеете им».
Бурытай вскипел, накинулся на Улейбоя.
— Кого убил? А? Давно замечаю; ленив, лукав. Хотел отсидеться в Ростове. Неблагодарный раб! Что ждет нерадивого? Смерть ждет. Только так!
Бурытай кивнул десятнику.
Улейбоя поставили на колени, он был спокоен и бледен. Десятник взмахнул саблей…
Бурытай все передал Тутару, сказал, что сам проезжал этим болотом, просто в пылу битвы забыл об этом пути.
Тутар сказал:
— Китатой тебе даны четыре сотни. Скольких воинов ты потерял, сам знаешь. Я не распоряжаюсь этими сотнями. Решай сам. Если пойдешь, я усилю натиск на холм с этой стороны. Молю аллаха, чтобы злые духи отступились от тебя.
И Бурытай решился. Сказать по правде, он не помнил, каким местом проезжал, разве разбирает дорогу загнанный зверь, удирая от собак. Но он и его нукеры проехали болотом, ни с кем ничего не случилось. Он велел кликнуть нукеров, с которыми уходил из города. Но и они не могли упомнить, где именно проходили их кони.
Спускаясь в болото, Бурытай засомневался. Ехавший рядом нукер показал ему на торчащие редкие колышки. Правильными двумя рядами они уходили вдаль. Не было сомнения, что эти колышки воткнуты для обозначения безопасного прохода по болоту. И все-таки для своей безопасности мурза пропустил вперед несколько десятков воинов. Их кони глубоко вязли, но продолжали идти.
Обозначенная дорога позволяла идти в пять-шесть рядов. Медленно, с трудом, но продолжали двигаться без остановки. Уже и замыкающие далеко втянулись в болото.
Стрелы прилетели неожиданно, густо, с разных сторон. Ни одна из них не прошла мимо цели. За первым роем последовал второй, потом они стали сыпаться беспрерывно. Было страшно оттого, что не было видно, кто пускает их, будто из самого болота неведомая сила выталкивает каленую смерть. Стоны, вскрики огласили бесприютную, унылую местность. Пытались прикрываться щитом, стрела попадала с другой стороны.
— Шайтан! Русский лешак-шайтан! О, аллах справедливый!..
Вопреки пожеланию Тутара злые силы не хотели покидать мурзу. Бурытай, прижавшись лицом к гриве, повернул коня. Но ничто не могло спасти его: стрела, пробив шею мурзы, впилась в гриву коня. Раненый конь всхрапнул, рванулся вперед и, завязнув, припал на колени.
Перед Тутаром появился воин с торчащей стрелой в плече. Его сняли с коня, и он упал на колени.
— Спутник черной вести! — зашептались окружившие его войны.
Слепой от ярости Тутар концом рукояти плетки поднял его подбородок. В глазах раненого отражалась мучительная боль.
— Говори!
— Все погибли в болоте. Стрелы летели из земли, из воды. Мы не видели, кто натягивал тетиву. Им помогает их русский шайтан…
— Мурза Бурытай?
Воин опустил голову.
— Не годится тебе оставаться в живых одному, рассказывать о злом русском шайтане. Пусть аллах позаботится о тебе в своих владениях.
Беднягу оттащили, одним ударом меча отсекли голову.
Стоявший рядом с Тутаром сотник сказал:
— Это какие-то безумцы. — Показал в сторону засеки. — Вроде уж там никого не осталось, а они, поверженные, снова встают.
— Это храбрые, умные воины, и воевать с ними нелегко, — глухо ответил Тутар. Он вспомнил, как настойчиво просил Китату дать Бурытаю воинов. Что скажет он теперь? И как отнесется к гибели своих сотен свирепый баскак? Решение пришло внезапное, но оно было как озарение: ему незачем ехать к Китате, надо пробиваться к хану Берке, на коленях вымолить прощение за побег из степи.
То, что Васька увидел, когда прибежал на холм, потрясло его и испугало. Везде валялись убитые, и свои и татары, стонали раненые, которым некому было оказать помощь, повсюду бродили оседланные, никому не нужные кони.
Татары теперь уже не лезли напролом. Спешенные, прячась за деревьями, они подбирались к засеке и стреляли из луков. Все меньше становилось защитников засеки, немногие оставшиеся в живых дружинники с трудом удерживали проход между засеками. Татары, прикрываясь щитами, обрубили сучья у упавших деревьев и напирали яростно, злобно, шли по упавшим трупам, которые выстлали землю толстым покровом.
Васька спрашивал у раненых, не видел ли кто кузнеца Дементия, рассказывал, как был зарезан Филька.
— О, милый! — морщась от боли, заговорил с ним пожилой ратник. — Вон сколько их, перерезанных, не один твой Филька. А кузнеца — где ты его найдешь в такой каше.
На его счастье, попался навстречу мастер Еким, шел он пошатываясь, придерживал окровавленную левую руку.
— Пойдем, покажу тебе, где Дементий.
Сидел он у тела Евпраксии Васильковны, гладил ее волосы, говорил что-то невнятное. Словно не в себе был человек. После торопливого рассказа долго смотрел он на Ваську, не узнавая. Потом тускло переспросил:
— Какой боярин?
Васька все повторил сначала.
Лицо кузнеца вдруг исказилось. Страшен смех человека, смешанный с рыданиями. Васька в ужасе отпрянул.
Дементий вдруг поднялся, вырвал рогатину у ковылявшего мимо ратника и вскочил на гнедого Верна, понуро стоявшего рядом.
— Куда, оглашенный! — заорал Еким.
Но Дементий, выставив рогатину, уже скакал к проходу между засеками. Тогда и мастер вскочил на первого попавшегося коня, выхватил здоровой рукой меч и ринулся за кузнецом. Еще несколько человек присоединилось к ним. Таким яростным был их натиск, что татары кинулись врассыпную. Прорубили они просеку из человеческих тел, а потом сомкнулось татарское войско, и не стало их видно.
— Славно, но глупо погибли. — сожалея, сказал Данила Белозерец.
— С отчаяния. Душа не выдержала, — заметил кто-то.
А татары уже опять кинулись в проход. В это время к Даниле и подбежал запыхавшийся дружинник Кудря. Захлебываясь от восторга, рассказал, как погибло на болоте Бурытаево воинство. Данила хлопнул Кудрю по плечу.
— Беги за этой сотней. Чтоб не мешкая были здесь. Если здесь не сдержим… Князь! — с исказившимся лицом Данила бросился к упавшему Константину и сразу сник: пробила стрела горло молодого князя.
Лесные жители подоспели ко времени. Они пустили такую тучу стрел, что татары сразу отхлынули от засеки. Грязные, мокрые, с всклокоченными волосами, они и в самом деле казались татарам русскими лешаками-шайтанами.
И сразу стало тихо на холме, только стоны раненых раздавались в разных местах.
Татары больше не атаковали. Да и день уже клонился к вечеру. Понурый Данила ходил, считая оставшихся в живых защитников холма. Если завтра с утра отдохнувший неприятель хлынет на холм, некому будет сдержать их натиск. Надежда только на сотню лучников, прибежавших с болота, а что может сделать одна сотня, да и стрелы уже на исходе.
— Данила, посмотри! Что это такое?
Еле державшийся от усталости переяславский дружинник Михей показывал на возвышенность.
Татары уходили! Сотня за сотней двигались они в сторону Суздаля, скрывались в лесных зарослях.
Данила перекрестился, сказал:
— Трудно было, но выстояли!
6
Не слышно звона мечей на холме, скорбный женский плач слышится. Стонет над телом сына княгиня-мать Марина Олеговна. Убивается Настаска, целуя застывшее лицо Топорка. Никому не сказал он, как накануне битвы ласкался к нему верный Разгар, а проходивший пожилой ратник заметил: «Конь воина обнюхивает — убитым быть». Сбылось предсказание. С трудом отыскала изуродованное тело мастера Екима белолицая красавица Надзора. А о тех, у кого нет близких, скорбят появившиеся на холме плакальщицы:
Уж что я за горькая, Уж что я за несчастная! На роду ли мне это написано, В жребью ль мне это горе досталося! Я от горя удалялася, От него я остерегалася. Наперед горе опереживает!Плачьте, тужите, люди! Не от хворей в теплой постели скончалися, отдали жизни за честь русскую.
Роют на холме общую могилу: вместе бились, вместе и лежать им.
Знахарь дед Микита ходит по длинному ряду павших, осматривает, выслушивает. Бывает, что сомлеет человек, а сердце бьется, пробивается слабое дыхание, только с виду он схож с покойником, Такое и случилось с Васильком, сыном Евпраксии Васильковны. Сидела возле него застывшая Россава, онемела, слезы не проронила. Дед Микита приложил старческое ухо к груди юноши, там, где чуть выше сердца наискосок пролегла сабельная рана. С укором взглянул на девушку, велел спять доспех.
— Жить будет твой суженый. Травку приложу к ране, вскоре затянется.
Васька Звяга видел, как погиб отец Фильки. Кто же теперь о Фильке позаботится, как не он? Сходил туда, где пал Филька от руки предателя. Взялся взвалить дружка на плечо и вдруг почувствовал, что еще теплое тело. Выбиваясь из сил, принес на холм, положил Фильку перед дедом Микитой.
— Ох, болезный, и опять с тобой беда приключилась, — узнав отрока, запричитал старик. Васька в глаза ему смотрит, ждет, что скажет.
— Крови много потерял. Да ничего, нагоним кровушку. К себе возьму, у себя в избе лечить буду.
— Нет у нас, княгиня, больше князя, нет дружины.
Данила Белозерец понуро стоял перед Ксенией.
— Каждому свое. Есть у нас теперь княжна Мария. Будет и дружина, да не тебе ею ведать.
Во дворце — ближний боярин Тимофей Андреев. Вернувшегося с холма Третьяка Борисовича княгиня Ксения встретила неласково:
— Что, старый ворон, потатчик, доволен собой?
У старика слезы непроизвольно текут по щекам.
— Дозволь, княгиня, остаться в городе, пока не предадим земле тело Константина Всеволодовича?
— Мне не печаль, оставайся. Только на глазах не вертись.
Афонасий усердно трудился, скупые слезы падали на пергамент.
«В лето 6765 июля 3 на холме под городом за рекой Которослью бысть битва с татарове…»
Игумен все время помнил, что князь Василий Всеволодович упомянут в хрониках, он хотел, чтобы и о Константине осталась добрая память.
«Пошел князь Константин с воями своими и градчанами на супостаты…»
Он описывал, как тяжела была битва и как татары отступили и не вошли в город.
«Побита их многое множество, остатки же нечестивых исчезоша…»
Далее Афонасий писал, что холм покрылся трупами, пал и князь Константин.
«Была туга велика и плач велик…»
С того времени, описывал он, стали называть холм Туговой горой.
Его работе помешал приход княгини Ксении.
— Обезлюдело ярославское княжество, — начала она.
— То правда, мать княгиня, обезлюдело.
— Монастырь, чаю, не пострадал?
— Какое! — воскликнул Афонасий. Когда речь заходила о монастырской казне, он становился другим человеком, неуступчивым и прижимистым.
— Часовню на горе следовало поставить память об убиенных. Распорядится обо всем боярин Тимофей Андреев. Монастырская казна, чаю, не оскудеет.
— Но, княгиня матушка…
— Я сказала, — жестко оборвала Ксения. Заглянула через плечо, о чем пишет.
— Своим скудным умом хочу поведать о битве, — поспешно сказал Афонасий, стараясь прикрыть рукой написанное.
— Битва! Много таких битв. Вон холопи дубьем бились, глотки давили. У них и деревня-то — Душилово. И эти битвы станешь описывать? Дай мне — на досуге прочту.
Не хотелось давать Ксении из сердца вырванное, знал ее неприязнь к Константину Всеволодовичу, но как ослушаешься?
Спустя немного времени встретил ее, долго с мольбой смотрел, ловил ее взгляд — отворачивалась, о свитках словно забыла. Догадался: не вернет.
Был он робок, боязлив и не решался восстановить написанное.
Но молва народная шла, ширилась. Воспевали воинов, простой люд, вышедших на битву против всесильных татар и не пустивших их в город.
1981–1982 гг.
О повести В. Ф. Московкина «Тугова гора»
Повесть ярославского писателя В. Ф. Московкина. «Тугова гора» посвящена одному из героических и в то же время трагических эпизодов борьбы русского народа против кровавого монголо-татарского ига. В XIII веке на Русь, которая вследствие феодальной раздробленности и междоусобных княжеских войн была ослаблена в военном отношении и оказалась беззащитной перед внешней опасностью, обрушилось страшное бедствие — нашествие монголо-татар. Особенно сильному погрому подверглась Северо-Восточная Русь. Урон, причиненный завоевателями русским землям, особенно наглядно виден на примере Рязанского княжества, которое первым приняло на себя удар татаро-монгольской армии. Рязанский летописец нарисовал страшную картину погрома своей земли: «Погибе град и земля Рязанская… и не бе что в ней видети, токмо дым, и земля, и пепел». Столица княжества— Рязань была разрушена и сожжена, население перебито, ценности разграблены. Были разрушены дотла и другие рязанские города. Огромный, трудно восполнимый урон был нанесен и Владимирскому княжеству: была сожжена Москва, ее жители и жители окрестных сел истреблены, разграблена Коломна, разграблен и сожжен Суздаль. Столица Северо-Восточной Руси — Владимир подвергся зверскому разрушению, его население было частью перебито, частью угнано в плен. В результате февральских походов 1238 года монголо-татарами были разрушены русские города на огромной территории — от средней Волги до Твери. Ростов, взятый без боя, пострадал меньше других городов, не пострадал, по-видимому, и Углич. Летопись ничего не сообщает о разгроме Ярославля, но из археологических раскопок видно, что он был сильно разрушен и в течение долгого времени не мог оправиться.
В результате монголо-татарского погрома запустели целые области, масса населения была перебита, много людей угнано в плен, бежало в леса. Разрушенные и обескровленные города с большим трудом возрождались из руин и пепла. В них не стало прежних искусных мастеров, упало ремесло, многие ремесленные отрасли были полностью уничтожены. Беднее стал и сам облик русских городов. В них меньше стали строить каменных домов, к тому же строить стали хуже, чем раньше. Были разорваны торговые связи Руси с соседними странами. Но монголо-татарские завоеватели не ограничились нашествием и погромом. И после этого они продолжали свои нападения на Русь. Лишь в последней четверти XIII века ими было совершено 15 походов, которые истощали и заливали кровью русские земли.
Описанные в повести события происходят спустя два десятка лет после монголо-татарского нашествия. К этому времени начали восстанавливаться разрушенные и сожженные города. Начинает мало-помалу налаживаться жизнь и в Ярославле. Но в нем видны еще следы погрома. Именно таким он и нарисован на первых страницах повести. Как раз в это время монгольские правители, чтобы упрочить свое владычество на Руси, решили ввести баскаческую военно-политическую систему в русских землях, которая уже была введена ими в других покоренных землях. С этой целью в 1257 году великий монгольский хан направил на Русь своего родственника Китату для переписи и обложения данью населения. Но проведение переписи татарскими чиновниками вызвало ожесточенное сопротивление русского народа. Начались выступления горожан против татарских переписчиков. Одними из первых поднялись жители Ярославля. Именно эти события легли в основу повести «Тугова гора».
Повесть начинается с описания прибытия в Ярославль в 1257 году татарского баскака с отрядом для переписи жителей города и обложения их данью. Перепись сопровождалась насилием и грабежом населения татарами. Возмущенные ярославцы изгнали из города ханского переписчика — «численника». Против них был послан татарский карательный отряд, чтобы жестоко наказать непокорных. Но горожане и княжеская дружина во главе с молодым ярославским князем Константином, сыном погибшего в битве на реке Сити князя Всеволода Константиновича, вышли навстречу татарам и мужественно сразились с ними за рекой Которослью на горе, которая впоследствии получила в народе название Туговой. Много ярославцев пало в этом бою.
В основу повести положены подлинные исторические события: изгнание ярославцами из города баскака, битва на Туговой горе и восстание в Ярославле в 1262 году, когда горожане созвали вече и убили татарского пособника — принявшего магометанство монаха Зосиму, который, как говорится в летописи, «творил великую досаду населению». Чтобы наиболее полно воплотить свой художественный замысел, автор повести соединил события этих восстаний в одно целое и приурочил их к 1257 году. В связи с этим, не желая вступать в явное противоречие с историческими фактами, он описал Зосиму под именем монаха Мины.
В повести действуют реальные исторические лица: молодой ярославский князь Константин, великий владимирский князь Александр Невский, ростовский князь Борис Василькович и его младший брат Глеб, глава русской церкви митрополит Кирилл. Прототипом монаха Мины, как уже говорилось, является также реальное историческое лицо — монах-отступиик Зосима. Писатель создал исторически верный образ Александра Невского — дальновидного, тонкого и трезвого политика, много сделавшего для укрепления великокняжеской власти и решения проблемы междукняжеских отношений.
Наряду с историческими лицами, в повести, естественно, выведено немало вымышленных лиц, без чего невозможно художественное произведение на историческую тему.
Описываемые в повести события поданы на широком историческом фоне, вплоть до столицы Монгольской империи Каракорума. Убедительно и исторически верно показана политика великого монгольского, и золотоордынского ханов на Руси, направленная на ослабление русских княжеств и на утверждение монголо-татарского владычества; военно-баскаческая организация, состоящая из десятников, сотников, тысяцких и темников, расположенных по княжествам. Опираясь на эти отряды, баскаки стремились держать в повиновении русское население, контролировали выполнение даней, повинностей и всей жизни русских земель. Из повести хорошо видно, что все русские князья — и великий владимирский, и удельные — находились под неусыпным контролем баскаков.
Не все поступки выведенных в повести исторических лиц основаны на исторических документах, но они исторически верны, ибо соответствуют духу эпохи. Исторически оправдана изображенная в повести неудачная попытка ярославского князя Константина создать союз князей для совместного выступления против татар и вынужденного действовать в одиночку. Достоверно звучит отказ Александра Невского поддержать князя Константина в его выступлении против татар. Александр Невский, стремившийся к миру с Золотой Ордой и понимавший, что Русь не имеет сил для свержения монголо-татарского ига, не мог в данном случае поступить иначе.
Исторически реальны в повести и язычники, изображенные под названием «лесных людей». Хотя в 988 году на Руси в качестве государственной религии было введено христианство и Русь стала формально христианской страной, но народ долго еще насыпал языческие курганы и тайно молился языческим богам.
Читатель с интересом прочтет повесть В. Ф. Московкина «Тугова гора», из которой узнает о том, как в тяжелое время монголо-татарского ига русский народ героически боролся за свою свободу, отстаивал право на свое национальное существование.
Доктор исторических наук,
профессор А. М. Пономарев

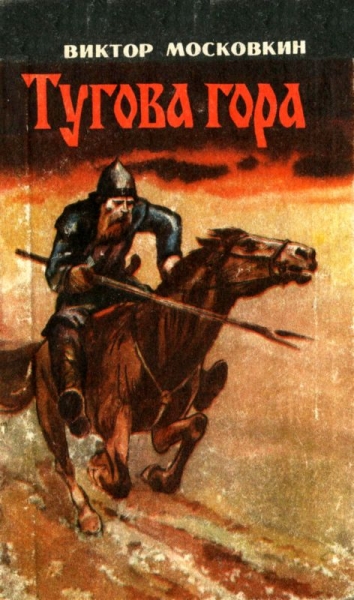





Комментарии к книге «Тугова гора», Виктор Флегонтович Московкин
Всего 0 комментариев