Елизавета Дворецкая Ольга, лесная княгиня
© Дворецкая Е., 2015
© Оформление. ООО «Издательство «Э», 2015
* * *
Предисловие
«Счастье наше, дружок, как вода в бредне: тянешь – надулось, а вытянешь – ничего нету». Эта толстовская пословица хорошо подходит для жизнеописания княгини Ольги. Казалось бы, знаменитейший персонаж русской истории – не только ранней, но и в целом, – а станешь искать, что же о ней достоверно известно, обретешь лишь пару сухих формальных указаний: анкета, и то далеко не полная. Была женой Игоря, матерью Святослава, бабкой Ярополка, Олега и Владимира. Правила в Киеве. Ездила в Константинополь. Приняла святое крещение. Умерла.
Наиболее раннее, ближайшее ко времени ее жизни изображение – фреска Софийского собора в Киеве, написанная в 1040–1050-х годах, то есть лет через восемьдесят после смерти княгини. Фреска настолько плохой сохранности, что разглядеть на ней ничего нельзя. Смутное пятно вместо лица. Но даже если бы мы могли увидеть эту фреску в первозданной ясности, на портретное сходство рассчитывать не стоило бы: предположения, иногда выдвигаемые любителями истории, что во время создания фрески якобы «в Киеве еще могли быть старики, помнившие Ольгу», надо признать фантастическими. Через восемьдесят лет после смерти княгини «помнившим ее старикам» должно было быть хорошо за девяносто, а искать таких в эпоху, когда средняя продолжительность жизни составляла 35–40 лет, – занятие малоперспективное.
И это очень символично: образ в истории и культуре есть, а человека как будто и нет. Самые ранние варианты жития Ольги относятся к XIII–XIV векам. Романтические подробности ее судьбы всплывают еще пару веков спустя. Летописные легенды имеют явные корни в фольклоре и бродячих сюжетах, то есть вероятность их достоверности для конкретной личности стремится к нулю. К тому же летопись и житие сильно противоречат друг другу. Житие уверяет, что с самого начала своей жизни «бяше же блаженная княгиня руская Олга образом тиха, и кротка, и любима ко всем…» И это о женщине, которой летопись приписывает жесточайшие злодеяния нашей ранней истории? О женщине, которая сжигала целые города, приказывала убивать спящих тысячами, десятками закапывала живых людей в землю и сжигала? «Тиха и кротка»? Очевидно, что какие-то из этих сообщений, мягко говоря, недостоверны.
«Повесть временных лет», наш основной источник, указывает, что «приведоша ему (Игорю. – Е. Д.) жену от Пльскова, именем Олгу». Обычно считается, что это Псков (от древнего, балтского по происхождению названия реки Псковы – Плескава). Есть версии, что это – болгарская Плиска, то есть Ольга – болгарка родом. Также давно высказано мнение, что тогдашний Псков-де был слишком мал, чтобы дать жизнь такой личности, поэтому имелся в виду соседствующий с ним древний Изборск. Ну вот: один, казалось бы, факт – и целых три версии истолкования. «О имени же отца и матере писание нигде же изъяви» (из жития). Все остальные факты, предлагаемые разными источниками, противоречивы и часто недостоверны. Ничто не выдерживает проверок: дата рождения, возраст замужества, причины брака с Игорем, дата рождения сына (или нескольких детей). В каком году Ольга овдовела? Сколько раз ездила в Константинополь и когда именно? Император Константин Багрянородный, включивший описание этого события в свои литературные труды, указал день недели и число, а также сумму денег в подарок, но не поставил год. Указанные им данные подходят к 946 и 957 годам. И кто там к кому присватывался: император к Ольге или Святослав – к дочери императора? Где и когда Ольга крестилась? Что ее подтолкнуло к этому шагу? Куда она ездила устанавливать «уставы и уроки»: в Новгородскую область, в земли древлян и дреговичей, в Крым? Одни версии и сомнения. И так – до самой ее смерти 11 июля 969 года. Эта дата является, пожалуй, единственным фактом ее биографии, который не оспаривается историками. Как и крестильное имя – Елена.
Почему так сложилось? Да потому что великой, добропобедной, всехвальной и легендарной Ольга стала не сразу. И даже не при жизни. А только два-три поколения спустя, когда при внуке ее и правнуке стала ясна перспективность пути, который она предложила Руси. А людям, которые опережают свое время, оно, оскорбленное, утонченно мстит: засыпает тоннами песка правду о них, пока никто еще и не догадывается, что эта правда очень важна. А когда потомки спохватываются – уже поздно: «нигде же изъяви».
Не у кого уже спросить, в какой семье она родилась, как выглядела, была ли, скажем, грамотна? И даже как при жизни звучало ее имя, ведь имеется не менее четырех вариантов! А «многие неложные свидетели», указующие на «весь, зовомую Выбуто» как на место ее рождения, могут лишь повторять распространенную в XVI столетии версию событий, происходивших шесть веков назад…
Глава 1
Плесковская земля, близ Люботиной веси,
9-й год после Чудской войны
Когда умер дядя Одд, нам с Эльгой было по семь лет. Мы его совсем не знали, да и наши отцы, его младшие братья, не виделись с ним уже лет десять. Он жил очень далеко на юге, в Киеве, и весть о его смерти до нас дошла только через полгода, когда установился санный путь – торговые гости тронулись в обратную дорогу, и вуй Гремята кое-кого из них повстречал в Усвяте. Ближе к верховьям Днепра уже было известно, что в этом году полюдья нет.
Наши матери оделись в «печаль», и княжий двор тоже, хотя не в такую глубокую: плесковскому князю Судогостю далекий Одд Стрела, которого здесь называли Хельгом Киевским, приходился всего лишь сватом – деверем дочери. Сама Домолюба Судогостевна, Эльгина мать, своего старшего деверя никогда не встречала, поэтому причитала умело и красноречиво, как ей и подобало, но не слишком душераздирающе:
– Уж мы ждали-то, победные головушки, Тебя в гости, да по-старому, по-прежнему, –выводила она, рассадив нас, девочек, перед собой на длинной лавке, и приостанавливалась, давая нам возможность повторить.
– Тебя в гости, да по-старому… – старательно выводили мы на пять голосов.
В нашей семье я была единственной дочерью, поэтому, сколько себя помню, постоянно бегала к сестрам. Сперва одна, а с недавних пор – таская с собой брата Кетьку, которого осенью отняли от груди и вручили моему попечению. Эльга, с которой мы были ровесницы, помогала мне, а Вояна, старшая дочь Домаши от ее первого покойного мужа, присматривала за двумя младшими сестрами, Володеей и Беряшей – им тогда было пять и шесть лет. Братья их были совсем маленькими, зато моему родному брату Аське исполнилось уже девять – он еще иногда играл с нами, но чаще поглядывал в сторону хирдманов. Нас, детей, в семье росло только трое: Асмунд, Кетиль и я. Наша мать была еще молода, но Кетьку она рожала так тяжело, что все думали, она умрет. Старая княгиня, мать Домаши, принесла жертвы Суденицам – все же мы ей сватья. Благодаря этому мать выжила и совсем оправилась, но Кетька так и остался ее последним ребенком.
Тут приехали к нам добрые людушки, Привезли-то к нам весточку нерадостну: Нет во живности родимого свет-брателка! –повторяли мы за стрыиней Домашей слова причитания.
Даже Кетька, зажатый на скамье между мной и Эльгой, чтобы не свалился, хныкал, будто тоже понимал: род лишился самого прославленного своего представителя.
Эльга получила имя в честь знаменитого родича, точнее, по второму прозвищу Одда Стрелы – Хельги. Словене называли его князь Хельг – или Олег – и считали ясновидящим. К тому времени как она родилась, Одд уже давно правил землей полян, поэтому даже старые князь и княгиня не возражали, чтобы их внучка получила варяжское имя. Наши с Володеей настоящие имена – Ауд и Вальдис – они так до конца и не признали, звали нас по-своему. Но мы привыкли: мы с детства говорили одинаково свободно и на словенском, и на северном языке.
Наши отцы устроили в честь брата Одда поминальный пир. Из Люботиной веси, что лежала через реку, прибыли родичи моей матери, из Плескова – Эльгиной: князь Судога с сыновьями, а еще тамошний воевода Сигбьерн ярл с женой и тоже с сыновьями. Его жена, фру Борглинд (старая княгиня звала ее Бурливой), в нарядном синем платье, сияла позолоченными наплечными застежками с тремя рядами цветных бус между ними, булавками и браслетами с узором из хитро переплетенных зверей.
На пиру отец и стрый Вальгард много рассказывали о юности своего родича, о его и своих предках, о походах и подвигах. Что и говорить: никто из нашего рода не достиг столь многого: стать конунгом в стране, где о нем до того и не слышали! По обычаю кривичей, на стол поставили миску и ложку для покойного, и жены братьев, как ближайшие родственницы, пригласили умершего к столу, поклонившись в закатную сторону:
Приходи, да родный брателко, Приходи да меды пити, Меду пити да поести. Да пойдешь ты не дороженькой – Темным лесом да болотом…– И кто же теперь будет в Киеве князем? – спрашивали старейшины. – У него же вроде сыновей никого не осталось?
Все посмотрели на наших отцов, и те покачали головами.
В одном мудрому Одду не повезло: ему пришлось пережить своих сыновей, и многие считали, что именно такова была цена за его слишком выдающиеся успехи. Судьба ведь ничего не дает даром, и если она позволила человеку возвыситься больше, чем он мог ожидать, расплачиваться за это придется его потомству.
– В Усвяте слышал, что новым князем признали его внука, – сказал вуй Гремята. – Его тоже зовут Олег, что, конечно, делу помогло[1]. А к тому же он по отцу княжьего рода – так кому же, как не ему? Киевские бояре за ним проехали через Усвят еще раньше нас.
– Но он же вроде малец еще? – Князь Судогость посмотрел на нас: мы рядком лежали на полатях, свесив головы.
– Вовсе нет, – возразил стрый Вальгард. – Его дочь вышла замуж за Предслава Моровлянина лет двадцать назад, так что его внук давно взрослый. Мы не слышали, чтобы он женился, но я бы не удивился, если бы оказалось, что мой брат Одд успел дождаться и правнуков.
– Да уж наверняка его в Волховце женили, – заметил старейшина Доброзор, наш с Аськой и Кетькой дед по матери. – Коли на возрасте, то без жены они его в Киев не отпустят.
Глядя с полатей на родичей и гостей, на блюда, чаши и рога, слушая разговоры, мы еще мало что понимали. Наш двоюродный племянник, который был уже взрослым мужчиной, недавно провозглашенным киевским князем, рисовался нам весьма смутно. В наши головы тогда не приходило даже мысли, что мы сможем когда-нибудь его увидеть.
В конце пира стрыиня Домаша отошла к двери и ответила за покойного, кланяясь из тени:
– Я с вами да насиделся, Да на вас да нагляделся, Я всего да накушался, Да спасибо вам за все, Да живите да не ссорьтесь. А мне пора да восвояси, Восвояси, да в темну могилку. Далека да моя дороженька – По темному лесу, по болоту…Нам было страшновато: Эльгина мать будто и правда ненадолго превратилась в покойника. Но уже на другой день мы обо всем этом забыли. Казалось, далекий и неведомый Одд Хельги на миг бросил на нас пристальный взгляд из Закрадья и снова скрылся навсегда.
До Олега Моровлянина – того человека, которого смерть Олега Вещего затрагивала сильнее всех, – весть дошла еще позже.
Миновало немало дней, прежде чем обоз от Усвята, пробираясь через метели и заносы, на которые щедра оказалась нынешняя зима, дополз до берегов Ильменя. Обогнув замерзшее озеро, минуя гнезда, веси и городцы, он наконец притащился к истоку Волхова, где стоял городок под названием Волховец. К этому времени уже все жители Поозерья знали о важном событии, поэтому обоз сопровождали незваные гости из Будгоща, Ярилина и Варяжска, лежащего на реке Варяже. Все хотели знать, что будет дальше.
Городок Волховец был не так стар, как соседний Словенск. Когда-то это место на Восточном пути называлось просто Скипстад – Корабельная Стоянка. Уже века полтора назад, а то и больше здесь приставали на отдых варяги, искавшие путь сперва на Волгу, а потом и на Днепр – к богатым восточным рынкам.
Всякое лето здесь дымили костры, возле них сидели кучками понурые пленники; местные жители, завидев эти дымы, съезжались предложить свой товар в обмен на привезенный. И далеко не всякий раз торг обходился мирно. Порой после отплытия варягов берег бывал усеян отрубленными головами коров и лошадей, захваченных в селениях по пути и забитых на мясо перед дорогой.
Укрепления возвел более полувека назад Тородд конунг, перебравшийся сюда из Ладоги. Он первым оценил преимущества пригорка над Волховом, ближайшего со стороны устья: заняв его, можно было держать в руках путь с Волхова в озеро и обратно. И сейчас еще Волховец заметно отличался от других городцов Поозерья и Приильменья, где сидели старинные словенские роды, пришедшие сюда века четыре назад. Его стены, выстроенные из засыпанных землей срубов, не опоясывали вершину холма или мыса – как у тех городцов, что выросли из старинных родовых укреплений, – а полумесяцем огибали часть берега, где когда-то лежали вытащенные на сушу корабли и стояли шатры первых варягов на волховском пути.
С появлением здесь Тородда наконец прекратились набеги на Приильменье с моря: его дружина, пребывавшая в постоянной готовности, защищала окрестные поселения гораздо успешнее, чем худо вооруженные родовые ополчения, которые еще нужно было долго собирать. Закончились и разнобразные столкновения между проезжающими и местными: Тородд обеспечивал на месте торга мир и соблюдение обычаев, по которым живут все подобные места по берегам Варяжского моря. В обмен на это Тородд стал брать со словен дань в основном съестными припасами, тканями и мехами, необходимыми для содержания его дома и дружины. Обеспечивая безопасность торгового пути, он взимал плату с проезжающих за постой, за право прохода и за охрану на пути через Ильмень.
Подчинив себе многие области, населенные чудью, за три поколения волховские конунги накопили немалые богатства и обзавелись таким влиянием, что чувствовали себя сильнее не только родовых старейшин, но и словенских князей. Те, огорчаясь усилению чужаков, уже не раз пытались избавиться от них: сын Тородда, Хакон, воевал с восточными поозерами, захватил их городец Белогорье на реке Маяте и уничтожил укрепления, чтобы больше никто не смел ему противиться. После этого еще несколько десятилетий отношения между ильменскими варягами и западными поозерами оставались враждебными, и только при Ульве, внуке Тородда, снова был заключен мир.
Когда на другом конце пути, по которому приходят серебро и паволоки, сидят другие варяги, союзники здешних, приходится как-то с ними мириться.
Выгод от торговли с греками лишиться не хотела и старая знать. Иные порой держали речи: «Деды наши жили без паволок, и мы проживем!», но не встречали понимания даже у собственных жен.
Ныне Волховец был самым сильным и влиятельным из трех варяжских городцов в Поозерье.
Ульв конунг возводил свой род к Ингвару конунгу, который поселился в Ладоге еще со времен битвы при Бровеллире. Ингвара считали сыном самого Харальда Боезуба, пережившим то легендарное сражение. Неизвестно, правдой ли было это, но родовые саги обеспечивали Ульву почет, которого заслуживал человек подобного положения. По соглашению с его отцом, Хаконом конунгом, Одд Стрела с дружиной когда-то проследовал на юг, чтобы найти себе державу на среднем Днепре, откуда лежал путь в Миклагард. Оба конца этого пути, верхний и нижний, равно желали, чтобы товары не встречали никаких препятствий, но обеспечить полную безопасность торгового потока было не в их власти. Влияние Ульва кончалось на южном берегу Ильменя. Дальше путь пролегал через множество племенных и родовых владений, хозяева которых нередко предпочитали просто грабить обозы, довольствуясь хорошей добычей сегодня и не думая, что будет завтра.
По существовавшему договору, каждый властитель Пути Серебра, южный и северный, отдавал своего наследника в дом другого: молодые люди служили заложниками мира, а заодно привыкали видеть в соперниках своих друзей. И родичей, поскольку жену им по обычаю подбирали здесь же.
Уже шесть лет в Волховце жил Олег Моровлянин, внук Олега Киевского, прозванного Вещим. До него здесь довольно долго пребывал сын Олега Рагнар, но он погиб на охоте.
У Ульва и его жены Сванхейд было одиннадцать детей, однако выжили не все. Приняв в доме четырнадцатилетнего Олега, Ульв предназначил ему свою дочь Асхильд, на год старше его. Замысел не удался: Асхильд умерла в ту же зиму. Следующей дочери, Мальфрид, тогда было всего одиннадцать, а отдавать дочерей замуж, пока не минует хотя бы пара лет после их телесного созревания, фру Сванхейд отказывалась наотрез, какие бы выгоды это ни сулило. Так что свадьбу сыграли всего неполных два года назад.
Следующий за Мальфрид по возрасту Ингвар еще ребенком отправился в Киев, в обмен на Олега.
Дома сейчас жили еще трое младших: Тородд, Хакон и сестра Альдис.
Жена и принесла Олегу первую весть о перемене в их общей судьбе.
Было очень раннее зимнее утро, глухая тьма, Олег даже еще не проснулся, но Мальфрид уже ушла в коровник присмотреть за служанками. Но почти сразу вернулась и положила холодную ладонь на голову мужа:
– Хельги! Проснись! Это важно!
Она говорила на северном языке, как было принято в Волховце, хотя знала и словенский. Олег же поначалу говорил только по-словенски. В Киеве, где он родился и рос, северный язык не был в ходу, и даже от деда он никогда его не слышал. Но за шесть лет он выучился языку своих далеких северных предков, который постоянно звучал вокруг.
Мальфрид принесла с собой горящую лучинку и зажгла масляный светильник. По избе разлился тусклый желтый свет.
Молодая женщина поставила светильник на ларь у лежанки: стала видна медведина, прикрывшая бревенчатую стену, резные по северному обычаю столбы кровати, подушки, для которых она сама собирала минувшей осенью коричневые початки рогоза, наволочки и настилальники – лен для них она спряла и соткала еще до замужества. Ее мать, Сванхейд, не уставала радоваться, как легко и дешево в Гардах можно достать лен: в одежде из него ходят все подряд селяне, в то время как в Северных странах это могут себе позволить только состоятельные люди, а остальные вынуждены довольствоваться кусачей шерстью.
– Что там такое? – Олег повернулся и заморгал, щурясь на свет и прикрывая глаза рукой. – Корова заболела?
– Нет.
Мальфрид села рядом с ним на лежанку. От ее овчинного кожуха пахло зимним холодом и хлевом, румяное от стужи лицо было непривычно серьезно.
– Это намного важнее. Там пришел один человек, рыбак… Он сказал: вчера к нему пришел его зять и рассказал… с юга идет обоз из Кенугарда, и там люди, которые едут к тебе. Они говорили… Это сказал тот рыбак, а ему – его зять… Якобы на том берегу уже все знают…
– Ну, так в чем дело? – Олег сел, удивленный таким длинным запевом.
– Они говорят, что умер твой дед, Одд Хельги! – решилась наконец Мальфрид и замолчала, давая ему время осмыслить новость.
Теперь он понял, почему она зашла так издалека.
Весть была слишком важна, чтобы вот так сразу ее принять. То, о чем болтают рыбаки и жители прибрежных весей, еще не обязательно правда, это может быть досужий слух, пущенный болтливыми торговцами, но все же…
Олег потер лицо ладонями, провел по коротким темно-русым волосам. В общем, ничего удивительного: дед был очень стар, мало кто живет так долго. С каждым новым годом вероятность его скорой смерти повышалась, хотя, как ни странно, если кто живет слишком долго, все привыкают к мысли, что он так и будет существовать бессрочно, словно время о нем позабыло. А когда Марена вдруг приходит за таким вот зажившимся стариком, это поначалу удивляет больше, чем смерть молодого.
Он не видел деда очень давно: шесть лет, почти треть всей своей жизни. Олег Киевский не качал внучка на коленях: у него были другие заботы. Поэтому сильнее скорби было смятение; взвился целый вихрь мыслей о переменах, которые эта смерть принесет ему, Олегу-младшему.
Он поднял глаза и взглянул на Мальфрид. Она смотрела на него внимательно и выжидающе, готовая отнестись к случившемуся так, как он скажет.
Мальфрид выросла у него на глазах, он с отрочества привык к мысли о браке с нею и не имел причин жаловаться. Высокая, крепкая, ему под стать, дочь Ульва обладала округлым скуластым лицом и настолько светлыми бровями и ресницами, что их почти не было видно на белой коже. Только весной, как выглянет солнышко, лицо ее принимало ярко-розовый оттенок спеющей брусники, и тогда беловато-золотистые брови и тонкая полоска таких же волос, видная из-под покрывала надо лбом, сияли солнечными лучиками. А глаза, обычно серо-голубые, становились ярко-синими, как цветущий лен.
Про нее не скажешь, что красавица, но Олег был не из тех, кто льстится на красоту. Почти с детства, едва узнав, что этот рослый неразговорчивый подросток – ее будущий муж, Мальфрид твердо решила, что у них общая судьба, и намеревалась остаться верной ей до конца. Они мало общались, хоть и виделись каждый день, но Олег всегда чувствовал ее молчаливую поддержку и был за нее благодарен. В свою очередь, он готов был во всем поддержать ее и ни словом не попрекнул молодую жену за то, что вот уже почти два года после свадьбы она все еще ходит «пустая». Мать ее отличалась плодовитостью, супруги были еще молоды, и Олег верил, что многочисленное потомство у них впереди.
– Если едут люди… – начал Олег. – Что за люди, тот рыбак не сказал?
– Он же их не знает. Но он сделал такое лицо… – Мальфрид попыталась изобразить некую важность на собственном личике: выпучила глаза и подняла брови. – Надо думать, это знатные люди. Хёвдинги.
– Это у них называется бояре, – отрешенно поправил Олег, будто пытался вернуться мысленным взором на свою далекую теплую родину. – А еще – нарочитые мужи.
– Я знаю, – по-словенски ответила Мальфрид, словно хотела дать ему понять, что готова жить среди людей, говорящих только на словенском языке.
– Если это бояре, то, наверное, их послало вече. Я надеюсь, что так. Но если нет… если вече хотело кого-то другого, но не сошлось во мнениях… если окажется, что мне нужно отстаивать свои права…
Олег обдумывал все возможности, не зная, к какому решению придет.
– Но ты же будешь их отстаивать?
– Разумеется! – Олег словно спохватился, вспомнив, что сомнение ему не подобает. – У деда не было мужчин-наследников, кроме меня, а если он и успел обзавестись еще ребенком, то это может быть совсем родишка…
– Мой отец тебе поможет! – уверенно сказала Мальфрид.
– Само собой! – Олег усмехнулся, видно было, что он мысленно готовится к предстоящим трудностям. – Не зря же он меня кормил шесть лет – не чтобы в овраг метнуть! Вели подать умыться.
Он откинул одеяло на куньем меху и взял с приступки вязаные чулки.
– Я выну тебе одежду получше! – Мальфрид метнулась к ларю. – Вдруг они уже сегодня будут здесь!
Большой обоз, пришедший с юга, на Ильмене разделился: разошлись по своим местам люди из Будгоща, обоих варяжских городцов, из Словенска на речке Прости. Поэтому новость о том, что с обозом едут нарочитые мужи из Киева, имеющие дело до Олега, Предславова сына, Олегова внука, разлетелась по берегам Ильмень-озера быстрее птицы. Старая чадь городцов и селений взволновалась: гордость мешала им явиться к Ульву без приглашения, но сильнее было желание узнать, с чем приехали киевляне и что будет дальше.
Зато без раздумий явился хозяин городца Варяжска – Ветурлиди ярл. Он был младшим братом Ульва конунга, и Варяжск перешел в их владение не так давно, лет десять назад. До этого там сидел Сигфус конунг, которого в словенской округе звали Синеусом. Сигфус был из людей Одда, который оставил его здесь, отправляясь на юг, и потому пользовался большим влиянием. Таким, что однажды попытался занять более выгодное место – Волховец. Но боги были не на его стороне, и старый Сигфус сложил голову вместе с дружиной, а в Варяжске водворился Ветурлиди сын Хакона. Одду в Киеве тогда было не до этой свары – других забот хвататло, – и он подтвердил мирный договор с Тороддовыми наследниками, оставив за ними главенство в Приильменье.
Признавал его и Гуннар ярл, сидевший в третьем варяжском городце – Ярилине.
Когда обоз – в него входили и ладожские купцы, которым предстояло ехать дальше вниз по Волхову, – дополз до Волховца, здесь все было готово к приему. Даже баню затопили, едва заметив вереницу саней на льду вдалеке.
Никто не набрасывается на гостей с расспросами на пороге, поэтому Ульв и его жена лишь приветствовали приехавших, и сразу челядь отвела коней в конюшни, людей – в баню и гостевые избы, а товары перенесли в клети.
Явились гости и в избу Олега.
Выйдя к воротам посмотреть на приезжих, он сразу увидел несколько хорошо знакомых лиц: кто-то помахал ему с лошади, еще кто-то – от саней.
– Яримка! – Олег устремился к всаднику. – И ты здесь! Остряга! Ох, Длуга, да неужто ты?
У него сильно забилось сердце: появление этих людей никак не могло быть случайным и подтверждало дошедшие слухи.
– Идем все ко мне! – позвал он. – Много ваших здесь? Мала! Малоня! – Он огляделся, выискивая жену. – Смотри, кто здесь! Это родня моя киевская! Мы их к себе возьмем!
– Ну ты и здоровый вырос… – невольно охнул Ярим, щуплый молодец с хрящеватым носом, от изумления забыв даже поздороваться.
Он запомнил Олега обычным подростком, лишь чуть выше него, а теперь перед ним стоял великан с широкими плечами и темной бородкой, обрамлявшей подбородок, но оставлявшей пустое место под нижней губой – точно как у его отца, Предслава Святополковича. Разумеется, за шесть лет бывший отрок должен был сильно измениться, но такого волота киевляне увидеть не ожидали. Ярим, старше Олега на год, рядом с ним казался мальчишкой.
Вскоре гости уже топали на рогоже перед дверью, а челядь обметала веничками снег с их одежды и обуви.
Мальфрида ждала в избе, прижав руки к груди.
Впервые ей предстояло увидеть кого-то из родичей мужа – людей, с которыми ей суждено прожить всю дальнейшую жизнь.
Она едва сообразила послать слуг топить собственную баню и собирать на стол. Хорошо, что она приготовилась к прибытию гостей заранее!
И вскоре Олег, довольный, оживленный и улыбающийся, уже знакомил ее с прибывшими, которым она, как хозяйка, по очереди подавала приветственный рог.
– Здравствуй, князюшка! – наперебой приветствовали Олега сводные братья, подмигивая: они не стали говорить о главном с порога, но и не пытались сохранить тайну, которая тайной уже не была.
– А ты молодец – княгиней обзавелся, да какой красавицей! – одобрил Честонег, глядя на разрумянившуюся Мальфрид.
К приезду гостей она оделась в светло-зеленое верхнее платье и зеленый шерстяной хенгерок, отделанный сверху и снизу полосами огненного шелка. Между позолоченными застежками из серебра висели два ряда бус – стеклянных, тоже зеленых, и серебряных, тонкой работы златокузнецов. На голове ее красовалось белое шелковое покрывало, вышитое золотом.
Молодая хозяйка едва находила слова для гостей – помогала только выучка. А сердце билось, едва не выскакивая от волнения. Ей были приятны и похвалы незнакомой родни мужа, и то, что ее уже называли княгиней. Пусть всего лишь дома, почти в шутку, но эта шутка означала, что впереди именно то будущее, которое предвидел ее отец, отдавая дочь за Олега Моровлянина.
Для всех новость была объявлена вечером, на пиру.
Городец и посад перед ним были застроены обычными для словенских земель избами, но для дружины и приема гостей еще Тородд конунг выстроил грид: помещение длиной в полсотни шагов, с тремя очагами посередине и помостами вдоль стен, к которым приставлялись столы на козлах. Точно такие же воинские палаты, рассчитанные человек на сорок – пятьдесят, стояли по всем викам Варяжского моря: в Бьёрко, в ютландской Хейтабе и даже в Кенугарде у Одда Хельги. На широких помостах хирдманы днем сидели, а ночью спали, в ларях под ними хранили свои пожитки. Оружие каждый вешал над своим личным местом – сообразно положению в дружине. На стенах висели звериные шкуры, знаменуя успехи хозяев на охоте и заодно уберегая сидевших от сквозняков. Между ними красовались старые изрубленные щиты с помятыми умбонами, оставленные на память о победоносных битвах. Длинные копья скрещивались над головой хозяина, придавая ему сходство с самим Одином, которое довершали две большие собаки, лежащие у ног.
Ульв конунг занимал почетное сиденье у длинной стены, вокруг него расположился его брат Ветурлиди с сыновьями. Напротив, на втором почетном месте, сидел Олег в окружении киевской родни.
В один день все изменилось: из заложника он превратился в ровню хозяина-конунга, столь же полноправного правителя державы. К тому же куда более пространной и могущественной.
Любому гостю этого дома сразу стало бы ясно, что хозяин является владыкой торгового пути, соединяющего весьма отдаленные земли. Тех, кто всю жизнь носил только полотно, сотканное руками своих женщин, и ел из глиняной посуды, вылепленной их же руками, убранство грида поражало и казалось принадлежностью скорее того света, чем этого. По здешней посуде так сразу и не скажешь, что она из глины: большие и малые блюда, кувшины и чаши были покрыты разноцветной глазурью и пестрели ярче цветов на лугу – сине-зеленой, желтой, белой красками. Многие были расписаны цветными птицами, быками, рыбами, чудными крылатыми чудовищами, растениями и узорами. На столах перед хозяином, его родичами и почетными гостями сверкали кубки из серебра – узорные, с драгоценными камнями. Да и сами хозяева и гости в нарядных одеждах напоминали ярких птиц: едва ли не на каждом был кафтан из шерсти, крашенной в яркие цвета, с отделкой из греческого или хвалынского самита: с узорами в виде кругов, крестов, парных птиц или зверей, смотрящих друг на друга. В этом доме будто бы жил целый мир, полный чудес и сокровищ далеких стран, о каких жители обычных весей даже не подозревали.
В просторном помещении, отапливаемом открытыми очагами, было прохладно, пока не надышали, и гости сидели в шубах и кафтанах на меху: куньем, лисьем, а сам Ульв – собольем, привезенном по Волжскому пути.
Киевляне, конечно, такую роскошь видели у себя дома, однако богатство хозяина и на них произвело впечатление.
Сам Ульв конунг выглядел не слишком внушительно: невысокий ростом, хотя жилистый и сильный, с рыжеватыми волосами и почти рыжей бородой, он бы потерялся рядом с младшим братом Ветурлиди – крупным, полным, с буйными темно-русыми волосами и длинной бородой, – если бы не сидел выше всех. Его неприметная внешность была обманчива: это был человек умный, предусмотрительный, упорный, умеющий во всех случаях защитить свою выгоду. Иной на этом бойком, прибыльном, но и опасном месте и не усидел бы, не сумел бы удержать в руках нити, что опутывали десятки словенских и чудских поселений до самого Белоозера.
– Послали нас люди киевские, – начал Честонег, после того как хозяин поднял кубок за богов и за здоровье прибывших, – объявить тебе, князь Ульв, что умер князь наш – Олег Вещий.
– Весьма печальная новость. – Ульв, уже знавший о важном событии, почтительно наклонил голову. – Это был достойный человек, мудрый и могучий правитель, прославленный воин. А главное, велика была его удача! Мы выпьем сейчас за то, чтобы в палатах Одина он получил достойное место, а еще за то, чтобы потомки унаследовали удачу этого человека!
Рабы, в основном чудины, побежали вдоль столов, чтобы вновь наполнить кубки гостей. К самым почетным подошли с кувшинами сама фру Сванхейд, ее дочь и племянницы.
Все посмотрели на Олега-младшего – единственного наследника Одда Хельги.
Судя по его виду, он не должен был обмануть ожиданий и посрамить деда. Благодаря высокому росту и могучему сложению, тяжеловатым, хотя и вполне правильным чертам продолговатого лица с высоким прямоугольным лбом, говорившим об уме и твердом нраве, он казался старше своих двадцати лет. Внутренняя тревога придавала ему мрачноватый вид.
Глядя на этого человека, никто не посчитал бы его слишком молодым для княжьей шапки.
Для пира Мальфрид выдала ему совсем новый кафтан на меху, который шила еще с лета: зеленой фризской шерсти, отделанный на плечах, груди и подоле широкими, в две ладони, полосами светло-зеленого шелка с коричневым узором, а поверх него на груди были нашиты узкие поперечные полоски ярко-красной шелковой тесьмы с тонким тканым узором. Это был хазарский обычай, как и сами кафтаны, однако в последнее время такие носили многие из числа руси и в Гардах, и в Северных странах. Подпоясан Олег был узким кожаным ремнем с позолоченными хазарскими бляшками, которым его перед отъездом из Киева в присутствии всех нарочитых мужей наградил дед – тем самым объявляя внука своим прямым и первым наследником. Благодаря этому поясу киевские бояре – полянин Честонег, варяг Стемир и полухазарин Себенег – приехали к Олегу через половину земель, обитаемых людьми славянских языков.
Мальфрид с большим посеребренным рогом в руках подошла и встала возле мужа: то ли готовая услужить ему, то ли показывая, что у него есть все права взрослого женатого мужчины.
– И порешили нарочитые мужи киевские и вся лучшая чадь назвать новым князем нашим Олега, Олегова внука, Предславова сына, – продолжал Честонег. – Такова была воля покойного князя нашего.
– Рад это слышать! – вслед за всеми Ульв конунг устремил взгляд на зятя. – Не сомневаюсь, Полянская земля не пожалеет об этом. Но чтобы все было по закону, мы должны услышать от тебя, Хельги, рассказ о твоем роде и предках.
Олег поднялся, держа в руках рог.
Мальфрид торопливо пододвинулась и долила ему пива, которое предстояло выпить за предков.
– Род моего отца идет из Великой Моравии, – начал Олег. – Пять поколений назад первым ее князем стал Моймир, повелитель моравов, чехов, лужичан, нитран, вислян и иных племен. После него правил племянник его Ростислав, а тот передал власть своему племяннику – Святоплуку. У Святоплука, моего деда по отцу, было трое сыновей, между которыми разделил он свою землю. Мой отец, князь Предслав, был из троих младшим, он построил город во имя свое – Преслав. Когда же пришли на землю ту бесчисленные орды угров, в битвах с ними пали двое братьев моего отца, а сам он, еще отрок, с матерью своей княгиней Святожизной бежал в Русскую землю, в Киев, и принят был дедом моим, Олегом Вещим, с любовью. Там отдал князь Олег ему в жены дочь свою, от супружества сего я и родился. Сыновья деда ушли к богам раньше него самого, и другого мужского потомства у него не осталось.
– Хотя ты происходишь от князя Олега по женской ветви, однако род твоего отца – королевский, поэтому, я думаю, никто не станет оспаривать твои права, – учтиво кивнув, будто узнал все это впервые, произнес Ульв конунг.
Киевляне тоже закивали.
Долгие войны с хазарами, деревлянами, а также владычество находников Аскольда и Дира уничтожили род потомков Кия. В отличие от иных племен, в которых князь являлся прямым потомком пращура-основателя по старшей ветви рода, поляне за многие годы привыкли, что ими правит пришлый князь-воевода. От него не требовалось кровной связи с первопредком, а через него – с богами. Достаточно, если он положенным порядком приносит жертвы и обладает достаточной силой и удачей, чтобы защитить свои земли от посягательств соседей.
В этот вечер еще говорили о многих важных вещах.
Привезенный киевлянами гусляр пел дружинные сказания о походах и победах князя Олега, бояре вспоминали, как ходили на Царьград и что оттуда привезли, похлопывая для наглядности по шелку своих кафтанов. Люди Ульва, связанные с торговыми делами, горячо обсуждали, что теперь будет с договором, который Олег Вещий шестнадцать лет назад заключил с греками. Можно ли надеяться, что условия для нового князя будут не хуже, не придется ли собирать войско для нового похода? Не посчитают ли в Царьграде, что со смертью одного из участников действие договора прекращается?
Назавтра, дабы оповестить Приильменье о важной новости, Ульв разослал гонцов по городцам и большим прибрежным селениям. Всем было ясно, что новому князю следует ехать в Киев как можно скорее, дабы тот не оставался без власти, вводя в соблазн воинственных соседей и всегда чем-либо недовольных старейшин.
Пока за делами присматривал князь Предслав, отец Олега, но поскольку он сам правами на киевский стол не обладал, имелись опасения, что те или иные недруги попытаются вмешаться.
Поэтому Честонег и другие просили Олега собраться поскорее, чтобы захватить санный путь и не застрять посреди дороги, дожидаясь, пока на Днепре пройдет ледоход.
Еще горячей замысел скорого отъезда поддерживала Мальфрид. Ничего пока не было решено, а она уже спешно заказала кузнецам десяток новых больших ларей, пересмотрела со служанками все запасы полотна, белья, одежды, меха и посуды, хранившиеся в холодной клети.
Над ней подшучивали – дескать, как нашей Мальфрид не терпится стать королевой в Киеве!
Она натянуто улыбалась и отводила глаза.
Олег и сам стремился скорее на родину, но обнаружилась одна сложность.
– Я весьма рад, что муж моей дочери займет достойное его положение, – в один из следующих дней заметил как-то Ульв конунг. – Но, поскольку он покидает мой дом, я хотел бы знать, кто здесь займет его место. Ты – наследник своего деда, а кто будет твоим наследником, князь Олег?
Тот приподнял брови: у него не было ответа на этот вопрос.
– По справедливости я должен был бы попросить у тебя даже двоих, – продолжал Ульв, – ведь кроме моего сына Ингвара, который и так уже в Киеве, с тобой уедет теперь туда и моя дочь. Я надеюсь, что наши дружеские отношения и родственная любовь продолжатся и после твоего возвращения в Киев, но уговор надо соблюдать.
– Я и не думал отказываться от уговора или оспаривать его правильность, – заговорил Олег. – Просто я не знаю, как быть: тебе ведь известно, что у меня пока нет сыновей. И братьев нет, есть только сестра, но она уже замужем. Вот ее муж: Острогляд, Боживеков сын!
И он указал на одного из киевлян.
Острогляд, еще молодой, но зрелый муж, был весьма красив – с русой бородкой и задорными кудрями. Он неизменно улыбался, был щеголеват и речист: говорил протяжно, будто пел. Ради пира он нарядился в кафтан желтой шерсти, отделанный зеленым шелком с золотыми узорными кругами и полосами желтой тканой тесьмы на груди. Увидев, что взоры всех присутствующих устремлены на него, он приосанился.
– Но теперь моя сестра принадлежит к его роду, и едва ли муж позволит…
Острогляд ухмыльнулся и замотал головой:
– Так у нас, князюшка, не водится. Я Ростиславу свет Предславну не силой брал, не неволею, не уводом увел, не угоном угнал, не украдом украл! Бил челом – кланялся батюшке, бил челом – кланялся матушке, шапку сняв соболиную, износил кафтан шелку греческого, истаскал кушак шелку хвалынского, все до Ростиславы свет Предславны доступаючи!
Спорить никто не стал: выкупленная по обычаю жена прежнему роду больше не принадлежала.
– Но возможно, твое место здесь займет кто-то из твоих собственных родичей? – Ветурлиди вопросительно посмотрел на киевлян.
Те озадаченно переглянулись.
– Каково родство между вами? – продолжал владыка Варяжска. – Кого из них ты назвал бы своим наследником на то время, пока боги не пошлют тебе сыновей?
Теперь Олег озадаченно воззрился на приезжих. Честонега с потомками и Острогляда связывало с ним всего лишь свойство различных степеней.
– Боярин Честонег – пасынок моей бабки, княгини Святожизны, – пояснил Олег. – Когда она бежала в Киев от угров, ее сын был еще совсем юн, а она сама – не так уж стара. К ней посватался боярин Избыгнев, вдовец. У него уже было четверо сыновей, старший из которых – Честонег, а эти молодцы – его братаничи.
– Выходит, они не в родстве ни с Оддом Хельги, ни с твоим отцом? – уточнил Ульв.
– Ты прав – не в кровном родстве. Кроме сестры и ее детей, из родни моей крови есть еще мой отец, князь Предслав. Я рад был услышать, что он здоров и крепок, но он тоже не имеет кровного родства с Олегом Вещим и потому не может быть моим наследником.
Ульв конунг нахмурился.
Договор должен соблюдаться, с этим никто не спорил – кроме судьбы, не дающей возможности его исполнить.
– Постойте! – поднял руку Ветурлиди. – Я слышал, что у Одда Хельги были младшие братья. Где они сейчас?
– Они живут в Плескове, – ответил Олег. – Там двое его младших братьев, Вальгард и Торлейв. Они – воеводы плесковского князя. Вальгард даже женат на дочери самого Судогостя.
– Ну, это же меняет дело! – оживился Ульв. – Ты уверен, что они живы?
– Они были намного моложе Одда. Думаю, что живы. Ведь вестей об их смерти дед не получал?
Олег вопросительно посмотрел на Честонега, и тот покачал головой.
– Надеюсь, что тебе братья твоего деда достаточно дороги, чтобы кто-то из них послужил заменой твоим сыновьям, пока те не родятся?
– Разумеется, они мне дороги. Никто не посмеет заподозрить, будто я способен предать кровную родню. Но я не имею власти приказывать братьям моего деда, живущим в Плескове. Там свой князь, и едва ли он захочет ради моего удобства лишиться своих воевод. Да и сами они едва ли пожелают сменить собственные дома на чужие, а почетное положение вождя дружины – на скамью для гостей-заложников.
– Это я понимаю! – усмехнулся Ветурлиди. – Я очень ценю и почитаю моего брата Ульва, но не хотел бы ради него ехать заложником в Плесков!
– Однако послать туда ради такого дела кого-то из сыновей я мог бы тебя уговорить! – Ульв с усмешкой окинул взглядом поросль племянников: шестерых парней в возрасте от двадцати до тринадцати лет. – Надеюсь, у братьев Одда найдется сын, который приедет сюда, к нам, раз уж наш Ингвар живет в Киеве.
– А если бы у них еще нашлась дочь, подходящая в жены, скажем, моим Фасти или Сиграду, – оживленно подхватил Ветурлиди, глянув на двоих старших сыновей, – это было бы хорошо и справедливо: ведь ты, Ульв, отсылаешь туда же, в Киев, и свою дочь Мальфрид!
– Это было бы наилучшим выходом, – заключил Ульв. – Думаю, нам стоит как можно скорее послать в Плесков – пригласить твоих родичей. Как ты думаешь, Хельги?
– Конечно, послать к ним необходимо… – начал было Олег, но, бросив взгляд на Мальфрид, заметил, как она переменилась в лице. – Однако… не слишком ли много времени мы потеряем? Если мне придется ждать до лета, чтобы попасть в Киев…
– Не стоит откладывать, – поддержал его киевлянин Стемир. – Лучше сделать вот как: послать в Плесков – да и пускаться в дорогу! На пути встретимся: пусть Олеговы родичи приедут… да хоть в Будгощ, там мы с ними и потолкуем. Поезжай, князь, с нами или брата пошли. Там и решим, кому у тебя жить.
– Мы еще поговорим об этом на днях, – помолчав, сказал Ульв.
Мысль о том, чтобы выпустить из рук зятя и дочь, не слишком нравилась ему, но он не видел, как этого избежать, не проявляя неразумного и бесцельного упрямства. Не может ведь Олег наскоро слепить пару сыновей из глины, чтобы оказать уважение тестю!
Первыми уехали гонцы.
После этого прошло немало тягостных дней в бездействии.
Но вот Ветурлиди прислал долгожданную весть: плесковские родичи Олега прибыли в Будгощ, что близ устья Шелони, на юго-западном берегу Ильмень-озера.
Теперь и сам будущий киевский князь мог пускаться в дорогу, для чего уже все было давно готово.
Ульв конунг принес жертвы ради благополучного путешествия дочери и зятя, а также их успешного вокняжения. На прощальный пир съехались старейшины со всех окрестных городцов. Олегу и Мальфрид это напомнило их свадьбу, которая была два года назад: они сидели на почетных местах, одетые в лучшее цветное платье, оба бледные и напряженные, явно с нетерпением ждущие, когда же это все закончится. И оба ничего не ели и не пили – тоже как на свадьбе. Затянувшееся прощание и неопределенность будущего вымотали их, не оставив сил на радость.
В рассветных сумерках холодного зимнего дня будущие князь и княгиня сели в сани. Они были в простых овчинных кожухах, как и их дружина и челядь; от прочих мужчин Олега отличала лишь кунья шапка, покрытая красным шелком. Мальфрид закуталась поверх кожуха и головного платка в другой большой платок из толстой шерсти: он укрывал ее до колен, точно плащ.
Этим утром она поднялась раньше всех в городце, сама разбудила служанок, сама распоряжалась приготовлениями утренней каши, которой до отвала накормили возчиков, челядь, дружину и киевлян. Правда, Олег в лихорадочном предвкушении начала новой жизни съел через силу лишь пару ложек, да и сама Мальфрид поковырялась для вида в овсянке с просяным маслом, а потом украдкой переложила ее из своей миски в чужую: в темноте при лучинах, в суете сборов никто этого не заметил.
С матерью и прочими женщинами Мальфрид простилась еще накануне вечером, попросив их утром не выходить к отъезду. Фру Сванхейд согласилась: она понимала, что дочери трудно будет сохранить приличную королеве невозмутимость. Ведь она окончательно отрывалась от родной семьи, навсегда отбывала в чужие края, где еще неизвестно, что ждет – почет или гибель.
Хозяин Волховца тоже произнес последние напутствия еще вчера, поэтому остался в спальном чулане.
Отъезд прошел так же буднично, как отправление в дорогу торгового обоза. И теперь Олег мог наконец вздохнуть с облегчением, устремив взор вперед.
Правда, при первых проблесках зимнего рассвета увидеть можно было немногое: лишь укатанные колеи на льду Волхова в бурых пятнах навоза, заснеженные берега, охраняемые, будто стражами, старыми развесистыми ивами по колено в сугробах.
А большую часть зримого мира занимало огромное темное небо. При взгляде на него Олегу вспомнился череп древнего великана Имира, из которого сотворен небесный свод. Таким он и был: темным, плотным, исполинским и непробиваемым.
Как его будущее…
Но если бы дед лишь пялился на небо, высматривая там благоприятные знамения, он так и окончил бы жизнь на отцовском хуторе среди овец.
Олег молча махнул рукой – и обоз тронулся.
Скрипел снег под полозьями, бодро шагали возчики в набитых чистой соломой черевьях. Мальфрид, по самые глаза укутанная в платок, сидела, привалившись к новому сундуку: от него даже еще чуть-чуть пахло сосновым деревом и каленым железом. В полутьме, если не приглядываться, ее саму можно было принять за большой тюк. Опустив веки, она переводила дух. Первый шаг сделан: она выскользнула из родительского дома, не дав никому ничего заподозрить. Удачно получилось: в эти дни все смотрели больше на Олега, чем на нее, а он тоже был бледен, беспокоен и мало ел, так что никому не пришло в голову удивляться, отчего она, его жена, сама не своя.
Пока обошлось.
Правда, дело не кончено. Им еще придется надолго задержаться в Будгоще, а там с ними будет дядя Ветурлиди, отряженный Ульвом для переговоров с плесковской родней. Но Ветурлиди – это не мать, по части женских дел ему далеко до наблюдательной фру Сванхейд. Там он будет занят совсем другими заботами, а она, Мальфрид, сможет засесть в женских покоях и притвориться, будто простыла в дороге. С кем не бывает?
Закружилась голова, и Мальфрид стиснула зубы, стараясь дышать глубоко и ровно. Это просто от волнения, сейчас пройдет.
Тяжело ей придется зимой в долгой дороге, но главное – чтобы никто не заподозрил, какую огромную ценность она увозит с собой.
Ехали вдоль западного берега, в полдень остановились на отдых в Варяжске, потом тронулись дальше, прихватив Ветурлиди с двумя сыновьями.
Уже к вечеру обоз вступил во владения рода Будогостичей, которые правили в низовьях Шелони как здешний старший род. Они платили дань Варяжску, а сами собирали подать «на богов», как это называлось, то есть на содержание родового святилища. Будогостичам были подчинены все окрестные гнезда поселений, числом с три десятка. Земли в устье Шелони, удобные для пахарей, считались наилучшими во всем южном Приильменье, а потому были густо заселены. Над белой равниной, пока еще не стемнело, тут и там можно было видеть дымки.
Будгощ был укреплен еще прадедами нынешних хозяев. Когда-то давно словене, пришедшие на Ильмень с юга, жили поодаль от речных путей, постепенно вытягивая цепи дедовых могил вдоль сухопутных дорог. Но поколений пять назад настали новые времена: от озера на Ловать поползли первые ватаги с Варяжского моря, ищущие дорогу на юг. Жить возле судоходных рек стало опасно: иной раз эти ватаги разоряли поселения, брали что могли, а пленников увозили с собой на продажу – целые роды пропадали так. Но те же варяги по пути назад везли арабское серебро, греческие шелка, которые соглашались выменивать на съестные припасы, полотно для рубах и парусов, отдавали в обмен на помощь в постройке и починке ладей. Сильные роды, способные за себя постоять и не стать жертвой разбоя, начали богатеть. Будогостичи принадлежали к тем, кому это удалось, и теперь их старейшина Житинег считался малым словенским князем: он вел род от давних первопоселенцев, был хозяином племенного святилища и скопил немалые богатства. Только собственную дружину ему по уговору с Варяжском содержать было нельзя, но от этого условия он рассчитывал, так или иначе, со временем избавиться.
По плотно укатанной дороге обоз подтянулся к раскрытым воротам. Будгощ был хорошо укреплен: поверх высокого вала шла стена из уложенных вдоль земли бревен, которые крепились ко вкопанным стоякам. Высотой стена была в два-три человеческих роста. С внутренней стороны ее подпирали срубы, служившие и жильем, и хлевами, и клетями для припасов, а поверх них имелся боевой ход.
Сейчас вокруг площадки в середине городца толпился народ: и местные жители, и приезжие. У дверей обчины горел костер. Туда и направился, выйдя из саней, Олег со своей киевской родней.
– Здорово, князь молодой! – слегка насмешливо, но приветливо произнес старейшина Житинег, мужчина средних лет, с золотисто-рыжей бородкой, говорливый, резкий в движениях. – Прибыли! К нашим чурам! А тут и родня твоя плесковская дожидается – на два дня вас опередила!
С Житинегом Олег был уже знаком, а вот к плесковичам подошел не без волнения. Среди людей у костра выделялись двое – и сразу было видно, что они братья.
При первом взгляде на них Олегу вспомнился дед – так и встал перед глазами, будто выглянул из отроческих воспоминаний, которые вдруг стали необычайно ясными. Эти двое, сводные младшие братья Одда Хельги, были моложе покойного князя лет на пятнадцать, но семейное сходство отчетливо проступало в продолговатых лицах с высокими и широкими лбами, в прямых носах, а главное – в очерке глаз и светлых бровей. Оба выглядели людьми уверенными в себе, но добродушными.
– Здравствуй, внучок! – смеясь, воскликнул тот, что казался чуть старше, – Вальгард. Он говорил по-словенски, не будучи уверен, что родич поймет северную речь. – Сколько лет жил по соседству почти, а познакомиться решил, только когда в даль далекую собрался!
– Простите! – Олег поклонился, потом дал Вальгарду себя обнять. – Но вы к нам жаловать не изволили, а меня к родне, пожалуй, не отпустили бы…
– Это верно: заложников берут не для того, чтобы они разъезжали по гостям на блины! – согласился Вальгард. – Ты ведь позвал нас, чтобы поговорить об этом?
– Вальгард, остановись! – второй брат, Торольв, прикоснулся к рукаву его мехового кожуха, потом тоже обнял Олега. – Мы же не будем обсуждать такие дела на морозе, не дав ему даже выпить пива! Лучше покажи нам твою молодую жену. Она ведь старшая дочь Ульва, правда?
Олег повел их к саням, где местные женщины уже помогли Мальфрид выбраться из-под шкур и собирались отвести к себе – отогревать и кормить.
Затеялись обычные разговоры: про дорогу, холод, баню, красоту молодой…
Потом родичи Житинега всех прибывших повели под крышу – кого куда. Расспросы и серьезные беседы отложили до завтра.
Несмотря на усталость, Олег долго не мог заснуть. Беглое знакомство с братьями деда оставило впечатление, будто ему показали франкский клинок, завернутый в светлый шелк. Добиться чего-то, что нужно только ему, от этих людей будет совсем нелегко!
Ради знакомства с внучатым племянником, которому предстояло стать князем в Киеве, в Будгощ явились оба брата, хотя плесковский князь Судогость считал, что хватило бы и одного, а второй пусть бы оставался на месте – мало ли что? Им не хотелось надолго задерживаться в чужом месте, да и Олег с киевлянами торопились в путь. Потому наутро все собрались в обчине: Олег с киевской родней, плесковичи, Ветурлиди с сыновьями, Житинег со старшими родичами.
Покончив с кашей, приступили к делу.
Хозяйка с дочерью тихонько стояли в женском куту, высматривая, не надо ли еще чего подать. Мальфрид не показывалась.
– Я слышал о вашем уговоре насчет обмена наследниками, – начал Вальгард.
Когда он снял шапку, оказалось, что его блекло-светлые волосы, гладко зачесанные назад и заплетенные в косу, достигают пояса. Рыжевато-золотистая борода на щеках была аккуратно подстрижена, за исключением двух длинных прядей по сторонам подбородка: они тоже были заплетены в косички, достающие до середины груди, с бронзовыми пронизками-пружинками на концах. На руках его блестели широкие серебряные браслеты и перстни, кафтан голубого шелка подчеркивал голубизну глаз.
Взгляд этих глаз был прохладен.
– Мы знавали Рагнара, твоего дядю, а нашего племянника. Жаль, что ему так не повезло… впрочем, для тебя-то это как раз хорошо. И кого Ульв конунг отдал взамен?
– В Киеве живет мой племянник Ингвар, старший сын моего брата Ульва, – ответил Ветурлиди ярл. – Он отправился туда еще совсем ребенком. А ныне, чтобы уговор наш справедливо выполнялся, со стороны вашего рода требуется не менее весомый залог. Все было бы просто, если бы у князя Олега уже был сын или хотя бы дочь, но он сам еще так молод и так недавно женат, что нам придется искать заложника среди другой его родни.
– Если ты намекаешь на меня, то напрасно! – Вальгард весело усмехнулся, но всем своим видом показывал, что мысль об этом кажется ему нелепой.
– Но ведь после Олега именно ты – старший в вашем роду! – возразил Ветурлиди.
– Я не являюсь его наследником. Даже в том печальном случае, если боги не пошлют ему сыновей… Разумеется, никто из нас так не думает, ведь твоя жена, Хельги, производит впечатление здоровой и сильной женщины.
Вальгард взглянул на Олега и дружески кивнул.
– А ее матери норны послали одиннадцать детей, из них семь мальчиков, если не ошибаюсь, – подхватил Ветурлиди. – Правда, у Дев под Ясенем[2] не хватило рук прясть столько нитей и многие из них они по недосмотру оборвали, но я уверен: моему брату Ульву никогда не придется жаловаться на недостаток наследников. Как и его зятю – князю Олегу. Но пока мы лишь ожидаем появления этих детей, нам негде искать иных… юных родичей, – он не хотел еще раз произносить в этом кругу тревожное слово «заложник», – кроме как в твоей семье, Вальгард ярл.
Вальгард слегка двинул бровями: этот человек был упрям, умен, всегда знал, чего хочет, но в выражении его лица присутствовал намек на усмешку, будто он хотел сказать: вот безделица, не о чем и толковать! Не желая продолжать какой-либо разговор, он делал глупое лицо, будто ничего не понимает и нет смысла тратить время на объяснения с таким дурнем; однако еще никто, даже плесковский князь Судогость, ни угрозами, ни уговорами, ни лестью не сумел склонить этого «дурня» к тому, чего ему самому бы не хотелось.
– Пусть так вышло, что сейчас именно я – старший и ближайший родич Хельги. Но, если что, я мог бы предъявить права лишь на его собственное личное имущество, – неторопливо продолжал Вальгард. – Скажем, вот на этот красивый кафтан, но не пояс, ибо пояс – уже знак власти. Соваться мне в Киев и чего-то требовать там было бы смешно. Мой брат Одд захватил эту добычу без нашей помощи, и мы с Толе не настолько бессовестны, чтобы пытаться участвовать в дележе. Так что в рассуждении наших дел, Ветурлиди ярл, я – родственник молодого Хельги, но не наследник. И хотя мы с братом готовы оказать нашему родичу всю помощь и поддержку, которой разумно от нас ждать… именно разумно, это важно… мы или наши дети не имеем ценности для Ульва конунга в качестве заложников.
– Мой брат Ульв конунг доверил мне принести свидетельство: вы имеете для него ценность! – выразительно ответил Ветурлиди.
Прохладный взгляд голубых глаз Вальгарда скрестился с настойчивым взглядом Ветурлиди.
Тот был полноват, но подвижен: длинные темные волосы он носил распущенными, позволяя дочерям заплетать в этой гриве лишь две-три косички по сторонам лица. Со времени отъезда из дома эти косички уже успели сваляться, а расчесать волосы самому ему никогда не приходило в голову. Еще одна косичка красовалась в гуще длинной бороды – на сей раз слева, хотя бывало и справа. Шапку, отороченную дорогим белым мехом северной лисы, он держал на коленях.
– Вы с братом Ульвом – весьма достойные люди и, я не сомневаюсь, весьма гостеприимные! – Вальгард учтиво кивнул. – Вижу, что вы не просто хорошо обращались с нашим родичем Хельги, но и стали ему настоящей семьей. Однако у нас с Толе уже есть свои дома и семьи, и нам вовсе не хочется покидать их.
– Но я не сомневаюсь, что у вас обоих есть сыновья.
– Это правда.
– И если не ошибаюсь, твоя жена происходит из рода плесковских князей? Стало быть, твои сыновья – братья будущего князя Плескова? Надо думать, любой из них не откажется пожить у такого богатого и гостеприимного хозяина, как мой брат. К тому же вот еще что: мы дали Хельги превосходную жену, а у моего брата есть еще одна дочь. Она пока молода для брака, но время идет так быстро…
– Мои сыновья еще слишком молоды для брака! – Вальгард ухмыльнулся, не желая прямо сказать, что этим «женихам» всего три и четыре года. – Еще и десяти лет не прошло с тех пор, как я женился на их матери, а сыновья стали появляться ближе к концу этого срока. Не думаю, что моя жена согласится отослать их от себя.
– Но мы должны найти какой-то выход, – вмешался Честонег.
Он с самого начала беседы тревожно переводил с Ветурлиди на Вальгарда довольно хмурый взгляд, ясно понимая, что плесковский воевода отнюдь не настроен идти им навстречу.
– Если договор не будет исполнен, под угрозой окажется весь путь от Варяжского моря до Греческого. Порушатся все наши докончания, будем опять, как в Киевы веки, в бабьей тканине ходить. Или вы во Плескове больше паволок не хотите?
– Вот уж, что правда, то правда! – подхватил Житинег.
До сих пор словене не вмешивались в попытки варягов договориться между собой, но теперь хозяин Будгоща тревожно переглянулся с Ратимером, братом Судогостя, приехавшим представлять здесь плесковского князя.
– Нельзя Поозерью с Киевом ссориться. Такие богатства через нас движутся! Если какой раздор – торговые гости ходить перестанут, найдут другой путь, только мы и видали серебро, паволоки да прочее все!
– Верно князь Житинег говорит! – поддержал его Ратимер. – Наши люди давно уже говорят: надо бы и нам к грекам обоз снарядить, мы ведь тоже и мехов, и меда, и льна можем немало продавать. Сейчас-то продаем варягам, – он глянул на Вальгарда, – а это не одно и то же, что самим торговать. Сидел в Киеве брат наших воевод – хорошо. А мы, князь Олег, тоже тебе друзья! – обратился он к молодому князю. – Судогость, брат мой, мне наказал тебе кланяться и в дружбе заверять. Если ты, как в Киеве сядешь, станешь наши обозы с товарами через свои земли пускать и от разбоев оберегать, а там и в греческие земли отсылать со своими вместе, то мы бы честное докончание с тобой заключили. Не одни же поозеры… И в иных землях люди живут…
– Я понял тебя, Ратимер! – Олег пришел на помощь, видя, что плескович пытается высказать много, но не чересчур, и быть понятым, особо ничего не сказав. – Буду рад заключить честный и справедливый союз с друзьями и родичами… моих родичей.
– Да и нам не годится в стороне быть! – вклинился обеспокоенный Житинег.
До сих пор его товары отправлялись вверх по Ловати в составе обозов из Варяжска, но он никак не хотел упустить случай подружиться с киевским князем напрямую.
– Эх, князь молодой, нашли тебе жену, а то я бы из своих дочек тебе любую снарядил! Мои-то какие крепкие да румяные, чисто… репки налитые!
Все засмеялись, напряжение отпустило.
– Иметь паволоки – это всегда приятно, – ответил Вальгард Честонегу. – Но я не стану оплачивать их ценой безопасности моих детей, которые еще слишком малы, чтобы постоять за себя.
– Мой брат Ульв конунг отослал в Киев сына, которому было тогда всего шесть лет! – напомнил Ветурлиди. – Даже ранее, чем мальчика разлучают с матерью и передают воспитателю.
– Ульв имеет право распоряжаться своими сыновьями, как ему угодно. И я тоже.
Это была правда: ни Киев, ни Варяжск, ни даже плесковский князь не имел власти принудить к чему-либо Вальгарда.
– Мы сделали больше, чем требовал уговор! – горячился Ветурлиди, понимая, что все их доводы сводятся к мысли «это нужно нам», и их никак не удается превратить в «это нужно тебе». – Ульв конунг отдал в Киев не только сына, но и старшую дочь – она едет с Хельги как его жена! Если уж ты так сильно не хочешь отпустить к нам своего сына, то ты мог бы предложить жену для… кого-то из сыновей Ульва или моих. Тогда наше положение уравняется. Обмен невестами – самый древний, достойный, надежный способ союза, освященный богами. Против этого ты не станешь возражать? Ты можешь кого-то предложить? У тебя есть дочь?
Напав на эту мысль, Ветурлиди оживился и даже немного поерзал крупным телом на скамье. Его двое сыновей, молодые парни, взглянули на Вальгарда с новым любопытством.
– Кажется, – Вальгард будто в задумчивости возвел глаза к балкам закопченной кровли, – у меня их не менее трех… четыре, если считать падчерицу.
– Они еще не обручены?
– Как будто бы нет? – Вальгард поднял брови и вопросительно взглянул на Торлейва, словно сам не мог уверенно припомнить такой безделицы. – А, Толи?
Тот ухмыльнулся и помотал головой. Он был менее разговорчив, чем брат, но куда охотнее улыбался и вид имел дружелюбный.
– Сколько им лет? – продолжал Ветурлиди.
– Падчерица уже невеста, ей тринадцать. Я не вникаю в эти женские дела, но с прошлой весны она носит одежду взрослой женщины.
– Воислава – невеста, – кивнул Ратимер. – Поневу надела на прошлую Русальную неделю.
– А что скажешь о твоих родных дочерях? – уточнил Ветурлиди. – Ведь твоя падчерица не состоит в кровном родстве с Хельги конунгом.
– Моей старшей дочери семь лет. Если я правильно понимаю, ей до надевания поневы еще лет пять-шесть. Как пойдет…
Сыновья Ветурлиди приуныли, зато сам он обрадовался:
– Так вот и способ разрешить наше затруднение! Она составит отличную пару Ингвару, моему племяннику. Ему сейчас одиннадцать лет. Это будет уместный и равный брак: твоя старшая дочь, то есть старшая невеста в вашем роду, выйдет за старшего сына и наследника Ульва конунга и со временем займет место королевы в Волховце! Мы дали вашему роду невесту – мою племянницу Мальфрид, а если вы дадите нам невесту – твою дочь… как ее имя?
– Как будто… Эльга? – Вальгард снова покосился на брата, и тот опять кивнул с ухмылкой.
– Отлично! – Ветурлиди потер пухлые кисти. – Истинно королевское имя! Оно ведь было дано ей в честь Одда Хельги?
– Именно так. Мы рассудили, что раз уж моя дочь – внучка плесковского князя, то ей подойдет имя в честь ее другого родича, тоже добившегося королевского звания.
– Если ты согласишься на это обручение, мы, пожалуй, отложим требование заложника до тех пор, пока у молодого Хельги появится более близкий родич… то есть сын.
– Ну… на это, пожалуй, можно согласиться. А, Толи? – Вальгард помедлил, глядя на брата, потом кивнул. – Думаю, справить свадьбу можно будет лет через семь-восемь.
– Не лучше ли прямо сейчас, раз уж мы объявим обручение, отослать ее к будущему мужу? Ее мог бы взять с собой сам Хельги конунг, а уж он, ее родственник, хорошо присмотрит за девочкой. И как удачно, что с ним едет жена!
– Не думаю, что моя жена согласится на это. И мой тесть – а с ним надо считаться, ведь он князь. К тому же за семь-восемь лет… ты понимаешь, я желаю твоему брату Ульву долгой и славной жизни, но он уже немолодой человек, и за восемь лет его сын Ингвар из наследника может стать конунгом. И зачем девочке ездить через весь свет и обратно, когда можно будет отослать ее прямо в будущий дом? Юный Ингвар конунг в известном смысле подвергается опасности так далеко от родных мест, и он сам бы не захотел, если бы все это понимал, рисковать своей будущей женой, пока не может ее защитить.
– А твоя падчерица – она не обручена? – вдруг спросил Житинег.
– Еще нет. Вроде бы жена мне ничего такого не говорила.
– У моего старшего сына жена этой зимой умерла. Он слишком молод, чтобы жить вдовцом, и я был бы рад породниться с князем Судогостем.
– Это ты мне задачу задал! – протянул Ратимер, на которого хозяин бросил вопросительный взгляд. – Это как князь Судогость посмотрит и старейшины его… Она хоть девка во всем справная… да ведь поневу только первый год носит, приданого мало скопила. Ей бы еще пару зим поработать… Да к тому ж она – старшая внучка моего брата, а дочерей у него, кроме ее матери, больше нет. Сам понимаешь: первая наша невеста ныне, дорого будет стоить…
– Ну, нам-то с тобой спешить некуда, обо всем успеем потолковать! – ухмыльнулся Житинег.
По лицу Ратимера было заметно, что мысль об этом союзе его не отвратила, но где же видано, чтобы родичи невесты прямо так сразу давали согласие! Приди хоть сам Дажьбог на порог – делу не бывать без обязательных рассуждений о том, что «девка молода», «приданое не готово», «дома некому работать» и «наше тесто не приспело».
И все же оба словенских старейшины перемигнулись тайком от варягов. «У тех – своя свадьба, а у нас – своя!» – говорили их взгляды. И неизвестно еще, чья ладнее будет. Им, живущим в разных концах пути из Варяжского моря в Ильмень-озеро, союз между собой был удобен – не менее чем владыкам южного и северного конца Пути Серебра.
Вальгард взял один день на раздумье, но назавтра дал согласие.
– При свидетельстве всех этих свободных людей я, Вальгард сын Асмунда, обещаю во исполнение договора об обмене заложниками между нашим родом – родом Одда Стрелы по прозвищу Хельги, и родом Ульва сына Хакона из Волховца, отдать мою дочь Эльгу в жены Ингвару, сыну Ульва, – произнес воевода на прощальном пиру. – Поскольку будет в том необходимость. Призываю богов и предков хранить наш уговор.
И с этими словами он пролил немного пива из серебряного рога в очаг, потом отпил сам и передал рог Ветурлиди.
– Ну, одну девку пропили! – Ратимер подтолкнул плечом сидевшего рядом Житинега и усмехнулся. – Скоро нашей черед!
– Мы еще всех обскачем! – поддержал тот. – Уж мы-то с тобой, сват Ратеня, на свадебке-то первые спляшем! А эти пока соберутся – сколько воды утечет!
Достигнув договоренностей, Олег на следующий же день пустился в путь.
Даже такое событие, как обручение в семье, не позволяло особенно задерживаться: предстояла долгая дорога, а оттепель или ранняя весна могли вынудить дожидаться где-нибудь в чужом месте, пока сойдет ледоход.
Жена Житинега усердно старалась получше накормить отъезжающих, но Олегу и Мальфрид так не терпелось ехать, что их миски остались почти полными.
И вот Олег вновь усадил жену в сани, сам закутал ее в платок, поцеловал в кончик носа и прикрыл его платком. В отличие от Мальфрид он повеселел: то, что немаловажное препятствие разрешилось так быстро, он счел добрым предзнаменованием. Огорчало его только то, что жена, казалось, не разделяет его радости.
– Малоня, ну что ты такая квелая! – ласково упрекнул он ее, усаживаясь в сани рядом и делая знак возчикам трогать. – Вот и поехали! А я уж, знаешь ли, боялся, до весны здесь застрянем, пока будем судить и рядить.
– Ой, нет! – Мальфрид поморщилась. – Только не до весны…
– Что ты куксишься? – Олег вдруг осознал, что жена уже давно выглядит больной и едва ли это можно объяснить только волнением. – Ты здорова ли? Может, надо было задержаться? Может, тебе каких травок попить? Хоть и спешим, да уж лучше приедем попозже, чем я с хворой женой на руках в зимнюю дорогу пущусь!
– Нет, поедем! – Мальфрид вцепилась рукой в вязаной варежке в его руку. – Непременно поедем. Поскорее!
– Да что с тобой? – Олег повернулся, тревожась уже не на шутку.
Даже в рассветных сумерках было заметно, что Мальфрид бледна и тяжело дышит.
– Я… нет…
Вдруг она резко сбросила с головы большой платок, отвернулась к борту саней, наклонилась, и ее стошнило. На ходу она подхватила горсть снега почище, потом бросила, мокрой варежкой провела по лицу.
– Ты больна! – Олег схватил ее за плечи. – Зачем молчишь? Вернемся в Будгощ, отлежись, там бабы тебя полечат.
– Нет, мы не вернемся… погоди… – Мальфрид, отчаянно морщась и ловя воздух открытым ртом, снова перегнулась через край саней и судорожно закашлялась.
Позывы были напрасны: она ведь почти ничего не ела утром. Молодая княгиня опустила голову на мешок, крепко держа Олега за руку, будто заклиная не шевелиться и ничего не предпринимать.
– Потому… и молчала… – отдышавшись, с трудом выговорила она. – Нельзя им знать. Отцу… матери… этим всем… и родичам твоим плесковским.
– Почему? – пробормотал озадаченный Олег, уже начиная прозревать.
– Понесла я… затяжелела. Второй месяц знаю… скоро третий, но не уверена была… Хотела сказать, а тут… эти приехали. Ведь если… у нас ребенок… его и оставят в залог. Это же твой сын! Старший – и пока единственный. А он им всем нужен! Его еще нет, а они уже, будто вещицы, сошлись и каркают: нам, нам! Я и думаю: тебя отошлют, меня дома запрут до родов, а потом сына моего заберут себе. И останусь я – мать без ребенка, а ты – князь без наследника. А я… нет!
Мальфрид собралась с силами и села прямо. Вцепившись в руку Олега обеими руками, она устремила ему в лицо решительный взгляд покрасневших глаз.
– Не отдам! Он мой! И он у меня один! Никому не отдам! Увезу, пока не догадались, сама выращу. Хоть до семи лет, пока мать растит, он со мной будет! А там… как судьба велит. И решила: начнет меня мутить, молчать буду, терпеть буду, а никому догадаться не дам – ни матери, никому! Хоть умру, а скрою! Но мне и везло покуда – только вот на днях, вчера-позавчера, и впрямь тошнить начало.
– Ох, ты… родная моя… – не зная, что в нем сейчас сильнее, облегчение или потрясение, Олег еще не мог по-настоящему обрадоваться этой вести. – Умирать-то не надо! Нам с тобой теперь только жить!
Утомленная душой и телом, Мальфрид привалилась к его груди и закрыла глаза.
– А они, видишь, и без нас справились, – пробормотала она. – Вальгардову дочку к нам привезут за Инге выдавать, я за ней пригляжу. И сама нам не чужая, твоя племянница… или кто?
– Она мне… двоюродная тетка! – Олег усмехнулся этому родству, которое связывало его с незнакомой семилетней девочкой.
– Вот и хорошо! – Для Мальфрид, избежавшей разлуки с неведомым еще родным ребенком, сейчас все было хорошо. – А там и сынок наш подрастет…
Но сколь она ни храбрилась, дух не одолел немощи тела. По прибытии в Зорин-городок, что стоял за устьем Ловати, Мальфрид все же слегла. Приступы тошноты повторялись раз по семь-десять в день, не давая подняться.
Здешняя хозяйка, княгиня Всевида, поила ее отваром ромашки и мяты, утром почти силой заставляла есть. У нее уже было трое подрастающих детей – от двух до шести лет, и она хорошо знала, что и как.
– Это у тебя непременно мальчик будет, – приговаривала она, сидя у лежанки, на которой распростерлась Мальфрид – бледная, с распущенными волосами, не отодвигаясь далеко от края и лохани на полу. – У меня все четыре раза так было. Когда озноб пробирает – это к девочке, мне еще мать говорила, а нас у нее было пять дочерей. А коли в жар и пот бросает – это к мальчику. Еще если меду хочется или морковки сладенькой – это к девочке, а если все мяса или грибов соленых – к мальчику.
– О-о…
При мысли о чем-то из перечисленного Мальфрид снова сморщилась и потянулась к лохани.
То ли помогли заботы княгини Всевиды, то ли крепкое здоровье молодой одолело недуг, но уже через пару недель Мальфрид полегчало, она перестала извергать все съеденное и объявила, что готова продолжать путь.
Олег не без пользы провел это время в обществе мужа Всевиды, князя Дивислава. Тот был всего на несколько лет его старше, но правил с отрочества и даже расширил доставшиеся по наследству угодья. Он происходил из тех же вождей, что привели сюда будущих словен три века назад, но не пошли на Ильмень-озеро, а осели на Ловати: все старинные роды, живущие вдоль этой реки до самой Дивны и смоленских волоков, признавали его главой над собою. А с князьями дивнинских кривичей он породнился путем женитьбы на Всевиде и не намерен был на этом останавливаться. Его дед поставил городец для защиты рода и ближайшей округи от набегов со стороны варяжских дружин, но сам Дивислав, возмужав, пошел дальше и понял, что имеет такое же право взимать пошлины в обмен на пристанище и охрану.
– Вот послушай, я как рассуждаю… – говорил он Олегу, в задумчивости пропуская между пальцами пушистую русую бородку.
Был он довольно хорош собой, короткий прямой нос придавал мягкости грубоватым внушительным чертам, и портил его только глубокий шрам на лбу, тянущийся почти до затылка, и видный, будто просека, среди волос: след столкновения с каким-то очередным лиходеем, что пытался не только пройти, не заплатив, но и поживиться на счет зоричей.
– Твои родичи, ну, жены твоей отец, он ведь из Ладоги род ведет?
– Так. – Олег кивнул. – Они рассказывают, будто лет двести… или триста назад был в заморских странах такой князь: Харальд по прозвищу Боезуб. Владел он всеми землями, какие только есть на свете…
– Кроме наших! – ухмыльнувшись чужому бахвальству, вставил Дивислав.
– Не поверишь: будто бы и нашими тоже! – улыбнулся в ответ Олег. – Но, я думаю, это для красного словца. И вот жил он столько, сколько не живут – лет сто или полтораста. Уже и самому надоело. Тогда велел он всем соседям войско собирать и идти с ним ратиться. Собралось войско великое – столько лодей согнали, что от одного берега моря до другого по ним перейти можно было, будто по суше. Даже боги их варяжские на ту рать явились! Там и погиб князь Харальд, как и хотел, и не к себе домой, а в божескую обчину пировать от того поля отправился. И был у него сын по имени Ингвар. Тот после смерти отцовой за море пустился доли искать – и в Ладоге уселся. Там про него тоже много чудного повествуют. Его род в Ладоге лет двести княжил, а потом Тородд, дед моего тестя, от родни подался на юг, Волхов прошел и сел на старой стоянке корабельной. И раньше ходили там гости торговые, да было раздоров много: то варяги словен побьют, то словены варягов ограбят. А при Тородде завелся порядок: мирным гостям защита, лиходеям отпор. Тут они и разжились.
– Вот теперь вы и с Плесковом родня будете, и с Будгощем. Я слышал, тамошний князь за своего сына высватывает внучку плесковского Судогостя. Вон, боярин рассказывал. – Дивислав кивнул на Честонега. – А я с южными кривичами в родстве: моя мать была из рода смолянских князей, а жена – полоцких. Видишь, какая связка собирается? Если бы мы все, князья, что на реках живем, были бы единым родом – никакие варяги бы… никакие враги бы нам были не страшны! – поправился он, не уверенный, что его собеседника можно исключить из этого полезного, но и опасного племени. – Ты пойми: от руси, конечно, пользы много, но ведь наша эта земля. Пути торговые мы и сами теперь ведаем, и чужим людям платить, чтобы наших же купцов на нашей же земле охраняли, нам без надобности. Мой отец держал воеводу варяжского, а я его отпустил с честью. Сами справляемся. А вы с дедом, хоть родом из руси, правите полянами как князья, вот и думайте, как князья. В нас друзей ищите, в тех, кто на земле сидит крепко. А не в руси, что сегодня здесь, а завтра за Хвалынским морем.
– Да… В словах твои правды много… – задумчиво согласился Олег.
Уехав из Киева отроком, он слабо представлял себе те далекие земли, которыми ему предстояло править, точнее, не мог уверенно отличить настоящие детские воспоминания от образов, навеянных чужими рассказами. В глубине души он вдруг ощутил зависть к этому человеку – такому уверенному, сидящему возле могил дедов и прадедов, которому никуда не нужно уезжать: ни ребенком, ни взрослым мужем.
О родных краях деда он слышал лишь смутные предания – тот не особенно любил их вспоминать, найдя новую родину в земле полян. Лишь однажды упомянул, будто бог по имени Харлоги, повелитель огня, указал ему путь в эти края и предрек великую славу. Но маленькому Олегу тогда почему-то показалось, будто дед не хочет, чтобы об этом знал кто-то еще.
Дед пришел когда-то в Гарды, вероятно, намереваясь найти себе место одного из тех дружинных вождей, что сидят в ключевых точках торговых путей. Но судьба повела его дальше и сделала полноправным князем. А ему, Олегу-младшему, предстояло утвердиться и укрепить род, дав ему продолжение.
Его дед и станет для будущих далеких потомков тем богоравным предком, в честь которого сооружают святилища, дают названия городам и о подвигах которых рассказывают предания по большим праздникам. Для них, потомков, он сойдет прямо с неба, ступая по облакам и не оставляя следа на земле…
– О чем размечтался? – брат Славята подтолкнул его локтем. – Небось уже семерых сыновей перед собой выстроил и учишь мечом орудовать?
– Вроде того! – Олег потряс головой и с облегчением рассмеялся.
Наконец Мальфрид, которую он навещал по три-четыре раза в день, обрадовала его известием, что готова к дальнейшему пути.
Велев слугам собираться, Олег вышел из городка посмотреть дорогу.
Несколько дней перед этим продолжался снегопад, и теперь вся округа была укрыта сплошным пушистым покрывалом. Сияющая белизна простиралась во все стороны, только вдали нарушаемая черным очерком леса.
Но Олег смотрел на русло Ловати. Его еще не успели разъездить, прочертить санные колеи в желтых и бурых пятнах, и Ловать лежала под белым одеялом, на котором под солнечными лучами горели жаркие искры – больно смотреть.
Путь Серебра звал его, своего нового хозяина.
Вояна всегда предводительствовала над всеми нами.
Она была самой старшей княжьей внучкой, а значит, главой над всеми внуками Судогостя, пока мальчики не вырастали и не переходили на руки мужчинам; мы же, девочки, должны были оставаться под ее властью до замужества и даже после него, если только нас не увезут слишком далеко.
Об этом – далеко ли нас увезут? – мы не могли не думать, хотя не любили говорить. Замужество грозило нам разлукой с родными и житьем среди чужих, но эта неприятность была почти неизбежна. Ведь чем знатнее невеста, тем меньше у нее надежды остаться вблизи родительской семьи.
Моя мать сказала однажды, трепля меня по затылку: «Хорошо, хоть ты у меня не княжья внучка!»
Она намекала на Эльгу, которая наверняка выйдет замуж за князя. Мысль об этом запала в наши головы так рано, что мы совершенно сжились с ней. Но знатную невесту должны сопровождать родственницы, и мы с Эльгой всегда знали: когда она поедет выходить замуж, то возьмет меня с собой. А там, среди родни и дружины ее мужа, наверняка найдется кто-нибудь для меня, и так мы сможем не разлучаться всю жизнь.
Первой, как старшей, идти замуж предстояло Вояне.
Но когда наши отцы вернулись из Будгоща, куда ездили знакомиться с родичем, будущим киевским князем, и рассказали, что и Эльга теперь обручена, мы нисколько не удивились.
С прошлой зимы мы обе учились прясть: к нам ходили по вечерам с той же целью все девочки, начиная от шести лет – и пока не наденут поневу. Уже носившие поневу собирались на свои отдельные супрядки в беседе, и к ним в гости туда приходили парни. Наши матери давно запрятали в свои укладки по первой ниточке, спряденной каждой из нас: неказистые, они, однако, должны были остаться нашими оберегами в будущем замужестве и на всю дальнейшую жизнь. Моя мать свою первую ниточку так и носила на шее в мешочке с каким-то особым корешком, который ей дала ее собственная мать.
С этой зимы Вояна обучала нас ткать тесьму на дощечках, заправленных пока лишь в две дырочки, и на бердышке – без узоров, гладкие, в простую полоску. Мы уже соткали себе по мутовозу – тесемке, которой кудель привязывают к прялочному копыту.
Словом, по нашему мнению, мы уже вполне годились если не в жены, то в невесты. Конечно, для настоящих свадеб мы сначала должны были надеть поневу и походить на «взрослые» супрядки, но ведь и замуж нам еще не завтра! Это простых девок, бывает, уводят прямо с купальских игрищ, если окажется, что в роду жениха некому жать или сгребать сено. Судьбу знатных невест решают заблаговременно, и почти все они проводят обрученными половину своей четырнадцатилетней жизни.
Мы с Эльгой были полностью готовы к новости и приняли ее как должное. Эльга лишь уточнила:
– А он, этот Ингвар, будет князем?
– Будет, когда умрет его отец, – пояснила ей стрыиня Домаша. – Он будет князем в Волховце.
– А там у него большие владения?
– Он живет в городе на берегу Ильмень-озера и собирает дань с окрестных словенских и чудских поселений, а еще берет подать с проезжающих торговых гостей. Он очень богат и ведет свой род от знаменитого конунга из Северных стран, Харальда Боезуба.
– Я знаю Харальда, отец рассказывал про него. Но он же владел целой кучей разных стран… Ута, правда же? – Эльга взглянула на меня, потому что рассказ стрыя Вальгарда на прошлую Коляду мы слушали вместе. – Нет, молчи, я сама помню: он владел Данией, Вестфольдом на Северном пути, и Сконе, Нор… тамберландией, и Эстландией, и Зеландией… и, наверное, еще другими землями. Если Ингвар – его потомок, почему он не князь во всех тех странах?
– Потому что там свои князья сидят! – засмеялась стрыиня Домаша. – Это же так… старины одни, а то и вовсе басни.
– Нет, не басни! – не согласилась Эльга. – Если его предки владели половиной земли, он тоже должен владеть половиной земли! Иначе он просто дурак и растяпа, мне такого в мужья не надобно! Встречу его, так и скажу, что он должен собрать войско и захватить все земли, где были князьями его деды! И пока не захватит, пусть даже не думает, что я соглашусь за него пойти!
– Хорошо! – Домаша погладила ее по голове. – Когда придет пора, поедешь к нему в Волховец и все это скажешь. Но ты понимаешь, когда он захватит весь белый свет, ему же понадобится жена, которая будет уметь шить, и прясть, и ткань, и узоры брать лучше всех на свете! Так что подите-ка к Вояне, она себе пояса ткет, и вы рядом садитесь.
– Пойдем! – Эльга, признав справедливость этого довода, тут же вскочила и схватила меня за рукав.
И мы пошли к Вояне.
Она сидела в беседе, где стоял ткацкий стан: его собирали здесь каждую зиму. По вечерам, когда начинались настоящие супрядки, нас сюда не допускали, но Домаша разрешала нам бывать там, когда хотела, чтобы Вояна нас чему-нибудь поучила.
На сегодняшний вечер было назначено обручение: вместе с нашими отцами приехал Житинег со своим сыном Видятой, за которого посватали Вояну. Поломавшись ради обычая, князь Судога дал согласие, а значит, согласилась и Домаша. Стрый Вальгард только пожал плечами: когда он женился на молодой вдове, князь Судога поставил условие, что право выдавать замуж внучку Воиславу останется за ним. И это было чуть ли не единственное условие, которое он вообще сумел поставить: в то время без помощи наших отцов с их дружиной князь не уберег бы ни свой город, ни семью, ни, пожалуй, голову.
А сейчас Вояна, взбудораженная и потрясенная – сколько ни ждешь своей судьбы, а она всегда приходит неожиданно, – дрожащими руками тыкала челнок между рядами нитей бердышка. Причитать было еще не пора, но ей позволили в оконце глянуть на жениха, пока он проходил в обчину, и первая встреча так ее потрясла, что к более сложной работе она сейчас была неспособна. Однако и сидеть без дела не могла: до ее свадьбы оставался год, а то и два. Однако девушке казалось, что они пролетят мгновенно, а у нее ничего не готово!
Домаша уже уверила старшую дочь, что свадьба не будет назначена, пока она не запасет нужное количество рубах, рукавиц, поясов, рушников, настилальников, семь понев на разные случаи, и вершников, и завесок, и убрусов, и прочего, что должна иметь княжья внучка и будущая княгиня.
И Вояне хотелось, чтобы все это появилось как можно быстрее!
О том и поют на «взрослых» супрядках девушки-невесты:
Сестрицы мои, подруженьки! Как же мне быти, Как же мне быти, чем свекра дарити? Подарю я свекра шитою рубашкой, Шитою, Белою, Тонкою льняною!Когда мы вошли, Вояна вскинула глаза, будто от каждого ожидала новостей. Мы с Эльгой видели ее жениха, и он на нас впечатления не произвел. Видяте тогда было лет восемнадцать: это был длинный парень, худощавый, с выступающим хрящеватым носом и глазами цвета желудя. Не хуже других, но мы-то уж точно не стали бы особо волноваться при виде такого подарка судьбы! Так рассуждали мы в семь лет, когда свой собственный будущий муж представляется красным солнышком, наряженным в самитовый кафтан.
Однако старики – Судогость и его жена – женихом остались довольны. Он был старшим сыном будгощского князя, а значит, Вояна станет княгиней.
Весь прошлый вечер мы корпели над заправкой бердышка нитями трех цветов, чтобы сделать узорные пояски. Их нужно заправлять в известном порядке, по счету: две желтые, зеленая, желтая, зеленая…
В щели – еще куда ни шло, но засунуть нитку в дырочку нашим детским пальчикам было не так легко.
«Ужо я вас!» – угрожающе бормотала Эльга, склоняясь над бердышком и в третий раз облизывая лохматый кончик нити. Нас утешало то, что это самая трудная часть работы, потом думать не нужно: знай, просовывай челнок туда-сюда и меняй зев, а узор будет получаться сам собой.
У меня поясок был из нитей желтого, бледно-зеленого и коричневого цветов: четырнадцать, двенадцать и одна. Летом мы с матерью и Эльгой красили белую пряденую шерсть крушиной, толокнянкой и дубовой корой с ржавиной – водой, настоянной на разных мелких железных обрубках из Радульвовой кузни. Радульва мы любили: закопченный и страшный, с корявыми черными руками, он был добрым человеком и охотно разрешил нам набрать всяких кусочков, хотя мог бы вновь пустить их в дело.
У Эльги заправка была еще лучше моей: из белой шерсти, бруснично-красной и синей. Две последние сама стрыиня Домаша красила дорогой привозной краской – соткала себе большой платок на голову, а остаточки отдала дочери. Прочие сестры уже заранее завидовали Эльге, которая будет носить такую красоту.
В беседе обнаружилась старая княгиня Годонега, бабка Вояны и Эльги.
Она сидела напротив старшей внучки и смотрела на нее, подпирая подбородок, будто пригорюнясь, но морщинистое лицо ее было ясным и радостным. Услышав, с чем приехал зять, князь и княгиня явились к нам в Варягино, хотя обычно это стрый Вальгард ездил к ним.
– Авось доживу я, старая, до твоей свадебки, а там и помирать пора, – говорила бабка. – Успею, дадут боги веку, тебя в мужний дом снарядить, а сама отправлюсь к дедам.
И взгляд ее светлых глаз был при этом таким отрешенным, что нас пробрало морозом.
Мы не сомневались, что княгиня Годонега – для нас баба Гоня – и правда знает дорогу «к дедам», то есть ко всем предкам своего рода. Вот так однажды утречком выйдет за ворота, в платочке, с палочкой и котомочкой, и пойдет туда, где они живут с тех пор, как умерли…
Сперва по земле, потом – по небу…
– Вас уже не успею… – Она посмотрела на нас с Эльгой (мы поспешно поклонились) и покачала головой. – А вот жаль! Вас отцы-то как еще снарядят замуж – к лешему лысому только…
Она помрачнела, свет ее лица угас, сменился тенью недовольства.
Мы мало что об этом знали и еще меньше понимали, но улавливали из случайно услышанных обрывков разговоров, что у взрослых есть расхождение насчет нашего воспитания и подготовки к замужеству. Что мы должны учиться прясть и всему прочему – это само собой, против этого ни у кого не могло быть возражений.
Разногласия касались чего-то загадочного, имевшего отношение к лесу.
Однажды мы услышали, как кто-то произнес странные слова «медвежья свадьба», а Эльгин отец после этого вскипел, что для него было редкостью, злобно выругался и сказал, что придушит каждого, кто еще хоть раз заговорит об этом. Нас это успокоило: образы леса и медведя пугали, хотелось держаться от этого подальше.
Вояны споры не касались: как воспитывать ее, решал князь Судога. Обсуждали только нас с Эльгой и еще Володею с Беряшей. Но их срок должен был наступить на три-четыре года позже, а вот с нами уже пора было что-то решать.
С одной стороны, приятно было знать, что наши отцы не пустят нас в страшный лес. А с другой, складывалось впечатление, что в этот поход снаряжают только лучших дочерей самых знатных старинных родов – тех, что происходят от пращуров племени и сами в будущем станут владыками и жрицами.
Эта честь была опасна, но уклониться от зова предков – стыдно.
Однако мы были слишком малы, чтобы во всем разобраться и решить, как для нас было бы лучше.
Да и зачем: мы знали, что решать будут другие.
– А вы сами-то что скажете? – неожиданно обратилась к нам баба Гоня. – Неужто забоитесь в лес идти, медведю кашу варить? Или варяжское ваше племя гораздо только на пирах смелостью своей похваляться, а как до дела – так в кусты?
– Медведю… кашу?
От изумления мы даже выпустили нитки и повернулись к ней.
– Вот слушайте, расскажу я вам баснь одну. Да и посмотрю, внучки вы князей Судиславичей или так, мокрицы варяжские!
Внучкой плесковских князей из нас двух была только Эльга, и к нашим семи годам мы уже прочно усвоили, что из этого вытекает весьма существенная разница. Однако мы привыкли с рождения быть всегда вместе: матери зачастую укладывали нас в одну колыбель и смотрели за нами и кормили обеих по очереди. И вся усадьба привыкла видеть нас вместе, поэтому о нас часто говорили так, будто мы близнецы.
– Жили-были старик со старухой, и была у них дочка Нежданка…
В баснях бабы Годони девочку или девку всегда звали Нежданкой; позднее я узнала, что так звали ее старшую дочку, умершую еще до поневы[3].
– И вот пошла она однажды с другими девками в лес по ягоду: идет, аукает, и кто-то ей из леса все отвечает: «ау!» да «ау!» Так она брела, полную корзину набрала малины, уже еле ноги волочет. Думает, пора домой собираться. Опять кричит «ау!» – а отзыву нет. Кричала, пока с голоса не спала. Надо, видать, как-то самой пробираться… Идет сквозь малинник, корзину тащит, тяжко ей: кусты за подол цепляют, рубаху ободрали, ноги поцарапали, косу растрепали. Устала с походу. Вдруг слышит: идет кто-то ей навстречу. Обрадовалась, кинулась туда, глядь: медведь!
Баба Гоня резко подалась в нашу сторону, выставив руки, будто лапы с когтями; я от неожиданности вскрикнула, захваченная повествованием, а Эльга лишь крепче вцепилась в скамью, на которой мы сидели. Однако она была непривычно бледна. Я хотела придвинуться к ней, но не смогла пошевелиться, будто старая княгиня, ведунья и старшая жрица плесковских кривичей, и впрямь набросила на нас путы колдовства.
– Нежданка так и обмерла… А медведь ей говорит: «Идем со мной, поживи у меня, послужи мне. Коли хорошо послужишь, я тебя потом домой провожу». Пошли они…
Краем глаза я заметила, что и Вояна опустила челнок и сидит неподвижно, прислушиваясь к рассказу. «А ведь она должна уже все это знать», – мелькнуло у меня в голове. Смутно вспомнились разговоры о том, что Вояна в свое время ходила на «медвежьи каши», но мы с Эльгой тогда были совсем дитяти и ничего не поняли. Мир взрослых так огромен и полон непознанного, что за всеми его непонятностями не уследить!
– Сварила Нежданка кашу, сидит, сама не ест. Вдруг вылазит из-за печки мышка-щурка и говорит: «Дай мне кашки, а я тебе помогу». Дала ей Нежданка кашки…
Мы вспомнили, как на Осенних Дедах, оставив на столе угощения для невидимых ночных гостей, наши матери клали немного каши в мисочки и ставили за печку: «для мышки-щурки». В виде мышки приходили духи давно умерших прабабок, и считалось большой удачей, если удавалось увидеть какую-то из них возле поминальной каши.
Значит, Нежданке на помощь пришла прабабка, и у нас полегчало на душе: эта не выдаст!
– Поел медведь каши и говорит: «Давай теперь со мной в жмурки играть. Не поймаю – твое счастье, а поймаю – съем». Не успела Нежданка испугаться, как мышка набросила на нее платок и в угол толкнула. Она стоит там, ничего не видит, ни жива ни мертва, а мышка стала по избе бегать. Медведь ловит ее, ловит, а поймать не может, она у него между лапами проскакивает. Ловил медведь, ловил, не поймал, устал – упал прямо посреди избы да и заснул. Тогда мышка с Нежданки платок сдернула, из берлоги ее вывела и дорогу домой показала…
В этот вечер все взрослые уехали в Плесков на обручение Вояны: ради важности случая князь решил провести обряд над внучкой возле старшего родового очага.
Мы остались под присмотром одной только челяди. Я не хотела идти домой – было страшно, и устроилась ночевать, как нередко бывало, рядом с Эльгой на полатях в избе стрыя Вальгарда. В такие вечера мы с ней долго шептались и смеялись, пока мать не начинала бранить нас, что не даем спать, и грозила выгнать на мороз.
Но в этот раз мы молчали.
Баба Гоня неспроста рассказала нам «про медведя», и образы басни, так живо стоящие перед глазами, навевали жуть. Особенно страшной казалась слепота зверя: это означало, что здесь, в земном мире, он – чужак, пришелец.
Гость из мира мертвых.
Позволь девочка ему поймать себя – он проглотил бы ее и забрал с собой туда, в вечный мрак…
– Я все поняла, – вдруг шепнула мне Эльга. – Она нам рассказала, чтобы мы знали, что делать.
– Как это – что делать?
– Ну что делать, когда мы пойдем в лес и встретим медведя.
– Мы не пойдем! – Я испугалась еще сильнее, в глубине души смутно подозревая, что она права. – Такого сейчас не бывает! Это в древние времена…
– Для князей это бывает и сейчас. Ведь Вояна ходила в лес.
– Не может быть!
– Даже два раза. Один раз – после той зимы, когда научилась прясть, а второй – прошлым летом, когда уже поневу надела. Так положено для княжеской внучки, а она ведь такая и есть. И я тоже.
– А я нет… – пробормотала я, не зная еще, обрадоваться или огорчиться.
Радовало, что мне можно в лес не ходить, но я хотела, чтобы у нас с Эльгой всегда все было вместе.
Я очень любила Эльгу.
Пожалуй, в то время я любила ее больше всех на свете, да и потом… не знаю. Боги не послали мне родных сестер, она была мне ближе всех. Мы с ней даже менялись иногда черевьями или кожухами, как будто были одним человеком в двух телах. Нам это очень нравилось, особенно когда родные матери со спины нас путали – а отцы и подавно.
Мы радовались всему, что находили у себя общего. Особенно я, потому что уже тогда, в семь лет, Эльга казалась мне лучше всех на белом свете.
И в тот темный зимний вечер я мысленно прикинула: готова ли я пойти в лес, если это будет нужно ей?
Она и правда может пойти – она же такая смелая!
Не то что я…
Но ведь если я останусь дома, а она уйдет одна, будет еще хуже.
И я поняла, что у меня просто нет выбора.
– Я не боюсь, – произнесла она, будто учуяла мои мысли. – Ничего страшного. Я все запомнила, что надо делать. Сварить кашу, покормить мышку, потом покормить медведя, а мышка поможет, чтобы он не поймал.
– А вдруг ей не понравится каша?
Приготовление каши в то время было для нас очень сложным делом, с которым мы справлялись вдвоем – и то, начиная, никогда не были уверены, чем наша стряпня закончится.
– Понравится. В лес ходят летом, а до лета мы еще научимся варить кашу как надо.
– Тогда ладно, – согласилась я.
Ныне же приближался Ладин день, до лета было еще далеко: для семилетнего ребенка прожить год – почти то же, что объехать вокруг света.
И я заснула, а наутро образы бабкиного сказа уже не казались такими яркими и пугающими.
Вскоре начались обряды и всякие забавы в честь наступающей весны, и я уже не боялась «медведя», которого «ходили будить» в «берлогу», устроенную в овраге.
Лелей-Весной тогда нарядили Вояну, и мы вместе со всеми кричали скорее весело, чем испуганно, когда ряженый «медведь» уносил ее к себе.
Мы ведь знали – ее спасут.
Для будущей свадьбы Вояне требовалась добрая сотня поясков, рукавиц, чулок – чтобы одарить всю многочисленную родню жениха и гостей. А что гости съедутся со всех берегов Ильмень-озера, было ясно. Поэтому не только она, но и мы все трудились не покладая рук. За остаток зимы и весну мы с Эльгой достигли такого искусства в изготовлении заправочных поясков, что Вояна спрятала в свои свадебные укладки десятка два наших изделий.
«Девы у Ясеня от зависти не умрут», – хмыкнул однажды стрый Вальгард, разглядывая наши поделки, но гостям не из самых знатных подарить уже годилось. Пояски были простыми, в поперечную полоску, какая получается, если заправить в бердышко нити двух цветов просто через одну, зато с каемочкой и всех расцветок, какие только можно получить на белой и серой шерсти из всевозможных травок, цветов и кореньев.
Кроме того, мы научились вязать. Мой отец вырезал нам по игле из коровьей кости; моя вышла короче обычных, но мне нравилась, и мы усердно старались запомнить, как проводить иглу через петлю. Беда была в том, что до завтра мы успевали забыть то, что запомнили сегодня, и Вояне приходилось показывать нам все заново. Но она не роптала: когда мы выучимся, чулки-копытца для ее будущих гостей примутся вязать уже три пары рук!
По паре чулок мы и правда сотворили: мои вышли покороче, у Эльги – подлиннее. А что в них кое-где зияли дыры от пропущенных петель – так ведь самим и носить!
Эта первая вязальная игла и сейчас еще у меня. Страшно подумать, сколько пар чулок и рукавиц она с тех пор связала; от постоянного трения о шерстяную нить она сделалась гладкой и блестящей, как стеклянная.
Отца моего давно нет в живых, и я очень дорожу этой иглой.
В конце весны по большой воде ушли два обоза: вниз по Великой – в Варяжское море, и вверх – тот, что стремился после долгого путешествия по рекам и озерам попасть на Днепр, а там и в Греческое море.
Увезли они главным образом лен.
Мы уже знали, что наш лен – лучший на всем белом свете, потому его и покупают везде: от Северных стран до Серкланда. Мы слышали много сказаний о берегинях-льняницах, объяснявших, почему лен у нас так хорош.
Потом-то я поняла: в наших краях и земли для него подходящие, и не слишком сухо, и света летом много. Но тогда мы считали, что сама Леля полила эту землю слезами из голубых своих глаз, когда тосковала по добру молодцу Дажьбогу и осенила серебряными своими волосами, пока ходила, искала его…
Созрела земляника, потом черника.
С нашими матерями, а то и бабкой Гоней (если в тот день у нее не сильно болела спина) мы ходили по рощам и лугам, собирая травы для окраски и лечения.
Весь месяц кресень, когда зелия имеют наибольшую силу, мы только этим и занимались.
Если баба Гоня в какой-то день не могла идти сама, мы приносили ей ствольник: дома кипятили воду, обливали свежие листья, заворачивали в ветошку и прикладывали к бабкиной спине – так ей становилось легче. А она всякий раз напоминала нам, что ствольник ядовит и чтоб мы были с ним очень осторожны.
После Купалы поспела черника, и мы стали приходить из леса с черными от ягод ртами. Мы с Эльгой очень любили бродить с туесками вокруг сосен, перебираясь от одной кочки к другой с грабилкой в руке; брат Аська ходил впереди нас и шевелил в черничнике палкой, чтобы выгнать змей, если они там затаились.
Мы рассказывали друг другу какие-то сказы, которые сочиняли на ходу, и иногда спорили, «как было дальше». Побеждала обычно Эльга: у нее уже тогда был такой вид, будто она лучше всех все знает, и с ней всегда соглашались не только я, но и Аська.
Вояна в то лето с нами не ходила: она стала достаточно взрослой, чтобы работать на сенокосе. Особенно усердствовать, как простых девок, ее не заставляли, чтобы личико солнцем не пожгло, но появляться на покосе ей было надо, а то слух пойдет, будто невеста никуда не годна.
Однажды мы так увлеклись, что забыли и про чернику.
На днях в веси Видолюбье, что неподалеку от нашего Варягина, произошел необычный случай: баба встретила прямо на дороге перед избами белку. А у бабы незадолго до этого умер взрослый сын. И вот вдруг сморил ее сон, и приснилось, будто сын ей говорит: «Иду в гости». Она вышла его встречать, глядь – белка: скачет прямо к дому. Не дошла немного и пропала. Потом искали в огороде, все гряды обшарили – не нашли.
Все думали, что это и был тот покойник, но Эльга не верила.
– Не приходят покойники белками! – твердила она. – Птицами ходят, и мышами, и змеями являются, а белками не могут!
– Но белки и в дом к людям не ходят! Как бы она из леса вышла?
– А может… – Эльга огляделась, будто подбирая для белки подходящую причину для такого путешествия, и замолчала.
И в тишине я осознала то же, что и она: мы тут вдвоем.
Исчезли и Аська, и баба Гоня, и Милутка, и Бобреня, с которыми мы пустились за ягодами.
Никого не видно.
– А где все? – спросила я.
Эльга промолчала.
– А куда идти? – опять спросила я.
Привыкнув, что Аська или баба Гоня нас приводят в лес и уводят обратно домой, мы не очень-то примечали, куда идем.
Заболтались и… заблудились?
– Давай покричим, – предложила она.
Мы покричали, но отклика не услышали и скоро умолкли: стоя вдвоем посреди леса, подавать голос было страшно. Но как же нас найдут, если мы будем молчать?
Пробрала дрожь: лес вокруг был таким огромным, а мы – такими маленькими…
Солнце спряталось, небо посерело.
Мы вдруг озябли: на нас были только сорочки с поясками да белые косынки на головах.
Навернулись слезы, захотелось заплакать.
Я посмотрела на Эльгу: она нахмурилась и явно крепилась. Тогда я сглотнула и постаралась утешиться: нас найдут.
– Кажется, нам… туда. – Эльга показала между двумя кочками, которые мы уже обобрали. – Я знаю! Смотри, где нет черники – значит мы там проходили. Так мы и найдем дорогу!
Я обрадовалась: как она здорово придумала!
Корзины уже казались тяжелыми, но бросить их мы не решились: получится, попусту сходили. И мы потихоньку двинулись через лес, внимательно оглядывая кочки и выбирая те, что были обобраны. Иногда мы расходились, но не далее чем шагов на семь-десять, чтобы не терять друг друга из виду.
– Иди сюда! – позвала меня Эльга. – Куда ты забилась?
– Ты иди сюда! Здесь все обобрано.
– Это здесь все обобрано, нужно сюда!
По привычке уступать первой я подошла: кустики на кочках перед ней тоже были пусты.
– Это не мы тут ходили, – заметила я. – Это обобрали уже давно.
– Ну, значит, ходил кто-то другой. И он тоже ведь пошел потом домой?
– А может, он живет вовсе не у нас?
– Ну и что? Найдем хоть какое жилье, а там нас выведут. Наших отцов все знают. А еще больше – деда Судогу!
Конечно, о княжеских внучках люди бы позаботились и проводили домой, но мы никак не могли решить, в какой стороне нам этих добрых людей искать.
Вдруг что-то зашевелилось в кустах в десятке шагов от нас: от неожиданности мы вздрогнули и я, кажется, даже взвизгнула.
Это что-то показалось нам огромным, мы в ужасе отшатнулись и прижались к сосне.
Лапы молодых елей раздвинулись, и перед нами очутился… медведь.
Увидев его огромную тушу в бурой шкуре и оскаленную пасть, я пискнула, крепко вцепилась в Эльгу и зажмурилась. Во мне еще живо было младенческое убеждение, что таким способом можно избавиться от любой беды.
Но Эльга оттолкнула меня, схватила с хвои кривой сук и с натугой подняла его перед собой.
– А ну, подойди! – воинственно выкрикнула она. – Ужо я тебя!
– Кто тут шумит у меня в лесу? – низким голосом проговорил медведь. – Кто мне спать не дает?
«Почему он спит – ведь сейчас лето?» – мельком подумала я. Именно это удивило меня в тот миг больше всего.
Что медведь ходит на двух ногах и говорит человеческим голосом, было более-менее понятно: ведь во многих сказах, слышанных нами, с медведем можно было разговаривать. Мы знали, что медведи обнаруживают свой разум не всегда, но то, что они вообще его имеют, считали естественным. Жизнь тогда еще не вполне обозначила для наших семилетних умов границу между тем, что бывает обычно, и тем, чего не бывает почти никогда.
Сейчас-то я уже достаточно стара и мудра, чтобы понимать, как зыбка эта граница на самом деле…
Но тогда мы не сильно удивились, а только испугались.
Пожалуй, то, что медведь заговорил с нами, сделало эту встречу еще более жуткой: значит, это не простой медведь, а оборотень, что живет между человеческим миром и нечеловеческим!
А то, что находится между, и пугает сильнее всего.
Эльга от неожиданности даже выронила сук.
– М-мы забл-лудились, – дрожащим голосом, но довольно внятно выговорила она. – М-мы – внучки к-князя. Не ешь нас, он тебя наградит.
– Наградит меня! – медведь хрипло рассмеялся.
Мне показалось, что морда у него какая-то странная: оскаленная пасть с желтыми зубами находится слишком высоко и не двигается, а под ней видно еще что-то, похожее на бороду. В этой-то бороде и шевелился рот, из которого исходил голос. Медведь слегка шепелявил – наверное, клыки мешали.
– Еще кто кого наградит! Это я – хозяин лесной, я девок награждаю и приданым оделяю. Вот такое дело… Которая мне послужит хорошо, ту я самым дорогим подарю: будут у нее рождаться ребята, здоровые, как медвежата! Но это вам пока рано ведать.
– Нам приданого еще не надо, – более храбро ответила чуть ожившая Эльга. – Нам до свадьбы далеко, мы сами наготовим. Проводи нас домой! А мы тебе… чернику нашу отдадим. Смотри, сколько мы набрали.
– Ягоды у меня не счесть – скажу слово, она сама будет с куста прыгать да прямо мне в пасть! – Медведь опять захохотал. – Вот такое дело… Вам до дому далеко, а я устал. Поведу к себе: отдохнем, а там и видно будет. Ступайте за мной.
Он начал было поворачиваться, но заметил – он этого явно ожидал, – что мы не шевелимся и не торопимся выполнить его распоряжение. Тогда он резко обернулся снова к нам и рявкнул:
– А не то – съем!
Мы взвизгнули и схватились друг за друга.
Медведь сделал знак высоким посохом, который держал в лапе, и мы побрели, спотыкаясь, потому что не могли отвести от него глаз.
Он шел сбоку и чуть впереди, показывая дорогу, но часто оборачивался и поводил посохом, будто погонял нас. И мы ковыляли за ним – две бедные, дрожащие овечки. Убежать мы не надеялись: он был такой огромный, что, конечно, догнал бы нас в два прыжка и тогда непременно съел бы.
Я заметила, что наш поводырь хромает. И сразу вспомнилась самая страшная сказка, которую рассказывала баба Гоня: как медведь на липовой ноге пришел к старику со старухой и сожрал их.
Они ждали его, затаившись в темноте избы, а он подходил все ближе, липовая нога скрипела все громче…
Опять накатила жуть, и я еще крепче вцепилась в руку Эльги. Она тоже была бледна, отчаянно сжимала губы; на глазах ее мне померещились слезы – они как-то ярко блестели. Но все же вид у нее был скорее взволнованный и решительный, чем испуганный. И я сказала себе, что не должна бояться, иначе она потом будет смеяться надо мной.
Ведь Эльга, как я уже говорила, в то время составляла для меня не менее половины мира, и пока она оставалась со мной, все было пусть не совсем хорошо, как нынче, но и не так уж плохо.
Впоследствии я узнала, что наши отцы все же согласились на «медвежьи каши» при условии, что мы будем вместе, а значит, не так сильно испугаемся, как поодиночке. Уговорили их наши матери, особенно стрыиня Домаша, которая тоже проходила «медвежьи каши» перед своим первым замужеством и уверяла, что именно это посвящение помогло ей решиться на второй брак – с самим Вальгардом.
– Пойми, для меня жених-варяг был все равно что медведь из лесу! – говорила она. – Но как я уже побывала в лесу, встречала медведя и знала, что с ним в конце концов можно поладить, то и не сильно боялась. Кабы не эта наука, я бы лучше в реку бросилась, чем за тебя пошла! А теперь вот живем хорошо, детей растим.
Стрый Вальгард считал, что эти замшелые глупости давно пора выкинуть к лешему, но жена все же уломала его, уверяя, что это безопасно. Зато Эльге, княжьей внучке, будет гораздо больше почета и в девичестве, и в замужестве!
В итоге Вальгард согласился, рассудив, что будущей судьбы дочери не может предугадать даже он сам, и не стоит заранее отрезать ей путь к иным вершинам… Ведь происхождение ее от князя плесковских кривичей и воеводы варяжской дружины открывало перед Эльгой немало возможностей.
И вот мы, держась за руки и волоча корзины с черникой, пробирались по лесу за хромающим медведем.
Мы шли безо всяких тропинок, то по плечи в зарослях, то перебираясь через завалы бурелома, и вскоре отчаянно устали.
Раз или два мы прошлепали по хлюпающей во мху воде, наши поршни совсем промокли.
Споткнувшись в очередной раз, я отсыпала наземь половину ягоды из своей корзины – все же легче нести.
Я выбилась из сил; казалось, дремучий лес сомкнулся за нами навсегда, отсюда нет пути назад!
Никогда мне больше не увидеть Люботину весь и наше Варягино, и мать, и Вояну, и бабу Гоню, и Аську с Кетькой. Куда же делись наши провожатые: потеряли нас и теперь ищут? А что, если медведь сначала съел их, и нет у нас больше бабы Гони и брата Аськи?
Но мысль эта была так страшна, что я отогнала ее.
Аська сильный и проворный – он убежал! А бабка умная – она нашла дорогу домой. Теперь она уже рассказала нашим отцам, что мы пропали, и они пошлют дружину нас искать. Успели бы еще вовремя…
Но поделиться этими мыслями с Эльгой я не решилась: как бы не услышал медведь.
– Ну, что вы еле бредете? – Медведь обернулся с недовольным видом. – Люди вы или курицы мокрые? Ноги у вас есть?
И тут мы обе расплакались: сколько мы ни крепились, смертельная усталость, растерянность, испуг взяли свое. Мы просто сели на рыжую хвою с мелкой травкой и разревелись в три ручья, пряча лица на плечах друг у друга.
Это был конец: от изнеможения мы не могли даже шевельнуться.
– Ну вот еще! – недовольно проворчал медведь и направился к нам.
Мы зарыдали еще пуще, в последнем приступе отчаяния, уверенные, что сейчас он возьмет и откусит нам головы. Мы тогда уже знали, что медведь начинает есть человека с головы.
Как вдруг он подхватил меня одной рукой, Эльгу – другой, и закинул себе на плечи, будто мешки!
И понес дальше в лес, широко шагая и словно не замечая ноши.
От изумления мы даже было перестали плакать. Только две корзины с черникой остались сиротливо стоять под сосной.
Я закрыла глаза.
Висеть на плече было больно и неудобно, я шмыгала носом и вытирала его рукавами. Платок уже совсем сбился на шею, растрепанные волосы липли к лицу: никогда в жизни я не чувствовала себя такой несчастной.
За что? Я же ничего не сделала!
Мы ничего не сделали!
Мы слушались, не шалили, ничего не расколотили, вязали чулки и ткали пояса, смотрели за Кетькой… Раньше я была убеждена, что такие вещи случаются только с непослушными девочками, и вот… такая несправедливость!
Словом, я была разбита вдребезги и выброшена, как черепки от горшка – в мир мертвых…
Но вот медведь остановился и сгрузил нас на довольно мягкий мох.
После путешествия в полуподвешенном состоянии это было почти приятно, наши измученные мышцы получили облегчение. Мы торопливо сели и вытерли глаза, пытаясь понять, куда попали.
Я огляделась, ожидая увидеть вокруг обглоданные кости… и да, я их увидела.
Казалось бы, по пути сюда я пережила весь возможный страх – но нет!
Теперь волосы у меня зашевелились от ужаса, а к глазам, уже вроде бы иссушенным, прихлынула новая волна слез.
Кости были повсюду – они валялись кучками на моховой полянке, были свалены, будто хворост, под стенами избенки, до половины ушедшей в землю. Старые, высохшие, выбеленные, они усеивали поляну – ребра, позвонки, длинные трубчатые кости… черепа с оскаленными зубами, обломки рогов…
Иные были не так уж стары, и над ними вились мухи.
От ужаса мы заледенели, наши зубы стучали, мы не смогли бы вымолвить ни слова, даже если бы вспомнили хоть одно. Мы были в мире мертвых, и сейчас его хозяин набросится на нас…
– Ступайте в берлогу! – прорычал медведь, показав нам на вход. – Ну, шевелитесь, живее! А не то – съем!
Мы смутно уяснили, что если «шевелиться», то «съем» не будет… или будет не сейчас. Встать не вышло – не держали ноги, – и мы на четвереньках поползли к чернеющей дыре входа, повизгивая, будто щенки, наступая на подолы сорочек, и без того уже изгвазданные.
Избушка была совсем маленькой и низкой: серые бревна, зеленый мох и поросль на крыше. Двери не было вообще: просто черный провал. В этот провал мы скатились по двум-трем земляным ступенькам, а там отползли в угол и замерли, прижавшись друг к другу.
Наверное, сейчас он запрет нас здесь, чтобы съесть, когда проголодается…
Потом стало темно: это медведь заглянул в берлогу, загородив дверной проем.
Мы чуть слышно запищали от страха.
– Топите печь, берите просо, варите кашу, – приказал он. – А я пойду еще в лес, дров принесу. Как вернусь, чтоб все было готово. А не то вас самих съем, уж больно живот подвело! Вот такое дело…
В проем опять пролился дневной свет – медведь отошел.
Мы немного перевели дух: страшная гибель откладывалась.
Варите кашу… Кашу? Медведь ест кашу? Дома мы уже справлялись с этим делом – особенно вдвоем. Но там мы все знали: где что лежит и как за что приниматься. А тут?
– У него должна быть печка… – шепнула Эльга. – Если он велел варить…
– Здесь? – я огляделась. – Какая же тут печка?
– Смотри, вот там, в углу, что-то такое…
Глаза попривыкли к полутьме, и я тоже разглядела в дальнем углу высокую груду камней.
Опираясь на меня, Эльга встала на ноги; я встала тоже, придерживаясь за стену, хоть и боялась, что из щелей сейчас полезут мокрицы, пауки, а то и что похуже.
Осторожно ступая и спотыкаясь во тьме о какой-то мусор на полу – я подозревала, что это тоже кости, – мы пересекли избушку. В другом ее конце действительно оказалась печка-каменка, а возле нее – небольшая кладка полешек, кучка наколотой лучины и свернутые куски бересты.
– Здесь есть огниво? – Эльга обернулась было ко мне, потом вдруг схватилась за берестяной коробок на поясе: – Так у меня же есть!
Открыв коробок, она вытащила огниво и даже засмеялась от неожиданной радости. Некоторое время назад ей его подарил отец, и мы чуть не каждый день заново им любовались. Это была чудная вещь, которую стрый Вальгард когда-то купил еще на родине, за морем. Он считал, что огниво приносит удачу, поскольку на нем изображен сам Один со своими двумя всезнающими воронами. Огниво представляло собой отлитую из бронзы фигурку сидящего мужчины, к голове которого склонились две большие птицы, а ниже, служа фигуркам основанием, крепилась полоса железа. Огниво было удобно держать в руке, а еще оно было очень красиво и внушительно. Даже взрослые считали его настоящим сокровищем, что уж говорить о детях! Мы все согласились, что Эльга одарена особой удачей, коли ей досталось такое. Стрый Вальгард сам учил нас всех разводить огонь.
– Глупый медведь не догадался отнять у меня Одина! – с торжеством шепнула мне Эльга. – А пока с нами Один и вороны, он нам ничего не сделает!
Тут и меня немного отпустило.
Медведь исчез с глаз, даже ни разу нас не укусив, а Эльгин Один с воронами был при нас и, разумеется, поможет!
И все-таки было страшновато. Справимся ли?
– Разведем огонь, тогда будет лучше видно, – сказала Эльга. – У него должен быть трут, как ты думаешь?
Я огляделась: если трут и был, то отыскать его в темноте мы едва ли сумеем. Это не дома, где, не глядя, протягиваешь руку и находишь любую вещь именно там, где ей положено быть.
Эльга подумала и решила: обойдемся без трута!
В щелях между бревнами торчали длинные пряди мха, выбеленного временем. Мы нащипали его, Эльга достала кремень и стала стучать по нему огнивом: скользящими движениями, будто чиркая, как учили…
Я сидела рядом на коленях, готовясь раздувать искры.
Получилось у нас не сразу: то она стучала, а я раздувала, потом наоборот, потом – опять наоборот…
Дома мы бы уже сдались и позвали кого-нибудь на помощь, но тут звать было некого, а медведь обещал нас съесть, если не справимся. Даже чтобы к нам явилась мышка-щурка, надо сначала приготовить кашу, а для этого нужен огонь!
Наконец боги и чуры над нами сжалились: мох затлел, крошечный лепесток пламени переполз на подсунутый усик бересты. И вот огонь запылал внутри печи: у нас будто гора свалилась с плеч. Захотелось заплакать от облегчения, но вместе с этим пришла мысль – это только начало!
Мы принялись топить печку, объединяя наши знания, навыки и усилия. Дым шел наружу через дверь, и мы кашляли, стараясь от него уклониться.
Горшок с водой нашелся на полу у стены. Нам очень хотелось пить, но мы не решились: ведь это могла оказаться мертвая вода! Из домашней утвари у медведя была только укладка, старая и изъеденная жучком, с большими щелями между досками. В укладке, светя лучинкой, мы нашли две-три миски, связку старых облезлых ложек, частично сломанных, и мешок с просом.
Очень долго мы ждали, пока вода согреется, потом догадались отлить немного: для крупы ведь тоже требуется место!
Вода закипела; мы немного поспорили, сколько нужно крупы на такой горшок, и долго подсыпали «еще чуть-чуть». Дома полагалось класть соль, но мы уже знали, что для чуров пищу не солят.
Когда, по нашим представлениям, каша должна была быть готова, я хотела попробовать, но Эльга мне не разрешила:
– Это же пища мертвых! Хочешь остаться здесь навсегда?
В избушке резко потемнело: это вернулся медведь и загородил дверной проем. Мы опять испугались, хотя за работой, без присутствия страшного хозяина, приободрились.
– Ну что, мыши дурацкие, готова каша? – прорычал он. – Подавайте, попробую. Ну, если будет невкусно…
«Съем!» – мысленно продолжили мы.
– Вот такое дело…
Я придерживала горшок драной ветошкой, а Эльга взяла самую большую миску и при помощи липовой ложки наполнила ее кашей. Варево наше так загустело, что с трудом цеплялось на ложку, и издавало легкий запах гари. Масла мы не нашли никакого, даже льняного, но тут уж медведь сам виноват: его дом, его и припасы!
Медведь уселся прямо на пол, на кучу шкур, из-под которых торчала сухая трава: видимо, это была его лежанка.
Эльга поднесла ему миску, стараясь держать ее сквозь рукава: не только потому, что боялась обжечься, но и из иных, высших соображений. Не решаясь подать еду прямо хозяину, она поставила миску перед ним на землю, положила сверху ложку, поклонилась и даже сумела выговорить:
– Кушай, батюшка.
Медведь заурчал и принялся есть.
Он даже воспользовался ложкой.
Мы ждали с замиранием сердца: сочтет ли он нашу стряпню хотя бы просто съедобной?
И теперь еще я с ужасом думаю, что за каша у нас тогда получилась…
А тогда я отметила мимоходом: медведь держит ложку вполне человеческими пальцами, которые только сверху прикрыты шкурой его передней лапы, будто рукавом. И ложку с кашей он сует не в зубастую пасть, а под ней, будто в горло, где у него тот рот, что с нами разговаривает.
Но в то же время я понимала, что это не важно. Медвежья шкура означала, что перед нами медведь. Так к нему и следовало относиться.
Он доел кашу, выскреб дно миски, потом облизал его и удовлетворенно вздохнул:
– Ну ладно… Не буду вас есть пока.
– А ты отведешь нас домой? – спросила Эльга. – Ты же обещал.
– Придется отвести.
Медведь отложил миску и встал, почти уперевшись головой в черную кровлю:
– Собирайтесь.
Собираться нам было недолго: пригладили волосы да снова повязали платочки.
Медведь полез в светлый проем, мы – за ним, торопясь, пока не передумал.
Снаружи оказалось, что уже вечереет: мы вышли из дома очень рано, однако длинный летний день почти миновал.
Мы и не удивились – нам казалось, что наши злоключения продолжаются долго-долго. И опять испугались: скоро ночь!
Медведь без дальнейших разговоров двинулся широким шагом, хромая, куда-то прямо в чащу, а мы устремились за ним.
Сюда он принес нас на плечах, и страшно было думать о том, чтобы проделать обратный путь пешком. К тому же мы устали и проголодались: после домашней утренней каши мы ели только чернику перед тем, как заблудились. Вскоре мы уже еле волочили ноги, и медведю приходилось все время оборачиваться и подгонять нас.
А темнело, как нам казалось, быстро: закат еще сиял багряным золотом сквозь вершины, но внизу было уже так сумрачно, что мы едва различали дорогу и держались за руки, боясь друг друга потерять.
На ту пору ничего со мной не случалось более тяжкого, чем этот обратный путь в мир живых!
Мы ковыляли на своих натруженных маленьких ногах, обессиленные целодневным хождением, испугом, голодом, жаждой. Даже плакать у нас больше не осталось сил. Горло пересохло, смертельно хотелось пить, но мы боялись сказать об этом медведю. Он может рассердиться, а мы ведь сейчас на том свете – есть ли здесь обычная вода, не мертвая? Голова кружилась, от голода меня слегка мутило, и порой я вообще забывала, где я, что со мной случилось и почему я куда-то иду…
И наступил миг, когда мы одновременно споткнулись, не удержались на ногах, осели на мох и замерли, привалившись друг к другу. Нам уже не было страшно: пусть ест нас, если ему надо, но мы больше не можем даже шевельнуться!
Недовольно ворча, медведь подошел и снова вскинул нас на плечи. Покачиваясь на ходу, среди мрака неизвестности, обессиленная до бесчувствия, я, кажется, заснула, потому что дальше не помню.
Очнулась я оттого, что медведь спустил нас наземь.
Кругом было темно, и меня пронзил ужас: он занес нас под землю!
Однако тут же я увидела: светит полная луна, заливая белым сиянием тропу вдоль берега широкой реки. Это что – Забыть-река?
– Вон там ваш дом! – медведь махнул лапой куда-то вперед. – Мне дальше нельзя, собаки учуют. Ну, бегите живее, пока я не передумал! И в другой раз не попадайтесь, не то непременно съем!
Мы огляделись.
Недавно мы уже видели это место ночью: в это лето нам впервые позволили немного покрутиться у купальских костров, и поэтому сразу поняли, где очутились. Мы были уже на своей стороне брода, на луговине паслось обычно наше стадо, а за нею стоит наше Варягино!
Воодушевленные избавлением от страшного спутника и близостью дома, мы встали и пустились бегом по тропе, даже забыв попрощаться.
Мы бежали с чувством чудесного избавления от неминуемой гибели; остановились только, чтобы выпить воды из реки, – ведь это была уже наша родная река, привычная, живая!
Вода придала нам сил, и вскоре мы увидели знакомые громады темного частокола, окружавшего нашу усадьбу.
Шагов за десять до ворот Эльга вдруг остановилась.
– Подожди! А что, если… прошло сто лет и там все умерли?
– Как умерли? – Я недоуменно взглянула на нее.
У меня упало сердце.
– А вдруг мы пробыли в лесу целых сто лет? Я знаю, так бывает. В мире мертвых все кажется по-другому. Думаешь, что провел там один день, а на самом деле – сто лет.
– Ну… Не идти же назад, к нему… Пойдем, постучимся. Узнаем, кто там теперь живет.
– А вдруг наши мамы уже умерли?
– Зато там живут наши внуки… – Я фыркнула, так мне стало вдруг смешно.
– Дурочка, какие у тебя внуки?
– Ну, у Аськи с Кетькой. Вот мы войдем, а там неведомые люди, и они скажут: наш дедушка был Асмунд сын Торлейва… Может, мы Аську еще застанем!
– Он не проживет сто лет!
– А может, проживет! Он мне говорил, что хочет прожить сто лет!
– Эй, кто там под воротами? – окликнул нас вдруг мужской голос, и я, едва веря ушам, узнала голос своего отца. – Что за люди? Вы не видели двух маленьких девочек? У нас потерялись две девочки, мы боимся, не унес ли их медведь в лес? Их зовут Эльга и Ута.
– Это мы! – завопили мы с Эльгой, от счастья прыгая на месте (откуда только силы взялись). – Мы здесь, здесь!
Вот так в тот раз закончилось наше приключение.
Поначалу мы опасались, что нас станут ругать – зачем, мол, потерялись, бестолковые? – но все обошлось.
Нас обнимали, целовали, умывали, кормили, поили, причитали над нами…
Мы испытывали несказанное блаженство, вновь оказавшись в привычном родном доме, в безопасности, среди близких!
Наутро матери выдали нам передники, и мы стали носить их с гордым чувством, что отныне мы – не детища, а отроковицы! Мы и правда изменились после этого дня. Стали как-то по-иному смотреть на мир. Наши маленькие семилетние душонки содрогнулись от встречи с неведомым, на миг выглянули из своих обиталищ и вернулись обратно не совсем такими, как прежде.
Я и сейчас ясно помню все: наш смертный страх, решимость безысходности, торжество каждой малюсенькой победы…
Мы стали ощущать себя старше и уже с чувством превосходства смотрели на тех, кто, пусть даже будучи взрослее нас годами, не был в лесу и не варил кашу медведю. Побывав за гранью, теперь мы знали кое-что, недоступное простакам. Но не надо думать, что мы загордились.
Образ страшного медведя, ждущего в лесу, заставлял нас еще усерднее учиться, постигая премудрости домашнего хозяйства и рукоделия. Как знать, чего он потребует в следующий раз? А не справимся – съест.
Ведь он оказался гораздо ближе, чем мы думали в детстве.
Глава 2
Низовья Ловати, 14-й год правления
князя Дивислава
Зимой, когда реки покрываются льдом и с одной на другую можно проехать просто на санях, обозы торговых гостей тянутся с юга на север почти непрерывно. Завидев на реке очередной обоз, люди съезжаются из лесных весей: привозят на продажу добытый за зиму мех, сотканные бабами полотна, меняют на соль, красивую посуду, полосочки ярких шелковых тканей, блестящие бусы из стекла и камня. Кунья шкурка меняется на серебряную монету – ногату: иные просто дарят ногаты женам в ожерелья, иные отдают кузнецам, чтобы перелили на перстни и браслеты. Старейшины и малые князья приглашают проезжающих на пиры: угощают, расспрашивают о новостях – порой не менее ценных, чем товары, – получают и дарят подарки.
После того как прекратило свое существование Белогорье на Маяте, куда по восточному берегу Ильменя вела сухопутная дорога, те места заметно обезлюдели, и ныне через устье Ловати лежал единственный путь в Ильмень-озеро и дальше на север. Варяги ездили здесь постоянно, и целые роды кормились тем, что поставляли им припасы, чинили сани и лодьи, обеспечивали всем необходимым, давали проводников.
У князя Дивислава для варягов было поставлено несколько просторных изб возле реки, но в самом Зорин-городке он их на постой не принимал. Он первым завел собственную дружину для поддержания порядка на торгу и охраны путей, отказавшись от найма воеводы-русина. Свой род он вел от старшего из троих братьев, которых звали Зоря, Полудень и Вечерко. Каждый год, на Коляду, на княжеском пиру непременно рассказывалась повесть о братьях, которых отец, Дунай-князь, послал на север искать себе доли. Старший, Зоря-князь, добыл себе в жены берегиню реки Ловать и осел ближе к устью. Двое младших ушли по восточному берегу Ильменя и поселились там. До нынешнего века дожил только род Зори, и Дивислав полагал себя наследником дедней славы, ответственным за то, чтобы не уронить ее под напором все сильнее наседающей руси.
Снарядился Зоря-князь, Едет по полюшку, по чистому, Едет по лесу, да по зеленому, Одолела его жажда нестерпимая, Ищет молодец да быстрой реченьки, Быстрой реченьки, ручья бегучего. День искал, другой искал А на третий говорит ему конь-огонь: Не ищи ты, Зоря-князь, быстрой реченьки, Не ищи ручья ты бегучего. Затворила все ручьи да реченьки Берегиня-водяница, ведьма лютая. Затворила двенадцать рек, двенадцать ручьев, Придавила белым камешком, А сама и спать повалилася. Вопрошает Зоря-князь своего коня: – Где сыскать мне ту водяницу, ведьму-лютую?В обчине Зорин-городка стояла тишина, нарушаемая только размеренным голосом гусляра. Хотовид, волхв и сказитель, был дальним родичем Дивислава и в каждую Коляду заново пел сказание о своем былинном предке. И все, кому хватило места в княжьей обчине – родичи во всех коленах, домочадцы, старейшины окрестных родов, наиболее знатные из торговых гостей, кому случилось пережидать здесь праздники солоноворота, пока нельзя было трогаться в путь, – затаив дыхание слушали о том, как зародилась жизнь в этом краю, откуда пошли роды, населяющие ныне берега Ловати.
Как ударил Зоря-князь да по дереву, Разлетелося дерево да по полешечкам, А полешечки – да на щепочки. Пробудилася тут ведьма лютая, Закричала она да громким голосом: – А и кто такой не дает мне спать-почивать? Буде зверь лесной – со шкурой съем, Буде добрый молодец – с костями съем. Да и стали они да биться-ратиться, Только гром гремит, да земля дрожит. Горы белые содрогалися, Леса дремучие всколыхалися, А что зверя было – все бегом бегут. Одолел Зоря-князь ведьму лютую, Бросил на сыру-землю водяницу. Отвалился тут белый камешек, Потекли ручьи да реки чистые, Двенадцать рек, двенадцать ручьев, А тринадцатая – сама Ловать-река. Достает Зоря-князь свой булатный нож, Хочет резать-бить ведьму лютую. А и видит вдруг диво-дивное: Нету ведьмы злой водяницы, А лежит пред ним дева красная: Она станом стройна, личиком бела, Сквозь рубашку тело видети, Из кости в кость мозг переливается, Будто скачен жемчуг перекатается…И каждый слушатель видел мысленным взором юную девушку дивной красоты: еще не опомнившись после превращения, снявшего с нее злые чары старости и смерти, она лежит, раскинув по траве белые руки, разметав золотые волосы. Грудь тихо вздымается, ресницы трепещут, румяные губы чуть заметно улыбаются в ожидании поцелуя добра молодца, который пробудит ее и даст новую жизнь – ей самой, земле-матушке, роду человеческому…
В душной обчине, где пахло дымом и жареным мясом, будто бы веяло весной.
И яснее всех эту весну видел князь Дивислав – прямой потомок того молодца, который сотворил это чудо и населил берега освобожденной Ловати своими внуками.
Он слышал это сказание каждый год, сколько себя помнил.
Тринадцати лет он остался старшим в роду – воплощением Зори-князя в глазах семьи, рода и племени.
С тех пор как раз минуло еще тринадцать лет.
Теперь это был зрелый мужчина, довольно рослый, крепкий. Не сказать, чтобы он был очень хорош собой: черты округлого лица, на которое волосы с середины лба спускались углом, были правильны, но грубоваты, скулы слишком выступали, серые глаза были широко расставлены. Но короткий прямой нос облагораживал черты и придавал им приятность. Во взгляде князя отражались ум, решимость и твердость и в то же время – дружелюбие.
Судя по тому как посматривали на него гости, именно таким они воображали древнего витязя, слушая «Сказание о Зоре и Водянице».
Дивислав тайком взглянул на жену.
Всевида, его ровесница, уже принесла ему пятерых детей и теперь ждала еще одного. Десять лет назад, когда он впервые ее увидел под свадебным покрывалом, она показалась ему прекрасной, как та обновленная берегиня. Годы, заботы и частые роды сказались на ее внешности: румянец побледнел, у ясных глаз появились морщины, не хватало нескольких зубов. Но Дивислав все еще видел в ней ту юную красавицу и почти не замечал перемен. Для нее он покупал самые красивые шелка и бусы, и сейчас она выглядела достойной соперницей для любой берегини: на ней было красное платье из греческого шелка с крупным узором в виде пар оленей, обращенных друг к другу мордами; по рукавам, подолу и вороту шла полоса желтого шелка с красным узором в виде распускающегося побега; голову ее покрывал длинный убрус белого шелка. Пояс Всевиды был тоже соткан из красных и желтых шелковых нитей, а на шее висела снизка бус из медового сердолика и желтого стекла с «глазками» – эти бусины считались не только украшением, но и сильным оберегом, и каждая из них стоила целую кунью шкурку. При огне бледность лица женщины была почти незаметна, зато шелка сияли, будто солнце!
Здесь, на торговом пути, все привыкли к самитам да паволокам; даже старейшины ближних гнезд и их жены, не имея средств на настоящее греческое платье, шили дома такое же изо льна и домокрашеной шерсти собственной работы, пуская привозной шелк лишь на отделку. И сейчас среди гостей таких щеголей было с десяток; приверженцы дедовых обычаев, одетые в поневы и обычные белые сорочки, косились на них – не то с неодобрением, не то с завистью…
Все уже знали, что княгиня опять тяжела – даже под широким платьем это было заметно. Беременность давалась ей нелегко: она часто хворала и недавно, как встал санный путь, вызвала к себе свою старшую сестру Держану, уже вдову, чтобы ухаживать за ней и помогать по дому. Держана приволокла с собой троих детей, так что в доме теперь было не протолкнуться от ребячьей возни и писка. Но Дивислав не роптал: это было будущее его рода, его племени.
Все восемь мальцов сидели, притихнув, вокруг матерей и слушали, вернее, впитывали своими незрелыми умишками то, что божественным лучом осветит им дорогу в жизни.
После сказаний снова подняли чаши за предков, попросили у богов и чуров благословения потомкам.
Потом пошли уже разговоры о том, о сем, о делах житейских…
– Что там в Киеве? – спрашивал князь у Бодди, торговца-варяга, которого кривичи звали Будиной. – Видели князя Олега?
– В этот раз я не видел князя Олега… Кажется, он был на охоте, – с важностью ответил Бодди, который никак не желал признаться, что князь просто не звал его к себе, а ограничился присылкой, как и ко всем, сборщиков мыта. – Но я могу ответить, думаю, на любой вопрос.
Это был мужчина уже зрелый, довольно грузный, хотя не толстый, рослый, с широким лицом, черными бровями. Из каких мест он был родом, никто толком не знал: имя у него был северное, на северном языке и на словенском он говорил одинаково свободно, но бороду брил, оставляя темные усы подковой до самого края нижней челюсти. Держался он всегда горделиво и постоянно возил с собой пару молодых рабынь; каждый год новых.
– Как у него дела? – продолжал князь. – Что деревляне?
Дивислав знал, что в тот самый год, когда Олег-младший занял киевский стол, ему сразу пришлось отправиться на войну.
У Олега Вещего с деревлянскими князьями был заключен договор о дружбе и совместных походах – еще лет двадцать назад они вместе ходили на Царьград и привезли огромную добычу.
Но после его смерти, разумеется, деревляне сочли договор расторгнутым и потребовали заключить его на новых, более выгодных для них условиях: чтобы киевский князь принимал их купцов задаром и сам снабжал лодьями для пути через море. Олег Моровлянин, конечно, никак не мог начать свое княжение с уступок, и деревляне пошли на него ратью. Киевское войско, растерянное потерей прежнего непобедимого полководца, было разбито, Олег оказался вынужден принять унизительные условия. Поляне приуныли: казалось, вместе с Вещим их покинула удача и возвращается прежнее убожество.
Чего доброго, опять хазары за данью явятся…
– Но в Киеве говорят, что скоро с этим унижением будет покончено! – оживленно рассказывал Бодди. – Я слышал, на будущее лето готовится поход. Князь Олег обижен, что его родичи с Ильмень-озера не прислали ему никакой помощи, но теперь князь Ингвар, брат княгини, уже почти взрослый и сам намерен идти в поход на деревлян.
– Взрослый? – удивился Дивислав. – Я же помню, он уехал туда совсем мальцом.
– Сколько лет назад это было! – улыбнулась Всевида. – Ты забываешь, как быстро время течет. В тот год как раз наш Солоня родился, а ему уже пять.
– Князь Ингвар получил меч год назад! – добавил Бодди. – Не удивлюсь, если он скоро женится, особенно если боги пошлют ему удачу в походе и случай проявить себя! Я ведь слышал, он уже давно обручен с какой-то девушкой знатного рода.
– Да, – кивнул Дивислав, – с дочерью… то есть внучкой плесковского князя.
– Уже не внучкой, а племянницей, – поправил Хотовид. Отложив гусли, он теперь сидел на почетном месте за княжьим столом и подкреплялся медом двадцатилетней выдержки и жареной вепрятиной с кислой капустой. – Старый Судога умер летом, теперь там его сын Воислав в князьях. А за Ингвара волховецкого они просватали дочь Воиславовой сестры.
– Ну вот! – поддержал довольный Бодди. – Значит, ему осталось только доказать, что он уже взрослый мужчина, и можно будет готовить свадебный пир. Хотел бы я на него попасть!
Дивислав переглянулся с Хотовидом, и оба из вежливости к гостю спрятали усмешки. Прочие ухмылялись более откровенно: «Как же, дожидайся!»
Несмотря на свою внушительную внешность, Бодди уважением не пользовался: это был жадный, тщеславный человек с недобрым взглядом. Вид у него был довольно мрачный, но хвастливость делала его разговорчивым. Здесь его знали уже достаточно хорошо: настолько, что ему приходилось платить мыто несколько больше обычного, лишь бы его вообще пустили на Ловать.
Нудогость, старейшина гнезда Требонежичей, с негодованием отворачивался всякий раз, как Бодди подавал голос: три весны назад у него пропали с луговины две девки, а последними чужаками, проезжавшими через угодья, был Бодди со товарищи. Доказать их вину тогда не удалось – девок ведь мог и леший заманить, – но дед Нудята до сих пор держал зло на варягов и не имел с Бодди никаких дел. Говорил: «Лучше с кашей съем своих бобров, чем этому шишку лысому продам».
– А что? Я такой человек, что меня на любой пир позвать не стыдно! – разливался соловьем Бодди, не замечая недобрых и насмешливых взглядов. – Я ведь не какой-нибудь растяпа, что весь век просидел в своем углу и думает, будто мир кончается за рекой! Я умею и хорошо одеться, и вести занимательную беседу. Мне есть что показать людям!
– Жене своей, видать, показать нечего! – шепнула Держана на ухо Всевиде, и на бледном лице княгини появилась улыбка.
– У меня даже пес умнее иного человека! Он ездит со мной во все поездки, и плохо придется тому вору, который подойдет к моим товарам. В Миклагарде он однажды прогнал целую ватагу. А у меня там были немалые сокровища! Вот что мне подарили в Миклагарде! – Бодди, уже довольно пьяный (умеренность за столом в перечень его достоинств не входила), вытащил из-за пазухи какую-то цепь или ожерелье и поднял повыше, чтобы все могли посмотреть. – Это мне подарил один знатный человек на пиру… Меня приглашал в гости один куропалат…
– К курам в палату? – охнула изумленная Держана, и весь стол разразился хохотом: так и представился Бодди, сидящий на полу в курятнике и важно держащий речи среди домашней птицы.
– Да что бы вы понимали, женщины! – Бодди взмахнул своей добычей. – Да любая из вас бы переспала с лешим ради такой награды!
– А ты-то с кем за него переспал? – крикнул Нудогость, ради такого случая соизволивший заметить своего неприятеля.
– Я? – Бодди взвился от негодования. – Да я получил в подарок! Это мне подарила одна знатная женщина, которая служит самой деспине!
– Чьей спине она служит?
– Она полюбила меня… Она сказала: «Ты, Бодди, такой достойный человек, что всех сокровищ для тебя будет мало! А пока возьми хоть эту безделицу…»
– Сам ты безделица!
– А ты старый лешак, борода веником!
Нудогость был уже стариком, и седые волосы вздымались у него над залысым лбом, будто белое пламя. Но его морщинистое, раскрасневшееся от меда лицо выражало решимость и негодование; он был для своих лет еще очень крепок и бодр как телом, так и духом.
Без раздумий он ринулся вперед и накинулся на Бодди; оружия ни при ком на пиру не было, но свалка вышла знатная.
Товарищи Бодди пытались вступиться за него, кривичи хватали их за руки; опрокинули два стола, посуда полетела на пол и уже захрустели под ногами черепки; женщины подняли вопль, взвились крик и брань.
Кто-то торопливо топтал лужицу горящего масла на полу из опрокинутого светильника, пока не вышло пожара.
Цепь, которой хвастался Бодди, выпала из его руки и отлетела почти к княжескому сиденью. Кто-то поднял ее и вручил Дивиславу – пока не затерялась. Князь глянул, потом показал жене и Держане, которые с любопытством тянули шеи.
Это оказалось ожерелье.
Тут Бодди не преувеличил: каким бы путем на самом деле ни попала к нему эта вещь, ее следовало счесть настоящим сокровищем.
Ожерелье составляли восемь крупных бусин, похожих на плоские бочонки; они были вырезаны из полупрозрачного камня насыщенного зеленовато-голубого цвета. Между ними были вставлены девять округлых, гладких белых жемчужин размером с ягоду. Сквозь каждую бусину или жемчужину был пропущен золотой стерженек, с двух концов загнутый петелькой; эти петельки цеплялись одна к другой, скрепляя ожерелье. Застежкой служили золотой крючок и колечко, а каждый из них со своей стороны крепился к круглой бляшке из чистого золота. Бляшки, похожие на золотые монетки, покрывал сквозной тонкий узор в виде побегов и цветов. В середине ожерелья красовалась золотая подвеска в виде креста, тоже покрытая растительным узором и украшенная жемчужинами.
Даже у княгини, повидавшей немало дорогих вещей, захватило дух при виде такой красоты, и она не сразу сумела передать ожерелье обратно в руки мужа.
Драка меж тем прекратилась: противников разняли, развели по углам, умыли, напоили водой.
Нудогость все еще грозил оторвать Бодди все, что болтается, тот отвечал, что никогда больше в жизни не приедет к «этим невежам»…
Князь передал ему ожерелье, и тот удалился, провожаемый напутствием Держаны:
– А к глазу сырого мяса приложи, хорошо помогает, синяк быстрее сойдет!
Словом, пир удался.
О нем еще говорили несколько дней спустя, когда княгиня Всевида с сестрой и челядинками вышла прогуляться по берегу – размяться и подышать.
Все восемь детей возились под заснеженным обрывом: рыли пещеру, чтобы играть в «подземельного мамонта». В отдалении на пригорке пылал огонь: это горели праздничные костры на валах святилища. Но их оставалось только три: в знак того, что через три дня закончатся двенадцатидневные торжества солоноворота.
Здесь, у реки, вытянулись просторные избы и клети: в избах жили торговые гости, в клетях хранились их товары. Под длинным навесом лежали сани и стояли лошади, вдоль ограды прогуливались сторожа.
Сегодня Всевида чувствовала себя совсем здоровой и, как всегда, надеялась, что теперь уж доносит до срока безбедно. Держана вела сестру-княгиню под руку, чтобы не споткнулась. Она была старше лет на пять; внешне сестры были очень похожи, всякий признал бы в них единую кровь. Среднего роста, не пышные, скорее жилистые женщины, с рыжеватыми бровями, веснушчатыми носами, они были не так чтобы очень красивы, но миловидны. Держана уже сильно поблекла, лицо ее высохло и утратило румянец, три передних зуба потерялись, но она была бодра и жаловалась гораздо меньше, чем многие вдовы, оставшиеся с малолетними детьми.
– Я во сне сегодня видела, будто тебе двойню принести, – сказала вдруг она, оглядевшись сначала, не слышит ли кто. – Сына и дочку.
– Ох ты! – Весвида в изумлении глянула на нее. – Вот чего не хватало!
– А я думаю: похоже на правду! Живот у тебя как скоро вырос, а не понять, кто там: то одно думаешь, то другое.
– Да ладно, у нас уже и дочки, и сыночки есть, теперь кто ни будет – и слава Суденицам! Обошлось бы… Да у нас и не было в роду двойни ни у кого…
– Была, ты забыла. Гостяна, бабки Солокрасы младшая сестра, дважды приносила по двойне! А ты уже не молодица: это точно, что у баб на возрасте чаще двойни случаются. Правда, я про одну слышала, у той двоен было не то пять, не то шесть…
Держана всегда «слышала про одну» и знала неисчислимое множество случаев, примет и средств для всего на свете. А также помнила всю родню, свою и покойного мужа, не хуже самих Судениц. Здесь, в Зорин-городке, она всякий вечер вела долгие беседы с местными бабами: неустанно расспрашивала, кто кем кому приходится, с искренним любопытством разглядывала свадебные «родовые полотенца», охотно извлекаемые для этого из укладок, и разбирала родовые дерева старейших местных семей. Можно было не сомневаться, что вскоре она будет знать всю родню Дивислава лучше его самого.
Они дошли уже почти до крайних изб гостиного двора.
На широком пустыре перед ним зимой и летом нередко шумели торги – всякий раз, как придет очередной обоз. Сейчас снег был истоптан и примят – на недавних праздниках тут устраивали игрища, «медвежью борьбу» с настоящими медведями и поддельными. Глянув на пустырь, Держана фыркнула: вспомнила, как смешно ряженый «медведь» гонялся за молодыми бабами, норовя опрокинуть в снег и задрать подол.
Всевида тоже хотела сказать что-то веселое, обернулась… и вдруг резко втянула в себя воздух.
От ограды навеса прямо к ним стрелой несся огромный пес грязно-желто-бурой шерсти – с широченной мордой, черной, будто его окунули в сажу, ростом человеку по пояс.
Он летел по примятому снегу, молча, нацелившись на двух женщин.
Всевида только охнула, покачнулась и рухнула на снег без памяти. А Держана, поначалу обомлев, быстро опомнилась и завопила во все горло.
То ли псу не понравился крик, то ли он с самого начала так и собирался поступить, но, не добежав до женщин шагов пять, зверюга вывернула петлю и помчалась обратно к ограде.
Наверное, псу велели охранять сани, вот он и отгонял посторонних.
А Держана продолжала вопить, стоя над Всевидой, которая лежала на снегу:
– Ой, убили, погубили княгиню, да что же это делается, звери лютые…
От ограды бежали трое мужчин – варяги из дружины Бодди; от вала святилища мчался еще кто-то, путаясь в полах длинного овчинного кожуха.
Из городца их еще не заметили.
Увидев людей, Держана перестала кричать, села на снег рядом с сестрой и попыталась привести ее в чувство, легонько похлопывая по щекам.
– Что же вы делаете-то, чудики вы лихие, юды вы беззаконные! – ругала она подбежавших, но вполголоса, чтобы не пугать еще сильнее княгиню. – Убили, совсем загубили! Да разве ж можно таких псов страшенных без привязи держать! А если бы он нас тут растерзал обеих? Вот князь узнает, он вас в бараний рог скрутит! Давайте, несите в город, что уставились? Так ей и лежать на снегу, пока совсем не помрет?
– Это сторожевая собака! – попытался оправдаться один, по имени Эйлак. – Она охраняет товар…
– Очень княгине нужен ваш товар! Пусть бы за загородкой бегала или на привязи. А как можно такую чудищу среди бела дня на воле держать! А если бы ребенок попал? Да она его в один присест заглотнет! Осторожнее поднимай, это тебе не репы мешок!
Второй варяг, покрупнее и посильнее, поднял Всевиду и понес к городцу.
К ним подбежал Видимер, прибиравшийся в святилище после праздников; Держана послала его вперед, чтобы приготовить лежанку, а сама шла рядом с Хавгримом, несущим княгиню, заламывала руки и вполголоса причитала.
Почуяв что-то ужасное, все восемь их отпрысков бросили игры; старшие умчались в городец, громко вопя: «Княгиня умерла!» – и призывая отца, а младшие облепили Держану и заревели с ней заодно.
В воротах сам Дивислав выскочил навстречу и перенял у варяга жену. Увидев его, Держана тут же перестала причитать, стала успокаивать: напугалась, мол, княгиня, вот и сомлела, это бывает, ничего, обойдется…
На варягов князь только глянул, но так, что они тут же кинулись прочь.
Всевиду уложили, раздели, растерли ей руки и ноги. На сорочке обнаружилось кровавое пятно.
Тут уже Держана, не на шутку перепуганная, кинулась заваривать калиновую кору, используемую женщинами в таких случаях. Детей она собрала чуть не в охапку и выставила за дверь, велев пока забрать их другим бабам. Все это время она не переставала причитать почти шепотом, для собственного утешения, но действовала здраво и споро. Рыжеватые пряди от суеты выбились из-под волосника и платка, и она безотчетно засовывала их обратно тонкой бледной рукой.
Князь сначала присел у двери, но быстро понял, что тут от него толку не будет.
Немного опомнившись, он вскочил.
Подойти к жене он не решался: в ней открывалась бездна, с которой если кто и справится, то лишь другая баба, а его присутствие могло только навредить. Словно вспомнив что-то, он схватил шапку и выскочил наружу, на ходу запахивая кожух.
У избы толпились чуть ли не все жители Зорин-городка, расспрашивая друг друга, что произошло. Торговые гости маялись перед своими избами и клетями. Завидев князя, широким сердитым шагом идущего в сопровождении целой гурьбы родичей, варяги частью попрятались, частью на всякий случай схватились за оружие.
– Где этот хрен болотный! – рявкнул Дивислав, остановившись перед избой, отведенной ватаге Бодди. – Иди сюда, шкура варяжская!
Из низкой двери с неохотой вылез хмурый Бодди.
Он предпочел бы прикинуться, что его нет, но у князя был такой вид, точно не окажись Бодди на месте – он без раздумий прикажет поджечь избу.
– Где твоя проклятая собака?
Дивислав шагнул к Бодди, будто намереваясь схватить за грудки, и тот, хоть и был выше ростом и крупнее, невольно отшатнулся.
Это его движение напомнило князю, что не годится ему лезть в рукопашную с каким-то варяжским бродягой.
– Опять ты за свое! – Дивислав кипел и с трудом держал себя в руках; на лице его отражалось бешенство, которое делало этого в целом приятного человека просто страшным. – На твоего пса уже жаловались люди, я тебе говорил, чтобы больше его в моих землях не было? А ты, мало того что опять его притащил, так и без привязи пускаешь! Он на княгиню мою напал!
– Да мой пес умнее человека… – по привычке начал Бодди, уже упираясь затылком в стену дома над дверью: дальше пятиться было некуда.
– Не твой пес умнее человека, а ты сам дурее всякого пса! Сегодня чтоб прикончил его. И чтобы люди мои видели!
Дивислав обернулся и глянул на толпящихся за ним мужчин: те охотно закивали.
– А не то велю все ваши сани сжечь, лошадей и товары заберу, и скажи спасибо своим богам, если сам живым уйдешь!
Он пошел было прочь, но через три шага обернулся.
– А если княгиня моя… если что дурное с ней случится, я… дохлым псом ты от меня не отделаешься.
Князь ушел, а Бодди вздохнул и послал за топором.
Даже если не считать последней угрозы, стоимость лошадей, саней и товаров неизмеримо превосходила его привязанности к псу. Этого зверя он пару лет назад в каком-то вике выиграл в кости; как пса кликать, никто не спросил, но за размеры и угрожающий вид его прозвали Кабанья Морда. На самом деле он был не так уж и зол, просто ему нравилось пугать людей.
После случая с княгиней Эйлак догадался привязать его под навесом у саней на крепкую веревку, там он сейчас и сидел.
Наблюдать за казнью остались Видимер и Жила, княжий кметь из голяди.
Вернувшись через какое-то время, они рассказывали не то со слезами, не то со смехом, как несчастного пса держали втроем, пока Бодди пытался топором прорубить ему башку, но толстая кость черепа не поддавалась. Когда наконец тот перестал дергаться, в крови и брызгах мозга были все четверо.
– До смерти забили? – уточнил хмурый князь.
– До смерти, княже…
Всевида к тому времени очнулась, выпила отвар калиновой коры и цветков нивяницы и заснула. Была она уже спокойна, кровотечение прекратилось, затворенное зельями и заговорами. Держана уверяла, что-де все обойдется, но Дивислав не спешил радоваться.
– Точно! – заверил Жила. – Потом на санках на реку свезли и там зарыли.
– Кровищи налилось… – Видимер развел руками, – на полдвора. Будто свиняку резали.
Дивислав отвернулся.
– Скажите этому шишку лысому, чтобы собирался, – недовольно буркнул он. – И пусть больше к нам сюда глаз не кажет – не пущу. Пусть хоть через Хазарское море ездит, мне плевать.
Жила вновь ушел и вернулся с нижайшей просьбой от Бодди: разрешить отложить отъезд до окончания праздников. Ранее, стало быть, со сборами никак не управиться.
До этого срока оставалось всего два дня, и Дивислав махнул рукой.
Эти два дня княгиня провела в постели: Держана настаивала, что ей нужно лежать, пить сон-траву и нивяницу, да и Дивислав не хотел, чтобы жена выходила из дома, пока не уехали варяги: что-то может ей напомнить о злосчастном происшествии.
– Я сердечко послушала, – однажды шепнула князю Держана, когда никого не было рядом. – Ну, к череву ее ухом припала да послушала: хорошо ли бьется. И вот что я тебе скажу, зятюшка…
Она еще раз оглянулась и наклонилась к самому его уху:
– Два сердечка там стучит! Одно справа, другое слева.
– Да что ты! – Дивислав даже привстал.
– Тише! Не сболтни никому. Верно тебе говорю, что два!
Это известие помогло Дивиславу приободриться: он не помнил, чтобы в его роду появлялись двойни, но предпочел истолковать это как добрый знак.
Поэтому он даже с благодушием встретил известие о том, что в последний вечер перед отъездом Бодди устраивает пир и приглашает окрестных старейшин: Перенега, Буеслава, Кочебуда и даже Нудогостя. Все они присутствовали, когда Бодди хвастал ожерельем и подрался с Нудятой. Как объясняли посланцы, Бодди сожалеет о былых ссорах и хочет со всеми помириться, чтобы оставить о себе добрую память.
Дивислав только хмыкнул: неужели совесть пробудилась? Но вслух ничего не сказал, и старейшины решили, что, пожалуй, не худо будет сходить послушать, что бродяга скажет на прощание. Только Нудята в ответ лишь сплюнул и показал посланцам дулю, но иного в общем-то от него и не ожидали.
Все прошло, как было задумано. Бодди принимал гостей хорошо, лишь по привычке хвастал неумеренно.
Угощение было внушительное: полный котел мяса, тушенного с луком и чесноком, с подливкой из брусники, два котла похлебки: рыбной – с пшеном да луком и гороховой – с репой да поджаренным салом. Приглашенные остались довольны, перед очагом вскоре выросла куча обглоданных костей, пивом обносили без задержек, и под конец пира гости и хозяева даже принялись нестройно петь.
– Ну, прощевай! – говорили старейшины, уже в темноте пробираясь к своим саням и поддерживая друг друга. – Только ты того… больше к нам не жалуй. Скучать без тебя будем, да князь наш суров: сказал нет, значит, нет.
– И я буду скучать без вас! – твердил раскрасневшийся от пива Бодди. – Вы еще не раз меня вспомните… я уверен.
Наутро варяги уехали.
Убрались они еще в темноте, а ближе к полудню, как совсем рассвело, княжьи челядинки-голядки пошли чистить в избе и клетях. После пира тут был истинный свинарник: везде на полу объедки и кости, на столах – треснутые грязные миски, под лавками – стоптанные черевьи и сено, которым их набивают, на полатях – рваные обмотки и протертые чулки, в углах – лужи мочи и блевотины. Даже подстилки из еловых лап и соломы варяги не потрудились сжечь. Бабы мели пол, выгребали грязь из углов, мыли лавки, столы и полати, чтобы не стыдно было пустить новых постояльцев. И вдруг одна принялась визжать.
Пытаясь вымести под лавкой, она наткнулась на темную кучу… непонятно чего. Был похоже на шкуру, и эта шкура пованивала. Стиснув зубы, баба вытащила «эту дрянь» на свет – дверь стояла нараспашку, чтобы выморозить вшей и блох – и развернула.
Сразу ей померещилось нечто знакомое.
Это была шкура довольно крупного зверя – свалявшаяся, изрезанная, залитая спекшейся кровью, от которой совсем склеился грязно-желтый, бурый мех.
– Да это ж ихний пес! – сказала другая. – Вон там еще что-то в углу, глянь.
– Сама глянь, – морщась от вони, пробормотала первая. – Чего они ее сюда затолкали-то?
– Да это не может быть того пса! – возразила третья. – Того пса они в снег у реки закопали, как бы он сюда опять попал? И кто с него шкуру снимал? Шкура-то дрянь, они его искромсали всего, будто врага кровного.
– А-а! – первая баба заглянула под лавку и обнаружила там… отрубленную песью голову со знакомым черным пятном на морде. – Голова!
На бабий визг прибежали кмети. Шкуру и голову выволокли из избы и бросили на снег. В это время Жила с глубокомысленным видом изучил сваленные у очага кости, пошевелил их ногой, чтобы получше рассмотреть… и схватился за горло, судорожно глотая.
– Слава Перкунсу, что меня этот велс болотный на пир не звал! – прохрипел он, удерживая рвотный позыв. – Он ведь своих гостей дорогих… собачатиной накормил!
Весть мгновенно облетела городец и округу. Скрыли ее только от княгини, опасаясь, что ее начнет выворачивать, а то и похуже повредит. Весь народ сбежался смотреть на шкуру и голову – жуткие доказательства «гостеприимства» Бодди.
– Это он нам отомстил так! – толковали возмущенные жители. – Собачатину жрать заставил!
– А дурням и не в примету, что хозяева их потчуют, а сами не едят?
Когда Перенег, проблевавшись, снова мог говорить, его спросили об этом, и ответ всех изумил.
– Да как это – «сами не едят»? Тут бы мы уж заметили, чай у нас на плечах не репы печеные сидят! Ели они! И Будиня сам ел, хрен лысый! Так еще наворачивал! Из того же котла куски брал, что нам, то и себе. И люди его ели.
Князь Дивислав, узнав обо всем этом, не то расхохотался, не то разрыдался – по лицу его текли слезы. Налицо было тяжкое оскорбление, нанесенное волости и самому князю.
Поняв, что здесь ему больше не ездить, Бодди лихо отомстил. Как он и обещал, его еще долго будут здесь вспоминать: ему светило войти в местные предания и красоваться в них, пока жив кривичский корень. То, что он не пожалел собственного желудка ради удачи обмана, наводило на мысль о тех героях древности, которые готовы были погибнуть заодно с врагом. Так сразу и не поймешь, чего достоин такой «подвиг»: уважения или презрения.
Старики, наевшиеся псины, со сраму попрятались от людей.
А через пару дней, пока не утихли еще разговоры, Бодди дал новый повод говорить о себе.
Прибежал на лыжах мужик из веси близ Ильменя, где по речке проходил рубеж владений зоричей и Будогостичей.
– Корова! – закричал он, будучи допущен к князю и забыв даже поклониться. – Корову мою забрали, нечистики проклятые! Лешии, шиши водяные, чтобы им бревном подавиться! Чтоб им каждая кость буренки моей поперек горла встала и весь век мучила! Чтоб им оба рога ее в задницу воткнулись! Чтоб им…
– Ты о чем? – Жила встряхнул его за плечо, боясь, что мужик так и будет браниться до самой весны.
– Забрали корову мою! Варяги, что отселе ехали на Ильмень! Сказали, это взамен того барана, что здешние старики сожрали у него! Так велел и передать.
Оказалось, что весь этого хозяина, всего-то из трех дворов, ограбили люди Бодди. В веси было пять мужиков, но против двух десятков хорошо вооруженных и бывалых варягов они ничего поделать не могли.
Кормились они больше озером, и коров на всех имелось всего две. Обеих и забили варяги, которым предстоял еще долгий путь, а по зимним холодам была надежда сохранить мясо до тех пор, пока все не будет съедено.
Когда Дивислав уразумел суть дела, на лице его вместо ожидаемой ярости отразилось вдруг такое облегчение, что мужик от удивления даже умолк. А князь успокоился, потому что теперь точно знал, что делать.
Грабеж окончательно подтолкнул его к решению, что негодяев нельзя отпускать восвояси. Дружина у князя была небольшая, но на два десятка подлецов, растерявших всякий стыд, сил хватит!
Как всякий, кто приезжал из Киева последним, Бодди мог рассчитывать на хороший прием в Волховце: ведь он привез самые важные для хозяина новости.
– Разумеется, князь хочет, чтобы Ингвар конунг отправился в поход, – рассуждал Бодди за столом Ульва, будто Олег Моровлянин с ним лично советовался. – Ведь его собственный сын еще слишком мал, ходить на войну ему рановато: он едва-едва научился вообще ходить, ха-ха! А Ингвару конунгу ведь уже четырнадцать, да?
Бодди посмотрел на Сванхейд, и она кивнула: конечно, она лучше всех помнила, сколько лет ее сыну.
– Он уже почти совсем взрослый мужчина! Ему уже скоро можно жениться! Я уверен: когда он покроет себя славой в этом походе, пора будет посылать за невестой!
– Если мы правильно поняли Вальгарда из Плескова, его дочь еще слишком юна для брака, – возразил Ульв. – Хотя это не значит, что ей не пора переехать в ее будущий дом. Пока что она могла бы пожить у нас… среди наших детей…
– Уж лучше бы Мальфрид наконец прислала нам своего ребенка! – возразила Сванхейд, которой гораздо больше хотелось заполучить собственного внука, чем совсем чужую девочку.
– Еще через год мы сможем это потребовать, – кивнул Ульв. – Но сейчас, наверное, не стоит отрывать его от матери, как ты думаешь?
Сванхейд только вздохнула.
Она часто с тревогой думала об обоих своих детях, Мальфрид и Ингваре, которые вынуждены жить так далеко от нее, среди чужих, враждебных людей, постоянно подвергаясь разным опасностям.
Но что она могла сделать?
Этого требовал выгодный обеим сторонам союз.
– Эти жалкие людишки запомнят меня надолго!
Тем временем Бодди, видя, что хозяева от него отвлеклись, заговорил о другом, хвастая перед соседями по столу.
– Они теперь знают, как угрожать мне и посягать на мое имущество! Они заставили меня зарубить моего любимого пса, лучшего пса на свете! Он был умнее любого человека. Я не променял бы его на трех коней! А они заставили меня убить его самым беззаконным образом. Но я отомстил им! Им пришлось съесть этого пса! Ха-ха! Вы бы видели, как эти дураки глодали собачьи кости! А чтобы возместить ущерб, я забрал двух коров…
– Я не расслышал, где это было? – Ульв наклонился ближе к нему со своего высокого сиденья.
– В Зорин-городке, недалеко за устьем Ловати.
И Бодди поведал всю повесть о причинах и последствиях гибели Кабаньей Морды. Всеобщее внимание было приковано к нему: кто-то смеялся, Сванхейд сочувственно качала головой, слушая, как пострадала княгиня. Ульв до самого конца рассказа не проронил ни слова и не сводил с Бодди пристального взгляда.
– Конечно, это очень занятное происшествие, – сказал он, когда гость закончил свою похвальбу. – Но ты понимаешь, что больше не сможешь ездить этой дорогой?
– Я не боюсь их жалких угроз! – хорохорился Бодди. – Я буду ездить, где захочу, и никто не помешает мне!
– Если Дивислав потребует, чтобы я больше не допускал тебя в земли кривичей, мне придется прислушаться к его просьбе. Таков уговор: я не должен пропускать через свои владения людей с враждебными намерениями. А твои намерения после случившегося никто не посчитает дружескими. Я знаю, что кривичи уже на тебя жаловались. Теперь же тебе не место на торговом пути.
– Неужели ты станешь слушать этих жалких людей?
– Мне нет дела до этих людей, но меня очень волнует серебро, которое попадает ко мне благодаря им.
– Конунг!
В грид вошел дозорный с крепостной стены.
– На реке виден какой-то отряд – человек тридцать, и все они вооружены. При них нет никаких товаров. Похоже, что они едут с кем-то сражаться.
Все замолчали, Ульв поднял брови.
Бодди заметно переменился в лице.
– Сдается мне, Бодди, это к тебе! – Ульв взглянул на гостя. – Те самые жалкие людишки, которым ты оставил о себе такую добрую память. И что мне теперь делать? Они потребуют, чтобы я тебя выдал. Ты желаешь выйти к ним и показать, как мало ты с ними считаешься?
– Нет, Ульв конунг, ты ведь не сделаешь этого! – Бодди разом побледнел, что странно было для такого крупного и могучего по виду человека. – Ты не можешь этого сделать, меня охраняет закон гостеприимства, а еще – ты сам обязан давать приют и защиту всякому честному торговому гостю… Для этого ты здесь поставлен богами…
– Ты сам это произнес – «честному гостю». – Ульв взмахом руки велел своим людям готовиться, и все встали с мест, чтобы идти одеваться и вооружаться. – Но я не уверен, что это слово применимо к тебе. Твое поведение в гостях у Дивислава не назовешь красивым. Я никому не позволю приказывать мне или запугивать меня, но его доводы, сдается мне, будут убедительны. Ты нанес обиду его жене в ее собственном доме. И вместо того чтобы загладить свою вину хорошими подарками, оскорбил еще и его хёвдингов.
– Я подарю тебе хорошие подарки! – Из всей этой речи Бодди выхватил единственное слово, которое хорошо понял. – Я дам тебе три… пять соболиных шкурок от бьярмов, это очень хорошие шкурки, здесь таких не водится!
Сванхейд презрительно фыркнула.
– Ты все равно сюда не вернешься. – Ульв поморщился и покачал головой. – И мне, в общем, все равно: уедешь ты живым и здоровым или Дивислав убьет тебя и спустит под лед. В обоих случаях я тебя больше никогда не увижу. А вот мир с Дивиславом мне еще очень даже пригодится! Если он не станет пропускать через свои земли тех гостей, которых пропустил я, мне придется с ним воевать, а война очень вредит торговле. А виноват во всем будешь ты! И ты думаешь, что эти убытки можно возместить тремя собольими шкурками! Даже пусть твои соболи размером с ледяных медведей – этого явно мало!
– Конунг! – Это вошел кто-то из хирдманов, уже в шлеме, с копьем и щитом. – Они остановились перед воротами. Говорят, что это дружина князя Дивислава, и он требует, чтобы ему выдали Бодди.
– Ну? – Ульв выразительно уставился на означенного гостя. – Похоже, у меня нет иного выхода…
– Ты не можешь допустить… – начал Бодди, но Ульв движением век отмел этот довод.
– Я дам тебе кое-что получше! – В отчаянии Бодди полез за пазуху и вынул ожерелье из берилла и жемчуга с золотыми застежками и жемчужным крестом. – Вот что я дам тебе! Это носил один епископ в Грикланде… Этой вещи нет цены!
Ульв взял ожерелье в руки.
Не требовалось долго рассматривать, чтобы понять высочайшую ценность украшения – драгоценные камни, жемчуг, тонкая работа…
Конунг передал его жене, и та с удовольствием взяла драгоценную низку. Переглянувшись с ней и увидев в ее глазах одобрение, Ульв, не глядя, протянул руку к своему оруженосцу. За время разговора тот успел принести из спального чулана все оружие и снаряжение хозяина: кольчугу, шлем, щит, копье и меч.
– Я посмотрю, что можно сделать, – неохотно обронил Ульв. – Я буду говорить с ними, а ты и твои люди сидите тихо, как мыши, и не высовывайтесь.
Бодди с готовностью закивал. Безумного порыва отваги от него явно не следовало ожидать.
Когда-то, три поколения назад, укрепление Волховца было выстроено так, чтобы оборонять пристань и корабли: оно подковой огибало часть берега с холмом и стояло незащищенной «спиной» к высокому речному обрыву, к воде – стихии, если не родной варягам, то дружественной, а «лицом» к берегу – враждебному чужому миру, откуда следовало ждать нападения. Нижние концы укрепления давно оказались размыты паводками Волхова, верхние, тоже выстроенные из срубов, засыпанных землей, порядком обветшали. В стене имелись ворота, к которым вела дорога через неукрепленное поселение под стенами: там жили ремесленники, торговцы, корабельные мастера всякого языка и рода. Под покровительством богатого и сильного властителя поселение заметно разрослось.
Имея преимущество в числе дружины, Ульв приказал открыть ворота и вывел своих людей на пустырь за последними избами, где велел выстроить стену щитов. Однако сам с оруженосцем и знаменосцем стоял впереди.
Он немного знал Дивислава, представлял, чего от него следует ожидать, и не боялся подлости с его стороны. Ульв намеревался решить дело переговорами, а мощный строй из шести десятков хирдманов в шлемах и с круглыми щитами был тем его доводом, который обычно даже не приходилось пускать в дело. Кольчуга и шлем с бронзовой позолоченной отделкой сразу придали ему внушительности и даже как будто сделали выше ростом, в руке он держал топор с красивой серебряной отделкой на обухе.
Дружина Дивислава выглядела далеко не так представительно. В кольчугу был облачен один только князь; старейшины и два десятка кметей имели щиты, на некоторых красовались шлемы. Остальные были одеты в кожухи, вооружены топорами и копьями, а вместо щита многие держали дубину, чтобы отводить ею вражеские выпады.
Немного у них было надежды одолеть дружину Ульва, вдвое превосходящую числом, гораздо лучше выученную и вооруженную. И раз уж Дивислав не сумел, как надеялся, догнать Бодди по пути сюда, оставались переговоры.
– Что привело тебя сюда? – спросил Ульв, поздоровавшись. – Я был бы рад встрече, если бы не твой воинственный вид и эти вооруженные люди с тобой.
– Я не намерен искать ссоры с тобой. Меня привела сюда погоня за моим врагом.
Дивислав в шлеме выглядел ничуть не менее внушительно, чем его собеседник. Его серые глаза под серой сталью тоже казались железными – такая твердая решимость в них светилась.
– В твоем доме должен быть варяг по имени Бодди со своими товарищами. Он нанес обиду мне и оскорбил моих нарочитых мужей.
Дивислав указал рукой с копьем на строй позади себя, где сбоку от его собственной дружины выстроились Буеслав, Перенег и Кочеба со своими младшими родичами. Они были вооружены копьями, топорами, переставленными на более длинную рукоять, и сулицами. К троим, отведавшим собачатины, присоединился и избежавший срама Нудогость – он не желал упустить такой случай посчитаться со своим давним недругом.
– Не может быть! – делано удивился Ульв. – Какое же оскорбление он нанес этим мужам?
– Достаточное, чтобы они искали мести. И он напал на моих людей, отнял две коровы. Этого довольно, чтобы я имел право требовать наказания и возмещения убытков. Если он у тебя, ты должен выдать мне этого разбойника.
– Я не буду требовать доказательства твоих слов, ибо ты благородный человек знатного и старинного рода, – немного помолчав, будто обдумывая эти новости, ответил Ульв. – Но Бодди нет у меня. Он знал, что ты будешь преследовать его – это подтверждает, что вина за ним есть и он ее знает, – и поэтому уехал дальше на север, не задержавшись у меня, как обычно.
– Коли так, я пойду за ним дальше на север. Буду преследовать его до самого моря, если понадобится.
– Прости, но это невозможно. Перед людьми и богами я взял на себя обязательства не пропускать вооруженных людей с враждебными намерениями ни на Волхов, ни в озеро, в любом направлении. Ты не хуже меня знаешь, как важен мир на этих землях.
– Но если ты знаешь, как важен мир, почему ты пропустил этого шишка болотного? – вспылил Дивислав. – Тебе уже приносили на него жалобы. Ты знал, что это бесчестный человек. Эту гниду вообще нельзя было пропускать на Ильмень! И я не дам ему просто так уйти. Если ты не хочешь дать мне дорогу, чтобы я взыскал мою обиду с него, мне придется взыскивать ее с тебя! Ты готов платить за его разбой?
– Ты слишком много от меня хочешь! – Хотя его более молодой оскорбленный собеседник горячился, Ульв сохранял невозмутимость. Ему в жизни приходилось вести немало подобных споров. – Бодди – не мой человек, я беру с него плату за постой и безопасность на моем участке пути, как и с любого проезжающего. Я не могу отвечать за его дела вне моих земель! Если так рассуждать, то ко мне поедут люди со всего света, из Миклагарда и Серкланда, и будут требовать с меня возмещения всей добычи, которую там взяли викинги, все эти бесчисленные конунги, которые прошли туда через мои земли. Он совершил свое преступление не на моей земле, а на твоей…
«И только ты сам и отвечаешь за него», – слышалось в умолчании Ульва.
– Ты знаешь, что я не из тех разбойных варягов, которые ищут себе добычи, где судьба пошлет, – ответил Дивислав. – Я не собираюсь грабить людей на Волхове или в Ладоге. Мне нужен только Будина, и никого другого я не трону, клянусь Перуном!
– Я не сомневаюсь, что цели твои благородны и законны. Но так или иначе, ты принесешь на Волхов войну. Мы не можем знать, где Бодди найдет приют и поддержку, кто пожелает вступиться за него. Все эти земли могут оказаться охвачены раздором, который будет длиться много лет. На памяти людей такое уже случалось и никому не принесло счастья. Мне ведь не придется объяснять тебе, как невыгодно это нам всем?
– Я не уступлю своей чести и не продам ее за серебро!
– Ты рассуждаешь, как благородный человек. Пока я не вижу выхода, который помог бы нам с тобой обоим сохранить честь и не нарушить свои обязательства, но это не значит, что такого выхода вовсе нет. Я предлагаю вот что. Я не могу пустить в свой дом вооруженную дружину, раз уж меж нами вышел спор, но ты можешь, я уверен, найти приют в ближних селениях, – Ульв указал копьем в сторону Словенска, – и немного обождать. Завтра или через день мы продолжим наши переговоры, и я уверен, найдем способ удовлетворить нас обоих.
– Глаза отводит, – шепнул Перенег Нудяте. – А злодей наш тем временем утечет.
– Но не воевать же его, собаку! – Нудята окинул взглядом укрепления. – Вон, у них стена какая высокая, а дружины против нашей вдвое.
– Больше того! – добавил Ульв. – Я очень прошу тебя не возвращаться домой, пока мы не договоримся. Менее всего я хочу, чтобы между нами возникла вражда, которая так плохо скажется на всех наших делах.
Ульв понимал, что у него будут большие неприятности, если Дивислав в отместку перекроет путь в Ловать. Тогда он обязан будет пойти на кривичей войной, чтобы расчистить путь для торговых гостей. А ввязываться в войну он не хотел: это откроет его спину для желающих занять выгодное место. Даже от Хакона ладожского, любимого родича и зятя, можно ожидать чего угодно.
Словенск, вытянувшийся вдоль длинной узенькой речки, не имел укреплений и городом не был. Зато именно здесь находилось истинное сердце ильменских поозер: они осели здесь почти пять веков назад. Как уверяло предание, там уселся пришедший с юга по Ловати князь Словен, отчего род пришельцев, расселяющихся среди чуди и голяди, стал зваться словенами.
Князь, сидевший в Словенске, считался старшим из пяти князей малых племен вокруг озера и до сих пор собирал подать «на богов» для главного племенного святилища в Перыни.
За последние века Словенск не раз подвергался разграблениям, они прекратились только тогда, когда князь Гостилюб, дед нынешнего Унегостя, признал власть Тородда конунга из Волховца и стал платить ему дань.
Так с тех пор и продолжалось: Словенск властвовал над малыми князьями, а сам платил дань руси.
Увидев перед собой вооруженную дружину, местные жители сперва испугались, но те лишь попросили приюта, и вскоре Дивислава с нарочитыми мужами провели к князю Унегостю.
Дивислав был так мрачен, что с трудом находил силы учтиво отвечать на приветствия и расспросы хозяев. Больше всего он хотел знать: действительно ли Бодди со товарищи уехал или Ульв прячет его?
Но на этот вопрос князь Унегость ответить не мог.
Это был мужчина уже в годах, давно выдавший замуж всех дочерей и переженивший сыновей, рослый, худощавый, с продолговатым костистым лицом и впалыми щеками. Усы и борода у него росли клоками, каждый из которых жил будто сам по себе и торчал в свою сторону, а в седой, пегий и ржаво-рыжий цвет природа окрасила эти клочки безо всякого цельного замысла, как попало.
– Вроде приезжали к нему люди в эти дни… – Князь неуверенно переглядывался со своей дружиной и домочадцами. – А вот остались или дальше поехали… Я ж не слежу за ними, мне своих забот довольно. Ульв за проезжающими глядит и с них шеляги берет, его и забота…
Глядя, как старик мнется, Дивислав заподозрил, что тот знает больше, чем говорит, но не хочет неприятностей. Ведь если он выдаст то, что Ульв предпочитает скрыть, может этим повредить себе. Князь Поозерья находился в полной власти Ульва, имевшего под рукой сильную дружину, и не хотел с ним ссориться.
Рассказ о проступках Бодди все выслушали с полным сочувствием и пониманием. Завидев в глазах Унегостя и его домашних яркое любопытство, Дивислав заставил себя подробно рассказать о случае с Всевидой: иначе по Ильмень-озеру разойдется совсем иной рассказ о том, как именно Бодди «обидел» его жену. Сраму потом не оберешься.
– Да уж, такие они, племя проклятое! – сказал Гостомысл, один из младших сыновей Унегостя.
Он был почти ровесником Дивиславу, всего на пару лет моложе. Уродился он явно в мать: пониже ростом, чем отец, плотный, круглолицый, только буйные светло-русые кудри жили своей жизнью, как у отца, несмотря на носимый им у пояса красивый привозной гребешок из самшита.
– Сколько наш род на этом месте сидит, столько почти от них житья нет, – горячо продолжал он. – Вам там еще хорошо, до вас не всякая дрянь доходит, а у нас тут… Теперь вот этих Туродичей посадили к себе на шею. Они нас подряжались от прочих волков оборонять. И что – обороняют?
– Да ладно тебе! – пытался его унять старший брат, Требогость. – Мы не видели, как было, когда на Волховце дружина не сидела. А дед рассказывал. Ты еще не родился тогда, а я помню…
– Да толку от того, что они там сидят? – горячился Гостомысл, видимо, не в первый уже раз. – И почему они? Дань с нас берут! Чем они так хороши, чтобы мы, старший словенский род, им дань платили? Да наши предки тут сидели за три века до того, как тут в первый раз про них услышали. Мы здесь всегда были и всегда будем. От разбоев нас защищают?! А я не просил меня защищать! Что, сами не можем? Руки слабы, копья держать не умеют? Посади меня в Волховец – я не хуже справлюсь! И дружину наберу! Или у словен мужиков и отроков неробких не осталось? Будет серебро – будет и оружие, и кольчуги, и шеломы, и дружина будет. Обойдемся и без Туродичей! Эх, мал я был, когда Ульв со старым Синеусом ратился – вот тогда надо было… Собрали бы войско да прихлопнули их обоих разом, пока они между собой дрались. Упустили случай, теперь опять дань платить!
– Перестань, Гостяйка! – прикрикнул на него отец. – Доболтаешься до беды!
– Твой сын дело говорит! – поддержал Гостомысла Дивислав. – Посади его с дружиной в Волховец – уж он-то ни одной гниды варяжской на наши земли не пропустит! Зачем вы дань даете на чужую дружину, когда можно на свою? А сколько серебра и прочего добра в варяжские руки уходит, а могло бы быть вашим!
По лицам он видел, что ненависть и зависть к варягам, занявшим такое выгодное место и захватившим власть над людьми и серебром, давно уже точит души словен.
– А если самим сил не хватит, так найдется кому помочь, – продолжал Дивислав, видя, что его вполне понимают. – А то перед богами и чурами стыдно: мы, потомки богов наших, каким-то волкам заморским платим. С нашей земли им даем такие прибытки получать! Земля эта наша, наших отцов и дедов, и коли ездят через нее торговые гости, так нам и получать с них шеляги! Почему чужим отдаем?!
Ему отвечал еле слышный ропот – казалось, он исходит не из сомкнутых уст, а из самих сердец словенских нарочитых мужей.
– Нет, ты, друг дорогой, эти речи оставь! – с неудовольствием возразил Унегость. – Ты живешь далеко, а мы близко. Ты приехал и уехал, а нам здесь и дальше жить, землю пахать, детей растить. Ульва так просто не сковырнешь, ведь не прыщик! У него и в Киеве родня, и в Плескове скоро будет родня. Слышал ведь, что он за сына своего берет дочь плесковского князя?
– Не дочь, а племянницу по сестре, – поправил Дивислав.
– Ну, хоть так. Допустим, мы соберемся, ты поможешь, Будогостичи помогут… Побьем варягов, сами в Волховце сядем. А дальше-то? Киевский князь за родню обидится, – он на Ульвовой дочери женат – и наши товары в Греческое море не велит пропускать. Мы на Варяжское – а там, в Ладоге, тоже родня Ульвова сидит. Мы через Плесков на Варяжское море – а и там Ульвова родня! – Унегость развел руками и хлопнул себя по бедрам, выражая безнадежность положения дел. – На Волгу попробуй – и там русы с дружинами. И хоть ты тресни! Не будет тогда ни гостей торговых ниоткуда, ни паволок, ни серебра. И что толку тогда с этого Волховца? Тут не только городец взять, тут связи нужны. Такие дела с разбегу не делаются, тут вам не костер купальский…
Он с досадой покосился на младшего сына, который, видимо, уже давно и часто смущал словен подобными разговорами.
Дивислав взглянул на Гостомысла: тот промолчал, но, судя по его глазам, был не прочь еще поговорить с гостем.
Когда отец не будет слышать.
Назавтра в Словенск явился Герлейк ярл, приближенный Ульва. С ним было всего пять человек, но они приехали верхом, возле их седел были приторочены какие-то мешки.
– Я приехал передать тебе, князь Дивислав, предложение от Ульва конунга. Он сожалеет, что тебе был причинен ущерб на твоей земле. Конунг не может позволить тебе искать мести на той земле, где он отвечает за мир, но больше всего желает сохранить мир с тобой. Поэтому он предлагает тебе принять от него подарки во искупление твоего ущерба и обиды, а также обязуется больше никогда и ни в коем случае не пропускать твоего врага через свои владения. Возможно, ты захочешь посмотреть подарки, пока будешь думать над ответом?
– Давай-ка, показывай! – оживленно предложил Унегость, по лицу Дивислава видя, что тот не готов с ходу отвергнуть протянутую для примирения руку варяжского конунга.
Дивислав тоже понимал, что его ссора с хозяином волховского пути очень дурно скажется на торговле и на отношениях со всеми соседями. Собственные старейшины не скажут ему спасибо, если он лишит их возможности сбывать бобров, куниц, воск и лен в обмен на серебро и паволоки.
Если уж ему придется выбирать между миром и честью, он выберет честь, но сначала он должен был убедиться, что иного пути нет.
Хирдманы принесли мешки, развязали и выложили на столы в обчине их содержимое.
Здесь были драгоценные собольи шкурки, пара косяков шелка, яркая расписная посуда и даже один франкский меч – такие мечи звались варяжскими. Все мужчины, даже кому никогда не случалось не то что держать подобный клинок в руках, а даже видеть его вблизи, знали их превосходное качество. Меч был еще без рукояти и ножен, но сам по себе стоил едва ли не столько же, сколько остальные подарки.
– Вот, это тебе. – Герлейк показал Дивиславу на меч. – Если пожелаешь, Ульв конунг прикажет своим мастерам изготовить для него рукоять из серебра и ножны с украшениями. Вот этот шелк – для твоей жены, а прочее ты можешь раздать своим людям, которые понесли ущерб и претерпели обиду по вине Бодди. Тогда никто из нас не уронит чести и между нами сохранится мир.
Дивислав внимательно осмотрел меч, бережно взяв его через льняное полотно, в котором он был привезен. Клинок действительно был хорош! И это будет первый варяжский меч в его роду…
Всевида с Держаной обрадуются шелку, а меха и посуда помогут старикам забыть, как они обгладывали ребра Кабаньей Морды. Он взглянул на лица старейшин: только Нудогость презрительно кривился, зато остальные взирали на подношения горящими глазами.
Мельком Дивислав зацепился взглядом за Гостомысла: тот украдкой ему подмигнул и слегка улыбнулся. «Соглашайся», – говорил этот взгляд. Видимо, младший княжий сын знал или думал еще кое-что, о чем не мог сейчас сказать.
– Ну, если мои нарочитые мужи не против… – Дивислав еще раз оглянулся на спутников, и они закивали. – Вижу, подарки неплохие. Ради мира и дружбы с Ульвом… я согласен их принять.
– За это надо чару поднять! – почти пропел Унегость, едва не приплясывая на месте.
Он больше всех был рад, что нависшая угроза войны прямо у его порога благополучно миновала.
– Милодедовна! – крикнул он жене, стоявшей с невестками поодаль у двери. – Меду давай!
Унегость потер руки…
Дивислав снова глянул на Гостомысла: тот широко ухмыльнулся, уже не скрываясь.
На самом деле Ульв конунг не понес ни малейшего убытка ради этого примирения. Подарки, включая рейнский клинок, были взяты из товаров Бодди. Объяснив, что кривичи настроены очень решительно и что ему будет гораздо проще, выгоднее, да и честнее выдать им преступника, чем покрывать его, Ульв изъял три четверти товаров, которые вез варяг. Из них половину Ульв отослал Дивиславу, а вторую половину взял себе за беспокойство. Таким образом, как он объяснил несчастнейшему Бодди, всем вышла прямая выгода: Дивислав сохраняет честь, его люди получают возмещение ущерба, Ульв уберегает мир в своих владениях, а Бодди – жизнь.
– И если рассудить как следует, – закончил Ульв свою речь, – то всякий признает, что именно ты выгадал больше всех. Честь можно, так или иначе, восстановить, мир заключить заново, а нажить имущество для толкового человек нетрудно. Вот только утраченную жизнь вернуть невозможно, и от трупа, как говорил Один, нет уже никакого проку.
На следующий день, передав поклон Ульву и оставив трех соболей Унегостю в благодарность за приют и ласку, Дивислав с большей частью дружины уехал восвояси.
Задержались отроки – сыновья его старейшин, которых Гостомысл пригласил съездить с ним на лов. К ним присоединился и Нудогость. Они уехали только два дня спустя.
Гостомысл, хорошо знавший и местность, и людей вокруг, обещал зоричам отличную забаву и недурную добычу.
Ради зимней скуки к ним присоединились другие молодцы и отроки Словенска, и когда ловцы наконец снарядились, их оказалось десятка четыре.
В Зорин-городок дружина под предводительством Нудогостя воротилась еще дней семь спустя.
Нудогость прошествовал прямо к князю, но там, прежде чем начать рассказывать, почтительно попросил Держану увести княгиню.
И не зря.
После ухода женщин дед Нудята развязал мешок и с торжество вытряхнул на пол нечто круглое, бледное, гладкое…
По обчине пролетел невольный крик – это была человеческая голова. Черты лица были искажены предсмертным ужасом, однако все без труда узнали того, кого видели здесь совсем недавно и кто обещал, что его будут не раз вспоминать…
Обманув бдительность варягов отъездом Дивислава с большей частью дружины, Гостомысл послал своих отроков следить за Волховцом.
Кто обращает внимание на мальчишек, удящих рыбу из-подо льда? Уж точно не Бодди, бежавший в страхе и горести из-за потери почти всего товара.
И прямо на льду Волхова, еще до порогов, где не было поблизости жилья, среди бела дня его и накрыли «ловцы».
Даже если Ульв конунг мог быть недоволен нападением на его земле, его утешило бы то, что неведомые лиходеи помогли ему выполнить обещание: Бодди никогда и ни в коем случае больше не появится в этих краях. Вероятно, удовольствовавшись этим, Ульв и не стал поднимать шума.
О происшествии он узнал довольно скоро: ему принесли эту весть пятеро уцелевших спутников Бодди. Часть дружины погибла при нападении, хотя «ловцам» была нужна голова одного только Бодди, часть пустилась дальше в Ладогу, под защиту тамошнего ярла. А пятеро, отсидевшись в лесу, пока нападавшие не уехали, выждали дотемна и пустились обратно в Волховец – до него было куда ближе, чем до Ладоги.
– Я предвидел нечто подобное, – сказал Ульв жене, когда они остались вдвоем в спальном чулане. – Князь Дивислав выглядит человеком упрямым. Он явно мне не поверил, и нет ничего удивительного, если он решил все же добиться своей мести.
– И ты это так оставишь? Ведь он совершил разбойное нападение на твоей земле!
– Видишь ли, если я стану говорить с ним об этом, мне придется признать, что Бодди все же прятался у меня. Иначе нападение могло бы произойти не ближе Альдейгьи, и это была бы уже забота Хакона, а не моя. А Бодди – неудачливый человек. У него был слишком неудобный нрав: хвастлив и тщеславен, но труслив. Тщеславие навлекало на него неприятности, а трусость мешала выпутаться из них с честью. Ничто не спасет обреченного. Нам следует радоваться, что уж нас-то он больше в неприятности не втравит.
– На прощание он принес нам кое-что хорошее. – Сванхейд бросила взгляд на ларец, где у нее были заперты бусы из берилла и жемчуга.
– Ах, это! – Ульв тоже посмотрел на ларь. – Прости, королева, но я не советовал бы тебе держать эту вещь у себя.
– Вот как! – Сванхейд в изумлении развернулась к нему.
– Да. Я бы советовал тебе с этой вещью расстаться. Во-первых, я уверен, что Бодди хвастал ею на всем пути, в том числе – и в доме у Дивислава. И если не сам князь, то его женщины обязательно это запомнили: ведь такое ожерелье в этой части света одно, это не стеклянные бусины «с глазками» и «с ресничками», кои есть уже на каждом чудском хуторе. А во-вторых, подарки неудачливого человека никому еще удачи не приносили.
– Может быть… отошлем это Мальфрид? – поколебавшись, предложила Сванхейд.
Она признавала правоту мужа, но совсем расстаться с такой прекрасной драгоценностью у нее не было сил.
– Не думаю, что нам стоит рисковать нашей дочерью, у которой и так жизнь непростая. Вот, может быть… – Ульву пришла неожиданная мысль. – Что ты скажешь, если мы отошлем его нашей будущей невестке? Невесте Ингвара?
– Девочке? – Сванхейд вытаращила глаза.
– Может, она еще мала для таких драгоценностей, но ее отец и прочая родня, несомненно, оценят это как знак нашего уважения. Нам уже пора бы его проявить: ведь они обручены целых три года!
– И кому же ты доверишь отвезти такую вещь? – с тайной ревностью спросила королева.
– Думаю, кто-нибудь из сыновей Ветурлиди не откажется исполнить такое поручение и заодно глянуть на нашу будущую невестку. Мы хоть узнаем, хороша ли она собой и много ли обещает в будущем. К тому же, если мы подарим ожерелье ей, оно не уйдет из нашей семьи: ведь когда-нибудь она прибудет сюда, чтоб выйти замуж за Ингвара, и на свадьбу уж непременно его наденет. Не думаю, чтобы Вальгард в своем захолустье раздобыл ей в приданое что-нибудь получше!
– Ты считаешь… – Сванхейд взглянула на мужа с сомнением. – Если мне нельзя держать его у себя, ей можно?
– Через Плесков Бодди не ехал и там эту вещь никто не видел. А до тех пор, пока невеста приедет сюда, вся эта троллева сага забудется.
– Но если Бодди мог передать свою неудачу… не опасно ли это для нашей невестки, ведь она еще совсем девочка!
Ульв поднял брови:
– А вот и случай проверить, есть ли у этой девочки своя удача… Неудачливая невестка нам ведь тоже ни к чему, правда?
В начале лета к нам приехал посланец от Ульва конунга с Ильмень-озера, нашего будущего родича – в первый раз со времени заключения помолвки. У нас порой поговаривали, не забыл ли он о ней вовсе. Но стрый Вальгард относился к этому без волнения. Он утверждал: эта помолвка нужна Ульву гораздо больше, чем нам, а наша девушка без женихов не останется.
Это была, несомненно, правда: уже на одиннадцатом году Эльга превратилась в настоящую красавицу. Она обогнала меня ростом, ее светло-русая густая коса спускалась ниже пояса, а я свою сколько ни расчесывала, сколько ни мыла отварами цветущей крапивы, корня лопуха или березового листа, она оставалась вдвое тоньше и короче.
Даже в лице Эльги проступило нечто взрослое – разумное и уверенное. Она казалась старше меня года на два, и говорили, что через пару лет она уже будет годиться в жены.
Посланца Ульва звали Фасти, и он приходился конунгу племянником – старшим сыном его брата Ветурлиди.
Мы с большим любопытством глазели на первого известного нам представителя «той стороны», то есть будущего родича Эльги по мужу. А она сама взирала на взрослого мужчину (ему тогда было уже двадцать с чем-то) с такой надменностью, что он, кажется, смущался и терялся. Эльга прекрасно помнила, что она – будущая королева, а он – ее первый подданный, которому повезло предстать перед ее очами.
Фасти привез очень весомое подкрепление дружбы Ульва конунга.
Хорошо помню, как мы все были изумлены, когда он вынул из-за пазухи плотный льняной мешочек, подвешенный на шнуре на шею, и выложил на стол перед Вальгардом ожерелье из бериллов и жемчуга, с золотыми застежками и золотым узорным крестом.
Мы все так и ахнули!
Даже Вальгард на миг утратил свою мнимую беззаботность и удивленно поднял брови.
Бесполезно было и пытаться вычислить стоимость этой вещи в куньих шкурках, бусинах, косяках льняного полотна или даже дирхемах. Она была единственной на свете, как сокровища богов из преданий, и не имела цены.
– Вот… теперь я вижу, что Ульв конунг не шутя хочет заполучить мою дочь в невестки! – пробормотал Вальгард.
– В этом никак нельзя сомневаться, – подтвердил Фасти и бросил на Эльгу такой взгляд…
В то время этот взгляд показался мне странным. Теперь-то я без труда разгадала бы его значение, но тогда была слишком мала, чтобы понять: мужчины уже видели в Эльге ту прекрасную женщину, которая вот-вот вылупится из скорлупы детства.
– Ну-ка, подойди! – позвал ее отец.
Она подошла, и он, осторожно вытащив золотой крючок застежки из колечка, приложил ожерелье к груди дочери.
– О боги, посмотрите! – восторженно ахнула стрыиня Домаша. – Эти камни точно такого цвета, как ее глаза!
И мы все закричали, что это правда.
Глаза у Эльги были странного цвета, для него никто не знал названия: вроде бы голубые, но с отливом зелени. И эти чудные полупрозрачные камни были точно такими же; с этим ожерельем на груди Эльга стала еще красивее, ожерелье словно нарочно было создано для нее. Трудно было даже представить его на ком-то другом.
– Ну, Елька, ты и везучая! – охнул Аська.
Ему, конечно, ни к чему были украшения, но и он понял, что Эльга обзавелась настоящим сокровищем.
Эльга ничего не ответила, но сама посадка ее головы, невозмутимость лица, унаследованная от Вальгарда, словно говорили без слов: «Да, разумеется. А вы как думали?»
Я смотрела на нее, затаив дыхание от восхищения.
Мы росли вместе, но в последнее время я все чаще чувствовала, что она обгоняет меня во всем, уходит вперед шаг за шагом, и как бы я ни торопилась следом, мне ее не догнать. Даже пояса она уже ткала быстрее меня, и более сложные узоры давались ей легче.
Ну, так и что же – не я ведь внучка плесковских князей и старшая невеста рода легендарного Одда Хельги!
Я совершенно не ощущала в себе крови этого выдающегося человека, а вот Эльга, казалось, унаследовала ее так много, как только возможно.
Всего через пару дней я узнала, что она сделала еще один решительный шаг вперед.
Как-то она встала с лавки и пошла передо мной; я заметила у нее сзади на сорочке темное пятно и сначала подумала, что это березовый лист пристал. Хотела стряхнуть – и не смогла.
Это оказалась кровь…
Эльга стала взрослой.
Но все-таки этим летом всеобщее внимание было больше приковано не к Эльге, а к Вояне.
Свадьба ее первоначально замышлялась на минувший год, но тем летом умер князь Судогость. А смерть деда невесты, к тому же князя, – такое событие, что свадьбу пришлось отложить до будущей осени. Но Вояна не сильно огорчилась: она получила еще одну зиму на то, чтобы совершенствоваться в ткачестве, готовить рушники и сорочки с вышивкой на подарки жениховой родне.
Вышивали родовое полотенце: слева в виде ветвистого дерева был изображен род невесты, справа – жениха. Во время свадьбы они встанут на полотенце, каждый со своей стороны, чтобы было видно, «на чем стоит» новая семья.
Глянув на вышивку, всякий мог бы сказать, сколько и какой родни у них есть на несколько поколений, живы те сейчас или умерли. Невестину сторону начинают вышивать заранее, а женихову – после обручения.
Эльгина мать достала из укладки свое родовое полотенце с первой свадьбы, где был изображен род ее покойного мужа, отца Вояны; из Плескова приехала баба Гоня со своим таким же полотенцем, еще на поколение старше. За десятки лет красные нити вышивки поблекли, но отбеленный, плотно сотканный лен ничуть не обветшал, лишь немного потемнел. Когда их повесили на стену, чтобы были перед глазами, мы даже оробели: перед нами встала целая роща чуров, тот самый «дремучий лес», где живут их души! И все эти бесчисленные предки, стоящие теперь где-то возле самого истока мира, будто разом глядели на нас и оценивали: что из нас выросло…
Обычно Вояна шила, а баба Гоня рассказывала нам про дедов и бабок, их братьев и сестер с потомством, которые возникали под иглой в виде веточек и значков. Мы с Эльгой посмеивались и тайком подталкивали друг друга: ведь вот эти точечки, ниже «дочернего узла» невесты и справа – мы обе и есть, ее младшие сестры! А вот – Володея с Беряшей, а здесь слева – братья Улька и Минька. Да им больше этих точек и не полагается, пусть сперва выучатся в штанах ходить!
Но теперь бабы Гони с нами уже не было.
После того как прах князя собрали с остывшей крады и погребли в округлом родовом кургане, она сделала то, что собиралась: однажды, на летней заре, вышла из детинца в простом белом платочке, повязанном по-вдовьи, с маленькой котомкой, и ушла по росной траве, с посошком, ничем не отличимая от любой простой бабы в старых годах.
– А куда она? – спрашивал Кетька, незадолго перед этим научившийся внятно говорить.
– К дедам! – с важностью повторяла я ответы взрослых.
– А где они?
– В Закрадье.
– А как туда идти?
– Я не знаю, а баба Гоня знает. Старые люди знают, где деды, потому что они сами старые, им скоро помирать. Когда делаешься таким старым, то тебе становится видно, куда идти, понимаешь? Только для этого надо быть очень старым.
– Как баба Гоня? – помолчав, уточнил Кетька.
– Как она. Не все доживают.
В наших глазах она была не просто старой, а почти древней. Словно сама сошла с того родового дерева, что вышила Вояна…
И вот теперь в Плескове сидел князь Воислав с княгиней Велемирой. Им и предстояло отдать племянницу замуж за будущего главу рода Будогостичей.
Кроме сватовства, этой свадьбе предшествовали неоднократные переговоры, сути которых мы тогда не понимали. По происхождению Вояна годилась быть княгиней, но чтобы все у нее сложилось удачно, к этому замужеству требовалось подготовиться более тщательно, чем ко всякому другому. Мы подслушали, что первая жена Видяты Житинеговича умерла, не сумев дать жизнь наследнику княжьего рода, и нужно было принять меры, чтобы Вояна не повторила этой судьбы.
Заранее мы ничего не знали, все готовилось тайком.
Была ранняя осень, шла жатва.
А мы, дети и девушки, почти все дни проводили в лесу. Собирали грибы, которые потом нанизывали на длинные суровые нити и сушили возле печи; помню, как мы с сестрами шалили, наматывая эти нити себе на шею и гордясь, какие у нас «ожерелья». Помню и Эльгу с этими бусами из грибов на шее – самой смешно, и не верится, что я такое видела.
Володее и Беряше тогда уже сравнялось восемь и девять лет; косы у них были почти такие же, как у Эльги. По утрам, когда я приходила к ним, мы все вчетвером садились одна за другой и принимались расчесывать и заплетать друг другу волосы. Стрыиня Домаша смеялась и звала нас «русалками», а мы бегали по избе в сорочках, с распущенными волосами, гоняясь одна за другой, как и положено русалкам, прятались в тенях осеннего раннего утра, освещаемого лучинкой, и неожиданно выскакивали на середину избы…
С прошлой осени уже мы с Эльгой учили Володею и Беряшу «прясть, ткать и узоры брать». А заодно и Кетьку, поскольку в нашей семье, кроме меня, дочерей не было, и мы с матерью вдвоем не успели бы наготовить полотна на всех. В том краю, если в доме не хватает женских рук, за прялку сажают и маленьких мальчиков.
Но время прясть еще не пришло, и мы все – пять сестер, Кетька, два младших брата Эльги – Улька и Минька, другие дети, девки и бабки из усадьбы, кто-нибудь из моей родни в Люботиной веси – целыми днями пропадали в лесу, собирая грибы и бруснику. У каждого в корзине лежал завернутый в ветошку кусок хлеба на обед, и мы съедали его, усевшись на мох где-нибудь на поляне, запивали водой из речушки да закусывали малиной.
Не забывали мы положить кусочек хлебца и на пенек: хозяевам леса.
Мы болтали, смеялись, братья иногда рычали из-за кустов, пугая нас «волком», а мы гонялись за ними с крапивой…
Вояна, как совсем уже взрослая, унимала наши шалости. И вдруг однажды из-за кустов донесся такой могучий и страшный рев, что побледнели даже братья. А у меня оборвалось сердце: я уже слышала этот голос, и меня мгновенно накрыло знакомое чувство жути.
Со временем приключения трехлетней давности померкли, вспоминались, будто страшный сон. Я сама порой сомневалась: не придумали ли мы с Эльгой свой поход в берлогу в какой-нибудь из долгих зимних вечеров, когда лежали в темноте на полатях с младшими и рассказывали им всякие байки, натянув одеяло до носа, чтобы ловчее было бояться?
И вдруг сон вновь стал явью – столь зримой, что у меня подогнулись колени.
Он вышел из-за елок – мохнатый, с оскаленной пастью, с посохом в лапе – и показался мне таким же огромным, как три года назад, хотя сама я с тех пор заметно подросла. А меня будто сковало: не только страх, но и чувство близости чего-то иного, чуждого, нечеловеческого связали по рукам и ногам…
За три года я поумнела и стала лучше отличать вещи, которые бывают почти всегда, от тех, которые не случаются почти никогда; именно поэтому явление говорящего медведя – то, чего не бывает никогда или почти никогда! – напугало меня даже сильнее, чем в семилетнем возрасте, когда это казалось более-менее возможным делом.
Эльга тоже побледнела.
По старой привычке я схватила ее за руку, но она будто не заметила меня. Ее зеленовато-голубые глаза были прикованы к медведю, и в них отражалось странное чувство: не то страх, не то обреченность, не то решимость. Она сжала губы, точно стараясь скрыть дрожь, но при этом ноздри ее раздувались, будто она готовится через силу, за шиворот, толкнуть саму себя вперед.
Но князь леса даже не взглянул на нас. И не сказал ни слова.
Дав нам на себя полюбоваться всего мгновение, он с силой отшвырнул посох, издал еще один оглушительный рев, ринулся к Вояне, вскинул ее на плечо и умчался в чащу, ломая ветки!
Еще какое-то время мы слышали треск в той стороне, где оборотень прорывался сквозь заросли, потом донесся короткий женский крик – будто жертва похищения лишь теперь сумела набрать воздуху, чтобы подать голос, – и все стихло.
Тут мы, будто кто дал нам знак, как принялись вопить!
Аська схватил было какой-то сук кинулся вдогонку, младшие братья, не переставая орать, по привычке побежали за ним. Хотя куда было этой мелюзге против медведя!
Довольно скоро они вернулись, потеряв след.
– Домой идемте скорее! – причитали две бывшие с нами старухи. – Воеводам скажем, к князю пошлем! Пусть мужики снаряжаются искать, спасать невесту нашу! Ой, беда какая!
Но что-то неестественное слышалось в их причитаниях: будто на Купалу оплакивают чучело «помершего Ярилы»…
Мы побежали домой. На наши крики собрались мужчины Варягина и Люботиной веси. Никто не удивился происшествию, все с готовностью подхватили топоры и побежали в лес.
Эльгина мать не кричала. Она сидела у окна, сложив руки на коленях, и по лицу ее казалось, что она хочет заплакать, но сдерживается.
– Ее же найдут? – Эльга подошла и прижалась к матери, обвила руками ее шею, стараясь утешить. – Он… медведь же ей ничего плохого не сделает?
– Н-нет, – ответила стрыиня Домаша, но было видно: она думает о чем-то, о чем не хочет нам сказать. – Она вернется домой… скоро… дня через три. А в былые времена и по году у медведя в берлоге жили…
– В былые времена… жили в берлоге? – Эльга даже отстранилась в изумлении.
Мы, прочие девочки, тоже уставились на Домашу.
Меня снова накрыла мягким холодным крылом лесная жуть.
– А вот я… расскажу. – Домаша обняла одной рукой Эльгу, второй притянула к себе Володею – то есть Вальдис – и усадила с другой стороны от себя. – Помните… бабу Гоню? Матушку мою, Годонегу Ратиславну? Когда была она девкой молодой, жила у отца в дому, будто ягодка в меду. И пришел однажды в городец к ним Князь-Медведь. Пришел и говорит: отдайте мне княжью дочку, будет она мне женой! Заплакали ее отец с матерью, а делать нечего – отдали. Взял ее медведь, посадил в сани и повез в лес. Привез к себе в берлогу, вынул из саней… она лежит, ни жива ни мертва от страха. Как очнулась, он дал ей меду поесть, ягод, кореньев. И стала она жить с ним: медведь из лесу дрова таскал, дичь промышлял, а она воду носила да кашу варила. Год прошел, родился у нее сынок – Медвежье Ушко, наполовину медведь, наполовину человек. Тут стала она проситься, чтобы пустил муж ее домой, родичей повидать. Князь-Медведь согласился, посадил ее на сани с младенцем, поволок в город. Как подъехали – собаки лай подняли; Гоня соскочила с саней, а медведь развернулся – и назад в лес бегом! Пошла она домой с сынком, родителям показала, все обрадовались: думали, ее в живых уж нет. Только она, пока у Князя-Медведя жила, вся почти бурой шерстью обросла и говорить разучилась: рычать да бурчать стала, как зверица. Но мать не растерялась, повела ее в баню, стала травами парить да слова сильные шептать. И пока мылась, сошла с Гони шерсть, и стала она красавица, как была. Вышла замуж за деда Судогу, стала поживать да добра наживать, шестерых сыновей родила, потому что медведь всякой молодице великую силу дает, чтобы рожать сыновей – здоровых, как медведи. Старший сынок, Медвежье Ушко, тоже с ними поначалу жил. А как сравнялось ему семь лет, пришел Князь-Медведь и стал просить, чтобы ему его сыночка отдали. Гоня и отдала…
– Это он и был, да? – вдруг спросила Эльга.
– Кто?
– Ну, тот медведь, что нас тогда… и сейчас Вояну… Это сын бабы Гони и медведя? Он стал совсем медведем, да?
– Да. – Домаша кивнула со вздохом. – Когда девушка в лес к медведю попадает, у нее потом родится сынок… или дочка, и тех медведю в лес обратно отдают – они медвежьи. А второй сынок и дальше – эти уже ее, их не трогает.
– Значит, Вояна…
– Она не будет год в лесу жить. Ее скоро спасут. Приедет ее жених из Будгоща и спасет. А если она тоже под медвежьей шкурой придет и будет молчать поначалу, будто немая, то вы за нее не бойтесь: баба Гоня перед уходом мне те сильные слова передала, которыми ее мать заговаривала. Я сумею Воянку вновь человеком сделать. И будет она красавица, как прежде, сильнее и здоровее, чем была, и родит семерых сыновей, здоровых, как медведи…
– А если… – Домаша помолчала, будто сомневаясь: открывать нам тайну или нет, но все же продолжила: – А если кому из вас придется в лес идти, то и вас заговорю. И после слова те передам, чтобы бабкина мудрость не пропала, и умели вы всякому обороченному вновь облик человеческий вернуть. Рассказывают, в старые годы со всякой девкой такое бывало. Теперь сия мудрость только в княжьих родах от матери к дочери передается. Княгиня ведь – целому племени мать, ей нужно уметь в Навь заглядывать, чтобы волю предков исполнять и дерево рода хранить…
Не сказать, чтобы это обещание нас утешило, но больше мы вопросов не задавали. В десять лет мы уже знали, откуда что берется. Разумеется, знали и то, что каждая из нас когда-то – уже довольно скоро – выйдет замуж и будет рожать детей, но что отцом старшего из них должен стать медведь…
Почетное место княгини и старшей жрицы племени не давалось даром, и не всякая была для него пригодна.
Мы с Эльгой – особенно она – стояли достаточно близко к этой пугающей чести, мысли о ней нас частенько беспокоили, даже порой подавляли; не хотелось даже это обсуждать.
Зато бабы и девки – что у нашей челяди, что в Люботиной веси – не хотели говорить ни о чем другом. Им-то берлога не грозила…
Чего мы только не наслушались!
Про то, как «в одном городце» медведю не отдали невесту, и он превратил в зверей лесных целую свадьбу, а через год под шкурой убитой медведицы с двумя медвежатами обнаружили бывшую невесту в полном свадебном уборе.
Про трех сестер, которые заблудились в лесу, зашли в берлогу, и там уж сам лесной хозяин угощал их кашей, приговаривая: «Которая есть не будет, ту замуж возьму».
При этом я невольно воображала на месте этих сестер нас с Эльгой и Вояну.
Я не могла и представить такого лютого голода, который заставил бы меня взять в рот хоть крупинку из этой медвежьей каши!
Под вечер первого дня мужики вернулись из леса ни с чем, но ничуть не огорченные: все были пьяны, веселы и пели похабные песни.
На второй день повторилось то же самое.
Зато вечером, уже после их возвращения, внезапно объявился Видята Житинегович со товарищи.
Приехал за невестой, а невесты-то и нет!
И на третий день уже наши все остались дома, а в лес пошел Видята со своей молодой дружиной. Ему предстоял поединок с грозным Князем-Медведем за право владеть девушкой. В наших глазах долговязый худощавый Видята был равен тем витязям из сказаний, что боролись на Калиновом мосту со змеем о двенадцати головах, о двенадцати хоботах.
Мы ждали его с замиранием сердца.
И больше всего боялись увидеть Вояну.
Какой она стала, наша сестра, с которой мы прожили вместе всю жизнь? Неужели она вернется медведицей – в шкуре, не умеющая говорить, с маленьким медвежонком на руках? Мы видели медвежат – иногда их приносили ловцы, завалившие медведицу в берлоге. Не знаю, как у них хватало смелости снимать с нее шкуру – а вдруг под шкурой окажется человеческое тело?
Маленькие медвежата были совсем не страшные, а забавные. Но от мысли, что одного из них могла бы родить женщина, пробирала жуть. Это была бездна – смешение человеческого и звериного, чему нет места в нашем, привычном и обжитом мире. Но уж слишком мал был этот наш мир – и слишком близка межа…
– Нет, у нее не будет медвежонка! – уверяла меня Эльга, а заодно старалась убедить саму себя. – Для этого надо прожить там год. А она – всего три дня. Завтра ее приведут. Мама сказала – значит, приведут.
Но, забравшись на полати в избе стрыя Вальгарда, мы долго не спали, прижавшись друг другу спинами.
На ум лезло то, что должно случиться с девушкой в берлоге за эти три дня. Она незримо принесет лесное дитя с собой и родит его, уже будучи женой обычного мужа. Но ее первенец все равно будет принадлежать лесу, и через семь лет князь из чащи придет за ним…
В эти дни мы в лес больше не ходили: он стал запретным местом, слишком опасным.
Межа раскрылась, и нам даже не следовало приближаться к краю.
– Ведут, ведут! – закричали на выгоне под вечер третьего дня.
И мы все побежали наружу.
По дороге шли гурьбой отроки из дружины Видяты. А в середине их толпы виднелось нечто… или некто… что-то темное и косматое. Казалось, ведут к жилью плененное лесное чудовище.
Когда подошли ближе, стало ясно, что это человек, завернутый с головой в медвежью шкуру: только внизу были видны босые ноги, и в них мы безошибочно признали ноги Вояны.
Уродилася сильна ягода в бору, Ой-лели, сильна ягода в бору! Заблудилась красна девица в лесу. Ой-лели, красна девица в лесу! Заблудившись, путь-дорожку не нашла, Выходила на крутенький бережок, Да садилась под ракитовый кусток, Расстилала тонкий беленый платок!Так пели женщины, вышедшие навстречу, впереди которых стояли княгиня Велемира и стрыиня Домаша.
Закричала громким голосом она: – Будь в лесу хоть старый или молодой, Проводи меня дороженькой домой! Тут идет из лесу к ней медведь лютой, – Проводи меня, медведюшка, домой, Что захочешь, за услугу подарю, Перстень золотой с руки тебе сниму. – Мне не надо ничего-то от тебя, Только надо: поди замуж за меня!Мы с Эльгой стояли среди прочих детей, крепко держась за руки.
Я боялась даже смотреть на Вояну – или на то, что привели из леса вместо нее. Эта шкура, под которой было не видно даже лица…
Казалось, она принесла часть леса с собой: его влажное, пахнущее мхом и хвоей дыхание, болотную сырость, звериный дух…
Часть иного мира явилась среди обычных людей, раздвигая человеческий мир, будто лодка воду.
Эльга стояла, почти такая же бледная, как три дня назад на поляне, когда мы вновь увидели Князя-Медведя. Теперь мы знали, что он – наш дальний родич, но от этого было еще страшнее. Грань нечеловеческого придвинулась ближе и пролегала теперь через наш собственный род.
Чем ближе подходило победное шествие, тем глубже у меня душа уходила в пятки. Казалось, сейчас Вояна зарычит по-звериному и кинется на людей. Тогда я, наверное, сразу умру на месте…
Наверное, если бы поймали лешачиху, которую я никогда не видела раньше, это было бы не так жутко.
Однако ни на кого она не кинулась.
У ворот женихова дружина уступила место женщинам, и дальше уже те повели «медведицу» в заранее подготовленную баню, куда унесли целые веники пахучих чудодейственных трав. Оттуда Вояну вывели, одетую во все новое, покрытую большим льняным платом. Ее проводили домой, но нас туда не пустили, и в этот раз мы, все дети, ночевали в нашей избе, тесно набившись на полати.
А назавтра все они отправились в долгий путь – в Будгощ, на свадьбу.
Вояну так и вывели под покрывалом, и я не увидела ее нового лица.
Пожалуй, Вальгард принял решение взять с собой в поездку свою старшую дочь в те мгновения, когда прикладывал к ее еще детской груди греческое ожерелье с жемчугом.
Зеленовато-голубые камни и ее глаза того же цвета представляли вместе такое красивое зрелище, что даже у него захватило дух и он вдруг увидел: его дочь, уже почти взрослая, – настоящее сокровище!
Такую можно показывать людям. Пусть видят все эти князья и старейшины, которые соберутся в Будгощ за столами Житинега, – ни у кого из них такой в роду нет!
Не объявляя пока никому о своих намерениях, он велел приготовить ей одежду из привозной тонкой шерсти, крашенной в яркие цвета. Мать сшила ей сорочку, как носили у кривичей, со сборчатым воротом, но покрасила ее в темно-голубой цвет, как было принято у богатых женщин Северных стран. А еще платье – из тонкой, мягкой светло-коричневой шерсти, вытканной ромбиком, с полосками узорного шелка на вороте. Воеводша Борглинд, жена плесковского Сигбьерна ярла, сшила в подарок юной невесте хенгерок и даже прибавила наплечные застежки.
И когда Эльга, одетая в богатый наряд, с расчесанными до блеска светло-русыми волосами, с красной шелковой лентой на голове, к которой были привешены серебряные кривичские заушницы, с греческим ожерельем на груди, сидела на краю женского стола в обчине Житинега, на нее поглядывали чаще и с большим любопытством, чем даже на невесту. Так было и в первый день, когда лицо Вояны скрывала паволока, и на второй, когда она появилась из овина, где молодые спали на сорока ячменных снопах, уже в уборе молодицы, с открытым лицом, но спрятанными волосами.
Прощай, косынька русая!
Отныне никто, кроме ближайших домочадцев, ее волос видеть не будет. На обряде «прощания с красотой» свою ленту с головы она отдала Эльге, как следующей в семье невесте. С этой лентой та и сидела на пиру.
Но никто не смотрел на дочь Вальгарда с таким пристальным вниманием, как князь Дивислав.
Он приехал в сорочке с вышитыми знаками «печали», как положено по первому году вдовства. Двойня оказалась к несчастью: незадолго до Ладиного дня у княгини Всевиды наступили преждевременные родины, и она умерла, с трудом разродившись двумя близнецами. И те тоже умерли почти сразу, будто желая следовать за матерью, с которой Недоля разлучила их раньше времени.
Поначалу Дивислав был сам не свой от горя и ярости: он не сомневался, что в этом несчастье виноват проклятый пес Будина!
Но мстить покойнику было поздно, он мог лишь еще раз плюнуть на то место, где зарыли голову мерзавца, но на сердце легче не становилось.
У него осталось пятеро детей, из которых старшему исполнилось десять. Золовка Держана, непрерывно причитая шепотом – охрипла от плача по любимой сестре, – взяла в руки уже знакомое хозяйство и всех восьмерых мальцов.
Но собственный дом – еще не все. Племя нельзя оставлять без княгини, и Дивиславу приходилось подумывать о новой женитьбе.
Но сначала он заметил не Эльгу, а только ожерелье у нее на шее. Слишком хорошо он помнил эту вещь – и потому, что нечто подобное ему приходилось видеть только один раз в жизни, и потому, что видел он ее в связи с негодяем Бодди и тем злосчастным происшествием у гостиных дворов, о котором и сейчас, более полугода спустя, все еще думал каждый день.
Как оно оказалось здесь? Откуда взялось?
Поначалу он был так потрясен, что не сразу сообразил посмотреть, кого драгоценная низка украшает теперь. Подняв глаза к лицу Эльги, он поначалу взглянул с негодованием: раз на ней ожерелье Бодди, значит, она как-то с ним связана!
Но тут же переменился в лице: это была девочка, хоть и развитая для своих лет, но все же почти ребенок. К тому же племянница плесковского князя не могла иметь никакого отношения к давно покойному мерзавцу.
– Вижу, чудо чудное, диво дивное ты, Велегор, для дочери раздобыл, – заметил он Вальгарду. – Кто же тебе такое привез?
– Это подарок ее жениха, вернее, его отца, Ульва конунга из Волховца, – ответил тот, довольный, что сокровище не осталось незамеченным. – И хотя это первый его подарок ей, надо признать, он стоит многих иных.
– Это верно… – безотчетно пробормотал Дивислав.
Мысли так и замельтешили у него в голове: Ульв мог получить ожерелье только от Бодди!
Хотя князь уже знал, что варяг обманул его и спрятал негодяя, уверяя, что тот уехал, теперь стало ясно, чем Бодди купил себе еще три дня своей никчемной жизни.
Надо признать, Ульв задорого продал свое честное слово, но все же продал…
Через пару дней, пока в Будгоще еще продолжалось веселье, однажды Дивислав завел разговор с плесковским князем Воиславом – с глазу на глаз, чтобы не слышал даже Вальгард.
– Стало быть, одну племянницу в Будгощ отдали, а через вторую с варягами породниться хотите? Вальгардову дочь в Волховец отдаете?
– Так Вальгард – сам варяг! Ему отец сестру мою отдал, чего же его дочь другим варягам не отдать? Ульв и богат, и силен, и родня у него повсюду…
– Да только душа у него черная и чести ни на хвост собачий!
– Да уж мы слыхали, будто зимой у тебя с ним мало что рати не вышло? – Воислав с любопытством посмотрел на него. – Чем же он обидел тебя?
– Был один варяг проезжий, гадюка лысая… – Дивислав стиснул зубы. – Жену мою погубил, нарочитых мужей оскорбил, простую чадь ограбил. Шел я за ним, а Ульв спрятал его у себя и мне выдавать отказался. Кабы не сын Унегостев из Словенска – утек бы гад за море, и поминай как звали. Ульв в глаза мне смотрел и клялся, что нет у него Будины, ушел в Ладогу, дескать. А тот в избе под лавкой сидел и дрожал, как лист осиновый. Ульву снизку подарил – ту, что у невестиной сестры на шее. А тот Вальгарду послал. Видать, руки жгла, не совсем еще совести лишился. Нету волховским варягам веры ни на чих мышиный, а ты к ним в дом племянницу отдаешь!
– Да я и сам не рад… – пробормотал Воислав, отводя глаза. – Вальгард решил дочь просватать, меня не спрашивал. Отец тогда жив был, он согласился. Говорил: коли с наровой или чудью опять раздор пойдет, через Нарову в Варяжское море не выйти – а у нас на Волхове родня, там пройдем. Да и с киевским князем тоже будем в родстве, плохо ли?
– Не с варягами нам, словенским князьям, в родстве надо быть, а между собою! Со своим корнем! Варяги что – пришли одни, завтра другие! И не родня они нам, не товарищи, только и жди пакости какой! С поозеров Ульв дань берет, чуть что не так – вовсе изведет их, и будет все Поозерье под варяжским князем! Как в Киеве! Но там хоть хазары да деревляне старых князей повывели, так что полянам и негде было защиты себе искать, кроме как у руси. Но мы-то! Я! Ты! Наследники мы богов своих или бабы трусливые?
– Ты чего хочешь-то? – Воислав пристально посмотрел на него. – У меня для тебя невесты нет. Сестер раздали, а из младших девок эта, Велегорова, – старшая. Другие все ее моложе – и у меня, и у братьев. Только для сыновей твоих, если желаешь, могу дать.
Дивислав помолчал, потом поднял на него глаза:
– Для сынов – спасибо, возьму твоих дочерей. А мне самому вот эта нужна, Велегорова. Как ее там… Елега?
– Да ты что? – Воислав поднял брови. – Она тебе в дочери годится! И сговорена она!
– Ты подумай: Ульв ведь не зря именно эту высватал. Она племянница не только тебе, но и покойному киевскому князю Олегу Вещему. И нынешнему, Олегу Моровлянину, тоже родня, да еще старшая! Он ей племянник, хоть и старее годами! У Ульва дочь замужем за Олегом Моровлянином. Если я возьму Велегорову дочь, то будет у меня с киевским князем то же родство, что у него. И не Ульв, а я тебе буду родич. Мои дети, от Беривидовны покойной – полоцким князьям родня, а моя мать была из рода смоленских князей. Смотри, что получается! От Киева до Ильмень-озера и до Чудь-озера – все мы будем, словенские князья, единый род! Что нам тогда эта вся русь! Сгоним их с земли нашей, сами будем дедовыми угодьями владеть, никому дани платить не станем и никому чужому, волку лютому, не дадим с нашей земли кормиться и щедротами ее пользоваться! Соберемся все вместе да избудем с Волхова варягов проклятых. Так будет! Не сейчас, не завтра, так послезавтра будет! Зачем тебе-то это родство? Через Будгощ присылай свои товары на Ловать ко мне, я дальше переправлю до Смолянска, а там – и до Киева. Зачем нам Ульв? Это мы ему нужны! Это он нам будет в ножки кланяться! Кто он без нас?
Воислав молчал.
Горячая убежденность Дивислава заражала, этим доводам отзывалось нечто запрятанное в глубине души.
Не только на Ильмене – везде вдоль торговых путей через славянские земли, где русь забрала силу, зрело недовольство – поборами, раздорами, перехваченными выгодами. Нередко вспыхивало возмущение, перераставшее в настоящие войны. Но многие князья, живущие на опасных участках, доступных для грабежей с моря, вынуждены были нанимать варяжскую дружину. И каждый помнил, что однажды эта дружина может обратить оружие против него.
Унегость поозерский уже не чувствовал себя хозяином в собственных владениях, и плесковские князья были вынуждены считаться с мнением варяжских воевод. А те мало того что захватывали в руки выгодную заморскую торговлю, но и приобретали все большее влияние, благодаря богатству и военной силе набирая сторонников среди исконных родов.
– Это все хорошо… – пробормотал Воислав чуть погодя. – Так что же, все в нее одну упирается?
– Велегор – стрый киевскому князю Олегу, а его жена – сам знаешь, сестра тебе. Их дочери – в родстве с киевскими и плесковскими князьями. А эта – из них старшая. Чего еще тебе объяснить?
– Вальгард не пойдет на это. Он дал слово Ульву, мой стрый Ратимер послухом был.
– Как дал слово, так и назад возьмет. Я-то уж теперь знаю, чего стоит слово варяжское! – усмехнулся Дивислав. – Если ты не прочь от такого зятя, как я, то с ним нынче же и поговорю.
– Погоди, не спеши! Тут подумать надо. Со старейшиной и дружиной потолковать. Если решат, что дело подходящее, мы с Вальгардом сами обсудим. Только… знаешь… я бы на его месте ни за что эту снизку греческую назад не отослал! – со смехом признался Воислав. – Моя баба ее как увидела, так чуть ума не лишилась. А обручение разрывать – дары назад слать, так ведь?
– А вот посмотришь сам, отошлет он эту снизку назад или нет! И скажи ему вот что: Ульв обманул меня, поэтому Ульву больше веры нет. Жена моя умерла из-за той мрази, что он покрывал, и двоих родишек с собой на тот свет увела. Не друг он мне больше, и родня его, кровная ли, сватанная ли, – мне не товарищи. А коли я их гостей через Ловать не пропущу, куда они со своего Волхова денутся? Только назад, в море Варяжское. Велегор – по виду мужик не глупый. Объясни ему, может, он и сам поймет. Хоть и варяг. Все-таки сам на твоей сестре женат, должен разуметь.
Дивислав помолчал, давая собеседнику время осмыслить прежнее, потом добавил:
– И еще ему скажи… У Олега киевского есть сын, ему уж года три. Я давным-давно про это знаю: его жена ехала в Киев уже чреватая, и моя жена тогда за ней ходила, когда она у меня в городце в лежку лежала. Коли Ульв хотел от Олега заложника – путь сына его и берет. А дочь Велегорова ему уже и ни к чему, получается. А его, Велегора, с киевским князем родства никакой Ульв не лишит. Ну, разве что и там когда-нибудь свои князья снова сядут, полянские.
Воевода Вальгард не слышал этого разговора, но на свадьбе он тоже не только пил пиво.
Здесь он узнал во всех подробностях «Сагу о Кабаньей Морде», и о том, к чему это все едва не привело.
Причем рассказывал об этом Гостомысл Унегостевич, многозначительно посматривая на него, Вальгарда.
Воевода, разумеется, хранил обычный небрежно-непринужденный вид, но ощущал, что люди знают о связи между ним и Ульвом, который так некрасиво себя повел. И яркое доказательство этой связи с Ульвом, а через него – и с жалким бродягой Бодди висело на шее у его дочери! Даже золото, самоцветы и жемчуг под этими взглядами будто потускнели и сияли как-то стыдливо.
– Оказывается, мой будущий родич прислал нам еще более дорогой подарок, чем я думал, – обронил Вальгард. – Это не просто греческое ожерелье. Это цена его чести. Самого дорогого, что у человека может быть.
– Хоть и задорого продался, а стоит теперь дешево! – усмехнулся Гостомысл. – Уж я бы не думал, что мне в таком свате много чести. Девка-то какая хорошая, жалко загубить! Ну, да каждому своя доля напрядена, ее не переменишь…
Вальгард не ответил.
Предания его родины утверждали, что каждый сам выбирает свою судьбу и должен стойко встречать последствия выбора.
Ульв сделал очень большую глупость, что поссорился с Дивиславом.
Греческое ожерелье красиво и стоит дорого, но все же меньше, чем убыток, который понесет Ульв, если Дивислав перекроет путь на Ловать.
Это неизбежная война.
И Вальгард понимал, что у него еще есть надежда выбрать, на чьей стороне он окажется.
Собственная родня тоже что-то затевала. Жена постоянно шепталась со своим братом и княгиней, но, завидев Вальгарда, все умолкали.
Житинег никак не хотел отпускать гостей, все просил побыть еще немного, да и Домолюба не спешила оставить дочь в новом чужом доме – уже навсегда.
Что ни день чередовались пиры, выезды на ловы, катания на лодьях по озеру, состязания. Съездили они также всей толпой в Перынь и принесли белого барана и овечку в жертву Перуну, Дажьбогу и Ладе для защиты и благословения молодой княжеской семьи.
Но чем дальше, тем больше глухое беспокойство отравляло Вальгарду свадебное веселье.
И вот однажды Эльга прибежала с посиделок, на которые женщины по вечерам собирались в беседе у Житинеговой княгини, мало что не в слезах.
– Эле, что такое? – Вальгард, особенно пристально следивший за домочадцами в эти дни, сразу подозвал ее к себе. – Что случилось? Тебя кто-то обидел?
– Они говорят… – Эльга гневно раздувала ноздри и в то же время с трудом сдерживала слезы. – Говорят, что я… что меня… что мне идти замуж в бесчестный род! Говорят, что Ульв продал свое слово за… мое ожерелье, и теперь у него чести не больше, чем у пса дохлого! А мне к ним в дом замуж идти! Я не хочу!
– Это кто говорит? – Вальгард нахмурился, хотя сам давно чего-то такого ожидал.
– Да все говорят, – со вздохом облегчения, словно нарыв прорвался, вместо дочери ответила Домолюба. – Бабы только об этом и болтают, да и князья меж собой…
– Я знаю, какие это князья! Дивислав не может простить Ульву, что тот не выдал своего гостя, хотя потом ему все равно принесли его голову! Ему мало? Чего еще он хочет? Он не жрал песьего мяса, а сам теперь злее любого пса! Если бы Ульв выдал Бодди, его бы не называли подлецом? Он имеет право давать приют в своем доме, кому считает нужным.
– Но он обманул! – вступил в разговор Воислав, давно выжидавший подходящего случая. – Он сказал Дивиславу, что у него в доме Будины нет, а тот был! И мы знаем, почему он так сказал – не ради закона, а ради побрякушки вашей!
И он небрежно мотнул головой, будто сам еще на днях не замирал от зависти при виде этой «побрякушки».
– Подумай сам, кого мы теперь в родню берем! – продолжал плесковский князь. – Кабы это раньше случилось, отец нипочем бы согласия не дал твою Эльгу обручить. Хоть они нам серебром засыпь всю дорогу от Ильменя до Чудь-озера! Ульв сам замарался, и нас всех за собой в грязь потянет. И ладно бы только это! А если Дивислав ему теперь дорогу в Ловать перекроет?
– Ульв соберет войско и пойдет на Дивислава, – уверенно ответил Вальгард, будто иного следствия и быть не могло. – Вы что-то разгулялись тут очень. Ульв богат и силен – он может купить и Дивислава, и Житинега, и Словенск в придачу. А не купить, так взять на копье!
– Ну, нас-то ему не купить, мошна мелка! Мы из всех кривичей – старший род, смоленские и полоцкие князья – наши младшие братья, а когда наши предки заселяли здешние земли, про русь в те поры и вовсе тут никто не слыхивал! Да наши могилы родовые…
– Воевать будут не могилы, а живые люди. А людям нужно оружие, припасы, кони, волокуши, шатры, котлы… да ты сам знаешь, чего стоит снарядить поход. Ульв может нанять сколько угодно войска. Он может послать в Бьёрко или на Готланд, где зимой ошиваются всякие «морские конунги», и привести сюда хоть сотню кораблей. И это будет совсем не такое войско, какое вы с Дивиславом сможете собрать по своим гнездам! Ульв сидит в Волховце именно потому, что у него шестьдесят человек, и у каждого есть шлем, а у каждого второго – меч. И они готовы выступить когда угодно, их не надо искать, собирать, уговаривать, ждать, пока закончится сенокос или жатва… Он наносит удар, пока противник не успевает и опомниться! Где ваши белогорские князья? Они тоже были очень смелыми, когда отказались платить дань Хакону и стали привечать у себя тех, кто не желал платить ему торговые сборы и ехал по суше вокруг Ильмень-озера. Хотел отвести себе ручеек от реки серебра, что течет по Волхову и Днепру. Где они теперь, эти храбрецы?
– Белогорские силу не рассчитали… – сквозь зубы признал Воислав. – А вели б себя поумнее, не заносились бы перед родней, может, сейчас ты бы спрашивал, где Хакон. Или не спрашивал. Забыли бы его давно. Мы-то здесь – что дуб на корню! А они – что лист на ветру!
– Полянские князья тоже считали себя дубом на корню, – негромко обронил Вальгард. – Они тоже сидели на своей земле так давно, что сами забыли, когда туда пришли. Они почти помнили, как Сварог перепахивал степь, а Змей тащил плуг, чтобы разделить мир живых и мир мертвых. Но сперва полянами завладели хазары – и почти перебили всех их князей. Потом мой брат Одд Хельги пришел туда со своей дружиной – и избавил киевских князей от хазар. В благодарность они даже отдали ему свою дочь в жены, но потом тоже решили, что теперь справятся сами, и попытались его прогнать. И он ушел вместе с женой и сыновьями. Но недалеко. Он знал, что будет дальше. За это его считали вещим, но на самом деле он просто был очень умен и умел видеть на десять шагов вперед, а не на один. Когда он ушел, под Киевом объявились деревляне и добили всех, кто оставался от старых князей. И так развернулись среди полян, что те сами послали за Оддом. И он стал князем по праву наследования через жену. Можно сказать, что старые князья полян сами ему все отдали и сами ушли с его дороги. Прямо в Навь. Дивислав, наверное, не слышал об этом. Иначе не стал бы так охотно искать ссоры с Ульвом и подбивать на это других.
– Здесь не Киев, – заметил Воислав. – Там уж больно врагов всяких много. А у Дивислава опора крепкая: полоцкие князья, смолянские князья. Если вся родня за него встанет, Ульв до Киева ни мечом, ни копьем не дотянется. И мы с тобой тоже! Много будет толку, что вы с нынешним Олегом киевским родня? Не через Хазарское же море к нему ездить!
– А поддержит ли его смолянская и полоцкая родня? И там, и там очень много варягов. И все это – богатые уважаемые люди. Один Сверкер чего стоит – его род держит дружину в Свинческе уже третье поколение, и князь Ведомил таки отдал за него свою дочь, а ведь он очень не хотел этого делать. Князьям приходится считаться с русью. А она богатеет на торговле и не одобрит никаких решений, которые этому помешают. Ловать и Волхов – лишь один из четырех путей во все стороны света, которые оттуда расходятся.
– Никто не будет мешать им ездить в Киев и дальше, до греков. А на Варяжское море они попадут через Плесков. Ты понимаешь? – Воислав подошел к Вальгарду ближе и наклонился, уперев ладони в стол. – Не через Волхов серебро потечет, а через Шелонь и Великую. Через Плесков. И мы с тобой, зять дорогой, скоро в этом серебре ходить будем по уши.
– Да никак ты предлагаешь мне разорвать обручение моей дочери с сыном Ульва? – Вальгард сделал изумленное лицо, будто эта мысль только сейчас пришла ему в голову.
– А ты никак опять дурня ломаешь! – За двенадцать лет Воислав хорошо изучил родича, но не вполне приспособился к его нраву. – Тут судьба всей нашей земли решается!
– И все зависит от того, за кого я выйду замуж? – с изумлением, но и почти с торжеством прошептала Эльга.
И посмотрела на себя, будто за одиннадцать лет жизни впервые сообразила, каким сокровищем уродилась на свет.
Словом, Эльга уехала из Плескова невестой и приехала невестой, но уже совсем другого жениха. Новый отличался от прежнего почти всем: был не отроком, но зрелым мужем, потомком не королей Севера, а славянских князей, не заложником-наследником, которому еще невесть сколько дожидаться своего наследства, а полновластным хозяином родовых владений.
Поскольку прежнего жениха она никогда не видела, то и потери не ощущала.
Жаль ей было расставаться лишь с подарком – драгоценным ожерельем. Но это было необходимо.
Князь Воислав ударил по рукам с Дивиславом, а Вальгард передал Гостомыслу упрятанное в льняной мешочек ожерелье и напутствовал так:
– Передай это Ульву и скажи: я не могу держать у себя то, что он купил столь дорогой ценой. Он все поймет.
Глава 3
Киев, восьмой год после смерти Олега Вещего
Глядя на Ингвара, сына Ульва – Ингоря Улебовича, как его здесь называли, – никто не подумал бы, что когда-то он прибыл в Киев в качестве заложника.
Его привезли робким, щуплым рыженьким мальчиком, оторванным от родных и всего знакомого. Забросили в далекие страны, к чужим людям в сопровождении воспитателя, отцовского хирдмана по имени Свенгельд.
Двенадцать лет спустя это был уверенный в себе мужчина и воин, имеющий на счету два удачных похода – на деревлян и на уличей. В первом из них истинное руководство, конечно, брал на себя Свенгельд. Но успех обеспечивает удача вождя – и этой удачи у четырнадцатилетнего тогда Ингвара, потомка легендарного Харальда Боезуба, оказалось в достатке.
Он только что вернулся из похода в низовья Днепра на тиверцев и уличей, который продолжался почти три года.
Несмотря на то что Пересечен, где сидел старший уличский князь Драгобой, пришлось осаждать целых три года, Ингвар мог гордиться успехом похода. Еще сам Олег Вещий пытался покорить эти земли, но был вынужден отступить под натиском угров. Докончив то, что намеревался совершить Вещий, Ингвар из мальчика превратился в мужчину – в глазах дружины, киевских нарочитых мужей и всего полянского племени.
И в своих собственных.
Теперь его называли уже «князь Ингорь», хотя пока он не владел ничем, кроме своей дружины. Собственные кмети из варягов, смеясь, называли его «морским конунгом на суше».
Подчинение земель уличей и тиверцев, что лежали вдоль Буга, Днестра и Прута, обеспечивало киевским князьям прямой выход к Греческому морю: вдоль этого участка морского побережья пролегал путь в Царьград. Если бы Олег Вещий мог встать из кургана и посмотреть, как разрастается, будто тесто, Русская земля – те владения, которые он когда-то принял жалкими данниками хазар, – он был бы доволен своими преемниками.
У Ингвара захватывало дух при мысли, как широко раскинулись по миру владения союзных и близких ему родов: от Хакона ярла, родича отца, что сидел в Ладоге близ Варяжского моря, до Киева и побережья Греческого моря.
Вот только между этими концами великого торгового пути еще засело разное мелкое княжье, завидующее чужим успехам…
Но сейчас Ингвару не хотелось об этом думать.
Стояла осень; Свенгельд пока еще оставался с частью дружины в Пересечене, а Ингвар вернулся домой, в Киев, собирать урожай дедней и новой славы.
Даже за эти три года Киев изменился.
– Посмотри! – Мистина придержал коня и показал плетью. – Помнишь, мы на этом пустыре в «русь и хазар» играли, а теперь тут кто-то, вон какой двор выстроил!
– Да я уж наигрался, – буркнул Ингвар. – Три года без передыху…
– Хоромы знатные! – добавил Мистина с оттенком небрежной зависти. – Изба, и хлев, и клеть, и погреба – небось торговый гость какой поставился.
Они выехали вдвоем прокатиться и посмотреть, что изменилось за время их отсутствия. Казалось бы, три года – небольшой срок для поселения, которое стоит здесь уже веков пять и помнит битвы Сварога со Змеем Горынычем. Однако в прежнее время была заселена лишь вершина Киевой горы и кое-какие урочища внизу. Зато при жизни последних двух поколений Киев рос поистине как на дрожжах: при Олеге Вещем поселение на днепровских кручах избавилось от власти хазар, более того, сюда стала поступать дань из соседних земель.
– Теперь не то еще будет! – Мистина хмыкнул и шутливо толкнул Ингвара в плечо. – Да ты и сам можешь уже себе двор взгородить – посильнее этого! Не думал, а? Хозяйку приведешь… Теперь все девки твои!
– Да ну! – Ингвар поморщился и отмахнулся. – Себе хозяек ищи…
– А что, я дело говорю! – не отставал оживившийся Мистина. – Не будешь же и дальше в отроках у Олега сидеть! Ты теперь – не репа с ушами, ты – воевода, победитель, князь! Верно говорю! Хочешь, сегодня же с Олегом разговор заведем? И пусть невесту тебе ищет, где знает сам, хоть Солнцеву деву! Раз уж его родичи тебя так с прежней подвели…
– Да пусть ее леший берет! – выругался Ингвар. – И тебя вместе с нею!
Хлестнув коня, он помчался вдоль ряда дворов, спускаясь к Подолу.
Совсем недавно, казалось, он был почти пуст, а теперь на верхних уступах склона – нижний каждую весну заливался Днепром – теснились соломенные крыши. Внизу толпились у причалов всевозможные лодьи, от крупных торговых, вмещавших по два-три десятка человек, до простых рыбацких долбленок.
Мистина, ничуть не обиженный, со смехом поскакал за ним. Его вообще сложно было обидеть. «Я не обижаюсь, я сразу убиваю», – говорил он.
Мистина приходился родным сыном воеводе Свенгельду. Он был на пару лет старше Ингвара, они выросли вместе. Однако трудно было найти в дружине других двух столь же непохожих людей. И если из встречных один знал этих парней, а другой нет, то когда первый толкал другого локтем и говорил: «Смотри, княжич Ингорь едет!» – то другой, кланяясь, непременно смотрел на Мистину, едва замечая его спутника.
Мистина был на голову выше Ингоря (он вообще был самым высоким парнем в дружине), широк в плечах, с длинными руками и ногами. Длинные густые светло-русые волосы он расчесывал нечасто, а просто убирал назад и связывал в неровный хвост. Продолговатое лицо с довольно правильными грубоватыми чертами выдавало в нем уроженца Северных стран; дерзкие серые глаза придавали ему опасный вид. На людей он смотрел снисходительно-насмешливо, и хотя держался, как правило, дружелюбно и мог быть очень учтив, чувствовалось, что стать ему другом нелегко. Едва ли он хоть кого-нибудь на самом деле пускал в свое сердце; будучи всегда окружен людьми, он, казалось, вполне довольствуется дружбой с самим собой.
Умный, деловитый, толковый, распорядительный, притягательный и уверенный, он, несомненно, должен был далеко пойти.
Ингвар же рядом с ним почти терялся. Ниже ростом, хотя довольно коренастый и крепкий, с рыжеватыми волосами и неровно лежащей клочковатой юной бородкой, с грубоватым обыкновенным лицом, он по части вежества и красноречия сильно уступал сыну своего воспитателя. Хорошо он себя чувствовал только в походе или в гриде среди дружины. И впрямь казалось, что судьба совершила ошибку, именно ему позволив родиться в семье конунга. Не лишенный способностей, он почти не умел себя показать нигде, кроме как в схватке. Вот робким его никто бы не назвал: он был отважен, решителен, самолюбив, с детства привык к мысли, что должен защищать свои права и достоинство во враждебном окружении, и всегда готов был ринуться в драку.
Ничто не давалось ему легко, но зато он научился самому главному – упорству.
Мистина вскоре догнал его, они неспешно поехали рядом – мимо Подола, вдоль ручья.
Вдоль тропы теснились избушки и дворики за плетнями; собаки лаяли на двух всадников, припустил во все копытца поросенок, мальчишки бежали за конями, встречные кланялись. Двое отроков в замаранных серых рубашках тащили волокушу с глиной – накопали в овраге, где все жители брали глину для лепки посуды. За двориками вздымался поросший кустами крутой берег горы; построек на вершине отсюда не было видно.
А впереди расстилался Днепр, на котором даже крупные лодьи казались соринками. Он был одного цвета с небом и почти такой же ширины; взгляд невольно убегал вниз по течению, туда, где река и небеса сливались воедино.
Волхов, на котором Ингвар родился и провел раннее детство, тоже был священной рекой – он утекал на тот свет, и в тех краях это ощущалось очень ясно. У Волхова было свое небо, откуда он брал исток – серая, хмурая гладь озера Ильмень. На Волхове тоже случались ясные дни, когда вода его делалась насыщенно-синей, но и тогда не закрывал очей грозный бог Ящер, не смолкал едва слышный суровый шепот…
А Днепр тек в ярко-голубую вышину, обиталище солнечных богов. И ниоткуда, кроме как с киевских гор, это не было так хорошо видно!
Ингвар был уверен, что именно поэтому Олег Вещий выбрал сей городок, который в то время мало чем иным мог похвалиться. А вовсе не из-за греческих паволок, чудских куниц, баварской соли и угорских жеребцов.
– Я бы на твоем месте только об этом и думал, – добавил Мистина некоторое время спустя, будто их беседа и не прерывалась. – Все это, – он обвел плетью и причалы, и лодьи, и избушки среди зелени, – ну, пусть не все, но заметная доля, существует сейчас благодаря тебе, твоей отваге и удаче. И Олегу пришла пора с тобой поделиться.
– Я буду получать половину дани с уличей, – напомнил Ингвар.
– И половину отдавать нам с отцом! – оживленно подхватил Мистина. – А все почему? Потому что здесь князь – Олег, а ты… брат его жены. А был бы ты князь – и получал бы не половину дани, а всю.
– И твоя доля была бы вдвое больше.
– Это тоже важно! Но я забочусь о твоей чести.
– О своей позаботься. Как я буду править на Волхове и на нижнем Днепре одновременно? Портки треснут – туда-сюда шагать! Сколько мне крови попортит все это княжье по дороге, а то и сам Олег!
– А ты – ему! Если ты сядешь в уличах, им всем придется ходить в Миклагард мимо твоих земель. И кому они будут кланяться?
– Если я сяду там, отец решит, что я его предал. Что мне плевать на моих предков и их владения. А они за них столько раз кровь проливали.
– Тебе не плевать. Ты сделаешь свои владения такими огромными, что старый хрен Харальд Боезуб сам себя за задницу укусит от зависти!
– Кончай болтать! – с досадой одернул его Ингвар и снова послал коня вперед.
Если Ингвар был честолюбив лишь в глубине души, то у Мистины этого добра хватало на двоих.
Как и прежде, после возвращения из похода они жили в гриде на княжьем дворе, но столовались у Олега, на чем особенно настаивала Мальфрид. Олег Моровлянин занимал прежнее жилье Олега Вещего – не на Киевой горе (она же просто Гора), где ранее обитали князья Киевичи и теперь еще сидела исконная поляская знать, а на вершине правобережья Лыбеди, на круче, которая раньше звалась Лысой горой, а теперь – Олеговой.
Мальфрид встретила обоих парней приветливо, но во взглядах, которые она бросала на Ингвара, и сейчас еще читалось изумление.
За последние три года, что она его не видела, он из отрока стал мужчиной. Годы походов оставили на нем заметный след: на переносице появился шрам «галочкой», не посередине, а ближе к правой брови, концом рассекающий ее. Двух зубов спереди не хватало – сверху и снизу.
Казалось, Мальфрид всякий раз при взгляде на него спрашивает себя: неужели этот коренастый рыжеватый хирдман, просто одетый и молчаливый, и есть ее младший брат?
В далеком детстве она носила его на руках, но он покинул Волховец шестилетним мальчиком. Когда она сама приехала в Киев вместе с мужем, ему было одиннадцать, но тогда он еще не сильно переменился, лишь подрос чуть-чуть. В вышину он тянулся медленно, как это часто бывает с мальчиками, которых обгоняют порой даже младшие сестры. Но теперь он был одного роста с Мальфрид – высокой для женщины – и гораздо шире в плечах. Стройная, белокожая и светлобровая Мальфрид была истинная «лебединая дева», а коренастый Ингвар с его обветренным загорелым лицом казался рядом с ней каким-то двергом. Двое родичей среди чужого племени, они были очень привязаны друг к другу, хотя выражать эту привязанность Ингвар не умел, а Мальфрид не решалась.
Олег тоже был рад гостям.
В Ингваре он давно уже видел не заложника, а брата жены, естественного своего союзника. Недаром именно ему он доверил возглавлять два последних похода.
За столом находился и мальчик – первый и пока единственный сын Олега. Кроме него, за эти годы у княжеской четы родилась лишь одна девочка, Предслава, она была на год моложе брата.
Когда после Свенгельдова похода с Деревлянью заключали новый мирный договор, в него вошел и будущий обмен невестами: Предслава была обещана в жены деревлянскому княжичу Володиславу, а сестра Володислава – сыну Олега. Но Олегова дочь жила дома, а маленькую деревлянскую княжну тогда же и перевезли в Киев: теперь обе девочки, шести и четырех лет, росли под присмотром Мальфрид, будто сестры.
Сыну и наследнику Олега дали сразу два имени: Одд – в честь прадеда, и Святожит – в честь прабабки, моравской княгини Святожизны.
Рослый, как оба родителя, светловолосый мальчик однако не отличался крепким здоровьем: голова его казалась слишком большой, и он был бледен даже теплым летом. Каждую осень и весну он неизменно кашлял и мучился лихорадкой, Мальфрид без конца поила его разными травами и изводилась от беспокойства. По виду неглупый, Оди почти все время молчал.
Именно о нем и зашла речь, когда после еды челядь убрала блюда и миски. Мужчинам налили пива в греческие кубки, а мальчика Мальфрид вручила нянькам, велев отвести его прогуляться. Его уже пора было передавать на воспитание кормильцу и переселять в дружинный дом, но Мальфрид все откладывала этот день, боялась отпустить ребенка от себя, надеясь, что здоровье мальчика окрепнет и он станет более пригоден для обучения всем мужским наукам.
– Ну что ты… присмотрелся? – неуверенно начала Мальфрид, обращаясь к брату.
– К чему? – Он бросил на нее взгляд исподлобья.
– К жизни! – весело пояснил Олег. – Как тут люди живут.
– Не видал я, что ли?
– А ты не думал, чтобы тебе… – продолжала Мальфрид, – чтобы… своим домом зажить? Ты ведь уже не отрок…
– Вот, княгиня-матушка! – радостно подхватил Мистина. – Именно это и я ему говорил совсем недавно, и теми же словами! Пора князюшке своим домом зажить!
Здесь все знали северный язык, но из-за Ингвара говорили по-словенски: именно он, будучи отвезен к словенам еще мальчиком, больше привык к этому языку и предпочитал его даже в дружине, где северные варяги, свеи и урманы составляли большинство.
Ингвар дернул плечом: дескать, не знаю я, мне и так неплохо…
Живя в дружине, он следил только за тем, чтобы его люди не были обижены при дележе средств, полученных из княжьей дани. А как хозяину собственного двора, ему пришлось бы вникать во множество дел, к которым он не имел ни малейшей охоты.
– И жениться бы тебе, а? – Мальфрид подперла подбородок ладонью. – Ты уже в зрелых годах… Как смотришь?
– Надо, надо ему жениться! – снова поддержал Мистина.
– А вы уж и придумали, кого сватать? – Ингвар пристально глянул на Олега, подозревая, что его браком сестра и зять хотят обеспечить какие-то свои выгоды. – Если на хазарке или угрянке какой, то пусть ее леший берет, а не я!
Насчет возможности брака с какой-нибудь ляшской или чешской княжной он промолчал.
Ингвар и его сестра Мальфрид попали в полянскую землю благодаря союзу между владыками южного и северного конца пути из Варяжского моря в Греческое. Однако скоро Ингвар начал понимать, что связями между Волховом и Днепром потребности киевского князя далеко не исчерпываются. Киев поистине был перекрестком миров: путь с севера на юг пересекался здесь с куда более древней дорогой с запада на восток. Через обширные владения Хазарского каганата его купцы имели связи даже с далекой страной Сина, откуда уже лет двести хазарские купцы возили удивительной работы шелк с вытканными драконами. Из Хазарии торговые пути, пролегая через земли угров, русов, уличей, бужан, лендзян, вислян и морован, приводили к Дунаю, где купцы-русы были известны как торговцы воском, рабами, лошадьми. По Дунаю можно было попасть дальше на запад, в Баварию, где обменивали меха – этот столь желанный там товар даже не облагался пошлинами – на соль.
С тех пор как вторжение угров сделало неудобным путь через моравские владения, в земле чехов разросся город Прага; в нем делали «платы» – куски тонкого льняного полотна определенного размера, служившие средством обмена товаров. Даже сам обмен «платов» на какой-то товар уже стали называть словом «платить».
Существовало несколько ответвлений этого пути, а из Германии через Альпы и Венецию товары, в основном – рабов, морем доставляли в сам Кордовский халифат. Уже не первый век хазарские и русские купцы увозили с востока на запад невольников, меха, воск, а обратно везли баварскую соль, угорских и чешских коней, рейнские мечи, дорогие ткани, разные драгоценные изделия.
Чем большая часть этих путей находилась в руках того или иного правителя, тем больше выгод мог он получить от головокружительных связей, начинающихся в Китае и кончающихся в Кордовском халифате.
Это прекрасно понимал и Олег Вещий: заняв киевский «перекресток», он пытался продвинуться и на запад – как можно дальше. В какой-то мере и поэтому, надеясь расширить свое влияние на этих путях, Олег Вещий дал приют изгнанникам – последним моравским Моймировичам, – и даже принял их в семью.
Не все замыслы Вещий сумел осуществить при жизни – он и без того сделал так много, сколько по плечу разве что полубогу. Но теперь Олег-младший, объединяя наследственные права своих моравских и киевских предков, нередко думал о том, какие богатые возможности для него это открывает. Особенно если заручиться поддержкой кого-то из сильных владык – греческих, германских…
Следующий шаг на этом пути сделал Ингвар – и тем оказал своему родичу Олегу Моровлянину очень большую услугу. Выгода от нее намного превышала прямые выгоды от дани с покоренных племен. Не желая говорить об этом даже с ближайшим другом Мистиной, Ингвар и сам порой подумывал: как бы обзавестись связями, которые позволят ему удержать занятые земли без опоры на одного Олега киевского…
Предки Ингвара многого достигли на берегах Волхова, но он был не из тех, кто счастлив плодами чужого труда. Для него честь быть потомком своих предков означала обязанность повторять их подвиги и, в свою очередь, оставить внукам больше, чем получил от дедов. Доказать, что источник славы не иссяк, ибо она берет начало в самой его крови – крови Харальда Боезуба, потомка Одина и соперника богов, владевшего половиной мира.
– Послушай! – Мальфрид, набравшись духу, прикоснулась к широкой загорелой кисти Ингвара, лежащей на столе. – Погоди, сейчас все расскажу. Вот посмотри.
Она встала, подошла к ларю, отперла его – он закрывался на настоящий железный замок, в который надо было вставлять хитро выкованную палочку ключа – и вынула льняной мешочек. Принесла его, развязала и выложила на стол женское украшение – ожерелье из полупрозрачных зелено-голубых камней и круглых белых жемчужин, с двумя бляшками-монетками возле застежки.
– Ого! – Ингвар мигом оценил стоимость вещи и тонкую работу. – Это греки делали, не иначе!
Даже Мистина присвистнул.
– Ты знаешь, что это такое? – спросила у брата Мальфрид.
– Впервые вижу. Преподнес кто?
– Это был подарок, который наш отец послал твоей невесте, дочери Вальгарда из Плескова. А потом… Вальгард прислал его назад и сказал, он не может хранить у себя то, что было куплено слишком дорогой ценой. Намекал, что наш отец продал свою честь за это ожерелье и теперь ему следует держать его при себе – больше ведь ничего не осталось.
– Уж я бы этому Вальгарду… – гневно начал Ингвар.
Четыре года назад до него доходили слухи о некрасивой истории, после которой его обручение было расторгнуто, но он не слишком огорчился. Он в глаза не видел невесты и не мог о ней сожалеть, да и вообще – в четырнадцать лет женитьба занимала в его мыслях очень мало места.
Сага о съеденной собаке казалась ему нелепой и не стоящей обглоданных костей. Ингвар недоумевал, как у отца хватило ума в нее ввязаться. Даже ожерелье не выглядело для него убедительным доводом. Разных сокровищ он уже повидал довольно, но привык не принимать богатство близко к сердцу – ведь жизнь коротка и может кончиться внезапно.
Но так вышло, что это ожерелье стало ценой даже не жалкой жизни того бродяги – как там было его троллево имя? – а ценой слова самого Ульва конунга.
– Тише, не надо! – Мальфрид прикоснулась к его плечу. – Мне эту вещь привез зимой Ранди Ворон, может, ты его помнишь. И сказал вот что: наш Оди уже отрок, и пришла пора исполнить уговор. Зная, что он слабого здоровья, раньше отец не требовал его к себе, давал ему время окрепнуть – ведь это его родной внук. Но больше ждать нельзя. В Киеве есть заложник от нашей семьи – это ты, и даже два заложника, если считать меня. А от рода Олега нам не дали никого. Поэтому в Волховец нужно послать Оди. Или…
– Инги, пойми! – Мальфрид назвала брата тем именем, которым его звали в раннем детстве, и у него сжалось сердце. – Мой мальчик – он так часто хворает! Да, в Волховце его дед, и бабка, и прочая близкая родня, и нечего бояться, что о нем будут плохо заботиться. Но там так сыро и мрачно, так уныло и холодно даже летом, так мало солнца и так много дождей! Мой сын умрет там… – ее голос задрожал. – А он у меня один! Я не знаю, смогу ли родить еще одного…
Она взяла себя в руки и продолжила:
– Но отец передал, что не станет требовать к себе Оди, если… если ты возьмешь в жены ту девушку из Плескова.
– Этого будет достаточно, – добавил Олег. – Незачем отрывать маленьких детей от дома, – ты лучше других знаешь, до чего это неприятно, – если можно обменяться невестами, как это принято у знатных родов. Ваш род дал мне Мальфрид, за что я вам буду благодарен всю жизнь, а мой род даст вам дочь Вальгарда. Теперь-то вы оба, ты и девушка, уже совсем взрослые! У нас будет равный союз, обеспеченный так, что никто нас не сможет упрекнуть.
Он не стал упоминать о еще одном намеке, который ему сделал Ранди Ворон, доверенный человек тестя. «Ульв конунг ждет заложника уже восемь лет, – напомнил тот. – И сомневается, уж не хочешь ли ты отбросить договоренности, заключенные твоим знаменитым дедом? Тогда не удивляйся, если Ульв конунг тоже их отбросит».
– И мы должны сделать все возможное, чтобы восстановить честь отца, – передохнув, подхватила Мальфрид. – Она была задета тем глупым случаем… ну, после которого Вальгард разорвал обручение и вернул ожерелье. Если они все же возьмут его назад и отдадут нам невесту, это будет означать, что честь нашего рода восстановлена. Без этого ни в чем нам не будет удачи…
– Ну, уж это брехня! – сорвался Ингвар. – У меня есть моя собственная удача. И я это доказал!
– Это правда! – Мальфрид вцепилась в его руку. – Ты добился успеха и доказал, что у тебя есть удача. Но для чего она нужна, если не для того, чтобы восстановить честь рода? У тебя есть младшие братья. Не допусти, чтобы они росли опозоренными.
По мрачному лицу Ингвара было видно: он охотно предоставит младшим братьям самим заботиться о своей чести и удаче, как пришлось это делать ему начиная с шестилетнего возраста. И если отец сам наступил в дерьмо, почему бы ему самому не почистить свой башмак?
– Ведь ты займешь когда-нибудь место отца! – напомнила Мальфрид. – Тебе предстоит жить и править на Волхове, где все знают об этом деле, все видели войско Дивислава. В Словенске люди до сих пор передают слова, которые сказал Вальгард… Как ты будешь там жить?
– Да я убью всех в Словенске, и Вальгарда заодно! Когда их грязные рты будут забиты землей, им уже не удастся нас поносить!
– Ха! – воскликнул Мистина и в знак одобрения хлопнул себя по коленке.
– Все не так просто. – Олег покачал головой. – Война на Волхове нарушит торговый путь и лишит нас многих доходов. В первую голову тебя же самого. Прежде чем ты станешь князем, стоит запомнить: война – это самое последнее средство…
– Мои предки считали ее самым первым средством и добыли славу! – перебил его Ингвар. Его голубые глаза сверкнули. – Они завоевали полсвета и добыли столько золота, сколько вы тут и не видели никогда! И когда я стану князем, я сам буду знать, что мне делать!
– Ах, Инги! – Мальфрид всплеснула руками. – Да, ты взрослый мужчина и знаешь, как тебе жить. Никто уже не может отправить тебя, куда ему заблагорассудится, или обручить против твоего желания. Но отец просит тебя! Ты можешь выполнить его просьбу, пока он еще жив? Я уж молчу обо мне и моем ребенке!
Но нет, она не молчала – именно об этом кричали ее глаза и звенел голос, и к этому Ингвар не мог отнестись равнодушно. Сестра была единственной женщиной, чью любовь он знал, а сердце его не было столь каменным, как он хотел показать.
– Тебе надо всего лишь жениться на красивой знатной девушке с богатым приданым! – напомнил Олег. – И тем самым ты восстановишь честь рода, очень поможешь и себе, и нам. Отсюда в Варяжское море есть два пути, как ты знаешь: через Волхов и через Великую и Чудь-озеро. Эти два пути соперничают, что создает раздоры и вредит всем. Если же их хозяева будут в родственном союзе меж собой, мы сможем делить доходы по справедливости, и во всех наших землях будет мир. Поверь, на свете есть много чужих стран, в которых ты сможешь войной добыть славу и золото.
– Зачем мне для этого жениться? В Плескове и так сидит твоя родня!
– Братья моего деда не принадлежат к роду плесковских князей. А та девушка, дочь Вальгарда, принадлежит. И это, знаешь ли, многое меняет! При помощи этого брака кровным родством будут связаны князья не только Киева и Волховца, но и Плескова. Те двое перестанут соперничать между собой, а к нам сюда серебро потечет уже по двум рекам. И князья всех тех земель, что лежат между Киевом и Ладогой, будут вынуждены считаться с нами, потому что у них не будет выхода к морям помимо нас. Понимаешь? Даже Харальд Боезуб не захватил бы силой оружия столько земель, сколько окажется под нашим влиянием путем одной этой свадьбы!
Ингвар помолчал.
Мистина из почтительности тоже молчал, но тайком делал ему знаки: дескать, соглашайся!
– Вы так говорите… будто это я один должен захотеть, – буркнул Ингвар наконец. – Это же она не хочет! Это же Вальгард отказался. С чего бы ему теперь передумать?
– Они передумают, – заверила Мальфрид. – Ранди говорил… он не открыл мне всего, но дал понять, что теперь в Плескове поведут иные речи. Отец уверен, что скоро им понадобится помощь, которую сможем оказать только мы. И они будут рады, если ты снова посватаешься. Ранди сейчас здесь, ты можешь сам с ним повидаться.
– Я обещал посодействовать решению этого дела, – вставил Олег. – Я ведь их родич и единственный в роду князь.
Ингвар бросил на него взгляд, означавший: «ты уже раньше постарался…»
– Я не мог идти войной на собственных родичей, чтобы принудить их заключить союз, который им не нравится, – понял его Олег. – Но теперь… я не знаю, честно говоря, что у них случилось, но если они настроены помириться, я готов помогать всеми силами.
– Я туда не поеду.
– Я поеду! – живо откликнулся Мистина, уже давно ждавший случая вставить слово. – Меня пошлите. Упрямые девушки – это по мне! Я знаю, как с ними обращаться! Клянусь, очень скоро ты наденешь это ожерелье ей на шею, когда настанет пора вручать свадебные дары. Да я уверен: она сама во сне видит, как бы вернуть эти камешки, которые ей дали поносить и отняли! Надеюсь, она не глупа – ведь только глупая девушка станет отказываться от такого счастья: сиденье королевы в Волховце и такое сокровище в придачу! Я имел в виду, – он подмигнул Ингвару, – что сокровище – это ты, мой князь!
Прошло четыре года с тех пор, как Эльга стала невестой князя Дивислава.
За это время мы ни разу его не видели, но вспоминали часто. Эльга в общем-то уже тогда могла выйти замуж, ее свадьбу можно было справить через год-другой, но Дивислав, помня, что годится ей в отцы, согласился подождать, пока она по-настоящему вырастет.
К тому же ей требовалось время на обучение всему, что должна знать княгиня зоричей и старшая жрица целого племени.
Тут уж речь не о поясках и рушниках, хотя и этого понадобится много!
Княгиня Велемира стала пользоваться помощью Эльги во время принесения жертв, новогодних гаданий, разных заклинательных обрядов – все это Эльге нужно было узнать.
Мы учились шить «божьи сорочки», которые надевают на капы в посвященные им велик-дни, и водить священное коло – на каждый случай по-разному.
Ведь князь – хранитель не только духа предков, но и всей их мудрости, поэтому мы терпеливо постигали свойства различных трав и кореньев: одни можно есть в голодные годы, если знать, как приготовить, другими красят пряжу, третьими лечат разные недуги, а четвертые служат для ворожбы и заклинания кудов. Всему этому учили в свое время и Вояну, которая, кстати сказать, за эти четыре года родила троих сыновей.
Нечего и поминать, что Эльга играючи постигала хитрые науки – ей все давалось легко. Но порой, если кто-то заводил разговор о ее будущем, она задумывалась, и на ее лице проступала тень недовольства.
Не думаю, чтобы ей не нравился жених. Даже если кто и намекал, что, дескать, не староват ли, она отвечала презрительным взглядом и говорила: «Да уж конечно, мне гораздо больше годится в мужья зрелый мужчина и князь, чем какой-то мальчишка, которому еще невесть сколько дожидаться своего наследства!»
А к Ульву конунгу теперь никто не поедет на свадебный пир – как бы тоже не накормил собачьим мясом, раз такие у него друзья.
Она, во всяком случае, собак жарить не умеет и учиться не станет!
Надо полагать, сам Ульв конунг, ее несостоявшийся тесть, тоже понимал, что с удачей у него не густо. Ведь говорят: за бесчестьем и беда тут как тут. Именно поэтому, как считал мой отец, и не случилось войны, которой наши старшие тогда боялись. Дивислав удовольствовался тем, что перехватил у своего врага красивую и выгодную невесту, а Ульв, получив назад ожерелье, понял, что ему сейчас не стоит испытывать свою удачу.
В землях кривичей и словен водворилось немирье: еще не война, но и прежние договоры уже не считались действующими.
Но война пришла совсем с другой стороны.
Я уже говорила, что мы жили за полдня пути от Плескова, возле Люботиной веси. Здесь находится брод, через который можно подойти к Плескову с запада.
После той войны с чудью, когда овдовела Домаша, а князь Судогость выдал ее за Вальгарда и нанял обоих братьев на свою службу, они осели в этих местах, чтобы охранять подступ к стольному городу. Здесь и раньше было поселение на мысу между Великой и ручьем, а наши отцы поставили усадьбу неподалеку от него, на другом берегу реки, возле брода.
С раннего детства помню грохот и крики, когда через брод водили лодьи торговых людей: весной по высокой воде, в иное время – на катках по берегу. Старейшиной в Люботиной веси был мой дед по матери – мой отец женился на дочери местного хёвдинга – и население ее наполовину состояло из моей материнской родни. Но если я начну о ней рассказывать, то никогда не доберусь до главного, так что об этом как-нибудь в другой раз.
Наши отцы по уговору между ними и князем были обязаны оберегать не только брод и Плесков, но и путь от Плескова до моря. В Плескове те, кто приходил с Ловати на речных судах, меняли их на морские – ведь дальше городов нет. Только озера, хвойные леса, в которых прячутся небольшие поселки чуди. Владения плесковских князей заканчиваются там, где из Чудь-озера вытекает река Нарова и движет свои воды на север, к морю. По берегам ее живут племена нарова и водь – до самого Варяжского моря.
И вот каждую зиму мой отец или Вальгард, по очереди, с половиной дружины отправлялись в путь до устья Наровы, посещая все прибрежные поселения.
Они не собирали дань, наоборот! Они сами устраивали пиры для старейшин наровы и води, дарили им полоски шелка, серебряные шеляги, красивые блюда, железные котлы. А все для того, чтобы те позволяли проезжать по своим землям торговым обозам из Варяжского моря в Чудь-озеро и обратно. Со старейшинами заключался и подтверждался договор: не грабить торговых гостей, позволять им охоту или подвозить припасы, помогать с починкой лодей или саней и с преодолением порогов на реке Нарове.
По Нарове шли уже на тех же судах, на которых потом выходили в море, поэтому тащить их через пороги было нелегким делом. В это время проезжающие были уязвимы для нападения, и важно было обеспечить им дружелюбие местных жителей. Разумеется, все проезжающие одаривали их и сами.
Прошлой зимой (через три года после нового обручения Эльги) стрый Вальгард привез из зимней поездки неприятную новость.
Нарова рассказала, что летом два или три торговых обоза были ограблены прямо в устье реки. Вальгард дошел до моря, чтобы выяснить дело, но старейшины наровы клялись, что они ни при чем. Те, что жили ближе к устью, поведали: летом там стояли три варяжских корабля – они и грабили проезжающих, а перед началом зимы ушли.
В Плескове надеялись, что такого больше не повторится.
Но на следующее лето торговых гостей стало гораздо меньше, причем поток уменьшился в обе стороны. На Готланде и в Бьёрко ходили слухи, что в устье Наровы устроился какой-то морской конунг, и об этом знают даже в Смолянске. Понятное дело, что почти никто не хотел туда ехать, все предпочитали лучше освоенный и охраняемый путь через Волхов и Ладогу. Говорили, что поедут, только если в Плескове им обеспечат охрану.
Но у нас не было столько дружины, чтобы провожать каждый обоз!
Князь Воислав был очень недоволен, а особенно тем, что все это шло на пользу нашему недругу – Ульву из Волховца.
– Похоже, это лето я проведу вне дома! – сказал Вальгард, однажды вернувшись домой из Плескова. – Князь хочет, чтобы я с дружиной сходил к устью и посмотрел, что за тролли там завелись.
– Но когда же ты вернешься? – с беспокойством спросила его жена. – Ведь осенью будет свадьба, за Елькой жених приедет…
– Надеюсь, к тому времени я вернусь. Это будет первая в моей жизни свадьба дочери, и я не хочу пропустить такое событие.
В середине травеня уже пора было ожидать первые обозы: вот-вот смоляне повезут на Варяжское море меха зимней добычи.
Отец Эльги вышел на лодьях с большей частью дружины и воями: всего у него было человек семьдесят. По высокой воде вниз по течению они могли достичь моря довольно быстро, особенно если на озерах повезет с ветром. Еще Вальгард взял с собой Аську: тому было уже семнадцать, он уже пять лет носил меч и привык сопровождать то отца, то дядю.
Он был возбужден перед отъездом: парню предстоял первый поход, где ожидалось настоящее боевое столкновение.
Я волновалась за брата, но старалась не показать виду: ведь для того он и рожден был мужчиной.
Хорошо помню, как мы их провожали…
И как Аська вернулся, тоже помню…
Дружина Вальгарда ярла остановилась на ночлег, не дойдя примерно полперехода до острова на реке Нарове, где, по уверениям местных, устроили свой стан викинги.
С вечера разразилась первая в этом году гроза.
Тугие струи дождя безжалостно хлестали землю, сбивая свежую листву; гремел гром, небо рвали пламенные всполохи. К ночи пробужденный Перун поумерил свою ярость, и под утро ливень сменился мелким моросящим дождем.
Третья стража выпала молодому дренгу по имени Репе – так мать-чудинка переделала данное отцом-варягом имя Рагинальд. Друзья-кривичи звали парня просто Репа.
Он поправил рогожу на голове и плечах.
Сырая одежда противно липла к телу. Дозорный плотнее прижался к стволу толстой ели, словно надеялся возле нее согреться. Глаза неудержимо слипались; несмотря на все усилия хранить бодрость, Репе то и дело проваливался в полудрему.
Шуршание дождя по молодой зелени заглушало прочие звуки ночного леса. Спать, спать…
Когда же Грим придет его сменять?
Копье, которое парень держал обеими руками, служило ему сейчас скорее подпоркой, чем оружием.
Дозорный не сразу понял, что его встревожило.
Железо звякнуло или вода с листьями зашуршали слишком громко?
То ли вообще приснилось?
Бывает же, что в полусне ясно слышишь звуки, которых точно не может быть.
Вот вроде опять…
Показалось?
Оторвавшись от дерева, Репе древком копья раздвинул еловые лапы – сейчас с них полведра воды ливанет за шиворот! – сдернул рогожу, чтобы лучше слышать, и высунул голову наружу.
За шиворот все-таки налило, ну и велс с ним. Что же это было?
Он приподнялся на полусогнутых ногах, изо всех сил всматриваясь в сырую темноту. Вроде снова звякнуло где-то справа за деревьями. Проклятый дождь, ничего не дает разобрать…
Торопливые шаги раздались совсем с другой стороны, хрустнула ветка.
Репе стал разворачиваться, перехватывая копье и открывая рот, чтобы закричать, но не успел. Тяжелое тело обрушилось на него, сбив с ног, готовый вырваться крик перешел в сдавленное мычание: чья-то мозолистая ладонь заткнула рот, а справа под ребра будто вбили ледяной гвоздь.
Раз. Затем еще!
Захрипев, Репе начал оседать; напавший резко запрокинул его голову и полоснул ножом по горлу. Затем осторожно опустил обмякшее тело на землю и негромко свистнул.
Из лесу крадучись стали выходить вооруженные люди; на многих были шлемы. Дружина морского конунга Оттара готовилась к броску.
Обдумывая впоследствии произошедшее, Торлейв, Асмунд и другие хирдманы легко догадались: у викингов наверняка были дозорные на порогах Наровы. Вероятно, кто-то из местных.
Если бы проявить догадливость вовремя!
Ведь ничего сложного: викингам следовало узнавать заранее, не идет ли к ним со стороны кривичей добыча или опасность. И пороги были самым удобным местом для дозорных: на их преодоление у любой дружины, а тем более торгового обоза уйдет целый день. Потом усталые путники встанут на ночлег – и сидящие в засаде получат целые сутки для подготовки к бою.
Викингам было даже необязательно нести дозор самим, рискуя быть замеченными.
Подойдут и местные. Роды наровы, жившие вдоль реки, на такое предательство едва ли были способны: иные из них поддерживали добрые отношения с плесковскими князьями уже не первое поколение и не стали бы их рушить ради пары ногат.
Но глубже в лес обитали и другие – готовые удавиться на ногату, поскольку видели серебро раз в десять лет.
И кто бы обратил внимание на очередного отрока с удочкой в челноке? А заприметив плесковскую дружину, отрок мог незаметно исчезнуть и передать весть «морскому конунгу», чтобы тот знал, где ночуют явившиеся по его голову.
Начало похода прошло гладко, ветер на озерах был попутный, и пороги миновали без потерь, только устали. Первая ночевка после порогов обошлась без происшествий; на следующий день ничего подозрительного дружина не заметила, и местные твердили, что, мол, кругом тихо.
Вальгард не сомневался в их желании помочь: уже много лет эти люди получали от плесковичей железные орудия и сбывали при помощи плесковских торговых гостей своих куниц. Здешние молодухи начали нашивать на праздничные наряды полоски разноцветного шелка и щеголять бусами из яркого стекла с «глазками», обожаемыми женщинами всего света уже тысячу лет.
После порогов, через переход, встали на ночлег.
Теперь до устья Наровы оставалось всего ничего, и назавтра дружина должна была достичь цели.
На всякий случай Вальгард велел разводить костры в низинке и загородить щитами, чтобы огонь нельзя было увидеть издали. Осторожность была не лишней: так и не удалось выяснить, где викинги и сколько их. Было очевидно, что не больше сотни: порядочное войско в этих местах не прокормить. В дружине Вальгарда людей было меньше, но он надеялся на внезапность.
На втором ночлеге после порогов Асмунд спал плохо.
Дождь ему особо не мешал – за время дозорных разъездов в этих же местах он привык спать под дождем, к тому же был одет в кожаную рубаху и укрыт плотным шерстяным плащом. Сестра Ута за зиму связала ему три пары высоких шерстяных чулок и все заставила взять с собой: теперь он мог переменить мокрые на сухие, а что еще надо в походном ночлеге для счастья?
До этого он участвовал только в одном военном походе: пару лет назад зимой – видно, голодно было – из дальних лесов вышла какая-то «дикая нарова» и тоже грабила торговцев. Тогда воевода Вальгард за двое-трое суток по следам нашел их гнездовья, и участь грабителей была предрешена: уж очень сильно они уступали хирдманам и выучкой, и качеством оружия. Почти все мужчины немирной наровы тогда были перебиты, два поселка сожжены, а уцелевшие жители проданы весной проезжающим на юг варягам.
Иное дело – сейчас.
При всем своем молодом задоре и убеждении, что «наша дружина – самая могучая, а наш вождь – самый доблестный и удачливый», Асмунд понимал: завтра им предстоит столкнуться с людьми, которые сделали битву своим ремеслом и потому готовы к ней всегда. А терять им нечего, кроме собственных голов, с которыми они простились заранее, когда объявили своим родным об уходе «в викинг».
Шевелились мысли: может, этих йотунов здесь уже и нет, может, они в это лето в другом месте промышляют? Тут все-таки не Дорестад и не Рёрик, особо не разживешься.
Ну а если они там…
Вот завтра и станет ясно: годится он, Асмунд, сын Торлейва, на что-нибудь путное или так, порыбачить выехал?
Все остальные уже спали, кроме дозорных по краям поляны, только Асмунд все ворочался. Ему досталось делить палатку с Колем: тот так храпел, что спать от него поблизости никто не соглашался, кроме Асмунда.
Но не храп мешал парню – к этому он был равнодушен, – а мысли о завтрашнем дне.
Может, его вообще убьют…
Но в свою скорую смерть Асмунду не верилось. И не потому, что он боялся: просто было у него предчувствие, что ему предстоит жить очень долго. Может, даже лет пятьдесят.
Но когда все началось, он уже спал.
Асмунд не помнил, как заснул, но проснулся в один миг. То есть скорее очнулся – уже стоя у входа в палатку, с шлемом в одной руке и мечом в другой. Копья были сложены снаружи, под щитами. Выходит, Асмунд сначала вскочил, схватил оружие и побежал, а только потом уже проснулся. Мелькнуло воспоминание: на самом деле его разбудил Коль, который вскочил первым, ринулся наружу и по дороге задел его голову ногой.
Но первым делом Асмунд осознал звук.
Раздавался рев рога, но незнакомый – это был не Разрушитель Мозгов, всем в дружине Вальгарда привычный. А потом послышался крик множества голосов – дикий вопль, будто из леса выскочила тысяча троллей. Асмунду не приходилось видеть настоящих берсерков, но он слышал от отца, что викинги часто подражают им – чтобы пугать противников.
В темноте чужого леса этот крик и впрямь нагонял жуть.
И еще казалось, что их целое войско и они повсюду!
Надо думать, дозорных викинги сняли заранее, потому что никто другой и не пытался разбудить дружину Вальгарда.
Сразу началась свалка.
Асмунд знал, что в жизни все бывает не так красиво, как в саге о битве при Бровеллире, но все же растерялся. В темноте шла непонятная суета, раздавались бессвязные крики, валились палатки и под ними дергались не успевшие выползти люди. Кто-то метался, кто-то падал, а Асмунд не мог даже разобрать: где свои, где чужие, кого бить?
Он успел нахлобучить шлем, но не мог даже завязать ремешки: руки были заняты мечом и щитом. Выглядывая из-за края щита, он замечал скользящие во тьме белые пятна – будто духи!
Потом оказалось, что викинги повязали себе на рукава белые тряпки, чтобы во тьме отличать своих.
Вальгард со старшими хирдманами тоже обсуждали возможность напасть ночью, но отказались от нее: в месяц травень еще слишком темно, а они слишком плохо знали местность.
Враги сделали этот выбор за них.
Единственное, что Асмунд сообразил сделать, – это встать спиной к дереву, чтобы хоть обезопасить себя сзади.
И тут до него долетел крик:
– Ко мне, люди Вальгарда! Все ко мне!
У Асмунда отлегло от сердца. В битве главное – знать, где твой вождь.
Потом раздался знакомый звук – боевой рог по прозванию Разрушитель Мозгов, собирающий дружину к вождю.
Асмунд кинулся туда. Справа блестела река, на песке чернели лодки.
Воевода ночевал в лодке и теперь стоял перед ней – уже в шлеме, будто в нем и спал.
И кричал без передышки:
– Ко мне! Все ко мне!
Трудно сказать, многие ли сумели расслышать его в таком шуме. Но хуже всего было то, что викинги его тоже слышали. Разумеется, при Вальгарде имелись телохранители: они и ночью спали вокруг него, а сейчас были на ногах. И первыми встретили нападавших.
Из тьмы выскочил кто-то с белой повязкой на рукаве; Гардар полоснул его мечом по животу, и тот упал с воплем. За спиной у Вальгарда и его людей была река, но возле лодок викинги значительно превосходили их числом.
Асмунд бежал изо всех сил.
Поскользнулся в грязи, упал, но не выпустил оружия, боясь в темноте потом не найти. Поднялся, опираясь на щит. Ноги разъезжались, в этот миг он был совсем беспомощен и представлял собой легкую жертву, однако темнота в этот раз его спасла.
Когда он утвердился на ногах, звуки драки раздавались уже почти вплотную.
Судя по шуму, сражались три-четыре десятка человек. На фоне речной воды он различил знакомый силуэт Вальгарда с наполовину разбитым щитом. Тот рубил направо и налево, как бешеный! Слева от него бился Гаут; но не успел Асмунд его толком разглядеть, как тот уже упал.
Вальгард не замечал, что его бок остался открытым. Но Асмунд теперь знал, куда ему встать. Скользя по грязи и больше всего на свете желая лишь не грохнуться еще раз, он устремился к родичу-воеводе.
И вдруг, прямо у него на глазах, Вальгард упал.
Асмунд сперва подумал, что вождь тоже поскользнулся. И лишь чуть погодя осознал, что в тот миг рядом с ним что-то блеснуло.
И словно развеялись чары: Асмунд осознал, что уже некоторое время орет во все горло, но сам себя не слышит. Кто-то из викингов стоял к нему боком – он ясно видел белую повязку на рукаве. Заметив Асмунда, тот развернулся и рубанул мечом; парень присел, пропуская удар сверху, как тысячу раз делал во время упражнений, и так же безотчетно, заученным движением ударил в ответ над плечом. Противник завалился, Асмунд перепрыгнул через тело и наткнулся на своих.
Кого-то волокли на руках в лодку, Асмунд сообразил: это Вальгарда несут, он же ранен.
До слуха донесся звук Разрушителя Мозгов: трубили «все назад».
– Отходим! – что есть мочи орал Лейв. – Все назад! Все в лодки!
Успевшие добежать до вождя спешно выстроили «стену щитов» и стали пятиться к лодкам.
Раненого Вальгарда уже унесли.
Асмунд не замечал, что вошел в воду, пока не наткнулся спиной на что-то высокое и твердое – это оказалась лодка.
Держа перед собой меч и щит, он прикрывал товарищей, пока они толкали лодку на глубину, и пятился в воду. Смутно виднелись перед ним фигуры викингов, он не решался повернуться спиной к берегу и даже не слышал, что ему кричат; в конце концов его взяли за плечи и втянули в лодку.
Она тут же отплыла.
Только теперь Асмунд опомнился и выпустил щит. Руки были как деревянные, но раньше он этого не замечал. Рядом втаскивали через борт еще кого-то из своих. Викинги не преследовали их, и потрепанная плесковская дружина на веслах двинулась обратно, вверх по течению Наровы. Шли всю ночь, осторожно продвигаясь вперед: все равно было не видно, где можно пристать. Лейв, оставшийся за старшего, рассчитывал утром найти помощь в каком-то из знакомых селений: обиходить и перевязать раненых, в первую очередь – Вальгарда.
Но к утру, когда стал виден берег и появилась возможность выбрать место и причалить, вождю помощь была уже не нужна.
Пока они плыли во тьме, он скончался от полученной раны.
В тот день случилось столько всего, что когда я об этом вспоминаю, мне кажется, это был не один день, а целая вереница дней.
С утра мы с другими моими сестрами, которые из Люботиной веси, ходили выбирать березку. Про выборы Лели даже разговору не было: все знали, что это будет Эльга.
Во-первых, она была самая красивая – и у нас в усадьбе, и в Люботиной, и даже в Плескове. А во-вторых, она дохаживала в девках последнюю весну: осенью ее увезут в Зорин-городок. И я поеду вместе с ней, у нас давно так было уговорено.
Пожалуй, тогда я впервые осознала, что это последние в нашей жизни весенние венки. Пять лет, с тех пор как надели поневы, мы приносили сюда цветы, но через год мы будем очень далеко от нашего Варягина… и от Великой, и от Русальего ключа, и от Ладиного камня…
А что нас ждет там, на том берегу нашей будущей жизни?
В первый день в наших краях березку только выбирают, но еще не наряжают. А после этого ходят к Русальему ключу и Ладиному камню и везде оставляют венки.
Рассказывают, что русалки зиму спят в ключе, а как проснутся – на белый свет выходят. Поэтому перед тем как наряжать березы, девушки ходят всегда к ключу и там в первый раз кладут венки и красные яйца.
Из рощи мы все пришли с двумя венками: один на голове, другой в руках.
Берег Великой – известковый, обрывистый, и ключ вытекает прямо из него, сбегая вниз множеством прядей. Наверное, его потому и зовут Русальим, что похож он на распущенную девичью косу.
Мы встали по сторонам – нас было много тогда, десятка два, все, кто есть в нашем Варягине и в Люботиной веси. А Эльга пробралась на камень прямо посреди потока. И мы стали «будить русалок», как это называется. Эльга первая запевала, а мы подхватывали, хлопали и притоптывали на месте, будто пляшем и русалок приглашаем, но пока тихонько – они же еще не резвые спросонья.
Русалочки-душечки, серые кукушечки, Мы к вам пришли, вам веночки принесли. Собирайтеся, снаряжайтеся, В белый свет выбирайтеся. В чисто поле – погулять, В луг зеленый – поплясать, В лес густой – поскакать, С нами песни поиграть.Потом все мы раскладывали свои венки на камнях среди воды и вокруг, и Эльга снова пела первая, а за ней остальные:
Я умоюся росой, Чистой девичьей красой, Опояшуся зарей, частой звездой. Вода-водица, белая сестрица, По телу сбегай, тело омывай, Чтобы были мы лицом белы, А красотой красны.И тогда в первый раз можно было из Русальего ключа умываться.
Мы все и умывались: были в одних сорочках, косы расплели, как будто тоже были русалками; вода холодная, по рукам течет, сорочки все мокрые, потом зябко…
Я и сейчас помню, какая веселая жуть пробирала нас от прикосновения этой воды: не от холода, а от чувства, что мы умываемся русалочьим духом, растворенным в ней, что теперь они невидимо будут жить в нашей крови, пока мы не проводим их неделю спустя. Плескали водой друг на друга: дескать, Вострянка плохо умывается, вон, на лбу грязно…
И русалочий дух тут же давал себя знать: становилось весело, хотелось озоровать, бегать!
Мы и бегали – гонялись друг за другом, валяли по траве. Наверное, со стороны мы выглядели точно как русалки. Визгу было да хохота – мать говорила аж в Варягине слышно.
Потом мы шли на тот берег, где Люботино. У нас еще оставалось по одному венку, а их в этот день носят к Ладиному камню. Ладин камень – большой, вросший в землю валун, серый, с белым зерном, человеку по грудь высотой. Мы всегда обводили его кругом и тоже пели:
Вокруг того камня белого Ой, лели, камня белого! Ходит-бродит Лада-матушка, Ой, лели, Лада-матушка! Выше всех она посажена, Краше всех она наряжена. Возьми наши веночки, Дай нам, девкам, перстенечки.И клали свои венки на камень: считалось, что Лада возьмет их и даст взамен жениха.
И только мы тогда положили свои венки, как кто-то закричал:
– Смотрите, гости едут!
Мы обернулись: по реке, сверху, плыли три или четыре лодьи и уже совсем приблизились к броду.
А мы-то – едва одеты, разлохмачены, мокрые да веселые…
– Это к нам женихи едут! – закричала Громница, и все так и покатились со смеху.
Нам тогда все было смешно.
А еще кто-то крикнул:
– Прячься!
И все мы гурьбой кинулись за камень прятаться. Забились кое-как, одна на другой, едва поместились, кто не поместился – легли на землю: в наших промокших рубашках среди известняка и травы не видно. И смеемся, давимся, как дети малые, друг друга унимаем…
Только Эльга не стала прятаться – встала сбоку от камня и стоит: тоже в одной сорочке, влажные волосы почти до колен…
Не знаю, почему они тогда не пристали к Варягину, к нашему берегу, а высадились со стороны Люботино.
Гостей было десятка два, и мы сразу увидели, что это не торговцы: товаров при них никаких не было, только пара мешков, видимо, с припасами. Мы этих людей не знали, но вид у них был вполне мирный, да и Люботина весь близко, поэтому мы не испугались. В теплое время мы часто видели проезжающих, иногда и у нас кто-то останавливался, мы привыкли к чужим людям и не боялись.
Приехавшие остались у лодей, а три человека направились к нам мимо брода. Мы уже знали, чего хотят: пойдут в Люботино просить помощи, чтоб провели лодьи через брод.
По дороге им надо было миновать нас, и довольно скоро мы увидели пришлых вблизи.
Я смотрела тайком из-за плеча Эльги и уже различала лица, когда они сами увидели Эльгу…
Это зрелище Мистина, сын Свенгельда, запомнил на всю жизнь.
Даже годы спустя оно ясно стояло у него перед глазами, но только он уже не верил, что действительно это видел: настолько оно не вязалось с тем, к чему он привык впоследствии.
Вдали виднелись крыши какого-то поселения, но поблизости не было ни одного человека. Только высокий широкий камень, на нем груда какой-то зелени, а сбоку, будто только что вышла из этой зелени – или из самого камня! – стояла русалка.
Густые влажные светлые волосы окутывали ее до колен, и Мистина даже не сразу понял, есть ли на ней что-нибудь из одежды. Пристальный ее взгляд был устремлен прямо на него с задорным вызовом и ожиданием.
А ответить на этот вызов он, обычно не лезущий за словом в кошель, в этот миг не смог бы. От одного вида русалки захватило дух: будто нечто огромное, потустороннее глянуло ему в душу и лишило воли.
Это были чары.
Ведь люди говорили: если встретишь русалку, она зачарует и убьет…
И у Мистины, у того, кто должен был лучше всех знать все, что касалось этой женщины, осталось впечатление: она не родилась от обычных родителей, а одним теплым днем поздней весны просто вышла из камня, вынырнула со дна реки…
Выпорхнула невидимым облачком из ключа в каменистом берегу, где дремала всю зиму, и приняла облик стройной юной девы с распущенными русыми волосами до колен и озорными зеленовато-голубыми очами.
Мистина шагнул назад, выхватил меч и выставил его перед собой, надеясь, что водяная дева испугается острого железа. Двое хирдманов, которых он взял с собой, ничего не поняли, но сделали то же.
А русалка взглянула на их оторопелые лица и расхохоталась.
– Ох, вы и смелы, добры молодцы! – сказала она, и от звука ее голоса Мистина немного опомнился. – На меня одну с тремя мечами идете! А нет вам спасения! Все ко мне!
Она взмахнула рукой, и из-за ее спины показалась вторая русалка: пониже ростом, с рыжевато-русыми волосами, в такой же мокрой сорочке и какой-то травой в волосах. А потом еще, и еще…
Трое мужчин попятились: девки выскакивали из-за камня со всех сторон, одни выпрыгивали откуда-то снизу, будто из-под земли. Они выстраивались перед камнем – все мокрые, лохматые, подпоясанные какими-то зелеными жгутами – упирали руки в бока и принимались хохотать над растерянностью пришельцев.
Этот хохот заливал душу безумием; больше всего хотелось отступить и сбежать, пока не поздно.
Уже в глазах мелькали зеленые пятна, и Мистина осознал, что напрасно не послушал людей, которые не советовали ему путешествовать по незнакомым местам в Русалью неделю.
Но откладывать дело он не хотел: и без того сколько времени потеряно…
Князь Олег и его княгиня все же уломали Ингвара снова посвататься к прежней невесте.
В ту же зиму, как встал санный путь и на север, к Ладоге, отправился зимний обоз, Мистина уехал с ним в Волховец, на свою собственную родину. Там была похоронена его мать, умершая незадолго до отъезда в Киев маленького Ингвара и его воспитателя Свенгельда с сыном и дружиной. Прежде чем продолжать дело, нужно было обсудить его с Ульвом конунгом. Торговый гость, его доверенный человек по имени Ранди Ворон, советовал это самым настоятельным образом.
– А где твой отец? – увидев Мистину, Ульв конунг поднял брови. – Он жив?
– Надеюсь.
Мистина понимал, что для своих лет, к тому же будучи неженатым, берется за слишком большие дела, но ума и веры в себя ему было не занимать. Наоборот, многие люди старше годами и обремененные семьей казались ему глупыми детьми – так мало они были способны видеть дальше собственного носа, и седина ничуть не улучшала их зрения.
– Он пока остается в Пересечене, чтобы уличи сидели тихо и выплачивали что положено. А сюда Хельги конунг отправил меня. Надеясь, что с таким делом, как сватовство к упрямой девушке, я как-нибудь справлюсь.
– Девушка была еще слишком юна, чтобы решать что-то сама. И, думаю, сейчас тебе придется иметь дело с ее упрямой родней.
– Послушай, конунг! Я молод и неопытен, но понял, что сейчас этого брака хотят люди, имеющие вес. Этого хочет Хельги конунг – особенно его жена, – чтобы им не пришлось отправлять к тебе своего единственного пока сына. Этого хочешь ты, если я верно понял Ранди Ворона. С такой поддержкой я сумею уломать упрямую родню хоть великанши, или я вообще ни на что не гожусь. Я не спрашиваю тебя, почему ты так хочешь этого брака. Я спрашиваю о другом. Ранди намекнул, что спустя несколько лет родня девушки пожалела, что расторгла прежнее обручение, и готова его возобновить. Почему, как думаешь?
Ульв конунг помолчал.
Он, вероятно, ожидал этого вопроса, но ответил не сразу, а сначала пристально взглянул в лицо Мистине, словно хотел убедиться, что этому человеку можно доверять.
Но его отец, Свенгельд, уже лет тридцать оправдывал доверие Ульва, да и сын его выглядел неглупым. Рослый, уверенный – просто мачта с дерзкими глазами. Знатный род всегда даст о себе знать, даже если ваш предок был лишь младшим сыном конунга, к тому же побочным.
– Допустим… – начал Ульв, задумываясь над каждым словом, будто для него это было такой же загадкой, как для слушателя, – допустим, я слышал от торговых гостей о беде, постигшей плесковского князя. Говорят, в устье реки Наровы, впадающей в Восточное море, появились морские конунги и грабят проезжающих, чем причиняют ему печаль и убыток. В нынешний йоль моя жена гадала по рунам, и руны предрекли: этим летом несчастья будут продолжаться. А у Вальгарда ярла не так много войска, чтобы с этими разбойниками можно было справиться. Руны не обещали ему ничего хорошего, и нас это весьма огорчило. Поскольку плесковский князь не захочет лишиться доходов и доброй славы, ему понадобится помощь. Не думаю, что эту помощь ему окажет князь Дивислав, которого они выбрали в мужья этой девушке…
– Эльге, дочери Вальгарда, – подсказал Мистина, выяснивший у киевского князя все, что тот знал о своей плесковской родне.
– Да. Так ее зовут, – кивнул Ульв. – А значит, они благосклонно отнесутся к предложению помощи от другого лица, если оно будет им сделано своевременно. Я рад, что ты приехал и готов взять это дело на себя, хотя я думал, признаться, что этим займется сам Хельги конунг. Это ведь он уже восемь лет водит меня за нос, не желая прислать ко мне моего собственного внука, будто думает, что я тут съем его… – с досадой добавил конунг.
– Он поручил мне передать родным девушки, что, согласившись на этот брак, они окажут ему большую услугу. Ну и кое-что, в чем будет выражаться его благодарность в случае согласия.
– А что он обещал тебе? – Ульв понимал, что этот парень ничего не станет делать просто так.
– Если я помогу достать невесту для твоего сына, он обещал найти другую, не хуже – для меня. А поскольку мой материнский род не ниже любого другого королевского рода, то Хельги конунг взял на себя весьма непростое обязательство.
– Что-то я не помню королей по имени Мистина… – проворчал Ульв.
– Мое полное имя – Мстислав. У князей Рёрика такие имена достаточно известны.
– Мы… поговорим об этом, – будто через силу кивнул Ульв, уловивший намек на свою младшую дочь Альдис, но не слишком жаждущий выдавать ее за своего же человека. – Когда условие будет выполнено.
Мистина молчал, глядя на него.
Он получил ответ на тот вопрос, с которым приехал.
Конечно, мудрая королева Сванхейд умеет гадать по рунам и норны открывают ей судьбу, которую готовили смертным. Вот только Мистина был уверен, что норна, нарезавшая жребий Вальгарда ярла, сидит сейчас перед ним – невысокая ростом, немолодая, бородатая и избегающая прямо смотреть в глаза…
Но сейчас в глаза ему смотрела неземная дева – юная, прекрасная!
Цвет ее очей будто смешал в себе зелень свежей листвы, голубизну неба и влажность широкой реки.
– Кто ты? – в изумлении выдохнул Мистина.
– Броды мы охраняем! – сурово отозвалась дева, уперев руки в бока. – А ты кто таков и куда путь держишь?
– Не укажешь ли ты мне… – Мистина стряхнул наваждение и сообразил, что это все же не водяные духи, а девушки, которых он застал за обрядом.
Но и это было опасно, потому что мужчин в таких случаях ожидали неприятности, если они не могли постоять за себя.
– Я ищу дом Вальгарда ярла. Это здесь или там? – Он показал сначала на Люботину весь, потом на Варягино.
– Тебе нужно туда, – русалка указала через реку.
– Это ведь брод?
– Три перехода через реку широких есть. На первом отсекут тебе правую руку, на втором – левую ногу, на третьем – буйну голову.
Русалка шагнула к нему, так пристально и угрожающе глядя в глаза своими шальными глазами, что Мистина снова попятился. Сказал бы ему кто еще сегодня утром, что он отступит перед девушкой – на смех бы поднял!
– Я из рук твоих скамеечку смощу, я из крови твоей пива наварю, из буйной головы чару выточу…
– Эй, эй, не надо! – Мистина пятился, глядя на сумасшедших девок, которые, подбодренные смелостью своей предводительницы, наступали на него сомкнутым строем и сверлили такими же угрожающими взглядами. – Пропустите меня, я вам… шеляг целый дам!
– Не надо нам твоего шеляга. А надо нам головы молодецкой!
Испустив дикий вопль, русалки всей гурьбой кинулись на парней.
К тому времени пришельцы уже допятились до Великой: кинувшись назад, они вскоре оказались на кромке воды.
Тут их и настигли.
На каждого из троих набросилось по пять-шесть русалок: вопя и визжа, они повисли на плечах, стали щекотать сразу десятком рук, дергать, теребить, щипать!
Мистина на тот миг стоял с мечом в руке, но две одичавшие красотки кинулись ему в ноги, обхватили, повалили, несколько рук вцепились в запястье, кто-то даже укусил, и он выпустил рукоять.
Его поволокли к воде. Мистина орал и отбивался, но его держали за одежду, за длинные волосы.
Один из его парней вырвался и помчался со всех ног к своим, зовя на помощь; оттуда, увидя неладное, уже бежали люди.
Мистина ощутил под собой мокрый жесткий камень, услышал плеск волн. Он забился, будто огромная рыба: сейчас его утопят в жертву духам брода или еще каким троллям!
И тут его положили на камень и выпустили.
Он живо вскочил и принял стойку, собираясь обороняться, уже не шутя.
Оказалось, что спас его парень лет четырнадцати, стоящий в воде посреди брода.
– Элька! – закричал он.
Главная русалка дала знак всем своим уняться и слушала его, стоя по колено в воде.
– Иди домой! Прямо сейчас иди, тебя мать зовет. Она тебе сказать хочет важное… Что-то там с воеводой… вести пришли…
Прежде чем идти к матери, Эльга зашла в баню, где, собираясь в рощу, оставила одежду. Там она умылась, расчесала и заплела волосы, переоделась.
После возни у воды ее пробирала дрожь, и она надела «варяжское платье» из некрашеной серой шерсти: отец не любил видеть ее в поневе.
Когда она вошла, Домолюба сидела у стола, опустив руки на колени, а лицо у нее было странным – пустым, будто с него стерли все краски и чувства.
У двери стоял человек, при виде которого Эльга вздрогнула: это был ее двоюродный брат Асмунд. Вспыхнула радость, но тут же погасла: уж очень мрачен он был и даже не улыбнулся при виде сестры.
Почему он приехал один? Где все?
Заслышав шаги, Домолюба подняла глаза.
– Отец погиб, – тихо сказала она. – Вот… – Домолюба слегка кивнула на Асмунда. – Привезли. В Плескове он… и дружина. Поедем… сейчас.
У Эльги подкосились ноги, она присела на ближайшую лавку.
В ушах еще звучали слова, которые разделили всю жизнь на то, что было, и то, что стало.
А стало совсем, совсем не так, как было, и поправить уже ничего нельзя…
Это было первое, что она сумела осознать. Остальное тоже крутилось где-то рядом, но она чувствовала, что нельзя допускать его в сознание.
А не то ее раздавит…
– Поедем, – так же тихо и невыразительно сказала Домолюба и встала. – Стрый Толе… ждет…
Вслед за ней Эльга пошла во двор, потом за ворота.
У конца брода стояла лодка, на которой Аська и еще трое приплыли из Плескова. В ней сидел Торлейв, а рядом на берегу стояла его дочь Ута – тоже одетая и причесанная, с влажными рыжеватыми волосами и выпученными от ужаса глазами на бледном личике с россыпью первых золотистых веснушек. На Эльгу она взглянула со страхом, понимая, что та сейчас должна переживать, но не нашла слов.
Торлейв положил ладонь на голову дочери и легонько оттолкнул: дескать, ступай пока. А сам помог Домолюбе и Эльге перебраться в лодку, отпихнул ее от берега и запрыгнул сам.
По дороге все молчали.
Будто пытались дожить последние мгновения, пока все еще по-старому, по-прежнему…
Домолюба остановившимися глазами смотрела на воду и изредка судорожно сглатывала. Эльга сидела бледная, крепко сжав руки на коленях. Она уже забыла утренние песни и игры, венки и русалочью резвость – все, что было важно вот только что, вдруг разом отодвинулось далеко-далеко и рассеялось, будто пыль под широким взмахом метлы.
И держали эту метлу костлявые руки Марены…
Еще гребок, блеск мокрой лопасти весла в руках стрыя Толе – все ближе, ближе к неотвратимому.
Эльга глубоко втягивала в себя воздух, каждый раз – будто в последний…
На плесковской пристани виднелась толпа, здесь же стоял князь Воислав с женой и старейшинами. Все сгрудились возле лодок, в которых Эльга увидела знакомые лица хирдманов отцовской дружины. Многие были ранены – с повязками, и все очень хмуры. От Эльги с матерью люди отводили глаза, будто стыдились.
Их подвели к лодке, где на дне лежало что-то длинное, покрытое плащом. Из-под плаща торчали ноги в знакомых башмаках и вязаных серых чулках; на башмаках засохла тина и грязь.
А когда хирдман откинул другой край плаща, в глаза бросилась знакомая светлая борода с двумя длинными тонкими косичками.
Среди всеобщей тишины Домолюба глубоко вдохнула, закрыла глаза и вдруг завопила изо всех сил, выпуская это давящее напряжение:
Ох ты ж, мой кормилец, ладо милое! Тебя ждали мы, победные головушки, Мы тебя домой по-старому, по-прежнему, Уж мы день ждали по красному солнышку, Уж мы ночь ждали по светлому по месяцу, Вечеру по зари ждали по вечерней…В конце этого долгого дня все уже были дома, в Варягино.
Тело воеводы привезли, обмыли и положили в бане; вернувшиеся хирдманы разошлись по своим местам, и стало видно, как много осталось свободных. Дружина потеряла погибшими почти треть, из уцелевших многие были ранены, и еще пятеро едва ли смогут выжить.
Домолюба продолжала причитать как положено, а Эльга занялась пострадавшими – не зря же ее столько лет обучали искусству врачевания. Она хваталась за всякое дело, потому что только когда руки и мысли были заняты, ей удавалось дышать.
Смерть отца лежала на груди тяжеленным камнем – больше того, на который они носили венки сегодня утром… сто лет назад.
Иногда она заходила в баню, где мать и стрыиня Кресава голосили над покойным, и тоже подхватывала:
Случились злые недобрые людушки, Погубили твою младую головушку, И осталися теперь мы бедные, Бесприютные несчастные сиротушки…И слова причитания так глубоко проникали в сердце, что Эльга не могла продолжать от слез и снова убегала.
Ута носилась за ней, как нитка за иголкой, и непрерывно ревела вполголоса: ей было жаль дядю, тревожно без вождя, который столько лет возглавлял усадьбу и дружину. Она жалела осиротевшую Эльгу и смутно догадывалась, что эта смерть внесет в их жизнь перемен больше обычного.
Когда умирает кто-то из близких, жалеешь не только его: жалеешь весь прежний свой мир, который без этого человека меняется очень сильно. Мертвый уходит на тот свет, но и живые оказываются в новом мире, где его больше нет, и тоже должны учиться жить по-другому.
Следом за Утой неотступно бродили остальные дети семьи: Володея и Беряша, которым было уже двенадцать и тринадцать, Эймунд, Оддульв и Кетиль – еще на несколько лет младше. Этой осенью Эймунду, старшему сыну Вальгарда, предстояло получать меч, но воевода до этого знаменательного события не дожил…
Девчонки ревели, мальчишки уже знали, что мужчины не плачут, и просто угрюмо молчали.
Никто из них даже не заметил, что в усадьбе появились гости – те самые люди, на которых русалки утром напали при броде.
Мистина сын Свенгельда был для своих лет человеком бывалым, но здесь и сейчас даже он с трудом мог собраться с мыслями.
Началось все с того, что красивые девушки пытались его утопить. Потом оказалось, что самая красивая и самая свирепая из них – та, что хотела делать чашу из его головы, – и есть Эльга дочь Вальгарда, ради которой он сюда приехал.
Выяснив это, он даже оторопел, и тут же задача показалась еще более важной и неотложной, чем он думал раньше.
Пожалуй, в Киеве или Волховце он не оценил это дело по достоинству!
Но одновременно с этим Мистина узнал, что предсказания Ульва конунга сбылись, да так, что полнее невозможно: Вальгард погиб от рук тех викингов, появление которых в устье Наровы владыка Волховца так точно предрек. Мистине хватило ума связать два конца, и он, несмотря на свою дерзость, почувствовал себя неуютно в этом доме, где во всех углах звенели отчаянные вопли осиротевших женщин.
Но его растерянный вид ничьего внимания не привлек, и он уже справился с собой к тому времени, когда Торлейв вспомнил о приезжих.
– Что вам нужно? – устало спросил тот, остановившись посреди двора. – Вы хотите идти через брод? Пошлите человека в Люботину, это напротив. Там помогут. Кет вас проводит к старейшине.
– Нет, мне не нужно через брод. Я приехал сюда с намерением повидать Вальгарда ярла, но… вижу, что опоздал.
Думал же Мистина при этом совсем другое: он подоспел как нельзя вовремя!
– В Валгалле повидаешься. Какое у тебя было дело к моему брату?
– Не такое, о каком можно говорить во дворе. – Мистина огляделся. – Пока ты занят, я могу подождать. Если не возражаешь, мы поставим стан на берегу и не обременим вас в эти печальные дни.
– Пойдем. – Торлейв кивнул в сторону своего дома.
Он надеялся поскорее уладить дело и избавиться от гостей – не позднее поминального пира.
В избе было пусто: Ута и Кресава ушли, но тесто для поминальных пирогов уже было поставлено, а «печальные» рушники вынуты из ларя и лежали высокой стопой на крышке, ожидая, пока их развесят по стенам. Торлейв сел у пустого стола и кивком предложил Мистине место напротив. Он видел, что гость его человек богатый – один только настоящий рейнский меч с тонкими узорами из медной проволоки в рукояти чего стоит! – и, видимо, высокого рода. Но не торговец. Так что ж его сюда принесло, да еще так не вовремя?
– Кто ты такой?
– Едва ли ты слышал обо мне, но о моем отце слышать мог. Его зовут Свенгельд, он – человек Ульва конунга и воспитатель его сына Ингвара. Мы выросли с Ингваром вместе. Мое имя – Мистина.
– А! – только и сказал Торлейв, пытаясь сообразить, чего от них нужно этим людям в такое неудачное время.
– И я приехал сюда по поручению твоего родича – киевского князя Олега Моровлянина.
– Вот как? – Торлейв поднял брови и на миг стал похож на Вальгарда.
– У меня есть доказательство того, чьи речи я тебе привез.
Мистина сунул руку за пазуху, извлек холщовый мешочек неприметного вида, развязал тесемки и выложил на стол некую цепь.
Торлейв опустил взгляд: на выскобленных досках стола блестели жемчужины, золотые застежки, похожие на узорные монетки, голубовато-зеленые полупрозрачные камни…
Насколько ему было известно, эта вещь сейчас должна была находиться в Волховце у Ульва.
– Киевский князь Олег, ваш родич, весьма сожалеет о том недоразумении, которое случилось несколько лет назад и из-за которого было разорвано обручение брата его жены, Ингвара сына Ульва, и дочери твоего брата Вальгарда, – продолжал Мистина. – По причине этого разрыва сам он, князь Олег, не смог выполнить свое обещание и оказался вынужден нарушить уговор, который был заключен между его дедом Оддом Хельги и Ульвом конунгом. И вот уже восемь лет уговор остается нарушенным, что не служит к чести Олега конунга, вашего родича.
– При чем здесь я? – Торлейв устало посмотрел на гостя, с трудом припоминая все эти тонкости в чужих отношениях. – Пусть наш родич Олег не перекладывает с больной головы на здоровую, как кривичи говорят. Когда он восемь лет назад уезжал из Волховца, его жена уже была беременна. И он об этом знал. Нам рассказал об этом князь зоричей Дивислав: Олег с женой и дружиной останавливались у него по пути в Киев. У Олега не было никакой нужды обещать Ульву мою племянницу, когда он мог пообещать своего сына. Как и было задумано. Ведь у Одда и Ульва был когда-то уговор об обмене наследниками, а не невестами. Олег уже семь лет как может сам выполнить условия договора, и нет оснований перекладывать эту обязанность на нас с братом.
– Ты прав! – Мистина склонил голову. – Но Олег, и особенно его жена Мальфрид, очень просят вас! – он голосом подчеркнул эти слова. – Их единственный сын слаб здоровьем. Княгиня уверена, что, если его перевезут на Волхов, он недолго сумеет там прожить и умрет. Но твоя племянница одарена отменным здоровьем, – Он мельком вспомнил стройную, румяную и полную сил русалку у реки, – и всю жизнь прожила здесь, на севере. Переезд в Волховец ей ничем дурным не грозит. А поскольку Ульв конунг уже стар и силы его тают, можно думать, что в скором времени она станет королевой. Возможно, ты не знаешь, что Ингвар конунг три года пробыл в походе, подчинил себе земли уличей и тиверцев и вернулся с огромной добычей и славой. Я охотно расскажу тебе об этом деле подробно, ведь я был при нем все время. Сейчас же скажу одно: к твоей племяннице сватается уже не мальчик, а зрелый, удачливый, прославленный и богатый мужчина королевского рода.
– Это очень приятно, – невозмутимо и даже рассеянно ответил Торлейв.
И в эти мгновения на него накатил первый осознанный и мучительный по силе приступ тоски по брату.
Именно сейчас он осознал, что Вальгард мертв – и это навсегда.
Именно к Вальгарду приехал этот самоуверенный молодой верзила с учтивой речью и наглыми глазами, именно Вальгард должен был его слушать и рассуждать о том, что касается судьбы его родной дочери!
Но Вальгарда больше нет, и нельзя с ним посоветоваться. Ждать бесполезно, он не вернется, и решать придется без него, как это ни дико…
Где-то во дворе открылась дверь, на миг стал слышен женский голос, горестно выводящий: «Уж кто теперь нас будет доращивать? Уж кто теперь нас будет устраивать?»
– Но моя племянница давно обручена с другим. – Торлейв потряс головой, пытаясь сосредоточиться. Дверь закрыли, причитающий голос и детский плач умолкли. – И ее свадьба назначена на эту осень.
– На ее обручение с другим… – Мистина бросил на него выразительный взгляд исподлобья, будто предлагая некий выход, – давал согласие ее отец…
– А теперь у нее нет отца, – Торлейв вздохнул, – и ее судьбу будут решать родичи более близкие, чем я: ее мать и дядя по матери, князь Воислав. И что-то не думается мне, что они пожелают разорвать ее обручение с Дивиславом, чтобы отдать прежнему жениху.
– Но будет очень и очень уместно выдать девушку за того, кто отомстит за ее отца. Как ты думаешь, сделает это Дивислав?
Мистина вдруг повернул голову.
У двери, прижавшись к косяку, стояла Эльга и внимательно слушала. Вся одежда на ней была вывернута наизнанку в знак скорби, и эти швы наружу придавали ей диковатый вид: будто и она тоже вырвана из повседневности Яви и идет меж живых какой-то своей особой тропой. Нос ее покраснел, веки распухли. Но даже сейчас красота ее поразила Мистину, как вспышка света во тьме.
Торлейв тоже обернулся.
– А кто сможет отомстить за моего отца? – спросила Эльга, глядя на Мистину. – Кто ты такой?
Гость вскочил.
– Я – близкий человек Ингвара сына Ульва. И могу пообещать, что он возьмет на себя месть за Вальгарда, если вы согласитесь возобновить обручение с ним.
Эльга сделала шаг в глубину избы и заметила ожерелье на столе.
– Вот. – Мистина торопливо взял его и протянул ей на ладонях. – Он прислал тебе это. Оно снова будет твоим.
Эльга смотрела на ожерелье, не прикасаясь к нему.
А Мистина наконец смог ее разглядеть.
Несомненно, эта девушка уже созрела для брака: ей было лет пятнадцать, а может, и все шестнадцать. Выше среднего женского роста, стройная, легкая, но крепкая, с толстой русой косой ниже пояса. Черты лица у нее были немного островаты, а веки покраснели от слез, но все в ней дышало жизнью.
Он еще помнил это лицо у реки – полное задора и лукавства.
Белыми зубами она слегка прикусила пухлые губы цвета спелой малины, и Мистина поспешно отвел глаза, стараясь, чтобы лицо его не отразило пришедших мыслей. Такая девушка – сама по себе драгоценность, сияющая в этой полутемной избе, как греческое самоцветное ожерелье среди глиняных горшков и мисок!
И тут Мистина вдруг понял, почему при виде ее лица его поначалу взяла оторопь.
– Послушай, – обратился он к Торлейву, не в силах отвести от нее глаз, – ведь эта девушка похожа…
– Она похожа на своего отца. Но ты ведь его не знал?
Мистина лишь покачал головой.
Вальгарда он не знал.
Зато он знал когда-то другого человека из этой же семьи, и при взгляде на девушку тот, давно умерший, вдруг так и встал перед глазами, будто выглянул из страны мертвых. Много ли сходства можно было отыскать между юной невестой и седым стариком? Мистина не сумел бы даже сказать, в чем это сходство выражалось.
Может быть, в глазах.
Глаза у Одда Хельги были того же цвета, но и в выражении их, когда Эльга заговорила о мести, обозначилось нечто общее.
– Но как Ингвар собирается отомстить? – спросил Торлейв.
– Ульв конунг в родстве с Хаконом ярлом из Ладоги. А у того есть дружина и морские корабли. Ингвар возьмет корабли и еще людей, выйдет в море и накроет этих викингов в устье Наровы, загонит в реку, чтобы они не смогли уйти. Ты или твои люди будут ждать их там, чтобы не пустить дальше. И мы раздавим их, как мошку между ладонями. Сомневаюсь, что Дивислав сумеет предложить что-то подобное.
– Но… – Эльга подняла на него глаза.
Необходимость мести была ей совершенно ясна.
Это была, пожалуй, самая четкая мысль из тех, что сейчас находили дорогу в ее голову.
Но за этот день на нее обрушилось столько, что она едва ощущала почву под ногами. Даже смерть отца кое-как дошла лишь до сознания – но не до сердца. В нем все еще тлело ощущение, что он вернется, как возвращался всегда – несмотря на то что его безжизненное, обмытое и убранное к погребению тело лежало в бане.
Она пыталась вспомнить, по какой причине обручение с Ингваром было расторгнуто, но на ум приходили только какие-то дурацкие разговоры про собачьи кости.
Боги, какое ей дело до старых собачьих костей!
– И поверь мне: месть и это украшение – лишь малая часть того, что Ингвар конунг сможет тебе предложить, – пылко заверил гость. – Он унаследует Волховец, но это – безделица по сравнению с тем, что он уже добыл сам: земли, серебро, челядь, ткани, коней! Он уже сейчас будет жить не хуже любого князя, а видела бы ты, как уважают его в Киеве после похода на уличей! Вся его дружина привезла добычу, которая сделала нас богатыми, и еще вдесятеро больше людей теперь хочет быть с Ингваром и ходить с ним в новые походы. Даже эта драгоценность – мелочь, лишь знак того, что все эти годы Ингвар конунг не думал ни о какой другой невесте и верил, что когда-нибудь все же получит тебя в жены.
– Если все это так… – Эльга посмотрела на Торлейва, потом снова на Мистину. – Я выйду за того, кто отомстит за моего отца. Когда мы заключали обручение, он был жив. Теперь… это мое условие.
– Ты права, пожалуй, – вновь вздохнул Торлейв. – Я готов поддержать тебя. Все, что говорит наш гость, звучит разумно. Но видишь ли, я ведь тебе не отец. Теперь твой ближайший родич – князь Воислав, как брат твоей матери. И если ты, Мистина, сумеешь уговорить его, то сам красноречивый Браги тебе в подметки не годится.
В дни жертвоприношений загорались костры на дне рва вокруг плесковского святилища. В середине площадки там стоял большой каменный Перун, а по сторонам – четыре бога поменьше ростом: Дажьбог, Сварог, Лада и Макошь. Святилище называлось княжеским, и сам князь приносил в нем жертвы от имени всего племени плесковских кривичей – на Коляду, на Ладин день, на Купалу, на Зажинки и Дожинки. Его знали все, и на велик-дни сюда сходилось все население округи – от старого до малого.
На празднествах княгиня надевала на капы нарядные «божьи сорочки», в теплое время – цветочные венки, а князь Воислав трижды поднимал к лику Перуна чашу с зерном или медом, как до него это делал князь Судогость, а до Судогостя – деды и прадеды во многих поколениях, до самого Судислава, старейшины рода, который первым обосновался на мысу у слияния Плескавы и Великой.
Но этим ранним утром князь Воислав в одиночестве пробирался через лес – в простой серой свите, в надвинутой на лоб валяной шапке, ничем не отличимый от любого мужика. Он шел тайной тропой, которую, кроме него, мало кто знал. По этой тропе в поминальные дни приходили предки, воплощенные в князе мертвых.
И именно ради встречи с Навью князь живых сегодня покинул свой двор.
Идти пришлось через болото, находя путь по тайным приметам.
Князь хорошо знал их, однако ж намочил ноги почти до колен. Но вот наконец земля вновь стала сухой и твердой. Облепленный паутиной и усыпанный мелким лесным сором, Воислав перебрел ручей и очутился в сумрачном ельнике.
Здесь земля была ровная, усыпанная сухой рыжей хвоей; идти было легко, но он стал ступать медленней и осторожней.
Он впервые попал сюда семилетним мальчиком, и до сих пор в душе каждый раз просыпался пережитый тогда страх – жуткое чувство близости к Нави.
Однако без опыта этого чувства он не смог бы быть истинным князем, не умел бы говорить с богами и предками.
И вот впереди показались бревна тына.
Воислав остановился, собираясь с духом.
На каждом бревне висел коровий или лошадиный череп – останки прежних жертв, они обозначали границу между Явью и Навью.
Старики говорят, что в прежние времена рубеж этот сторожили человечьи головы, но этого даже дед Воислава своими глазами не видел.
Но кое-что от тех дремучих времен осталось: под воротами лежала старая, выбеленная временем бедренная кость.
Воислав взял ее и постучал ею в створку. Иным образом ему прикасаться к воротам было нельзя.
За тыном скрипнула дверь, и Воислава пробрала дрожь. Казалось, это вскрикнул от радости в предвкушении добычи какой-то голодный навь.
– Кто там такой? – раздался изнутри недовольный глухой голос.
– Избушка, повернись к Нави задом, ко мне передом! – попросил Воислав.
Створка ворот в частоколе открылась – правая.
Через эту створку заходили внутрь, а наружу выходили через другую.
В воротах стояла Бура-баба: старуха в изорванной одежде, в кожухе из медвежьей шкуры шерстью наружу. Лицо ее закрывала берестяная личина с прорезями для глаз, а вокруг них были нарисованы углем огромные круглые глазищи, будто у исполинской птицы. Вместо носа к берестине был приделан длинный клюв. В руках старуха держала горшочек с овсяным киселем и грубо сделанную ложку.
– Уж сколько я человеческого духа не чуяла, а ныне сам пришел! – проскрипела старуха-птица. – Заходи, коли смел…
И протянула ему киселя на ложке.
Воислав съел, не прикасаясь руками.
Каждый раз он думал при этом, что, должно быть, эта ложка тоже вырезана из человечьей кости, но за многие годы так и не решился спросить – правда ли?
Точно такой же Бура-баба была, когда он пришел сюда семилетним.
Лет так уж тридцать назад.
Она уже тогда была старой – Бура-баба не из тех, кому дарована вечная молодость. Как всякий смертный, она с каждым годом становится старше. Но смертные умирают, а она продолжает свою бессрочную жизнь – все дальше и дальше. И с каждым поколением, сменявшимся у нее на глазах, все увеличивался разрыв между нею – праматерью, и ими – пращеруками.
И чем больше их выходило из тьмы у нее на глазах, а потом уходило назад во тьму, тем крепче и сильнее она становилась.
Бура-баба посторонилась и пропустила гостя внутрь.
За тыном находилась избушка с конской головой на коньке крыши.
Каждый шаг Воислав делал с осторожностью: здесь была та же хвоя, что и снаружи, немного мелкой травы, и все же это была совсем другая земля – пограничье между Явью и Навью, белым светом и Закрадьем. Ступать по ней было страшно: казалось, в любой миг нога может уйти вниз, как в болоте.
Провалишься и очутишься… где-то, под незнакомым серым небом…
Старуха первой вошла в избушку.
Воислав полез за ней, согнувшись почти вдвое.
Низкий вход здесь был еще ниже, поскольку изба заметно вросла в землю.
Бура-баба села у стола, ему кивнула на лавку возле двери. Сбросив принесенный мешок с разными припасами, князь тоже сел. Он старался не глядеть по сторонам и все же невольно озирался искоса. Сам не знал, чего ожидает здесь увидеть, но понимал, что живым лучше не любопытствовать.
– Чего пришел? – спросила Бура-баба.
– За советом пришел… матушка.
– Какого же совета тебе надобно?
Воислав глянул на берестяную клювастую личину. Он гнал от себя мысль, что это существо – не то живое, не то мертвец, не то женщина, не то птица – уже несколько лет обитает в теле, которое когда-то принадлежало его родной матери.
Старая княгиня Годонега ушла из мира живых и сделалась стражем Нави.
Теперь она – не мать ему и прежнего имени больше не носит.
Теперь она – праматерь всех плесковских кривичей.
И дрожь пробирала от ощущения, что напротив него сидит та, что в свое время дала жизнь всем кривичам, сколько их есть, за все века, что известно имя племени.
Войдя сюда, он нырнул под складку бытия – туда, где исток жизни рода и племени существует вне времени.
– Беда у нас приключилась, – начал Воислав. – С прошлой зимы лиходеи на Нарове торговых гостей грабили, и пошел воевода мой Велегор дорогу расчистить. Да голову там и сложил, привезли его зарубленного. Остались у него дочери-девки да сынки-отроки. А старшую дочь еще при нем сговорили за Дивислава, князя зоричей. Теперь опять приехал человек от прежнего ее жениха, варяжского сына из Волховца. Сызнова присватывается да обещает за воеводу отомстить, коли отдадут ему невесту. Снизку привез греческих измарагдов да жемчужного зерна. Сулит лиходеев тех избыть. Посоветуй, что делать мне? Кому невесту отдавать? За воеводу мстить надо, ведь за ним сестра моя была, он нам не чужой. Дети его осиротевшие – мои сестричи. И дорогу от лиходеев чистить надо, но и Дивислава обижать не хочется. Слово ему дали…
Бура-баба слушала, помешивая ложкой в горшочке с киселем. Куда она смотрела, под личиной было не разглядеть.
Потом заговорила:
– Девки судьбу узнаю, когда ее увижу. Что ей там на роду напрядено – нить Макошина покажет. А тебе одно скажу: с варягами водиться – добра не добиться. Не отдавай внучку корня Судиславова в чужие люди, отдавай за нашего жениха, кривичского. Так оно вернее будет.
– Стало быть, варягам не отдадим, – почти с облегчением сказал Воислав, получив решение, которого не мог принять сам. – Девку-то что… прислать к тебе? Глянь ее судьбу. Что ей там… напрядено.
– Гляну. – Бура-баба кивнула. – Напряла ей Доля на веретенце непрямое, много напутала, да надо же и распутать когда-нибудь…
И вот уже мы справляли поминальный пир по стрыю Вальгарду – как несколько лет назад по князю Судогостю, а еще раньше – по стрыю Одду Хельги. Но в этот раз пироги и пиво подавали не в гриде, а на жальнике, где среди старых могил был устроен посмертный дом для нашего родича. Вырыли просторную яму, выложили пол толстыми досками, а стены – горбылем, посередине положили тело, одетое в лучшие цветные наряды, справа от него – меч и топор, слева – щит, в ногах поставили кувшины с медом и пивом, ведро с головой и ногами жертвенного барана. Остальную часть барана сварили в котле без соли и приправ, каждому гостю дали по ложке отвара и по кусочку мяса. Ели и пили, сидя на земле вокруг могилы, чтобы покойный напоследок разделил еду и питье с живыми; родичи рассказывали о его жизни, хирдманы стучали мечами о щиты в поединках и схватывались в рукопашную – вождь их вот-вот примет участие в этих же игрищах в Валгалле, перед лицом Отца Побед.
На погребение заявилась вся плесковская родня, старшие родичи моей матери из Люботино, Сигбьерн ярл с женой. Среди гостей сидел и тот парень из Киева – Мистина сын Свенгельда. Вел он себя тихо, учтиво, подавал голос, только если к нему обращались, и вообще имел такой вид, будто попал сюда случайно и сам этим удивлен.
Мой отец не хотел до завершения всех поминальных обрядов – «пока пироги не съели» – говорить о чем-то другом, но уже все мы знали, что «варяжский парень» приехал с предложением возобновить обручение Эльги с Ингваром сыном Ульва.
Поскольку стрый Вальгард был убит, а убийство требовало мести, это предложение было не так уж нелепо, как могло показаться.
Через пару дней после пира отец уехал в Плесков – говорить с князем. Вернувшись, он сказал только, что Воислав ответа пока не дал. Прошло еще дня три или четыре, и вот однажды князь удивил нас, снова заявившись в гости.
– Вот что, девки! – сказал он нам, когда мы домыли всю посуду после обеда и развесили горшки сушиться на кольях тына. – Пора вам в лес идти, судьбу свою пытать.
Мы сидели перед ним: Домаша, моя мать, мы с Эльгой и сестрами, все одетые в «горевые сряды» из выбеленного льна, с тонкой строчкой «дедов», вышитых на сорочке черной нитью и вытканной на пояске.
Эльге и ее матери предстояло ходить в «горевом» целый год.
Все мы столько причитали в эти дни, что лишились голоса. На душе было пусто: горе выплеснулось, и оставалось только ждать, пока будущее придет на освобожденное место. Как вода в досуха вычерпанном колодце: сначала одна муть, а потом глядишь, и опять блестит что-то светлое, живое…
– Куда? – прохрипела стрыиня Домаша, подняв глаза на брата. – К…
– Туда, где ведают! – многозначительно ответил Воислав. – Да ты не бойся, я сам их провожу.
Домаша взглянула на деверя.
Мой отец остался старшим в Варягине и единственным взрослым мужчиной в семье. Чтобы утешиться, мать и Домаша уже прикидывали шепотом, не женить ли Аську, но пока было не время.
К тому времени мы все уже знали, с чем приехал Мистина сын Свенгельда.
Но мысли о возобновлении прежнего обручения Домаша воспротивилась.
– Да что же вы такое придумали? – шепотом воскликнула она и всплеснула руками. – С князем Дивиславом все условлено! Чару выпили, по рукам ударили! Сколько лет прошло, весь свет белый знает!
– С ним пил Вальгард. Если бы он просто умер, мы не имели бы права нарушать его волю. Но он убит. И это все меняет. Теперь я просто не имею права выдавать девушку, которая принесет мужу в приданое долг мести. Мы должны избавиться от этого долга, а потом уж думать о свадьбах. И только тот, кто поможет восстановить честь нашего рода и вернуть удачу, сможет получить девушку и не опозорить при этом себя самого.
– Все приданое приготовлено! – Домаша была так потрясена, что едва слушала его. – На рушниках свадебных на жениховой стороне Дивиславово дерево вышито! Я уж думаю, хоть мне теперь, вдове горькой, одно будет утешение: что вторая дочка у меня за князем, живет в чести да в радости. Она внучка князя и женой князя будет – и ей, и роду нашему чести прибавится. А вы опять вон что придумали!
Она покосилась на Мистину, которого мой отец тоже позвал. Тот скромно сидел у дверей и молчал, но по его веселым глазам было видно, что сказать он мог бы очень многое.
– Но ты ведь хочешь, чтобы твой муж был отомщен? – спросил Домашу мой отец. – Мне вот некуда деваться, он ведь был моим родным старшим братом. Я не могу быть спокоен, пока это не произойдет, иначе мои собственные сыновья будут вправе плюнуть мне в глаза. Мне придется, хочу я того или нет, собрать дружину и снова пойти на Нарову, как только князь меня отпустит. Может быть, я не вернусь, но лучше умереть, чем жить обесчещенным…
– Ой, боги родные! – перебив его, запричитала моя мать. – Хочешь и меня вдовой горькой оставить с детушками?
– Детушек останется не так много – Аська поедет со мной, – жестко «утешил» ее отец. – Он уже взрослый мужчина и не может сидеть с женщинами, когда на земле стынет кровь его близкого родича.
Раньше он так не говорил, это было больше похоже на стрыя Вальгарда.
– Я тоже мужчина, – прошептал сидевший рядом со мной Кетька.
Ему недавно исполнилось десять.
– Так что я хочу вам сказать, – продолжал отец. – Мстить за Вальгарда я все равно пойду, даже если мне придется это делать в одиночку. Но если меня поддержит человек с сильной дружиной, то будет больше надежды, что я отомщу и вернусь живым. Если мы пойдем с большим отрядом по Нарове, викинги просто сядут на свои корабли и сбегут. У них есть дозорные из местных, иначе не случилось бы того, что случилось. А вот если наш союзник сядет на корабли и выйдет в море через Ладогу и Неву, то викингам придется всем сдохнуть. Но Дивислав не может этого сделать. Ульв не пропустит его с войском через Волхов, а Хакон в Ладоге не даст ему корабли. Все это может сделать только Ингвар сын Ульва. И раз уж приходится выбирать, я скорее возьму назад слово насчет девушки, но отомщу за брата. Иначе и ей самой это замужество счастья не принесет.
– Ой, голубушка моя, лебедушка белая… – Домаша заплакала. – Не в добрый час я тебя спородила, не доброй долюшкой наделила…
За эти дни она так привыкла причитать, что, кажется, разучилась говорить обыкновенно.
– Уж как я думала, верила, что будешь ты княгинюшкой, жить от меня недалече. А теперь несчастье случилося – налетели вихри злые, ветра буйные, унесут тебя в земли далекие, неведомые…
– Не так уж далеко ее унесут, – успокоил ее отец. – До Волховца от нас не намного дальше, чем до Зорина.
– Так все же разница: нашего корня князь или из руси, – вставила моя мать.
– Я тоже из руси, – напомнил отец. – Желаете себе мужей кривичского корня? Так и мы с Вальгардом вас не силой брали.
– Да что ты, любезный мой! – испугалась мать. – Вы-то с Велегой люди хорошие. А эти, в Волховце… пес их знает!
Стрыя Вальгарда наши кривичи звали Велегором или Велегой. А моего отца – Турлавом.
Эльга сидела хмурая.
Сейчас, пока горе пылало в душе как открытая рана, месть за отца казалась ей важнее всего на свете, а потому она готова была вернуться к давнему обручению с парнем, который с тех пор показал себя смелым и удачливым воином. И она мрачно посматривала на родную мать, которая предпочла бы отдать ее старому мужу, у которого уже детей не то пять, не то восемь.
В том числе – сыновей, которым и достанется все его наследство.
Но решать должен был князь: и сидит он выше, и брат матери – более близкий родич, чем брат отца.
И мой отец уехал в Плесков. Решения он оттуда не привез: князь Воислав признавал справедливость доводов и свата, и сестры. Попросить совета у чуров было самым мудрым ходом, и против этого даже мой отец не стал возражать. Хотя я, глядя на него, сразу поняла: ничего для себя доброго он от кривичских чуров не ожидает.
Я была на их с Эльгой стороне, но и понимала, что держать руку Ингвара у нас сейчас нет сил. Мой отец не смог бы воевать с Воиславом за свое право мести и потом еще мстить викингам.
Из дому вышли на заре. Ради утренней прохлады мы с Эльгой надели белые шерстяные шушки, повязали головы белыми платочками и сами выглядели какими-то неземными вестницами.
Воислав шел впереди, а мы за ним – две печальные русалки, чье время как раз наступило…
– Вы дорогу-то примечайте, – князь обернулся к нам, – может, сами пойдете потом…
Мы переглянулись.
«Сами пойти» в этом направлении мы могли лишь в том случае, если собрались бы на «медвежью свадьбу». При мысли об этом мы содрогнулись и взялись за руки, хотя давно было ясно: если Эльга будет выходить за князя, без этого ей не обойтись.
Сначала шли по знакомым местам: здесь мы часто бывали, собирая грибы, зелья, ягоды.
Но вот вокруг поднялась болотная трава: за эту низину мы обычно не ходили.
Это болото считалось «нехорошим», да и чего там делать?
Но теперь мы двинулись прямо через него.
По пути Воислав показывал нам то сломанное дерево, то овражек, за которым следовало сворачивать по солнцу. В самых топких местах обнаруживались гати – набросанные сучья и жерди, но все же мы забрызгали грязью свои белые шушки и подолы сорочек.
Следом началось настоящее болото: князь показал нам, под какое дерево встать и какое найти взглядом на той стороне, чтобы потом держать прямо на него – это и есть ничем не отмеченная тропа через топь.
На той стороне в глаза мне бросилась большая сосна, наполовину обломанная давней бурей. За многие годы ее изгрыз жучок, кора давно осыпалась и лежала у подножия грудой трухи. Сосна напоминала кап – идол лесного бога Велеса в живом лесном святилище. Казалось, она смотрит на нас невидимыми очами.
Я вздрогнула: в памяти вдруг всплыло нечто очень похожее, связанное с потрясением, страхом, отчаянием…
Я уже видела эту сосну… очень давно… мельком…
В мыслях память об этой сосне связывалась с чем-то мохнатым, шумным, неудобным, вонючим…
Вспомнила! Я видела этот голый ствол с плеча Князя-Медведя, когда он в тот страшный день нес нас на себе через лес.
Я хотела сказать Эльге, подняла на нее глаза: она тоже смотрела на сосну.
За сосняком опять начался смешанный лес, за ним – ручей. Через него были переброшены две жердочки, а ивы росли вдоль берегов так густо и так низко, что мы перешли мостик, как по ровной дороге, придерживаясь за ветки.
На другом берегу нас вновь охватил густой сумрак ельника.
По гладкой земле, усыпанной хвоей, идти стало легче, и мы перевели дух. Но тут за деревьями открылись серые бревна тына, похожие на обглоданные временем кости древних чудовищ, и с каждого кола на нас скалили белые длинные зубы черепа коров и коней…
Невольно мы застыли, не в силах сделать ни шагу.
Сразу охватило ощущение бесчеловечной пустоты леса, оставленного позади. Весь белый свет стянулся к этой жуткой точке – иномирному истоку, откуда выходят все земные дороги.
– Здесь она и живет, Бура-баба, – пояснил вполголоса Воислав. – Она вам судьбу скажет. Ступайте. Как обратно пойдете, дорогу сами ищите, я вас ждать не стану, домой ворочусь.
Но необходимость искать дорогу самим нас сейчас не пугала, а скорее бодрила: она означала, что мы все же вернемся домой!
– Ну, ступайте. Да не бойтесь вы так, не съест она вас… вы нам еще нужны! – пошутил Воислав на прощание. – Если к вечеру не воротитесь, завтра мужиков с собаками воевода пошлет, авось сыщет. В большое болото не залезьте только. Правее держите – и выйдете. Да будут чуры с вами!
Он махнул рукой и пошел назад к ручью.
А мы остались стоять под елями, уставившись на частокол с черепами.
– Он же сказал, что нас не съедят. – Эльга попыталась улыбнуться. – Мы с тобой уже не девчонки. Мы взрослые девушки. Невесты. Я – почти княгиня.
– И все равно деваться некуда, – прошептала я. – Не назад же идти ни с чем.
Вернуться назад означало отказаться от возможности дальнейшей жизни, какой бы то ни было.
И мы двинулись вперед.
Подойдя к воротам, опять остановились и переглянулись, молча выясняя, кто возьмет в руки человечью кость и постучит.
– Это ты – почти княгиня, – шепотом напомнила я.
Мы ведь пришли за ее судьбой!
Я провожала сестру, ибо с детства было условлено, что я буду сопровождать ее, куда бы ей ни пришлось отправиться. Так обычно делают родственницы более низкого рода для тех, кто знатнее. Когда она станет княгиней, я стану прислуживать ей, и за это свое дело я взялась с самого детства.
Но есть вещи, которые княгиня должна делать сама.
На то она и княгиня.
Эльга опустила рукава сорочки, через льняную ткань взялась за кость, с усилием подняла и три раза ударила в ворота.
– Избушка… – шепотом подсказала я.
– Избушка, избушка, повернись к лесу задом, ко мне передом! – громко повторила Эльга.
Мы замерли в ожидании ответа.
Одинаково страшно было и дождаться его, и услышать тишину.
– Кто там такой пришел? – послышался из-за ворот недовольный голос. – Дело пытаешь или от дела отлыниваешь?
– Судьбу пытаю! – отозвалась Эльга.
Правая створка ворот заскрипела и открылась.
Мы думали, что ко всему готовы, но содрогнулись от головы до пят, вдруг вьяве увидев перед собой это существо – не то женщина, не то птица, не то старуха, не то мертвец. Вместо лица – бледная береста, вместо глаз – черные круги, вместо носа – вороний клюв.
– Боги с тобой, бабушка! – холодея от ужаса, мы поклонились.
Не здоровья же желать той, которая давно уже не жива!
А чуры – и так все чуры в ней…
– Заходите, коли пришли, да не пожалейте потом, – пробурчала хозяйка.
Мы вступили за створку.
У второй, закрытой, я заметила ведерко с водой, в нем плавала берестяная чарочка.
Старуха протянула нам горшочек белого киселя и ложечку. Мы съели понемногу: не вкусив пищи мертвых, мы не могли иметь на их земле ни зрения, ни слуха, ни голоса.
Кисель был в общем-то обыкновенный, дома ешь такой каждый день. Но я проглотила его с трудом, ожидая, что все во мне переменится. Перемены не заметила, но тут же подумала: а когда умираешь – замечаешь ли это?
Хозяйка повернулась к нам спиной и пошла к черному зеву входа.
Глядя на ее спину, я вдруг уловила нечто знакомое. Но в тот раз, когда мы варили кашу медведю, никакой старухи при этом не было, я точно помню.
И все же, чуры мои, я тысячу раз видела эту спину, и как покачиваются плечи на ходу…
Мне никак не удавалось собраться с мыслями, но я не решалась отвести глаз от Буры-бабы, чтобы взглянуть на Эльгу.
Мы вошли в избушку и поначалу сами загородили свет из двери, так что стало совершенно темно. Накатил тяжелый запах: старческое тело, застоялый воздух, застарелая грязь.
– Коли судьбу хотите выведать, так сперва послужите мне! – велела старуха. – Избу приберите, кашу сварите, а потом уж спрашивайте.
Нам стало легче: уж варить кашу и прибирать избу мы к пятнадцати годам научились!
Лишь переглянулись – и принялись за дело.
Теперь нам уже не приходилось вдвоем трудиться, раздувая огонь. Эльга пошла к печке, я оглянулась и сразу нашла возле двери веник.
– Сор в бадью, а бадью на задний двор! – распорядилась Бура-баба. – Избу обойдешь, увидишь калиточку. А оттуда слуги мои верные уберут.
Ох, чуры мои!
Грязи в избе было столько, будто ее нарочно сюда натаскали. Я мела, выносила, терла тряпками, скребла, а Бура-баба сновала мимо меня, растаскивала сметенный сор своими подолами и что-то бормотала. Я лишь вздрагивала, когда она проходила слишком близко, окатывая волной своего запаха, и старалась к ней не прикасаться. Не раз мне приходилось из-за нее начинать уборку сначала.
Наполнив бадью, я выволокла ее за дверь, обогнула избу и в самом деле увидела с задней стороны в частоколе калиточку. Открыла ее: передо мной расстилалась чаща, но мне показалось, что между елями уходит в глубь леса тропинка. Она была так слабо натоптана, что не ухватывалась глазом, скорее, просто ощущалась.
Я выставила бадью наружу, закрыла калитку и ушла обратно в избу.
Это куда ж я вынесла сор? В Навь, которая лежит позади порубежной сторожи?
Эльге тоже приходилось нелегко: старуха шустрила и возле печи. Не менее двух раз она опрокинула горшок, так что Эльге приходилось выгребать мокрые угли, выбрасывать, разжигать снова и опять ставить греться воду.
В избушке висел душный дым, иногда до меня доносился сдержанный кашель сестры. Мне было полегче: я все-таки возилась ближе к открытой двери.
Собрав у порога новую кучу сора, я вернулась к калитке, открыла и осторожно выглянула. Бадья стояла на прежнем месте, но уже пустая. Навь поглотила выметенную грязь. Но мне еще было чем ее подкормить.
Вскоре мы с Эльгой обе взмокли от пота, растрепались и раскраснелись; руки у нас стали черными, от белизны «печальных» одежд остались одни воспоминания.
Но мы не роптали, а я даже и не злилась: так и должно быть.
Старуха испытывает нас. Если мы не выдержим и вспылим, она нас просто выгонит. И тогда – ни судьбы, ни замужества в ближайший год.
Однажды у меня мелькнула мысль, не будет ли это к лучшему: за год Эльгины женихи между собой как-нибудь разберутся. А необходимость делать выбор самим могла дорого обойтись нашей родне.
В дальнем углу я нашла две вещи, от вида которых снова похолодела: старую, треснутую ступу с пестом и каменные жернова.
Судя по всему, толкли здесь не зерно и терли не белую муку. Терли что-то черное и белесое – перетирали в прах сожженные кости умерших, чтобы потом развеять по склону родового кургана. Таков погребальный обычай словен и кривичей. Они ведь не строят подземных домов, куда кладут тело, как принято у руси.
Это были орудия самой Мары-смерти!
Одно касание к ним – даже веником – убило бы меня, и я оставила их в окружении темного пятна неметеного пола.
Зато из других углов и из-под лавок я без конца выскребала черепки, косточки, гнилые тряпочки, почерневшую яичную скорлупу, птичьи перья, обрывки сношенных поршней…
Даже подумалось: если это – Навь, то неужели мне придется убрать все умершие вещи, сколько их есть? Все отопки, выброшенные племенем кривичей, все разбитые им горшки, все обглоданные кости?
Мне представлялось, как наши пращуры идут от самой реки Дунай, перебираются через горы, переходят реки, сидят у костров: то бросают сношенную обувь, то раскидывают черепки от горшков, то зашвыривают подальше кости – и все это падает дождем вот в эти углы, откуда я их выметаю, уже почти стесав веник.
Но ведь я здесь не первая. В каждом поколении несколько лучших невест приходят к Буре-бабе за своей судьбой. Наверное, мне достался только тот мусор племени кривичей, который оно набросало за последние четыре года, с тех пор как тут прибиралась Вояна…
– Каша готова! – прервал мои мысли голос Эльги.
Очнувшись, я обнаружила себя у порога с огрызком веника в руке.
А ведь и вправду здесь Навь: никогда еще мне не случалось погружаться духом в глубины времен и далей. Прямо волхвой стала ненадолго!
У Эльги тоже вид был утомленный и задумчивый. Где побывала она, хотелось бы мне знать?
Она поставила горшок на вымытый стол и поместила рядом миску, еще блестящую от воды. Положила костяную ложку. Бура-баба подошла и села; Эльга с поклоном подвинула ей миску с кашей, отошла ко мне, и мы встали, сложив руки, как челядинки, ожидающие новых приказаний от хозяйки.
Старуха немного сдвинула личину, чтобы освободить рот, и принялась за еду. И вот тут, глядя, как она берет ложку и подносит ко рту, я сообразила, где это видела.
Да это же… баба Гоня! Нет, не может быть!
Старая княгиня ушла «к дедам»…
А здесь-то что? Здесь самые «деды» и есть.
Так она живая или нет? И да и нет…
Как все, что находится на рубеже Яви и Нави. Но это уже не наша баба Гоня, и нечего ожидать от нее какой-то особой милости к нам. Мы ей не ближе, чем две любые другие девки. Ну, разве что Эльга чуток ближе, потому что является ее праправнучкой по самой прямой ветви родства, которую представляют в племени князья – старшие сыновья старших сыновей прародителя.
Я могла думать об этом, потому что уже не беспокоилась, понравится ли Буре-бабе каша. Эльга была, как ее мать говорила, ловка на руку: все, за что она принималась, у нее получалось хорошо.
– Ну, девки, накормили вы меня, службу исполнили, теперь скажу вам судьбу, – покончив с кашей, объявила Бура-баба.
Теперь я уже ясно узнавала голос бабы Гони.
Но не скажу, чтобы это меня успокоило. Грань мертвого мира придвинулась еще ближе.
Строго говоря, старая княгиня приходилась бабкой только Эльге, а мне – лишь свойственницей. Моя бабка по матери умерла давным-давно, я ее даже не застала, а о бабке с мужской стороны, датчанке фру Халльгер, мы слышали только рассказы наших отцов. Но я с детства привыкла, что у нас с Эльгой все общее, и мне казалось, что старая Гоня – и моя бабка тоже.
Впрочем, Эльгу это все должно было задевать меньше. Ведь ее отец только что перешагнул грань Нави.
А мы все еще стояли на этой грани.
Старуха забралась на полати и уселась там под самой кровлей, свесив ноги. В полутьме, вознесенная между небом и землей, она еще больше напоминала огромную жуткую птицу.
Она взяла длинную палку, которая служила ей прялочным копылом, опустила ее, уперев в пол между ног, взялась за кудель, которая была привязана к другому концу, и принялась прясть, неразборчиво бормоча себе под нос.
Мы зачарованно смотрели на веретено с глиняным прясленем. Оно потихоньку толстело, одеваясь серой шерстяной нитью. Это была не просто пряжа – это была судьба Эльги.
– Нитка, прядись, судьба, отворись… – бурчала Бура-баба. – Вижу я… жить тебе будет семижды по семь лет да еще один год…
Мы напряженно слушали, не пытаясь ничего понять или вычислить. Это потом, сейчас главное – все запомнить, не упустив ни слова.
– Вижу один росток: высоко возрос, пышно зацвел, да рано увял… Из его корня уж три ростка тянутся: два поросли да увяли, третий крив, да выше леса стоячего голову вознес, выше облака ходячего. На корню его девять ростков: широко разрослись, два сцепились, других задушили, а уж из них такое дерево выросло, что и глазом не окинуть…
– Дерево… – прошептала Эльга, пытаясь сообразить, как из нее может вырасти дерево – к добру это или к худу?
«Чтоб из тебя дерево выросло» – это же проклятие, пожелание смерти.
– Будет у тебя сын – бел, как сыр… – забубнила старуха, и мы поняли наконец, что она описывала Эльгино потомство. – Ой, ты, родная матушка! – принялась вдруг напевать Бура-баба, раскачивая плечами, будто в пляске. – Не пеленай меня во пелены шелковые, а пеленай меня в кольчугу булатную! А на буйну голову клади не кунью шапочку – клади злат шелом! Во праву руку – дай крепку палицу! Во леву руку – харалужный меч!
Бура-баба помолчала, будто рассматривала что-то еще; потом заговорила уже другим голосом:
– Овдоветь тебе будет через двенадцать лет… Ох ты, сокол ясный, мой любезный муж! На кого же меня ты спокидаеши? На кого ж меня ты оставляеши? Оставляешь сиротами малых детушек! Покидаешь меня, горьку горлицу…
Она пряла, а мы ждали, не сводя с нее глаз и, кажется, забыв дышать.
Бура-баба дергала головой, все быстрее и быстрее, нитка тянулась из серого облака кудели. Старуха раскачивалась из стороны в сторону, что-то отрывисто выкрикивала, постанывала, будто недужная.
Мы всей кожей ощущали, как собираются к ней невидимые куды, как сгущается пряжа самой Макоши, будто грозовая туча, обнимающая весь небосвод. Вот теперь мы узнали настоящий страх: не нам грозила неведомая опасность, а всему мирозданию. Черная волна небытия тянулась, норовя поглотить все живое и одухотворенное. Пробиралась дрожь, хотелось заплакать, закричать, кинуться бежать отсюда…
И вдруг старуха рухнула с полатей и замерла на полу, будто мертвая.
Прялочный копыл и веретено разлетелись в разные стороны.
Все стихло.
Мы не могли понять: это победа или поражение? Одолела Бура-баба злобных кудов Эльгиной судьбы, или они одолели ее?
Бура-баба не шевелилась.
Больше всего она сейчас напоминала кучу старого драного тряпья.
Она умерла? Да нет, она не может умереть – она мертва давным-давно… то есть обитает в том мире, где смерти вовсе нет, потому что нет такой жизни, как у нас…
– П… п… – Эльга так и не сумела ничего выговорить, дернула меня за руку и потащила наружу.
Мы выскочили из избушки и вдохнули свежий, влажный лесной воздух.
Заморосил дождь – и он принес нам облегчение, смывая с души пережитый страх. У ворот мы сообразили выпить воды из берестяной чарочки и открыть другую створку, возле которой стояла «живая вода».
Иначе неизвестно, где бы мы оказались, выйдя из этих ворот. Мы побежали через ельник, все ускоряя шаг: было чувство, будто за нами гонятся.
Не Бура-баба в ступе и с пестом, не ее невидимые «слуги верные», что прибирали бадью у калитки. За нами гналась тяжесть и жуть пребывания в Нави, висела на плечах, не хотела отставать.
Сейчас мы не удержались бы на жердочках мостка – поэтому ворвались в ручей, окунувшись по колено.
Холодная вода несколько остудила нас и привела в чувство.
На другом берегу Эльга остановилась, стащила с головы платок и стала умываться. Я тоже умыла лицо и руки, пригладила волосы, даже попыталась отряхнуть косу, на которой словно застыла паутина из темных бабкиных углов.
Вот эта вода по-настоящему оживила нас.
– А мы правильно сделали, что убежали? – в тревоге спросила я. – Может, надо было… ну, поднять ее?
– Уж если она умрет, то не нам с тобой ее оживить! Она тысячу лет живет и дальше будет. Нас с тобой переживет, наши кости с крады соберет да в жерновах разотрет… – мрачно заметила Эльга. – Уже про нас никто не вспомнит, откуда родом и где похоронены, а она так и будет там сидеть на полатях со своей пряжей!
– А ты все запомнила? Сын – бел, как сыр… Один, два… нет, три, потом девять… потом еще два… – Я старалась вспомнить, сколько детей и внуков ей напророчила Бура-баба. – Жить семь раз по семь лет да еще один год – это сколько будет?
– Много! И овдоветь через двенадцать лет! Ты смотри, не говори никому! – напустилась Эльга на меня. – Кто же на мне жениться захочет, если узнает, что мне овдоветь через двенадцать лет? Дети малые останутся…
– Я и не скажу. Но почему… она больше ничего не сказала? Будто что-то страшное увидела?
– Да меня и так все не радует! – Эльга села на мох, подтянув под себя замызганные полы еще недавно белой шушки. – Она ведь князю сказала, чтобы не отдавали меня варягам. Значит, за Дивислава мне идти. А он мстить за отца не будет.
– Будет. Ведь пока эти викинги сидят на Нарове, через нее нельзя в море ходить. А через Волхов его Ульв не пустит. Теперь – особенно если они одну невесту делят. Стало быть, Дивиславу или идти викингов выбивать, или с паволоками проститься.
– Если Дивислав пойдет на викингов, я овдовею куда быстрее, чем через двенадцать лет! Даже отец не справился… – Голос у Эльги сел от нового всплеска горя. – Куда этому… старинушке? У него сын старший – моих лет. И он после Дивислава князем будет. А мой сын? Тот, который бел, как сыр, и который захочет, чтобы его не пеленками, а кольчугой и шлемом в зыбке снаряжали? Дивиславовым сыновьям будет служить?
– Но ты что же… уже не хочешь за Дивислава идти? Раньше ты за Ингвара не хотела!
– Что я тогда понимала? И с тех пор изменилось кое-что. Ингвар уже мужчина, и он доказал, что может так называться! Он ходит в далекие походы, завоевывает славу и привозит добычу! Такой князь никогда не останется без дружины. А с дружиной можно все: отомстить врагу, захватить земли…
От воодушевления у нее разрумянились щеки, заблестели глаза.
Окажись эти два жениха сейчас здесь – прямо так и сцепились бы между собой за такую красу!
– Наш родич Одд Хельги захватил целую державу, одолел всех врагов и сумел передать ее по наследству. Наши отцы хоть и не захватили Плесков, но занимают здесь почетное положение. Я хочу, чтобы мой муж был не хуже!
– Но твой муж… если это будет Дивислав, он и так не хуже. Он – князь старинного рода, он правит целым племенем…
– А он что-нибудь сделал для того, чтобы занять это место? Только родился сыном своего отца! Надо же, какой подвиг!
– Но ты хотя бы видела его. Он красивый мужчина и добрый человек… как говорят. Он заботится о славе и пользе своего рода. Он любил прежнюю жену и будет любить тебя.
– Это все не так важно. – Эльга подтянула ноги в мокрых чулках и поршнях, обняла колени и устремила задумчивый взгляд в гущу еловых ветвей за ручьем. – Ты понимаешь, что мне придется сделать, чтобы выйти за Дивислава? Мне придется отдаться медведю. Как Воянке перед свадьбой. И ладно бы, я потерплю, если это нужно, чтобы родить здоровых сильных сыновей для своего мужа. Но ты же слышала, что она сказал? У меня будет один сын! Всего один! А первого сына девки, которая была у медведя, забирает медведь, потому что это его сын! Первенец родится от пращура, и его забирает пращур, чтобы сделать князем Нави. Он изначально принадлежит чурам, даже до рождения. Так было с… бабой Гоней, – Эльга выговорила это имя почти шепотом, – помнишь, моя мать нам рассказывала, когда Воянка… Тот медведь, которого мы встречали, это и есть бабкин первенец. От медведя. Теперь от него у меня тоже должен родиться сын. И тоже прожить всю жизнь в лесу. А другого у меня не будет. И на что я буду годна? Какому мужу я буду нужна, пустая и бездетная? Нет, я не хочу на «медвежью свадьбу». Я хочу, чтобы мой первый и единственный сын родился от мужа и принадлежал мужу. И продолжил наш род.
Я не ответила. Мы помолчали.
Чего бы там ни хотела невеста, решает свою судьбу не она. По крайней мере такая знатная невеста.
Даже князь Воислав в таких делах не главный: решают чуры, передавая ему свою волю через волхва – Князя-Медведя.
Власть чуров сильнее княжеской.
– Бывает, что замуж выходят, родичей не спрашивая, – обронила Эльга, будто угадала мои мысли.
Да их и нетрудно было угадать.
– Украдом?
Она кивнула.
– Ты поможешь мне?
– Спрашиваешь? – Я подняла брови. – Это смотря как попросишь, чего посулишь.
Чего бы я ни сделала ради нее? И она отлично об этом знала.
– Красоту мою тебе подарю, ленту алую! – насмешливо ответила она. – Надо сказать тому парню… Мистине. Что я согласна выйти за Ингвара.
– Но за вами гнаться будут. А до Киева далеко, и ехать мимо Дивислава.
– Дивислав за мной только по осени собирается, а осени еще и не видать. И пусть Мистина заботится, как проехать. Посмотрим, так ли он удал, как говорит… да и его князь заодно.
Я не решилась сказать, о чем подумала.
Мне с самого начала казалось, что Эльга не так уж обрадовалась бы мысли вернуться к первому жениху, если бы он прислал какого-нибудь беззубого сморчка. Глядя на Мистину, она, должно быть, и Ингвара невольно воображала таким же красавцем.
Да, Мистина очень хорош собой!
Что бы я о нем ни думала, этого было не отнять. Правда, нос у него был заметно свернут влево, но мы выросли возле дружины, где такие носы – у каждого третьего, этим нас не удивишь. А дерзость в его глазах, которая меня смущала, Эльге, кажется, даже нравилась.
– Но Ингвар еще сначала должен отомстить! – лишь напомнила я. – До осени он не успеет – тут одной дороги сколько.
– Побеседуй с ним тайком. А я поговорю с матерью. Она уж верно знает, что они с князем надумали – когда и что. Тогда и решим. Время есть пока.
Но мы ошибались: времени у нее совсем не было.
Кряхтя, Бура-баба подтянула под себя руки и ноги, кое-как поднялась на четвереньки, похожая на чудного зверя-птицу.
Уцепилась за лавку, приподнялась и усадила на нее утомленное старое тело. Сняла берестяную личину, потерла усталые глаза в густой сетке морщин.
Болели все кости. Голова кружилась.
Но сильнее старческой слабости и недугов мучило то, что она увидела, к чему привела ее дух Макошина нить.
Девки давно сбежали – и след простыл.
Посидев немного и собравшись с силами, Бура-баба подобрала прялочный копыл, поднялась на ноги и побрела к двери, опираясь на него.
У порога взяла клюку.
Вышла, обогнула избу, отворила заднюю калитку, встала в проеме и закричала:
– Эй! Кто в лесу, кто в темном! Выйди ко мне!
Издалека донесся глухой голос, напоминающий рев.
Старуха села на землю.
Через какое-то время еловые лапы закачались, на едва заметной тропке показался зрелый мужчина с длинными, плохо чесанными волосами, с густой бородой, не стриженной много лет, начинавшейся почти от глаз, одетый в медвежий кожух шерстью наружу.
Он чуть прихрамывал.
А в глазах его было нечто темное, дикое – как у того, кто родился человеком, но живет как зверь, всегда один, всегда в лесу, сторожа грань Нави и Яви с мертвой стороны. Не для него теплый дом и семейный круг: он родился, чтобы дать прибежище духу князя мертвых.
– Ну что, мати? – окликнул он старуху, подойдя. – Утомилась?
– За девкой воеводской пойдешь, – велела старуха. – Да… Чтоб из лесу она больше не вышла.
– Что такое? – Князь-Медведь удивился. – Хорошая вроде девка. Я ее еще с тех пор помню. Беленькая такая была, гладенькая.
– Смотрела я судьбу ее… Уж сколько лет пряжу мотаю, а такой судьбы не видала. Глазам не поверила. Не бывает такого. Видела я целый лес дремучий, что встанет от корня ее, да только лучше бы этому лесу света не видать. От корня ее погибнет наша земля. Вижу, как огни священные погашены, капи дубовые иссечены, капи каменные повержены и в болота зыбучие да реки бегучие сброшены. Чуры наши плачут горько, забытые правнуками своими. Видать, бездну темную, Мару и Кощея она на землю кривичей приведет.
– Да не может быть! С чего такому горю случиться?
– Не знаю. А знаю только: потому мне Суденицы судьбу ее открыли, чтобы оборвать тот росток, пока не поздно. Не вырвешь сорную траву, пока молода, разрастется и все поле задавит.
– Нет, мать! – Князь-Медведь подумал и потряс головой. – Это ты видела, что будет, если девку за варяга отдать, как воеводин брат хочет. А коли пойдет за Дивислава, то какой же вред от корня князей кривичских? Но раз уж Суденицы весть подают, пусть Дивислав обождет. Я девку-то заберу, пусть поживет у меня. Новый медвежонок молодой нужен, а то ведь старею и я, не отрок уже. А коли судьба у девки худая, я ее на новую перекую. Выкормим мальца, тогда пусть Дивислав и приходит по невесту. Одолеет меня – получит жену. – Медведь засмеялся. – А может, и не одолеет…
Дорогу назад мы отыскали довольно легко: заплутали малость, но самый трудный участок – через болото – одолели еще при ясном свете дня и вышли к знакомым местам до темноты. Шли не торопясь, высматривая приметы и обсуждая, что же нам теперь делать.
Эльга призналась, что у нее дурное предчувствие – будто она прошла по грани своей жизни и смерти.
И это при том, что Бура-баба обещала ей долгий век!
Все время в той избе у нее холодели руки и сердце будто сосала змея. А я-то, глупая, воображала там всякую безлепицу про отопки, разбросанные кривичами по пути от самого Дуная… Домашние смеялись над нашим изгвазданным видом, но в смехе их был оттенок почтения: все же мы побывали на том свете и вернулись, можно сказать, с успехом, а это не всякому дается. И мужчины, и женщины очень хотели знать, какую же судьбу Эльге предсказали, но мы молчали. Мы подозревали, что Воислав и Домаша все выведают не от нас, а остальным и вовсе пока не следовало знать.
Вечером отец пил с Мистиной – тому назавтра предстояло уезжать.
Князь на днях объявил, что боги и чуры воспретили брать назад слово, данное Дивиславу, и отсылать девушку к варягам: дескать, ищите себе невесту у других, у нас для вас невесты нет.
Видя, как мало Мистина огорчился, никто бы не поверил, что ему отказали в таком важном деле.
Эльга была у себя, я – у нас дома. Мне нужно было найти случай поговорить с Мистиной, но как? Если он так и уедет, то Эльге предстоит путь в медвежью берлогу. Она-то храбрилась – она вообще была очень храбрая, – но я не могла без содрогания даже думать о том, чтобы она…
Я не была уверена, что ее желание сбежать к Ингвару, сыну Ульва, разумно, но она и не просила меня судить о разумности ее желаний.
Она просила меня помочь. И если я, сестра, ей не помогу, то кто же?
Мистина допил пиво и поставил кубок на стол.
О, за посуду мы могли не краснеть, явись к нам какой угодно гость: для хороших людей мать выставляла на стол прекрасные греческие кубки, серебряные, с самоцветами и резьбой. Стрый Одд прислал нам подарки после того своего похода на Миклагард, о котором до сих пор шли разговоры. Были там и кубки, и блюда, и шелка.
Так что пусть Мистина не воображает, что у нас тут не умеют принять гостей!
Я подошла, чтобы налить ему еще; отец в это время смотрел в другую сторону, и я толкнула Мистину локтем. Он поднял на меня глаза, я лишь бросила быстрый косой взгляд в сторону двери, очень жалея, что не могу шепнуть ему хоть слово. Но оказалось, в этом нет нужды: он мгновенно опустил веки, потом вновь глянул на меня, и по его глазам я угадала, что он меня понял!
«Уж не ясновидящий ли он?» – подумала я тогда.
Ну что вы хотите: я была не из тех бойких девок, которые с двенадцати лет, едва успев надеть поневу, начинают перемигиваться с парнями. Я тогда еще не поняла, что Мистина из тех мужчин, кто всегда ищет взгляда хоть какой-нибудь женщины, кроме совсем старых и дурных собой.
Вскоре вошла мать. Я поставила кринку на стол и сказала:
– Если я вам не нужна, я пойду к Эльге?
– Иди, – вздохнула мать, и я поняла, что она сама оттуда.
Наверное, они с Домашей обсуждали то же самое. Мы знали: обе наши матери хотят видеть Эльгу за Дивиславом. Обе они сами прожили жизнь за варягами и, я думаю, не имели причин жаловаться на судьбу, но под влиянием своей родни сохранили недоверчивое отношение ко всем прочим выходцам из руси.
Я вышла из дома, но к Вальгардовой избе не повернула, а остановилась за углом.
Через какое-то время послышались шаги.
Мистина направлялся к отхожему месту.
Я обождала, пока он покажется оттуда, вышла из-за угла, убедилась, что он меня заметил, и пробежала к бане. Юркнула туда, спряталась за косяк, еще раз оглядела двор.
Вроде никого нет.
Я села и стала ждать. Сердце у меня так билось, что хотелось придержать его рукой. Если кто увидит, что я переглядываюсь с чужим парнем…
Вот уже чем меня никогда не попрекали, так это распутством. Но глупо было беспокоиться о своей славе, когда Эльге грозило нечто похуже.
Стало темно: кто-то загородил дверь. Потом вполголоса помянул йотунову мать: выпрямляясь, этот дылда стукнулся головой о косяк.
– Тише ты!
Я схватила его за руку и потянула в темный угол, толкнула, прикрыла дверь – но не полностью, чтобы никто не заподозрил, будто в нетопленой бане кто-то есть.
– Послушай! – Я встала перед ним: он сидел на скамье, вытянув длинные ноги чуть ли не на всю баню, и видно было, что пивом он угостился от всей души. – Ты что-нибудь соображаешь, или я зря тебе столько подливала?
– Я все соображаю! – Мистина засмеялся. – Только пока не знаю, ты сама хотела со мной повидаться или тебя сестра послала. Но я согласен на то, и на другое!
– Моя сестра просила меня поговорить с тобой.
Мне хотелось ради осторожности понизить голос, но для этого пришлось бы подойти к нему поближе, чтобы он меня расслышал, и я не решилась.
– Ты можешь дать слово от имени Ингвара сына Ульва, что он отомстит за нашего родича Вальгарда, если моя сестра согласится стать его женой?
– Так я для этого и приехал! – Он хлопнул себя по бедру. – С самого начала вам всем об этом твержу! А вы сперва хотели меня утопить – и только гибель твоего дяди спасла от ужасной гибели меня. Я твердо намерен попасть в Валгаллу, а для этого надо погибнуть в бою. Поэтому я решительно не согласен быть растерзанным сумасшедшими девками!
– Ну, уж если кому судьба появляться не вовремя, то мы не виноваты!
– А мне сдается, я появился очень даже вовремя! Ведь этот ваш второй жених, князь Дивислав, едва ли побежит мстить за Вальгарда.
Видно было, что он слишком пьян, чтобы сосредоточиться на деле.
– Я не собираюсь болтать здесь с тобой всю ночь! Если тебе надо проспаться, то я лучше приду с утра.
– Да ладно тебе! – Он вдруг наклонился вперед, поймал меня за подол и подтянул к себе. Я упиралась, стараясь не шуметь. – Я что, похож на пьяную свинью?
– Похож!
– Я все понимаю. Успокойся. – Он провел рукой по лицу. – Так твоя сестра согласна?
– Согласна, если Ингвар выполнит условие. Но ее родные, мать и князь, не согласятся, поэтому тебе придется увезти ее украдом. Ты знаешь, что это значит?
– Знаю. Уводом, убегом… это так называется. Это означает, что мы встречаемся у реки, я сажаю ее в лодку и увожу. Если нас не поймают до утра – она моя.
– А вас не поймают?
– Дорогая! – Он взял мою руку и так пылко прижал к своей груди, будто это за мной он приехал сюда через полсвета. – Погляжу я на того болвана, который попытается отнять у меня девушку! Едва ее увидев, я понял: эта девушка будет моей… ну, то есть нашей. Ингвара конунга. Я еще не знаю как, но будет. Даже если мне придется уговаривать ее и запугивать, как Скирниру Герд[4]. Ты знаешь, кто это такие?
– Некогда басни рассказывать! Есть еще одна важная вещь! – Я отняла руку, но он будто этого не заметил и снова ее взял. – Браки украдом – не для знатных людей. Настоящий брак заключается с согласия родни, с приданым и дарами. Ты это знаешь не хуже меня. И мы хотим, чтобы ты и Ингвар конунг хорошо уяснили кое-что. Мы все помним, почему обручение моей сестры и Ингвара уже было расторгнуто один раз. Его отец опозорил себя, продав свое честное слово за то ожерелье, что ты привез. Если теперь Эльга возьмет ожерелье снова, это будет означать, что в приданое она приносит возвращенную честь Ульва конунга и его сына Ингвара. Даже если другого приданого не будет! И она станет настоящей его женой, княгиней, королевой, и будет делить почет и уважение, которого Ингвар сумеет добиться, и ее сын будет его первым и полноправным наследником. Ты имеешь право обещать это от его имени?
– Еще забыла: и покупать ей все украшения, на которые она укажет… Да тебе бы на тинге речи держать! – восхитился Мистина. – Кто тебя научил? Если отец, так я пойду к нему, и мы все обсудим как следует, сидя за столом.
На самом деле мы с Эльгой все обдумали по пути из леса домой. Мы хорошо знали разницу между свадьбой с брачными дарами и обычным украдом.
– Не важно, кто меня научил. Ты можешь дать слово?
– Клянусь Одином! Или Перуном, если тебе так понятнее.
Я засмеялась.
Он говорил со мной на северном языке и думал, что я не знаю, кто такой Один.
– Она выйдет ко мне утром? Я уезжаю на заре.
– Не думай, что здесь одни глупцы. Если она просто уедет с тобой, вас поймают еще до первого поворота реки. А надо не попасться до утра. Поэтому завтра тебе далеко уезжать не следует. Вы подниметесь по реке до ручья, заведете в него лодки и вытащите их на берег. Спрячьте в кустах, чтобы с реки не было видно. Там роща, а в ней глубокий овраг. В нем вы и ждите. Через несколько дней мою сестру отошлют из дома. Но она пойдет не туда, куда ее пошлют, а к вам. Тогда вы и увезете нас. А дня два-три, надо думать, нас не хватятся.
– Вас? – Он подтянул меня к себе поближе, но я отодвинулась и снова отняла руку. – Ты тоже поедешь?
– Я всегда буду сопровождать ее.
– Ну, красивые девушки у нас лишними не будут…
Он попытался меня обнять, но я выскользнула и встала.
– Стой, ты куда!
Он протянул свои длинные руки, чтобы поймать меня, но я отскочила к двери.
– Мы уже все решили!
Я припала к дверной щели, пытаясь разглядеть в сумерках: нет ли кого поблизости, не увидит ли кто, как я выхожу из нетопленой бани? В это время меня обняли сзади, разгоряченное лицо Мистины уткнулось мне в шею под косой.
– Ну, куда ты? – бормотал он, целуя меня в шею. – Не спеши. Побудем еще… Может…
– Ты сдурел совсем!
Я отпихнула его изо всех сил, толкнула дверь и выскочила наружу, уже не заботясь, есть ли кто рядом, и пустилась бежать к Эльгиной избе. Сердце колотилось, пробирала дрожь, но не от страха, а… не знаю от чего.
Щеки горели, я была возмущена и в то же время фыркала от смеха.
Вот дурень!
Но уже возле двери Вальгардовой избы я перестала смеяться. Если наш замысел сорвется, это дело, что киевский верзила хотел сделать со мной, с Эльгой сделает медведь. Мистина-то еще ничего себе…
Я тайком передала Эльге, о чем мы договорились, но о завершении нашей с Мистиной беседы смолчала. Почему-то я знала: ей будет неприятно услышать, что он лез ко мне. Может быть, ей и надо было это знать, но… просто мне не хотелось об этом говорить.
Мы легли спать у Домаши на полатях, как почти всегда, но я долго ворочалась и не могла заснуть.
Все вспоминалось, как его длинные руки обвились вокруг меня, и от этого начинал ныть живот.
Эльга, кажется, тоже не спала. Но я даже не хотела гадать, о чем думает она.
Поведу русалку от бора до бора, Ой, рано-рано, от бора до бора! От бора до бора, в зелену дуброву! Ой, рано-рано, в зелену дуброву! Положу русалку под тяжелый камень! Ой, рано-рано, под тяжелый камень!По дороге вдоль реки из Люботиной веси шла толпа девушек с охапками травы в руках. Все были одеты в праздничные поневы и сорочки, с заплетенными косами, с пышными венками на головах – последними перед Купалой.
Только одна еще несла в себе силу дикой стихии: идущая впереди была в одной белой рубахе, увитая жгутами из травы и цветов, в огромном венке, закрывающем лицо, с распущенными светло-русыми волосами.
Заканчивались русалочьи велик-дни.
Развились венки на березах в роще, уплыли цветы вниз по Великой.
Оставалось последнее – проводить русалок из земного мира туда, откуда они пришли.
Положу русалку под тяжелый камень! Ой, рано-рано, под тяжелый камень! Здесь ей почивати, лето летовати! Ой, рано-рано, лето летовати! Здесь ей почивати, зиму зимовати! Ой, рано-рано, зиму зимовати!Сквозь свисающие на лицо хвосты венка Эльга почти ничего не видела перед собой, и Володея с Беряшей вели ее за руки, держа через спущенные длинные рукава. Она действительно чувствовала себя выведенной из этого мира – кем-то таким, кого сейчас положат под белый камень и оставят там.
С тех пор как она побывала у Буры-бабы, ей не было покоя.
Хотя, пожалуй, не Бура-баба была в том виновата.
Все изменила смерть отца.
Эльга никак не могла привыкнуть, что он не вернется никогда, но ей уже приходилось считаться с тем, что его нет. В душе все смешалось: боль потери, чувство беззащитности, тревога перед будущим.
Сильнее всего мучила неясность этого будущего.
Последние годы она прожила, твердо зная, что ей предстоит: выйти за Дивислава и стать княгиней зоричей. Но необходимость мести за отца развернула ее мысли к другому – опять к Ингвару, сыну Ульва.
Это значило – не кривичи, а ильменские поозеры, не Зорин-городок, а Волховец.
А еще – для брака с Ингваром не нужно идти в лес к медведю.
И сколько мать ни убеждала, что это необходимо для обретения силы, нужной ей как будущей матери сыновей и старшей жрицы племени, что-то в душе Эльги упорно этому противилось.
Она слишком хорошо помнила, каким холодным, темным ужасом веяло на нее от косматой фигуры среди ветвей, поразившей ее еще в детстве, и от этой старухи-птицы на полатях, которая пряла ее судьбу…
В камне тебе спати Ой, рано, спати! Поле не топтати! Ой, не топтати!Набросав травы под самым боком огромного камня, Эльгу положили на зеленую постель и закидали сверху тоже травой.
Похоронили.
Вернули земле-матушке.
Мы русалку проводили, Рано-рано проводили! В чистом поле схоронили! Рано-рано схоронили!Ушли.
Смех и голоса постепенно стихали и наконец совсем растаяли вдали.
Уже можно было встать, отряхнуться и идти потихоньку домой, но Эльга продолжала лежать. Приподнимая веки, она видела небо через завесу трав – наверное, так смотрит настоящая русалка из-под земли.
От густого травяного запаха кружилась голова, душа воспаряла, Эльга почти не чувствовала своего тела, почти забыла, кто она такая и что с ней. Она будто застыла на развилке и ясно видела две дороги, уходящие в разные стороны. Одна – в сумрак, в чащу леса, откуда веяло темной силой земли. Оттуда смотрели бесчисленные поколения предков ее матери – до старого князя Судислава, который привел свой род на эти берега. За его спиной возвышался Крив, родоначальник племени кривичей и земное воплощение Велеса, похожий на каменного идола с неразличимыми чертами. А совсем в глубине тьмы лежал в берлоге медведь – предок вообще всех людей. Тот самый, который должен был наделить ее силой рожать сыновей, достойных продолжить славу рода.
А вторая дорога уводила вверх, в сияние света, но там ничего не было видно. Ясно было только, что нужно подниматься по реке жизни, к небу, откуда текут все реки, но даже ближайший отрезок пути мешало видеть солнце, слепящее глаза.
Краешком сознания Эльга понимала, что с ней происходит: сделавшись «умершей русалкой», она встала на тропу богов и может увидеть свою судьбу – ту, что не открыла ей до конца Бура-баба.
Получить подсказку, узнать, куда же идти!
Хотелось туда – к свету, куда ушли дня три назад киевские посланцы Ингвара, обещавшие увезти ее с собой. К тому жениху, который, должно быть, еще в колыбели требовал кольчугу и шлем.
Подальше от всех медведей…
Но ничего не было видно. Мешала трава и слепящее глаза солнце.
Эльга с усилием овладела собой, села, сбросив с себя траву, вытерла лицо.
Голова кружилась, перед глазами все плыло. Она немного отползла от камня, у подножия холодного даже в этот теплый день, посидела, закрыв лицо руками, потом посмотрела на реку. Вода ярко блестела, отражая синее небо, и казалась дорогой, вымощенной чистым золотом.
Вдруг девушке показалось, что позади кто-то есть. Эльга обернулась и в изумлении опустила руки.
На камне стояла женщина – высокая и стройная, в белой одежде похожая на березу. От красоты ее лица и тепла синих глаз захватывало дух.
Она улыбнулась Эльге, подняла руку и показала на воду Великой. Потом сделала шаг по поверхности камня, второй – уже по воздуху, и растаяла.
Широкий синий плат на ее голове растекся по небу, обернувшись лазурью виднокрая, белая одежда затерялась среди ослепительных облаков. И все же Эльге казалось, что эти глаза все еще смотрят на нее.
И долго она сидела на траве, зачарованно глядя вверх.
Потом встала, медленно вернулась к камню.
Провела рукой по его поверхности – вот здесь она стояла…
Пальцы нащупали выемку. Что это?
Эльга встала на цыпочки, чтобы лучше было видно, пошарила по валуну и обнаружила продолговатое углубление. Больше всего это было похоже на след женской узкой ножки – такой же, как у нее самой.
Да, вот здесь она ступила, уходя в небо.
Но что это была за женщина, способная уйти в небеса, легчайшим касанием оставив след на твердом древнем камне?
Лада? Суденица-Доля? Солонь – Солнечная Дева? Может быть, Фрейя, о которой Эльге еще в детстве рассказывал отец?
Как тут угадать?
Выбрав из кучи травы самые лучшие цветы, Эльга покрыла ими след богини, касаясь камня так ласково, будто это могла почувствовать небесная гостья. Поверхность валуна нагрелась на солнце, но Эльге казалось, что в нем задержалось тепло той нежной ножки.
Душу ее заливала благодарность, которой не вместил бы даже воз цветов. Впервые за эти дни ее наполняло чувство тепла, покоя, уверенности.
Кто бы ни была та женщина, она хотела Эльге добра и указала дорогу.
Теперь девушка могла найти в себе смелости на то, чтобы оторваться от рода и семьи, от судьбы, благословленной предками по матери, и пуститься в путь под покровительством одних лишь богов.
Ну и еще варяжских предков отца – они хорошо знали, что значит бросить все и уйти в поисках счастья, надеясь лишь на свою удачу. А удачи у нее было много – ведь ей оставили ее по наследству не только отец, но и сам Одд Хельги!
После проводов русалок Эльга сказала мне, что больше не хочет ждать.
Я едва не пошутила, что русалочьи похороны пошли ей на пользу: она вернулась из-под Ладиного камня такая радостная, какой я давно ее не видела. Ее глаза сияли, да и вся она будто светилась изнутри. Ушла тревога, которая давно ее томила, а меня – еще сильнее, потому что она почти не говорила со мной об этом. Она сделалась уверенной, полной ожидания чего-то хорошего. Я даже заподозрила, что Мистина тайком воротился и сумел с ней повидаться, но она в ответ на мои расспросы посмотрела на меня с удивлением и покачала головой: Мистину она с тех пор не видела.
А я надеялась, что скоро мы его увидим.
Для этого нужно было уйти из дома, чтобы все думали, будто мы отправились к медведю. Тогда у нас будет целых три дня, прежде чем родичи хватятся.
А когда девушку увозят украдом, то она считается законной добычей похитителя, если их не настигли до следующего утра, так что наше дело будет сделано, и Мистина получит право распоряжаться Эльгой: взять себе или отдать своему князю.
Мы верили, что он и правда так предан Ингвару, как говорит; в ином случае Ульв конунг не доверил бы ему смарагдовое ожерелье.
Что бы там ни было связано с этим украшением, за него можно было бы купить всех девок Люботина.
Уезжая, Мистина тайком оставил ожерелье нам.
Я не знала об этом, но вечером, после отъезда киевлян, ложась спать, обнаружила плотно завязанный льняной мешочек на полатях, под моей подушкой. Ясно было, что предназначено оно Эльге, которая согласилась взять его обратно.
Но первый замысел не удался: Домаша не пустила нас в лес.
– Князь обещал, что за тобой придут, как срок настанет, – сказала она Эльге. – Одних велел не пускать. Хотите травы собирать – пусть Гремятины ребята вас проводят.
Идти в лес в сопровождении моих братьев из Люботина мы не хотели: эти уж точно будут выполнять волю князя и нас Мистине не отдадут. А подводить их под драку с хорошо вооруженными и обученными варягами было нельзя: порежут еще кого!
Не сказать чтобы нас держали взаперти: мы ходили с прочими женщинами собирать зелия и полоть лен, но я заметила, что кто-то всегда старается держаться поблизости от нас. Казалось, домашние норовят не выпускать нас из виду даже дома, а за частоколом Варягина – и подавно.
Не думаю, что домочадцы подозревали о наших истинных замыслах. Если бы кто-то, скажем, видел меня с Мистиной, Володея с Беряшей наверняка бы нам проболтались. Эти две, как и мы с Эльгой, повсюду ходили вдвоем, но были очень нам преданы и во всем старались нам подражать. Если бы они узнали нечто важное, что нас касалось, то непременно поделились бы еще до вечера. Однажды я прямо спросила их: не говорила ли мать, что, мол, нужно приглядывать за Эльгой, но они помотали головами.
– Мать тревожится: князь про Эльгу одного хочет, а стрый Турлав – другое, – сказала Беряша.
– А она за нее перед князем отвечает… и перед чурами, – шепнула Володея, боязливо оглянувшись.
И у чуров были причины тревожиться о своей внучке.
У меня тоже, поэтому я старалась не терять Эльгу из виду.
Я не знала покоя, и с каждым днем тревога нарастала.
Мистина и его люди не могут бесконечно жить в овраге! А если их кто-нибудь заметит? Ясно будет, что они не рыбки половить остановились, все ведь знают, зачем они приезжали и чего им нужно!
Мы так извелись, что ждали медведя с нетерпением невест, страдающих по женихам.
И косматый «жених» пришел – на седьмой день после нашего похода к Буре-бабе. Домаша разбудила нас на заре:
– Медведь явился! Невесту себе требует!
Все наше Варягино поднялось.
Особенно разволновались женщины, дети, челядь; хирдманы пожимали плечами и хмыкали, но тоже смотрели с любопытством.
Оказывается, Князь-Медведь объявился еще с ночи: собравшись утром гнать скотину на луг, челядины обнаружили его сидящим на земле напротив ворот. Все ожидали этого, но обычай требовал поднять крик, и это было исполнено. Не сказать, чтобы наши притворялись: Князь-Медведь выходил из леса и являлся к людям лишь несколько раз в год, в поминальные дни, когда посещал избы и принимал дары, назначенные чурам. Но это всегда бывало осенью или на Коляду, никто не видел его здесь в семик. Это повергало в изумление и ужас, как нарушение принятого мирового порядка: все равно что среди лета из лесу вышел бы зимний сугроб.
Даже дети носились по двору и вопили от возбуждения. А обе наши матери взялись за Эльгу и стали собирать: умыли, расчесали и заплели косу, одели в новую беленую рубаху, «печальную» синюю поневу и вздевалку. Кроме поневы, все было белым, с тонкой строчкой «дедов» черной нитью.
Стрыиня Домаша причитала, жалуясь на злое чудо-юдо беззаконное, которое пришло за ее любимой дочкой, ясной звездочкой, призывала родимого батюшку, чтобы заступился за милое дитятко…
Было горько и смешно слушать это, зная, что тут, под рукой, у нее четыре десятка дружины, готовой с большим удовольствием отстоять дочь своего вождя хоть от целой стаи медведей.
Я поначалу крутилась рядом, подвывая матерям. Потом, когда Эльгу повели наружу, разрыдалась и бегом кинулась прочь, будто в ужасном горе. Вместе с толпой позади Эльги я выбралась за ворота и тоже увидела его: он уже не сидел, а стоял, в своей шкуре, с посохом, с личиной, оставлявшей на виду только бороду.
– Вот и невеста! Давно поджидаю! – хрипло проревел он, и меня пробрала дрожь от этого голоса. – Ступай за мной! Хорошо мне послужишь – награжу, не послужишь – съем!
Женщины закричали, дети завизжали от страха.
Медведь взял молчаливую, с опущенными глазами невесту за руку и повел к лесу.
Домочадцы смотрели им вслед.
А я бросилась бегом совсем в другую сторону. Мне нужно было добежать до оврага, где скрывалась дружина Мистины; по пути я только и думала, как бы что не задержало нас, и мы успели отыскать медвежье логово до ночи!
По пути молчали.
Князь-Медведь ничего не говорил, дышал как-то очень шумно и порой сотрясался от приступов сильного кашля. Эльга и не знала, что сказать ему, да и желания не имела. Она старалась сохранять спокойствие и верить, что становиться женой медведя ей все же не придется, но чувствовала – в груди словно холодная вода разлита, а сердце непрерывно катилось куда-то вниз.
Уж сколько сказаний и басен она с детства слышала от бабы Гони и от других старших!
В них девушек часто похищали разные обитатели Закрадья: то медведь, то ворон или орел, то Вихрь Вихрович, а то и двенадцатиголовый змей. Девушку всегда спасали: за ней приходил жених, избранный в человеческом роду. Но он шел по три года, изнашивал три пары железных черевьев, съедал три железных каравая и ломал три железных посоха. Эльга не хотела три года жить в медвежьем логове, пока князь Ингвар… или Мистина… или пусть даже Дивислав отыщут ее и выведут снова в люди.
Два раза она попыталась отнять руку, но Князь-Медведь не отпустил, на второй раз даже проворчал что-то угрожающее, и она оставила попытки.
А идти с ним рука об руку было очень неприятно: его ладонь будто переливала в нее какое-то гнетущее темное чувство, от которого душа наполнялась все большей тяжестью и даже становилось тошно.
И ведь это еще самое начало…
И пусть он – не настоящий медведь. Он – старший сын бабы Гони от прежнего Князя-Медведя, значит, Эльге он родной вуй – старший брат матери. Это если по человеческому счету. А брачное соитие между кровными родичами запрещено и проклято уже тысячу лет, с тех пор как люди стали брать жен в чужих родах, а не своем. Оно разрешено и предписано только там, где родовое прошлое длится вечно.
В Закрадье.
Для тех, кому позволено войти туда, приблизиться к богам, а затем вернуться к живым.
Даже у северных богов отца подобное случалось: Фрейя была Фрейру и сестрой, и женой.
Но Эльга не хотела даже на три дня возвращаться в чащобу древних обрядов.
Светлая женщина на камне указала ей иную дорогу…
Но чем дальше они шли, тем яснее Эльга понимала, как трудно будет Ингвару… то есть Мистине здесь ее отыскать. А что, если Уту посадят дома, не позволят уйти?
Как она и ожидала, Князь-Медведь вел ее уже почти знакомой дорогой.
Вот ручей, вот ельник, вот черепа на кольях тына Буры-бабы. Теперь вид этого преддверия Нави не испугал Эльгу, а лишь наполнил еще горшей тоской от мысли о том, что вот-вот за ней закроются ворота Нави, отрезав от прежней жизни.
Медведь постучал, старуха открыла створку.
Как и в прошлый раз, в руках у нее был горшочек киселя, и обоим пришедшим она дала съесть по ложке.
Но после того Эльгу повели не в избу, а в обход нее. Позади, в дальней стороне тына, обнаружилась калитка, о которой рассказывала Ута. Бура-баба открыла ее, и Князь-Медведь вывел Эльгу наружу.
Они миновали сторожу и очутились в Нави.
Здесь начиналось болото: по сторонам были кочки с блестящей между ними водой, а по бокам узкой – лишь на одного – тропы виднелись два старых, оплывших, но еще глубоких рва. На срезе склона серела свежая земля: кто-то не так давно их подновлял. Благодаря рвам двор Буры-бабы превращался в крепость: и в Навь, и обратно можно было попасть только по этой тропе.
Проходя вслед за медведем по тропке между рвами, Эльга глянула вниз. По дну ползла черная змея, и девушка содрогнулась.
Наверное, их там много…
В глаза бросилось что-то белое, похожее на кость, но приглядываться она не стала.
И так уже на сердце тяжелее некуда.
Едва закончились рвы, как с ближайшей сосны глянул на них рогатый череп. Казалось, он смеялся своими длинными зубами, предвкушая добычу.
Эльга опустила глаза и уже не смотрела по сторонам. Она не хотела видеть всех этих ужасов, которыми был полон здешний мертвый мир. Из леса веяло холодом, деревья перешептывались за спиной.
К счастью, слишком углубляться в Навь не пришлось.
Через две сотни шагов показалась изба – побольше той, куда медведь когда-то принес двух маленьких испуганных девочек. Под стенами так же были набросаны кости, но внутри оказалась не только печка, но и лавки, стол, светец над лоханью, укладка и прочая домашняя утварь. Словом, имелось все нужное для того, чтобы обитать здесь годами, а не заходить изредка по особому случаю.
– Ну вот, девка, здесь и жить будем, – сказал Князь-Медведь, заведя Эльгу внутрь. – Толки просо, вари кашу. Как сваришь, позови. А я в лес пойду по дрова. Вот такое дело…
Он взял из-под лавки топор и снова вышел.
Эльга села под оконцем, радуясь, что он больше не держит ее руку. Даже возможность перевести дух уже казалась подарком судьбы.
В избе пахло не плесенью, а дымком: да, это его настоящее обиталище. На широкую лавку, где было набросано тряпье, она старалась не смотреть. Из порванного тюфяка лезет свалявшаяся осока, настилальники из грубого небеленого льна давно не стираны…
И они думают, что ей пристала такая брачная постель?
Она провела здесь совсем чуть-чуть времени, а уже хочется утопиться. А баба Гоня – тогда еще юная девица – прожила в этой берлоге целый год! Едва ли прежний Князь-Медведь был приятнее нынешнего… и он тоже был ей родичем по матери!
Сомнительно, чтобы юной Годонеге это все нравилось. Но она прожила здесь до тех пор, пока у нее не родился ребенок – тот самый, что сегодня привел сюда Эльгу. И еще какое-то время, пока родители не убедились, что младенец выживет. Только потом ей позволили вернуться к людям, пройти очистительные обряды, возвращающие из Нави в белый свет.
Но через семь лет с ребенком ей пришлось проститься.
А ему – с ней.
Почти всю жизнь мать и дитя не знали друг друга, пока сама Гоня не покинула белый свет и не пришла к своему сыну, чтобы жить с ним у вечного истока рода и племени.
Эльге уже казалось, что она сама прожила именно такую жизнь, все позади… и впереди тоже.
Судьба лесной жены-медведицы ходила по кольцу, повторяясь снова и снова. Это та опора, на которой стоит и возобновляется племя плесковских кривичей.
И в ней никогда не будет никаких перемен.
Но что-то в душе Эльги упорно противилось такой судьбе.
Ее предки по отцу жили иначе!
Они принадлежали к странному племени под названием русь: у него не было своей земли, оно зародилось и существовало в торговых посадах и на торговых путях по всем северным и восточным странам. Торги устраиваются на ничейной земле, на межах племенных владений, и в русь вливались представители самых разных языков, хотя начало ей положили северяне. Эти люди в большинстве своем свободно говорили на северном, словенском, хазарском языках, многие знали греческий и хвалисский. У них были свои обычаи – например, погребение в подземном доме, чего не делали окрест живущие племена ни в Свеаланде, ни в Ютландии, ни в Гардах. Жители виков Бьёрко в Свеаланде или Сюрнеса на среднем Днепре гораздо больше походили друг на друга, чем каждый – на кривичей или свеев, живущих за половину дневного пешего перехода от них. Русы собирали дружины для военных или торговых походов, оседали где-то, женились и, в конце концов, умирали очень далеко от того места, где родились. Женщины их в Киеве уносили в могилу наплечные застежки платья, сшитого в Хейтабе, а мужчин в Бьёрко хоронили с конем и поясом степного всадника. Они видели много племен, вобрали много разных обычаев и верований, но главное, они знали, как велик мир. И своими трудами неустанно делали его еще больше.
Голос предков-русов звучал в душе Эльги, звал двигаться вперед, раздвигать границы своего прежнего мира.
Никогда ею не слышанный голос Одда Хельги манил куда-то, указывал путь.
В Киев!
Если она сумеет выбраться отсюда, Мистина увезет ее в Киев – туда, где тепло, куда зима приходит на месяц позже, а уходит раньше. И там гораздо ближе до тех чудесных стран, откуда привозят разноцветные шелка, откуда пришло то дивное ожерелье из голубовато-зеленого камня под названием измарагд…
Разве место этой драгоценности в медвежьем логове?
А ей, Эльге?
Она порывисто встала, подбежала к порогу, распахнула дверь.
Князь-Медведь бродил неподалеку, среди первых стволов опушки, и обернулся, услышав скрип.
Эльга снова закрыла дверь и вернулась к оконцу.
Самой ей отсюда не выбраться. Да и как бы она миновала сторожу Буры-бабы?
Оставалось ждать.
Она огляделась, приметила в углу зерновую яму, подняла деревянную крышку. Вот оно, просо. Нашла ковш, зачерпнула и высыпала в ступу. Потом взяла толкач и принялась медленно, размеренно толочь.
Спешить ей некуда. Она вовсе не торопится кормить свадебной кашей своего косматого жениха!
Через какое-то время дверь открылась: вернулся Князь-Медведь.
Эльга села, пораженная ужасом: что, уже?
Но он лишь поставил два ведра с водой, окинул взглядом избу и ее, замершую возле ступы, хмыкнул и ушел опять.
Эльга перевела дух, черпнула воды в горшок и принялась так же не спеша топить печку. У нее дрожали руки, но не от прежнего страха. Теперь-то она не боялась быть съеденной.
Не съест ее Князь-Медведь.
Она нужна ему живой.
И Эльга отчетливо понимала: никто, кроме Мистины, не сможет избавить ее от этой участи. Только он, варяг, чужой здесь, дерзкий и нацеленный добиться своего любой ценой, сможет пойти против обычая, растущего из глухой тьмы веков. Ведь это не его предки воплощены в Буре-бабе и Князе-Медведе. Для него конунг – дед, отец и брат, единственный господин и закон. Выросшая в доме варяжских воевод при кривичском князе, имея родичей и в Плескове, и в Киеве, Эльга хорошо понимала разницу в мировоззрении тех и других. Сама она всю жизнь провела на грани, имея возможность свободно видеть и ту и другую сторону.
Род матери тянул ее к себе, род отца – к себе.
Но вот настал миг выбора: стоять посередине больше нельзя, иначе ее просто разорвет напополам.
Вода в горшке закипела, Эльга бросила несколько серых крупинок соли и засыпала истолченное просо. Помешала длинной ложкой на кривом черенке. Она не могла определить, сколько прошло времени: то казалось, что она сидит здесь не первый день, а то – что едва вошла.
Довольно ли этого, чтобы Ута добежала до оврага, чтобы Мистина и его люди собрались и поспели сюда раньше Князя-Медведя?
Ох, нет! Время идет быстрее, чем пробираются через незнакомый лес девушка и несколько парней – не один же Мистина отправится отбивать невесту!
А что, если Ута со страху заплутает?
Она клялась, что хорошо помнит дорогу, но можно ли на нее положиться в таком состоянии?
От тревоги Эльга была готова усомниться если не в преданности, то в толковости своей любимой сестры.
Видя, что каша почти готова, она вновь подошла к порогу и осторожно выглянула.
Князя-Медведя нигде не было видно. Топор не стучал.
Эльга с надеждой взглянула туда, куда убегала едва заметная тропка к стороже Буры-бабы.
Ох, если бы между деревьями сейчас показалась Ута, а за ней – Мистина!
Эльга почти видела их – встревоженное личико сестры, тяжело дышащей от бега и волнения, размашисто шагающего Мистину с копьем наготове… нет, он возьмет меч, с копьем в лесу неудобно.
И вдруг Эльга сообразила: да как же они найдут эту тропу?
Ута знает дорогу только до Буры-бабы. Дальше она не бывала.
А тропа, по которой изредка проходил только один человек, не особенно заметна на лесной земле. Даже если они сумеют как-то проникнуть за бабкину сторожу – через нее или в обход – кто же им дальше-то укажет дорогу?
Эльга взглянула на солнце.
Как ни долог был день поздней весны, а и он близился к концу.
Румяный солнечный лик уже завис над темнеющими вершинами леса, еще немного – и сядет на них, потом запутается в ветвях и погрузится на самое дно темной чащобы…
Им хватило бы времени на дорогу. Если они эту дорогу нашли.
Но если она хочет быть избавленной от своей участи, то надо им помочь.
Эльга вышла за порог, подняла руки ко рту и протяжно закричала:
– Кто в лесе, кто в темном? Иди ко мне ночь ночевать!
Помолчала. Позвать нужно трижды – сразу Князь-Медведь не покажется.
Даже если он где-то рядом – а скорее всего так и есть, – ему придется дождаться третьего призыва. Появиться раньше ему запрещает тот же обычай, что привел ее сюда.
Эльга подождала, напряженно вслушиваясь в отдаленные звуки чащи, потом закричала снова:
– Кто в лесе, кто в темном…
– Это она! – Я обернулась к Мистине.
Он шел позади и наткнулся на меня на узкой тропе, когда я вдруг остановилась. Я уцепилась за его руку, чтобы не упасть. От усталости я совсем запыхалась и едва держалась на ногах. Спасало то, что не было времени думать об этом.
– Что? – Он повертел головой. – Где?
– Ты не слышал? Она зовет!
– Я не слышал. А вы?
Он обернулся к четверым парням, которых взял с собой.
– Птицу слышал сейчас, – сказал Альв – здоровенный, с желтыми кудрями и веснушчатым носом.
– Это не птица, это Эльга! Мы уже почти пришли к старухе.
Мы только что миновали ручей: увидев впереди воду, Альв и еще один, кажется, Доброш, подхватили меня и перетащили, не дав замочить ног. Но я даже поблагодарить их не смогла: приходилось беречь силы.
– Вон частокол! – Я увидела впереди серые бревна. – Нужно пройти через ее двор.
Тогда мне даже не пришло в голову, что можно попробовать обогнуть лесной двор снаружи: так твердо засело у меня в голове убеждение, что путь в Навь лежит только через сторожу. По дороге я рассказала парням, как выглядит это место и его обитатели – чтобы они были подготовлены и не растерялись при виде черепов и всего прочего.
Они и не растерялись.
– Там заперто? – на ходу спросил меня Мистина.
– Не знаю. – Я не могла вспомнить, был ли засов на воротах изнутри. – Открывается правая створка.
– Ну, сейчас узнаем.
За несколько шагов до ворот Мистина ускорил шаг, разбежался и со всей силы ударил плечом в правую сторону ворот.
И мигом влетел во двор вместе со створкой, которая оторвалась и повисла на одной петле. Было не заперто: строители сторожи никак не рассчитывали, что кто-то станет брать Навь приступом.
– Нужно обогнуть дом, там с другой стороны выход! – Я махнула рукой, стараясь не смотреть на низкую дверь избы. – Скорее же!
Но мы и так бежали бегом.
Уже завернув за избу, мы услышали скрип двери: Бура-баба вышла посмотреть, что за шум.
Наверное, со времен Крива это место не видало столь наглого насильственного вторжения!
При мысли о том, что это я привела сюда чужаков и способствую поруганию священного места, меня обдавало ужасом не меньшим, чем при первом появлении здесь.
Но что я могла сделать? Ведь там Эльга!
Внутренняя калитка тоже не была заперта, и я распахнула ее сама.
В этот миг я вспомнила про невидимых слуг Буры-бабы, которые опорожняли бадью, и у меня снова упало сердце. Быстрым взглядом я окинула болото и тропу позади калитки – никого. Только на сосне неподалеку, прямо впереди, скалился рогатый череп – несомненно, вместилище кудов и чудов.
– Ой!
Мне показалось, что череп шевелится и хочет сойти со своего места.
– Что? – Мистина сзади схватил меня свободной рукой за плечо.
– Здесь… – Я даже не могла внятно объяснить, чего боюсь.
– Нам туда! – Альв махнул топором в направлении черепа. – Наверняка эти кости указывают дорогу к дальнему святилищу. У нас в Бьёрндалене так было.
– Точно! – одобрил Мистина. – Иди теперь вперед.
Альв с трудом протиснулся мимо меня на узкой тропе. Проходя, погрозил черепу топором.
В это время впереди снова раздался крик, и теперь мы ясно разобрали слова:
– Кто в лесе, кто в темном? Иди ко мне ночь ночевать!
– Она там! Уже близко!
Альв кинулся вперед так быстро, что я едва успела бросить взгляд в ров справа: там грелись на мху сразу две гадюки с черным зигзагом на бурых спинах. Меня едва не стошнило: я терпеть не могу даже вида змей, а сейчас я и так была чуть жива.
– Не грохнись туда, нам тебя вытаскивать некогда! – Мистина придержал меня за плечо и подтолкнул.
И я бросилась бежать изо всех сил. Скорее миновать жуткое место и не думать, что там дальше!
Альв не ошибся: когда мы оставили позади первый череп, на дальнем дереве забелел следующий, тоже на высоте человеческого роста. Всего нам пришлось миновать их семь. И уже на пятом мы услышали третий призыв:
– Кто в лесе, кто в темном…
Деревья расступились – и мы увидели все сразу.
Избушку и Эльгу в черном проеме входа, будто солнце в туче.
Мне бросилось в глаза ее застывшее лицо, бледность которого я различила, несмотря на расстояние и сгущающиеся сумерки.
А еще – бурую живую громаду: Князь-Медведь шел к ней, спиной к нам, и пересек уже половину небольшой поляны.
Ему оставалось сделать три-четыре шага – и моя сестра окажется у него в лапах.
Позади я ощутила быстрое движение и почти безотчетно отскочила в сторону, чтобы не стоять между Мистиной и Князем-Медведем.
Как оказалось, правильно сделала.
Он оценил обстановку мгновенно. Не пытаясь догнать лесного хозяина, Мистина выхватил у Доброша сулицу, сделал шаг, чтобы обойти Альва, и метнул ее в косматую спину.
Железное острие вошло точно под лопатку. От толчка Князь-Медведь сделал широкий неверный шаг вперед, вскинул обе лапы и издал короткий хриплый рык…
Он еще успел обернуться… почти успел.
В этот миг Альв налетел на него и с размаху ударил топором по морде медвежьей личины.
Я застыла. Даже перестала дышать.
Все плыло вокруг, в ушах звенело.
Я видела, как Князь-Медведь валится наземь с разрубленной головой; как брызжет во все стороны что-то красное и серое; как вырывается из-под личины, изо рта, густая струя крови.
Он убит. Они убили его.
Меня обливали жар и озноб, в ушах звенело, перед глазами ползли темные пятна.
Это было, как если бы у меня на глазах рухнул Мер-Дуб.
Не укладывалось в голове, что это возможно.
Да, для этих парней, киевских варягов, покинувших дом еще подростками и проведших далеко не мирные годы в дружине воинственного вождя, наш Князь-Медведь был всего лишь чужеземным колдуном, которого надо убить поскорее, пока не начал творить чары. Желательно – пока не успел даже взглянуть на тебя.
Но для меня… я ведь выросла здесь.
Мои предки по матери несколько веков видели в нем исток своего мироздания. Я встречала Князя-Медведя редко – только в срок поминания мертвых, когда приносились жертвы чурам. И то мы, дети, в это время забивались на полати и накрывались чем-нибудь, пища от страха, и даже глянуть на него одним глазком из-под овчины уже считалось среди нас великим подвигом.
«Мой брат Князь-Медведя видел!» – говорилось с гордостью.
Многим только после своей свадьбы, войдя в число старших, удавалось избавиться от страха, что «Князь-Медведь заберет». Это существо – не то человек, не то зверь, не то свой по крови, не то чужой и даже чуждый, не то живой, не то мертвый и вечный – воплощал всех наших предков и сам был почти богом.
Они убили его – так сможет ли существовать дальше племя плесковских кривичей?
Они убили его, потому что я привела их сюда – так смогу ли дальше жить я?
А Мистина уже бежал к Эльге.
Она тоже не сразу оторвала взгляд широко раскрытых глаз от косматого тела и темной лужи крови на зеленом мху. Но когда она наконец посмотрела на Мистину, в ее взоре было облегчение.
Я едва успела это отметить – меня вытошнило.
– Идем скорее! – Мистина устремился прямо к Эльге и схватил ее в объятия.
Она позволила ему обнять себя и даже сама прижалась к нему, вцепилась в рубаху на груди. У нее было такое лицо, будто она сейчас заплачет.
Бедная, какой ужас ей пришлось пережить – звать, не ведая, кто первым явится на ее зов, друг или чудовище!
Но мы все еще были в Нави.
И мы совершили ужасное преступление. Равного ему я даже представить не могла – никогда в жизни ни о чем подобном не слышала. Это хуже, чем… убить собственного отца. Или обесчестить мать. Или… не знаю!
Кара может настичь нас прямо сейчас.
Сейчас появятся невидимые слуги-нави, и мы все падем замертво…
Раньше, по дороге сюда, я не думала, каким образом мы избавим Эльгу от жениха-медведя. Мне казалось, мы просто уведем ее тайком. Мистина тоже не думал: ему все было ясно. «Вот враг, вот топор, дальше понятно», – как он потом говорил.
– Ну что, он ничего тебе не сделал? – Мистина отстранил от себя Эльгу и взглянул ей в лицо. – Я вовремя успел?
– Да. Я только кашу сварила… – пробормотала Эльга, стараясь не глядеть на мертвого. – Ута! – Она заметила меня. – Что с тобой? Ты цела?
Она подбежала ко мне; мы обнялись.
На миг мне стало спокойно, будто все уже позади… или вовсе ничего этого не было.
– Хватит, девушки, обниматься, мне завидно! – Мистина взял ее за руку и оторвал от меня. – Идемте отсюда. Темнеет, а я не уверен, что найду дорогу в этом лесу ночью. А что будет к утру – йотуна мать знает!
– Никаких сокровищ! – Из избы показался разочарованный Альв; чтобы оттуда выйти, ему пришлось согнуться пополам. – Я думал, у него там золото, серебряные кубки, и все такое…
– Нету там никакого золота! – воскликнула Эльга и засмеялась, будто безумная. – Горшки глиняные да тряпье вонючее! Идемте скорее!
Мы пошли обратно почти прежним порядком: впереди Альв, потом Эльга, потом я, за нами – Мистина и трое дренгов.
Черепа скалили зубы, но указывали нам дорогу. При виде каждого у меня вновь замирало сердце в ожидании: вот сейчас на нас набросятся невидимые духи, обитающие в старой жертвенной кости! Или заморочат, собьют с пути, заставят ходить по лесу от одного черепа к другому, пока мы не упадем от усталости.
Но нет – вон уже видны рвы, а за ними тын… и темная фигура на тропе.
Не то женщина, не то птица, не то живая, не то мертвец…
Бура-баба стояла на стежке между рвами, и ее никак нельзя было обойти. В руках она держала свой посох с увесистым комлевым навершием в виде бородатой головы.
– Ой, ё… – ляпнул кто-то из парней позади меня, но скорее с изумлением, чем со страхом.
– Прочь с дороги! – рявкнул Альв и выставил сулицу, которую держал в левой руке.
– Нет вам хода из Нави, здесь почить вам навек! – каркнула старуха и взмахнула посохом, будто собиралась снести нам всем головы. – Эй, слуги мои верные, чуды черные, куды дикие! Собираю вас с болота глухого, с дерева сухого, с волка лютого, с медведя ярого…
Но больше она ничего сказать не успела.
Не устрашенный грозящим проклятьем, Альв шагнул вперед, сулицей отбил посох, а обухом топора в другой руке ударил старуху по голове.
Падая, она успела выбросить вперед свой посох и попала мне по ногам.
Я упала – показалось, что сейчас скачусь в ров со змеями, и я судорожно вцепилась в траву.
– Баба Гоня! – вскрикнула Эльга.
Как бы ни была страшна эта старуха в своем нынешнем существовании, она все же оставалась нашей бабушкой.
Эльга бросилась к ней, желая убедиться, что та не убита, а только оглушена. Я надеялась на это: видела, что Альв ударил не лезвием секиры, а обухом. И обухом можно проломить голову, однако птичья берестяная личина должна была смягчить удар.
– Куда, йотуна мать! – рявкнул Мистина и кинулся к Эльге. – Некогда!
Он подхватил ее, закинул на плечо и бегом устремился в калитку, которую парни уже открыли.
Я попыталась встать, но щиколотку пронзила острая боль, и я снова упала.
– Быстрее, быстрее! – кричал впереди Мистина.
Я снова попыталась встать – и это мне удалось. Ногу я всего лишь ушибла и могла на нее наступать.
И первым делом я подбежала к Буре-бабе. Дрожащими руками стянула птичью личину.
Ну да, это она. Баба Гоня.
Еще сильнее постаревшая за эти годы, какая-то закопченная…
Глаза ее были закрыты, тонкие седые пряди выбились из-под волосника.
– Баба Гоня! – позвала я. – Ты живая?
И сама ощутила глупость своего вопроса.
Живая? Она уже года три не живая, наша баба Гоня. А та, которой она стала, – и три тысячи лет.
И все же я знала, о чем спрашиваю.
Меня с прошлого раза мучила память о том, как мы бросили ее лежащей без памяти на полу. Если бы наша бабка упала в прежней жизни, у себя дома, разве бы мы оставили ее лежать, как полено, не подняли бы?
В прошлый раз мы с Эльгой были слишком напуганы и видели в ней не человека, а иномирное существо, которое по своей воле бывает живым или мертвым и к которому нам вообще не следует прикасаться.
Но теперь, после того как я увидела смерть Князя-Медведя и узнала, что обитатели Нави смертны…
Я не могла ее бросить без помощи.
Ведь здесь лес, тут никого больше нет!
Баба Гоня была бледна и выглядела очень плохо. Почти как мертвая, но я почему-то была уверена, что она жива. Мне казалось, она дышит.
Надо… перенести ее в избу, дать хотя бы воды, заварить зелья…
Да хоть сосновой хвои – она сама поила этим всех недужных, кому требовались силы.
Я подняла голову, чтобы позвать на помощь, но поняла: звать некого.
Впереди зияла распахнутая калитка, во дворике за ней было тихо. Крики и шум шагов, которые я краем уха слышала вот только что, смолкли.
Они ушли – Мистина, Эльга, Альв и прочие парни.
Я видела, как Мистина тащил Эльгу на плече; конечно, ему было некогда оглядываться еще и на меня.
Потом они говорили: один не заметил в суете, как я отстала, и думал, я иду сзади; другой помнил, что я знаю обратную дорогу, и был уверен, что я сама выберусь из леса; третий решил, что я осталась по своей воле, а им ведь не приказывали привезти двух девушек.
Эльга обнаружила мое отсутствие далеко не сразу, а тогда уже Мистина наотрез отказался возвращаться и искать меня. Он был послан из Киева за нею и твердо намеревался увезти ее с собой; я ему была не так важна, а промедление грозило загубить всю затею.
Потом он клялся, что верил в мою способность о себе позаботиться и добраться домой – привела же я их к медведеву логову!
Но я уверена, что в тот час он вообще обо мне не думал.
Правда, и я о них почти сразу забыла.
Я не могла думать связно ни о чем; вся моя сущность расплывалась от растерянности и ужаса моего положения.
Я сидела одна-одинешенька, на болоте, на границе Нави, а на руках у меня осталась Бура-баба, страж этой границы, загубленная моими же трудами.
И именно сейчас менее всего было ясно: в мертвых ее считать или в живых?
Сумерки сгущались над моей бессчастной головушкой, ни одна живая душа – ни мать, ни отец, ни брат – не могла прийти за мной в мир мертвых: ведь никто не знал, что я здесь.
А куды и чуды, призванные бабкой, уже были где-то рядом, жаждущие отомстить обидчикам и нарушителям священных рубежей…
Теперь я вспоминаю это и не верю, что подобный ужас был со мной, а не с какой-нибудь Нежданкой из басни.
И что я справилась и даже не сошла с ума – это, пожалуй, самое удивительное.
Уже почти в темноте, понимая, что еще немного, и передвигаться можно будет только на ощупь – а в двух шагах змеиные рвы! – я встала, морщась от боли в ушибленной щиколотке, и волоком поволокла Буру-бабу в калитку.
Ох, и тяжелой же она была!
Но сильнее тяжести тела меня угнетала мысль, что я, возможно, тащу уже мертвую бабку.
Совсем мертвую, с какой стороны ни глянь!
Несколько раз мне пришлось останавливаться и садиться на землю передохнуть: я безумно устала за этот день от беготни по лесу, от волнения и страха, от всех потрясений.
Меня мутило от усталости и голода, и, наверное, вытошнило бы снова, если бы было чем. Кажется, я повизгивала от отчаяния, но не плакала, распрекрасно сознавая, что слезы моему горю не помогут.
И вот я затащила старуху сперва в калитку, потом проволокла вокруг избы, а там и в избу.
Как хорошо, что у нее такой маленький дворик!
Уже в темноте я втянула ее за порог и поспешно закрыла за нами дверь. Теперь, когда я была внутри, оставленная снаружи тьма казалась еще более жуткой, чем пока окружала меня.
А из самых дальних глубин нашего прошлого мы вынесли убеждение, что даже самый жуткий дом – все же прибежище от жути дремучего леса…
Здесь было не совсем темно: на столе мерцали два огонька.
Оставив бабку у порога, я пошла туда, вспоминая, где в прошлый раз видела лучину.
Должна же у нее быть лучина, не сидит же она вечно в темноте!
Хотя… может, и сидит.
Я подошла к столу и только тут разглядела, что такое там мерцает.
И чуть не обмочила подол! На столе стоял человеческий череп, а в глазницах его тлели два огонька.
Но я уже не могла ни кричать, ни бежать: лишь вцепилась в стол и навалилась на него всем весом, чтобы удержаться на ногах. И вот так рассмотрела, что под черепом стоит глиняный светильник с маслом и горит фитилек: его свет я и вижу сквозь выпиленные глазные отверстия черепа.
Не думаю, что Бура-баба использовала это чудо для освещения. Скорее это тоже была часть ее ворожбы, при помощи которой она намеревалась наказать нарушителей границы. И тогда я еще не могла быть уверена, что ей это не удалось.
Да и сейчас…
Тут я сообразила одно: чем быстрее это погаснет, тем лучше.
Я взяла из светца лучину, осторожно просунула ее в глазницу и подожгла от фитилька. Когда лучина разгорелась, я погасила фитилек. Череп «зажмурился», и я накрыла его широким горшком – первым, какой попался под руку.
Так мне стало поспокойнее.
Вставив лучину в светец, я огляделась.
Бура-баба все так же лежала у самого порога. Я еще раз огляделась, нашла воду в ведре, зачерпнула ковшиком и стала жадно пить.
Мне уже было все равно, мертвая это вода, живая или йотунова – если я сейчас не напьюсь, то уж точно на лубок присяду[5]!
От воды мне стало полегче.
Собравшись с духом, я подтащила старуху к лавке, где на краю лежала свернутая подстилка: надо думать, здесь она спала ночами.
Но нет, поднять ее у меня не было сил. Тогда я стащила с лавки подстилку, бросила на пол и перекатила на нее старуху. Под голову сунула подушку и накрыла овчинным одеялом.
Принесла воды и попыталась влить немного ей в приоткрытый рот, но она не могла глотать. Тогда я повернула ей голову, чтобы вытекло обратно, а то еще утоплю бабушку в ковше воды. Я лишь умыла ее и поставила воду рядом: вдруг очнется?
Есть ли смысл искать травы, греть воду, делать отвар, если она все равно не может пить? Да и много ли будет толку от зелий без «сильного слова», которым они приправляются, а заговаривать бабку я не могу – нельзя заговаривать людей старее себя.
Да и кто мог бы заговаривать самую старую бабку на свете!
Зато я сама могла и пить, и есть. И очень хотела.
Приподняв рушник, я обнаружила полкаравая хлеба; отрезала кусок и жадно вцепилась в него зубами. Потом вспомнила про горшочек с киселем. Когда мы ворвались в ворота, нам, само собой, было не до вкушения пищи мертвых положенным порядком, зато теперь я жадно выхлебала все до дна, заедая сухим хлебом. Если этот кисель приобщает к чурам, я приобщена теперь надолго.
Но мне было все равно: внутреннее чувство властно требовало подкрепить свои силы, чтобы не очутиться среди мертвецов просто от голода и жажды.
С горшочком в руках я села на лавку.
Бура-баба лежала на полу у моих ног.
Я находилась на самом дне Нави: одна посреди черноты мертвого мира.
Я не хотела думать о Князе-Медведе, который лежал на земле с разрубленной головой не так уж далеко отсюда.
А что, если в темноте он встанет и придет сюда?
Эта мысль подняла меня на ноги: я подбежала к двери. К счастью, на ней имелся засов; я заперлась и на миг ощутила облегчение. А еще – ужас от мысли, что столько времени сидела за открытой дверью!
Шло время, стояла тишина.
Из оконца доносились крики ночных птиц.
Совершенно растерянная, без единой ясной мысли, я понятия не имела, как быть и что делать, и знала одно: я безумно хочу спать. Каждая мышца и каждая косточка взывали о покое.
Мысленно я пробежалась по углам избы, которую так хорошо изучила сколько-то дней назад, когда прибиралась здесь. Нет, ни топора, ни серпа, ни еще чего железного.
Только ступа и пест.
Нет, не те, что служат для истолчения обгорелых костей с крады. Не настолько я еще лишилась рассудка, чтобы взять в руки орудия Мары!
Другая ступа, обычная, в другом углу.
Я взяла толкач и полезла на полати. Там валялось какое-то тряпье, которое я не могла разглядеть в темноте, да и не хотела. Пусть тряпье – зато все-таки не голые доски. Я сняла платок с головы и покрыла им кучу, получилось что-то вроде подушки; сняла вздевалку и накрылась ею.
Разуваться не стала: как знать, от чего приведется проснуться?
Снова мелькнул перед глазами мертвый Князь-Медведь, темная кровь на зеленом мху… Эльга… казалось, она уже за морями и мы не виделись года три… как мне теперь ее догнать?
Я лежу здесь, отгороженная от воли и жизни высоким тыном с черепами на кольях, я заперта во тьме и не знаю, как мне хотя бы сдвинуться с места, а она едет, плывет, летит, с каждым мгновением удаляясь от меня все дальше, дальше, дальше…
В голове звенело, будто кто-то колотил пестом по железному котлу; издалека доносились крики.
Сквозь необоримый сон я поняла, что это: вызванные бабкой куды ломились ко мне в голову, потому что ее собственная сейчас была «закрытой дверью». И тогда я стала повторять про себя колыбельные песни, с которыми когда-то укачивала Кетьку:
Пошел котик во лесок, Принес котик поясок. А ребята отняли, Нашей Уте отдали. Пошел котик во лужок, Принес котик пирожок. А ребята отняли, Нашей Уте отдали. Пошел котик за гору, Принес котик сон-дрему. А ребята отняли…Когда я проснулась, в щель заволоки уже пробивался дневной свет.
Не сразу я сообразила, где нахожусь. Помнила я лишь какой-то ужасный и глупый сон. Как девушка разумная, я понимала, что этого всего никак не может быть. Но, сколько я ни шарила по закоулкам памяти, никакого другого вчерашнего дня, правдоподобного, найти не могла.
Но я совершенно точно находилась не дома.
Это изба Буры-бабы.
Эльги рядом нет, и где она, я не знаю.
Я свесилась с полатей: старуха лежала на полу, где я вчера ее оставила.
Живая?
Я соскользнула вниз и наклонилась к ней:
– Бабушка! Баба Гоня! Ты жива?
Ее лиловые веки задрожали и приподнялись. Она взглянула на меня мутным рассеянным взглядом, слабо пошевелила запавшим ртом. Я схватила ковшик, дала ей попить. Попыталась предложить хлеба, но она слабо покачала головой, сморщилась, как от боли, и снова закрыла глаза.
Ну, хоть жива!
Я подошла к двери, сняла засов и осторожно выглянула.
О, каким блаженством повеяло мне в лицо от свежего воздуха летнего утра в лесу! Утренний свет, влажность росы, крепкий мед цветущих трав и свежей листвы наполнил меня всю, промыл изнутри, прогнал остатки потрясения и страха.
Оглядевшись через дверную щель, я распахнула дверь во всю ширь и вышла за порог. Утро здесь было, как и везде – росистое, бледно-голубое, зеленое. Попискивали и сыпали звонким щебетом птицы – точно так же, как в ближней роще возле Варягина. У меня не было ни малейшего ощущения, будто я в Нави.
Я вернулась к бабе Гоне.
Сняв с нее личину, я больше не могла видеть в ней Буру-бабу.
Мне было так жаль ее…
Беспомощный старик вызывает куда больше жалости, чем младенец: ведь у того все впереди, а старику уже нечего надеяться на возвращение сил. Когда-то баба Гоня кормила киселем с ложки меня и Эльгу; теперь настал мой черед.
Если я начну рассказывать, как провела следующие дни, то никогда не доберусь до главного. Я верила, что найду дорогу домой, но не решалась уйти, бросив в одиночестве беспомощную старуху. Поэтому я варила кисель, жидкую кашу, кормила ее и ела сама.
Я понимала, что эти припасы в ее закромах – приношения чурам, но что было делать?
Уразумев, что у нее сильно болит голова от удара, я заваривала ей пустырник, сущеницу, мяту и ягоды шиповника, а еще траву ревелку. Сама же баба Гоня когда-то учила нас с Эльгой всему этому. Порой она пыталась что-то мне сказать, но я делала вид, будто не разбираю.
Что я могла ей ответить?
Скотины или птицы у нее не было, поэтому хозяйство много времени не отнимало. Хорошо, что ночи в эту пору короткие и светлые, и я старалась лечь спать еще до темноты.
Иной раз мне приходило на ум, что тело Князь-Медведя все так же лежит перед его логовом – совсем недалеко отсюда.
Заглядывать в будущее было очень страшно. Как я выберусь из этой избы? Что скажу людям?
Да и есть ли это все – будущее, люди, белый свет?
Иной раз накатывало ощущение, что это есть мое наказание, оно уже меня настигло: я провалилась в Навь.
Бесконечную вечность я буду жить среди леса, населенного кудами. Никогда не увижу родных, никого живого…
И все-таки я постоянно думала об Эльге и страшно за нее тревожилась.
Где она сейчас? Смог ли Мистина ее увезти или их поймали?
Прошел день, другой, третий.
Мне мерещилось, что бесконечно повторяется один и тот же день, но порой пробирала жуть при мысли, что их могло набежать уже десятка два-три. Однако я заставляла себя вспомнить и вчерашнее утро, и позавчерашнее, и не сбиваться со счета.
Как ни странно, опомниться мне помогал сам лес.
Стоило выйти за тын и просто посмотреть в зелень ветвей, как жуть отпускала.
Лес был такой же, как всегда – живой, полный птиц, белок, зайцев, лягушек, комаров… И я уже не боялась его, наоборот: хотелось просто пойти вперед, не закрыв за собой дверь и не оглянувшись, побыстрее миновать чащу и выйти в белый свет, где время вновь обретает ход, где разговаривают люди, колесо всемирья идет по широчайшему кругу, мимо звезд… Сейчас же я сидела на самой его оси и бесконечно вращалась лишь вокруг самой себя.
При мысли о большом мире мороки отступали, тревожная муть в голове рассеивалась и возвращались обычные ощущения жизни.
И вот уже мне вновь казалось, что я просто живу в обычной избе со своей старой бабкой – мало ли таких избушек с подобными жильцами?
Тогда я вновь обретала способность рассуждать здраво.
Если бы Мистину с Эльгой настигли, то все случившееся здесь уже вскрылось бы и сюда явились бы люди.
Но никто не приходил.
Я попривыкла и перестала шарахаться от каждой тени в углах бабкиной избы или вздрагивать от каждого крика совы в лесу. Баба Гоня уже садилась, и я сумела помочь ей взгромоздиться на лежанку. По-прежнему я кормила ее киселем, но запасы наши поистощились: в большом туесе, где она держала овсяную муку, проглядывало дно, печеный хлеб кончился. Когда припасы выйдут совсем, мне все же придется оставить ее и пойти к людям.
Но еще через день из-за тына послышался человеческий голос.
Я со всех ног кинулась к воротам и распахнула створку, ни о чем не спрашивая.
Снаружи стоял Бельша – иначе Белояр Воиславич, старший княжий сын, двоюродный брат Эльги, круглолицый и румяный парень. За плечами у него был короб, в руке корзина.
Я при виде его всплеснула руками от радости, зато он…
Его лицо дико исказилось, и он так проворно отпрыгнул от меня, что я тоже испугалась и отшатнулась.
– А-а-а… Чур, чур! – заорал он, махая перед собой руками, потом стал делать оберегающие знаки.
Вот дурной!
Я понимаю, что при виде Буры-бабы в ее птичьей личине человеку делается не по себе, но меня-то чего пугаться?
Вдруг меня охватил ужас: что, если я сама за время пребывания в этой избе превратилась в какое-нибудь чудо-юдо? Может, у меня медвежья голова или еловая кора вместо кожи и мох вместо волос?
Я поспешно ощупала себя, но не нашла никаких перемен. Да и умываясь, я видела в лохани отражение своего привычного лица.
– Бельша! – крикнула я. – Что ты скачешь, будто коза колядошная? Не узнал? Это я, Ута!
Бельша осторожно сделал пару шагов ко мне. Видно было, что он пытается взять себя в руки, но с трудом осмысливает увиденное.
– Ута? – хрипло произнес он. – Точно?
– Ну да! Не узнал? Не так давно виделись!
– Я думал… бабка помолодела… переродилась… А ты как сюда попала?
– А вы ничего не знаете?
– Меня отец послал. Мы всегда-то припасы у ручья оставляем, на этом берегу под ивой, а в этот раз он велел до избы дойти, поклониться Буре-бабе и спросить, как, мол, дела у Князь-Медведя с молодкой… Здоровы ли… Про тебя он ничего не говорил.
На миг я обрадовалась.
Если князь прислал спросить, как «здоровье» молодой жены медведя, значит, в Плескове ничего не проведали. А стало быть, Эльге удалось ускользнуть!
Но показывать свою радость было никак нельзя.
Я сморщилась и завопила.
– Ой, сестра моя любезная… – начала я, отчаянно кривясь, чтобы он не заметил, что я лишь кричу, но не плачу. – Налетели злые вороги… уволокли сестру мою любимую, голубушку белую…
– Кто – уволокли? – еще раз удивился Бельша.
По лицу его было видно, что в похищении девицы он подозревает нечистиков.
– Не зна-а-аю!
Заходить в избу Бельша отказался.
Оставив поклажу, он со всех ног умчался назад, обещая немедленно все передать князю и послать весть нашим в Варягино.
Этот день я еще провела с бабкой, продолжая ее кормить и поить зельями, а назавтра в нашей глуши стало очень оживленно.
Нас посетил сам князь, а с ним Людожировна – старуха, что помогала на погребениях. Старуха пошла к бабе Гоне, а князь – к логову Князь-Медведя.
Мне задавали вопросы, но я отказывалась отвечать и только рыдала: уже непритворно, чему помогали тревога и вид потрясенных старейшин.
Князь вернулся из-за рвов совершенно белый.
У него стучали зубы. Мне он только махнул рукой, не в силах ничего сказать, и я пустилась бежать к ручью. За ручьем обнаружилось еще человек десять, не смевших перейти на эту сторону, среди них был и Аська.
По волости прошел слух, что в чаще случилось нечто ужасное, но никто не знал что.
К вечеру мы уже были дома.
Увидев отца, я бросилась к нему и снова расплакалась.
Нас окружили домочадцы, моя мать и Эльгина наперебой осыпали меня расспросами, но я не отвечала.
Лишь отцу сказала несколько слов, и он все понял. Как я потом догадалась, примерно такого развития событий он и ожидал.
Довольно долго вся округа была взбудоражена не менее, чем при набеге чуди. Людожировна, как следующая после Гони по возрасту и знатности, осталась пока жить в избушке Буры-бабы и ухаживать за больной.
Как похоронили Князя-Медведя, я не знаю.
Отец съездил в Плесков, но мне, поскольку я уже находилась дома, бояться было больше нечего: всякий, имевший ко мне вопросы, должен был задавать их моему отцу. А он мог с чистой душой поклясться, что ничего не знал о замысле похищения его племянницы. Да и я ведь могла не знать, а просто увязалась за Эльгой по привычке быть всегда с ней, из-за чего и попала на грань Нави в этот ужасный день.
Одно было ясно: со времени увода девушки прошло гораздо больше одной ночи, а значит, теперь Эльга, дочь Вальгарда, – законная добыча похитителя.
– Я понял, почему за девушками ездят летом! – объявил Альв.
Он только что вернулся от озера, куда ходил умываться. Вода еще текла по его румяному лицу, и он вытирался рукавом рубахи.
– Почему? – обернулся к нему Ламби, другой хирдман Мистины: невысокий, но шустрый и толковый.
– Потому что мы уже много дней не заходили в человеческий дом! Мне-то что, я и зимой так могу. А девушка не может. Она такую дикую жизнь выдержит только летом. Поэтому если умный человек хочет довезти невесту до своего дома живой и не очень разозленной, то надо ехать за ней летом!
Из-за развесистых ив появилась Эльга с мокрыми волосами. Она тоже ходила купаться, выбрав укромное место подальше от парней.
Альв сказал правду: уже много дней они пробирались к Ильменю, стараясь не попадаться никому на глаза. На реке, где не было другой дороги, при виде селения она ложилась на дно лодки и ее прикрывали сверху пустыми мешками.
Но трудно скрыть от людских глаз такую красивую девушку, которая направляется куда-то одна среди русской дружины.
Да всякий, кто их увидит, сразу смекнет: девушка похищена.
Вмешиваться, конечно, никто не станет, если девушку никто не признает за родню, но всякий запомнит подробности, чтобы потом навести на след возможную погоню.
Всю дорогу Эльга была хмурой и мрачной, и не только из-за необходимости ночевать в шатре, на валяных подстилках и овчинах, мыться в реке, сидеть на бревнах. Когда схлынул угар, у нее появилось время обдумать: что же она натворила?
Она сбежала из дома, отдала себя во власть Ингваровых людей. Если бы все прошло путем, как положено для знатной невесты, с нею были бы братья, старшие женщины, которые передали бы ее в род мужа с рук на руки.
А так… везут, будто полонянку.
Да, она приносит в приданое великую ценность – избавление рода жениха от прежнего бесчестья. Но если плесковские родичи не признают брак, то это «приданое» и останется единственным ее достоянием. А после свадьбы без приданого, даров и уговора даже самая знатная женщина все равно считается не женой, а «рабыней конунга».
А еще…
Если не ее руками, то из-за нее было разрушено лесное святилище плесковских кривичей, родовой исток.
Охваченная ужасом перед женихом-медведем, она не помнила себя и была готова на все, лишь бы избежать этой участи. О цене, о последствиях для себя и других она тогда почти не могла думать.
А теперь могла и осознавала: на ней лежит страшная, неискупимая вина перед богами, чурами, перед родом и племенем. Если не те, так другие когда-нибудь найдут способ наказать ее…
Возможное наказание она не могла даже вообразить – преступление было так ужасно, что его было не с чем сравнить.
Одна надежда – уехать подальше и верить, что в земле русов плесковские куды и чуды не достанут.
Если бы с ней хотя бы была Ута!
Эльге отчаянно не хватало сестры, с которой она с рождения была неразлучна. Все время тянуло оглянуться, поискать ту глазами, окликнуть… Ей стало бы спокойнее, если бы они могли поговорить.
Если бы они просто были вместе!
Первые дни Эльга дулась на Мистину и бранилась: как он мог бросить Уту в лесу! Что с ней будет? Она почти ни в чем не виновата, но именно ее найдут в разоренном святилище среди мертвых тел. Ей первой придется за все отвечать!
Эльга изводилась от беспокойства за сестру, брошенную в такой страшный час в таком страшном месте. Обнаружив, что Уты нет рядом, она отказалась идти дальше, и Мистина тащил ее на плече, брыкающуюся и вопящую, через лес и потом – в лодку.
Похищение вышло самое настоящее!
И все же…
Оглядываясь назад, Эльга не жалела о том, что позвала Мистину на помощь. Ей было совсем не место в медвежьем логове, и она не раскаивалась в своем выборе. Ведь светлая женщина на камне указала ей именно этот путь.
И, наверное, не оставит без покровительства.
Вспоминая свое дивное видение, Эльга ощущала тепло и покой. Пусть она потеряла сестру, – временно, как хотелось верить, – кто-то все же незримо был с нею.
Мистина подмигнул ей, и ее недовольное лицо прояснилось. Вот кто не мучился ни совестью, ни страхом после содеянного: добившись успеха в одном, он смотрел только вперед, выискивая возможности для новых подвигов. Он словно передавал Эльге свою уверенность, веселость и готовность наплевать на все, что мешает – как обстоятельства, так и чувства.
Дело удалось, девушка добыта – чего еще надо для счастья?
Только пива!
И уж конечно, находиться с ним рядом было гораздо приятнее, чем с жутким вонючим медведем.
Мистина был молод, красив, дерзок, удачлив – ожившая девичья мечта.
Эльга чувствовала, что нравится ему – а он этого и не скрывал. При виде нее в глазах его явственно отражалось удовольствие, которое он мысленно простирал до таких пределов, в которые Эльга за ним следовать не собиралась!
Она старалась не подать вида, но при нем ее охватывало приятное, хотя и несколько тревожное возбуждение. И удачно отвлекало от гнетущих мыслей.
Лодки у Мистины оказались не свои, а нанятые на волоке между Черехой и Узой. Селения волока Эльга обошла лесом, в сопровождении Альва и Доброша, пока Мистина с остальной дружиной ехал как положено, платил мыто и брал другие лодки – чтобы попасть в Шелонь и на Ильмень-озеро. Будгощ миновали ночью – здесь Эльге никак нельзя было показываться. Здесь жила ее родня, в том числе – Вояна, тут ее узнали бы с одного взгляда.
До сих пор им удавалось избегать селений и ночевать под открытым небом.
Эльга опасалась одичать от такой жизни и порасти мхом, как та лесная девка в сказании. Вечные комары, днем – солнце, ночью – прохлада. Она мылась в реке и там же стирала сорочку, которая потом сохла, вывешенная на заднем штевне лодьи, будто белое знамя валькирии. Волосы ее пропахли рекой и осокой.
Вспоминая первую их встречу, Мистина дразнил Эльгу русалкой, за что она однажды отколотила его, на потеху дружине, своей мокрой сорочкой. Хорошо, что мать, провожая дочку в жены медведю, собрала ей короб с нужными вещами. Но горько и обидно было думать, что вот эта сорочка, рушник и гребешок – все, что ей досталось из приданого, которое готовилось много лет и занимает семь больших укладок!
Эльга надеялась, что со временем удастся так или иначе получить свое приданое из дома, но пока ей предстояло приехать к жениху, в чем была – в «горевой сряде», уже не очень-то белой…
Правда, судя по тому как на нее смотрел Мистина, да и прочие парни, не приданое составляло ее ценность как невесты.
Уж в себе-то Эльга не сомневалась.
Она принесет мужу родство с Оддом Хельги и плесковскими князьями, а текущую в жилах кровь ей не потерять, пока она жива!
Перед ними расстилалось Ильмень-озеро.
Уже миновали устье Псижи – владения Люботешичей. За Чернецом начинались земли зоричей, а значит – князя Дивислава.
– Здесь мы так просто не пройдем, – сказал Мистина, когда Доброш снял с огня котел каши и все сели вокруг, приготовив ложки. – Дивислав – толковый человек. Я ведь был у него зимой, когда ехал в Волховец, и сам все видел. У него везде на островах и в протоках сидят люди. А иначе, знаешь ли, много нашлось бы желающих провезти свой товар, не платя мыта. Тут и лягушка не проползет незамеченной, повсюду болота – не обойдешь. Да и заблудишься без проводника. А проводники – все княжьи люди и ведут прямиком к мытнику. Я даже думаю, ты зря не захотела за него идти – с таким мужем была бы богатой.
– Вот как! – запальчиво бросила Эльга. – Я еще могу передумать!
– Ладно, перестань! – Мистина поймал ее руку, но она выдернула ее. – Надо придумать, как тебя провести мимо его людей. Может, переодеть отроком?
– Если только тебя – девицей, – язвительно ответила она. – Я не полезу в мужские портки. Если ты забыл: я еду, чтобы выйти замуж!
– А он вообще знает тебя в лицо? Вы виделись?
– Мы виделись, но четыре года назад.
– Ты, должно быть, сильно с тех пор изменилась.
Эльга пожала плечами: перемену в себе трудно оценить. Во всяком случае, она заметно выросла. Быстро тянуться вверх она начала в двенадцать. Четыре года назад она была красивым ребенком, а за это время стала красивой, довольно рослой женщиной.
– Скажи, что это твоя невеста! – смеясь, предложил Доброш.
Он происходил из уличей и родился где-то на Днестре; его отец давно враждовал с князем Драгобоем, поэтому присоединился к русам и сейчас, после победы киевской дружины, заметно усилил свое влияние. Однако осторожный Свенгельд предпочел забрать у него сына и отдать в дружину своему сыну: обмен заложниками укрепляет дружбу. Доброш по-словенски говорил так странно, на слух Эльги, что она не сразу его понимала.
– Ведь невесту не возят с открытым лицом так далеко, – продолжал Доброш. – Мы закроем ее, и пусть Дивислав даже не надеется поглядеть в лицо чужой невесте! А будет любопытничать – имеешь право дать ему в зубы.
Все засмеялись, а Мистина пристально посмотрел на Эльгу:
– Мысль не такая уж и плохая… Молодец, Добри! Но не совсем так. Если мы повезем девушку с закрытым лицом, это будет выглядеть подозрительно. Если она к тому же будет одна, без родни, все поймут, что мы ее похитили. А Дивислав такой настырный – начнет допытываться, что да как, не на его ли землях взяли да ждать ли погони и драки на его земле… Но если… Вспоминай, – обратился он к Эльге, – кто еще из людей Дивислава мог тебя видеть?
– Ты думаешь, я помню, кто был с ним на Воянкиной свадьбе? Я там никого не различала.
– Но с ним приезжали только мужчины?
– Да. Его жена тогда уже умерла, а раз не было жены, не было и женщин.
– Тогда у нас все хорошо. Я скажу, что ты моя жена. Наденем на тебя женское покрывало, а оно очень меняет лицо. Пониже на лоб надвинешь… По себе знаю: мне случалось встречать знакомых девок после замужества, и в женском уборе я их сразу и не узнавал. Дивислав не узнает маленькую девочку в замужней женщине. А если узнает, то он просто ясновидящий! Но ты все же постарайся поменьше попадаться ему на глаза. Я, честно говоря, надеюсь, что успею отвести тебя в гостевой дом, прежде чем он обо мне услышит. Он же не ходит на пристань встречать всех подряд! Меня-то он позовет к себе, зимой мы с ним пили… А ты скажешь, что нездорова, и сиди с женщинами.
Эльга задумалась.
Надеть женское покрывало, не будучи замужем – плохо, но одеваться отроком – совсем невозможно, тогда ее замуж никто не возьмет.
А ехать в Зорин-городок как есть – означало бы скорее всего остаться там навсегда. Такая красивая девушка в одиночестве среди русов неизбежно привлечет самое пристальное внимание!
Чья-то жена – другое дело. Возит она с собой челядинок или нет – никого, кроме мужа, не касается.
– Но как ты собираешься меня называть? – помолчав, спросила она. – Едучи на север, ты был еще не женат! Тебя же спросят, где ты сосватал невесту.
– Где? – Мистина призадумался, глядя на склоненные к воде озера ветви ив, потом засмеялся. – Да в Волховце! Я же туда ехал зимой, и Дивислав об этом знает, я сам ему говорил. И даже, представь, намекал, что подумываю жениться на младшей дочери Ульва! Ингвар обещал высватать мне свою сестру, если я раздобуду ему тебя, но об этом условии Дивиславу знать не обязательно. Так что тебя будут звать Альдис, дочь Ульва. Не забудь. Даже можешь прикинуться, будто не понимаешь по-словенски. Так надежнее. Вы, женщины, не можете без болтовни, так что лучше тебе делать вид, будто ты вовсе не можешь ни с кем здесь говорить.
– Альдис? Дочь Ульва? – Эльга расхохоталась и даже бросила ложку. – Ты в своем уме? Вот в этой сорочке, в этой поневе, я явлюсь к Дивиславу и скажу, что я дочь конунга из Волховца?
В самом деле: из дома ее снарядили в сорочке со сборчатым воротом, как шили у кривичей, в «печальной» синей поневе и беленой вздевалке. У нее имелось варяжское платье из крашеной тонкой шерсти, но оно лежало в тех же далеких ныне укладках, что и все прочее приданое.
– Хм… – Мистина немного подумал.
Эльга прямо видела, как по его не слишком высокому лбу пробегают предположения: купить… украсть…
– Тьфу! – Он хлопнул себя по бедру. – Да что я! Будет тебе платье!
Он встал и ушел в шатер, где хранился его мешок.
А вернулся, держа в руках длинную рубаху из желтого шелка, затканного синими крестами в ромбах. Ворот, рукава и подол были обшиты блестящим коричневым шелком.
– Вот! – С победным видом он встряхнул рубахой перед Эльгой. – Настоящая, чтоб ты знала, далматика – греки шили!
– Да ты сам в ней был! – Эльга видела Мистину в этой рубахе у себя дома, на поминальном пиру по Вальгарду.
– Ну и что? Одолжу тебе, я не жадный! Можешь мне поверить, Альдис носит такие же.
– Но она мужская! Я утону в ней, и мне она коротка.
– А ну встань.
Эльга встала, и Мистина приложил к ней далматику. Подол достигал щиколоток, хотя стан, и правда, был шире ее плеч раза в два.
– Если бы она была короткой, я бы ее не носил. А что плечи, так у греков все рубахи такие. Сразу видно, что ты выросла на чудском хуторе и не видела настоящих греческих одежд!
– Сам ты с чудского хутора!
– Слушай, никто там не разбирает – мужская, женская! – Мистине поднадоел этот разговор. – Тебе отец разве не рассказывал, как добычу собирают и делят? Ты бы видела, сколько этого всего привез твой дядя Одд из того миклагардского похода! Всем плевать, мужские они или женские, был бы шелк хороший и без кровавых пятен на видных местах. Эта еще целая, а у меня ребята на пир как оденутся – у одного дыра против сердца, у другого – заплатка под лопаткой, у третьего – на вороте шов… Так что тебе повезло. Греки все носят широкое, и если бы ее шили на тебя, она была почти такая же. Думаешь, увидев этот шелк, кто-то там станет прикидывать, твоя далматика или не твоя? Да они просто обмочатся от зависти, вот и все!
– Ну…
– А не нравится – поезжай в поневе.
Мистина стал сворачивать далматику.
Эльга нехотя забрала ее у него. Выбора не было.
– Одного платья мало. Еще нужно чем-то голову покрыть… раз уж я вроде как молодуха буду.
Мистина вздохнул и велел дружине вывернуть мешки и короба.
Эльга придирчиво изучила выложенные перед ней рушники и рубахи. Чистых там оставалось не так уж много…
Но все же выбрала сорочку из запасов Доброша, из самого тонкого и самого белого льна, и села шить из нее головное покрывало. К счастью, рубаха была словенская: если ее распороть, то получишь пять прямоугольных кусков полотна одинаковой ширины. Стан рубахи по длине сошел бы за убрус, кабы не вырез для головы посередине…
– Я дам тебе новую, когда прибудет мое приданое! – пообещала она парню, но тот лишь хмыкнул в ответ. – У меня там столько сорочек на подарки…
У приличных женщин убрусы не бывают со швами, с грустью думала Эльга, но совсем без убруса никак нельзя. Если потом выбрать на берегу плоский камень, отмыть, нагреть у костра и прогладить швы – может, будет почти незаметно.
Мистина тем временем послал пару парней вперед – разведать, как там дела у князя зоричей и не ищут ли их. Маловероятно, что тот уже знает о пропаже своей невесты, за которой собирался ехать только осенью, но поразузнать, что да как, не помешает.
– Я бы на месте плесковского князя вообще молчал, пока осень не настанет, – сказал Мистина, пока Эльга шила. – Раз уж девушку увезли, то ему же лучше, если ее доставят до места, а не будут перекидывать из рук в руки, пока от чести не останутся одни клочья. Если он потом пришлет приданое и примет выкуп от Ингвара, ничья честь не пострадает. А Дивислав пусть разбирается с Ингваром сам. Ингвар конунг, поверь, будет ничуть не против. Он не бегает от людей, которым есть что ему сказать.
– Ему не миновать встречи с Дивиславом, – кивнула Эльга. – Ведь ему нужно будет ехать, чтобы отомстить викингам за моего отца и освободить проход по Нарове.
– Вот тогда мы с ним и разделаемся! – Мистина даже обрадовался такому удобному случаю. – Как же мне не хочется драться с ним сейчас: здесь он дома, и у меня маловато людей, да девка на руках… Но если надо, значит, надо! – бодро закончил он.
К вечеру двое посланных вернулись. Вид у них был довольный.
– Мистина, боги и удача на твоей стороне! – объявил Арне. – На Взваде стоит Ранди Ворон, ждет проводника. Он как раз едет в Киев. Когда мы ему сказали, что ты здесь, он согласился подождать. Так что мы можем войти в город вместе с ним!
Заслышав, что приехали варяги из Волховца, князь Дивислав сам вышел на пристань: к этим людям он уже не первый год относился с настороженностью.
Кроме хорошо ему знакомого Ранди Ворона, он увидел и здоровенного парня из киевской дружины Ульвова сына. Выглядел тот особенно веселым и гордым.
– Есть повод выпить пива, княже, если будет на то твое соизволение! – с присущей только ему дерзкой почтительностью воскликнул он, поздоровавшись. – Я приехал вновь не таким, как уезжал – теперь я женатый человек! Вон та дева – моя жена, Альдис дочь Ульва!
Он обернулся и махнул рукой в сторону лодьи, где на мягких мешках со шкурками сидела молодая женщина в желтом греческом платье. Свободным концом белого убруса, намотанного по обычаю северных жен, она прикрывала лицо от солнца и отвернулась, когда Дивислав на нее взглянул.
– Боюсь, она не очень хочет тебя видеть, – со смехом пояснил Мистина. – У тебя с ее отцом были ведь кое-какие разногласия, и ее это смущает.
– Не хотел бы смущать молодую женщину, ничуть не причастную к нашим разногласиям, – понимающе усмехнулся Дивислав. – Ее проводят к моей свояченице, и там она отдохнет. Так рассказывайте, что привезли?
С приближением Купалы обнаружилась удивительная вещь: я оказалась старшей невестой в Варягине!
Я к этому не готовилась: сперва старшей была Вояна, потом Эльга.
А оставаться здесь после нее я не собиралась: мы ведь должны были уехать вместе, и к мысли об этом я привыкала с детства.
И вот мне пришлось на Ярилины дни возглавлять девичье коло! Хорошо хоть, что мы с Эльгой учились этому вместе и я, кажется, не вовсе опозорилась.
Но и купальское веселье не избавляло от тревог.
Я тосковала по Эльге и тревожилась за нее, Домаша все плакала, отец тоже ходил хмурый, не понимая, чего ждать дальше.
Вся волость была в смятении: как теперь справлять Купалу, когда у нас погиб сам исток рода и племени!
Князь вне срока приносил жертвы в плесковском святилище, но некому теперь было научить его, довольно ли этого для усмирения гнева богов и чуров. Пора было петь купальские песни, но мы боялись. Даже поднимая глаза к нему, люди, казалось, проверяли, не рушится ли оно им на головы.
Перед самой Купалой пришла очередная нерадостная весть: в лесу умерла баба Гоня.
Несмотря на заботу Людожировны, она так и не оправилась: с каждым днем теряла силы, перестала есть и в конце концов ушла «к дедам» уже совсем.
– К тебе слово мое, сестра! – сказал Воислав Домаше. – Поговорили мы с родом и старейшиной плесковской. Нельзя же, чтоб святое место пустым стояло. Надо кому-то там жить, Навь сторожить. А из нашего рода подходящей бабы я не вижу – кроме тебя.
Он был прав: Домаша приходилась дочерью покойному Судогостю и к тому же овдовела, то есть наполовину вошла в Навь. А поскольку ей случилось овдоветь дважды, то Навь прямо-таки громким голосом призывала ее на службу. Да и кому, как не ей, было исправить то, что разломала ее дочь?
– Но ты не печалься – не одна там будешь, – продолжал Воислав. – Надо ведь нам теперь нового Князь-Медведя растить, взамен старого. Пошлем людей за внучком твоим, первенцем Воянкиным.
– Да он же еще порточков не носит! – ахнула Домаша. – Дитя совсем.
– Три года ему – подстригать пора! До первого возраста дорос. А что рано боги призвали – знать, судьба…
На Купалу Домаше предстояло от нас уйти. Ее дожидалась птичья личина…
А ведь она была не так уж стара и даже могла бы еще рожать, если бы не обзавелась внуками.
Ох, как ревели Володея с Беряшей и оба их брата! Их мать все равно что умирала, и они знали об этом, но поделать было ничего нельзя!
Зато мой отец не смог скрыть облегчения.
– Это далеко не самое худшее, чего я ожидал! – сказал он и потрепал меня по голове. – Я видел, как все эти бабы косились в твою сторону! Я уже думал, что они тебя пошлют в лес!
– Меня? – Я чуть не подпрыгнула от изумления. – Но какая из меня Бура-баба?
– Молодая и красивая! Ты ей не прямая родня, но я слышал, что толковали бабы у твоего деда в Люботине: дескать, ты ходила за старухой, когда она умирала, и она передала тебе всех своих духов-прислужников.
– Она ничего… не передавала мне, – возразила я, но не слишком уверенно.
Были причины усомниться.
Нарочно я, конечно, никаких чудов и кудов не принимала, но мало ли что я могла совершить по незнанию в бабкиной избе! Особенно в тот первый вечер, когда ничего не соображала от страха. Я ела пищу мертвых, пила их воду, пользовалась бабкиной утварью. Может быть, я приняла помощников бабы Гони уже в тот миг, когда прикоснулась к птичьей личине, чтобы снять ее!
Заметных перемен я в себе не ощущала, но они ведь могут проявиться не сразу…
Или ощущала?
Одно я знала наверняка: прежний страх и почтение перед таинственным лесным жильем во мне исчез. Наверное, в тот жуткий вечер я сожгла все запасы страха, которые были мне отпущены.
Но это не значит, что я хотела поселиться там вместо бабы Гони.
Не успев выйти замуж, я годилась стать стражницей Нави почти в той же степени, что и вдова. А седина и морщины – дело наживное. По сравнению с истинной Бурой-бабой мы все девочки – что я, что Людожировна!
Предстояли и другие перемены.
Сражение с викингами на Нарове лишило нас не только стрыя Вальгарда, но и части дружины. Нужно было набирать новую. А для этого лучше всего, пользуясь летним временем, послать людей на Готланд, где всегда толкались желающие наняться к подходящему вождю. И даже вожди с уже готовой дружиной – в ожидании владыки, которому понадобятся их услуги.
Отец не раз беседовал об этом с Воиславом, и тот в конце концов дал согласие. Значит, не далее следующего года здесь у нас появятся новые люди. Возможно, даже знатный вождь со всем своим родом, как плесковский Сигбьерн ярл.
Но я не собиралась дожидаться их.
Я хотела уехать вслед за Эльгой.
Даже если забыть обо мне, ей ведь следовало получить свое приданое!
К счастью, отец тоже думал, что мне пора в дорогу. Пока я оставалась здесь, он волновался, что меня все-таки засунут в лесное святилище. А ему вовсе не хотелось приносить свою единственную дочь в жертву богам чужой земли. Пусть даже смерть моя будет ненастоящей.
Мысли мои устремлялись на юг.
Если Эльга ушла вперед, это не значит, что наши судьбы навек разделены. Теперь мне лишь следовало постараться, чтобы ее догнать.
Мою мать тоже приходилось пожалеть.
Она оставалась единственной хозяйкой в Варягине – без сестры, без старших дочерей. Беряша и Володея были хорошие девочки и уже могли делать все по дому: готовить, прибирать, кормить скотину. Но все же они еще не тянули на истинных хозяек: и силенок маловато, и еще многому им предстояло научиться.
В отчаянии мать вытолкала Аську на Купалу, требуя, чтобы он без жены не возвращался. В Купалу ведь для женитьбы довольно уговорить девку и три раза обойти с ней вокруг озера или дуба.
Аська и исполнил материнский наказ: привел девчонку, мою ровесницу, из гнезда Чернобудичей, с которыми наши обычно гуляли у реки.
На меня там даже не смотрел никто; то есть смотрели, конечно, но не более того. Я убедилась, как прав был отец в своих опасениях: во мне видели почти готовую Буру-бабу, осталось только личину вздеть.
Сватов в родных местах я могла ожидать с тем же успехом, что и снежная Мара, которую лепят на Зимолом.
В те дни отец часто ездил в Плесков, к князю. Воислав опасался, как бы Дивислав не обвинил его в нарушении договора. Но невесту было не вернуть. Теперь ради собственной чести наш князь жаждал, чтобы его племянница стала законной женой волховецкого княжича. А для этого ей требовалось получить приданое и брачные дары. Воислав был не прочь, раз уж так вышло, помириться с Ингваром сыном Ульва – ведь это мы его обидели, когда разорвали прежнее обручение, а не он нас. Но при этом князь хотел бы не поссориться и с Дивиславом. Однако если он пошлет похитителю вдогонку приданое своей племянницы, Дивислав не сможет не узнать об этом.
Вот незадача – и за советом теперь сходить не к кому!
Князь с сыновьями, отец, мой люботинский дед Доброзор с сыновьями – все долго толковали о деле. Дед предлагал снарядить обоз с приданым как бы торговый – не будет же Дивислав проверять все короба. Но оставалось непонятно, как провезти меня – не в коробе же!
– Скажем, что ее тоже выдаем замуж! – предлагал мой отец. – И это, кстати, правда. Я поручу нашему родичу Олегу в Киеве позаботиться о ней и подыскать ей подходящего мужа: она ведь ему тетка, а жить им поначалу все равно придется при нем. Ульв, кажется, не собирается пока помирать.
– И за кого же ты хочешь ее отдать? – спросил князь.
– За кого-нибудь из дружины Ингвара. Надеюсь, Олег сделает хороший выбор для своей родственницы. Чтобы ее муж следовал за Ингваром, а Ута, таким образом, будет следовать за своей сестрой.
И вот дней через десять после Купалы я отбыла из дома, сидя аж на десяти коробах с приданым. На самом деле моими из них были только три, но кому надо об этом знать?
Честно скажу, будущий муж – это «кто-нибудь из дружины Ингвара» – не занимал никакого места в моих мыслях. Я хотела одного: убедиться, что с Эльгой все благополучно, и снова быть с ней.
Горевала ли я, когда пришла пора покидать родной дом?
Мне казалось, я скоро вернусь. Не я одна, а мы с Эльгой.
Ведь нам пришлось ехать за своими женихами в Киев только потому, что Ульв конунг еще жив; но он уже старик, и наверняка пройдет не так много времени – и мы переселимся в Волховец. И тогда окажемся настолько близко от своей родни, насколько это разумно желать девушке хорошего рода.
Даже держа в руках топор, врученный мне матерью, и собираясь бросить его из лодьи на родной берег в знак обрыва прежних связей, я больше думала об Эльге. Бедняжка, она еще не знает наших последних новостей.
Мне предстоит рассказать, что нет у нее больше ни отца, ни матери.
И даже если ей приведется когда-нибудь вернуться сюда, она сможет повидать свою мать лишь в той избушке, куда ей едва ли захочется идти.
Она сможет лишь попытаться разобрать родной голос в хриплых звуках из-под берестяной клювастой личины…
До мужа она еще не доехала, но прибудет к нему невестой-сиротой, вынужденной просить родительского благословения с того света.
Я плакала, думая об этом, и роняла слезы на топор. Но кого удивят слезы отъезжающей невесты?
Мой отец думал то же самое.
– Когда вы вернетесь, я непременно буду ждать вас в Будгоще, – говорил он, обнимая меня на прощание. – Надеюсь, у вас будут к тому времени не только мужья – славные конунги, но и по пятеро… по семеро детей, один лучше другого.
Я смеялась сквозь слезы, воображая нас с Эльгой утонувшими в этой ораве детей.
Ревела и Аськина жена Пестрянка – он ехал с нами, а ей предстояло, едва покрыв голову, дожидаться его до зимы, не меньше. Всхлипывали и Володея с Беряшей, и моя мать, и все наши женщины…
Я была рада, когда лодьи наконец отчалили и вокруг стало тихо.
На широкой глади реки я вскоре успокоилась, осушила слезы и пришла в себя.
Река всегда утешает. Начинаешь понимать, что не тебя одного несет потоком жизни – таков общий закон. А слившись с рекой, обретаешь мир: ведь так или иначе, она приведет тебя на небо, потому что туда лежит ее неизменный путь.
Чтобы убедиться в этом, достаточно посмотреть вперед по течению…
Везли меня сразу несколько родичей, не считая дружины: Аська, Бельша и вуй Гремята. Последний взял с собой жену: не очень-то ей хотелось пускаться в дальний путь, но раз уж меня везут «выдавать замуж», без сопровождения родственниц мне нельзя. Вот Аськина Пестрянка поехала бы с ним весьма охотно, но ее не пустила моя мать: она и женила-то сына, чтобы иметь помощницу в хозяйстве, а не чтобы она разъезжала, «что твой купец».
Мы двинулись сначала по Великой, потом по Черехе, а затем через волок пробрались на Узу.
Если я буду рассказывать об этом подробно, мы никогда не доберемся до главного.
А я ведь все время помню, о чем хотела рассказать и зачем взялась за это дело.
Но на свете так мало вопросов, на которые можно дать простой и короткий ответ, а мой – уж точно не из них.
В Будгоще мы надеялись разжиться новостями, но сами оказались вестниками. Здесь не видели Мистину и Эльгу и ничего не знали о наших делах.
Нет, я не буду рассказывать, что обо всем этом говорили Житинеговы родичи.
Мне только было очень жаль Вояну. У нее росли уже трое детей, и она ожидала четвертого. Войдя к ней, я окинула взглядом копошащихся на полу мальцов, со страхом ожидая обнаружить в том, что постарше, черты Князя-Медведя. Хоть я и не видела лица волхва, почему-то была уверена, что сразу узнаю рожденного от него ребенка. Может быть, у него медвежьи уши, как в сказании…
Но я его не узнала, пока Вояна не показала мне.
– А это мой старшенький… Первушка – Медвежье Ушко! – Она весело подкинула мальчика и дала мне подержать.
Она тогда еще не знала…
А я была так потрясена, что не сразу собралась с мыслями – хотя с Бельшей и вуем Гремятой мы условились, что Вояне все расскажу именно я.
У ее старшего ребенка не было княжьего имени – он звался только так, как она сказала. Но лицом и повадкой он был вылитый Видята Житинегович! Столь явное родственное сходство бывает заметно даже у родишек, а тут оно бросалось в глаза.
Хоть Вояна и побывала в медвежьем логове перед свадьбой, ее старший сын был ребенком ее мужа.
Но это ничего не меняло.
Ее Первушка – Медвежье Ушко принадлежал лесу.
Я пыталась внушить ей, что она отдаст его не в чужие руки, а своей собственной родной матери, которая будет ходить за ним, словно сама Макошь. Но и это не могло порадовать Вояну – ведь и матери она лишалась тоже.
В конце концов я просто обняла ее и заплакала вместе с ней.
Забрать у нее ребенка должны были Гремята и Бельша, когда поедут назад. Наверное, это случится не раньше зимы, у Вояны будет время привыкнуть к мысли о разлуке.
Если к этому вообще можно привыкнуть.
В Будгоще мы прожили несколько дней: и сами отдохнули, и дали хозяевам время расспросить нас обо всех новостях подробно.
А моих старших меж тем разобрало беспокойство: не станем ли мы такими же вестниками и в Зорин-городке?
Вуй Гремята ходил хмурый: князь едва уломал его возглавить этот поход, а ведь именно нашему большаку придется отвечать перед Дивиславом за исчезновение обещанной невесты. Но еще и самому «обрадовать» его этой новостью – счастье невеликое.
Мне было очень жаль вуя Гремяту.
Получив с пристани весть, что прибыл обоз из Плескова «с боярином и невестой», князь Дивислав сам вышел навстречу.
Даже почти выбежал.
Свадьба ожидалась осенью, и он с нетерпением ждал Зажинок. Но с чего бы невесту привезли на месяц раньше, чем он только думал посылать за ней? Уж не случилось ли у них чего?
Все было так, как ему сказали: длинный обоз, боярин Гремислав – старейшина любутской волости, а с ним – старший плесковский княжич Белояр. И девушка в лодье, высоко сидящая на сосновой укладке и покрытая белой паволокой от дурного глаза.
– Эк вы меня нечаянно обрадовали! – воскликнул Дивислав, дружески обнимая Гремислава, потом княжича. – А я еще пива не варил, да и снопы ржаные пока в поле колышутся[6].
Гремислав хотел ответить, открыл рот и опять закрыл. Переглянулся с княжичем – лица у обоих были странные.
– Что вы такие хмурые? – не понял Дивислав. – Что невеста моя? Здорова ведь, коли привезли?
И посмотрел на девушку в лодье. Но что там разберешь под паволокой?
Было ясно, что Дивислав ничего не знает. И думает, что ему привезли Эльгу!
– Лучше прямо здесь сказать, – торопливо шепнул Аська Бельше. – Если сильно осерчает, здесь отбиваться вольнее.
– Если в дом войдем – будем гостями, – напомнил Бельша. – А тут перебьют нас да в реку побросают.
Гремислав тоже надеялся на мирный разговор, поэтому уклонился от немедленных объяснений.
– Идемте! – спохватился Дивислав. – Простите, что такой я хозяин невежливый – огорошили вы меня! Я на Зажинках только думал по невесту посылать, а вы тут уже – как снег на голову. Идемте. Невесту бери – мои бабы ее устроят.
Он поспешно послал кого-то за Держаной. Она так и жила при нем, заправляя хозяйством и подращивая всех детей, его и своих. И теперь во главе всей этой ватаги уже бежала к причалу с поспешностью, небывалой для ее лет и положения. За прошедшие годы она потеряла еще пару зубов, но оставалась такой же худощавой и бойкой. Нежданное известие воодушевило ее так, что она то принималась смеяться, то утирала слезы.
– Хозяйка приехала… – бормотала она. – Княгиня наша… Уж я теперь на покой… с плеч долой… Ваша матушка новая приехала! – внушала она младшим детям, теребя за плечи попавшего под руку Вестимку.
Но мальцы сообразили только, что надо ухватиться за нее и зареветь. Никакой другой матушки, кроме Держаны, они не хотели.
А по пристани, по всему длинному предградью на слиянии Ловати и Полы уже летел слух: князю невесту привезли!
Отовсюду бежал народ – рыбаки, лодочники, торговые гости, жители Зорин-городка и ближних весей – желая хоть одним глазом глянуть на сватов и девушку под белой паволокой. Никто еще ее не видел, а уже всем было известно: и станом стройна, и лицом бела, а уж речь-то говорит, будто реченька журчит! Отовсюду слышались крики, раздавались обычные свадебные шутки, кто-то запел про серую уточку да ясных соколов.
Плесковские гости все лучше осознавали, в какой силок попали.
Дивислав уверен, что ему привезли его собственную обрученную невесту. И как они теперь скажут, что девка не та и везут ее куда-то в Киев? А он останется с пустыми руками?
Князь велел топить свою собственную баню; первыми Держана увела туда приехавших женщин, а мужчин Дивислав пока позвал к себе выпить квасу. Но и квас после жаркого дня в дороге их не развеселил.
– Что-то вы, други мои, смурные такие! – заметил Дивислав. – И…
Он скользнул взглядом по «печальной» рубахе Аськи и по одежде двоих других, выражавшей «малую печаль» по более дальнему родичу.
– Не приключилось ли чего худого с…
– Приключилась у нас беда! – подтвердил Гремислав. – Привелось нам проводить на тот свет воеводу нашего Велегора.
– Ох! – Дивислав раскрыл глаза, услышав имя своего предполагаемого тестя. – Что же с ним…
– Лиходеи его убили на Нарове-реке.
Гремислав стал неторопливо рассказывать.
Дивислав смотрел на него, сжимая на столе серебряную чарку с квасом, и уже не улыбался. Когда Гремислав упомянул о приезде киевлянина Мистины Свенельдича, взгляд хозяина стал еще более пристальным:
– Он что, к вам уже с женой приезжал? Он у меня тут был с супругой молодой, а не поминал, что к вам заворачивал.
Гремислав опять переглянулся с Бельшей, собираясь с духом.
Потом откашлялся:
– Заворачивал. Еще как заворачивал. Умыкнул он у нас эту девку… сговорился с ней и умыкнул. Как оно на Ярилу[7] водится…
– У вас умыкнул? – едва веря ушам, повторил Дивислав и подался к нему. – Его жена – Улебова дочь из Волховца.
– Обманул тебя собачий сын. Велегорова дочь это была.
Теперь уже Дивислав ответил только изумленным взглядом.
Губы его дрогнули, но не сумели выговорить вопрос. Впрочем, он был ясно начертан на лице.
– Та самая! – со вздохом кивнул Гремислав. – Что тебе обещали. Да как бы он твою же невесту украденную мимо тебя повез? Вот и сказал, что Улебовна.
Дивислав сидел, как громом пораженный.
Мало того что какой-то заезжий киевский варяг умыкнул его невесту. Так еще и он, Дивислав, принимал лиходея у себя в доме… расспрашивал о новостях в Волховце и Ладоге… пивом поил…
Казалось вполне естественным, что дочь Ульва не хочет видеть давнего недруга своего отца, через которого на род пало бесчестье. И разве могло ему прийти в голову разглядывать чужую молодую жену, он ведь вежеству учен!
Пара приехала вместе с Ранди Вороном, которого он много лет знал как доверенного человека Ульва. Было очевидно, что они так вместе и едут из Волховца в Киев, где у Ранди – торговые дела, а у Мистины – служба и молодой князь. Все было так понятно, так обыкновенно… Кому бы на ум взошло подозревать, что эти двое как-то касаются его, Дивислава, дел! А как же хохотали, должно быть, варяги над ним в душе в это время!
– Так кого же… – через силу Дивислав указал глазами на дверь, – вы мне при… привезли?
– Да мы… Это сестра ее. Второго воеводы нашего, Турлава, дочь. Вслед за сестрой в Киев везем, чтобы, значит… И приданое…
– Чье приданое?
– Ее и…
– И сестры, – докончил за них Дивислав.
Лицо его сейчас было спокойно, но при взгляде на это спокойствие становилось нехорошо. Оно будто наливалось изнутри грозной силой.
– Ну, уж коли умыкнули девку, а мы до утра не сыскали – теперь не воротишь! – Гремислав в отчаянии всплеснул руками. – Обычай такой, а мы обычаев дедовских держимся! Мы бы нипочем своей волей уговор не нарушили! Мы ж не варяги какие! Своего корня… Уж как мать ее убивалась: говорила, одна радость мне во вдовстве оставалась, чтоб дочку Дивиславовой княгиней увидеть! Ну, уж коли ей в Киеве жить, так как подобает…
Дивислав почти не слушал его: прикидывал, сколько дней прошло после отъезда отсюда Мистины с его добычей и есть ли надежда догнать по дороге. Сколько людей у него и Ранди… Сильно ли они задержатся на волоках в верховьях Ловати… Помогут ли смолянские и полоцкие родичи…
– Ступайте-ка вы… в баню, – с тем же отстраненным спокойствием сказал он. – А я покуда…
Он не договорил, но плесковичам явственно послышался вслед за его словами железный звон оружия.
Когда плесковичи ушли в баню, на смену им в избу ворвалась оживленная и распаренная Держана.
– А невеста хороша! – возбужденно затараторила она с порога, уверенная, что деверь сгорает от нетерпения разузнать о суженой, которую увидит только на свадьбе. – Беленькая, как голубка, ладненькая такая, миленькая. Тощевата немного, но это у девок бывает – станет с мужем жить, раздобреет, а как родит, так и вовсе… Молчит, словечка не молвит, вежество знает…
– Это не наша невеста! – прервал ее излияния Дивислав.
– Как – не наша? – опешила Держана. – А чья?
– А пес знает! Плесковичи ее в Киев везут, это другая девка. А нашу варяги умыкнули. И она здесь проезжала! Ты, мать, ее в баню водила!
– Это когда ж такое было?
– А помнишь, варяг Мистина у нас был, будто бы с женой молодой? Это ее он и вез – Велегоровну, невесту мою нареченную!
Держана от изумления села на лавку.
– И что же теперь делать? – слабым голосом спросила она, в бессилии уронив свои дельные руки.
– А вот позову стариков – будем думать, что делать.
Но по лицу князя Держана видела: и без совета он знает, чего ему хочется.
Старейшины зоричей ничуть не удивились, получив весть, что князь немедленно желает их к себе. До них уже дошли слухи о приезде невесты.
Стало быть, скоро свадьба!
Хоть и не в срок, но у князя в любую пору хватит жита для пива и пирогов: слава Перуну и Велесу, в последнее время голодных годов не выпадало.
Не в силах долго ждать, Дивислав послал только за теми, кто жил ближе и кого можно было собрать к следующему дню.
Но ни один из приглашенных не был готов к тому, что они услышали на самом деле.
– Что делать будем, старейшины? – спросил князь, через силу изложив дело. Его жег стыд, что он предстал таким дураком перед своими и чужими. – Спустим ли обиду?
– Вот она, дружба варяжская! – горячо воскликнул Нудогость. За последние годы его волосы стали еще белее, но так же вздымались над залысым лбом, будто пламя. – Уж думалось, помирились с Улебом волховецким: и дары дарил, и лестью улещал! А подгадил! Выбрал час – и подгадил!
– Так что ж ты хочешь, княже? – спросил Кочебуд. – Вдогон бежать? Рати, что ли, просишь?
Старейшины зашумели.
Собирать войско сейчас, когда шел сенокос и уже, считай, на носу были Зажинки и самая страда, никому не хотелось. Не надо было даже объяснять, что именно в эту пору года отрывать рабочие руки от поля – лучше сразу веревку на осину да в петлю.
– Да уж не догнать…
– Они, поди, уже на Днепре…
– В Киеве только и достанешь…
– А там у них родня, Олег киевский…
– Да и на кой леший тебе эта, девка, княже! – проникновенно убеждал Буеслав. – Да неужели ты на постель себе возьмешь девку из-под варяга и княгиней посадишь над нашими женами честными?
– Нельзя! – качали головами старейшины.
– Не бывать!
– От такого сорому… да чуров на свадьбе придется к стенке повернуть!
Дивислав стиснул зубы и молчал.
Старики были правы: даже если бы ему удалось догнать похитителей и захватить девушку, это совсем не то, что взять невесту честью у родителей. Такой княгини люди не потерпят.
А если не сажать ее рядом с собой… взять в полон, определить в челядь, Держане под начало?
Невозможно – это он и сам понимал, даже в горячке обиды.
Девушка – близкая родственница и плесковскому, и киевскому князьям. С такими не поступают нечестно. Это – война сразу с двумя могущественными правителями, да еще сразу на двух рубежах, с полудня и полуночи. Да и Волховец – третий.
Нужно было изыскать другой способ восстановить свою честь.
И подарками из двух кусков шелка и трех соболей, как в прошлый раз, не обойдется.
– Так что же – спустим обиду варягам? – насупясь, дед Нудята окинул прочих старейшин мрачным взглядом. – Пусть ездят на нас верхом да пинают, как вздумается? Пусть раззявами ославлят на весь белый свет? Сымайте хоть портки с нас – мы ничего!
– А кого же плесковичи привезли-то? – полюбопытствовал Крепень. – Мы уж думали, княгиня наша, а она кто?
– Это дочь второго плесковского воеводы, сестра той, первой.
– Так возьми эту! – не понял затруднения Буеслав. – Чего толкуем-то? Коли есть честная невеста?
– Та, прежняя, была внучка князя Судогостя, от его дочери. А у этой отец – варяг, мать – люботинского старейшины дочь. Не княжеского рода девка.
– Знал тот пес смердячий, которую умыкнуть! – бросил Нудята.
– Я люботинского старейшину знаю, – заметил Славигость. – Доброзор, Гремиборов сын. Добрый род Люботичи и славы хорошей. У меня бабка оттуда была. Про люботинских девок кто худое слово скажет? И рукодельны, и нравом добры…
– Здесь сын Доброзоров, Гремислав. Он ее привез.
– Гремята! – обрадовался Славига. – А что ж не сказался? Я б повидался с ним.
– Да чего со стариками видаться! Нам бы девку повидать! – подмигнул Снегирь, «удалой молодец», как его дразнили за то, что последняя жена была ровесницей внучек, но исправно рожала ему новых детей. – Хороша ли девка? Если собой приглядна, а роду хорошего, так чего не взять-то?
– С худой овцы хоть шерсти клок!
– Одну варяги умыкнули, другую сами им отдадим с честью и приданым – забирайте, нам не надобно! Так, что ли?
– А приданое хорошо ли?
– Хорошо – десять укладок сам видал на пристани, а коробьев не счесть!
– Пусть девку приведут! Смотрины устроим!
– Наша княгиня – имеем право глянуть, кого берем!
– Ведите, ведите!
Дивислав в изумлении оглядел собрание и вдруг расхохотался.
Он, дурень, наладился воевать, уж мысленно меч свой варяжский вздел на плечо, а его тут почти женили! Гулять на свадьбе старейшинам хотелось явно больше, чем снаряжаться на рать.
Но что делать – спорить? Убеждать, что надо оторвать работников от жатвы и послать в военный поход, чтобы привезти побывавшую под другим девку, и тем поссориться с тремя сильными князьями?
Даже если князь сходит с ума, старейшины на то и существуют, чтобы вернуть его в разум и не позволить наломать дров.
Послали за плесковичами, которые ждали в княжьей избе.
– Гремята! – завопил обрадованный встречей с родичем Славигость. – Показывай невесту, которую привез!
– Славига! Брате! Вот Доля привела свидеться! Да как же показывать – девка-то не…
– Князь согласен эту взять! Я им уж растолковал, как ваш род хорош и почитаем.
– Да уж мы-то никому славы доброй не уступим! – ободрился Гремята. – Однако растолкуй мне, зачем вам девка?
– Да князю жениться! – втолковывал Славига ополоумевшему от такой чести родичу. – Согласен князь! Одну вы не уберегли, так эту берет взамен! Коли нам понравится, и коли приданое доброе…
Гремислав воззрился на него, потом на Бельшу.
Тот, как и Аська, сидел с открытым ртом. Мысль предложить Уту в жены Дивиславу взамен сбежавшей Ельки не приходила им в голову – все хорошо понимали разницу между сестрами.
– И что же он… в княгини ее берет? – помолчав, уточнил Гремислав.
– А это как нам понра-авится! – с шутливым вызовом протянул Славига.
Гремислав еще подумал и кивнул:
– Беги, Аська, за сестрой. Пусть она там… поукрасится получше. И во сне не видала такого счастья, а вдруг и дастся! Она девка добрая, Макошь наградит!
Я слышала, что князь Дивислав собрал своих старейшин на совет, и ужасно волновалась.
Теперь он все знает.
Он может послать войско вслед за Эльгой… о боги, только бы их не догнали!
Но, помня, как сильно мы все провинились перед богами и чурами, я понимала, как мало у нас надежды на их защиту. Дивислав мог собрать войско и пойти на Волховец – родовое владение своего обидчика Ингвара.
Прямо сейчас это ничем не грозило Эльге, но означало войну ее мужа сразу с несколькими противниками.
Война!
Это ужасное слово отдавалось в ушах звоном железа, криками боли, страха и горя. Я, к счастью моему, мало видела войны: последняя случилась как раз за год до рождения нас с Эльгой. Но матери нам немало о ней рассказывали, и возле Люботиной так и прижился кое-кто из беженцев, разоренных чудью в тот раз.
Погиб в бою стрый Вальгард – так неужели это лишь начало череды бедствий?
Томясь самыми худшими ожиданиями, я вертелась на скамье, не в силах сидеть спокойно.
Гремятина жена, Святогоровна, причитала шепотом, ожидая всяческих бед.
А с нами-то что будет? А что, если Дивислав обвинит Плесков в пропаже невесты? А нас с нашим всем добром возьмет в заложники – а то и хуже?
Когда с шумом растворилась дверь, мы невольно встали. Ворвалась Держана с выпученными глазами, а за ней маячил Аська с вытянутым лицом.
– Пойдем! – воскликнула она, найдя взглядом меня. – Я как знала! Знала я, что ты нашей княгиней будешь! Идем! Старейшины видеть тебя желают!
Я ничего не понимала.
Держана схватила с ларя паволоку, в которой я приехала, набросила мне на голову, взяла за руку и повела наружу.
Куда? Я даже не успела спросить.
Из-под белого шелка я ничего не видела и заботилась больше о том, чтобы не споткнуться.
Идти пришлось недалеко: шагов с полсотни.
Держана велела нагнуться, сама положила руку мне на затылок и заботливо придержала, чтобы я вслепую не грохнулась о косяк.
Я очутилась в просторной избе, полной народу.
Никого не видела, но чувствовала присутствие десятков человек: слышала гул возбужденных голосов, топот, шорох, движение.
Держана за руку вела меня куда-то вперед.
Остановилась.
– Вот племянница моя, дочь сестры моей и воеводы варяжского Турлава, – услышала я голос вуя Гремяты. – Понравится – пожалуйте, не понравится – не обидьте.
Паволоку чем-то подцепили и потащили с моей головы.
В этот решающий миг я, смешно сказать, испугалась, что ее сейчас уронят на грязный пол – белый-то шелк!
Но вот паволока упала (Держана ловко подхватила ее), и в лицо мне уперлись, как показалось с перепугу, сотни глаз!
Конечно, их там было не сотни, а всего человек двадцать. Но все таращились на меня, как на неведомое диво.
Стало тихо, в молчании проходили мгновения.
А я по-прежнему не понимала, что происходит и что они хотят разглядеть на моем лице. Вид у них был такой, будто каждый читает в моих чертах свою судьбу.
– А что, девка-то справная! – первым произнес невысокого роста, но шустрый по повадке старик с большой загорелой лысиной и совершенно белой бородой ниже пояса. – Хорошая девка.
Все загудели: в голосах слышалось одобрение, взгляды повеселели.
Я осмотрелась.
Какой-то мужчина сделал несколько шагов ко мне. Он был моложе всех, хотя не слишком юн: выше среднего роста, крепкий, с грубоватыми прямыми чертами, которые смягчал короткий нос. Серые глаза пристально смотрели мне в лицо.
А я была так изумлена всем этим, что даже не чувствовала смущения – лишь растерянность.
– Ну что, девица… – неожиданно мягко обратился он ко мне, будто боялся голосом меня поранить. – Как тебя зовут?
– Ута… Турлавова дочь, – пробормотала я.
Уж не он ли и есть князь Дивислав?
Никто не спешил меня просветить, но все намекало на это: его сравнительная молодость, уверенный вид… Узор пояса указывал на вдовство, но уже давнее.
– Ну что, Ута? Пойдешь за меня?
Глаза у князя были добрые, как и голос.
Я еще не понимала, что происходит, но чувствовала: этот человек не причинит мне зла.
– Я – Дивислав, Велебоев сын, князь зоричей, – продолжал он. – Обручен был с твоей сестрой, да сбежала она от меня с киевлянами. Не знаю, как быть: то ли за ней вдогон бежать, то ли тебя взамен взять. Что скажешь? Пойдешь за меня?
Он спрашивает меня?
– П… пойду… – едва разлепив губы, вымолвила я.
Он согласен взять меня взамен Эльги! И тогда он не будет преследовать ее, и воевать будет незачем!
Это было главное, что я в тот миг сообразила.
Мне мерещилось, что нужно скорее закрыть дыру, через которую рвались к нам ужасные бедствия. И закрыть ее было так просто – лишь сделать шаг вперед.
– Ну, вот и ладно! – Дивислав обернулся и протянул руку вую Гремяте. – Беру эту девку!
Все кругом заорали, кто помоложе – даже вскочили, стали обниматься, хлопать друг друга по плечам, будто избежали большой беды.
Вуй Гремята, как брат матери, имел право распоряжаться моей судьбой. Да и мой отец сам поручил ему найти мне жениха; имелось в виду, что тот найдется в Киеве, но не отказываться же, если судьба сыскала его для нас гораздо ближе? Гремята подал руку Дивиславу; Держана вынырнула с рушником и ждала, когда вуй подведет меня в князю, чтобы обвязать полотном наши соединенные руки.
Все вокруг шумели и очень радовались. Принесли пиво, разлили по чашам, подняли рог…
И до меня постепенно стало доезжать – меня отдают замуж!
Не в Киеве, не за «кого-то из дружины Ингвара». А здесь, в Зорин-городке. За Дивислава, бывшего жениха Эльги.
Прямо сейчас.
Просыпаясь по утрам и открывая глаза, Эльга всякий раз заново ощущала, как переменилась ее жизнь.
Первый же ее взгляд падал на большой ларь с отделкой резной кости и блестящей бронзы. Его Мальфрид дочь Ульва привезла в числе своего приданого и очень им гордилась. На крышке лежало платье, которое теперь носила Эльга: из голубого греческого самита с серебристыми узорами в виде кругов, наполненных росточками. Пояс был соткан из синих и красных шелковых нитей, как и вышитое серебром очелье, на котором блестели серебряные же заушницы.
Сев на лежанке, Эльга оглядывалась, будто убеждая себя, что это не сон.
Теперь она спала не на полатях, где младшие братья и сестры вечно возились и шептались, прежде чем уснуть, а на скамье: на полатях тут укладывались княгинины челядинки.
У Мальфрид имелась своя особая изба, где она жила со своей челядью и детьми.
У князя Олега вечно толпился народ, там ей было слишком беспокойно.
Невесту своего брата Ингвара княгиня приняла с такой радостью, что, кажется, не смогла бы обрадоваться сильнее, даже если бы Мистина и правда привез ее родную сестру Альдис. Вскоре Эльга поняла, в чем дело: эта женитьба Ингвара давала Мальфрид возможность не расставаться со своим сыном Оди, поэтому княгиня готова была отдать что угодно, лишь бы свадьба состоялась. Пока что она подарила Эльге несколько греческих платьев из своих запасов, сорочек, поясков и прочего, чтобы невеста «княжича Ингоря», как его тут называли, выглядела достойно.
Самого Ингвара, к большому разочарованию Эльги, в Киеве не оказалось: он с дружиной уехал провожать торговый обоз через пороги, что считалось довольно опасным предприятием.
– Ну, кто же знал! – оправдывая брата, Мальфрид с сожалением разводила руками. – Ведь Мистина за тобой еще осенью отправился, с полюдьем, без четверти год прошел, никто же не ведал: сладится ли дело да когда сладится? А Инги дома-то не сидится, ему бы только дела ратного себе найти, без того и свет не мил.
Привыкнув за восемь лет, Мальфрид даже дома говорила по-словенски.
Поначалу они с Эльгой, бывало, плохо понимали друг друга: наречия полян и плесковских кривичей заметно различались. Тогда они переходили на северный язык, но Эльга чутко прислушивалась, как говорят вокруг, и старалась подражать: не «сустречагли», а «повстречали»…
Каждое утро Эльга вздыхала: неужели он и сегодня не приедет?
Ей так хотелось поскорее увидеть своего будущего мужа, ради встречи с которым она решилась на такое! Сбежала из дома, нанесла оскорбление родовому святилищу!
Об этом они с Мистиной еще по дороге условились никому не рассказывать. С Ярилина игрища умыкнул – да и все.
Не прошло и месяца с их приезда, как в Киеве объявились родичи: люботинский боярин Гремислав, княжий сын Белояр из Плескова и брат Аська из Варягина.
И привезли они великие новости: взамен сбежавшей Эльги Дивислав зоричский взял за себя Уту, дочь Торлейва!
Свадьба состоялась еще до отъезда плесковичей в дальнейший путь, поэтому сведения были самые надежные.
Но приехали послы с пустыми руками: десять укладок, привезенные вместе с Утой, Дивислав оставил себе. Дескать, все добро пойдет в приданое молодой, дабы возместить ее меньшую, по сравнению с Эльгой, знатность, и обеспечить новой княгине зоричей надлежащее уважение.
– Не драться же нам с ним было! – разводил руками Гремята. – Но ведь и правда обидели его, пусть уж… лишь бы не воевать.
Князь Олег тоже был доволен исходом дела: он получил невесту-заложницу для рода Ульва, которую дожидались восемь лет, но при этом удалось избежать ссоры с Дивиславом зоричским.
О таком удачном исходе он мог только мечтать, и потеря приданого казалась невысокой ценой за это счастье.
Но Эльга была в ярости и не стеснялась выказывать ее даже в присутствии мужчин.
Ее приданое! Плоды ее и сестер трудов за восемь зим!
Сорочки для себя и подарков, пояса, поневы, вершники, отделанные шелком, шитые и браные рушники, настилальники, меховые крытые кожухи, одеяла куньи и беличьи, посуда, цветное платье! Всего не перечесть!
И как она теперь будет выходить за наследника волховецкого конунга без приданого, словно полонянка?
Какое ей будет уважение от мужа?
Князь и княгиня вдвоем успокаивали ее. Олег уверял, что после полюдья возместит ей потери мехов и полотна, а Мальфрид обещала помочь сшить и соткать все недостающее.
Эльга понимала, что иного выхода нет, но свадьба откладывалась на неизвестный срок: полюдье вернется только весной, а потом еще и шитье!
Впрочем, кое-какое добро у нее уже появилось, и Мальфрид даже освободила для него укладку.
Что ни день, являлись какие-то люди, желающие поклониться племяннице Вещего – полянские старейшины, старые воеводы из Оддовой дружины, торговые люди, даже какие-то хазары!
Эльга удивлялась поначалу, но вскоре поняла: для этих мест ее незнакомый дядя был почти богом. В Плескове о нем говорили мало – разве что отец и стрый Толе вечером за пивом пускались в воспоминания молодости. Но здесь, в Киеве и ближних краях, по имени Олеговой дружины называемых Русской землей, память о нем и спустя восемь лет после смерти была жива и свежа.
Первыми пришли, разумеется, родичи Олега-младшего: его отец, моровлянин Предслав с дочерью и зятем; за ними Избыгневичи – его родичи по киевскому отчиму, то есть боярин Честонег с братьями и сыновьями.
Смущенная Эльга, конечно, не запомнила сразу ни имен, ни кто кем кому приходится.
Но смутило ее не только обилие незнакомой знати, но и странные взгляды, которые все на нее бросали.
Увидев ее, каждый менялся в лице.
– Ох, батюшка… – боярин Честонег вытаращил глаза и прижал руку к груди. – Князюшка родной…
– Вот ведь привелось когда свидеться… – пробормотал его младший брат Далемир.
Эльга не понимала, о чем они: она ведь ожидала, что разговор пойдет о ее бегстве, о том, признают ли этот брак плесковские князья и всем таком прочем.
Но в глазах гостей отражалось нечто весьма далекое от этих вещей: они будто заглянули на тот свет.
– А ты сам-то увидел? – князь Предслав повернулся к сыну. – Или нет, не признал? А мы…
– Как увидели, так перед глазами и встал! – подхватил Честонег.
Эльга переводила изумленный взгляд с одного на другого.
О чем это они говорят?
– Померещилось что-то! – Олег улыбнулся. – Неужели так заметно?
Эльга оглянулась на Мальфрид: та, судя по лицу, пребывала в таком же недоумении, как и она сама.
– Чем вам, мужи нарочитые, девка-то не понравилась? – спросила наконец княгиня.
– Почему – «не понравилась»? – усмехнулся Предслав. – Очень даже понравилась. Ты Олега Вещего не встречала, вот и невдомек тебе. А племянница на него походит, как и не всякая родная дочь на отца.
Дочь на отца?
Эльга знала, что похожа на своего отца…
Но поскольку ее отец, Вальгард, приходился братом Одду Хельги, то ничего удивительного, если они были похожи. Не знавшие Вальгарда киевляне увидели в ней сходство с его старшим братом, рядом с которым прожили много лет.
– И глазищи такие же точно! – заметил Далемир, вглядевшись в глаза Эльги. – Чисто измарагд. Я сколько живу, у него одного такие очи видал. Верно, племяннице в наследство оставил!
Эльга вздохнула про себя: глаза-то при ней, а измарагдовое ожерелье осталось дома, в Варягине.
Уходя оттуда об руку с Князем-Медведем, она не решилась взять с собой свою главную драгоценность и теперь не знала, встретится ли когда-нибудь с нею снова.
Но об этом она грустила недолго: оказалось, плесковские родичи привезли ожерелье в тщательно завязанном холщовом мешочке. Его забрала вместе со всем приданым Ута и, уже зная, что остается в Зорин-городке, тайком сунула брату Аське с наказом отвезти в Киев.
Только то и утешило Эльгу в потере всего приданого, что теперь она могла встречать знатных гостей с ожерельем на груди, в котором блестели камни точь-в-точь под цвет ее глаз, что как нельзя более выгодно оттеняло и то и другое.
А по Киеву полетел слух, что приехала «родная дочь Олега Вещего» и готовится выйти замуж за княжича Ингоря.
С тех пор у Эльги не много было покоя: всякий день ее просили в гридницу.
Поляне, варяги из старой Оддовой дружины, русские купцы, жившие здесь хазары-тенгрианцы и хазары-иудеи (этих она плохо различала), савары и саваряне, которых она отличала только по языку, торговые гости из славянских земель выше и ниже по Днепру – «вся эта русь» таращила на нее глаза, и многие, кто постарше, охотно подтверждали: вылитый Олег Вещий!
А поскольку к князьям не ходят с пустыми руками, перед Эльгой выкладывали кто косяк полотна, то связку белок, а кто побогаче – отрез цветного шелка, пусть и с ладонь шириной.
Эльга быстро освоилась: улыбалась, гордясь своим происхождением, старалась запомнить лица и имена, вежливо и с достоинством благодарила. Конечно, полностью ей эти дары утраченное не возместят, но все же приятно было чувствовать себя уже не совсем бесприданной сиротой.
Да и приезд плесковской родни, пусть и без укладок, значил немало: теперь три нарочитых мужа сидели по бокам от нее, принимая поклоны, и всякий видел, что княжичу Ингорю привезли не полонянку какую, а знатную жену из Плескова, княжескую племянницу.
Но родство с Олегом Вещим здесь значило, пожалуй, даже больше.
Почти всякий пришедший пускался в рассказы и воспоминания, и за месяц Эльга узнала о покойном дяде больше, чем за всю предыдущую жизнь. Ее отец с братом рассказывали больше о его молодых годах, которым были свидетелями; о его жизни в Киеве они знали меньше.
Теперь выяснилось, что для этих мест он был чем-то вроде Перуна и Сварога разом. За несколько десятилетий его правления – сперва как воеводы последних Киевичей, потом как князя – Полянская земля изменилась до неузнаваемости.
Раньше это была узкая полоса вдоль Днепра, зажатая во враждебном окружении, платящая дань хазарам; с последними порой воевали за это право деревляне, но их власть полянам сулила еще менее добра. Хазары просто собирали дань и держали торговые пути, не давая полянам высунуть носа со своих «гор»; жизнь при них была бедная, зато спокойная. Деревляне же, считая себя первыми наследниками древнего племени дулебов и старшими над всеми прочими, стремились не только занять Киев, но и истребить полянскую старейшину, чтобы поглотить полянское племя и не оставить от него даже памяти.
Понятно, что поляне были готовы принять в князья даже «варяга из руси», чужого здесь человека, лишь бы он избавил их от давних братьев-недругов. Сделав это и начав, в свою очередь, брать дань с деревлян, Олег Вещий стал всем полянам отцом родным, и они без колебаний пошли за ним на саварян и на радимичей.
А уже потом, все вместе – на сам Царьград!
«Быть в руси» стало означать – быть защищенным и обеспеченным лучше, чем могли это сделать родовые и племенные чуры.
И посейчас о том походе на Царьград рассказывали басни, а иные из пришедших с гордостью выпячивали грудь: вот это платье цветное от греков привезено, из той добычи! Платьем из тех, что иной раз передают по наследству десять поколений[8], здесь владели довольно многие, и Эльга видела: все эти рассказы – не пустая болтовня.
– Две тысячи лодей было у нас, и в каждой – по сорок человек! – рассказывал ей сперва полянский боярин Будислав, потом старые варяги Руалд и Стемир. – Кейсар греческий цепями гавань загородил, так Олег Вещий велел лодьи на колеса поставить и паруса поднять! Так мы к стенам и пошли, а греки как увидали – враз со страху того…
Эльга улыбалась, не веря: да как это возможно?!
Однажды она все же задала этот вопрос молодому боярину Жизняте: этот родич Олега, приветливый и разговорчивый, сразу ей понравился.
– Почему же все так не ездят? – смеясь, спросила она. – Если бы по полю можно было бы ездить на лодьях с парусами, кто бы стал волов и лошадей запрягать?
– Всякому нельзя, – со вздохом сожаления ответил Жизнята. – Князь наш вещим потому и был – сильные слова знал, и по воле его случалось всякое, небывалое. Да умер, никому тех слов не передав, как и мудрости своей.
И посмотрел на Эльгу вопросительно.
Будто подумал: а вдруг кому и передал?
Поход Олега на Царьград уже оброс баснословными подробностями, но добыча и выгодный для русской торговли договор, вслед за ним заключенный, несомненно, были правдой. Те самые Руалд и Стемир – то есть Хроальд и Стейнмар, нурманы родом – не только участвовали в походе, но и состояли в числе послов, несколько лет спустя заключивших договор между русью и греками. Кроме них, ныне в живых оставался еще один из тех людей, Лидульв, но он, совсем старый и больной, никуда уже не ходил, доживая век на собственном дворе, поставленном благодаря воинской удаче его вождя.
Во многом благодаря договору с Царьградом Киев за последние десятилетия разросся. А русские купцы теперь могли по полгода жить в Царьграде за счет тамошнего кейсара, торговать беспошлинно и улаживать все возникающие споры по закону.
Как вскоре Эльга поняла, не только старые варяги вздыхали по прошлым временам. Подросли молодые удальцы, желавшие повторить подвиги предков и привезти не меньше дорогой добычи.
Но Олег Моровлянин был глух к этим желаниям: выгоды торговли уже привели в Киев не меньше цветного платья, драгоценностей и прочего добра, чем походы. Его поддерживали купцы, которым был выгоден мир, и старейшины, наладившие сбыт своих товаров в обмен на паволоки и серебро.
О новом Олеге Вещем мечтали только молодые, не успевшие отличиться, и знать более отдаленных мест, в те времена еще не имевшая связей с русью.
– Вот воротится княжич Ингорь, мы с ним еще потолкуем! – не раз и не два слышала Эльга. – Вот это удалец, так это да! А деревляне… А уличи…
О своем будущем муже Эльга услышала немало.
Его собственная дружина ушла с ним, но разговоров о ней было много. После успешного уличского похода, вернувшись в Киев с добычей, многие его люди той же осенью на радостях женились и поставили собственные дворы. Еще совсем свежи были воспоминания о сплошной череде свадеб, и Эльга много смеялась, слушая, кто у кого перехватил невесту, кто с кем подрался и прочие байки. Друзья ставились поблизости друг от друга, и их свежие дворы образовали целый конец, еще засыпанный щепой и стружкой – его называли «Ингоречи» или «Ингорев конец».
Близкую женитьбу молодого вождя киевляне приветствовали горячо и шумно, осыпая его похвалами за отвагу и удачу.
Словом, за этот месяц Эльга выросла в собственных глазах на две головы: в Плескове она не вполне понимала, как возвышает ее родство с Олегом Вещим и обручение с Ингваром.
Нужно было попасть в Киев, чтобы это понять.
Для самого Ингвара тоже ставили двор.
Но поскольку он тут бывал редко и недолго, надзирал за делом его кормилец Свенгельд. Подросший воспитанник больше не нуждался в том, чтобы его сопровождали и давали советы, поэтому Свенгельд устроился в Киеве, где тоже, разумеется, имел просторную и богатую усадьбу за высоким частоколом.
С ним Эльга познакомилась в первые же дни. Свенгельд, уже седой, без двух пальцев на правой руке, имел такой же свернутый на сторону нос, как у сына: это выглядело как проявление семейного сходства, хотя Эльга знала, разумеется, что сия «красота» остается от сильного и второпях плохо вправленного перелома. Такие носы были чуть ли не у половины повоевавших кметей. Немногословному Свенгельду с его пристальным взглядом глубоко посаженных серых глаз этот нос придавал еще больше внушительности.
Он не стал рассказывать Эльге о подвигах ее прежней и будущей родни.
Усевшись и приняв позолоченную греческую чашу стоялого меда – с такой равнодушной небрежностью, будто глиняную самолепную, – он принялся повествовать о собственных предках.
Он, оказывается, происходил из рода ютландских конунгов Скъёльдунгов, только по женской ветви. В очередной войне с бодричами ему досталась в качестве добычи младшая дочь князя Драговита, от которой и родился его сын Мистина, иначе Мстислав. Стали понятны намеки на «княжеское происхождение», которые тот иногда с небрежным видом ронял. Он действительно с обеих сторон происходил от королей, но везде – по женской ветви и полузаконного брака. Эльга сомневалась, что велиградские князья с такой же готовностью признают его за родню, как он – их. Но княжеская кровь – не шутка, и она даже стала поглядывать на Мистину более уважительно.
И вот приблизилась осень: в полях вокруг Киева вовсю шли Зажинки.
Мальфрид – княгиня Миловида, как ее тут звали, – в нарядном уборе, полыхающем всеми оттенками красного, несколько раз ходила с серпом на ближние поля, дабы сжать первый пучок колосьев. В сопровождении толпы нарядных жниц она несла колосья в святилище на Киевой горе – или просто Горе, возлагала на жертвенник, трижды поднимала к идолам Сварога и Макоши чаши с медом и обрызгивала принесенное, дабы небесные боги послали хорошую погоду на время жатвы – без гроз, дождей и сильного ветра, которые вытряхивают зерно из спелого колоса наземь. Потом тем же освященным медом обрызгивались серпы, а жницы пели про «серпы золотые», прося у богов сил для долгой важной работы.
Эльга дивилась тому, как рано здесь созревало жито: чуть ли не на месяц раньше, чем под Плесковом!
В сопровождении Оди, его маленькой сестры и невесты еще меньше, а также княгининой челяди Эльга часто ходила гулять по киевским горам: по Олеговой, где стоял его двор, по Киевой горе, по Подолу. Эльга вела мальчика за руку, часто их сопровождала киевская родня Олега – получалась шумная толпа нарядных женщин и детей, привлекавшая всеобщее внимание.
С вершин открывался такой вид, что захватывало дух!
Небокрай был отодвинут так далеко, что казалось – стоишь на самой вершине Мер-Горы, в середине белого света.
Широченный Днепр убегал куда-то прямо в небо, а зеленое пространство внизу было заполнено соломенными крышами. Казалось, их рассыпали горстями здесь и там, на удобных для жизни местах, но они были такими маленькими, что Эльга ощущала себя не человеком, а богиней, взирающей на землю из небесных палат.
Часто Мальфрид отправляла их с Оди кататься по Днепру на лодье с гребцами; на пристани Подола им все кланялись, улыбались, махали руками.
Иной раз она заворачивала взглянуть на недостроенный Ингваров двор; было досадно, что еще нельзя вселяться, хотя с ее приездом Свенгельд усерднее взялся за дело. Срубы жилой избы, клетей, бани, дружинных изб росли на глазах и подводились под крышу. Рыли обширные погреба, ставили загоны для скота.
Эльга взирала на это с гордостью и в мыслях уже видела себя хозяйкой всего этого. Даже пожалела, что когда-то в будущем, когда умрет старый Ульв, придется все это бросить и уехать в Волховец.
Впрочем, зачем бросать?
Здесь нужно посадить своих людей, которые будут смотреть за хозяйством, получать из Волховца товары и снаряжать обозы в Царьград. А если ей захочется, почему бы в иной год не приехать сюда самой? Теперь Эльга уже знала, что хоть дорога от Ильменя до Киева далека, на ней нет никаких стеклянных гор и огненных рек.
Уж скорее бы вернулся Ингвар и все эти мечты стали явью!
Иной раз Эльга задумывалась, не настоять ли на свадьбе этой же осенью.
Самое необходимое для пира и начала хозяйствования ей с радостью даст Мальфрид, тоже мечтавшая о скорейшем заключении этого брака, а остальное можно будет восполнить после полюдья.
Весной свадеб не делают – неужели придется ждать еще целый год!
Да она до тех пор поседеет – и так не недоросточек, недозрелая калинушка, а взрослая девица, самый маков цвет!
Даже Ута опередила ее и уже замужем… хотя в это Эльга никак не могла по-настоящему поверить.
Жизнь у киевского князя была беспокойная. Каждый день Эльга видела во дворе то полян, то хазар, то саварян или саваров. Часто возникали споры: о мыте, о местах для постоя, о праве участия в поездках под покровительством княжьей дружины.
Оказываясь поблизости, Эльга слушала не без любопытства.
Вчера она, например, во второй раз увидела Свенгельда. Он сам на нее не обратил внимания: пришел по делу.
Прижившись, Эльга охотно помогала Мальфрид принимать гостей: следила, что и как челядь подает на стол, наиболее уважаемым людям сама подносила пива или меду. Обычно ей кланялись с благодарностью и смотрели с восхищением.
Но вчера всем было не до нее. Возле князя сидел Свенгельд, а напротив стояли трое купцов из Козарского конца, легко узнаваемые по белым валяным остроконечным шапкам с небольшими полями.
Говорили, что это «жиды» – часть хазар, верующая не в хазарских богов, а в какого-то другого бога. Их поселение стояло на мысу между Днепром и впадающей в него Почайной уже очень давно: они появились здесь раньше, чем русь, еще во времена хазарского владычества. Поначалу Вещий изгнал их отсюда вместе с кагановыми даньщиками, но жиды обладали связями, которых не имела русь, поэтому, хоть им и пришлось потесниться на торговых путях, кое-что они сумели сохранить за собой и постепенно вновь обосновались на прежних местах. Через них шла почти вся торговля челядью: им сбывали полон русы, бравшие его в походах, но ленившиеся потом тащиться с толпой пленников через весь свет до Кордовы – ведь чем дальше пленник увезен от родных мест, тем выше его цена. Только жиды знали пути в далекую страну Сина, откуда привозили удивительный шелк с драконами. Так же, как и русь, жиды имели свои общины в самых разных городах и странах, что и обеспечивало им успех. Но по уровню и широте этих связей бойкие русы были перед ними просто младенцы.
Именно эти люди и пришли жаловаться князю – на Свенгельда, точнее, его дружину.
После успешного похода на деревлян Свенгельду же и было поручено держать их землю, собирать дань; половину он оставлял себе, вторую половину переправлял в Киев. Побежденной деревлянской старейшине он не позволял даже головы поднять.
Эльга знала, что у многих деревлянских родов взяты старшие сыновья и дочери: дочери розданы дружине в жены, сыновья живут на дворах по одному, кто у кого.
Нынче же выяснилось вот что: купцы из Козарского конца – Куфин, Манар и Шимшон – подсылали в Деревлянь своих людей, чтобы сговориться о покупке мехов зимней добычи. Проведав об этом, люди Свенгельда поймали лазутчиков, побили и выставили вон, отняв все имущество. Притащившись кое-как домой, те доложились хозяевам, а хозяева пошли жаловаться князю.
– Мы не сделали ничего против закона! – возмущался старший из них, Манар бар Шмуэль. – Мы же не посягаем на княжью дань. Мы хотели всего лишь купить излишки, что остаются у людей после уплаты. Почему мы не можем купить товар за честное серебро? Разве у тебя, княже, есть закон, который это запрещает?
– Людей избили, искалечили, совсем убили! – причитал другой, Шимшон. – Как мы будем теперь содержать их жен и сирот? За свои средства, да? Мы и без того так недавно отдали последнее, чтобы собрать деньги для бедняги Яакова бен Хануки…
– Мне плевать! – бросил Свенгельд, не переменившись в лице. – Князь отдал эту землю мне. И никто, кроме меня, там ползать не будет.
– Но это всего лишь…
– Все, что там есть, – мое! И я сам буду это все покупать, продавать, вывозить или жрать с кашей. Меха, шкуры, воск, мед и челядь. И ни серебра, ни железа, ни хрена лысого деревляне не получат ни от кого, кроме меня. Или я позволю им менять своих паршивых куниц на мечи у меня за спиной? Я, по-твоему, дурак? Вы запомните: это на первый раз ваших просто прогнали. На второй – убьют. Я так сказал, и так будет сделано.
Князь Олег слушал все это весьма хмуро.
Он не хотел ссориться с хазарскими купцами, при посредстве которых в Киев попадало немало серебра и шелка, и ему не нравилось, что Свенгельд самовластно распоряжается землями, которые входят в его, Олега, державу.
Но именно Свенгельд завоевал ее своим мечом, и он по праву пользовался всеми выгодами обладания ею. И нес все риски: в случае мятежа первыми погибнут его люди, потом – он сам с дружиной.
В конце концов договорились, что купцы получат возмещение за обиду своих людей и отнятое имущество, но больше не станут никого посылать во владения Свенгельда без его ведома. Судя по каменному лицу старого воеводы, Эльга заподозрила, что возмещение это будет платить из своих средств сам Олег. Это же ей потом, уже у себя в избе, сказала Мальфрид.
– Свенгельд такую силу взял, мы и не ведаем, что с ним делать, – шепнула она будущей невестке. – А половина дани ему по самую смерть отдана. Ты примечай о нем… Он ведь тебе не сторона. Все равно, что свекр-батюшка будет. Инги отца уж много лет не видел, а Свенгельд при нем неотлучно. Всему учил – и на коне сидеть, и мечом владеть, и рати водить. Инги хоть уже и муж, не мальчик, а все равно без Свенгельдова слова мало что делает.
Эльга призадумалась.
Не слишком ее грела мысль обзавестись после свадьбы этаким «родным батюшкой». Свенгельд не выглядел злым: просто было видно, что до нее ему дела нет. Она для него – что муха на стене: он сам не намерен считаться с будущей женой своего воспитанника и удивится, если с ней будет считаться муж.
А мужу – придется.
Эльга твердо знала, что помыкать собой не позволит никому. Не зря же она – родная племянница Олега Вещего и видит во взглядах, обращенных к ней, почтение, приносимое его памяти!
В Киеве была и другая родня покойного князя. Его дочь, мать Олега-младшего, давно умерла, и князь Предслав сейчас был женат на другой женщине, из киевской знати. Но у Олега имелась сестра Ростислава, замужем за боярином Остроглядом. Все они встретили Эльгу очень хорошо: женщины нередко заходили к ней или зазывали к себе. У князя Предслава имелись юные дочки, и Эльга охотно проводила с ними целые дни. Без Уты ей не хватало девичьей болтовни и совместных посиделок.
И даже облик Уты здесь, в совсем новой обстановке, побледнел в памяти и отодвинулся так далеко, будто они не виделись уже лет десять.
Женщины часто расспрашивали Эльгу о жизни в Варягине.
Почитая родню, боярыня Ростислава жалела, что ей ни разу в жизни не привелось видеть братьев своего прославленного деда. Постепенно Эльга рассказала ей все про Плесков, про свою жизнь и даже, освоившись, тайком поведала про походы в лес к медведю.
Ростислава слушала ее, бледная от ужаса, с вытаращенными глазами.
– Чудо тебя спасло! – прошептала она потом, сжимая руку Эльги. – Божье соизволение! Ты под Господней защитой, хоть и не знаешь о том! Враг едва не поглотил тебя, а Господь послал воина – хоть он и язычник и грешник, Мистина Свенельдич, а сам не зная, божьему делу послужил!
– О ком ты? – не поняла Эльга.
– Господь наш Иисус Христос тебя уберег! Не дал над тобой поганское поругание совершить, спас чистоту твою для мужа.
– Христос? Вы разве христиане?
Эльга удивилась еще сильнее.
Она знала, что такая вера господствует в греческих землях и постепенно распространяется по миру; еще дома отец упоминал о христианах, которых встречал в Бретланде, Стране Франков и даже в Ютландии, своих родных краях.
Но здесь, в Киеве?
– Батюшка с рождения был Христовой верой просвещен. Князь моравский Ростислав, пращур наш, Христову ученью внял и просил у Рума и у греков учителей, дабы на языке моравском учили людей. И пришли тогда святые отцы, диакон Константин и монах Мефодий из города Солуни, и принесли книги, и учили моровлян слову Божию. «Хвалите Господа вси языци, похвалите Его, вси людие, яко утвердися милость Его на нас, и истина Господня пребывает во век»[9], – нараспев произнесла она, и даже глаза ее увлажнились. – Ну а потом…
Ростислава будто проснулась, и лицо ее погрустнело.
– Пришли в Моравию безбожные угры, и пала держава дедов наших. Когда батюшка с матерью своей, а моей бабкой, княгиней Святожизной, в Киев к Олегу князю прибыл, у них был священник, отец Димитрий. Да он давно умер, теперь некому людей учить, некому крестить. «Если кто не родится от воды и Духа, не может войти в Царствие Божие»[10], – так Господь говорил. Кто крещен водой и Духом, тому дана жизнь второго рождения и прощение грехов…
Ростислава осеклась, будто усомнилась: не сболтнула ли чего лишнего?
Эльга помолчала в некотором недоумении. Странно было думать, что моравский бог прислал Мистину в глухой плесковский лес, чтобы спасти ее из лап Князя-Медведя.
Откуда он про нее знал?
Какое ему было до нее дело?
«Хвалите Господа вси языци, похвалите Его, вси людие», – повторила она про себя.
В этих словах было нечто воодушевляющее, хоть и малопонятное. Это «вси людие», услышанное в Киеве, где смешались выходцы из разных родов и племен, под общим именем «русь» стремящиеся куда-то вдаль, казалось, означало гораздо больше, чем «все люди», которых она могла представить себе раньше. «Все», состоящие из кривичей, словен, полян, древлян, саварян, варягов и прочих, – были частью какой-то великой, немыслимой общности, намного превышающей род и племя не только численно, но и чем-то еще, чего она пока не понимала. Известная ей ранее плесковская русь почитала разных богов – славянских, северных, чудских и даже голядских; это не мешало ей жить в согласии, да и разница в обрядах была несущественная. И как они совместно приносили жертвы, так и, подразумевалось, боги совместно примут их. Но сейчас будто луч солнца мелькнул вдали за облаками: на миг померещилось, что некое неведомое божество широко распахивает объятия, готовое принять всех без разбору, любого рода, племени и языка. Одно – на всех, кто носит звание «человек». Здесь, в Киеве, где «все» такие разные, оно было бы вполне уместно.
Но одновременно что-то иное зацепило Эльгу в этой малопонятной речи и обратило мысли в другую сторону.
А когда она сообразила, что именно, по спине продрало морозом.
Сейчас, когда она впервые поведала вслух о своем последнем походе в лес, вылезло воспоминание, которому она все эти долгие дни старалась не давать ходу.
Когда Князь-Медведь вел ее в свое логово, они прошли через сторожу Буры-бабы. В воротах та угостила их киселем – пищей мертвых, и тем открыла дорогу в Навь.
На выходе обратно полагалось выпить живой воды и вновь присоединиться к живым.
Но ведь…
Она миновала сторожу, вися спиной вперед на плече у Мистины, при этом кричала и звала Уту… Сзади раздавались вопли и шум драки.
Казалось, лесные куды набросились на парней, осквернивших святилище! Беглецы промчались через ворота, потом неслись по лесу, ей приходилось прятать голову от хлещущих ветвей, и все же она пыталась разглядеть, бежит ли Ута сзади.
Какая там живая вода! Про нее никто и не вспомнил.
И вот получилось, что телом Эльга вышла в Явь, душой оставаясь в Нави… Никто об этом не знает, кроме нее самой.
Но… живая ли она на самом деле?
Помертвев от одной этой мысли, Эльга тайком оглядела себя, притронулась к щеке. Пальцы были холодны, но щека, как всегда, – мягкой, теплой, гладкой.
Никому не приходит на ум, что эта красивая девушка, которой все так восхищаются… принадлежит Нави.
Нет, не может быть!
Она себя чувствовала как обычно. Не хуже, чем дома.
Даже горе от потери родителей отступило и виднелось сквозь дымку, уже не причиняя прежней боли. Здесь, в Киеве, Эльга стала почти другим человеком, живущим иной жизнью. А скоро она выйдет замуж, переродится из девушки в женщину, и все прежнее окончательно утратит над нею власть.
И все же было жутко.
Как будто она часть самой себя забыла на чужой могиле – и оттуда в душу постоянно веет холодом.
Эльга думала об этом по дороге домой, на Олегову гору.
И поэтому даже не заметила, что суета на княжьем дворе сегодня превышает обычную.
Она толкнула дверь княгининой избы, думая отдохнуть в полутьме и прохладе от жары ранней осени, и вдруг остановилась: в избе звучал мужской голос. Но это был не голос князя, единственного мужчины, который мог запросто сюда войти. И не жалобщик какой – голова с поклоном, руки с подносом. Хрипловатый резкий голос не просил, а скорее бранился.
Что за ворог в избе у киевской княгини?
– А мне плевать! – услышала Эльга, открывая дверь. – Сунулись бы они ко мне, я бы им дал возмещение! Да они должны в ноги кланяться, что живыми пустили! А коли не понимают своего счастья, так я научу!
Кто-то из полутьмы порывисто шагнул к двери, едва не отпихнув Эльгу, которая собиралась войти.
Она попятилась, вытаращив глаза от изумления. Какой-то рыжеватый, невысокий парень в серой шерстяной сорочке шагнул через порог и почти столкнулся с ней; окинув ее быстрым хмурым взглядом, в котором читалось мимолетное удивление, он пошел дальше, вон со двора.
Эльга вошла, собираясь спросить, что все это значит; увидев ее, Мальфрид, стоявшая с растерянным лицом, всплеснула руками и бросилась бежать.
– Стой! – закричала она, выпрыгнув за порог. – Инги! Иди назад! Иди, кому говорю!
Эльга вышла вслед за ней во двор.
Парень, который едва не сбил ее с ног, нехотя вернулся от самых ворот.
– Инги, – примирительно произнесла Мальфрид и протянула к нему руки. – Постой! Посмотри – твоя невеста приехала!
И указала на Эльгу, застывшую, будто деревянный кап.
Парень снова взглянул на нее.
Не помня себя от изумления, Эльга взглянула на него в ответ.
Они были почти одного роста, хоть он и раздался в плечах куда шире. Обыкновенное лицо, рыжеватые брови. Голова выбрита, как это делают в летних походах, чтобы не разводить вшей и не умереть от жары под шлемом с войлочным подшлемником. Поношенная серая рубаха мало вязалась с серебряной хазарской серьгой.
Холодноватые голубые глаза.
Перед Эльгой стояла ее судьба, а она все не верила в это.
И ему, похоже, было вовсе не до нее. Два раза проехав по девушке взглядом с ног до головы и обратно, Ингвар развернулся и без единого слова вышел за ворота.
Эльга в немом изумлении обернулась к Мальфрид.
Та безнадежно махнула рукой:
– Все по той драке деревлянской… Едва приехал, а сразу… Совсем вежество забыл…
«Это он? – хотелось спросить Эльге. – Мой муж?»
Но язык не поворачивался.
А между тем сомневаться не приходилось. Это он.
Тот самый, кого ей так расхваливали.
Захотелось расплакаться от разочарования и обиды. Эльга не отдавала себе отчета, что, глядя на Мистину, который ее сватал за Ингвара, и этого последнего представляла таким же, только еще лучше, как князь лучше любого в дружине.
А он… и посмотреть не на что, так еще и…
Ей было больно от этого оценивающего взгляда, в котором сквозь досаду пробивалось равнодушие, но никак не восхищение.
Слепой он, что ли?
Вся кровь бросилась ей в лицо; к счастью, возмущение вытеснило желание заплакать, и Эльга лишь сжала зубы.
Не понравилась она ему? Поди, в уличах получше видал?
«Ну, погоди же! – мысленно крикнула она ему вслед. – Если я тебе нехороша, так и я получше найду! Недолго будет и трудиться! Женишок, кривобокий горшок! Ты еще мне поклонишься!»
Этот день Эльга запомнила надолго.
Он ее просто оглушил.
Она сидела у Мальфрид, стараясь сдержать гнев и не выложить княгине, что думает об ее неотесанном брате. И о свадьбе с этим чучелом она мечтала, как о великом счастье? Что же ей – на роду напрядено быть отдаваемой каким-то сплошь медведям криволапым?
В глубине сердца она понимала: сама виновата, слишком много напридумывала, пока ждала.
Сравнения с девичьей мечтой мало какой живой человек выдержит.
Но вина не только ее: Ингвара ей перехвалили. Воспевая его отвагу в походах, кмети и воеводы не приняли в расчет, что девушка в придачу к этому ждет еще и красоты, и вежества. И сама их добавляет тому, о ком ее учат думать хорошо. А потом встречается с тем, что есть на самом деле…
Вдруг во дворе кто-то закричал:
– Ингоревы хазар бьют! Двор разоряют, жгут конец!
Среди «жидов хазарских» были разные люди: какие-то путем торговли со всем светом нажили большие богатства, другие сами, бывало, одалживали денег у воевод, как Леви бен Ханука. Лет пять назад тот занял у Свенгельда сто ногат, но в торговой поездке на него напали еще какие-то лиходеи, убили и забрали все имущество. Брат его Яаков, поручитель, оказался должен сто ногат, которых у него не было, из-за чего Свенгельд целый год держал его в цепях, пока иудейская община не собрала ему шестьдесят серебряных монет. Тогда Свенгельд выпустил должника под поручительство самых уважаемых обитателей Козарского конца; те вручили Яакову письмо с призывом к единоверцам собрать недостающее, и с этим письмом Яаков пошел по белу свету добывать оставшиеся деньги[11].
Жили они за крепкими частоколами, а те, что побогаче, и держали наемную охрану, набранную главным образом из варягов. В Киеве жидов не любили еще со времен хазарского владычества: поляне за близость со сборщиками дани, а русы – как соперников за власть над торговыми путями. К тому же бог у них был собственный и всего один, и он запрещал им тесные отношения с иноверцами – несмотря на то что последние их поколения уже и не знали других языков, кроме словенского, и многие «жиды» носили словенские имена. Например, старейшина Козарского конца – Гостята сын Кавара Когена.
Каждая ссора приводила к оскорблениям:
– Ваши деды у наших в холопах ходили!
– А мы вашими детьми еще торговать будем!
За этим нередко следовали драки.
Дружина Ингвара только высадилась после возвращения из похода и еще находилась на пристани Подола. В ней было немало новых людей, появившихся уже после уличского похода и жаждущих такой же славы и добычи. Казалось бы, после долгого путешествия к порогам им следовало идти в баню да отдыхать, но нет. Только прослышав, что-де «жиды хазарские покушались на деревлянскую дань», молодые кмети осознали, что в их отсутствие Киев был в опасности.
Старики никуда не годны, а князь ворогов покрывает!
Ингвар вернулся с Горы недовольный: князь сказал ему, что дело решено, возмещения выплачены, ворошить старое незачем.
Мальфрид не сумела успокоить брата.
Как тут успокоишься, если старый волк Свенгельд стерпел, что у него из-под носа воруют добро, которое они вместе добыли в походе! В тот год на Деревлянь Ингвар ходил еще отроком; тогда было положено начало его славе, и посягательство на его плоды он воспринял как тяжкое оскорбление.
– Бей хазарских гадов! – орали возле лодей. – Покажем, как на наше добро пасть разевать!
Народ на пристани смеялся и подбадривал.
Когда Ингвар вернулся, толпа повалила к Козарам – кмети и всякий люд вперемешку. Купцы, заслышав шум и поняв, что это по их головы, немедленно закрыли ворота. Из дружинных домов бежали, одеваясь на ходу, «хазарские варяги» – причем часть из них в это время оказалась снаружи и теперь пробиралась в толпе нападающих, не зная, как попасть к своим.
– А ну, расступись, нам наших жидов спасать! – орал Плишка Щербина, за которым пробивались его два побрательника – савар по прозвищу Шкуродер и варяг Бьярки Кривой.
Эти трое первыми ввязались в драку перед воротами Манара – что было для них делом привычным. Ингваровы кмети приволокли с пристани бревно и стали лупить им в створки. Голоса из толпы предлагали поджечь, но кричавших унимали: в одном месте загорится, весь город снесет. К тому же кметей грела мысль о накопленных купцами богатствах – никто не хотел, чтобы они погибли в огне заодно с хозяевами.
В это время подоспела княжья дружина с самим Олегом во главе.
Он сидел на рослом жеребце под богатым хазарским седлом – из подарков, в шлеме и кольчуге, вооруженный длинным копьем, с рейнским мечом на боку. Вид у него под железным ободом шлема стал грозный и суровый – сразу сделался как-то заметнее его высокий рост и мощное сложение. Олег Моровлянин был добрый и дружелюбный человек, и в такие мгновения для многих становилось неприятным открытием, что злить его все-таки не стоит.
А Ингвар его разозлил.
Мальчишка не понимает, что такое Киев, хоть и живет здесь уже восемь лет!
Поляне, и варяги, и хазары, и кого только нет, и все друг на друга имеют длинный старый зуб. Город вспыхнет, как пук соломы, от любой искры. А от Киева, раздираемого враждой, никому нет никакого толку! Только дай здесь слабину – и поднимутся сперва деревляне, потом радимичи, да и уличи не замедлят.
Власть над Русской землей имеет смысл, только если в ней мир, способствующий торговле и всеобщему обогащению. Если Ингвару больше нравится ходить в походы и брать добычу – прекрасно, Олег и сам был рад найти занятие здоровому мужику, с которым все равно не мог расстаться. Жить на положении заложника удобно ребенку, но не мужчине восемнадцати лет.
И вот, вернувшись в Киев, он и здесь ведет себя, как в завоеванной стране!
Однако Олег не хотел смертоубийства посреди собственного стольного города.
Его кмети подоспели как раз тогда, когда Ингваровы «ребята» вынесли ворота и ворвались во двор усадьбы. Кипела драка между ними и хозяйскими варягами, но по большей части без железа: в ход шли кулаки, палки, древки, даже дрова из разбросанной поленницы.
Все здесь были слишком хорошо знакомы между собой и в мирное время постоянно вместе пили.
Кстати, учитывая это, хазары уже не первый год просили у Олега разрешения нанимать охрану из своих, но на это князь мудро согласия не давал.
Уже взломали две-три клети; не занятые дракой вовсю тащили что нашли: полотно, шкуры, катили бочонки меда, волокли головы воска.
Более дорогие товары хранились у Манара в доме. Скотина была на лугу, но где-то уже поймали челядинок: раздавался женский визг…
Княжеские кмети пришли на помощь хозяйским: разогнав щитами и древками копий толпу перед воротами, напали на буянов сзади.
Били рукоятями топоров, а иной раз и обухами, теснили щитами, отделяя от оборонявшихся и выгоняя прочь. Сам Олег подъехал к дверям дома, где внутри сидел насмерть перепуганный хозяин с домочадцами, а снаружи, возле брошенного бревна, которым высаживали дверь, дрался обломанным копьем сам Ингвар – раскрасневшийся, взмокший, уже в разорванной рубахе.
– Отзови своих упырей! – гневно крикнул ему Олег. – Вели всем назад! А то перебью без жалости! Забыл, кто ты сам здесь!
Двое его кметей зажали Ингвара щитами, притиснув к стене, и вынудили прекратить драку.
При виде князя и его людей Ингваровы драчуны притихли: многие уже лежали на земле, и на каждом сидел верхом кто-то из княжьих.
Двор был разгромлен, клети разграблены, уцелел только хозяйский дом.
Когда все нападавшие были выгнаны за ворота, – а частью выброшены оглушенными, с разбитыми головами, – Олег оставил человек двадцать своих людей постеречь, пока все не успокоится и Манарова челядь не починит ворота, а сам вернулся домой.
Но до ночи на Олеговой горе не было покоя. Князь ругался, не сдерживаясь, что для такого мягкого человека было явлением небывалым и пугало сильнее, чем привычные приступы гнева у буянов.
Мальфрид рыдала, умоляя его простить ее непутевого брата.
Но и она признавала, что для заложника Инги уж слишком много себе позволяет!
Олег велел сыскать Ингвара и привести к нему. Тот явился со Свенгельдом и Мистиной.
Мальфрид и Эльга не решались даже подойти к дверям, откуда неслась вперемешку брань на словенском, северном и даже хазарском языках. Обе вздрагивали, ожидая, что вот-вот дойдет до драки. Доносились обрывочные выкрики:
– Это моя земля, йотуна мать! Это я ее захватил для тебя!
– Твои у тебя только портки на заднице! Ты дышишь, пока я тебе позволяю! Захочу – пойдешь заходы скрести! Я пытаюсь собрать из этих кусков державу, которую будут уважать, а ты, как волк в стаде, рвешь людей в моем же стольном городе!
– Это не люди! Это воры и подлецы!
– Поищи себе других, получше, и делай с ними чего хочешь!
В конце концов Свенгельд и Честонег развели их по разным углам и постарались успокоить.
Свара и драка в княжеском семействе не нужны были никому: по Киеву уже ползали слухи, в десять раз преувеличившие беду. А ведь даже без убитых обошлось – так, пустяки: ссадины, вывихи, переломы. Жидов Олег велел пока к себе не пускать: сейчас у него не было сил разбираться еще и с ними.
Потом Свенгельд забрал воспитанника к себе, пообещав князю, что никаких бесчинств больше не будет.
Ну, хоть сегодня – точно…
Олег был рад сбыть с глаз долой шурина, чтобы они оба получили время успокоиться и остыть.
– Он погорячился! – уверяла мужа расстроенная Мальфрид, когда он пришел к ней в избу. – Он больше не будет! У него теперь найдутся другие дела, он забудет об этих хазарах! У него же невеста! Свадьба!
Олег оглянулся на девушку.
Эльга сидела на укладке в дальнем углу, суровая и хмурая.
Князь даже жене не признался, как потрясло его это происшествие. Волчонок вырос и показывает зубы. Если сейчас, на положении отрока, Ингвар так себя ведет, что будет, когда он обзаведется женой и всеми правами взрослого мужчины? Олега и раньше посещали смутные опасения на этот счет. Племя полян привыкло к смене князей – кто сильнее, тот для них и власть. Киев боготворит покойного Одда Хельги, родство с ним дает в глазах киевлян право на княжий стол.
Олег-младший приходится Вещему внуком, а Эльга – племянницей; будучи моложе Олега, по счету поколений она старше.
Если Ингвар женится на ней, то станет старше Олега! И их права на наследие покойного, самое малое, уравняются. Раньше, пока Ингвар был всего лишь отроком, младшим братом его жены, Олег не задумывался об этом. Но теперь понял, что с родичем-заложником надо считаться.
Конечно, князь в стольном городе – не репа на грядке, так просто не выдернешь. Но у каждого из них есть свои сторонники, и дружина Ингвара уже показала, что способна на дело. Пусть они молоды, горячи и глупы – все разломать и у них ума хватит. Спохватятся, когда взамен разломанного надо будет строить. Пока удаль Ингвара сдерживает Свенгельд. Но вот уж на чью преданность Олег никогда и не думал полагаться: старый варяг всегда был человеком Ульва волховецкого, а теперь стал человеком его сына. Пока он считает нужным гасить вражду между родичами. А если его мнение переменится…
– Ну, как тебе жених? – Олег подошел к Эльге и остановился, уперев руки в бока. – Глянулся? Удалой молодец, силушка так по жилочкам и переливается…
В голосе его слышалась издевка.
– Рановато о свадьбе думать. – Эльга подняла на него хмурый взгляд. – Я поставила условие: мой жених должен отмстить за моего отца. Мистина обещал мне это от имени Ингвара, и потому я предпочла его, а не князя Дивислава. И я не могу выходить замуж без приданого, а мое приданое захвачено зоричами. Прежде чем о свадьбе говорить, надо отомстить за отца и вернуть мое добро. Коли у него так уж силушка по жилочкам переливается, вот и будет куда ее девать.
– Ох, родная! – Олег усмехнулся не то с горечью, не то с облегчением. – Телом ты девица, а умна, как зрелый муж! А я как раз думал, что с ним делать. Вот пусть и отправляется за твоим приданым. Таких невест, как ты, задаром не дают!
– Что вы придумали? – К ним подошла Мальфрид. – Мы же условились: будет полюдье, будет приданое…
– Хочу мое приданое, с моими рушниками родовыми, – с мрачной решимостью заявила Эльга. – За такого молодца абы с чем идти нельзя! А если он такой боевитый, приданое из Зорин-городка добыть или яйцо со дна морского – ему дело нетрудное.
Они с Олегом обменялись взглядами и ощутили, что поняли друг друга.
Эльга, неприятно пораженная первыми встречами с женихом, теперь так же стремилась отложить свадьбу – чтобы хоть немного обвыкнуть и разобраться, – как раньше стремилась ее приблизить.
Олегу тоже требовалось время, чтобы решить, как быть с беспокойным родичем, да и не жаждал он теперь помочь Ингвару укрепить родство с Вещим. Эльга, как он осознал, была слишком сильным оружием, чтобы вкладывать его в столь ненадежные руки. Благоразумие невесты пришлось ему как нельзя кстати. К тому же ее вполне законные требования давали средство убрать Ингвара и его дружину из города. Здесь все утихнет, а он и его отроки найдут другое применение своей бурлящей удали.
Олег даже повеселел – так все хорошо складывалось. Недовольна осталась Мальфрид: она понимала, что эта отсрочка не на руку ее брату.
Но Олег и девушка, обретя поддержку друг у друга, не отступали.
Днем Эльга держалась твердо и стояла на своем: обещанная месть за отца и приданое, иначе – никакой свадьбы. Тайком от жены Олег даже намекнул, что вообще-то Ингвар – не единственный на свете жених для такой знатной и красивой невесты. Пока Эльга пропустила намек мимо ушей, но, ворочаясь ночью без сна, подумала: уж не зря ли она отказалась от Дивислава?
Прельстилась, глупая, россказнями о добром молодце, которого не видела в глаза…
Но менять что-то было поздно.
Один раз ее пообещал Ингвару покойный отец, один раз она согласилась выйти за него сама, уже будучи взрослой. И не свернуть теперь на попятный, пока сам жених не отказался от оговоренных условий.
Через три дня, когда страсти улеглись и Манаровы ворота починили, Олег послал к Свенгельду сказать, что приглашает княжича к себе.
Велел добавить, что речь пойдет о женитьбе.
Позвали всю родню, киевскую и плесковскую, и самых знатных варягов из старой дружины Вещего. Повод был более чем значительный: сегодня объявят о скорой свадьбе, соединяющей два знатнейших варяжских рода на Восточном пути.
Мальфрид ради такого случая надела варяжское платье из желтовато-зеленой тонкой шерсти и такую же шаль с бахромой и вышивкой. Хенгерок из темно-красного шелка с вышивкой золотыми нитями в их обрамлении казался спелой ягодой среди листвы.
Для Эльги она тоже выбрала варяжское платье из когда-то привезенных с собой – песочного цвета с голубой вышивкой и серовато-зеленый хенгерок, отделанный узкими полосками златотканой тесьмы и коричневого шелка. На плечах ее сияли две позолоченные узорные застежки размером с детскую ладонь, а на висках блестели подвешенные к красному шелковому очелью серебряные заушницы.
В Киеве многие дочери состоятельных варягов носили северное платье с застежками и заушницы – наследство материнского семейства, словно соединяя красоту и богатство двух сливающихся народов.
Но больше всего в уборе невесты притягивало взгляды греческое ожерелье из смарагда и жемчуга.
Увидев его, Мистина тут же подмигнул Ингвару: если невеста надела его дар, значит, не все потеряно!
Но Ингвар не улыбнулся в ответ. Мысли о скорой женитьбе пока что причиняли ему больше досады, чем радости. Он уже знал, что из-за нее ему опять придется уезжать из Киева, далеко и надолго.
Поостыв после драки в Козарском конце, он в глубине души и рад был уже уехать, пока его выходка не забудется, но понимал это как свое поражение и оттого злился.
Мужчины тоже надели лучшие цветные одежды и хазарские кафтаны с поперечными полосками тесьмы на груди и рядом серебряных пуговок от ворота до пояса.
Собирались в княжеской гриднице, но даже здесь едва хватило места для всех почетных гостей.
Мальфрид и Эльгу обступили родственницы, такие же нарядные. И Эльга ясно ощутила, что в этом окружении становится чем-то гораздо большим, чем была ранее. Все эти знатные, красиво одетые, бывавшие в самом Царьграде люди собрались здесь ради нее, чтобы засвидетельствовать, как племянницу плесковского князя отдают за будущего князя Киева…
«То есть Волховца!» – мысленно одернула она себя и ощутила нечто вроде разочарования.
Ей все никак не удавалось утвердиться в мысли, что жить с мужем большую часть жизни ей придется не здесь, где она впервые его увидела и где свадебный рушник окончательно соединит их.
Ах, если бы ее сейчас видела Ута!
И отец! Но отец, может быть, и видит, подумала Эльга, мельком глянув в закопченную кровлю.
Ингвар сегодня выглядел получше прежнего: в кафтане темно-красного шелка с синим узором, с широкой полосой синего шелка и серебряной тесьмы на груди. Даже волосы на выбритой голове чуточку отросли: совсем немного, но уже было видно, что они темно-русые с рыжиной. На шее блестела толстая серебряная цепь с узорным «молоточком Тора», как носили многие варяги, в том числе – отец и дядя Эльги.
Совсем другое дело – это был уже не тот распаренный, красный и злобный бродяга с черными руками и в серой рваной рубахе, будто холоп, таскающий мешки на причале!
Он старался держаться невозмутимо, но Эльга видела, что в душе его еще не утихли досада и отчасти стыд.
Первым начал речь боярин Гремислав:
– Исполняя уговор, без малого десять лет назад заключенный между родичем моим, Велегором, и князем Улебом из Волховца, привезли мы старшую дочь Велегорову, именем Эльгу, в жены Ингорю, Улебову сыну…
Он говорил так, будто обручение не прерывалось на несколько лет и Эльгу не собирались отдать совсем другому мужу.
Многие из присутствующих знали об этом, но все делали вид, будто ничего такого не было. Почти все взгляды не отрывались от Эльги: сегодня она казалась еще красивее, чем обычно.
Даже Ингвар сделался не таким хмурым, то и дело поглядывая на нее со все возрастающим любопытством.
Она же прикидывалась, будто не замечает ни этих взглядов, ни самого жениха.
– Только послали нам боги две беды, – продолжал Гремислав. – Первая беда: убит лиходеями на Нарове родич мой Велегор. Вторая беда: приданое невесты нашей забрали зоричи с князем своим Дивиславом. И пока эти две беды не избудем, свадьбы нам не играть. Что скажешь, Улебович? Обручали тебя еще детищем, а теперь муж требуется.
– Ну, что сказать?
Ингвар, непривычный говорить в таких почтенных собраниях, по старой детской привычке покосился на Свенгельда, но тот молчал с невозмутимым видом.
Жениться-то воспитанник будет без его помощи.
– Избудем беды ваши. Надо приданое – привезу приданое. Насчет мести – сходим, поглядим, но если они с Наровы ушли уже, то где ж мне искать?
– Значит, берешься исполнить условия родичей невесты? – спросил Олег у шурина.
– Берусь.
Ингвар взглянул на Эльгу.
Тут уж она не могла не послать ему ответного взгляда.
– Только поспеши, – со вздохом попросила брата Мальфрид. – Не томи девицу. Если бы до Коляды успеть – тут бы и свадьбу…
Кое-кто переглянулся с усмешкой, Эльга приняла еще более независимый вид: пусть никто не думает, будто она уж очень «томится»!
Но бояре смеялись не над ней: всем уже было очевидно, что томиться и с нетерпением ждать свадьбы будет кое-кто другой.
Яркое варяжское платье и драгоценные уборы подчеркивали красоту Эльги – уже созревшую, но еще юную и свежую. Глаза как смарагды, зубы как жемчужины, румянец, будто нежный цвет шиповника, светло-русая коса, гладкой блестящей змеей сбегающая по плечу ниже пояса – казалось, сама Солнцева Дева не могла бы быть прекраснее!
А еще эти глаза напоминали старикам лучшие дни их минувшей юности. Даль времен стерла все неприятные черты Вещего: упрямство и непредсказуемость, хитрость на грани бесстыдства…
В памяти осталась только его удаль, смелость, удачливость, озарившая их молодость золотым светом побед.
Старые хирдманы искали его продолжение во внуке, но не нашли: Олег-младший предпочитал обустраивать уже завоеванное, а не раздвигать мечом державу до самого небокрая, что всегда убегает…
А теперь перед ними словно стоял залог его возвращения!
Они вернутся, эти золотые времена юности и победоносных походов! Вернутся, если новый молодой вождь завладеет этой золотисто-шелковой девой, глазами которой им улыбался откуда-то издалека их горячо любимый покойный вождь…
Начался пир.
Мальфрид велела подавать на стол, гости рассаживались по старшинству. Когда все пиво было налито, а угощение подано, Эльга вышла из гридницы и направилась в избу княгини: ей нужно было передохнуть. У входа окунув руки в лохань, она села на свою укладку и прижала влажные ладони к пылающим щекам.
Сердце билось, ее наполняло воодушевление, от которого хотелось петь. Она не желала показывать гостям свое сияющее лицо: еще вообразят, что она ждет-не дождется свадьбы!
Но нет, дело было не в свадьбе. Перед нею вдруг открылась какая-то сияющая дорога, но Эльга не могла сообразить, куда она ведет. Взгляды всех этих людей, зрелых мужей и опытных, прославленных воинов не просто выражали восхищение – они словно бы ожидали от нее чего-то, подталкивали на эту дорогу и обещали пойти следом.
Здесь ее ждало будущее, превышавшее всякое воображение.
Нечто иное, чем обычные ожидания невест, даже знатных: муж, хозяйство, дети… Челядь, скотина, припасы, вечное прядение и тканье, колыбельные песни…
Но что же?
Скрипнула и хлопнула дверь, но Эльга даже не обернулась.
Чужой сюда не войдет, значит, это или Мальфрид, или кто-то из челяди.
Но позади было тихо. А потом она всей кожей ощутила, что прямо у нее за спиной кто-то есть.
Чья-то рука коснулась сзади ее плеча. Она развернулась и вскочила.
Перед нею стоял Ингвар.
Его темно-красный кафтан с синим шелком был расстегнут до пояса – вечер ранней осени выдался почти жарким, и в наполненной людьми гриднице было душновато. На Эльгу повеяло теплым запахом его тела, и она отшатнулась.
– Чего ты здесь? – вырвалось у нее.
Наверное, Мальфрид разрешила ему зайти. А может, он и не спрашивал.
– Не бойся. Не укушу.
– Это кто же боится? – с вызовом откликнулась Эльга. – Зубов не хватит!
На миг она пожалела об этих словах: у него и правда не хватало двух зубов с правой стороны, одного сверху, другого снизу.
Ну и пусть!
– На тебя – хватит! – не смущаясь, ответил он, и она уловила угрозу: не в голосе, а просто в ощущении его внутренней силы.
Впервые Эльга видела его так близко.
Ссадина над бровью, ссадина на подбородке, привычно сбитые костяшки пальцев – следы недавней драки в Козарском конце. Шрам галочкой на переносице, заходящий на бровь – уже старый, побелевший. Еще один, такой же, виден белой чертой надо лбом, как просека в едва отросших после бритья волосах. Нос немного свернут на сторону, но не так сильно, как у Мистины: заметно, только если приглядеться.
Эльга отметила, что шрамы и ссадины идут этому лицу куда больше, чем цветной шелк и серебротканая тесьма.
– Чего ты пришел?
– Ты… ты зачем за приданым посылаешь: чтобы быть свадьбе или чтобы меня с глаз долой?
При своей неотесанности он был вовсе не глуп – заметил, какими глазами невеста смотрела на него при первой встрече.
– Ты знаешь норрёна мол[12]? – вместо ответа спросила Эльга.
– Йа висст[13], – несколько растерянно отозвался Ингвар. – А тебе к чему?
– Думала, ты здесь всю жизнь прожил, наверное, забыл. А в Волховце и в Ладоге сплошь варяги – там без него нельзя.
– Тебя ведь ладили за другого… за Дивислава зоричского. – Ингвар не пожелал уходить от разговора, ради которого явился. – Потому он и приданое перехватил. Ты чью голову-то хочешь – его или мою?
– Нужны мне очень ваши головы! – Эльга усмехнулась и повела плечом, дескать, вот безделица. – Плесковским моим родичам Дивислав больше глянулся: на дороге в Киев сидит. От Волховца нам толку мало: выход в море у нас свой есть, через Нарову…
– Где лиходеи засели?
– Вот их головы я и хочу. Пока за моего отца месть свершена не будет – ни за кого не пойду.
Все это время Эльга невольно пятилась, а Ингвар следовал за ней – кажется, тоже невольно, просто по привычке преследовать убегающую добычу.
Осознав, что уже прочно загнана в угол и выход на волю перекрыт темно-красным кафтаном с синей отделкой и серебряной тесьмой, Эльга вдруг сама сделала маленький шаг к Ингвару и положила ладони на его широкую грудь.
Он слегка переменился в лице: не ждал этого, но тут же почти безотчетно обнял ее обеими руками за пояс.
Однако она крутанулась вокруг его бока, выскользнула из угла, убрала руки и отскочила, подавляя смех. Растерянность на его лице ее позабавила.
– И без приданого свадьбе моей не бывать! – пропела Эльга, отходя к оконцу. – Я ведь тебе не полонянка! У меня одних рушников браных – сорок штук!
– Кожух, что ли, шить из них! – с досадой ответил Ингвар, понимая, что его дразнят, как дурачка. – Я вот тебе сорок шкур лиходеев ваших привезу!
– Привезешь – тогда пойду за тебя.
– Слово?
Ингвар вдруг протянул ей руку ладонью вверх, словно предлагал заключить соглашение.
Эльга опустила взгляд к его широкой мозолистой ладони. Обручение и его подтверждение, сделанное родичами, – это одно. Но он хотел знать, идет ли она за него доброй волей.
– Моего слова хочешь девичьего?
Она выразительно и насмешливо взглянула на жениха, не торопясь коснуться его руки.
– А нет – давай хоть поцелуемся!
Ингвар снова подался к ней и попытался схватить за плечи; но настороженная Эльга ожидала выпада и ловко увернулась, а потом бросилась к двери.
Больше она не даст загнать себя в угол!
Со всех ног она пронеслась через двор и ворвалась в гридницу.
Здесь уже вовсю шумел пир: расстегнув дорогие кафтаны до пояса, воеводы, бояре и кмети ели, пили, пихали друг друга обглоданными костями, загребали прямо горстью кислую капусту из широкого расписного блюда; кто-то уже пел походные песни.
В увлечении веселья Эльгу заметили не сразу. Она прошла к Мальфрид и взяла у нее кувшин, чтобы заново обнести воевод пивом.
Она надеялась, что среди этих раскрасневшихся лиц ее румянец не бросится в глаза.
Хотелось смеяться, будто она победила в трудной ярильской игре, требующей скорости и ловкости.
«Поцелуемся!» Ага, сейчас! Укладки привези сперва!
Но не сказать, чтобы мысль о поцелуе показалась ей неприятной.
Конечно, Ингвар не красавец: и росточком не вышел, и лицо простецкое, брови рыжеватые и зубов недочет, но…
И в чертах его, и в линии чуть покатых широких плеч было что-то привлекательное. Рохлей его не назовешь.
А что не справился с ней – так это кто еще сумеет!
Настали Дожинки…
Казалось бы, они и раньше приходили каждую осень, но за этот год все так переменилось, что и Дожинки сделались для меня чем-то совершенно новым. Даже не за год – за несколько месяцев, за минувшее лето.
Могла ли я год назад вообразить, что не просто выйду в следующий раз на ниву с серпом в руке – но выйду во главе целой толпы женщин куда старше меня, разодетых в лучшие наряды!
Что это я, совместно с мужем-князем, буду свивать Велесов сноп, одевать его в «божью сорочку», которую сама сшила и украсила, понесу его в святилище, возложу на камень, обрызгаю медом и трижды подниму чашу с зерном к ликам богов за целое племя зоричей!
Никак я не сумела бы этого вообразить. В самых вольных полетах мысли я могла увидеть, как нечто подобное делает Эльга, а я лишь стою рядом, подаю ей чаши или соломенные жгуты…
Благо, мы всему учились вместе, и я знала, что как делать.
И все же первые месяцы замужества я тогда прожила как во сне.
Мне повезло, что боги послали мне Держану.
Это была хорошая женщина. Другая на ее месте, за много лет привыкнув быть хозяйкой в этом доме и ревнуя память сестры, постаралась бы испортить мне жизнь, навести остуду между мной и мужем, а то и вовсе сжить со свету. Она ведь годилась мне в матери и, конечно, как княжья дочь и вдова, ведала очень много.
Но мы жили дружно. Я охотно спрашивала у нее совета во всем, чего сама пока не знала, а она наставляла меня ласково, как родная мать.
А ведь я сделалась не просто женой, но и княгиней, то есть матерью целого племени!
И пятерых детей Дивислава от первой жены.
Из них старший, Зоряшка, был всего на год меня моложе – вздумай Дивислав взять меня за него, а не за себя, никто бы не удивился. Не я наставляла его, а он учил меня, из каких родов слагается племя зоричей и чем они славны. Он был толковый отрок. Мы с Держаной порой мечтали, как через год-другой подберем ему невесту…
Видела бы меня Эльга!
Вот бы она удивилась, глядя, как я сижу в обчине на почетном месте во главе стола, в красном уборе молодухи, в шелку и серебре, а седые старики именуют меня «матушкой»!
И, как ни удивительно, у меня все получалось. Когда они смотрели на меня, я чувствовала, что через этих людей, своих старейшин, земля зоричей чествует во мне свою ниву, в эти дни украшенную сотнями Велесовых снопов.
И когда ночами после этих пиров мой муж трудился надо мной, я ощущала себя этой землей, в которую Перун небесный вливает силу взамен растраченной на урожай…
Я не родилась княгиней, но сумела ею стать.
Это произошло, когда мой муж бросил в мою ниву свое семя и в моих жилах потекла его княжеская кровь.
На дожиночных пирах меня огорчало только одно. Я так надеялась, что в новолуние на моей сорочке не появится пятен и к Яриле Молодому следующей весны я смогу принести мужу моего собственного ребенка.
Всякая молодуха, пуще смерти боясь славы неплодной, надеется, что понесет прямо сразу и ей не придется ходить в красных мохрах[14] годами, вызывая косые, жалостливые и презрительные взгляды.
Я, как могла, скрывала свое огорчение. Меня тревожило: а вдруг я так никогда и не понесу, потому что боги накажут меня за… ну, за все то, что случилось в лесу?
Еще рано было думать об этом «никогда», но я думала.
Но после дожиночных пиров все получилось.
Муж бросил в меня озимое зерно, и оно могло бы прорасти.
Однако судьба прошлась по нему, будто ярый вепрь, и растоптала, еще пока даже я сама ничего не успела понять…
Когда я теперь вспоминаю то время, оно кажется мне долгим, очень долгим.
Я даже не успела привыкнуть к этой совершенно новой жизни – в новом месте, с новыми людьми, сама я стала иной, – и потому всякий день был долог и насыщен.
Даже не верится, что все уложилось в какие-то несколько месяцев. Князь Дивислав был добрым и достойным человеком и всегда обращался со мной ласково. Ни разу не дал мне понять, что столько лет собирался взять в жены другую девушку – и знатнее, и красивее меня. Ни разу он, казалось, даже не вспомнил, что я вовсе не княжья внучка.
Я потом поняла, зачем он в день моего появления в Зорин-городке спрашивал, пойду ли я за него. Эльгу ему обещал ее отец, и она от него сбежала. Попросив моего согласия, он хотел быть уверен, что я не поступлю так же.
И я… да, я сдержала слово.
От меня зависело немногое, совсем ничего, но я не покинула моего мужа.
Только это меня и утешает, когда я вспоминаю все, что произошло.
Я могла бы прожить с ним счастливую жизнь.
Но, видать, это была не моя судьба, а не свое надолго удержать никогда не получится.
Это была самая добрая, всеми любимая пора года: урожай убран, закрома полны, столы обильны. К весне все истомятся от печного дыма и захочется на волю, а сейчас работники лежат по своим избам, давая отдых спинам и рукам после жатвы. Женщины мочат и сушат льны, ожидая скорых супрядок. Молодухи, уведенные мужьями с Ярилиных игрищ, уже прячут под завесками округлившиеся чрева, девочки-доросточки впервые входят на девичьи павечерницы взамен ушедших в молодухи, а девки-невесты, кого отцы отдают по уговору, сидят на укладках и с нетерпением поглядывают в оконца…
Но к нам приехали другие сваты.
Те, кого заслала сама Мара – Черная Невеста.
И не меда стоялого она в чаши наливала, а крови горячей. И не на снопах ячменных она постель женихам молодым стелила, а на краде огненной. И не куньим одеялом укрывала, а покровом матери сырой земли…
Как хорошо, что уже было убрано все жито!
Если бы они пришли раньше и сожгли поля, насколько больше людей не пережили бы ту зиму!
Однажды, когда мы уже собирались мять вымоченный и высушенный лен, в Зорин-городок примчался верхом отрок из Моиславлей веси. И сказал, задыхаясь: им передали весть от Любонежичей – по Ловати идет на лодьях войско киевского князя Ингоря. Направляясь, конечно же, сюда.
Я так и замерла с охапкой льняных стеблей в руках.
Все это время я надеялась, даже почти верила, что вуй Гремята и Бельша уладят дело в Киеве: ведь Ингвар получил невесту, которую хотел!
И я получила самого лучшего мужа, о каком могла мечтать, поэтому мне хотелось верить, что теперь мы будем жить-поживать да детей наживать…
Но по тому, как переменилось лицо мужа при этом известии, я поняла, что он в наше мирное будущее не слишком верил.
Он не удивился.
– Рассылайте гонцов, собирайте людей! – Дивислав нашел глазами кого-то из своих кметей и кивнул.
– Но может быть… – Я подошла к нему, прижимая льняной сноп к груди: не могла бросить наземь, но и не соображала, куда деть. – Он хочет только пройти на Нарову – ему ведь нужно отомстить…
Я уже рассказала мужу обо всем, что предваряло бегство Эльги.
Он знал: Ингвару, прежде чем взять ее в жены, придется найти тех викингов, что убили Вальгарда.
Теперь я сообразила: Дивислав молчал, когда я говорила об этом. А я по глупости думала, что он просто не придает этому значения: ведь месть за отца Эльги взял на себя другой человек, а меня отдавали замуж родичи матери и не ставили такого условия.
– Он-то хочет пройти, – Дивислав кивнул, – но я-то не хочу его пропускать.
Я услышала в его голосе сожаление, но и уверенность, что иначе нельзя.
Он понимал, что это огорчит меня, но ничего не мог изменить.
Я понимала его.
Ингвар нанес ему тяжкое оскорбление, похитив невесту, которую ему обещали по уговору. Дивислав никак не мог ради собственной чести позволить тому пройти на Нарову, выполнить условие и сыграть свадьбу.
А ведь и Ингвар никак не мог обойти Зорин-городок! Ему нужно было получить назад приданое Эльги.
Их столкновение было неизбежно, они оба это знали, и оба желали исполнить свой долг перед предками, родом и дружиной.
Разве я могла его отговаривать?
Нет, ведь честь рода была и мне дороже всего.
Да и не стал бы он меня слушать.
По расчетам мужа, у нас было еще два-три дня в запасе. Разослали гонцов ко всем гнездам, кого можно было успеть оповестить за это время.
Тем временем разошелся слух, будто не то киевский князь, не то хазарский каган идет сюда с войском, чтобы отнять у Дивислава жену молодую – меня!
Я не знала, плакать или смеяться.
Люди все перепутали, но что за важность? Полевые труды были закончены, и мужчины охотно брались за топоры «ради княгини молодой». Я была так благодарна этим людям, которые готовы были отдать жизнь, как им казалось, за меня, и так жалела их, кому пришлось покинуть дома в такое время. Идти на бой вместо того, чтобы пить пиво на свадьбах дочерей…
Вои стали собираться почти сразу.
Зрелые мужи, безусые отроки – они шли к нам с топорами, наскоро пересаженными на более длинные рукояти, с рогатинами, с охотничьими луками, в серых валяных свитах и таких же шапках.
Скоро все избы в Зорин-городке были заполнены, как и в ближних трех весях. Я сбивалась с ног. У меня было столько дела в эти дни – всех накормить, устроить, выдать из одежды кому чего не хватает, – что даже было некогда бояться.
Мужа я почти не видела: выстроив вновь прибывших на пустыре под воротами, он обучал их премудростям ратного строя.
Даже поспать немного, когда уже совсем нет сил, мы с ним приходили в разное время.
Держана в ту пору хворала: кашляла, ее лихорадило. Я боялась, что не успею ходить еще и за ней, но она сама встала и принялась помогать мне. Она исхитрялась и заниматься детьми, и присматривать за нашим хозяйством, пока я кормила ратников. Что бы я делала без нее!
И в те дни, и потом…
Вскоре стало известно, что Ингвар прибыл.
Его дружина высадилась на берег поодаль от Зорин-городка и заняла Хотилову весь: Хотиловичи, прибежав к нам со всеми домочадцами, и передали эту новость.
А еще они передали слова князя Ингвара: Дивислав должен доставить ему все приданое Велегоровой дочери и поклясться беспрепятственно пропустить его к Будгощу и обратно. Иначе предлагал биться завтра на заре, на лугу между нами и Хотиловичами.
Ответ был очевиден.
Думаю, на согласие Ингвар и не рассчитывал.
А я была близка к отчаянию.
Совсем недавно, в своей девичьей жизни, я любила Эльгу больше всех на свете. И она, я думаю, любила меня.
Прошло так мало времени, и вот наши судьбы пересеклись таким ужасным образом!
Мне все казалось, что ради нашей с ней любви должен быть какой-то выход. Но я не находила этого выхода и чувствовала себя загнанной в темный угол.
И на следующее утро дружины вышли в поле.
Дивислав не спал, всю ночь бродил по боевому ходу вдоль стены. Дозорные стояли, но я знаю, что людям было приятно в эту тревожную пору видеть князя рядом.
Раз я тоже вышла к нему.
На лугу между нами и рекой виднелись костры ополчения: там ночевали те, кому не хватило места под крышей.
Осенняя ночь была прохладна, но земля, накопившая за лето столько солнечного тепла, еще отдавала его: осенью спать на земле куда лучше, чем весной.
Я знала: завтра кто-то ляжет наземь, чтобы заснуть навеки… и многие… и те, кого я успела узнать, с кем почти сжилась…
Муж велел мне идти домой, но я не могла уснуть до самого рассвета и сидела возле маленьких, отгоняя пугающие образы завтрашнего дня.
Держана так кашляла, что, казалось, у нее вот-вот сердце выскочит.
А ночь была так непроглядно темна, как бывает только осенью…
Мне сейчас кажется, что это была самая долгая и томительная ночь моей жизни. Мне было не страшно, как у Буры-бабы, но тоскливо до изнеможения. Вокруг меня были люди, их было даже больше обычного, но мне казалось, что я одна в дремучем лесу.
Не в силах дождаться рассвета, я еще с ночи подняла челядинок. Печи были слишком малы, и мы варили кашу в самых больших обчинных котлах на кострах. От их света люди стали просыпаться, и когда вышел Дивислав, уже все было готово и ратники по очереди подходили ко мне с мисками. Он тоже подошел, но покачал головой, когда я предложила ему каши. Он только обнял меня, прижался лицом к моему убрусу и отошел.
Что-то сказал при этом, но я не разобрала…
Я бегло оглянулась на него: в шлеме и кольчуге, с рейнским мечом у пояса он стал каким-то чужим, я с трудом его узнавала.
Сердце защемило от этого ощущения чуждости…
Я поняла, что он ступил в такие пределы, куда мне нет за ним ходу.
Но все же я еще надеялась, что он вернется ко мне. Даже не надеялась, а просто думала, что так будет, потому что думать иначе было бы слишком страшно.
Наконец дружина и вои ушли.
Поля битвы от нас не было видно, но мы все – женщины и челядь – стояли на забороле, чтобы смотреть на дорогу…
Обе рати выстроились на луговине при первых проблесках рассвета.
У Дивислава ратников было больше раза в полтора, и среди них имелось довольно много лучников.
Зато у Ингваровой дружины была выучка и опыт. Кроме собственных хирдманов, он привел из Киева еще столько же всякого драчливого сброда, вооруженного кто чем. После каждого похода его слава росла, становилось все больше желающих к нему присоединиться, но на стойкость и выучку этих людей он пока не мог полагаться.
С Ингваром был и Свенгельд, который один стоил сотни: даже не собственной доблестью, а тем, что как никто другой умел быстро превращать драчливый сброд в годное войско. Поэтому Ингвар разделил своих людей на две части: в одной – он сам со своей дружиной и стягом, а в другой – Свенгельд с частью собственных людей и теми, кого набрали в Киеве.
Строй зоричей перегородил почти все поле, опираясь одним плечом об опушку леса, а другим – о прибрежный ракитник. Люди стояли неровной темной стеной, над которой поднимались наконечники копий. Над рядами голов выделялся «ратный чур»: деревянное изображение Перуна, одетое в алую шелковую сорочку и поднятое на высоком шесте, оно грозно взирало на вражьи полки. Возле него стоял сам князь Дивислав, а вокруг него тускло поблескивали шлемы ближней дружины, которую он набрал из соплеменников, лет десять назад отказавшись от услуг руси.
Вот князь вскинул руку с обнаженным клинком, давая знак к началу боя.
Тут же защелкали тетивы многочисленных луков, стрелы рассерженным роем устремились к воинству киевлян.
С той стороны долетел рев боевого рога.
Отряды Ингваровой рати качнулись и двинулись вперед, по-северному прикрывшись плотной стеной щитов. Выдерживая строй, бойцы шли быстрым шагом, чтобы скорее схватиться с противником накоротке. Стрелы по большей части вонзались в крепкое дерево щитов, в землю, но иногда находили цель; кто-то падал, но щиты тут же смыкались и хирдманы шли дальше.
Зоричи ждали врагов, не трогаясь с места.
Вот рати разделяют двадцать шагов, десять, пять…
Дружина Игоря обрушилась на левое крыло ополчения. Хрустнули щиты, воздух наполнился обычным шумом битвы: лязг железа, грохот и низкий рев десятков яростных глоток.
Кто хоть раз это услышал – не спутает ни с чем.
Строй зоричей прогнулся, будто в него ударили огромным кулаком, отступил на шаг, потом еще. Мечи, топоры, копья так и мелькали!
Люди валились наземь с обеих сторон, но более опытная и сплоченная киевская дружина упорно лезла вперед.
Вот строй зоричей не вынес напора и разорвался: одни отхлынули к опушке, другие теснились к середине, где возвышался «ратный чур».
Слева боевой порядок родовичей растянулся куда длиннее киевского, и люди Дивислава со всех сторон навалились на Свенельда с его людьми, мало не окружив.
Но тот не сплоховал.
Лучших воинов хитрый воевода поставил в тылу: они прикрывали спину свеженабранным и могли подтолкнуть их вперед, если понадобится.
Накануне они с Игорем долго спорили, обсуждая грядущую битву, и теперь стало видно, что замысел Свенгельда оправдывает себя. Воеводская дружина сражалась в кольце неприятеля и связывала целую толпу зоричей.
Когда рухнуло правое крыло, Дивислав понял: дело худо.
Казалось бы, Свенельд окружен, но при хорошем снаряжении и выучке дружины он продержится долго, а у него, Дивислава, времени нет совсем. Кто-то уже побежал, кого-то оттеснили, войско смешалось…
Оставался один способ вырвать победу: ударить врага в самое сердце!
И князь сделал то единственное, что еще ему оставалось: с ближней дружиной бросился туда, где колыхался над схваткой красный стяг с падающим черным вороном – личное знамя Ингвара.
Их натиск был столь яростен, что опешившие враги подались назад.
Люди рубились, не щадя себя, забыв о смерти и ранах. И шли вперед по телам своих и чужих. Дивислав не видел ничего, кроме красного лоскута, в котором сосредоточилось все, ради чего он жил и с чем боролся.
Сами ли мы владеть будем землей предков или уступим чужакам?
Его кольчуга уже была изрублена, кровь сочилась из нескольких ран, но он не чувствовал боли.
Щит хрустнул под ударом секиры, телохранитель пронзил врага копьем и сам упал, не успев выпростать глубоко засевшее оружие.
Дивислав разрубил мечом жилистую шею какого-то сивобородого великана, на возврате сумел отбить жало сулицы, метившее в глаза.
Шаг, еще шаг! Там – его враг, прямо впереди, за спиной у этого вояки с расписным щитом…
Удар пришелся по шлему так, что в ушах зазвенело. Он снова шагнул вперед, и тут в плечо вонзилось копье, разрывая кольчугу и поддоспешник. Силой удара князя развернуло; будто зверь зарычав от ярости, он в два замаха перерубил крепкое ясеневое древко.
И тут второе копье, нырнув под край щита, ударило ему прямо под вздох.
Его кмети рубились уже с телохранителями Ингвара, пробившись к самому его стягу, но их отваги оказалось недостаточно. Зажатые со всех сторон, они пали один за другим.
Рухнул и «ратный чур».
Когда он исчез с глаз, войско зоричей окончательно смешалось и побежало.
Одни кинулись под защиту леса, другие стали бросаться в реку, надеясь укрыться за полосой текучей воды, третьи устремились к сулившим защиту стенам городка.
Конец битвы я наблюдала уже своими глазами. С заборола мы увидели бегущих, и я приказала не затворять ворота, чтобы вои укрылись в городце.
Как я могла закрыть путь к спасению людям, которые пришли сражаться за меня?
Но тут же я увидела киевлян – они преследовали зоричей.
Как я ни вглядывалась, Дивислава нигде не могла отыскать. Но даже тогда я еще не думала о том, что означает его отсутствие. Я понимала, что все идет не так, но у меня в голове еще не укладывалось, какие губительные последствия это принесет…
Те, кто первым вбежал в город, стали тут же закрывать ворота.
Я кричала, требовала открыть, потому что вошли еще не все, но они меня не слушали. Со стены вопили, что киевские совсем рядом. Уже был виден стяг Ингвара и его ближняя дружина – она выделялась множеством шлемов и кольчуг, а еще – уверенными слаженными действиями.
Если серые кожухи наших катились во все стороны, будто ягоды из опрокинутого туеса, то кольчуги целеустремленно бежали к воротам.
Те уже были закрыты, и остатки войска оказались зажаты между киевлянами и стеной.
Многие просто разбежались, спрятались в оврагах вокруг городца: кусты еще не облетели и давали хорошее укрытие. Настигнутых убивали – луговина уже была полна лежащих тел. Они еще выглядели совсем как живые.
И было дико видеть, что десятки людей прилегли наземь прохладным осенним днем… Ран и крови из такой дали заметно не было.
Тогда я уже не могла не понимать, что происходит.
От наших отцов мы с Эльгой с детства наслушались рассказов о походах и захватах городов.
Мне нужно было только уразуметь, что все это происходит здесь, сейчас и со мной. С моими людьми. С детьми, которых я уже почти привыкла считать своими.
И тут мне стало страшно.
Я выросла возле дружины и свыклась с соседством вооруженных людей, но впервые я застала врагов возле своего порога.
И понимала, что защищать нас некому. В городце стояли плач и вопль, никто уже не слышал даже самого себя…
Я не думала, куда же пропал Дивислав, но видела, что среди вернувшихся его нет.
Я побежала к детям. Дивуше и Колошке тогда было десять, а остальным еще меньше. Они оставались у Держаны: она сидела с ними и не выпускала, чтобы не затоптали.
Вскоре мы услышали удары.
Дружина Ингвара совсем недавно вернулась из похода на Прут и Буг, а там им привелось взять немало городцов. Раздался треск – ломали ворота.
Мы все сидели, вцепившись друг в друга; я не знала, что еще могу и должна сделать. Челядинки и еще какие-то женщины набились в избу, засели по углам и вопили. Казалось, само небо сейчас рухнет нам на головы и всех раздавит! Помню, я сжимала в объятиях самую младшую Дивиславову дочку, Живлянку, ей тогда было пять лет, и прижимала к груди, чтобы закрыть от падающих обломков…
А потом к нам ворвались люди в кольчугах.
Их лица так ясно отпечатывались в моем сознании, и в то же время они казались мне все одинаковы. Впоследствии я старалась не воскрешать их в памяти, не вспоминать и не знать, кто из них это был.
– Княгиня! Где? Которая? – кричали они, вытаскивая женщин из углов.
Тогда я запихнула Живлянку в кучу братьев и кое-как встала.
– Это я.
Они посмотрели на меня: мой богатый убор молодухи подтверждал, что я говорю правду.
Сразу двое схватили меня за руки и потащили из избы.
Я не противилась. Мне казалось, что меня сейчас втолкнут в пасть Змею Горынычу; но раз уж он явился и завладел нашей землей, это была неизбежная участь княгини.
Меня привели в нашу собственную избу.
Еще вчера я была здесь хозяйкой, но сейчас все было перевернуто вверх дном и стало незнакомым. Кольчуги расступились. На моей укладке из приданого сидел какой-то парень, тоже в кольчуге, без шлема, с обритой головой и с «молоточком Тора» на груди. Совсем молодой, безбородый, только заросший рыжеватой щетиной.
– Князь, вот эта!
Кольчуги пихнули меня к парню, так что я едва не упала к нему на колени.
– Ты – Дивиславова княгиня? – спросил он.
– Я.
Он смерил меня взглядом, потом встал, схватил за руку и толкнул на укладку.
Я не держу на него зла за то, что он тогда сделал.
Даже если бы он этого не хотел – так полагалось. Я была женой вождя, которого он убил, и хозяйкой города, который он захватил. Взяв меня, он закрепил свою победу над Дивиславом и права хозяина над всем, чем прежде владел его соперник.
Я тогда с трудом понимала, кто он такой.
У меня носились смутные мысли, что во главе этого Змеева войска стоит Ингвар, сын Ульва, прежний и новый жених моей Эльги. Но я не сразу поняла, что это и есть он: судьба моей сестры, которая столкнулась с моей судьбой и оставила в ней такой след…
Его хирдманы ловили женщин по всему городцу.
Посередине площади резали скот и разводили костры.
Ингвар вскоре ушел.
Опомнившись немного, я хотела пойти посмотреть, как там дети, но боялась того, что могла увидеть…
Будто окаменев, я не могла шевельнуть ни рукой, ни даже мыслью.
Ближе к вечеру Ингвар снова пришел и принес кусок свинины, обжаренной на костре.
Думаю, он собирался съесть его сам, но, увидев меня, предложил мне. Я не могла есть и покачала головой. Тогда он сел к столу и принялся за мясо сам.
– Ты ведь сестра Эльги? – спросил он.
– Да.
– Не бойся. Она просила меня не обижать тебя.
Я помолчала.
Обидел ли он меня? Должно быть, не сильнее, чем было необходимо…
– Где дети? – спросила я потом.
– Какие?
– Мои… то есть Дивислава.
– Не знаю. А у него были дети? Откуда? Ты же замужем всего ничего!
– У него дети от покойной жены. Зоряша уже почти взрослый, он ходил с ним в битву. И…
Я только сейчас через силу заставила себя заговорить об этом:
– Мой муж ведь… погиб?
Ингвар кивнул, продолжая усердно жевать.
– И хотя бы…
Я боялась, что сейчас разрыдаюсь и не смогу говорить, поэтому торопилась:
– Ради моего родства с твоей невестой, ты позволишь нам похоронить его?
– Позволю. И даже не ради вашего родства, а потому что он князь и воин. А я, чтоб ты знала, сам княжеского рода и умею уважать людей, если они заслуживают уважения. Когда-нибудь кто-нибудь убьет и меня, от этого никуда не деться, я же не собираюсь жить вечно или сдохнуть на соломе от расслабления членов, мочась под себя. Но я хотел бы, чтобы он тоже отдал меня родичам, чтобы погребли по-человечески. Чтоб ты знала, вообще во всем этом виноват Эльгин отец! Не надо было обещать девку сразу двоим! Если бы мы с ним не делили одну и ту же, может, и договорились бы.
О чем договорились? Если бы они не соперничали из-за Эльги, чего им было бы делить?
Тогда я не понимала.
Догадалась только много времени спустя.
А он понимал уже тогда.
Сколько я ни слышала про Путь Серебра, в моем представлении его слагали много отдельных земель, владения разных племен и родов, которые всегда были сами по себе и всегда будут сами по себе. А Ингвар уже тогда понимал, как досадно, если между двумя частями твоего владения лежат обширные чужие земли, и как было бы сподручно, если бы весь Путь Серебра принадлежал кому-то одному!
И лучше всего – ему самому.
– Сколько лет вашему Зоряше? – прервал Ингвар мои мысли.
– Четырнадцать.
– Повезло! – Ингвар отбросил кость и утерся каким-то из моих рушников. – Четырнадцать, а уже князь! Мне вон скоро двадцать… кажется, а я все по полю хожу, ищу дружине чести, а себе славы…
– Но где же он? – Я наконец встала, уловив хоть одну нужную и ясную мысль. – Он был с отцом…
– Не знаю. – Ингвар встал. – Ну, пойдем искать.
Проходя вслед за ним по городцу, я старалась не смотреть по сторонам.
Везде стоял разгром.
Прямо на площади возле костров лежали разрубленные на части свиные и коровьи туши – для угощения дружины победителей. Валялись полуобглоданные кости с плохо прожаренными остатками мяса. Под ноги попадались то осколки посуды, то сломанные ковши, то рваные рушники и клочки сорочек, которыми перевязывали раны.
Под стеной я увидела несколько мертвых тел – тех, кто погиб уже в городце.
Не думаю, что прибежавшие сюда зоричи сильно сопротивлялись, но свалка была. Тела лежали в куче, и не сразу удавалось опознать в них бывших людей – лишь случайно бросались в глаза то рука, то нога, а порой даже трудно было понять, что это такое…
Ну, хватит. Это все уже не важно.
Я попросила Ингвара сперва поискать Зоряшу среди пленных. К счастью, именно там мы его и нашли, и мне не пришлось осматривать убитых.
Ингвар послал хирдманов принести тело Дивислава. Они это исполнили, отыскали даже нашего «ратного чура».
Ингвар делал все, о чем я его просила, и мне даже было трудно поверить, что он и принес в мой город смерть и разорение.
Меня тогда поразило, как спокойно и деловито держались его люди. Они ели наше мясо и пили стоялый мед из наших погребов, поставленный лет двадцать назад еще моим покойным свекром, с таким же удовлетворением, как мужики пили квас, придя с пашни или покоса. Они смеялись, перевязывая раны себе и друг другу. Они были точно такими же, как хирдманы моего отца. Даже общались на той же смеси северного языка и славянского, только выговор у них был другой – южный, полянский.
Тело мужа отнесли в баню.
Я нашла Держану, мы отыскали еще несколько женщин и занялись делом.
Раздели…
Снимать кольчугу нам помогал кто-то из Ингваровых хирдманов… я потом сообразила, что это был Хрольв, но тогда я еще ни с кем из них не была знакома.
Кольчуга никак не снималась, хоть плачь. Ее и с живого-то совлечь не так легко, а тем более – с мертвого, уже не способного исполнить «пляску конца битвы»[15], как это называли в дружине моего отца и Вальгарда.
На теле моего мужа были две страшные раны от копья. Разбитые железные колечки глубоко вдавились в кровавую плоть…
Когда мы наконец, плача от горя и безнадежности, стянули кольчугу и стали резать окровавленную кожаную рубаху и сорочку, у меня вдруг все закружилось перед глазами и ослабели ноги…
Не помню, как я упала.
Очнулась я, лежа на той же укладке у себя в избе.
Уже было темно, горели лучины, несколько мужчин сидели у стола и толковали о чем-то. Я видела только черные спины и головы. Мне казалось, я проспала сто лет, и я почти не удивлялась, что ничего не понимаю: кто эти люди, почему они здесь? Смутно помнилось что-то ужасное, но оно казалось таким далеким, что на миг я даже почувствовала себя спокойно и уютно.
А потом ощутила, что моя сорочка ниже пояса мокрая и липкая. Под подолом поневы темнели кровавые пятна…
Так я узнала, что во мне все же рос новый побег Дивиславова рода, которому не суждено было проклюнуться на белый свет.
Кое-как я встала и пошла обратно в баню.
Тело мужа уже было обмыто и одето в погребальную белую сряду. Только тут я сообразила, что мне тоже нужно сменить сряду на «печаль». Отцвела я, молодуха, не успев расцвести, как следует…
И я тогда подумала: а чего ты хотела? От гнева богов не уйти.
Держана причитала, и другие женщины плакали по своему князю, но я никак не могла: меня будто камнем придавило.
Я чувствовала только тупое удивление и усталость. Смотрела в его застывшее лицо и молчала.
Если бы он знал… если бы я рассказала ему, пока было не поздно…
Может, он не стал бы брать меня в жены, и гнев моих чуров не настиг бы этот ни в чем не повинный город.
Но в дни перед свадьбой мне это не пришло в голову – уж слишком я была удивлена оборотом дела.
А теперь… я виновата перед ним, но исправить ничего уже нельзя.
В следующие дни мы готовили погребение.
Уцелевшие ратники ополчения разбежались, да и наших убитых надо было хоронить. Распоряжался всем Свенгельд. Видно было, до чего он привычен к этому делу. Краду для Дивислава тоже готовили его люди. Причем они сами знали, как это делается, хотя русь своих хоронит иначе.
Если бы кто-то сказал, что я должна последовать за мужем в Закрадье, я бы не огорчилась.
А куда еще идти мне, отмеченной Навью?
Но ничего такого не ожидалось. Ингвар сказал, что заберет меня с собой в Киев.
Даже погребальные жертвы на краде приносил Свенгельд. Зоряша только стоял рядом. Он был бледен как смерть и казался моложе своих лет. Я старалась на него не смотреть.
Ингвар объявил отрока наследником Дивислава с обязательством почитать его, Ингвара, как родного отца, платить ему дань и участвовать с дружиной в его походах, если он того пожелает. Эту дань предписывалось пока отсылать в Киев, а позже, когда Ингвар переедет жить в Волховец – туда.
Отныне зоричи были включены в державу волховецких князей, а Ульву принадлежала власть над всем Приильменьем.
Для охраны торговых путей и взимания сборов с купцов Ингвар оставил своих людей. Иных юному князю зоричей набирать и вооружать не разрешалось. Возглавляли дружину двое верных Ингвару хирдманов: Гудмунд и Сорогость.
Уцелевшие старейшины зоричей, стоявшие вокруг пылающей крады, а затем восседавшие на поминальном пиру, выглядели мрачно, что и было понятно: им приходилось идти под руку к ненавистным варягам, на деле – к тому самому Ульву конунгу, с которым они столько лет враждовали.
И все же Ингвар обошелся с ними не самым суровым образом. Он ведь мог вовсе истребить княжеский род и всю племенную старейшину, но позволил потомкам Зори-князя выжить и даже сохранить власть. Мог бы нахватать в гнездах вдоль Ловати полона, сколько получится, и продать на Волжский путь, получив огромные деньги прямо сейчас. И я знаю, что такие предложения кое-кто из дружины ему делал. Но он предпочел прирастить за счет земли зоричей свою будущую волховецкую державу и тем увеличить ее мощь. Он понимал, что это далеко не конец его свершений.
Я думала, что теперь Ингвар уведет дружину на Нарову – искать мести за смерть Вальгарда. Правда, не верила, что он ее найдет: ведь близка была зима, и лиходеи наверняка уже убрались за море.
Пока устраивались дела в Зорин-городце, Ингвар съездил к отцу в Волховец: известить о своей победе и договориться насчет кораблей и дружины из Ладоги.
Вернулся он дней через десять.
В княжьей избе в тот вечер был большой шум и попойка до утра.
Оказалось, что Ульв конунг и его родич Хакон ярл уже давным-давно послали корабли к устью Наровы – сразу же, как хитрый Ранди Ворон весной отправил им весть, что Мистина умыкнул дочь Вальгарда и везет в Киев! Уж конечно, Ульв конунг лучше меня понимал, что такие дела надо делать летом, а не дожидаться первого снега. Его родич Фасти привез в Волховец два десятка мечей, захваченных у викингов, а Ингвар доставил их сюда, чтобы взять в Киев и показать Эльге.
Не головы же было тащить!
Теперь она будет знать, что месть за ее отца свершена.
Мне бы тоже следовало этому радоваться – ведь Вальгард был и моим близким родичем. Но меня неприятно поразила эта предусмотрительность Ульва конунга. Он как будто знал все заранее.
Много времени спустя я услышала, что он, наоборот, стремился не допустить встречи киевлян с теми викингами, чтобы те не сумели рассказать, кто их послал в устье Наровы еще прошлой весной…
Но тогда мне было не до провинностей старика Ульва. Моя жизнь была разбита на кусочки, и я даже не представляла пока, что из этих осколков удастся собрать.
Мне едва исполнилось шестнадцать, а со мной уже случились почти все несчастья, возможные для женщины.
Разве что не продали меня за море Хазарское…
Что касается Эльгиного приданого, то оно сохранилось у меня почти нетронутым. Я ведь надеялась, что когда все уляжется, сумею уговорить мужа переслать укладки ей. Также Ингвар велел мне собрать все, что я считаю своим: мое приданое, дары от мужа, людей, которых хочу взять с собой. Он объявил, что заберет в заложники всех младших детей Дивислава.
Я даже обрадовалась этому: мне было легче держать их при себе, чем покинуть на нового князя – еще отрока, и киевскую дружину. В ней были такие рожи…
Держане мы предлагали забрать своих детей и вернуться к ее родичам-полочанам: она ведь была сестрой полоцкого князя, а ссориться с ним сверх необходимого Ингвар не хотел. Две ее старшие дочери уже к тому времени выросли и вышли замуж, она могла бы перебраться жить к ним, но сама решила, что поедет со мной и племянниками.
Сборы заняли гораздо больше времени, чем я рассказываю.
Наступила зима, выпал снег, и установился санный путь. И только тогда мы наконец тронулись вверх по замерзшей Ловати: Ингвар с дружиной и добычей, мы с Держаной и пятью детьми, со всеми нашими пожитками и челядью.
По пути через Ловать мне много раз приходилось подтверждать местным старейшинам: да, князь Дивислав убит, ему наследовал князь Зоремир, принесший обет сыновнего послушания князю Ингвару.
Да и то, что я ехала с Ингваром в Киев, говорило яснее всяких слов. Зоричи думали, что он берет меня в жены! Трудно их винить: так оно и было бы, если бы не Эльга. У Ингвара уже были жены, так же, как и я, захваченные в прежних походах. Я пополнила бы их число, если бы он не собирался сделать своей княгиней мою сестру и преподнести ей меня в качестве подарка на свадьбу.
С Живлянкой на коленях, чтобы обеим было теплее, укутанная в большую медведину, я сидела в санях и то дремала, то рассказывала ей сказки, если она не спала, то смотрела, как тянутся мимо заснеженные речные берега.
Больше всего я тогда хотела знать: искупила я свою вину за злостное вторжение в Навь? Или это мне еще предстоит?
Наверное, главные мои беды впереди: ведь до сих пор пострадать за меня пришлось совсем другим людям.
Предстоящая долгая дорога в Киев – на край света, чужой и незнакомый, – нас с Держаной страшила.
Это и правда было похоже на путешествие в Навь: тьма, черное или серое небо над белым снегом, замерзшие русла рек, стена леса по сторонам, холод, ветер…
Незнакомые люди, которых мы встречали на ночлеге – сегодня одни, завтра иные, – все они были для нас лишь тенями, сменяющими друг друга. И они на нас смотрели так, будто выходцы из Нави – это мы.
Если порой в полдень выходило солнце, я удивлялась тому, что в этом мире оно вообще есть.
С каждым днем мы забирались все дальше в неведомое, все дальше от родных людей и краев.
Наверное, и родители уже думали обо мне, как о давно умершей.
И единственными «своими» для нас постепенно становились те куды, что нас сюда занесли – Ингвар и его хирдманы.
Оглядываясь назад, я понимаю, что мне полагалось ненавидеть его – убийцу моего мужа.
Но тогда я не чувствовала ничего подобного.
Мне казалось, что всех нас несет, будто листья на ветру, и Ингвар был таким же листом, как я и Дивиславовы дети.
Он разрушил мою жизнь – но как он мог бы поступить иначе? Их с Дивиславом столкновение было предопределено много лет назад; судьбу эту вырастили Ульв конунг, сам Дивислав, даже стрый Вальгард, а Ингвару осталось только пить ту брагу, которую для него заварили другие.
Дни, проведенные в избе Буры-бабы, не прошли для меня даром: я смотрела на жизнь, будто издалека, и видела гораздо больше, чем люди обычно видят на своем месте.
А еще – он ведь вез меня к Эльге!
Надежда на встречу с ней поддерживала меня в этом зимнем пути.
Надо сказать, Ингвар заботился о нас по дороге, будто я и правда была его женой. Когда мы останавливались на ночлег в какой-нибудь веси, он всегда отправлял нас в самую лучшую избу, выгоняя оттуда хозяев. Нам немедленно доставлялись припасы: мука, пшено, молоко, творог, даже парочка кур, так что мы могли быстро приготовить еду и покормить детей. Часто он сам приходил ужинать и завтракать с нами и никогда не отдавал приказ к отъезду, пока мы и дети не были сыты, одеты и готовы. И порой даже сам закутывал нас в медведину.
Как-то он принес Живлянку, чтобы усадить в сани: дети уже привыкли и не боялись его. И у меня вдруг мелькнула мысль, что ему нравится быть главой целой семьи из двух женщин и пятерых детей! А ведь ему было всего лишь восемнадцать или девятнадцать лет, что за радость парню в такой обузе?
Однажды я расхворалась: болело горло, голова была тяжелой, и я пылала, как горшок в печи.
И войско пять дней не трогалось с места, пока Держана поила меня отваром мяты и ревелки с калиной и брусникой на меду.
Когда я, окрепнув, попыталась Ингвара поблагодарить, он отмахнулся: ребятам-де тоже надо было отогреться, поправить снаряжение и сани, на охоту съездить…
На охоту они тогда и вправду съездили и привезли здоровущего медведя.
Я к тому времени уже встала: горло побаливало, но жар прошел.
Смешно сказать, но мне было приятно видеть медвежью мертвую тушу: казалось – вот он, виновник всех наших бед, и мы отомщены!
Когда парни разделали тушу, я сама вызвалась приготовить. Сперва мы сутки выдерживали мясо в больших котлах в погребе, пересыпав сушеной мятой и толчеными можжевеловыми ягодами. Потом обжарили, залили квасом, положили лук, морковку, репу, потушили, а потом еще добавили давленую бруснику с разведенным медом.
Лесного батьку съели до последней косточки. Конечно, хирдманы – люди непривередливые, в походах они охотно едят змей и лягух, если больше ничего нет. Но тут, когда они ели, набившись в местную обчину, Хаки крикнул: «Конунг, женись лучше на этой!» – и все засмеялись, как будто это была очень хорошая мысль.
Но обычно мы с Держаной и детьми ужинали в своей избе, отдельно от дружины.
Ингвар все чаще приходил к нам – один, без хирдманов.
Не хотел, чтобы кто-то слышал наши разговоры.
Ему хотелось поговорить со мной об Эльге.
Он ничего о ней не знал. Оказалось, что он почти не успел с ней познакомиться: за все это время они виделись три-четыре раза!
Большую часть времени, что Эльга провела в Киеве, его там не было, а когда он вернулся, то почти сразу отправился исполнять ее условия.
Понемногу я рассказала ему про всю нашу жизнь, даже про «медвежью кашу» в детстве. Рассказала, почему стрый Вальгард разорвал их первое обручение. И про то, что наши плесковские родичи считали более выгодным породниться с Дивиславом, который сидел на пути в золотые южные страны, а не с Ульвом, без которого легко могли обойтись.
Ингвар слушал меня без возмущения, задумчиво. При своей простецкой внешности он был далеко не глуп.
Мне казалось, он совсем неплохой человек для того, кто вырос без матери, в дружине, со Свенгельдом в качестве няньки. Судьба его не жалела, у него почти не было детства. Мне было странно, что он жалел наших детей, порой даже играл с ними. С мальчишками, разумеется: дрался с ними на палках – откуда ему уметь играть как-то иначе? Но я видела, он следит, чтобы не причинить им вреда, они ведь были еще слишком малы: Соломке девять лет, а Вестимке семь.
Один раз, уже на касплянском волоке, Ингвар ушел после ужина, как обычно, к дружине, но вдруг вернулся, когда мы уже улеглись.
Я подумала, не случилось ли чего: все-таки мы находились на земле родичей Дивислава, и все могло произойти. Но Ингвар молча вытащил у меня из рук спящую Живлянку, сунул на полати к братьям, а сам лег рядом со мной и снова натянул на нас медведину.
Мне даже сначала показалось, что он просто замерз и хочет погреться.
Конечно, он не только этого хотел, но я не стала ему противиться.
Его дружба была нужна мне и детям. А еще я принадлежала ему по закону: он захватил жену того, кому ее вручили родичи, и если бы родичи теперь захотели получить свою дочь обратно, им пришлось бы выкупать меня у него!
К тому же Ингвар обладал правом свояка: те же наши родичи согласились на брак с ним Эльги, а сестра жены по древнему праву – почти та же самая жена. Сестер часто отдают в один и тот же род, и, будь Держана помоложе, и она стала бы женой Дивислава вслед за Всевидой.
Мне тогда впервые пришло в голову, что наши с Эльгой судьбы могут в замужестве оказаться сплетенными еще теснее, чем прежде мы предполагали.
Ингвар на самом деле был гораздо лучшим человеком, чем мог показаться на первый взгляд, но я не хотела, чтобы он встал между мной и Эльгой, а сама я не хотела стоять между ним и ею.
Что она согласится разделить своего мужа – даже со мной, – я не верила.
Я ведь знала ее.
Мы везли ее приданое. Я так хотела, чтобы у нее все было хорошо и ей не пришлось переносить невзгоды вроде тех, что выпали мне.
Иногда Ингвар так смотрел на меня, будто видел во мне ее, но я знала, что этого не может быть: мы ведь с ней вовсе не похожи. Я думаю, он просто всю жизнь скучал по женской ласке: рос без матери, а его сестра была замужем за тем человеком, который держал его в заложниках. За нашим родичем Олегом Моровлянином…
Судя по всему, они так и не стали друзьями.
На средний Днепр мы попали уже после того, как здесь прошло полюдье. Выходило, что мы успеем в Киев до Коляды, и я была очень этому рада: что бы там ни было, а слишком жутко встречать это время в дороге.
И чем ближе мы подъезжали, тем труднее мне было поверить, что уже скоро я встречусь с Эльгой. Моей сестрой, которую я видела в последний раз в тот жуткий день поздней весны.
Нас оторвали друг от друга на самой грани Нави и Яви, которую мы обе пересекли неправильно: я – на пути туда, а она – обратно.
Нечего удивляться, что у нас обеих жизнь пошла наперекосяк.
С тех пор я словно блуждала по каким-то далеким мирам и не верила, будто хоть что-то из прежнего можно найти таким же, каким оно было.
Даже мою сестру, с которой мы были неразлучны с колыбели.
Об этом походе в Навь Ингвар не упоминал и не задал мне ни одного вопроса. Значит, Эльга ничего ему не рассказала, как я не рассказала Дивиславу. Но я, хоть и опасалась последствий молчания, не могла сделать это за нее.
После Дожинок в Киеве пошла новая череда свадеб. А те, кто женился год назад, после уличского похода, теперь звали на родинные трапезы и пиры имянаречений.
Поскольку все это праздники по большей части были женские, Эльга что ни день ходила по гостям – иногда с Мальфрид, а чаще с Ростиславой и другими киевскими родственницами Олега. Везде на нее посматривали с веселым любопытством, но она не видела в этом ничего странного. Все же знают, что и у нее будет свадьба, едва жених привезет приданое.
С наступлением зимы людей в Киеве стало поменьше. Князь ушел в полюдье: по Днепру, Десне и Сожу, в обход подвластных ему земель полян, радимичей и саварян.
Санный путь едва установился, и те, кто тронулся в путь по первому снегу и по вставшему льду, еще были в дороге, на пути к Киеву.
Княжий двор превратился в женское царство: теперь здесь правила княгиня Мальфрид. Что ни день родственницы Олега приходили в гости к ней и Эльге или Эльга ходила к ним.
Порой все веселой гурьбой катались с гор на санях, если день выдавался солнечный, но больше пряли, шили и болтали.
Однажды Эльга гуляла с Оди и девочками – день был ясный, солнечный, но довольно морозный, и Мальфрид не боялась, что ее сынок промочит ноги.
Вернувшись, Эльга застала у княгини Ростиславу Предславовну. В этом не было бы ничего удивительного, если бы не их лица: с первого взгляда Эльге показалось, что они ссорятся. При виде ее Ростислава встала, а Мальфрид с возмущением всплеснула руками:
– Ты подумай, что творится!
– Не надо… – Ростислава протянула к ней руку.
– Как это – не надо! – Мальфрид отмахнулась, едва ее не оттолкнув. – Ей надо знать! Это до нее касается!
– Что до меня касается? – Эльга сбросила в руки челядинке бобровый кожух, размотала платок и прошла к лавке у печи, где сидела княгиня.
– Да вот, люди болтают, будто ты… будто вы с Мистиной, пока сюда ехали…
– Что-о?
– Будто ты ему раньше досталась!
– Неправда! – теперь уже Эльга, присевшая было, вскочила в возмущении. – Не было ничего такого! И дружина подтвердит! Двадцать человек видели, что я всегда в шатре одна спала и себя руками трогать не давала! Это кто говорит?
– Да на торгу болтают! – с досадой ответила Ростислава. – А там – поди, найди!
– А ну, идите за Свенельдичем! – велела Мальфрид челяди. – Пусть ответ даст.
Мистина оставался в Киеве, в отсутствие отца присматривая за их дворовым хозяйством, будучи готовым вмешаться, если в Деревляни случится что-то нехорошее. Без Олега он почти не приходил на княжий двор, и Эльга даже порой по нему скучала среди одних женщин.
Теперь она в душе этого устыдилась.
Мистина вскоре явился – веселый, нарядный, ясный, как зимнее солнце, в синем шелковом кафтане на куньем меху.
– Слышал, что говорят? – сурово встретила его Мальфрид.
Мистина глянул на нее, потом на мрачную Эльгу, сидящую на укладке в углу, и перестал улыбаться.
– А что говорят? – нехотя повторил он, причем по лицу его было видно: он все знает.
– Что ты с девицей нечестно обошелся, – прямо ответила Мальфрид.
– Да брешут! – со злостью воскликнул Мистина. – Перуном клянусь – не было этого! Хочешь, в святилище поклянусь перед камнем? Я что, на репище найденный, бессовестный совсем? Меня князь мой за невестой посылает, а я с ней… нечестно обойдусь? Да я бы сам на первой осине удавился от такого позора!
– Откуда же слухи пошли?
– Не знаю… – Мистина хотел что-то сказать, но сдержался, однако в выражении его лица читалось немало слов, которые он не смел произнести в присутствии знатных женщин. – Если услышу, кто это брешет, язык вырву и в задницу ему, собаке, запихаю!
Эльга невольно фыркнула от смеха. Мальфрид тоже немного смягчилась, убедившись, что нехорошие разговоры – лишь досужая болтовня. Кому же не весело посудачить о любовных делах знати?
Можно было надеяться, что слух как возник, так и затихнет, но еще через день Аська явился с Подола растрепанный, взбудораженный и с ободранными кулаками.
– Да эта сволочь будет своим языком… – бессвязно восклицал он. – До моей сестры им, гадам, как до звезды на небе…
Ничего рассказывать он не пожелал, а Эльга не стала расспрашивать, уже догадываясь, чего это может касаться.
На другой день к князю Предславу – в отсутствие сына он решал за него неотложные дела – пришли с жалобой на драку. Оказалось, вчера Асмунд, сын Торлейва, побил на Подоле сразу двух торговых гостей, которые обсуждали, не откажется ли княжич Ингвар от невесты, которая по пути к нему «побывала под сватом». Причем рассуждали, что все бы ничего, если бы сватом ездил старший родич жениха, это как водится, а вот свой же человек из дружины – это не годится. Аська был не один, поэтому болтунам пришлось сожрать свою ложь с парой горстей навозного снега. Теперь они жаловались на него за попорченное цветное платье.
– Дурень ты, дурень! – Мальфрид не знала, бранить парня или благодарить. – Что вступился за сестру – молодец. Только теперь из-за этой драки по всему Киеву опять начнут болтать. Мы надеялись, поутихнет…
– Так что же мне – молча слушать да утираться? – мрачно ответил Аська. – Еще услышу – под лед спущу. А ты, дурища, сама виновата! – кивнул он Эльге. – Все бы вам, девкам, из дому бегать! А родичи потом вашу кашу расхлебывай!
Еще через пару дней опять пришла Ростислава. Поклонившись, она по приглашению Мальфрид села на укладку, уронила руки и молча воззрилась на княгиню. Перевела взгляд на Эльгу.
– Ну, рассказывай уже! – велела Мальфрид. – Что еще?
Очередные новости поджидали Ростиславу дома у отца – князя Предслава. Принесла их его жена, Милочада, но не посмела сама показаться на глаза Олеговым женщинам.
Вчера к Предславу явился Себенег Илаевич – глава знатного киевского рода, ведущего свое происхождение от Мерти-тархана, который когда-то собирал здесь дань. Тарханы во времена Вещего отсюда исчезли, но остались их потомки, прижившиеся и обросшие родственными связями.
Илай, покойный отец Себенега, еще тогда поступил на службу к Вещему, обзавелся семьей и жил неплохо.
Себенег был не старым мужчиной, лет тридцати, рослым, худощавым, смуглым и чернооким. Здешний уроженец, он говорил по-славянски не хуже полян, лишь выговор его звучал немного странно. Правда, в Киеве, где смешалось немало языков, это не привлекало внимания.
– Я слышал, что Ингорь не будет жениться на дочери Вещего, – заявил Себенег, поздоровавшись. – Я знаю, что ее оболгали. Дочь Вещего чиста, как звезда в небе, это поймет всякий, кто видел ее хоть раз – а я видел! Но если Ингорь считает для себя невместным взять такую жену, то я готов взять ее за себя, и в моем доме она найдет всяческий почет и уважение. И об этой собачьей брехне мы сейчас будем говорить в последний раз. Я, кстати, знаю, кто распускает эти слухи, – наклонившись ближе к Предславу и понизив голос, добавил он. – Это Гостята и прочие жиды. Они ему не могут простить того погрома, но куснуть самого Ингоря – кусалка не выросла, вот и пакостят невинной девушке и хотят его исподтишка опозорить.
– Не говори этого пока больше никому! – душевно попросил Предслав.
Объяснение было вполне убедительным. Но старый князь с ужасом представил еще один погром – а ведь княжья дружина ушла в полюдье, у него осталось не так много кметей для поддержания порядка. Только то и хорошо, что Ингвар со Свенгельдом отбыли тоже.
Киевские хазары не любили «жидов хазарских»: и за измену вере предков, и за то, что провинности жидов народ переносил на всех хазар. А ведь Илай, как многие беглецы из каганата, почитал бога голубого неба Тенгри и богиню Умай, а не Яхве. На родине таких считали язычниками и держали на неполных правах в отличие от иудеев и христиан.
– Ну, так что же насчет нашего дела?
– Я ничего не могу тебе ответить вместо Ингвара, – покачал головой Предслав. – Он даже еще не знает об этих слухах, но решать только ему.
– Как же он не знает? – удивился Себенег. – Если уже сказал, что не может жениться на девушке, которую имел прежде него его человек?
– Да как же он мог это сказать, когда он на Ловати где-то? – Предслав хлопнул себя по коленям.
– Как? – вдруг растерялся полухазарин. – Не знаю… но многие свидетели уверяют неложно…
– Это кто? – Предслав наклонился к нему.
Себенег задумался, даже пару раз открыл и закрыл рот, но так и не сумел никого назвать. Он был убежден, что это жиды виноваты, но ни Гостята, ни Манар или Куфин лично с ним таких разговоров не вели.
– Вот что: если прямо от кого услышишь, хватай и ко мне волоки! – велел Предслав. – Я тебя пожалую тогда, а с клеветника шкуру спущу.
Выслушав от Ростиславы пересказ этой беседы, Эльга беспокойно засмеялась:
– О боги, да у этих людей по двенадцать языков, как у Змея Горыныча!
– Нечего смеяться! – Мальфрид схватилась за голову. – Ты понимаешь? К тебе уже присватываются, потому что все уверены: Инги тебя не возьмет!
– Но с чего они взяли! Его здесь нет, он не мог ничего такого сказать!
– Мы не можем объяснять это всякому болтуну на торгу!
– Если вырвать пару языков, остальные сами свои прикусят, пока целы!
– Мы так и сделаем! – пригрозила Мальфрид. – Был бы здесь Инги…
– Пошел бы жидов громить, – вставила Ростислава.
– Если это правда они… – начала Эльга.
– Я велю моим людям ходить по торгу и Подолу и слушать. Если услышат, кто говорит такое, пусть хватают и тащат ко мне. Или к Предславу. Мы дознаемся, кто клевещет на тебя и хочет поссорить моего брата с моим мужем!
Обе женщины потеряли покой, постоянно ожидая неприятных новостей.
В следующий раз их принес Бельша Воиславич. Все три плесковских родича сидели в Киеве, дожидаясь, пока смогут передать девушку мужу, и их в первую голову волновало, что ее и их чести угрожает опасность.
На днях старый Лидульв затеял пирушку – сам он по слабости ног уже никуда не ходил, но любил принимать гостей, сидя в своей гриднице. Настоящей жены у него никогда не было, хозяйством правили челядинки. Когда-то молодые и красивые, с годами они постарели, но зато научились хорошо готовить, а теперь это было для него куда важнее.
Дом велся бестолково, в гриднице по углам было «можно репу сеять», как бранилась Мальфрид, однажды туда заглянув. Зато мяса и пива у Лидульва всегда подавали в изобилии, а на «грядки» молодым хирдманам было наплевать.
На лавках и полатях, а то и прямо на полу у очага вечно дрыхли непонятные люди, бок о бок с псами – из тех, кого «из-под тына достали, а чьего – не сказали».
Свои, чужие – хозяину было все равно. Главное, всегда было с кем выпить и потолковать о походах Вещего.
Напрасно говорят, будто девки и бабы на посиделках вечно обсуждают, «кто с кем и как» да «у кого какой». Выросшая возле дружины Эльга точно знала, что мужчины говорят об этом гораздо больше. Поэтому она не удивилась, услышав, что разговор о ней зашел на пиру у Лидульва, где не было ни единой женщины, кроме челядинок, которые молча подавали на стол.
Народ собрался всякий: варяги, поляне, торговые гости из соседних земель, привезшие мед и воск – «всякая русь», как уже давно назывались разношерстные сборища, водившиеся вдоль торговых путей из Северных стран к Греческому и Хазарскому морям.
Бельша слушал, как мужик из радимичской старейшины излагал повесть о присоединении их волости к Русской земле, управляемой Олегом Вещим.
– Не, сам я не видел, малой еще был, но мне отец рассказывал. Приехали они, значит, и спрашивают: кому дань даете? Наши старики отвечают: хазарам. А он так ухмыльнулся и говорит: «Неправда». – «Да как же так? – обомлели наши. – Зачем лгать тебе будем? Хазарам, как и отцы наши…» А он смеется: «Все равно неправда! Мне вы дань даете». Старики подумали и спрашивают: «А хазары как же?» Он так посмотрел на них, будто на мальцов неразумных, и опять смеется: «Забудьте». И правда – забыли мы про хазарскую дань с тех пор…
– Хазары! – повторил боярин Воибор и толкнул локтем соседа. – Черменка! Хватит жрать, тут про тебя говорят! Ты же у нас хазарин!
– Отцепись от меня! – отозвался возмущенный голос явно не уроженца славянских земель. – Сам ты хазарин, а я – русь!
– Да какая же ты русь! – засмеялся старый Светим, отроком помнивший первое появление Олега в Киеве. – На себя посмотри, какого ты племени!
– А нечего смотреть на племя! – уверенно возразил савар. – Русь – это не племя! Русь – это дружина! Кто с нами – тот и русь!
Все вокруг засмеялись с явным одобрением.
– А это правда! – торопливо заговорил кто-то. – При Олеге Вещем все в одну стаю сбивались. Вот слушайте, я расскажу. Мы сами с Подесенья, Роздамирова волость. И тоже вот: сперва хазарам платили, потом русы пришли. Потом они меж собой воевали. А мы что? Тем дай, этим дай – обеднел народ. И вот приезжают эти, в кольчугах. Высаживаются. Их два десятка, и нас два десятка, только мы – с бабами и чадами, а они – с топорами и мечами. Ну, собрались в обчину, как они велели, старейшины пришли, все мрачные такие, угрюмые. Он спрашивает: чем богаты, мужики? Наши, конечно: нету, дескать, ничего, сами с коры на лебеду перебиваемся. А он так посмотрел на них, потом встает. Наши думают: ну, прощай, белый свет! А он вдруг скидывает с плеч кафтан шелковый на лисах, набрасывает так на плечи деду и говорит: «Ну, коли не было, так будет! Тебе дарю, носи на здоровье! Давай, посиди с нами! Садитесь, мужики». Приобнял и повел за стол. Дед идет – в кафтане новом на плечах, ног не чует. И остальных посадили, пива налили. Разговаривали про жизнь… У Милонежичей и сейчас еще этот кафтан хранится, Милонег до самой смерти один его надевал – на пир по большим праздникам, три раза в год. А как он помер, мне сын рассказывал, прошлой весной они его вместо «божьей сорочки» на Ярилин идол надевали, когда требы приносили…
– Да я тебе точно говорю! – вдруг слева от себя расслышал Бельша сквозь веселый говор. – Она всю дорогу под убрусом ехала, как баба, а сюда вдруг опять с косой пришла!
Бельша насторожился и обернулся.
Толковали Плишка Щербина из дружины «жидов хазарских» и какой-то саварянин, судя по серьге в виде серебряной длинной капли.
– Кто сказал? – горячился Щербина. – Да в дружине Свенельдича все знают. Вон, и Шкуродер со мной слышал, и Бьярки с нами был. Бьярки, эй? Ведь слышал ты? Доброшка сам говорил: она из его рубахи себе убрус по дороге сшила. Стало быть, понадобился убрус! Пятна на подоле прикрыть!
Вокруг захохотали.
– Да вон он, Доброшка! – закричал Шкуродер, савар и давний соратник Плишки по дружбе и службе. За пьянство и вечный разгул их поперли уже не из одной дружины, и сейчас они пристроились у Манара. – Доброшка! Скажи: из твоей рубахи Ингорева невеста себе убрус шила, пока Свенельдича женой была?
– Видать, Свенельдич попробовал, да ему не понравилось! – заржал еще какой-то косорыл на полу у очага, оборванный и вонючий.
О косорыла сын и наследник плесковских князей не собирался марать не только руки, но и обувь. Бельша встал и решительно пробился к Плишке.
– Эй, жерло-то прикрой! – рявкнул он. – Скажи, что набрехал на мою сестру, или я тебе сейчас шею сверну!
– А я че? – Плишка немного утих, но чисто из осторожности: если это брат девицы, значит, тут уже до князя и дружины недалеко. – Вон Доброшка сидит. Он с ними в том походе был. Это его рубаха была. Пусть он скажет.
Бельша обернулся, куда показывали.
Доброшка сидел весь красный и злой.
– Ну, моя рубаха! – с неохотой признался он. – Но тебе-то, Плишка, откуда знать? Я ни единой душе не говорил! Мне что, сорочки жалко? Она обещала новую прислать, как в Киев приедет, и прислала! Я обиды не держу. И кто проболтался вам, подлецам?
– Так ехала она в убрусе! – Плишка с торжеством ткнул в его сторону грязным пальцем.
– Это чтобы ее у зоричей не признали! Как бы мы девку провезли через Дивиславов городец? Отняли бы ее у нас, и все. А так – жена и жена.
– Жена все-таки?
– Да какая жена? Девка она!
Дальше терпеть такое было невозможно.
Назавтра плесковичи пошли к князю Предславу, передав, чтобы Мистина тоже туда явился. На вчерашнем пиру у Лидульва он не был за недосугом, но очень жалел: Плишке со товарищи определенно следовало оторвать языки и засунуть, куда он обещал.
– Что Плишка? С твоей дружины слух пошел, – сурово сказал ему Предслав. – Про убрус. А мне тут хазары на жидов хазарских кивают. Я по первости и сам на них подумал, а теперь вижу: не они. Откуда жидам знать про убрус из Доброшкиной рубахи?
– Не может такого быть, чтобы от моих! – решительно мотнул головой Мистина. – Я за своих как за себя ручаюсь.
– Откуда же проведали? Это только те знали, кто с тобой в походе был.
– Но и здесь кто-то знал? – Мистина вопросительно посмотрел на Бельшу.
Тот скривился.
Про рубаху он уже выяснил: да, сказали правду.
Вскоре после приезда в Киев Эльга попросила Мальфрид найти в своих запасах лишнюю мужскую сорочку и послать Доброшке из Мистининой дружины, мимоходом пояснив, что его рубаху извела в пути «для своих надобностей». Мальфрид выполнила просьбу, ни о чем не спрашивая. Немудрено догадаться, какие надобности в чистом полотне возникли у девушки в долгой дороге, к которой она не готовилась заранее. Об этом могла знать челядь, искавшая и относившая рубаху, но откуда они могли проведать, что полотно пошло не на «надобности», а на убрус поддельной молодухи?
– Удавить этого Плишку с упырями его! – горячился Бельша. – Чтоб остальные пасти заткнули печной ветошью. Князь Ингвар приедет, а тут на тебе! Уже на весь свет ославили!
Молодые Избыгневичи всем видом выражали готовность идти разбираться прямо сейчас.
– Всех не передавить! – вздохнул князь Предслав. – Надо думать, отцы, что делать будем, если Ингвар…
Бояре переглянулись.
Все здесь были связаны с Олегом Моровлянином той или иной степенью свойства, и честь его юной тетки касалась каждого напрямую.
– Если Ингвар откажется… – начал Мистина, и все посмотрели на него. – Я не откажусь. Я-то знаю, что брехня это все собачья и девка честная. Я ее возьму за себя. Если отдадите…
– Родичи, стало быть, будем… – задумчиво усмехнулся Честонег.
– Я тоже княжеского рода, – со сдержанной надменностью ответил Мистина на то, что Честонег подумал. – Мой отец – из рода Скъёльдунгов, а мать – дочь вендского князя Драговита. И если мне боги пошлют кусок земли, то ее людям будет не стыдно назвать меня своим князем! Особенно если у меня будет жена из рода Вещего!
Честонег и Предслав переглянулись.
В растущей славе Ингвара, любимого молодыми и жаждущими добычи, они уже давно учуяли опасность для Олега Моровлянина. Заполучив жену из рода Вещего, Ингвар не просто уравняется с Олегом в правах на Русскую землю. Он станет наследником на поколение старше. И это могло привести к смуте и неприятностям как для Олега, так и для всей Русской земли. Как говорят в Северных странах: «Плохо для державы, когда в ней нет конунга, но еще хуже, когда конунгов слишком много».
Так что грозящее расстройство обручения Ингвара и Эльги было выгодно родичам князя.
Пока эти двое были детьми, а сам Олег – слишком молод, ни он, ни даже Честонег не разглядели опасности, которая стала очевидна сейчас.
Поэтому они ничего не ответили Мистине, хотя должны были сразу отказать.
– Мы ничего не сможем решить без Ингвара, – вымолвил наконец Предслав. – И без князя. Обождем, пока они вернутся. А болтунам языки укоротить бы надо…
Через день Плишку нашли на причале мертвым, с проломленной головой.
Шкуродер исчез. Одни говорили, что приятели подрались, вдрызг пьяные – люди видели, как они накануне уходили от Лидульва, едва стоя на ногах. Дескать, Шкуродер разбил голову приятелю, а сам сбежал.
Но говорили и другое: родичам «плесковской невесты» надоела порочащая их род болтовня. И болтовня действительно приутихла: никто не хотел оказаться следующим.
Однако Плишкина кровь на обмерзших досках причала будто запечатала всеобщее убеждение: нехорошие слухи возникли не на пустом месте.
Не желая давать лишний повод к разговорам, Эльга теперь никуда не ходила, кроме как к князю Предславу.
Зять Вещего уже стал грузным мужчиной на середине пятого десятка, но был еще хорош собой: полноватое внушительное лицо почти без морщин, седина в длинной бороде двумя полосами по сторонам, будто снег на черноземе. Усы и густые брови еще оставались темными.
На нем хорошо смотрелись шелковые кафтаны всех оттенков красного, с золотным шитьем, которые шили ему жена, дочь и внучки. На шее он носил красивый золоченый крест греческой работы и отличался любезностью и вежеством, которые сразу указывали на его истинно княжеское происхождение. Поколения его предков правили в Великой Моравии, объединявшей под своей властью многие славянские племена.
Эльга знала, что в Киеве видят в державе Моймировичей образец для нынешних русских князей.
Темные глаза его смотрели ласково, в них отражался опыт долгой жизни, рано опаленной невзгодами. Когда под ударами угров рухнула Великая Моравия и погибли его старшие родичи – все, кроме матери, – ему едва сравнялось пятнадцать.
Только с ним Эльга теперь могла потолковать о своей беде: Мальфрид слишком раздражалась, а остальным было и вовсе незачем об этом слышать.
– Я в Киеве недавно, поссориться ни с кем не успела, – говорила Эльга. – А кто-то уже меня замарать пытался. Кому это может быть нужно? Неужели и правда жидам хазарским?
– Едва ли, – улыбнулся князь Предслав. – Жиды не глупы. Ну, пограбили тогда у них клети, дрова раскидали, челядинкам подолы порвали – так князь за убытки с ними рассчитался. Теперь будут ходить, руки воздевать да богу жаловаться. А чужую честь марать – это только свары плодить, а если свары, кому хуже? Им же и хуже. Или война – торговле урон, а если так, пьяные расшумятся – опять их же дворы громить пойдут. Когда-нибудь и головы разобьют, им же этого не хочется. Не из Козар это ползет.
– А откуда же? – Эльга пристально смотрела ему в лицо.
Не девичье дело было вникать в такое, но она уже поняла, как нелегко жить в месте, подобном Киеву.
В Плескове это было бы невозможно! Там все свои.
А здесь все чужие – и всякий друг на друга.
– Если мне придется здесь жить, я должна понимать, как здесь живут! – добавила она, видя, что Предслав медлит с ответом.
– А ты хочешь здесь жить? – Он наклонился к ней.
Она молчала.
– Или в Волховце?
– Ну… сперва здесь, а потом в Волховце, – нашлась Эльга. – Ведь пока жив Ульв конунг, мы и не сможем уехать отсюда. Только потом, когда Ингвар станет…
– Кем станет Ингвар, и от тебя зависит, – наконец промолвил Предслав. – Тебя недаром дочерью Вещего прозвали. Ты можешь принести в приданое куда больше, чем те рушники, за которыми Ингвара послала, – негромко рассмеялся он. – Что там рушники? У Олега один сын. Будет ли еще – бог весть. За десять лет – всего один. И никто своего часа смертного не ведает. Повернись дело… на иную колею, и киевским князем будет твой муж. Может, Ингвар. А может, другой кто. Может, тебе иной кто приглянется? Мало ли молодцев на свете?
– Так, значит… право наследования Вещему – это я? – почти шепотом выговорила Эльга.
В мыслях ее словно что-то передвинулось, и многие перепутанные нити вдруг сложились в ясный узор.
Ее муж будет не просто наследником Вещего, но наследником, на поколение старше нынешнего князя.
Кому надо, чтобы им стал Ингвар, у которого и так слишком много сторонников среди самых буйных?
Уж точно, не Олегу. И не его родичам. Нет, конечно, ни Предслав, ни Избыгневичи не могли распускать те дурные слухи насчет нее и Мистины.
Мистина…
Если Ингвар не захочет на ней жениться, она может достаться Мистине. А с ней – и права на киевский стол. Сын Свенгельда – княжьего рода, даже лучше, чем был сам Вещий! Так не он ли это?
Но уж точно не жиды хазарские…
– Как Бог рассудит, так и будет, – прервал ее мысли голос Предслава. – Но ты помни, что Ингвар для тебя – не единственный жених. Ты можешь выбрать, кого пожелаешь. Князь не станет тебя принуждать.
И уже никакого помину о давнем уговоре с Ульвом волховецким! Исполнение этого уговора теперь могло больше повредить Олегу, чем помочь, и он это понял.
Эльга бросила на Предслава беглый взгляд и опять опустила глаза, не желая, чтобы он угадал ее мысли.
Обрадуется ли Предслав, если она выйдет за Мистину? Почему же нет? Ведь это оставит Ингвара не только без жены, но и без ближайших соратников, Свенгельда и его сына. Олегу будет не о чем жалеть – его соперник не обретет силы и не сможет ему угрожать…
Киевляне уже потихоньку ладили себе колядошные личины, когда пришла весть о скором прибытии Ингвара. Он уже находился в Любичевске, городе на Днепре чуть выше Киева. На днях будет здесь.
Говорили, что вернулся он с победой, привез добычу и полон.
Эльга снова взволновалась.
Еще несколько дней – и ее запутанная судьба окончательно решится!
А еще – Ингвар должен привезти Уту!
Ее любимую сестру, которую судьба так странно и жестоко оторвала от нее. Сначала они потеряли ее в лесу – этого она не могла простить Мистине до сих пор, – а потом ее пленил по пути в Киев Дивислав. И это возмущало Эльгу, не менее чем захват ее приданого. Если Дивислав побежден, то Ута свободна, и Ингвар доставит ее сюда. Они снова будут вместе!
Эльга заранее вздыхала с облегчением, воображая рядом с собой сестру, с которой можно поговорить обо всем, доверить все свои тревоги, и она всегда поймет, пожалеет, посоветует!
Даже будучи окружена знатными родственницами, Эльга скучала по той, к которой за всю жизнь привыкла, как к самой себе. Она даже сна лишилась и вертелась на лавке, дожидаясь возвращения Ингвара с большим нетерпением, чем ранней осенью.
Скорее бы приехала Ута, скорее бы все решилось!
Дружина Ингвара подошла к Киеву ночью.
Ее ждали раньше, да и сами путники надеялись добраться быстрее, но какая-то лошадь в обозе сломала ногу; пока перегружались, потом поднялась метель…
Мистина выслал навстречу человека с предупреждением, что можно ехать прямо на новый Ингваров двор – его наконец достроили. Ингвар обрадовался: у него было уже столько людей и добра, что располагаться со всем этим в княжеском гриде, как прежде, просто невозможно. Пришлось бы искать постой, распределять людей – кого туда, кого к Свенгельду…
Новый двор его стоял на верхнем уступе Подола.
Ингвар сам выбрал это место, и Олег одобрил. Старая знать была довольна, что беспокойный волховецкий княжич поселится подальше от них – вне града на Горе. К тому же все помнили, как впервые высаживался здесь же, тогда на еще почти пустом месте, Олег Вещий: пока подняли тревогу, пока туда добралась с Горы дружина князя Аскольда, было уже поздно.
Перед воротами горел большой костер, освещая подъезд.
Еще долго продолжалась суета: мельтешили люди, водили лошадей, разносили поклажу.
Женщин и детей сразу отвели в княжью избу: там было тепло, потому что челядь уже несколько дней топила печь.
Ута, сбросив верхний платок, села на голую лавку и огляделась.
Ну вот, она почти дома.
Не очень-то радовал пока этот дом: печь, очаг, стол, лавки, полати, посудные полки – вот и все. Ни покрывал, ни полавочников, никакой красоты. Новые бревна и белые полосы мха в щелях. Хорошо хоть, проконопатили на совесть.
И места много.
Посуды никакой не было; своя, из приданого, лежала в укладках, но их еще не сгрузили с саней и не внесли.
Дети так устали, что хотели только спать; Ута и Держана раздели их, уложили на свои же тюфяки, укрыли, и все пятеро тут же заснули.
Держана тоже улеглась, накрывшись шубой, а Ута еще подождала: то сидела, то выходила во двор, где еще суетились кмети и челядь.
Она в Киеве!
Но пока этот город, о котором ей много приходилось слышать, ничем себя не проявил. Новый, просторный, но необжитый дом был неуютнее, чем все те избы, где им приходилось ночевать по дороге.
И что дальше? Здесь ей и жить?
Разумеется, сегодня она сестру не увидит.
Кто же Эльгу пустит ночью на пристань? Надо ждать до завтра.
У молодой вдовы замирало сердце: найдет ли она в Эльге прежнюю любящую сестру, или и та переменилась, как вся ее жизнь?
Улеглись поздно, а наутро Ингвара разбудили еще в темноте.
– Там пришел к тебе самый главный жид хазарский! – сообщил Радята. – Гостята Когенович. Кланяется и просит допустить пред светлы очи. Прям ему невтерпеж. Мне кокурку дал.
– А ты ему сказал, куда пойти? – осведомился Ингвар, едва оторвав голову от свернутого плаща, служившего подушкой.
– Сказал. А он говорит, что совсем не про то дело, а вовсе про другое. И какие-то мешки привез. Полные сани.
– Княже! – раздался женский голос, и в грид заглянула челядинка. – Княгиня Ута спрашивает, можно принять припас, что жид привез? А то у нас на завтрак ничего нет, ни зернышка.
Ингвар шумно выдохнул, вылез из-под кожуха, которым укрывался, и стал впотьмах обуваться.
Во дворе Ута, закутанная в кожух и большой платок поверх убруса, беседовала с крупным осанистым мужчиной, обладателем реденькой, как у многих степняков, бородки и белой остроконечной шляпы с небольшими полями.
– Здесь горох, солод, просо, вяленая рыба, – показывал он на мешки в санях. – Сушеные грибы. Вон там – корчага масла, пусть твоя челядь берется за нее осторожнее… А, князь Ингорь! – завидев Ингвара, он поклонился. – Благодарю, что не погнушался выйти ко мне. Удели немного времени для беседы, прошу!
– Пойдем! – Ингвар махнул рукой в сторону избы.
Старик Гостята был не просто очень богат.
Отец его происходил из племени каваров, имевших наибольший вес в Хазарском каганате в прежние годы. В ходе борьбы за власть с подлинными хазарами они были изгнаны и осели в Киеве, который как раз в то время кагану подчиняться перестал. Гостята щедро помогал нуждающимся единоверцам и пользовался уважением. Едва ли он явился этим непроглядным зимним утром перед Колядой, чтобы снова жаловаться на погром трехмесячной давности.
В избе Гостята остановился на полпути от двери, Ингвар сел к столу. Нашел огрызок хлебной горбушки, стал рассеянно жевать. Да, припасы вышли, а людей кормить надо, со вчерашнего дня не евши никто…
Челядинка разводила огонь в очаге. Вошла Ута, за ней холоп нес мешок, другой – черный дружинный котел, помнящий сотни походных костров.
– Где здесь колодец? – спросила она у Ингвара.
– Пусть Радята с холопом сходит, он знает.
– Осмелюсь тебя спросить, – Гостята почтительно вытянул шею, – эта замечательная молодая женщина – тебе жена или сестра?
– Сестра? – Ингвар удивился. – Она мне свояченица… скоро будет.
– А! Прости. – Гостята снова поклонился. – Вы так схожи…
Ингвар озадаченно посмотрел на Уту и сообразил: да, можно так подумать. Они оба невысоки ростом, у обоих серые глаза и рыжеватые брови.
Хотя Ута казалась ему настолько тонкой, нежной и хрупкой, что смешно было равнять ее с собой.
– Так ты чего пришел? – Он вновь посмотрел на хазарина.
– Я пришел говорить о важном деле. О нет, вовсе не о том, что было осенью. Об этой неурядице мы давно позабыли. Мы твои друзья, князь Ингорь. Для нас очень важно, чтобы ты знал: мы, вся наша община – твои друзья. Я рад, что ты принял маленькое подношение в знак нашей дружбы. Конечно, это пустяки – немного муки, крупы и лука, и масла и рыбы… Мы ведь стремимся принадлежать к тем, кто дает, а не к тем, кто берет, дабы хлеб наш всегда был доступен каждому страннику и прохожему, а ты сейчас – еще почти странник, хотя дом твой рад приветствовать тебя под своей сенью…
Он слегка запутался и помолчал.
– Скажи, что тебе еще нужно, – гость оглядел голые стены, – или лучше пусть твоя сестра… свояченица скажет, чего бы ей хотелось для домашнего устройства, и все будет доставлено ей сегодня же и по самым умеренным ценам, будто моей собственной сестре! Любые припасы, какие можно достать в этой части света, утварь, посуда, ткани – все, что нужно для хорошего дома знатного человека! Впрочем, у тебя ведь скоро будет жена…
– Слушай, ты меня утомил! – Ингвар поморщился. – Я еще не жрамши. Чего ты хочешь?
– На наших уважаемых людей в городе клевещут. Распускают гнусные слухи… Будто бы это мы распускаем гнусные слухи. А мы этого не делали! Клянусь всемогущим богом, мы не те, кто клевещет, а те, кто предостерегает. Зачем мы будем клеветать на девушку, которую и не видели никогда? Откуда бы нам знать, кто что делал в такой дали от Киева? Разве мы выдаем себя за ясновидящих? Нет. Разве мы могли прочесть это в наших священных книгах? Тоже нет. Может, мы пили пиво с людьми Свенгельдова сына? Тоже нет! Значит, мы ничего не можем об этом знать. А раз мы ничего не знаем, зачем мы стали бы лгать? Нам и так хватает неприятностей. А ведь все, чего мы хотим, – это мир с киевскими жителями и дружба его владык. Совсем недавно мы понесли такой ущерб из-за разбойников, которые убили несчастного Леви бен Хануку и вынудили нас собрать шестьдесят ногат для уплаты его долга воеводе Свенгельду! Разве кто-то из нас хочет тоже оказаться в порубе с железом на ногах и на шее?
– Чего ты хочешь, я так и не понял. – Ингвар помотал головой, спросонья не в силах уловить смысл этой длинной речи.
– Он сказать хочет: его людей обвиняют, будто они распускают слухи, а они этого не делали, – пришла на помощь Ута, стоявшая возле очага.
– Благослови тебя бог, госпожа!
– Какие, йотуна мать, слухи?
– Я не могу сказать. Хочу лишь, чтобы ты знал: мы не причастны к ним так же, как… вот эти дети! – Гостята поклонился белым головкам на полатях. – А ведь тебе непременно скажут: это жиды. Поэтому я и побеспокоил тебя так рано, чтобы раньше наших клеветников сказать: мы невиновны! Мы твои друзья и ни в коем случае не станем…
Ингвар закрыл глаза, глубоко вдохнул.
Он знал, что горячность не доводит до добра, и не хотел, едва приехав в Киев на собственную свадьбу, опять начинать с драки, разбирательств, возмещений убытков и прочей хлопотни.
– В чем дело? – спросил он, стараясь придать голосу мягкость и задушевность. – Обещаю, что не трону тебя и даже постараюсь не обвинять вас, если вы не виноваты.
– Обещаешь? Дело в… как жаль, нам очень жаль! Но дурные люди… упоминают имя твоей невесты, дочери нашего дорогого покойного тархана Хелгу, да будет память его прославлена в потомстве! Некие из этих людей уже понесли наказание: одному проломили голову, второй пропал, видимо, спущен в прорубь…
– Дочери покойного… кого? – Ута подошла ближе, держа деревянную ложку.
– Это хазары так Вещего называют, – пояснил ей Ингвар. – Тархан Хелгу.
– А у него осталась дочь? Это… кажется, мать князя Олега?
– Та умерла давно. Он говорит об Эльге. Ее здесь посчитали Олеговой дочерью.
– Вот как! – Ута пришла в изумление. – Разве они не знают, что она дочь его брата?
– А ты знала, что она на него похожа, как родная дочь?
– Она… похожа на своего отца, моего стрыя Вальгарда.
– А тот, видать, на своего брата. Но вашего Вальгарда здешние никогда не видели, а Олега Вещего видели. Вот и признали.
– Надо же… – пробормотала Ута, чувствуя, что не знала о своей сестре чего-то важного.
– Так что говорят? – Она снова обратилась к Гостяте. – Отвечай, добрый человек, не бойся. Только скажи правду.
– Ах, так это твоя сестра! Как я не понял сразу? Правда, красота твоя и ее – как две различные жемчужины в драгоценной оправе…
– Говори, в чем дело! – В голосе Уты прорезалось нетерпение.
– Она ведь приехала в Киев под покровительством твоего человека, сына Свенгельда?
– Ну? – угрюмо подтвердил Ингвар.
– А теперь говорят, что… что он сам желал взять ее в жены… – Руки Гостяты изобразили в воздухе нечто почтительно-многозначительное. – Ну, ты понимаешь. И даже будто бы она ехала часть пути в уборе мужней жены, а потом опять стала девой.
– Нет, не может… – начала Ута, но осеклась.
Она хотела верить, что честь ее сестры не пострадала. Но судьба так переменчива и так любит обманывать ожидания – в этом Ута убедилась по опыту. Разве сама она не сделалась мужней женой совершенно внезапно для себя и родных? Как после и вдовой…
Ингвар зажмурился, одной рукой вцепился в столешницу, второй махнул на Гостяту:
– Уйди!
Тот отшатнулся, поняв, что сейчас его безопасность – в немедленном исчезновении с княжеских глаз.
– Но помни: это не мы! – закричал он уже от двери.
– Йотуна мать!
Ингвар со всей силы грохнул кулаком по столу.
– Не верь ничему! – закрыв дверь за гостем, Ута подбежала к нему. – Мы должны повидаться с ней… с ними. Пойдем туда! Отведи меня к ней! Я увижусь с Эльгой, а ты с Мистиной, и мы все выясним! Она не могла, разве что он ее…
– Если… он… ее… тронул…
Ингвар открыл глаза и ударами кулаков будто вбивал каждое слово в столешницу.
– Я ему…
Ута закрыла лицо руками и отвернулась.
Даже для женщин, выросших возле дружины, есть предел терпения.
Ворота на Олеговой горе так рано не открывали, пришлось ждать рассвета.
Да и будет ли рассвет? До Коляды оставалось немного, утро приползало нехотя, позднее и неяркое. И еще в сумерках, пока Ингвар ел кашу, явились два отрока – младшие Избыгневичи. Их прислал князь Предслав: дескать, кланяется и просит княжича Ингоря пожаловать к нему, ни с кем до того не видаясь.
Ингвар посмотрел на Уту: они оба поняли, что это значит. Гостята не соврал, здесь происходит что-то нехорошее.
– Ворота откроют – приду, – буркнул Ингвар.
– Нам откроют, – заверили отроки. – Князь Предслав велел отворить. Очень просит тебя к нему прямо.
Ингвар доел кашу и отправился с ними.
По дороге молчали: парням велели его привести, но разговоров не заводить. А Ингвар думал, насколько худо дело, если князь Предслав, человек почтенный и не суетливый, затеял встречу с утра пораньше.
Предслав жил на Горе, среди исконной полянской знати, в которую влился благодаря браку его матери, моравской княгини Святожизны, со старым боярином Избыгневом.
Было еще почти темно, в избе горели восковые свечи в красивых, греческой работы, подставках: это был подарок Вещего к свадьбе тридцатилетней давности.
Ингвара старик встретил ласково: вышел к двери, обнял, проводил к столу.
– Здоров? Как поход? Удачен?
– Удачен. Зоричи теперь наши данники, в Зорин-городце Гудя и Сорога сидят. Приданое я привез. Лиходеи с Наровы выбиты еще моим отцом, мечи их доставил. Так что я все условия выполнил. – Ингвар прямо взглянул на Предслава. – Что скажете о свадьбе? Как моя невеста, здорова ли? Благополучна?
– А ты слышал, что говорят?
– От жида Гостяты слышал, что они к тем слухам непричастны.
– Вот хват! Успел уже! – Предслав удивленно рассмеялся. – Когда же он к тебе…
– А вот нынче до зари.
– Я того и боялся: узнаешь про ту брехню и опять… как бы лишнего шума не вышло. А к чему нам лишний шум? Дураки болтают, сами не знают чего. Девушка честная. Но если ты засомневаешься, то ведь все можно решить полюбовно.
– Это как? – Ингвар исподлобья глянул на него.
– Только враги наши обрадуются, если между нами будет вражда. Между тобой и князем. Между тобой и Свенгельдом. Все только и ждут, что с твоим приездом начнется шум и раздор. Ждут деревляне и еще кое-кто. Вы с Олегом сильны, пока объединяете ваши силы. Если между вами будет раздор, наши данники немедленно отпадут и все труды, все походы твои и самого Вещего пропадут даром, а полянам придется сызнова отбиваться от Деревляни. Все придется начинать с самого начала! Ты уже не отрок, а зрелый муж. Ты сам завоевывал земли и знаешь, чего это стоит. Бог не попустит, чтобы мы все потеряли из-за пустых разговоров на торгу и причале. Пусть глупцы болтают. Если ты не веришь им – мы справим свадьбу хоть завтра. Если… не хочешь подвергать опасности свою честь, мы не станем держать на тебя обиды и…
– Опять разорвем обручение? – докончил Ингвар.
Он помолчал и невесело рассмеялся:
– Старче, ну, это вовсе… спьяну не примерещится. Сперва разорвали обручение, потому что мой отец в какое-то дерьмо вляпался, а ее отец испугался, что замарается. Теперь она во что-то вляпалась, а я должен бояться. Да нас за Хазарским морем на смех поднимут. Скажут, уж вы или женитесь, или… удавитесь, да людей кончайте смешить!
– Зачем же? – Предслав развел руками. – Мы решим дело миром и никому не дадим над нами смеяться. Мы ведь и так уже родичи! Мистина согласен взять ее за себя, если ты откажешься. Мы не понесем урона. А ты…
– А я, значит, – перебил его Ингвар, – возьму за себя другую племянницу Вещего! Но она и так уже моя! Я убил Дивислава и взял его вдову! И она тоже – из рода Вещего. Коли так – она будет моей женой! Только уж все это йотуново приданое я не отдам! Не для того я за ним ездил и голову под топоры подставлял, чтобы кривоносому услужить!
– Тише, зачем ты так! – Предслав переменился в лице и поднял руки. – Скажи: ты не веришь слухам? Если нужно, мы готовы очиститься от обвинения в бесчестье, как подобает. Даже поединком.
– С кем? От кого идут эти йотуновы слухи?
– Я не знаю и знать не хочу. Но мы готовы поручиться, что девушка чиста и достойна стать твоей женой. Однако если ты не веришь…
– Я все же сперва с Мистиной потолкую. Я уже не мальчик, у меня своя голова есть!
Ингвар вскочил и вышел, едва не забыв шапку.
Предслав молча посмотрел ему вслед.
Лицо старого князя было сурово.
А ведь и правда – не мальчик: научился думать сам. То, чем Ингвар пригрозил, никому не являлось на ум. Ута дочь Торлейва тоже приходится Вещему племянницей. Знатностью рода она уступала Эльге, не будучи в кровном родстве с плесковскими князьями, но здесь это значило меньше. К тому же после своего недолгого замужества она сохранила звание княгини, что уравняло ее с Эльгой.
И если в Киеве окажутся двое враждующих молодых воевод, Ингвар и Мистина Свенгельдич, оба женатые на племянницах покойного великана и оба имеющие за собой вооруженную силу…
В глазах Предслава уже плясало пламя над Горой.
Все, что было выстроено за многие десятилетия, сгорит в один ужасный день.
Эльга ждала, поднявшись до рассвета, хотя знала, что ворота еще закрыты.
Но вот рассвело, ворота давно открылись, а никто не приходил.
Где Ингвар? Где Ута?
Дружина ночью вернулась в Киев, об этом уже было известно всем.
Живы ли те, кого она ждала? Здоровы ли?
Одетая в лучшее варяжское платье – брусничной шерсти, с отделкой красно-белым узорным шелком и тончайшей серебротканой тесьмой, она металась от оконца к лавке, не в силах усидеть даже мгновение.
– Да где же он? – Мальфрид тоже волновалась, желая скорее увидеть брата и убедиться, что он не повел дружину громить Свенгельдов двор, убивать Мистину или жечь Козарский конец.
К полудню прибежали Ростислава и Милочада.
– Ну, что? Был? Не был? Неужто не приходил до сих пор?
Оказалось, что у Предслава Ингвар побывал еще до рассвета и все знает.
У Эльги похолодело внутри, ноги подкосились, и она наконец села.
Впервые ей пришло в голову, что ведь Ингвар и правда может от нее отказаться. Что, если он поверит слухам?
Его отсутствие подкрепляло опасения. Если он выполнил условия невесты, почему не спешит ее повидать?
– Ему Святополкович миром предлагал дело решить, – тарахтела Милочада, называвшая мужа по отчеству. – Дескать, если усомнится, то Мистина Эльгу возьмет. А он сказал, что тогда на сестре твоей женится – вот все и уладится…
– Кто?
– Да Ингорь!
– Что? – Эльга в изумлении воззрилась на Милочаду. – На моей сестре? На какой? Они две малы еще, Беряшка и поневу не носит…
– Да нет же! На той сестре, что привез! Дивиславовой княгине!
Эльга помолчала, пытаясь сообразить, кто это.
– На Уте? – вымолвила она наконец.
– Он же одну привез?
Эльга замерла, лишь дрожащие пальцы перебирали концы узорного пояска.
Нет, этого не может быть.
Ингвар… после всего этого…
Ута – Дивиславова княгиня?
Эльга вдруг расхохоталась полубезумным смехом, даже согнулась к коленям.
– Сперва… Ута за Дивислава вышла… – еле выговорила она, отвечая на удивленные взгляды женщин, – за одного моего жениха! Теперь… другой мой жених… тоже… Я ли не хороша? Или приданого мало?
Мальфрид и две Предславовы бабы что-то говорили, но она их не слышала.
Если она сейчас выйдет за Мистину, весь белый свет примет это как подтверждение ее бесчестья.
Понятно, почему князь Предслав намекал ей на Свенгельдича – Олегову роду выгодно, чтобы Ингвар не получил в жены наследницу Вещего. А Мистина им не опасен: он после всей этой заварухи на много лет будет занят враждой с Ингваром – до смерти одного из них.
А вот Ингвар, получив ее в жены, станет первым наследником Олега и даже соперником его, если пожелает.
А Волховец… что Волховец?
Даже сделавшись киевским князем, Ингвар не перестанет быть наследником своего отца. И после смерти Ульва конунга станет править и на Ильмене, и на Днепре. Его держава будет так велика, что не уступит даже владениям его легендарных предков – самого Харальда Боезуба!
И ее детские мечты станут явью.
Вместе с Ингваром и она, Эльга, будет владеть землями от Варяжского моря до Греческого.
Неужели это все должно достаться Уте?
Нет, судьба предназначила эту славу ей, Эльге! Предназначила еще восемь лет назад, просто ее отец вовремя не понял, какие возможности тут открываются. Хотел лишить ее целого мира из-за каких-то… собачьих костей, о которых давным-давно все позабыли.
Из Плескова этого было не видно. Но ей-то теперь все видно очень хорошо, и она не отдаст своего.
И к лешему Мистину! Он ведь не может дать ей ничего подобного. И нос у него кривой!
– Я сама пойду к ним! – заявила Эльга, перебив оживленный говор в избе, и встала. – Если я ему не по нраву, пусть сам мне это скажет!
– Куда ты пойдешь? – Мальфрид кинулась к ней, схватила за плечи и силой усадила обратно. – Ты уже сама… побегала в чистом поле, теперь, вон, стыда не оберешься! Хватит. Больше я тебе позориться не дам. И долю брата моего никому другому забрать не позволю. Идите, найдите их обоих! – велела она челяди. – Приведите Ингвара и Мистину. К Свенгельду на двор ступайте, наверняка они там.
Там их и обнаружили.
Вопреки ожиданиям к Мальфрид они явились в обнимку и даже без следов драки на лицах. Драки никакой и не было: поскольку объяснялись они в присутствии Свенгельда, тот, вырастивший обоих, мог и укротить их одним взглядом.
– Да я бы разве когда… – повторял Мистина то, что уже сорок раз говорил всем. – Да все ребята видели: я по дороге к ней не лез. Ты же князь мой! Ты же мне брат! А это все жиды налгали, хотели нас поссорить! Не могут нам те сорок ногат простить. Зря ты Гостяту живым отпустил…
Войдя и увидев Эльгу, стоящую посреди избы, прямую и строгую, будто валькирия, оба утихли и пригладили волосы.
Эльга посмотрела сначала на одного, потом на другого, будто именно сейчас должна была сделать окончательный выбор между ними.
По лицу Мистины было видно, что он это воспринимает именно так.
Ингвар… его лица она прочесть не могла.
Он показался ей суровым и еще более возмужавшим за эти несколько месяцев.
И снова сердце пронзила тревога, что он сам может отвергнуть ее, и она не станет королевой державы от моря до моря!
– Здравствуй, князь Ингвар. – Эльга приветливо поклонилась. – Привез ли ты мое приданое?
– Привез. – Ингвар тоже поклонился. – И сестру привез. И мечи лиходеев с Наровы. Головы с них еще летом сняли – нельзя было сохранить.
– Стало быть, ты мое условие выполнил. И я свое выполню. Мой отец меня тебе обещал, я сама своей волей тебя избрала и к тебе с края света приехала. Будем играть свадьбу. А после свадьбы пусть твоя сестра всем настилальник покажет. Пусть люди видят, что чести моей урону не было. А не покажет – пойду в прорубь на Днепре брошусь, а ты – женись тогда на ком хочешь. Идет уговор?
Ингвар поднял руку ко рту, скрывая усмешку:
– Идет!
И протянул ей ладонь, как в ту их давнюю встречу.
Эльга с размаху ударила по ней:
– А теперь приведи ко мне наконец мою сестру!
Было уже давно за полдень, а я все сидела на Ингваровом дворе с Держаной и детьми.
Ингвар ушел еще в темноте и не возвращался, никаких вестей не приносили. Дружина спала, отдыхая после долгого пути. Челядь топила баню, хирдманы ходили туда по очереди, потом ели кашу и опять заваливались спать.
Потом какие-то люди привезли на санях трех молодых женщин с укладками и коробами и сказали: это Ингваровы жены, Свенгельд больше не хочет держать их у себя, раз у него теперь есть свой двор.
Я отвела их в свободную избу, чтобы устраивались, а потом приходили есть кашу. Их звали Желька, Зоранка и Славча, но я под платками не разобрала, где кто.
Все эти дела позволяли мне забыть о времени, но порой я, опомнившись, приходила в ужас от мысли, как много его убежало.
Где Ингвар и Эльга? Что с ними?
Помирились они, или в городе происходит нечто ужасное, о чем не знаю только я?
Не раз я выходила к воротам и осматривалась, но на пристанях и уступах Подола было тихо, только дымили оконца. С вершин гор тоже поднимались дымки, но тамошних строений мне отсюда было не видно.
Наконец меня позвали.
– Там пришел один… – сказал Забой, стороживший ворота. – Спрашивает, кто из хозяев дома есть.
– Князя Ингвара нет.
– Я сказал. Он спросил, а кто есть. Я сказал, княгиня есть. Он просится княгиню повидать.
– Но кто его прислал? – Я подумала об Эльге.
– По виду – леший его прислал! – скривился парень. – Я б не пускал.
Но я решила все же выйти: вдруг это от Эльги или Ингвара?
Мне была ценна тогда самая малейшая весть.
За воротами стоял такой человек… словом, я сразу поняла, почему Забой счел его посланцем лешего.
Это был мужчина уже зрелый, но настолько огрубевший и грязный, что лета его разобрать было трудно. Спутанные волосы, свалявшаяся борода, грязь в морщинах и кожа закопченная, будто он год не умывался. Веко над правым глазом было опущено – пришелец был крив.
– Ты кто? – спросил он, окинув меня взглядом единственного глаза. – Чья вдова?
– А ты кто такой? – Его повадка показалась мне уж слишком грубой, и я подумала, что не нужно было мне выходить к нему.
– Бьярки Кривой я.
Мне это имя ничего не говорило, кроме того, что он из варягов-урманов.
Правда, по-славянски он говорил как местный, видимо, прожил здесь всю жизнь.
– Плишка и Шкуродер были мои приятели. Всю жизнь мы с ними вместе, еще с отроков. Я с Вещим в Киев приехал! Мы у Вещего отроками были, с ним в первый свой поход пошли! И с тех пор все время вместе. Теперь вот они сдохли, а я тут один шатаюсь, как дерьмо в проруби!
– Чего ты хочешь? – Меня пробирала дрожь от его вида и хриплого голоса, хотелось поскорее отделаться от этого гостя. – Еды? Я велю вынести тебе…
– Давай и пожрать, коли есть. Но я не про то пришел. Князя Ингвара нету?
– Он пошел на Гору.
– Как вернется, ты скажи ему: это все побрательничек его, Свенгельдич.
– Что?
– Болтал про девку, что он вроде поимел ее по дороге. Поимел или нет – я не знаю. А трепотня пошла от его дружины. Нам Хрут и Кручина, его парни, рассказали, когда еще никто не знал. И про убрус, и про все. И уж верно, он сам им и велел. Не велел бы – они б молчали в старую обмотку.
Я похолодела.
Неужели это правда, что мы слышали…
– А потом он отпираться стал. Дескать, не я и дружина не моя! И Плишку со Шкуродером он прибил. Не сами они подрались. Мистина велел прибить, чтоб не разболтали, что это от него все пошло. Видать, девка-то не дала, вот он и развел кисель, чтобы хоть так ее получить да к Вещему в родичи набиться. Ужом пролезть! А побрательники мои ему мешать стали, вишь… Видать, и меня прибьет, как найдет. А только мне плевать. Пойду за дружками моими. Что я без них?
Он хотел идти прочь, но обернулся:
– Так будет пожрать чего?
Я велела вынести ему остатки каши и три последних остывших блина, а сама вернулась в дом.
Не все мне было понятно из его сбивчивой речи. Но похоже, Гостята был прав, пытаясь отвести подозрения в клевете от себя и своих людей. Это пошло от Мистины, и он даже убил кого-то, чтобы скрыть свой след. Рассказать об этом – единственная доступная бродяге месть за своих старых товарищей.
И он хотел, чтобы об этом знал Ингвар.
Если окажется, что тот поверил слухам и хочет отказаться от Эльги, конечно, я ему передам все, что мне рассказал Бьярки. Не знаю, сумеют ли потом его сыскать, подтвердит ли он свои слова. Впрочем, кому поверят: спившемуся бродяге или сыну знатного воеводы?
Пока я думала об этом, дверь снова распахнулась и я увидела на пороге Ингвара.
– Идем! – он весело махнул мне шапкой. – Эльга тебя зовет!
– Все хорошо?
Я вскочила.
– Хорошо! – Он на радостях обнял меня. – Сама велела свадьбу готовить! И сказала, что если честь ее порушенной окажется, то наутро в прорубь кинется. О какая!
– Да что ты, какая про…
– Да кто б ее пустил! Не бойся. Пойдем! Она сказала, если вот сейчас тебя не доставлю, она меня самого в проруби утопит!
Он смеялся и был очень весел.
И я поняла: мне лучше пока молчать о том, что я узнала.
Хотя бы до свадьбы, чтобы ничто ей не помешало.
Свадьбу сыграли через несколько дней: успели в последний срок перед Колядой, пока еще было можно.
Наверное, я должна рассказать о ней подробно, но я ведь, как свежая вдова, на ней не была, чтобы не заразить сестру моим несчастьем.
Но я с нашими киевскими родственницами убирала новый дом Ингвара утварью из приданого. И когда туда вступила невеста, с головы до ног окутанная белой паволокой – от сглазу, этот дом выглядел совсем не так, как той зимней ночью, когда в него привезли меня. Лавки были покрыты цветными полавочниками, стены так плотно увешаны шитыми свадебными рушниками, что не было видно бревен. Полки наполнились красивой посудой, стол уставили греческими и хвалынскими чашами и блюдами, из серебра и расписной глины.
Ростислава и Милочада расстелили на полу свадебный рушник, жених и невеста встали каждый на свою половину.
Предслав благословил их караваем, Ингвар обвел Эльгу вокруг очага, потом Мальфрид подала им свадебное пиво.
В Киеве справлялось много свадеб, смешавших обряды славян и северян, но ни у кого еще не было в свидетелях такого множества знатных людей.
За столом сидели только родичи, и тех набралось с два десятка человек. Для остальных накрыли в гридницах – и здешней, и княжьей.
Я провела этот день у княгини Мальфрид.
Наутро она сама, в сопровождении всех родичей и чуть ли не всей киевской старейшины, отправилась будить молодых. Я тоже пошла, позади всех, надеясь, что под длинным кожухом и большим платком моя сряда «полной печали» не слишком бросается в глаза.
Я не сомневалась в том, что мы все увидим, но не могла пропустить такой случай.
Когда княгиня, выйдя из избы, развернула настилальник и подняла, весь двор разразился ликующими воплями.
Мы с Эльгой нарочно выбрали для этой ночи настилальник из самого тонкого полотна, выбеленный наилучшим образом.
Пятна крови были неяркими и небольшими.
А я смотрела на них и думала: какое счастье, что в Киеве пролилась именно эта кровь!
Ведь все могло обернуться гораздо хуже…
Сказать честно, в это время я думала еще и о другом, не менее важном для меня. И не только для меня. В это утро другое белое полотно… осталось чистым. Опять, хотя уже дня три-четыре, как его должны были украсить кровавые пятна.
Полотно моей сорочки.
Перед свадьбой Эльга потребовала, чтобы Ингвар удалил от себя прочих жен – до тех пор, пока у нее, Эльги, не родится сын.
– Мой сын должен быть старшим твоим наследником, и он будет старшим! – сказала она, когда он пришел посмотреть, как мы обустраиваем дом, раскладывая по местам добро из укладок с ее приданым. – Мне было сделано предсказание, что у меня родится сын и станет великим воином. И ему не годится служить воеводой у старших сводных братьев. Если хочешь знать, я не вышла за Дивислава, потому что у него уже были сыновья!
Она подбоченилась и сделала шаг к Ингвару – истинная повелительница.
А он через ее плечо взглянул на меня.
Боюсь, мое лицо переменилось, хотя я старалась ничем себя не выдать. Ведь эти самые сыновья Дивислава теперь жили здесь, со мной…
– Уговорила, – сказал он, не сводя с меня глаз. – Удалю всех.
В тот же вечер я наткнулась на дворе на одну из них, уличанку Славчу. Она плакала, прикрывая лицо варежкой, а рядом стоял довольный Хрольв с мешком в руках.
– Что случилось? – Я остановилась.
– Теперь она моя! – Хрольв радостно ухмыльнулся. – Князь мне отдал. Насовсем, сказал. Потому что я хороший парень!
– Ох… – Я вспомнила утренний разговор. – Славча, ну что ты плачешь? Я уж подумала, тебя за Хазарское море продают! А Хрольв и правда хороший человек, ты счастливо с ним будешь жить.
– Я знаю, – всхлипнула она.
– А чего слезы льешь?
– Для порядку.
Я засмеялась, Хрольв тоже засмеялся, вскинул мешок на плечо, взял ее свободной рукой за руку и повел со двора.
Двух других жен Ингвар тоже отдал старшим хирдманам, у кого не было своих.
Сейчас он готов был исполнить любую просьбу Эльги, даже с избытком.
Она была такая – всякий, кто видел ее и говорил с ней, желал угодить ей, сам не зная почему.
И вот все радостно кричали, глядя на смазанные красноватые пятна на белом льне, и Мистина громче всех.
Можно было подумать, он – родной брат невинно оболганной девы и теперь сильнее всех радуется ее оправданию!
А я даже не могла радоваться – я ведь в ней и не сомневалась.
Бог хранил ее и вел по предначертанному пути, не давая сойти в трясину.
А вот что делать мне? Совершенно того не желая, я теперь несла в себе угрозу тому витязю, пророчество о рождении которого мы с ней слушали вместе. В той избе, где старая пряха судьбы сидела на полатях, на полпути от земли к небу, с длинным копылом между ног…
Еще три дня продолжались свадебные пиры.
Потом настала Коляда.
В эти дни мне всегда страшно. С самого детства.
Помню, как родичи собирались за столом, а на нем была поставлена отдельная миска для мертвых и положены ложки. Эльгина мать всегда клала ложку и для своего первого покойного мужа, и Вальгард не возражал: тот был достойный человек, так почему не предложить и ему каши?
Мы, дети, лежали на полатях тихо-тихо, прислушивались, пытаясь уловить присутствие чуров. Их нельзя видеть, они сказываются только звуком, а еще могут прикоснуться к руке, передвинуть что-то, уронить слезу на лицо спящего…
И когда приходили личины – собирать припасы для треб и обчинного пира, я всегда забивалась в самый дальний угол.
Мне все казалось, что они пришли за мной…
Коляда в Киеве была иной: здесь тоже ходили личины, много дней подряд было шумно, везде пировали, шуточно дрались. А порой и не шуточно – уж слишком разный народ здесь собирался.
Пылали костры в святилище на Горе и на верхних уступах Подола.
Повсюду бродили и ползали пьяные. Однажды я нашла под чьим-то тыном человека с окровавленной головой, и он показался мне знакомым. Я взяла чистого снега, промыла ему лоб, перевязала платком – это был тот самый вестник, Бьярки Кривой. Он не сразу меня узнал и почему-то называл Сиббой, но потом вспомнил, кто перед ним.
И я привела его домой, то есть к Ингвару – я жила у них с Эльгой. Сама не понимая, зачем привела. Просто не могла смотреть, как лежит в снегу и крови человек, которого я знаю по имени. Я ведь выросла в краю, где на день пути нет ни одного незнакомца, и не привыкла еще обитать в таком месте, где почти все чужие и человек может умереть под тыном, хуже собаки, не знаемый никем…
Наверное, я это сделала еще и потому, что мне было слишком тоскливо. Здесь жило с полтора десятка моих кровных родичей – не считая Эльги, еще Предславичи – и все же я была так одинока, как никогда в жизни.
С Эльгой меня разделила такая грозная тайна, что я не находила себе места.
И наконец я призналась ей.
Она сначала не поняла и удивилась:
– Но ведь твой муж умер… после Дожинок, то есть ты уже на…
Я покачала головой:
– Это не муж.
– А кто? – снова удивилась она, и видно было, что никакое подозрение ей даже на ум не приходит.
Я показала глазами на рубаху Ингвара, которую он бросил на ларе, торопясь на гулянье.
Она переменилась в лице:
– Да как это могло быть?
– Он убил моего мужа и захватил наш город…
Я надеялась, она сама все поймет. Хотя знала, что понесла я не в день битвы на Ловати, а позже, по дороге сюда.
– Да как он посмел! – в ярости закричала она. – Он мое приданое ездил добывать или другую жену себе? Вот почему он говорил, что на тебе женится!
– Что? – Теперь уже я не поверила ушам. – Что он говорил?!
– Что на тебе женится, если я за Мистину пойду! И с тобой станет киевским князем!
– Опомнись! – Я бросилась к ней. – Что ты мелешь?
Она и правда опомнилась и закрыла себе рот рукой, будто проговорилась нечаянно.
– У Киева есть князь! – мягко напомнила я. – Сын нашей с тобой двоюродной сестры Брониславы, дочери дяди Одда. Он наш племянник, мы ему зла не желаем. И сыну его. Он-то к нам со всей родственной любовью…
– Да, конечно, – кивала она, но была бледна и смотрела куда-то в пространство. – Только что же мне с тобой-то делать? Я еще не… не знаю пока… А ты уже знаешь… Никому не говори, слышишь!
Она вскочила и схватила меня за руки:
– Ни единой душе!
– Я и не скажу. Но пойми… Я думаю, это все из-за того… что с нами было в лесу. Мы разгневали чуров… из-за нас погиб Князь-Медведь. Я неправильно вошла в Навь, а ты неправильно вышла, и теперь у нас все перепуталось – мужья, старшинство детей… Нужно поискать кого-то, кто знает, как это исправить…
– Я поправлю! Все будет хорошо.
Она схватила кожух и убежала.
А я осталась сидеть.
Если она надеялась сама исправить то, что мы натворили, то не Вещему, а самой Макоши и Фригг – пряхам судеб, могла быть наследницей!
Больше мы об этом не говорили.
Я жила при Эльге и ее муже – точно так, как мы мечтали в детстве, но это не приносило нам радости.
Дни шли, подтверждая, что ошибки нет: я все время была голодна, быстро уставала. Болели голова и низ живота…
Держана, в свое время выносившая восемь детей, знала наперечет самые ранние признаки и растолковала мне их еще тогда, когда я была Дивиславовой княгиней и надеялась понести от него.
Теперь ее наука мне пригодилась…
Миновала Коляда.
На другой же день, как в святилище погасли костры, явились Свенгельд и Мистина. В этом не было ничего особенного: они ходили к нам ужинать чуть не всякий день: то сын, то отец, то оба сразу.
– Это кто же порося так вкусно жарил? – приговаривал Мистина, налегая на поросятину. – Сто лет такого не ел.
– Ста лет ему нет, он помоложе будет! – Эльга засмеялась. – А жарила сестра моя.
– Ох, хорошо! – Мистина облизал пальцы и вытер ладонь о подол. – Нам-то с батькой никто так вкусно не приготовит. Он – вдовец, я – парень холостой. Как бы нам, батька, беде помочь? – Он развернулся к Свенгельду.
Тот ухмыльнулся:
– Жениться надо. Более никак. Такой стряпухи на торгу не купишь!
– А кто жениться-то будет: ты сам или мне прикажешь?
– Да женись уж ты. Я – старый пень, а ты молод да удал. Не успеешь оглянуться, как дети пойдут.
Я до сих пор ничего не понимала. Мало ли вздора эти трое болтали за пивом.
– Ну, как скажешь.
Мистина встал из-за стола, вышел к очагу и поклонился Ингвару:
– Свет-князюшка, прошу твоей милости. Отдай за меня свояченицу твою Уту, Торлейвову дочь, Дивиславову вдову! Обещаю ее любить, жаловать и покупать ей все украшения, на какие она укажет. Вот и батька подтвердит: нам в дом хозяйка нужна.
Наверное, они уже все это обсудили между собой, потому что Ингвар не удивился, а только ухмыльнулся:
– Моя свояченица – вдова, сама за себя решает. У нее и спрашивай.
– Душа моя, Ута свет Торлейвовна! – Мистина оборотился ко мне и снова поклонился. – К тебе я пришел, как купец за товаром, как ясный сокол за серой уточкой. Пойдешь ли за меня? Род мой тебе известен, а князь долей не обидит.
Эльга сидела с невозмутимым видом, Ингвар ухмылялся.
Они уже решили мою судьбу.
– Пойду, – как и в прошлый раз, сказала я.
А что еще я могла сказать? Как и тогда, это было нужно для спокойствия и счастья моей сестры. Разве я могла лишить ее этого?
Глава 4
Киев, 12-й год после смерти Вещего
Началось это все с дохлых кур.
Мы тогда еще жили со Свенгельдом. Перед нашей свадьбой он расширил свой двор, передвинул тын и поставил еще две избы: для нас и для Держаны с детьми.
Заложники принадлежали Ингвару, но он сказал, что они – мои люди и чтобы я их забирала «в приданое».
Бедная Держана!
Она тогда была еще жива, хотя совсем плоха, и я понимала, что с таким кашлем ей долго не протянуть. Держана происходила из княжьего рода и заслужила совсем другую жизнь, но так мало прожила хозяйкой в собственном доме и так много – надзирая за чужим добром и чужими детьми! Из тех пятерых, что остались у нее на руках, только один, Колошка, был ее собственный, а остальные четверо – сестричи. Но и с ними она доживала свой век на чужом дворе.
Держана первой заметила, что у нас пропала курица.
Она каждое утро ходила с младшими детьми собирать яйца. У меня тогда было уже двое, одна – совсем родишка, и до пересчета кур руки не доходили.
Как я мечтала и молила богов после свадьбы, чтобы родилась девочка!
Тогда стало бы вовсе не важно, кто ее отец.
Но родился мальчик.
Мистина ни разу не заговорил со мной об этом, но он ведь не отрок и кое-что соображает: меня тошнило уже в дни свадьбы, и он должен был понять, что это значит.
И до самого имянаречения у меня не было уверенности, что он признает ребенка своим. Муж со Свенгельдом собрали всю дружину, позвали Ингвара. Мистина взял у меня родишку, окропил водой и провозгласил:
– Тем я признаю этого ребенка моим сыном и нарекаю ему имя… Улеб! В честь вождя моего отца, славного Ульва конунга!
Все завопили, будто услышали невероятно радостную весть.
Ингвар ухмыльнулся, но я знала, что Эльга не обрадуется.
Мистина имел право назвать ребенка в честь вождя, пусть даже не состоя с ним в кровном родстве, но вышло именно то, чего мы с Эльгой так хотели избежать. Мой сын в любом случае приходился внучатым племянником Вещему; в глазах людей он был родичем Ингвару через жену, а родовое имя потомков Харальда Боезуба и вовсе делало его почти равным в правах с ребенком Эльги.
Я думаю, Мистина не стал бы рисковать, он заранее получил согласие Ингвара на это имя: тот не собирался полностью отказываться от родного сына.
Родила я первой, но имянаречение отложили до тех пор, пока не пройдет тот же обряд над сыном Эльги: таким образом, мой ребенок получился младшим из двоих двоюродных братьев.
Когда Эльга тоже родила сына, о его имени долго шли споры.
Самое простое и естественное было наречь его Олегом.
Но сделать это тогда в Киеве означало бы прямо провозгласить его прямым наследником всего, чем владел Вещий. Ингвару проще было выйти на торг и во весь голос закричать: «Я хочу отнять власть у нынешнего князя!»
Из этих же соображений имя Одд тоже не годилось, а имя Ульв дать мальчику было нельзя, потому что старый Ульв конунг тогда был еще жив[16].
К тому же Ингвар в то время всячески старался привлечь дружбу не только русских дружин, но и полянской старейшины.
И в конце концов они придумали имя Святослав: «свят» на славянском – то же самое, что «хельги» на северном языке, а «слав» – часть имени знатных людей во всех славянских землях: кривичей, полян, моравов.
Все и впрямь остались довольны, мать и дитя получили множество подарков, и пиры в честь имянаречения продолжались дней десять.
А я была несказанно рада, что все окончилось благополучно.
Роды у Эльги проходили тяжело, мы с Мальфрид два дня приносили жертвы дисам и рожаницам в святилище на Горе и проделали все обряды для «растворения дверей», которые знала Держана. А поскольку она была по этой части весьма сведуща, то вы понимаете, как серьезно было дело.
И обе они, Мальфрид и Держана, сошлись на том, что других детей у Эльги может и не быть.
Я знала, что этот приговор совпадает с предсказанием, которое нам сделала Бура-баба. Но Эльге я о нем не сказала и их просила не говорить.
Пусть надеется на лучшее.
Услышав от Держаны, что пропала курица, я удивилась. Человек к нам забраться не мог: и дозорный каждую ночь ходит, и псов спускают. Правда, хорьки иногда лазили по куриным закутам. А курица была приметная: дети звали ее Золотое Крылышко, и очень огорчились пропаже.
Они же ее и нашли.
Колошке тогда было уже двенадцать лет, он даже переселился из Держаниной избы в дружинную, как другие отроки, но в свободное время играл с братьями и сестрами.
В тот день они гоняли где-то по улицам, а потом прибежали домой и принесли Золотое Крылышко.
Птица была обезглавлена, причем, судя по виду, голову ей откусили. И это был не хорек, а зверь гораздо крупнее!
Странно: если откусили голову, почему тушку не съели?
Муж случился дома и услышал детский гомон.
– А голову вы искали? – спросил он.
Нет, они не искали.
– А ну идите, поищите, – велел Мистина.
Они убежали; судя по шуму, в поисках приняла участие ребятня со всей нашей Свенгельдовой улицы. Искали долго, принесли еще три куриные головы, подобранные в мусоре под тынами, но они к тушке не подходили. А голову Золотого Крылышка нашли прямо под нашими воротами – там посмотрели уже под самый конец.
Казалось бы, пустяковый случай.
Я бы не стала так подробно о нем рассказывать и сама быстро забыла бы, кабы из него не выросла большая беда…
Скоро о нашей потере узнала вся улица. И тут выяснилось, что в последнее время куры пропадали еще на двух или трех дворах. Но там пропажу не находили. Кинулись рыскать – нашлось сколько-то куриных лап и костей. Ну, так что? Да под всяким тыном куча мусора. Кто в нем роется, кроме собак?
– Я видел тут одного, рвань причальную, – сказал Бьярки Кривой, – бежал довольный, как засватанный, и тоже с курятой. Вот, говорит, бог послал, в луже нашел!
Бьярки так и остался жить у нас на дворе – я привела его с собой, когда вышла замуж. Он пошел, махнув рукой: убьют так убьют, было б о чем жалеть… И понятно, что после Коляды у меня было еще больше оснований молчать о том, что я от Бьярки узнала. Да и какая теперь была разница! Свадьбу Эльги справили благополучно, о позорных слухах забыли, а Мистина если и жалел, что замысел раздобыть в жены старшую племянницу Вещего сорвался, то никак этого не показывал. Ему досталась младшая племянница, и теперь они с Ингваром были свояки.
Мистина только ухмыльнулся, когда увидел Бьярки.
Надо думать, не считал его опасным для себя. Истасканный бродяга, уже не годный к службе в дружине, разве что двор ночью сторожить! Если он станет на кого-то вины возводить, решат, что окончательно ум вышибло в последней драке на торгу, да и все.
Но дураком Бьярки не был (хоть и беседовал лунными ночами с покойными Плишкой и Шкуродером). Он прав: если другие дохлые куры тоже были брошены на улице, то их быстро утащили нищие и собаки. А может, съел сам похититель. Ведь не для того же он крал домашнюю птицу, чтобы бросать!
После этого муж велел челяди примечать, не пожалуется ли еще кто на кражу кур и не будет ли пропажа найдена на улице. И жалобы появились: куры пропадали и с богатых дворов, и с бедных. И еще двух нашли брошенными, с откусанными головами. И кто-то даже заявил, что из тушки выпита вся кровь!
– Уж не кудесник ли какой озорует? – стали говорить люди. – Духов скликает да кормит!
– Своих кур пусть разведет! А поймаем – самому голову откусим!
Но таких «кормильцев» мы не знали. В Киеве не было кудесников, а жертвы Велесу каждая торговая дружина приносила сама.
И вот тогда…
Наверное, я зря начала с дохлых кур, потому что началось все с отца Килана.
В Киеве уже тогда были христиане, или «люди Христа».
Их было примерно столько же, сколько «жидов», то есть наших местных хазар-иудеев и приезжих рахдонитов. Я слышала, будто Аскольд когда-то крестился вместе с дружиной, но его людей в Киеве совсем не осталось. Половину здешних христиан составляли торговые варяги: они крестились ради удобства ведения своих дел – частью в Царьграде, частью в Стране Франков, Стране Саксов и Стране Фризов. Все они платили князю за право принимать участие в принесении треб: они говорили, что в каждой земле свои боги, а умный гость уважает хозяина. Их считали за своих, кресты они носили на виду только в том случае, если те были из серебра и выказывали их богатство.
Другую общину составляли моровляне, прибывшие сюда еще тридцать лет назад с княгиней Святожизной и юным князем Предславом, а также те, кто подтянулся вслед за ними. Многие тогда бежали из Моравии от угров, а Олег Вещий хорошо принимал их. Настоящие моровляне уже почти все умерли, но у них остались дети, которых они воспитывали в Христовой вере. Они сами в ней родились: первые моравские христиане появились еще при князе Ростиславе, двоюродном дедушке Предслава.
Моровляне никогда не участвовали в наших жертвоприношениях, и за это их недолюбливали наряду с «жидами». Если случался неурожай, или повальная болезнь, или падеж скота, виновными считали их.
Однажды, мне рассказывали, дело дошло до погрома, из-за чего большая часть киевских моровлян отселилась подальше от киевских гор. А в другой раз им и Козарскому концу пришлось собирать деньги и откупаться от мнимой вины.
При этом отправлять свои собственные обряды христиане не могли: у них не было священника.
Узнав об этом впервые, мы с Эльгой удивились. Казалось, князь Предслав – достаточно знатный, зрелый, удачливый и образцовой жизни человек для того, чтобы отправлять какие угодно обряды и приносить жертвы.
Но нет, как он нам объяснил: у людей Христа служить Богу может только особым образом посвященный. А получить это посвящение можно от епископа, который сам поставлен от другого, самого главного епископа – римского папы, а тот передает от предшественника к преемнику посвящение, полученное от святого Петра, который знал Христа в его земной жизни.
Выходило, что не имеющий доступа к наследникам святого Петра не может получить благословения, а без этого никакая община не может отправлять обряды и угождать своему богу.
Это казалось нам до крайности нелепым: все равно, что дышать только по разрешению чужого человека, живущего за морями. У нас все обряды отправляет старший в семье – рода или племени, то есть князь – как стоящий ближе всех к чурам и богам.
Христовы же люди без священника оказывались беспомощны и покинуты своим богом, поэтому их число и не увеличивалось. Князя Предслава уважали и слушали, если он рассказывал людям о Христе, но прибиться к его стаду в глазах людей было все равно, что наняться в дружину к безрукому и безногому вождю.
А взять священника в Киеве им было негде.
Моравский князь Ростислав когда-то посылал за учителями в Рим и в Царьград, но отсюда это было уж слишком далеко, и от Царьграда киевляне хотели совсем иного…
И вот однажды для киевских Христовых людей настал день ликования.
Я в тот час сидела у Эльги, когда к нам заглянул Мистина:
– Не скучаете? А хотите, диво покажу?
– Что за диво?
– А вот идемте со мной.
Мы вышли вслед за ним со двора и почти сразу оказались на Подоле – нужно было лишь спуститься с верхнего уступа.
Мистина повел нас на средний уступ: здесь стояли большие навесы для привозимых рабов, которых потом перекупали жиды и отправляли дальше – на запад, к Дунаю и через горы до самого Кордовского халифата.
– Витолюб сию невидаль привез, – рассказывал муж по пути. – Там все чудь разная, какую по дороге набрали, а этого везет из самого Велиграда. Говорят, там ему даром отдали: только забери!
Витолюб был торговец невольниками, бодрич родом; Свенгельд вроде даже насчитывал какое-то очень дальнее родство между ним и своей покойной женой – словом, это был «его человек». Прибывая в Киев, свой товар он оставлял на Подоле, а сам устраивался у нас, так что я его уже знала.
Перед загородкой шумела непривычная толпа, доносился смех и разные выкрики.
– А ну, дорогу! – заорал Мистина, как он это умел, а его кмети раздвинули толпу, чтобы мы могли подойти.
У самой ограды, с внутренней стороны, сидел на земле какой-то человек. Был он средних лет, не юноша, но и не старик, скорее даже молод; рослый, но уже лысеющий, очень худой, но бодрый в отличие от понурых невольников. Одет он был в длинную рубаху из грубого серого льна и какую-то чудную накидку из серого войлока, округлую по крою, с дырой для головы; очень потасканную, местами обожженную и с оторванным краем.
И он что-то очень громко говорил.
Мы прислушались.
– Расторгнем узы их и отвержем от нас иго их! Живый на небесех посмеется им, и Господь поругается им! Тогда возглаголет к ним гневом Своим и яростию Своею смятет я…[17]
– Да он что, на мятеж подбивает? – удивилась Эльга. – Узы расторгнем… свергнем… Витолюб пусть его в поруб для буйных посадит, а не то беды не оберемся.
– Послушай! – Я схватила ее за руку.
– Проси от мене, и дам ти языки достояние твое и одержание твое концы земли! Упасеши я жезлом железным, яко сосуды скудельничи сокрушиши я…
Невольник, только собиравшийся расторгнуть узы – кстати сказать, связан он не был, – уже собирался раздавать кому-то народы во владение!
Мы слушали, ничего не понимая: его речь казалась нам кучей бессвязных слов. Иной раз кудесник, не в силах управиться со своими кудами, несет такое же! К тому же говорил пленник не слишком разборчиво, и было ясно, что язык славян ему не родной.
– И охота была помешанного везти в даль такую! – воскликнул рядом с нами купец-савар. – Он ведь работать не будет! У меня глаз наметанный, я уж вижу.
– Зачем браните меня умалишенным? – немедленно отозвался невольник в серой накидке и повернулся к старику. – Сами вы безумны в невежестве своем, вот и не видите мудрости Божьей! А я несу вам речь пророка Давида, что предвидел Мессии приход и многие гонения, что будут на Него и рабов Его. Но тщетно сонмы нечестивых мятутся против Мессии! Вы безумны, что ругаетесь на помазанника Божия! Вы будто скоты, что топочете копытами на хозяина своего без смысла и пользы…
– Да сам ты скот!
– Это чей раб?
– Пусть его уймет хозяин, а то сами уймем, потом не обижайся!
– Он не сумасшедший, – сообразила я. – Он просто христианин. Но его сейчас затопчут.
– Мистина! – строго окликнула Эльга. – Зачем твой Витолюб его так пускает? Пусть уберет куда-нибудь, или места для буйных нет?
На краю Подола был устроен поруб для непокорных и опасных невольников, но за пребывание их там хозяева должны были платить отдельно.
– Пусть растопчут меня копытами свиньи! – Безумца ничуть не устрашили наши слова. – А ведь я принес им жемчуг и мед истинной веры: ибо благословлен я и посвящен совершать таинства и отправлять службы Бога нашему Иисусу Христу!
– Ты священник? – с любопытством спросила Эльга. – Смотри, Ута, он из тех самых! Значит, тебя посвятил тот, кого посвятил другой, того – третий, а самого первого – тот человек, который знал Христа?
– Откуда ты знаешь? – удивился безумец.
– Нам рассказывал князь Предслав, он из моравских Христовых людей.
– Здесь есть христиане?
– Мистина! – опять закричала Эльга. – Я заберу его! Наверняка князь Предслав ему обрадуется. Пусть Витолюб к нему присылает договариваться о цене.
– Зачем ему этот бешеный хорек? – засмеялся Мистина. – Своих сумасшедших в Киеве нет?
– Этот – особенный! Он знал того… кто через много других людей знал Христа, а они это очень ценят.
– Бедный князь Предслав! – Мистина издевательски покачал головой. – Я вот знал одного – это мой родной отец, который знал другого – это был его отец, а все эти отцы происходят от Скъёльда – сына Одина. Так что можно считать, что через много других людей я был знаком с Одином. Но я же не сижу на земле у причала, чтобы кричать об этом всем подряд!
Речь его имела успех: вокруг одобрительно захохотали. Мой второй муж всегда отличался красноречием.
– У князя Предслава, между прочим, – продолжал он, – тоже где-то есть такой прадед, через которого он был знаком с Перуном или Дажьбогом. Никак не пойму: чем они ему не угодили, что он вместо них ищет знакомства с каким-то чужим богом из чужой земли? Что в нем толку, если с ним и поговорить отсюда нельзя, а надо ехать в Рум?
– Ну, может, людям нравится жить без предков! – крикнул еще кто-то, и в толпе опять засмеялись.
Нам казалось, это равно что «людям нравится жить без головы».
– Перестань! – Я потянула мужа за рукав.
Уж ему ли не знать, как тяжело нам с Эльгой думать о предках, сам ведь разбил нашу связь с ними!
– Прикажи, чтобы его увели, и сами пойдем отсюда.
– Ребята вас проводят! – Он кивнул хирдманам, с которыми мы пришли.
И мы удалились, а он остался, разговаривая с толпой.
Он любил быть на виду; даже на другом краю Подола мы слышали, как с той стороны время от времени снова доносятся волны смеха…
Но о нашей просьбе он не забыл, а Витолюб потом приходил нас с Эльгой благодарить: если бы не мы, сказал он, ему и не удалось бы сбыть с рук этого чудака. Тот, оказывается, родом был ирландец, а в плен попал у бодричей. Туда он сам приехал с целью учить «вендов» Христовой вере, даже усвоил их язык. Но люди его невзлюбили и в конце концов отдали Витолюбу, чтобы просто увез проповедника подальше.
А то болтает разное, смущает людей, богов гневит…
Князь Предслав тоже нас благодарил, когда мы к нему заглянули. Он поговорил с безумцем, когда того отмыли и накормили, и убедился, что тот действительно настоящий священник.
А то, что он мог объясняться по-славянски, и вовсе было чудом божьим!
У отца Килана – так его звали – когда-то была книга, переписанная учениками моравских учителей, Кирилла и Мефодия. Эта книга в превратностях жизни сего удивительного человека пропала, но у Предслава хранилась точно такая же.
Она называлась Псалтырь.
Предслав уже показывал ее нам с Эльгой и объяснял, для чего служат эти листы телячьей кожи, сшитые вместе.
– Теперь, если князь разрешит, мы могли бы поставить церковь! – Предслав был так оживлен, каким я его еще не видела. – Я теперь не умру без святого причастия, а мои дети и внуки могут получить святое крещение!
– Но не Олег! – заметила Эльга.
– Да, ты права, – с сожалением согласился Предслав. – Если он примет святое крещение, то не сможет приносить жертвы, а значит, и быть князем. Однако… если у нас будет церковь, священник и службы… Господь укрепит верных, нас будет становиться все больше и больше. И однажды сами люди киевские запросят себе князя Христовой веры!
Из уважения к старому князю мы с Эльгой постарались не засмеяться.
Его лицо так светилось, будто он ощущал какое-то немыслимое счастье!
Но даже те сказки про ребенка с медвежьими ушками, которые мы слушали в детстве, были куда правдоподобнее, чем эти его мечты.
К тому времени мы обе, уже матери своих детей, очень хорошо знали, что бывает почти всегда, а чего не бывает совсем никогда.
С этого времени киевские христиане зачастили к Предславу: и моровляне, и варяги. Теперь настоящий священник читал и толковал им Псалтырь. Но этим отец Килан не ограничивался: в новой рубахе до пят, в кожухе и шапке, подаренных Предславом, он бодро расхаживал по улицам, торгу и Подолу, и завязывал беседы со всяким, кто готов был слушать.
Повадился он ходить и в Козары: с жидами он особенно любил толковать о том, чей бог лучше. Гостята и его товарищ Иегуда, по прозвищу Саварята, имевшие дела со Свенгельдом, иногда заходили к нам и жаловались: «Этот сумасшедший» не дает им покоя! «Но не бить же его?» – разводили они руками.
Хорошо, что обитатели Козарского конца были мирными людьми. Прочие могли и побить.
В Киеве ведь той весной было неспокойно.
И не с дохлых кур все началось, и даже не с отца Килана, а на самом-то деле все началось с возвращения полюдья.
Обойдя свои земли, князь Олег вернулся в Киев с нерадостной новостью для своей жены и шурина: в начале зимы умер старый Ульв конунг.
Мальфрид и Эльга оделись в «печаль».
А Киев взволновался.
Новость означала, что теперь Ингвар – владыка Волховца. И в соответствии с принятым порядком ему надлежало, взяв семью и дружину, отправиться туда. А Олегу оставить вместо себя в заложники того, кого объявит своим наследником.
Испугались мы с Эльгой: у каждой из нас имелся сын от Ингвара, еще не отнятый от груди!
Мой Уляша звался сыном Мистины, но я боялась, что ради такого дела Ингвар предпочтет оставить здесь его, а не Святшу. Но Эльга скоро сказала мне, чтобы я не беспокоилась. Она поговорила с Мальфрид, и они условились, что в ближайшие лет шесть об этом и помину не будет.
Ведь Волховец семь лет жил без заложника, не отнимая у нее маленького Оди, пока сама Эльга не стала этой заложницей, выйдя замуж за Ингвара!
А Мальфрид, сжившись с нами и хорошо понимая чувства юной матери, обещала, что Олег не будет настаивать.
Но это были наши, бабьи тревоги…
Киевские нарочитые мужи тревожились совсем о другом.
В последние годы чуть ли не на каждом пиру в каждом доме мужчины начинали толковать: прошло уже тридцать лет с тех пор, как Вещий заключил договор с греками о мире, или еще не прошло?
Можно уже собираться в новый поход или еще нельзя?
Желающих было много. Из тех, кто ходил на Царьград с Вещим, в Киеве осталось три человека, но зато сыновья и внуки их покойных соратников подросли и возмужали. Им не надо было объяснять ценность «дедней славы» – они и сами ничего так не хотели, как освежить ее собственными мечами!
От прежней добычи – шелков, оружия, посуды, серебра – осталось мало. И то у тех, кто, как Свенгельд, не пропивал ногаты и златники, а умело пускал в оборот, не гнушаясь и помощью «жидов хазарских».
Новые поколения варяжских дружин, полянской, саварянской да и деревлянской старейшин хотели пойти дедовым путем и привезти свою собственную добычу, чтобы о ней рассказывать на пирах следующие тридцать лет.
Разговоры эти уже шли, когда Ингвару привезли его плесковскую невесту. Но тогда они были не столь горячи: большинство все же склонялось к мысли, что еще срок не вышел.
Следующей осенью, когда родился его сын, мнения уже настолько разделились, что случилось несколько драк, и кому-то пришло в голову, что ведь у князя Предслава есть этот самый договор, писанный на телячьей коже! В дружине Вещего тогда он один, на родине выученный по священным книгам Кирилла и Мефодия, умел записывать речь и потом читать. Варяги называли это «моравскими рунами», хотя Предслав неоднократно объяснял, что эти письмена не имеют никакого отношения к ворожбе.
Однако молву не переломить: все остались в убеждении, что договор, записанный рунами, пусть даже и моравскими, имеет особую колдовскую силу по сравнению со словесным. А это усилит проклятие нарушителям – сверх того, что обрушат на них Перун, Велес и Христос, которых в те давние дни призывали в свидетели договора.
Однажды к Предславу отправилось целое посольство.
Возглавляли его Руалд и Стемир, двое последних живых участника легендарного похода, не считая неходячего Лидульва. Остальные были молодые – из всех киевских дружин, многие торговые гости, кто не прочь был «купить товар без денег», как варяги это называют.
– Желаем мы видеть договор греческий, что ты хранишь, – сказал хозяину Стемир. – Все люди киевские знать хотят, пора ли нам лодьи снаряжать за добычей и славой или погодить, чтобы гнев богов не навлечь на себя, как на нарушителей клятвы.
– А князь дал вам соизволение видеть договор? – Предслав сурово взглянул на них.
– Дал соизволение. Мы с Руалдом и Острягой к нему ходили.
Зять Предслава, Острогляд, важно кивнул.
Он был примерно ровесником договора и считал, что давным-давно дозрел до повторения подвигов своего отца, воеводы Боживека.
– Славы и добычи желаете? – Предслав вздохнул. – Ну, что же…
Он достал из кошеля железную палочку с колечком – ключ от замка, тогда еще довольно большой редкости в Киеве. Вставил ключ в отверстие железного коробка на большой укладке, нажал, снял замок, откинул крышку и вынул ларец, отделанный полосками блестящей меди и слоновой кости. Открыл его и достал свернутый трубкой желтоватый кожаный лист.
Гости стояли в почтительном молчании, чинно сложив руки на рукоятях своих дорогих рейнских мечей, будто перед ними творится священнодействие.
Так оно и было: этот договор был все равно что тот белый камень из сказаний, запирающий все водные источники земли. Заключенные в нем чары запирали дорогу за добычей и славой под угрозой гнева всех богов. Но как только выйдет срок, когда чары утратят силу и запоры падут, распахнутся ворота, за которыми сияет Золотое царство – где даже деревья драгоценны и, отломив веточку, можно стать богатым на всю жизнь.
Мечи ратников зудели в ножнах, неистово требуя крови врага.
Прожив всю жизнь среди этих людей, князь Предслав все это понимал.
Руки его, держащие пергаментную трубку, немного дрожали. Зная, что такие мысли не пристали христианину, Предслав не мог отделаться от ощущения, что он, будто заклинатель бесов, сжимает в руках средство сдерживать злых духов, готовых наброситься на христианскую страну, дабы подвергнуть ее гибели и разорению.
Но действие чар не вечно.
Минет тридцатилетний срок – и оружие рассыпется в его ладони прахом…
Он развернул кожаный лист, уложил на столе, бережно расправил, наклонился над ним и бросил суровый взгляд на гостей.
– Слушайте, что говорил Вещий, князь наш…
И они, эти суровые люди, способные ходить по колено в крови, слушали, затаив дыхание, как дети.
Простой лист телячьей кожи донес до них живую речь давно покойного вождя. Не всякий кудесник может заставить говорить мертвого, и на Предслава они смотрели, как на величайшего заклинателя кудов.
– Наша светлость, – читал он, – превыше всего желая в Боге укрепить и удостоверить дружбу, – Предслав снова поднял глаза на слушателей, будто намереваясь подчеркнуть эти слова, – существовавшую постоянно между христианами и русскими, рассудили по справедливости, не только на словах, но и на письме, и клятвою твердою, клянясь оружием своим, утвердить такую дружбу и удостоверить ее по вере и по закону нашему…
Но нет, напрасно он надеется достучаться до этих сердец, которые кузнецы их судьбы выковали из самого прочного железа!
«Помиримся с вами и станем любить друг друга от всей души и по всей доброй воле», – обещали они тогда, клялись «в будущие годы и навсегда» хранить «непревратную и неизменную дружбу».
Но дружба, клятва, мир, закон – все эти слова значимы для них только на тот тридцатилетний срок, что нужен для смены поколений. Они клялись своим оружием и лишили его силы на срок клятвы.
Но следующее поколение боги считают от нее свободным.
Едва выйдет срок – мечи воспрянут, а дружба умолкнет. Потому что невозможна дружба язычников и христиан, в которых они видят лишь добычу.
– …И это написание дали царям вашим на утверждение, чтобы договор этот стал основой утверждения и удостоверения существующего между нами мира. Месяца сентября второго, индикта пятнадцатого, в год от сотворения мира шесть тысяч четыреста двадцатый…
Предслав закончил. В избе повисло молчание.
Прозвучавшая дата никому ничего не сказала.
– Так это… когда было? – наконец спросил Стемир.
– Двадцать семь лет назад.
Предслава огорчало, что опасный срок близится. Но он, как и князь Олег, знал, что три года в запасе еще есть, поэтому и согласился показать договор.
– А я что говорю! – Острогляд толкнул соратника в плечо. – Не обсчитался я, мне двадцать семь, а я в тот год как раз родился, как вы ездили.
Гости переглядывались с разочарованным видом.
Острогляд был чем-то вроде знамени грядущего похода: многие знали, что он родился в тот самый год, а значит, срок выйдет, как ему сравняется тридцать и он достигнет полного расцвета сил. Но сам его возраст вычислялся старшими родственницами через длинную цепь памятных вех: «За двадцать лет до того князь Олег в Киев пришел…» – «Нет, двадцати еще не было! Шел пятый год, как помер дед Докука, а в тот год Волошке было семь, я помню, а он родился только на третий год после свадьбы…» – «Да ладно, на третий! На второй! Ты, мать, память пропряла всю!»
И на княжьих пирах дружина все чаще заговаривала о будущем походе.
Но князь Олег не поддерживал эти разговоры.
– Вещий, а также под рукой его бывшие светлые князья и великие бояре заключили мир с греками навечно! – напомнил он. Отец еще в детстве выучил его читать «моравские руны», и он всегда мог убедиться в этом собственными глазами. – Ваши отцы клялись на своем оружии не нарушать мира никогда.
– Отцы и не нарушили! – отвечали ему. – Да отцовы веки вышли, новые грядут. А мы, сыновья, клятв грекам не давали!
– Но отцы клялись Перуном и Велесом! Боги наши бессмертны, и для них тридцать лет…
– Боги простят! Уж богов своих мы долей в добыче не обидим. Будут им и «божьи сорочки» из паволок багряных, чаши золотые и быки тучные, а пожелают – девы и отроки молодые! Ждут от нас боги даров дорогих, а за то пошлют нам великие милости, земле плодородия, потомства и скота умножение!
И все кричали, стучали по столу черенками ножей, чашами и питейными рогами. Боги толкали их в поход на богатые греческие земли. Боги, которые тем больше обещали дать, чем больше им приносили земных даров.
Иной раз Олег задумывался: а есть ли вообще какие-то боги у этих людей, что сидели за длинными столами в гриднице Вещего?
Вон Сигге Сакс – приятный с виду человек с добрыми глазами. Когда в последний раз ходили на деревлян, он со своей дружиной сжег два или три городка со всеми жителями и добром – ему было весело, и плевать на добычу!
Дружины привлекают таких людей со всего света: что в мирной жизни преступление, чреватое в лучшем случае изгнанием, в походе, – великий подвиг, обеспечивающий почетное место на пирах. И едва человек выйдет из-под власти рода, держащего в крепкой узде обычая и порядка, на волю порой вырываются такие чудовища, каким место, казалось бы, лишь в самых древних старинных сказаниях. И не верится, что в наш устроенный век такое возможно.
Рядом с Саксом притулились купцы: Гудила Скрипун и жид Саврила Булартай, из волжских булгар родом. Оба – с масляными глазами и беспокойными улыбками. Они из тех, что вечно вьются рядом с людьми вроде Сигге, скупая у них по дешевке пленников, скот, полотно, зерно из захваченных припасов. Одному их товарищу прошлой осенью на пиру у Свенгельда выпустили кишки – наутро, протрезвев, никто не помнил почему и за что.
«Не дрожи, прорвемся!» – хлопает Гудилу по плечу в пьяном дружелюбии Требимир Кровавый Глаз. И Гудила всем видом изображает: мужики, я с вами, я весь ваш, только мне страшно…
– Да мы… Да я… – ревет где-то в том конце Руалд. – Что эти греки! Я Рагнара Лодброка видел… маленьким!
Какой толк рассказывать им о непревратной дружбе и доброй воле?
Их души должны переродиться, чтобы они стали способны применить добрые чувства не только к своим соратникам, но и ко всем людям.
Это могла бы сделать Христова вера… но этот путь они отрезают себе, убивая христиан и разоряя храмы.
Они не преступят клятвы, данной на оружии, с именами своих богов.
Даже самые бессовестные из них почитают единственного бога – свою удачу, а у этого бога есть одна заповедь: «Не зарывайся». Обычно они понимают, когда заканчивается отведенный тебе запас удачи и надо какое-то время посидеть тихо. Поэтому выждут окончания тридцатилетнего срока, которое отодвинет прежнюю славу в область преданий и станет требовать ее обновления.
И никак им не объяснить, что их право пойти в новый поход вовсе не означает обязанности это делать. Они считают себя обязанными «перед родом, богами и предками». И их поддержат все князья и великие бояре племен и родов, собранных под рукой Вещего. Все князья и воеводы, сидящие в ключевых точках торговых путей, слишком хорошо помнят свое происхождение от «морских конунгов»: мир все еще видится им нивой, которую сеяли другие, а они могут прийти и сжать урожай своими острыми мечами. А кто останется там, оросив пашню побед дождем горячей крови, – того вознаградит вечная слава… на следующие тридцать мирных лет.
Олег уже не раз обсуждал эту заботу с родичами: Предславом и Ингваром.
Эти двое, старый и молодой, будто воплощали соперничающие силы, которые тянули в разные стороны Олега, а с ним и всю Русскую землю.
Предслав был против нового похода, как и вообще против любой вражды руси с греками. Он мечтал о том, чтобы Олег по примеру Ростислава Моравского попросил у греков учителей Христовой веры для русов и словен, дабы постепенно сделать их христианским народом, другом и братом христиан: греков, франков, саксов, фризов, болгар, моровлян. Его поддерживали не только христиане, но и многие богатые торговцы, для которых война была разорением: ведь она прерывает торговые пути и наполняет их разбойниками. Конечно, если поход будет очень удачен, можно выговорить право беспошлинной торговли, а это увеличит прибыли. Но при ином исходе можно лишиться и того, что есть.
А Ингвар был вождем тех многочисленных варягов разных языков, всей этой руси, которая предпочитала покупать без денег и вспахивать пашню славы железом мечей. Ворваться в богатый край, похватать все, что можно, остальное сжечь, угнать в полон, продать – и долго потом хвалиться на пирах золочеными кубками, перстнями, цветным платьем да своей славой! А кому не повезет в бою, будет делать то же самое, но уже на пиру в Валгалле. И там Руалд вновь встретит Рагнара Лодброка, которого «видел… маленьким», никогда не уточняя, кто из них двоих был маленьким в те незабвенные дни.
Что им терять? Они могут только приобрести.
В душе поддерживая отца, Олег пытался переубедить Ингвара, напоминая, что ведь не всякий поход бывает удачным. И греки – не беспомощные овцы, которых может резать, обдирать и жарить всякий, у кого сыщется нож. У них и пешее, и конное войско – не чета сброду, что горазд воевать на пирах с пивом!
– Мы не пойдем туда по суше, а на море их конница нас не достанет! – смеялся Ингвар.
– На море! Вы думаете, что во всем свете никто, кроме вас, не умеет ходить по морю? Греки строят дромоны, где на каждом по сто двадцать гребцов в два ряда, один выше, другой ниже! А то и сто шестьдесят. У них две мачты и два руля. Они перетопят вас, как котят!
– Нас? – уточнил Ингвар. – Значит, сам ты твердо решил в походе не участвовать?
Олег промолчал. Он не мог сказать «нет», но не мог и согласиться возглавить то, чего не одобрял.
– А стены Константинополя ты когда-нибудь видел? Не видел. Они поднимаются к самому небу!
– Ни дромоны, ни стены им не помогли, когда к ним пришел Вещий. И он не лез на эти стены. Он обчистил побережье и вынудил греков самих искать с ним мира.
– Надеешься, что твоя удача так же велика, как у Вещего! – Олег прямо взглянул в глаза шурину, надеясь все же образумить чересчур горячего вояку. – Ты ему даже не кровный родич, а только сват. Или ты рассчитываешь, что получил его удачу в приданое за женой?
– Я попытаю мою собственную удачу. – Ингвар ответил ему таким же прямым взглядом. – Может, я и не Вещий… Но мало толку быть его кровным родичем, если вечно сидеть с бабами!
– Когда уедешь к себе в Волховец и будешь править землями твоего отца и деда, сможешь делать что тебе угодно. Кстати, когда ты намерен ехать? Половодье близится к концу.
– Ты меня выгоняешь из Киева? – Ингвар поднял брови.
– Мы с тобой дважды родичи, и ты можешь гостить у меня сколько тебе вздумается. Просто напоминаю, что нехорошо будет так долго оставлять владения твоих предков без конунга. Там ведь и другие люди есть, кто не прочь усесться на старой Корабельной Стоянке.
– Слыхали? Ждивоева холопа нашли… что твою куряту. – Бьярки Кривой выразительно провел ребром ладони по горлу.
Ночами охраняя Свенгельдов двор, днем он то спал, то слонялся по причалам, поэтому лучше всех знал, где что случилось и что говорят.
– Как это? – Я замерла с ложкой в руке, прижав горшок к груди.
– А вот этак! – Бьярки еще раз провел по горлу. – Только у курей головы напрочь были откусаны, а у этого глотка порвана и кровь на земле.
– Бре… шут, – сквозь кашель выговорила Держана.
Она лежала на лавке, укутанная в два больших платка и шубу. Даже в топленой избе ей было холодно, в бледное лицо среди серой шерсти платков казалось еще бледнее.
– Не брешут. – Бьярки взялся за ложку. – Я сам видел.
– Что ты видел?
– Возле Ждивоевых ворот толпа толпится, я и подошел. Он внутри под тыном лежит. Я зашел, меня Милога знает – пустил посмотреть. Да они многих пускают, кто не боится. Может, посоветует кто, что с ним теперь делать. Упокоить бы надо… Сам-то не упокоится. Уж если кого зверь порвал… или похуже кто, его хоть огнем жги – приходить будет.
– А кто это – похуже? – спросил Колошка.
– Да кто людям горла рвет и кровь пьет? Оборотень, волколака.
– Это то, что ульвхеднар? – блеснул познаниями варяжской речи Колошка.
– Ну… – Бьярки почесал в затылке. – Нет, не то. Ульвхеднары – волчеголовые – только в бою себя зверем ощущают. А так, чтобы ночью по улицам ходить и людей грызть – нет, это не те. Это вупырь…
– Ой! – Я содрогнулась и прижала к себе восьмилетнюю Живлянку, которая держала на коленях полуторагодовалого Уляшу. – Да что ты! Откуда здесь такое может взяться?
– Ну, откуда… – Бьярки покрутил головой. – Вон, люди-то болтают…
– Что болтают? – Я подошла ближе.
– Что это князь нахреначил на нашу голову! – брякнул Бьярки.
В выражениях он не стеснялся, и это я знала с первой давней встречи.
– Да как же князь может быть виноват?
– А так. Говорят, боги недовольны. Давно богатых даров не получали и жертв хороших. А чтобы их добыть, надо в поход идти. А князь не хочет. Вон, в полюдье ходил, прочих князей и великих бояр повидал. И что? Хоть кого он звал с собой на греков? Приказывал челны долбить, паруса ткать, съестной припас запасать, канаты крутить? Люди-то с ним ходили, все знают. Князь и не думает про поход. А боги гневаются.
– Сжечь его надо сегодня же! – сквозь кашель выговорила Держана. – Холопа того, с перегрызенным горлом. Не то сам ночью встанет и еще кого заест. А коли поведутся упыри, то жди больших бед: мор пойдет на людей и скотину. Это я верно знаю. Поди, скажи Ждивою. Пусть сейчас же вывезут его от города подальше и сожгут. Там же пусть зароют, а сверху печную утварь какую положат – так вернее. Поди, поди!
Я взяла со стола пустой горшок, переставила к печи.
У меня дрожали руки.
Уж кто-кто, а я преотлично знала, о чем уже давно идут постоянные разговоры в гриднице Свенгельда.
У нас в доме было, пожалуй, главное гнездо этой смуты. Все хотели в поход, и здесь, не скрываясь, осуждали князя. Собрать поход на греков – дело непростое, в один день не управиться. На договора с другими князьями и воеводами, обсуждение всех условий, подготовку и сбор войска мог уйти не один год. И если до истечения срока договора оставалось три года – самое время приступать.
К нам нередко заходил Ингвар, и тогда они по полночи толковали: Свенгельд, Мистина, Ингвар, старые варяги, братья Гордизоровичи, Острогляд, хазарин Себенег, боярин Дорогожа. Обсуждали, кто из прочих князей пойдет в поход и сколько лодей и копий даст. Упиралось все в одно: кинуть клич о сборе войска должен был киевский князь. Пока он этого не делал, все смотрели на Ингвара как на вождя будущего похода.
Конечно, я не знала всего, о чем там говорили.
С мужем, надо сказать, мы жили ладно: я занималась домом, он – дружиной и делами Свенгельда. Но он не доверял мне своих тайн, а я никогда не спрашивала о том, что меня не касалось. Хотя в те дни я была бы очень не прочь узнать: скоро ли мне и всем детям надо будет собираться и ехать обратно на тот, северный край света, чтобы поселиться в Волховце?
Эльга знала больше моего.
Однажды я сказала ей: боюсь, что все эти дружинные разговоры поссорят Олега с Ингваром. Она в ответ пожала плечами:
– Что проку сидеть в Киеве, если никак не пользоваться его выгодами?
– Как это – не пользоваться? – удивилась я. – Он собирает дань с десятка земель и племен! Берет пошлины с сотен торговых гостей каждый год. И разве мало у нас с тобой шелковых далматик, золотых перстней и расписных блюд?
Да уж, теперь мы с нею были не те две девчонки в рубашках с пояском, что бегали по лесу на берегу Великой. Мы могли бы носить греческое платье хоть каждый день, если бы его широченные рукава не мешали заниматься делом.
– Это хорошо, но главное не в этом, – лукаво улыбнулась Эльга и подняла брови, словно намекая на что-то. – Прежде чем брать дань с десятка племен, Вещий завоевал их! А прежде чем торговать с греками, он победил их и взял дань! Вот с чего должен начинать каждый новый князь. А если ждать, то лишь пока пройдут тридцать лет со времен прежнего похода и договора. Срок договора скоро кончится. Но никто не подмечает, чтобы наш родич Олег собирался в поход и звал с собой князей и бояр со всех своих земель! А ведь именно в Киеве удобнее всего собирать войско на Греческое море, и можно выставлять желающим такие условия, какие хочешь, потому что обойти нас они не могут. Люди говорят, что Олег Моровлянин не ценит наследия, которое Вещий вложил ему в руки. А еще они говорят, что если он не ценит, то у Вещего найдутся и другие наследники!
Об отъезде в Волховец ни Ингвар, ни Эльга, ни Мистина и Свенгельд, которых это касалось в той же мере, не говорили ни слова.
Я не решалась допытываться ни у кого из них, даже у Эльги.
Замужество отдалило нас друг от друга, хотя я видела ее довольно часто. Если к ней являлись гости с дарами, она всегда звала меня, прежде чем принять их, и я сидела на укладке сбоку от нее и чуть пониже. А если гости приходили к Мальфрид, то она звала нас обеих. Княгиня восседала на самой высокой укладке, а родственницы по бокам: с одной стороны мы с Эльгой, с другой – Ростислава, Милочада и их подросшие дочери.
Кроме меня, Эльга еще звала в таких случаях жен старших Ингваровых хирдманов (в том числе Славчу и Зорану), но я получала самый лучший подарок сразу следом за ней, как ее кровная родственница.
Поскольку Ингвара в городе тоже называли князем, то и княгинь в Киеве получилось две.
И я видела, что обеим это неприятно: Эльга порой искоса посматривала на Мальфрид – та была помехой на пути моей сестры к самому высокому месту, а Мальфрид на нее – как на скрытую угрозу своему положению.
Стыдно сказать, но в то время у меня имелось больше греческих платьев, чем у Эльги.
Свенгельд был куда богаче Ингвара, а они оба, муж и его отец, ко мне благоволили. Я была именно такая жена и невестка, в какой они нуждались: хорошо следила за домом, так что им было не стыдно перед бесконечными гостями за свой стол, рожала детей и никогда не лезла не в свое дело. А любовь свою они выражали в соответствии с заключенным рядом: дарили мне цветное платье, украшения и всякий раз, как кто-то привозил в Киев бусы, присылали того человека ко мне с предложением взять сколько чего захочу. Думаю, Свенгельд потому и не женился больше, что я была так хороша: отец и сын опасались, что мы с его новой женой переругаемся и все пойдет прахом, а им придется раскошеливаться на вдвое больше платьев и бус, чтобы мы не завидовали друг другу.
Но куда же мне было больше? У меня уже было три снизки, куда еще-то? Шея ведь не железная.
Однако тайнами Эльга теперь делилась со мной редко.
Мое место рядом с ней занял Ингвар.
Я видела, что они доверяют друг другу и что она осведомлена о помыслах своего мужа гораздо лучше, чем я – своего.
Я надеялась, что проклятие дремучего леса наконец отступилось и жизнь наладилась.
Только в одном оно еще сказывалось. Через полтора года у меня было уже два ребенка, а у нее – по-прежнему один…
Но тогда нам было ведь всего по восемнадцать лет (мы даже еще не сбились со счета), и будущее сулило много добра.
Да и мне было не на что жаловаться.
Правду сказать, у меня совсем не оставалось досуга ходить по гостям: на руках у меня было двое маленьких детей, множество прочих домочадцев и хозяйство сразу двух воевод, к которым что ни день таскались целые ватаги. Ингвар и Мистина это называли «заниматься пивосвинством», что означало есть свинину, пить пиво и обсуждать «Рагнара Лодброка… маленьким». Мы пекли хлеб чуть не через день, а горшки и миски, которые гости то и дело колотили на пирах, непрестанно лепил нарочно для этого купленный холоп. Свенгельд следил, чтобы его хирдманы всегда были одеты лучше всех, поэтому три челядинки шили рубахи, порты, свиты, даже кафтаны. Челядинка смотрела за моими детьми, потому что мне приходилось смотреть за домом. Я выходила со двора только в те дни, когда Держане бывало получше и она могла меня ненадолго заменить.
Однако тревоги мои возрастали.
Разговоры о походе, который то ли будет через пару лет, то ли нет, и мысли о нашем отъезде в Волховец не давали мне покоя.
– Дался тебе этот Волховец! – сказала однажды Эльга, когда я поделилась с ней. – Чего там хорошего? Такая же серая муть весь год, как у нас дома было. А здесь вон как хорошо: тепло, светло, богато!
Она раскинула руки, будто норовя обнять и кручи над Днепром, и небо, и все бесчисленные дворы и избы на вершинах и под склонами, и реку с белеющими парусами лодей.
– Я никуда не хочу уезжать! Хочу, чтобы здесь был мой дом, чтобы Святша мой рос здесь, в середине земли! Только смотри, – она строго взглянула на меня, – Мальфриде не проболтайся!
Болтать я не собиралась, но разговоры эти меня тревожили.
И вот теперь еще неведомый вупырь на улицах!
Только этого нам не хватало!
Далеко за полдень народ таскался к Ждивою на двор смотреть «заеденного вупырем». Бьярки сообщил, что Ждивоевы холопы погрузили зашитого в мешки покойника на волокушу и повезли куда-то за город. Класть ему краду на краю поля, где всем, было нельзя, и его утащили куда-то вниз по Днепру, на пустырь.
Люди ходили на тот склон к Братилюбову двору и смотрели, как поднимается дым.
Иные видели в дыму странное…
– Хорошо, что заеденного сожгли, – сказала Держана, когда я передала ей эти известия. – Да ведь тот, кто его заел, остался.
– Ты думаешь – и вправду вупырь?
– А кто ж еще?
Мне вдруг стало холодно.
Я обняла себя за плечи, потом взяла из зыбки Святанку и прижала к себе. Когда она родилась, я думала, Мистина подберет ей имя из своих датских бабок: Альмвейг или Рагнхильд. А мне так нравилось имя Святожизна! Я много слышала о последней моравской княгине – это была поистине прекрасная женщина! И когда я намекнула об этом мужу, вовсе не надеясь, что он послушает, он вдруг воодушевился и даже поцеловал меня.
– Какая хорошая мысль! Хоть мы и не кровная родня Предславу, но через князя… Поеду к нему сейчас!
Он приказал подать коня и умчался к старику просить разрешения дать своей дочери его родовое имя. У Предслава уже были и дочь, и внучка по имени Святожизна, но он даже прослезился, услышав просьбу, сказал, что я добрая женщина и он рад быть мне родней… Словом, он дал согласие, и Мистина нарек нашу дочку в честь Предславовой матери. Сразу будет видно, сказал муж, что мы родня с княжичем Святославом.
Держане в этот вечер сделалось хуже.
Хорошо, что гостей не было, и я сидела у нее до темноты. Только когда оконце совсем почернело, я поняла, что пора домой.
Бьярки уже ходил по двору, опираясь на копье. Вид у него был важный и грозный, а морщин и мешков под глазами в полутьме было не разглядеть, и я вдруг подумала, что он с этим копьем и своим единственным глазом – вылитый Один.
– Ну что, всех ли кур мы найдем завтра на месте? – спросила я важно, будто королева, желая поддержать его, столь серьезно относившегося к своей страже.
– Всех, или я буду лежать здесь мертвый! – торжественно заверил он, стукнув древком копья в землю.
Он был пьяноват: Мистина сегодня вечером расщедрился на брагу.
Наверняка Бьярки скоро сядет на дровяную колоду и примется беседовать с покойными Плишкой и Шкуродером. Я никогда их не видела, но столько раз заставала Бьярки за этими беседами и принимала от него передаваемые от них поклоны, что почти привыкла к ним, будто к знакомцам.
Прежде чем идти спать, я завернула в нужной чулан.
Я, разумеется, не стала бы об этом рассказывать, если бы не то, что случилось сразу после этого.
Когда я вышла, во дворе никого не было видно: Бьярки расхаживал в другом конце. Луна светила ясно, и я хорошо видела дорогу к нашей избе.
Но едва я сделала пару шагов, как что-то крупное и черное зашевелилось в густой тени под тыном, а потом бросилось на меня! Я успела крикнуть и отшатнуться, ударившись спиной о стену нужника.
А это черное метнулось ко мне, притиснуло к стене, горячо дохнуло мне прямо в лицо, а потом вцепилось зубами в горло!
Теперь я уже не могла кричать; я была в таком ужасе, что не знаю, как не умерла на месте только от него. Однако в тот же миг меня отпустили, а в стену рядом со мной вонзилось копье.
– Ах ты, йотунова кость… – донесся до меня голос Бьярки.
Я упала под стену и съежилась, закрыв голову руками.
Бьярки выдернул копье из бревен и кинулся в тень под тыном. Он ударил еще раз, издал торжествующий крик, а потом – досадливый и принялся ругаться.
Стукнула дверь.
– Что там такое? – крикнул муж.
Бьярки отвечал руганью.
Открылась еще одна дверь, кто-то вынес факел. Бьярки стоял у тына и пытался вырвать копье, которое с размаху слишком глубоко засадил в толстое бревно.
На копье болталось что-то, прибитое острием к стене.
У меня мелькнула дикая мысль, что это шкура… того существа, что на меня напало.
Муж подошел к Бьярки, взялся за древко и высвободил наконечник. «Шкура» упала наземь, и они ее подобрали. Челядь принесла уже два факела, они попытались рассмотреть, но ничего не вышло.
– Оставим до утра, – сказал муж. – Ни тролля не видно! Жена! Где ты? Ты жива?
Он подошел и поднял меня на ноги. Поднесли факел, и я зажмурилась.
– То вупырь был! – кричал Бьярки. – Заесть ее хотел. Как она вышла из нужника – так и набросился…
– А ты куда глядел? – заорал муж. – Мою боярыню чуть не сожрали возле ее собственного нужника, а тебе и горя нет! Тебя зачем здесь кормят? Хочешь обратно по причалам слоняться?
– Могу и по причалам послоняться, – буркнул Бьярки. – Все лучше, чем в прорубь с проломленной головой…
– Не кричи на него, – попросила я тихо, держась за горло. – Это ведь он меня спас.
Муж слегка переменился в лице, но отвернулся и поднял меня на руки.
Я могла и сама идти, но… я никогда не спорила с ним, если без этого можно было обойтись.
Кроме Бьярки, до утра двор сторожили еще трое.
Едва рассвело, Мистина вынес на двор эту «шкуру», которая хранилась запертая в клети. Я бы не удивилась, если бы это оказалась волчья шкура, сброшенная оборотнем-волколакой.
Но то, что мы увидели, было гораздо хуже.
Перед нами лежала на подсохшей весенней земле широкая накидка из толстого серого войлока, странного покроя, каких у нас не носят. Сильно потасканная, с вырванным куском и обожженная с одного края. В ней была большая дыра, прорванная копьем Бьярки. Мы все углядели в накидке нечто знакомое…
– Да это же… Того ирландца, – сообразил Бьярки. – Ну, отца Килана. Он в этой вотоле тогда на причале сидел.
– Именно так! – Мистина прояснился в лице и ткнул в Бьярки пальцем. – Это он! Килан! Я думал, он просто сумасшедший, а он, оказывается, еще и волколак!
А в ворота уже стучали.
От нас, кажется, никто еще не выходил, кроме пастухов со скотиной, а уже по всему Киеву знали о нашем ночном приключении.
Все хотели «спросить, здорова ли боярыня», а на самом деле – взглянуть на «волколачью кожурину». Собралась толпа, так что уже по улице было не пройти, и крик становился все громче.
– Пойдем! Это он людей ел! – кричали все, будто уже было поедено сорок человек.
– Иначе мор будет!
– Всех нас сожрет!
– Я говорил!
– От них все беды, от моровлян этих!
– Я давно за ним примечал: ходит весь красный, рожа красная, глаза красные, что твои угли! Я-то думал, бражки хлебнул, а он вон что – кровушки человечьей!
– У кого еще холопы не пропадали?
– Пойдем к Предславу! Пусть выдаст вупыря своего!
– Пусть выдаст!
Толпа всколыхнулась, дрогнула и покатилась прочь от нашего двора.
Когда я подбежала к воротам, там стояли всего четыре-пять человек. Среди них виднелась белая остроконечная шляпа, венчающая черноволосую голову Куфина бар Йосефа.
– О, мой бог! – Он воздел руки. – Неужели сегодня ты явил нам такую милость и во всем виноваты не мы? Скажи, госпожа: когда чудовище вцепилось зубами тебе в горло, ты не ощутила, что это были жидовские зубы?
– Конечно, нет! – Я чуть не засмеялась, хотя меня больше тянуло заплакать.
– Но это такое чудо, что в этот раз они пошли громить двор князя Предслава, а не мой, не Гостяты и не Авраама с Ицхаком, что я просто не верю. Тем более что я уже стоял здесь, и меня можно было побить прямо на месте. Счастлив мой бог! Но они ведь еще могут передумать, если, скажем, Предслав не откроет им ворота, а князь приведет дружину. Пойду домой, помолюсь как следует!
Он торопливо ушел, а я осталась стоять у ворот.
Громить двор князя Предслава?
Он так сказал? Что это значит?
– Утушка! – Кто-то подергал меня за рукав.
Я обернулась и увидела Дивушу.
– Пойдем, матушке совсем худо…
Губы у нее дрожали, в глазах стоял испуг. Матушкой дети звали Держану. Я поспешила к ней.
В избе мне стало ясно, что значит «совсем худо». Сорочка Держаны на груди и одеяло было залито кровью: она пошла горлом.
Тут и я задрожала.
Чтобы этого не показать, пришлось набрать побольше воздуху и не дышать какое-то время.
Но что я могла сделать?
За эти годы я перепробовала все: березовый лист, ивовую кору, зимолюбку и зопник, вересковый цвет, сон-траву, лапчатку. Порой они помогали, но с годами Держане становилось все хуже. Видимо, от трав мало толку без «сильного слова», но я не могла заговаривать женщину, которая годится мне в матери. Уже здесь, в Киеве, я два-три раза приводила к ней мудрых женщин старше ее, но и от них пользы не было: видимо, знатность рода тоже важна. И женщина, превосходящая других и годами, и родом, может надеяться только на богов, люди ей не помогут…
– Видать, конец мне приходит, – прошептала Держана. – Да и то – пора. Мне ведь сорок… Пожила, нечего жаловаться. Годов полный сорочок… Хоть шубу шей…
Она даже попыталась улыбнуться, чтобы подбодрить меня.
Детей я отправила к нам в избу: там никого не было, поскольку Мистина ушел с толпой, а я не хотела, чтобы они боялись.
Может, еще обойдется?
Хотя надежды на добрый исход было мало.
И у нас с Держаной, и у Предслава с отцом Киланом…
По всему городу закрывали ворота, а те, у кого была дружина, приказывали ей вооружаться и готовиться. Уже было известно, что возникла какая-то большая смута, но еще не прояснилось, по какому поводу.
На Горе, где стояли дворы полянской знати, ворота заперли первыми.
Высокие обрывистые склоны, заросшие кустами и лишь кое-где прорезанные крутыми тропками, защищали ее с трех сторон, а с четвертой когда-то было выстроено укрепление с оборонительным рвом. Именно это место северные предки Олега и Ингвара называли Кенугард – Киевская крепость. Здесь же находилось древнее племенное святилище полян, где Олег и Мальфрид уже десять лет приносили жертвы вслед за Киевичами, что сгинули в вихрях хазарских и деревлянских войн. За рвом располагался жальник: сотни курганов, напоминавших, как давно живут здесь люди. В дни весенних поминаний там везде поднимались дымы, будто трава горела.
Толпа валила именно сюда.
Хотели было закрыть ворота и детинца, но не закрыли: то ли не успели, то ли помешал кто. В воротах тоже толпились люди, носились туда-сюда.
А потом буйная ватага ворвалась на Гору и повалила к двору князя Предслава.
Дружина его была невелика и набрана из одних моровлян. Почти все они были христиане, как и хозяин.
Толпа остановилась перед тыном. В ворота ударили камни, пара горшков, стянутых с кольев поблизости.
– Отдай нам вупыря!
– Выдай, выдай!
– Вупыря!
Князь Предслав вышел из дома: как всегда, в красном кафтане, внушительный, уверенный, с греческим золоченым крестом на шее, который носил с юности. Он сделал знак своим кметям, чтобы встали по сторонам ворот и открыли.
– Куда ты, родной? – Милочада в ужасе схватила его за рукав. – Убьют же!
– Бог не попустит. Я поговорю с ними. Какой-то бес их смутил.
Отодвинув жену, он прошел к воротам.
Когда створки заскрипели и стали раскрываться, народ отхлынул: появились кмети со щитами и копьями и отодвинули толпу еще дальше, чтобы очистить пространство. Когда показался князь Предслав, толпа приутихла, лишь в задних рядах, где было плохо видно и слышно, продолжались шум и брожение.
– Что вы хотите, добрые люди, что за беда у вас?
Вперед пробился Мистина сын Свенгельда с какой-то большой серой ветошью в руках.
– У тебя на дворе живет Килан, что на причале подобрали? – Он потряс ветошью. – Это его одежда?
Предслав с недоумением воззрился на облезлую накидку. Да разве он помнил, в чем привели к нему ирландца полгода назад?
– Откуда мне знать? И зачем тебе это знать, Свенгельдич?
– А мне затем, – Мистина швырнул накидку кому-то рядом в руки, а сам сжал кулаки и шагнул к Предславу, – что нынче ночью оборотень-волколака на жену мою накинулся, прямо на дворе у нас, и кабы не слуга верный, загрыз бы ее насмерть! Вот эту кожурину сбросил, как убегал. А у Ждивоя недавно съел человека на дворе! Люди признали, что эта одежда – Киланова. Он и есть тот вупырь, что сперва кур жрал, а теперь за людей принялся. Выдай нам его!
Толпа разразилась криками:
– Выдай, выдай!
– Дави вупыря!
Предслав смотрел на Мистину в изумлении:
– Прости, но ты в своем уме? Твой отец знает об этом?
– Что тебе в моем отце? Я не отрок, двоих детей сам имею. И их мать только что мало не у меня на глазах вупырь загрызть пытался. А прячется он у тебя на дворе! Ты его скрываешь!
– Да вон, у него такой же знак на шее! – крикнули из толпы. – Они все одинаковы, Христовы эти люди!
– Они бога своего едят и кровь его пьют! Я верно знаю, мне в самом Царьграде рассказывали!
– Мало, вишь, им божьей крови, за нашу принялись!
– Передавить их всех, кровопийц!
– Убийцы!
Толпа с угрозой придвинулась ближе.
Сдерживали ее только Мистина и несколько человек у него за спиной – Требимир Кровавый Глаз, Сигге Сакс да Ама Лис, савар.
– Опомнись, ты что говоришь? – Предслав не испугался, а только не мог понять, откуда такие нелепости. – Как мог священник… оборачиваться? Нападать на женщин? Пить кровь?
– Ваши люди пьют кровь на своих требищах, не отпирайся! – Ама Лис ткнул в него пальцем. – Скажешь, нет? Всем из чаши по ложке дают, я, что ли, не видел?
– Но это… совсем другое дело! – Предслав так растерялся от дикости этого обвинения, что с трудом находил слова. – Как можно равнять… Евхаристия – это вкушение хлеба и вина освященных, приобщение верующих Тела и Крови Иисуса Христа…
При этих словах толпа взвыла:
– Тела и крови! Нашей крови хотят! Сам сказал!
– Да бей их! – заорал Ама Лис во все горло.
И толпа ринулась вперед, так что едва не снесла и своих вождей.
Предславовы кмети успели отпихнуть старого князя назад, к себе за спины, а сами выставили копья; кто-то из толпы налетел на острия, кто-то повис, напоровшись животом, схватился за древко с отчаянным воплем.
Пролилась кровь, и тут толпа совершенно обезумела.
Через тела убитых люди ринулись на кметей и смяли, задавили, опрокинули и затоптали; последних оставшихся внесли в ворота на волне ярости.
До небес взвился крик, вопль, гомон, топот, треск ломающегося дерева. Ворота были слишком узки для всех ломящихся, но они так напирали, что отойти не было возможности; кого-то раздавили о косяки, и крики боли смешались с воплями тех, кто рвался добраться до «вупырей».
Двор наполнился народом.
Мгновенно все двери оказались сорваны с петель: в жилые избы, клети, баню, погреба.
– Безумцы! Легион… стадо! – едва прорвался сквозь них отчаянный голос с ободритским выговором, но тут же захлебнулся.
Визжали женщины. В жилых избах слышался треск ломаемых укладок: вупырь вупырем, но иные и явились сюда в надежде поживиться в богатых княжеских закромах.
Во двор приволокли отца Килана. Весь избитый, он уже был не то без чувств, не то мертв.
– Колом его!
– Осину надо!
– Вон, вон на нем кровь!
Крови и вправду уже хватало… она была повсюду вокруг…
– У кого осиновый плетень? Жердь надо! Да не, то береза, не пойдет!
– Голову ему руби! – уверенно распоряжался Сигге Сакс. Его глаза смеялись. – Топор есть?
Ему передали секиру.
– Отойди!
Он примерился и одним ловким ударом отделил от тела голову лежащего на земле.
– А теперь к ляжкам приложи. Уж больше ему не пить нашей крови!
– Дружина! – вдруг завопили во дворе. – Князь!
Князь Олег жил на другой вершине, и ему потребовалось какое-то время, чтобы вывести людей и добраться сюда.
А все случившееся заняло времени не так уж много.
Увидев, что двор его отца разгромлен и во все стороны разбегаются шустрые людишки, таща какое-то грабленое добро, Олег был так потрясен, что даже не стал ни с кем разговаривать, а сразу дал знак:
– К бою!
Но именно этого ждали находящиеся внутри. Ворота были немедленно закрыты, а перед ними собрались хирдманы старых варягов, боярина Дорогожи, Себенега и прочих сторонников похода.
Однако створки, полусорванные толпой, были ненадежны.
– Всех! Кто внутри! – кричал Олег, подняв меч и стараясь не думать о том, остался ли в доме кто-то живой из семьи его отца.
Сегодня «вся эта русь», которой он никогда не доверял, показала свои окровавленные зубы.
Но такого он даже в страшном сне увидеть не мог!
Его кмети бросились на створки и стали рубить топорами уже расшатанные столбы. Один за другим те упали, открыв воротный проем. Однако внутри обнаружилась стена щитов, выстроенная людьми, которые упражнялись в этом всю жизнь. Щиты, частично поврежденные, принадлежали Предславовой дружине, но держали их руки совсем других людей.
И началось настоящее сражение!
Варяги стали отступать, заставляя княжьих кметей продвигаться внутрь небольшим числом, в ширину воротного проема. Те давили, видя перед собой небольшое число противников. Но едва они оказывались внутри двора, как на них сбоку устремлялись копья и сулицы. Варяги принесли с собой только мечи и топоры, но остальное нашли в захваченных клетях.
Олег ворвался во двор в числе первых.
Сейчас он не думал, где место князя в битве: думал только о том, сможет ли найти отца и сестер живыми.
Телохранители бились вокруг него, но двое пали сразу за воротами.
Вдруг перед князем словно из воздуха возник Сигге Сакс.
Сколько раз Олег видел на пирах эти глаза!
Теперь они стали открытыми окнами в Навь. Яростно стиснув зубы, князь попытался достать Сигге в длинном выпаде, но клинок лишь расщепил край щита. Люди напирали со всех сторон, не давая повернуться; кто-то, падая, пихнул князя в бок. На миг Олег утратил равновесие, и противник не замедлил этим воспользоваться: рука Сигге взмыла, будто змея в броске, лезвие секиры описало короткую сверкающую дугу… и мир перед глазами Олега разорвался на тысячи осколков.
А в это время на улицах и у ворот уже раздавались крики:
– Князь Ингвар! Ингвар едет!
В воротах появился Ингвар – верхом, окруженный пешими хирдманами. Все были вооружены как для битвы, в шлемах и со щитами.
– А ну, разойдись! – орал он, размахивая мечом над головой. – Разойдитесь, мерзавцы, а то не помилую! Бросайте оружие!
– Это Ингорь! Это наш князь! – стали кричать во дворе. – Уймись, братцы! Он нас не выдаст!
Ингваровы кмети вбежали во двор.
При виде новой силы схватки по углам двора затихли, противники разошлись: одни отступили, другие прижались к тынам, пытаясь отдышаться и понять: к добру или худу прибытие новых бойцов.
– Что здесь творится? – Ингвар въехал во двор и огляделся с высоты конской спины. – Что за Ильтуканово побоище?
– Мы нашли вупыря, который Мистинину боярыню чуть не загубил!
Вперед вышел Ама Лис и с гордостью показал на валяющийся под тыном обезглавленный труп.
– А дрались-то с кем?
– Предслав не хотел его выдать! А князь как наехал, так и кинулся нас бить. А мы в своем праве: нечего вупырей покрывать!
– Да где же князь? – Ингвар огляделся.
Сигге Сакс отступил в сторону, и стало видно тело в кольчуге и шлеме, распростертое у его ног.
– Йотуна мать!
Ингвар соскочил с коня и бросился к лежащему.
С трудом перевернул, стал дергать ремешки шлема. На шлеме виднелось рубленое отверстие от топора, но кровь не текла.
Достало до черепа, не достало?
– Ну вы натворили дел… – бормотал Ингвар.
У него упало сердце.
Сказано же было этому йотуну Сигге: не убивать!
Тот, как опытный и хладнокровный боец, умел рассчитывать силу удара и не терял головы. Но все же… мало ли что вышло… если этот тролль перестарался…
Наконец Ингвар снял с родича шлем с подшлемником и ощупал голову. Открытых ран не было, кровь не текла, однако Олег бессознательно дернулся и застонал: видимо, получил очень сильный ушиб.
– Йо… – Ингвар на миг закрыл лицо руками, потом будто опомнился. – Ну, поднимайте, несите! Живо, ну!
– Куда нести-то?
– Да… Ко мне несите! Волокушу сыщите, есть же у Предслава… Йотунова кость! – Он огляделся. – А Предслав-то сам где? Ищите старика! И баб его ищите! Чего варежки раззявили, живее!
– Отнести мы отнесем, – сказал Требимир Кровавый Глаз. – Но только нам князя такого больше не надобно! Какой христианам и вупырям друг, а нам и богам нашим враг!
– Это верно! Точно! – заголосили вокруг.
– Ингвар – наш князь! – первым заорал Мистина.
– Ингвар! Ингорь! Наш князь! – поддержали его хирдманы старых варягов, и бояре, и даже случайно вовлеченные в это буйство люди.
Ингвар не успел и опомниться, как ему поднесли щит и почти силой на него поставили.
Затем Мистина, Сигге и Ама подняли его на плечи, вознеся над двором, над Горой и над всем Киевом.
И долго еще Гора содрогалась от диких криков, несущихся из-за разломанного тына:
– Ингвар! Князь наш – Ингвар!
Иногда я выходила за ворота и смотрела в сторону Горы.
Улица будто вымерла, да и у нас остались только мы с детьми и челядь. Все убежали туда, откуда доносились шум и крики.
Но что происходит, я не знала.
Казалось, сама мать-земля содрогается; но, наверное, это просто у меня слабели ноги.
Голова шла кругом, ныло в животе…
Приближался полдень, но в нашем дворе и по всей улице было непривычно тихо. Вокруг нас жили старые соратники Свенгельда, вернее, по большей части уже их сыновья. Все те, кто ходил к нам по вечерам всю зиму обсуждать будущий поход, для которого им требовался «не такой робкий князь», как Олег Моровлянин.
Похоже, они добились того, чего хотели.
А может, и нет.
Если Олег возьмет над ними верх… Свенгельд, Мистина, я, мои дети… Ингвар, Эльга, их сын…
Дальше моя мысль не шла.
Меня снова начало мутить.
Но выходила за ворота я всего два-три раза, а больше сидела возле Держаны. Едва она чуть отдышалась, как снова пошла горлом кровь. Я уже ничего не могла сделать, только прикладывать платок. Даже пить отвар сон-травы она уже была не в силах. И говорить не могла – только сжимала мою руку. Я спросила, не привести ли детей, но по глазам ее увидела: она этого не хочет.
Стоял ясный день поздней весны, приближалась Русальная неделя.
Светило солнце, и молодая березка в углу нашего двора так весело махала ветвями на свежем ветру с Днепра, будто просила скорее нарядить ее.
Я оставила дверь открытой настежь: так приятно было в доме дышать свежим воздухом с запахом листвы, без дымной горести, от которой не продохнешь всю зиму и которая убивает столь многих!
Я сидела в полутемной избе, сжимала холодную и влажную руку Держаны и чувствовала себя почти такой же одинокой, как в ту жуткую ночь в избе Буры-бабы.
И по этому чувству я угадала: ворота Нави вновь растворились, и я стою на этом пороге.
А потом я увидела…
Нет, не надо об этом.
Я и так слишком много наговорила о том, о чем мне давно уже не стоит упоминать.
Я закрыла Держане глаза, протерла влажным платком лицо, руки, шею, чтобы немного смыть смертный пот и следы крови.
Пошла, позвала детей. У них был вид горестный и растерянный: они тоже понимали, что наш привычный мир рушится сразу с нескольких концов.
Где-то там, снаружи, возник шум, но спустился к Подолу, не сюда.
А мы сидели вокруг лавки, где лежало тело Держаны.
Мне хотелось плакать: она в последние годы почти заменила мне мать, я так сжилась с ней, что теперь не представляла, как буду дальше… одна.
Но тут вбежал мой давний знакомец Радята, Ингваров хирдман.
– Боярыня! Где ты тут! – ликующе закричал он, ничего в избе не замечая: полутьма после ясного дня ослепила его. – Идем скорее! Князь и княгиня за тобой послали!
– Что у них?
Я встала.
– Князь Ингвар и княгиня Эльга!
– Что?
Он схватил меня за руку и непочтительно потащил наружу.
На полпути нам встретился Бьярки, но при виде меня повернул назад и пошел следом. Я хотела отослать его домой – дети там одни рядом с мертвым телом! – но он меня то ли не понял, то ли не расслышал, то ли впервые не захотел повиноваться.
Мало сказать, что Ингваров двор был полон людьми. Казалось, у ворот собрался весь Киев, и я даже испугалась: да что же здесь происходит?
– А ну, давай дорогу! – уверенно орал Радята, раздвигая толпу и волоча меня за собой.
Люди оглядывались, с готовностью расступались, охотно кланялись мне, хотя я вовсе их не знала:
– Боярыня! Матушка!
Какая я им матушка?
Во дворе было не пройти.
Я заметила бочки с пивом, выставленные на землю; по рукам ходили ковши, кто-то сунул голову прямо в бочку, его вытащили оттуда за волосы, по роже потекла пена…
Двери гридницы стояли нараспашку, изнутри неслись ор, пение, стук рогов и чаш по столу.
Буйство хуже, чем на Коляду!
Да что же такое происходит?!
После того чем этот день начался, я не ждала радостных новостей.
Радята повел меня зачем-то прямо в грид.
Здесь было ступить некуда: за длинными столами хирдманы и не пойми кто сидели чуть ли не на коленях друг у друга, и все это сборище пило пиво, стучало чашами, колотило рукоятями ножей и орало, точно в буйном хмелю:
– Слава князю Ингвару! Слава нашему князю молодому! На Царьград!
Я увидела Эльгу: она сидела во главе стола рядом с мужем, будто сегодня опять была их свадьба – сияющая и возбужденная. Глаза ее под белым убрусом горели звездами.
Вокруг мелькали столь же возбужденные знакомые лица: мои муж и свекр, Острогляд, Воибор, Гордизоровичи, Дорогожа, Руалд, Себенег…
Увидев меня, Эльга вскочила и бросилась обнимать.
– Я теперь княгиня! – кричала она. – Княгиня киевская! Ты понимаешь! Теперь Ингвар – киевский князь!
– А как же… Олег? – оторопело вымолвила я, не в силах понять, радостное это известие или ужасное.
Она перестала улыбаться и потянула меня за руку:
– Пойдем. Хрольв, проводи!
Так же, при помощи хирдманов – иначе двум женщинам было не пролезть сквозь толпу – мы выбрались во двор, потом прошли в Ингварову избу.
Здесь у дверей стояли двое варягов, внутри было почти пусто. Только лежал на лавке какой-то человек, а возле него сидела Хрольвова жена Славча.
– Ну что? – обратилась к ней Эльга.
– Да все так же, княгиня! – та встала и поклонилась.
Мы подошли.
На лавке, прикрытый по плечи одеялом, лежал наш родич Олег.
Глаза его были закрыты.
– Что с ним? – Я похолодела.
– Да жив он. Сильно по голове ударили. Никак в себя не придет. А я не возьму в толк никак – чем бы ему помочь… Ты пойми, я вся… – Она засмеялась, как безумная, потом схватилась за голову. – Я – княгиня! Ты понимаешь: я – княгиня киевская! Княгиня Русской земли!
– Понимаю! – вырвалось у меня. – Я тоже была княгиней, почти целую осень.
– Что? – Она уставилась на меня в изумлении.
Это было понятно: среди всех треволнений нашей киевской жизни было немудрено забыть мое недолгое первое замужество и Зорин-городок. Если бы не Держана и Дивиславовы дети, я и сама усомнилась бы, не приснилось ли мне это все.
– А! Ну, что ты! Это же… Киев! Отсюда же… все пути открыты!
У нее светилось лицо, а в глазах отражались такие дали, что простирались отсюда не только на полудень и на полуночь, но и в иные миры, не доступные взору обычных людей.
– Русам нужен смелый князь! – сказала она с гордостью, будто сама дала его киевлянам. – Такой, кто поведет их к славе! И теперь он у них есть!
В этот миг меня скрутило. Я метнулась к лохани.
– Что с тобой? – Эльга побежала за мной, придержала край моего убруса, схватила ковш, черпнула воды и подала мне вместе с рушником. – Душенька моя, тебе нехорошо? Как не вовремя! У нас такая радость, а ты хвораешь!
– Прости… – Я без сил опустилась на ближайший край лавки. – Это… от радости…
А сама подумала: ну да, все сходится.
Опять все приметы – одна к одной, теперь я уже знала это и без совета Держаны. После Коляды у меня будет уже трое детей.
Домой меня провожал Бьярки: оказывается, он ждал за воротами, будто верный пес, и я отпустила Хрольва, которого со мной послала Эльга.
Когда мы вышли, кто-то стоял поблизости, уткнувшись головой в тын: его выворачивало, как меня недавно, но по иной причине. Судя по красноватой луже, чрево с непривычки не вынесло красного греческого вина. Добрались до княжьих запасов…
Спина и разлохмаченная белобрысая голова показались мне знакомыми. Когда мы с Бьярки шли мимо, болящий обернулся, и я его узнала.
Это был Требимир по прозвищу Кровавый Глаз – Ингвар привез его из похода на Днестр. Из-за давней раны один глаз у него был налит кровью и производил жуткое впечатление. Он бывал у нас часто, но я его недолюбливала: у этого человека вовсе не было богов.
– А, боярыня! – При виде меня он выпрямился и захохотал, тяжело дыша и все же ухмыляясь во весь рот. Недостаток двух-трех зубов еще более уродовал его. – И ты здесь! Что, напугалась?
Я не поняла его: блюющих мужиков я, прости чур, не видела, что ли?
Это у нас-то на дворе? Да таких, как он, у меня челядинки по утрам метлой из гридницы гонят!
– Не бойся! – Он шагнул ко мне и попытался взять за локоть, но я отступила. Его красное лицо выражало пьяное торжество. – Я б не заел тебя! Что ж я, не понимаю? Боярыня все-таки! Жена воеводы… ик… моего… Я ж попугать только, чтоб кричала погромче и чтоб… воевода мог управы искать. А ты, – он взглянул на Бьярки и погрозил ему кулаком, другой рукой держась за тын, – ты, хрен кривой, мало мне в зад копьем не вдарил! Знал бы я, что ты такой проворный, тебя бы завалил сперва! Счастливы твои чуры! Мистина сказал: сторож чуть живой, не поспеет…
Меня обдало жаром, голова закружилась.
Я, наверное, побледнела, потому что Требимир переменился в лице.
– Да не бойся! – грубовато утешил он меня. – Кончилось все! Не будет вам больше вупыря… Не на вас мы волчью челюсть ковали…
Он похлопал по мешочку у себя на поясе, но я не хотела знать, что у него там такое.
Из последних сил я сделала пару шагов, оперлась на Бьярки и махнула рукой: до дому пора!
Мы пошли прочь.
Я тогда поняла Требимира едва наполовину, но достаточно, чтобы не хотеть узнать больше. У меня никогда не хватило бы духу задавать мужу вопросы о том, насколько он и Свенгельд причастны ко всему этому; в какой мере сегодняшние события подготавливались во время зимних попоек за нашим столом?
Ни вопросы, ни ответы не смогли бы ничего исправить.
Я не верила, что ради повода натравить толпу на Предслава и Олега муж собирался мной пожертвовать наряду со Ждивоевым холопом и убогими курятами. Меня собирались только напугать. Потом я осознала, что зубы, в ту жуткую ночь вцепившиеся мне в горло, разжались чуть раньше, чем подбежал Бьярки. Да и отделалась я парой синяков. Конечно, иная баба могла бы помереть на месте от одного страху, но Мистина ведь знал, какие страхи я уже повидала за свою недолгую жизнь, и верил в крепость моего сердца.
Куда худшее преступление все эти люди совершили против своего законного князя, Олега Моровлянина, и вот об этом я тем меньше хотела знать, чем ближе стояли ко мне вожди всего дела.
Мистина – мой муж, какого уж дала судьба, тот и будет вовек. От достойной жены, бывало, требовались куда большие подвиги, чем просто помолчать…
У самых наших ворот меня опять скрутило. Я остановилась, прислонилась лицом к шершавым бревнам тына, вцепилась в них и закрыла глаза.
Но не могла спрятаться от одной мысли.
А Эльга знала обо всем этом?
На следующий день собралось вече: все варяжские дружины, старейшины с Горы, торговые гости.
Люди обсели все три уступа Подола, а на верхнем соорудили нечто вроде помоста, перевернув две лодьи и положив сверху крепкие доски.
Ингвар и Эльга стояли на нем рука об руку: одного роста, одетые в красное греческое платье.
Она – в шитой золотом далматике, в белом убрусе, который подчеркивал прелесть ее свежего и ясного лица. Даже и не знаю, что сверкало ярче: ее смарагдовые глаза или голубовато-зеленые камни в ожерелье.
Ингвар был в узорном кафтане с серебряной тесьмой, в красной собольей шапке с золотным шитьем.
Оба сияли, как юные боги, принесшие людям новый рассвет!
Ингвар – с мечом у пояса, с верной дружиной за спиной, был силой, а Эльга – обновленной удачей, вернувшейся после смерти Вещего.
– Скажите, люди киевские: любы ли вам князь Ингорь и княгиня Ольга? – закричал Свенгельд.
Его мощный голос, привыкший отдавать приказы в шуме битвы, разносился над Подолом и улетал в небо.
Он нарочно сделал имя Эльги более близким к имени старого Олега Вещего, чтобы подчеркнуть их преемственность.
– Любы! Любы! – дружно закричало вече.
Принесли полуторагодовалого Святшу и передали Эльге: она взяла ребенка, с торжествующей улыбкой прижала к груди, потом передала мужу.
Ингвар поднял сына на вытянутых руках, словно залог вечности своей крови в грядущих годах. Ребенок не плакал, а весело махал ручкой, будто понимая, что сейчас – миг высочайшего торжества его рода!
Ингвар подбросил его, будто запуская в небо новое юное солнце; толпа ревела так, что, казалось, содрогались старые киевские кручи.
Кричали даже старейшины с Горы, не столь обрадованные сегодняшним, сколько устрашенные вчерашним. Среди них ходили слухи, будто Олег Моровлянин мертв, как и его отец со всеми домочадцами, но их смерть пока скрывают. Никто не хотел стать спутником павших владык в Закрадье.
На самом деле, не считая убитых в сражении – таких было десятка с два – из знати в тот раз никто не погиб. Князя Предслава сильно зашибли в свалке и приняли за мертвого, но он очнулся, когда мы переносили его в дом и устраивали на постель. Женщины его двора все были живы, но… пострадали, и на дело не годились. Поэтому мы с Эльгой пришли со своей челядью, чтобы привести дом и двор в порядок.
Разгребая обломки утвари, я нашла лист пергамента, покрытый «моравскими рунами». Не скажу, что умела тогда их разбирать, но к виду их привыкла и догадалась, что это такое.
В этом вот ларе, что теперь лежал грудой досок, старый князь хранил список договора, заключенного между Вещим и греческими царями. То, что было оплачено трудами и кровью, то, что приносило столько пользы, грабители бросили, будто отопок…
Им эти обеты дружбы «между христианами и русью» только мешали.
Хорошо, что нападавшие не поняли, что это такое – иначе я сейчас не держала бы лист в руках.
Грамоту я отнесла к Предславу, зная, как он обрадуется.
Он мог поблагодарить меня только движением век. Я спрятала свернутую грамоту ему в изголовье, зная, что он бы этого хотел.
Но вылечить его это средство не могло – все же ему было почти пятьдесят! – и он умер около месяца спустя.
Олег же со временем встал на ноги, но узнал, что власть ушла из его рук и русь избрала себе другого князя. Какое-то время он еще жил в Киеве с остатками своей дружины, а зимой, похоронив отца – без пламенной крады и насыпной могилы – ушел на запад, к чехам.
– Я не гожусь в князья для этой страны, – сказал он, когда мы прощались. – Я мог кормить богов жертвенной кровью овец и быков, но не смогу дать им человеческой крови. А без нее они звереют. Я не хочу увидеть это снова. Может быть, земля моих отцов больше нуждается во мне?
С ним ушли многие киевские моровляне, не желая, чтобы их снова обвинили в пристрастии к человеческой крови.
Мальфрид, замкнувшаяся в отчаянии и не желающая говорить с братом, уехала вместе с супругом. Ее мы никогда больше не видели: как нам стало известно много времени спустя, она умерла следующей же зимой, когда они жили у чешского князя Болеслава. Погоревав, Олег женился на дочери Болеслава, княжне Ярославе. Его единственный сын Оди зачах вскоре после того, как ему сравнялось двенадцать – иного и не следовало ожидать.
Их с Мальфрид дочь Предслава выросла у Эльги и в свое время была выдана замуж в Деревлянь, как и следовало по уговору.
У Олега была еще одна дочь, от Ярославы… но об этом мы узнали лишь десять лет спустя.
Ныне же я, кажется, рассказала уже обо всем, о чем хотела.
О том, как моя сестра Эльга сделалась княгиней в Киеве.
В детстве, когда мы, маленькие девочки, лежали на полатях в нашем Варягине и наблюдали сверху, как поднимают поминальные кубки по Олегу Вещему, нашему прославленному, но незнакомому родичу, мы никак не могли подумать, что она в конце концов станет его наследницей.
Киев был так далеко от Плескова!
И то, что за время жизни нашего поколения они стали гораздо ближе, во многом – ее заслуга.
Когда же меня спрашивают: почему моя сестра, киевская княгиня Эльга, пожелала принять крещение, я не могу дать простого ответа.
Христиане говорят: она освящена была Божией благодатью.
Может, они и правы.
Я лишь знаю, почему у нее возникло желание отказаться от старых богов, точнее – от той, прежней себя, которая выросла в их сени. Судьба насильственно разорвала наши связи в Навью наших чуров и вынудила искать иное прибежище.
А потом она стала княгиней Русской земли.
Это заставило ее еще на много лет отложить помыслы о крещении: ведь христианин не может править в языческой стране, не может быть мостом между своим народом и богами, которых сам отринул.
А привести за собой к Богу целый народ, как пастух приводит стадо…
Это непростая задача, и не всякий князь-мужчина мог справиться с ней. Даже тот древний волот, что был величиной с гору, надорвался и умер, когда попытался мигом и в одиночку перевернуть землю.
В трудности подобной задачи Эльга тоже смогла убедиться довольно рано.
Но когда Эльга стала княгиней Руси, она пришла вновь к мысли о крещении, только иными путями.
Даже желая порвать с верой предков, она не могла этого сделать, не сыскав сперва себе замену – другую женщину, которая будет шить сорочки для богов Русской земли, возглавит священное коло и будет трижды поднимать к небу жертвенные чаши.
Это было условие, без которого Эльге не дозволялось вступить на избранный путь.
Она не была бы так умна, если бы пренебрегла этим условием. Она его выполнила и была в этом права.
Правоту ее подтвердило будущее, которого она уже не увидела.
Моя сестра, княгиня Эльга, воистину была мудра и прозорлива до ясновидения, как истинная наследница того, кто в памяти людей остался под прозвищем Вещий.
Послесловие
Февраль – март 2015, Санкт-Петербург
…Уехала в другой город, там вышла замуж. Родила сына.
Через пару лет муж… куда-то делся, осталась одна с ребенком, растила, убивалась на работе. Сын вырос, вроде женился, потом еще бабу нашел, в общем, трое детей у него было, но с женой не заладилось, внуков матери подкинул, а сам все по командировкам мотался.
Она внуков и тянула – до самой смерти. А как ее не стало, в семье вообще все наперекосяк пошло…
Типичная история современного общества – неполные семьи, недосмотренные дети, женское одиночество и вынужденная самостоятельность.
Это пришло мне в голову, когда я в очередной раз задумалась над личной судьбой княгини Ольги…
В послесловии я не буду объяснять, почему из всех возможных исторических версий я выбрала те, которые выбрала.
Скажу лишь о выборе героини.
Я даже сама не сразу поняла, почему в замысле этого романа место центрального персонажа заняла не сама будущая княгиня Ольга, а ее гипотетическая сестра. Видимо, потому что уж больно «атомизированной» выглядит жизнь знаменитой княгини. Такое впечатление, что она жила по схеме «он+она+ребенок», как это бывает с современными женщинами.
Мне захотелось заполнить человеческую пустоту вокруг нее. И для этого были основания, документально вполне обоснованные. Они таковы:
1. В рассказе Константина Багрянородного о приеме Ольги в Константинополе упоминаются некие приехавшие с ней «архонтиссы», то есть правительницы, родственницы княгини, числом не то шесть, не то шестнадцать.
2. При археологических исследованиях Пскова в 2003 году было найдено погребение знатной женщины скандинавского происхождения, жившей в X веке. Среди прочих предметов она взяла с собой в могилу несколько серебряных монет – милиарисиев. Такие император Константин дарил архонтиссам, сопровождавшим Ольгу на приеме. Из этого исследователями делается вывод, что погребенная «варяжская гостья», как ее называют, могла входить в число Ольгиной свиты в той знаменательной поездке.
3. В списке послов, заключивших договор между русью и Византией в 944 году, есть некий «Мутор Утин». На этот счет имеются разные версии: не то второе имя принадлежит важному лицу, которое представлял посол, не то это отчество самого посла. Также по-разному можно трактовать слово «Утин»: как притяжательное от мужского имени Отта/Одд или от женского Ута/Ауд. Нельзя уверенно утверждать, что это женщина, но в том же списке есть еще три женщины, отправившие послов: княгиня Ольга, некая Предслава и некая Сфандра, жена Улеба. Есть древнегерманское женское имя Ута (Ауд, Ода), широко распространенное во всех странах германских языков. Поэтому знатная женщина по имени Ута, находящаяся в окружении княжеской семьи, как версия все же имеет право на существование. Особенно версия художественная.
Скажу еще об одном малоизвестном персонаже – Олеге Моровлянине. В исторической литературе он известен как Олег Моравский и считается лицом скорее легендарным, имеющим массу «родственных связей» с другими литературными героями, от Олава Святого до Ильи Муромца, нежели исторически достоверным. Сведения о нем содержатся только в чешских источниках XVII века. Его называют последним князем Моравии, правившим там с 940-го по 949 год, и братом княгини Ольги. К нему возводится родословная моравского рода Жеротинов. Олега Моравского можно было бы счесть лишь плодом генеалогических фантазий; однако если его и не было, то его имело смысл выдумать не только в интересах чешской аристократии. Если даже образ выдуман, он просто чудо как хорошо укладывается в схему киевско-моравских связей, которые вовсе не выдумка. Исследователями проведен подробный разбор источников на его счет, но я могу добавить одно собственное соображение.
Если мы допустим, что Олег Моравский был реальным историческим лицом, то он станет связующим звеном между фактами, связь между которыми до сих пор не была установлена. У моравских князей Моймировичей (правивших в течение IX века) имелись династические имена: Святополк, Ростислав, Предслав. Свое существование род закончил в 907 году, то есть во времена правления Олега Вещего. И спустя какое-то время эти три имени вошли в список династических имен Рюриковичей!
Есть версия, что это объясняется желанием Рюриковичей духовно «породниться» с первыми славянскими князьями-христианами. Но если мы допустим между последними Моймировичами и первыми Рюриковичами (Олегом Вещим) родственную связь (чему объективных препятствий не просматривается), то это объяснит сразу и существование тридцать лет спустя наследника моравского престола, носящего имя Олег, и наличие у последующих Рюриковичей династических имен Моймировичей. Чему притязания на духовное родство ничуть не мешают.
Еще одно замечание касается древнего летоисчисления. Счет годов от Рождества Христова, как мы привыкли, и даже от сотворения мира в X веке нашим предкам был неизвестен. У науки нет точных данных о том, как же тогда считали года, но источники позволяют предположить, что счет времени вели сроками правления князей и расстоянием между значимыми событиями недавней истории, за одно-два поколения. И соответственно, для разных общин (держав) это «летоисчисление» было везде свое. При переезде, например, из Ладоги в Киев человек оказывался не только в другом государстве, но и как бы в другом году.
В заключение добавлю, что дикая история Кабаньей Морды целиком и полностью взята из жизни, только случилась она в наши дни и с людьми, которых я знаю.
Пользуясь случаем, приношу благодарность:
Бьерну Высокому – за консультации по боевой и археологической части, обсуждение идеологических и сюжетных моментов и массу случаев из жизни, успешно находящих применение в моем творчестве.
Археологу, кандидату исторических наук Ивану Еремееву, чья книга (И. И. Еремеев, О. Ф. Дзюба, «Очерки исторической географии лесной части пути из варяг в греки») очень помогла мне при описании ситуации в Приильменье в интересующий период.
Доктору исторических наук, профессору кафедры истории Московского гуманитарного университета Сергею Викторовичу Алексееву – за книги и ценные консультации.
Пояснительный словарь
Браги – один из асов. «Он славится своей мудростью, а пуще того, даром слова и красноречием. Особенно искусен он в поэзии». Есть мнение, что образ возник из реального исторического лица, скальда по имени Браги.
Братанич – племянник, сын брата.
Булгары – тюркоязычный народ, родственный хазарам, в раннем Средневековье проживал на Волге.
Битва при Бровеллире (при Бравалле) – легендарная битва скандинавских преданий. Состоялась около середины VIII века, по разным оценкам, в 750 или 770 году. Ученые часто сомневаются в ее историчности, чему способствует и участие в ней мифологических персонажей, например, валькирий, Старкада или самого Одина, который не только сражался, но и получил свою долю добычи. Конунгу Харальду Боезубу, чья родословная имеет много вариантов, было на момент битвы уже 150 лет. Независимо от того, насколько битва исторична, видимо, в древности предание о ней было весьма популярно. Имя «русского князя» Бравлина, в конце VIII века грабившего с войском Сурож, выводится из прозвища Браваллин, то есть «отличившийся в битве при Бравалле».
Бьёрко (латинизированный вариант названия – Бирка) – известное торговое место (вик) в центральной Швеции, в районе нынешнего Стокгольма.
Валгалла – небесный чертог Одина, где собираются павшие воины.
Варяжское море – древнерусское название Балтийского моря.
Вздевалка – архаичная девичья славянская одежда: верхняя рубаха, обычно с коротким рукавом.
Велс – зловредный дух в балтской и финской мифологии.
Венды – скандинавское название славян (в основном западных).
Вершник – архаичная славянская женская одежда, нечто вроде короткого платья, надеваемого поверх сорочки и поневы, могла быть разной длины в зависимости от местных традиций.
Весь – деревня.
Вещицы – в славянской мифологии: ведьмы в виде птиц, похищающие младенцев.
Вик – торговое место, первоначально не укрепленное. Находились, как правило, на стыках племенных территорий, вблизи важнейших торговых магистралей, занимали площадь гораздо большую, чем обычные города. Населены были представителями разных народов, торговцами и ремесленниками, причем в период торговых сезонов численность населения увеличивалась вдвое. К числу виков относились Хедебю (Хейтаба) в Дании, Бирка (Бьёрко) в Швеции, Дорестад во Фризии и другие. Многие относят к викам и поселение в Старой Ладоге (начиная с середины IX века).
Волховец – здесь Волховцом именуется так называемое Рюриково городище. Сам Рюрик – персонаж скорее легендарный, и неизвестно, с какого времени его имя было присвоено этому действительно древнему скандинавскому поселению на Волхове.
Волосник – нижний головной убор вроде шапочки, под который замужними женщинами убирались волосы.
Волот – великан.
Восточное море – скандинавское название Балтийского моря.
Вотола – прямоугольный плащ.
Волошки – цветы васильки.
Вуй – дядя по матери.
Гарды – «Города», скандинавское название Древней Руси (в основном северной ее части).
Гнездо – группа поселений.
Грид (гридница) – помещение для дружины.
Далматика – длинная широкая верхняя рубаха с разрезами по бокам, носилась как мирянами обоего пола, так и церковниками. Почти всегда шилась из шелка, привезенного из Византии. Далматики носили в Древнем Риме первохристиане, в православной Византии она стала основной формой одежды.
Дверг – подземный карлик в скандинавской мифологии.
Деспина (греч.) – императрица.
Дожинки – праздник, посвященный окончанию жатвы, примерно 6–7 августа, но в разных местностях в зависимости от местного климата срок мог меняться. Также называется Спожинки, Госпожинки и так далее.
Докончание – договор.
Дренги – молодые воины.
Завеска – часть архаичного славянского женского костюма, большой передник (бывает с рукавами или без).
Зажинки – обряд начала жатвы в зависимости от местного климата в разные дни июля или августа.
Закрадье – от «за крадой», потусторонний мир.
Заушницы, еще называемые височными кольцами – металлические украшения в виде колец, носимые на висках по обе стороны головы. Считаются этноопределяющим признаком славян, делались из серебра, меди, бронзы, других сплавов, могли вплетаться в волосы (девушками), крепиться к головному убору (женщинами). Форма височных колец различалась в разных районах и служила признаком племенной принадлежности.
Зимолом – первый праздник борьбы весны с зимой, около середины февраля.
Игрецы – злые духи.
Ингвар конунг – персонаж «Саги о Стурлауге», конунг скандинавского происхождения, с семьей и двором правивший в Ладоге около 770-х годов.
Йоль – праздник зимнего солнцеворота. В современной Скандинавии этим словом обозначают Рождество.
Йотун – злобный великан в древнескандинавской мифологии.
Кап – идол, изображение божества, деревянное или каменное.
Кенугард (Кёнугард, Кенунгагард) – скандинавское название Киева.
Коло – обрядовый хоровод.
Кормилец – воспитатель мальчика в княжеской или знатной семье. Выбирался из дружины, ребенок поступал к нему в обучение в возрасте семи лет, и, как правило, кормилец сохранял свое влияние на подросшего наследника на всю оставшуюся жизнь.
Крада – погребальный костер. В первоначальном смысле – куча дров.
Кресень – июнь.
Куд – по словарю Даля злой дух, бес, сатана; волхвование, чернокнижие. Видимо, так назывались духи, с которыми волхвы могли вступать во взаимодействие; отсюда «кудесить», «кудесник» и так далее. Однокоренное со словом «чудо».
Куропалат – византийский придворный чин.
Ладин день – праздник весеннего равноденствия, около 21 марта.
Леля – дочь богини Лады, олицетворение весны.
Медведина – медвежья шкура.
Мер-Дуб – Мировое Дерево, опора мироздания.
Миклагард – скандинавское название Константинополя, «Великий город».
Навь – нижний из трех миров, царство мертвых и темных духов.
Настилальник – простыня.
Ногата – то же что дирхем, арабская серебряная монета (2,7 гр).
Обчина – помещение в селе для общественных собраний и совместных праздников.
Осенние Деды – поминальные обряды (около середины октября), проводы предков в Ирий до весны.
Павечерница – посиделки, вечерние собрания женщин в зимний период для совместного занятия шитьем, прядением и прочими такими работами.
Паволоки – тонкие шелковые ткани византийского производства.
Плесков – древнее название Пскова. От балтского названия реки Псковы – Плескава.
Понева – архаичная часть славянского женского костюма, набедренная одежда вроде юбки, могла иметь разный вид: из одного куска ткани, обернутого вокруг бедер, из двух кусков вроде передников (спереди и сзади), из трех кусков, надетых на шнур вокруг пояса. Носилась половозрелыми девушками и замужними женщинами. Обряд надевания поневы проводился после полового созревания, означал вступление девушки в круг взрослых женщин.
Поозёрье – северо-западная часть Приильменья.
Послух – свидетель при заключении договора.
Пращеруки – прапраправнуки.
Пряслень – глиняное колечко-противовес на веретено.
Рахдониты – странствующие еврейские купцы, которые на протяжении раннего Средневековья контролировали торговлю между исламским Востоком и христианской Европой. В сферу их интересов включался и Киев. Однако еврейскую общину Киева в X веке, вероятно, составляли не собственно евреи, а принявшие иудаизм хазары.
Родишка – новорожденный младенец.
Ревелка – растение Иван-чай.
Рум – Рим.
Русальная неделя – неделя перед Купалой, когда русалки наиболее опасны.
Рушник – полотенце.
Самит – шелковая ткань сложного саржевого переплетения, что давало возможность делать узорное полотно в три-пять цветов. Могла быть гладкой или иметь в составе металлизированную нить (золотую или серебряную).
Свита – верхняя суконная одежда, нечто вроде «демисезонного пальто».
Северные страны – общее название всех скандинавских стран.
Северный язык – иначе древнесеверный, древнеисландский, иногда еще назывался датским, хотя на нем говорили по всей Скандинавии. В те времена отличий в языке шведов, норвежцев и датчан еще практически не было, и они понимали друг друга без труда.
Семик – летняя половина года, включала семь месяцев с апреля по октябрь. Оставшиея зимние месяцы назывались «пятик».
Серкланд – дословно Страна Рубашек, она же Страна Сарацин, обобщенное название мусульманских земель, куда скандинавы ездили за красивыми дорогими тканями.
Стрый – дядя по отцу.
Стрыиня – жена дяди по отцу.
Словенск – здесь Словенском (местоположение которого точно неизвестно, хотя есть много разных версий) называется открытое поселение на ручье Прость, возле озера Ильмень, существовавшее примерно с VIII века.
Словены – одно из восточнославянских племен, жившее возле озера Ильмень и по Волхову. По мнению исследователей, специализирующихся на изучении севера Руси, словены ильменские не составляли отдельного племени, а образовались из переселенческих групп разного происхождения, поэтому и называются словенами, то есть «славянами» вообще. Поскольку слово «славяне» по происхождению позднее и книжное, термин «словены» в тексте относится ко всем славянам, независимо от племенной принадлежности.
Сряда – наряд, костюм как комплекс предметов.
Страна Фризов – Фрисландия, земля древнего германского племени фризов, населявшего низинные районы современной Голландии и Северо-Западной Германии.
Сулица – короткое копье.
Ствольник – название болиголова крапчатого, Псковская обл.
Травень – май.
Тинг – собрание свободных людей для решения общественных вопросов. То же, что вече у славян.
Убрус – головной убор замужних женщин, длинный кусок полотна, обернутый вокруг головы и скрывающий волосы.
Харальд Боезуб – легендарный скандинавский король, живший в VIII веке.
Харлоги (Халоги), «Высокое пламя» – персонаж скандинавской мифологии, бог-покровитель области Халогаланд. Вероятно, еще один облик Локи.
Хазарское море – Каспийское море.
Хенгерок – часть древнескандинавской женской одежды, нечто вроде сарафана, надевалось на сорочку или на сорочку и платье. Скреплялся крупными узорными застежками обычно овальной формы, на бретелях через плечи.
Чуды – см. «куд».
Шеляг – так звучало на русской почве скандинавское название серебряной монеты – «скиллинг». Сама эта монета – арабский дирхем, примерно 2,7 гр серебра.
Шушка – архаичная верхняя девичья одежда.
Сноски
1
Согласно системе династического имянаречения европейского и древнерусского раннего Средневековья, данное ребенку имя обозначало его место в роду, то есть будущие претензии и права на наследство. Проще говоря, кого зовут Владимир, тот и князь. (Прим. авт.)
(обратно)2
Девы под Ясенем (Иггдрасилем), они же норны – три богини судьбы в скандинавской мифологии, прядущие нити человеческих жизней. (Прим. авт.)
(обратно)3
Обряда первого надевания поневы, проводился весной после полового созревания девушки, то есть около двенадцатилетнего возраста. (Прим. авт.)
(обратно)4
Имеются в виду мифологические герои из песни «Старшей Эдды», в которой Скирнир, посланец бога Фрейра, уговаривает прекрасную деву-великаншу Герд принять сватовство его господина, в том числе угрожая ей проклятием. (Прим. авт.)
(обратно)5
Присесть на лубок – умереть. Выражение возникло из деталей древнего погребального обряда, как и «сесть на сани». (Прим. авт.)
(обратно)6
Имеется в виду свадебный обычай стелить брачную постель молодым в овине на сорока ржаных снопах. (Прим. авт.)
(обратно)7
То есть на весенне-летние праздники, посвященные Яриле, срок свадеб в древней традиции. (Прим. авт.)
(обратно)8
Дорогая шелковая одежда действительно настолько ценилась средневековой знатью, что в Европе известен случай, когда вещь передавалась по наследству с IX века по XII, после чего была пожертвована церкви и перешита на алтарный покров. (Прим. авт.)
(обратно)9
Псалом 116. (Прим. авт.)
(обратно)10
(Иоан. 3, 5). (Прим. авт.)
(обратно)11
Путь Яакова бен Хануки закончился в Каире, судя по тому, что письмо еврейской общины Киева X века (по некоторым мнениям, около 930 года) было найдено в 1962 году именно там (так наз. Киевское письмо). Получил ли киевский кредитор свои сорок дирхемов, осталось неизвестным. (Прим. авт.)
(обратно)12
Северный язык (древнескандинавский), на нем же. (Прим. авт.)
(обратно)13
Да, конечно. (Прим. авт.)
(обратно)14
Мохры – архаичная часть головного убора молодухи, длинная бахрома из красной шерстяной нити, имитирующая волосы. Известна как из этнографии, так и по археологическим находкам. (Прим. авт.)
(обратно)15
Кольчугу снимают следующим образом: сильно наклоняются вперед, перекинув задний край подола на спину, и подпрыгивают, опустив руки, чтобы она свалилась под собственным весом. (Прим. авт.)
(обратно)16
В соответствии с существовавшей системой династического имянаречения у славян и скандинавов нельзя было давать имя прямого предка из числа живых. Либо умершего, либо по боковой линии родства. (Прим. авт.)
(обратно)17
Из псалма Давида 2. Далее – то же. (Прим. авт.)
(обратно)




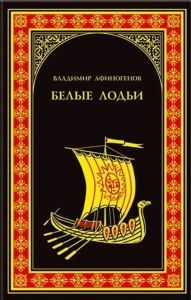


Комментарии к книге «Ольга, лесная княгиня», Елизавета Алексеевна Дворецкая
Всего 0 комментариев